Дэвид Зинделл Реквием по Homo Sapiens. Том 1
ШАНИДАР
Я слыхал, эсхатологи считают, что у таких, как мы, нет будущего. Человек, говорят они, всего лишь мост между обезьяной и сверхчеловеком, заржавелый старый мост, который нам не дано ни сохранить, ни отремонтировать, равно как не в наших силах помешать взрываться звездам за пределами освоенного пространства – Вилда или же превратить зимний снегопад в дождь. Для людей вообще, и для каждого из нас, нового начала быть не может. История, которую я вам сейчас расскажу, – это повесть о возобновлении и воскрешении, о том, как философы этого обреченного города оказались одновременно правы и неправы, история, если хотите, о конце и начале, которые иногда, как то ведомо старикам вроде меня, становятся неразделимы.
Для меня конец цивилизации наступил на семнадцатую ночь моей пятидесятой – или то была пятьдесят первая? – зимы в Городе Боли. Кто-то называет его Ледопад, кто-то Призрачным Городом – городом огней и туманов, топологическим, и, как утверждают некоторые, духовным центром тысяч деградирующих миров. Эсхатологи назвали его Никогде, что означает, по моему разумению, «Последний Город», или «Потерянный Город». Сам я предпочитаю последнее из названий, хотя само по себе название не столь уж и важно. Важны лед, снег и мороз – такой лютый, что дыхание разбивается ледяными кристаллами, сталкиваясь с затвердевшим от стужи воздухом, а плоть – если кто-то окажется достаточно глуп и позволит воздуху этого заброшенного города коснуться своего обнаженного тела – плоть превращается на ваших глазах в камень. И значимы люди, отрицающие важность плоти, люди, ищущие новое начало.
Он пришел ко мне в мастерскую в тихую ночь, когда воздух был черен и неподвижен, а тишину нарушали лишь шипение и гул машин, скользящих на воздушной подушке по городским улицам, плавящих и разглаживающих лед накануне нового дня. Я увидел бледного юношу с живыми карими глазами, поблескивающими из-под капюшона парки. Борода у него оказалась столь густой и черной, что его легко можно было принять за уроженца Геены или Шейдвега, а не, как он утверждал, Летнего Мира, где люди почти безволосы, а кожа их темна, как кофе. Густые брови и широкое лицо с выступающими скулами придавали ему сходство с алалоем, что было модным – вскоре вы поймете этому причину – лет двадцать назад. Стоя в каменном коридоре и стряхивая с коньков комья тающего снега, он пояснил, что нуждается в моих услугах.
– Ведь вы Райнер, скульптор? – уточнил он, заговорщицки понизив голос. Я ответил, что так меня называют в этом городе. – Я хочу, чтобы вы проявили все свое умение, – заявил он. – Потому что хочу стать алалоем.
Я провел его в чайную комнату, где он снял с ботинок лезвия и бросил мокрые рукавицы на мраморный столик, который мне за немалые деньги доставили с Уррадета. И хотя я не был в настроении изображать из себя радушного хозяина – мой белый халат был заляпан кровью и мозгами, к тому же, меня ждали кое-какие дела – я все же предложил ему квас или кофе. К моему удивлению, он предпочел кофе.
– Квас затуманивает мозги, – заявил он, глядя мне прямо в глаза и не обращая ни малейшего внимания на фрески, которыми были расписаны все стены в комнате. – Крепкие напитки заставляют людей забывать о намеченных целях.
Вызвав домашника, я спросил юношу:
– Так вы хотите стать похожим на алалоя?
Он затряс головой.
– Я желаю стать алалоем. Полностью.
Я рассмеялся.
– Вы же знаете, что мне это не по силам. Законы вам также известны. С телом вашим я волен делать что угодно, но…
– А Гошеван?
– Гошеван! – воскликнул я. – Ну почему все приходящие ко мне молодые люди обязательно спрашивают про Гошевана? – Тут явился домашник, и я выместил раздражение, громко велев ему принести кофе и квас. Когда домашник укатился, я добавил: – Всяческих историй про Гошевана существует больше, чем мертвых звезд в Вилде. Что вы хотите узнать о Гошеване?
– Я знаю, что он пожелал того же, чего желаю я. У него была мечта, которая…
– Он был мечтатель, фантазер! Так вы хотите узнать все о Гошеване? Ладно. Я повторю для вас историю, которую рассказываю всем молодым людям, приходящим ко мне в поисках ночных кошмаров. Вам удобно сидеть? Тогда слушайте внимательно…
Домашник принес кипящие напитки в двух огромных, покрытых теплоизоляцией кувшинах, что выдувают на Фосторе, неуклюже разлил темные жидкости в хрупкие мраморные чашечки, и я начал рассказ о Гошеване:
– Жил на Летнем Мире молодой аристократ, которого весьма интересовали древности и старинные книги – некоторые даже говорили, что он побывал на Ксандарии и подкупил библиотекарей, чтобы ему продали часть Киотской коллекции со Старой Земли, – причем интересовали больше, чем управление своими поместьями. Он слыл эрудированным и утверждал, что человеку следует изучать человека, а не то, как вырастить дополнительные пять тонн кофе на той же площади. Настал день, когда жизнь утомила его, и он сказал:
– Мои с-сыновья – жалкие черви, кормящиеся б-больной плотью этой прогнившей цивилизации. Вместе с моими женами они п-плетут против меня интриги и хихикают, когда те жены с-спят с другими мужчинами.
И потому Гошеван продал свои поместья, освободил рабов и сообщил семье, что отныне им всем предстоит зарабатывать себе на жизнь мозолями на руках и напряжением умов. Он оплатил проезд на даргинском звездолете и направился к рубежам освоенного пространства.
Но всем известно, что даргинцы себе на уме, и стоит ли удивляться, что они не предупредили его о смеющихся прудах на Даркмуне? Гошеван ни о чем не подозревал и потому провел два сезона на этой пасмурной, душной и влажной планете, выкашливая кусочки легких, пока хирурги методично вырезали спирулл из его мускулов, потом ждали, присматривались и вырезали вновь.
Поправившись, он нашел фравашийского торговца, согласившегося отвезти его на Йаркону. На Йарконе он обрил себе голову и укутал тело лохмотьями, чтобы пилигримы-хариджаны, с которыми он там сошелся, позволили ему примоститься в уголке перевозящего паломников корабля. Вот таким образом, седой и насквозь пропахший многолетним потом и грязью, он появился в Никогде подобно любому другому ищущему.
Хотя стояла поздняя весна среднезимья и было не по сезону тепло, его оглушил холод и ошеломила яркость нашего города. Он купил, изрядно переплатив, темные очки и лучшие меха шагшая, подбитые шелком. «Улицы здесь из цветного льда», – произнес он изумленно, потому что прежде ему доводилось видеть лед лишь в бокалах с экзотическими напитками. И он изумлялся пурпуру и зелени глиссад и смеющимся детям, которые гонялись друг за дружкой на коньках по оранжевым и желтым дорожкам. Серебристые шпили и башни в это время года покрываются тонкой ледяной корочкой, рассеивающей белый весенний свет, и весь город сверкал и искрился.
– Здесь красиво, – молвил он. – Но это фальшивая красота выдумки и загнивающей цивилизации.
И, кутаясь в зимние меха и ковыляя на только что купленных коньках, побрел по улицам, чтобы проповедовать.
На большой площади возле Хофгартена, где жители Призрачного Города – благородные и простолюдины, гадатели по магическим кристаллам и эсхатологи, канторы и хариджаны, свахи и шлюхи – встречались и прогуливались на свежем воздухе, он заявил:
– Я обращаюсь к тому, что в-внутри каждого из вас. К тому, что м-меньше человека, но также и б-больше его. – И впал в ярость, потому что никто не стал слушать низенького, закутанного в меха провинциала, который заикался и едва стоял на коньках. – Вы п-пилоты, – надрывался он, – вы г-гордость галактики. Вам, чтобы добраться от Симума до Уррадета и дальше, до Джакаранды, нужно меньше времени, чем даргинам на подготовку первого из восемнадцати прыжков с Летнего Мира до Даркмуна. Вы пронзаете Вилт, погрузившись в дебри математики и снов, и говорите себе, что видели нечто вечное и невыразимое словами. Но вы забыли, как наслаждаются видом полевого цветка! Вы даете клятву не обзаводиться семьями и детьми, а потому вы и больше, и меньше, чем мужчины.
Когда же пилоты отвернулись от него, попивая квас и ледяное вино, он заявил историкам и рассказчикам, что они даже понятия не имеют об истинной природе человека. И они, эти надменные профессионалы нашего города, гордо задрали носы и продолжили разговоры о Гее и Новой Земле, словно Гошеван был невидимкой. Тогда он заговорил с программистами и холистами, с инопланетянами с Фраваши и сектантами, называющими себя Друзья Бога, с хариджанами, с погонщиками червей, со свахами и плетельщиками, и наконец преполнившись великой печали и тоски, застегнул свои меха и отправился в самые дебри Гостевого Квартала, где мог заплатить за компанию того, кто его выслушает.
Из-за одиночества, а также из-за того, что многие годы не знал женщины, он нашел себе удовольствие среди шлюх низкого пошиба, которые в те времена красили кожу в малиновый цвет, а тело делали узким и гибким, как у змей. Пытаясь заполнить пустоту в душе, он начал курить тоалаче и в одно прекрасное утро проснулся в постели с четырьмя куртизанками с Джакаранды. Они спросили его, все ли маленькие смуглые мужчины обладают такой потенцией, и посоветовали испробовать радости совокупления с инопланетными друзьями Человека, – радости, по их словам, настолько великие, что мужчине, имевшему дело лишь с женщинами, их невозможно даже вообразить. Гошеван же, ужаснувшись содеянному и позабыв о том, где находится, принялся отчаянно ругаться и орать, а под конец повелел продать куртизанок в рабыни для работы в поле. Он швырнул им мешочек с бриллиантами, прицепил лезвия к ботинкам и два дня катался по глиссадам, пока не пришел в себя.
Тут я прервал рассказ, чтобы наполнить наши чашки. Юноша не сводил с меня настороженного взгляда проницательных карих глаз, наблюдая за каждым моим движением и наверняка мысленно оценивая правдивость моих слов. В комнате было очень тихо и холодно, я ясно слышал его медленное ровное дыхание. Кивнув, он спросил:
– А потом?
– Потом Гошеван принял решение. Видите ли, он надеялся увлечь людей своей мечтой – то есть забраться подальше в нетронутую глушь и вести, как он ее называл, жизнь «человека природы». А модель такой жизни он, конечно же, нашел у алалоев. И когда обнаружил, что не может им подражать, то решил к ним присоединиться.
– Благородное решение, – заметил юноша.
– Решение безумца! – почти выкрикнул я. – Кем были те алалои, которыми он столь восхищался? Мечтателями и безумцами. Были и остались. Они явились на эту планету с первой волной экспансии, когда Старая Земля была еще юной и, как утверждают некоторые, радиоактивной не хуже плутония. Пещерные люди! Они пожелали стать пещерными людьми! Вызвали в своих хромосомах обратные мутации, уничтожили свой корабль и стали жить в замерзших лесах. А теперь пра-пра-пра-правнуки их пра-пра-правнуков охотятся на мамонтов ради мяса и умирают задолго до своей сотой зимы.
– Но умирают счастливыми.
– Кто знает, как они умирают? – буркнул я. – Вот Гошеван и пожелал это узнать. Он отыскал меня – ему сказали, что как-то давно, еще в те годы, когда я работал по найму, я первым выполнил операцию, причем на самом себе, дабы доказать свое мастерство скульптора по плоти. «Превратите меня в алалоя», – умолял он в этой самой комнате, где мы попиваем кофе и квас. И я посоветовал ему: – Сходите к любому сетику в нашем квартале, он быстро избавит вас от навязчивых идей.
– Я з-заплачу вам десять миллионов таланнов! – крикнул он. Но его провинциальные деньги ничего не стоили в Призрачном Городе, о чем я ему и сказал.
– Алмазы, – не унимался он. – У меня есть две тысячи каратов Йарконских «голубых звезд».
– За эту цену, – сказал я, – я могу удлинить ваш позвоночник на восемь дюймов или превратить вас в прекрасную женщину. Могу осветлить вам кожу и сделать волосы белыми, как у куртизанки с Джакаранды.
Тогда он хитро взглянул на меня и добавил:
– За вашу работу я заплачу информацией. Я знаю координаты фиксированных точек Агатанжа.
Я рассмеялся и спросил:
– Как можете вы знать о том, что пилоты нашего города не могут найти уже три тысячи лет?
Выяснилось, что он действительно знал. За деньги, вырученные от продажи своих поместий, он вызнал местонахождение этого легендарного мира у встреченного на Даркмуне пилота-ренегата. Я навел справки в городском архиве; библиотекари так и забегали, услышав мой вопрос. Потом на проверку моей информации послали молодого пилота, и я сказал Гошевану, что ответа нам придется ждать от двухсот до трехсот дней.
Его информацию оценили в десять тысяч городских дисков! Пилот, заново открывший Агатанж, оказался очень хорошим. Слившись воедино со своим легким кораблем и начав доказывать теоремы вероятностной топологии – или что там проделывают наши знаменитые пилоты, когда хотят упасть сквозь пространство, не являющееся пространством, – он промчался сквозь все его узкие туннели, ныряя из окна в окно с такой точностью и изяществом, что вернулся с Агатанжа всего через сорок дней.
– Вы можете разбогатеть, – сказал мне Гошеван одним ясным, искрящимся днем мнимой зимы. – Выполните мою просьбу, и все мои диски станут вашими.
Я не стал отнекиваться, привел его в мастерскую и начал резать. Я лгал самому себе, мысленно твердя, что это вызов, проверка моего мастерства и умений – для преданного своему делу скульптора диски не самое главное в жизни. Я раздвинул его нижнюю челюсть и стимулировал максимальный рост альвеольных костей, чтобы челюсти смогли удерживать более крупные имплантированные зубы. Угол самого лица я расширил, создавая место для нового жевательного аппарата, достаточно мощного для разгрызания мозговых костей. И, разумеется, поскольку лицо теперь выдвинулось вперед, мне пришлось для защиты глаз снабдить череп надбровными валиками из синтетической кости. На эти изменения мы потратили почти целую зиму, но они стали лишь началом.
Пока он корчился под моими лазерами и скальпелями, изо всех сил стараясь сохранить на лице спокойствие заснеженного поля, я взялся за его тело. Для поддержки новых огромных мускулов, запущенных в рост по разработанному на Фраваши методу, пришлось полностью переделать весь костяк. Я расширил пластинки и спикулы ячеистой костной ткани и укрепил сами стержни и крепления сухожилий, удлинил не менее чем на три миллиметра мозговые столбики длинных костей. Пришлось испещрить множеством проколов кожу – я проникал под эпидермис, удаляя почти все потовые железы, чтобы мех будущей одежды не намок от пота, и он не замерз бы насмерть при первом же дуновении мнимой зимы. Темная кожа не смогла бы вырабатывать достаточно витамина D для поддержания в костях нужного уровня кальция во время долгих сумерек глубокой зимы, и я ингибировал его меланоциты[1] (мало кому известно, что у всех людей, светлокожих или темнокожих, имеется примерно одинаковое количество меланоцитов), после чего его кожа стала не темнее, чем у уроженца Торскаллы. А в качестве завершающего, как мне тогда думалось, штриха, я заставил всю поверхность его тела покрыться тонкими, почти невидимыми волосками, укутавшими Гошевана, словно коричневый мех, от бровей до кончиков пальцев на ногах.
Я остался очень доволен творением своих рук, но в то же время начал побаиваться, потому что Гошеван превратился в такого силача – полагаю, сильнее любого из алалоев, – что смог бы при желании с легкостью вырвать из моей груди ключицу. Но он все еще не был доволен и потому сказал мне:
– Осталось самое важное – то, что вы еще не сделали.
– Любой алалой не отличит вас от родного брата, – возразил я. Но он уставился на меня темными глазами фанатика и спросил:
– А мои с-сыновья, если мое с-семя случайно окажется совместимым с организмом женщины-алалоя? Разве кто-нибудь назовет моих ублюдочных, со слабой челюстью сыновей своими братьями?
В ответ я только и смог, что процитировать закон: «Человек может делать со своим телом все, что пожелает, но его ДНК принадлежит его виду». И тогда он ухватил меня за предплечье с такой силой, что мне показалось – мышцы сейчас оторвутся от кости, и заявил:
– Сильные люди создают собственные законы.
Я на мгновение испытал жалость к этому странному человеку, желавшему лишь того, чего желает каждый мужчина – сына, похожего на себя, да немного душевного покоя, – и потому нарушил закон цивилизованных миров. То был вызов, понимаете? Я облучил его семенники и обработал их для верности ультразвуком, убив сперму. Я, разумеется, не мог прибегнуть к помощи мастера-плетельщика, потому что все мои коллеги презирали незаконную деятельность. Но я знал, что не зря имею репутацию мастера-скульптора – а что такое плетение генов, как не хирургия на молекулярном уровне? И я залез в его тубулы, а потом долго и кропотливо расщеплял ДНК стволовых клеток и вызывал мутации в получившихся фрагментах. Теперь вновь созревающие сперматозоиды дадут жизнь сыну, похожему на него.
Когда я закончил эту тончайшую из тонких операцию, на что ушло почти два года, Гошеван встал перед зеркалом в моей мастерской, вгляделся в себя и объявил:
– Вот он, Homo neandertalis. Теперь я меньше, чем человек, но одновременно и больше, чем он.
– У тебя вид дикаря из дикарей, – подтвердил я, а затем, думая напугать его, добавил то, что утверждали почти все, говоря об алалоях: – Они живут в пещерах и не знают языка. Они по-животному жестоки со своими детьми: они пожирают чужаков, а может быть, и друг друга.
Услышав мои слова, Гошеван рассмеялся и ответил:
– На Старой Земле, в столетие холокоста, в месте под названием Шанидар, неподалеку от Загросских г-гор в Ираке, обнаружили неандертальское погребение. Археологи нашли скелет сорокалетнего м-мужчины, у которого не было руки ниже локтя. Они назвали его Шанидар I и установили, что руку он потерял з-задолго до смерти. В могиле другого неандертальца, Шанидара IV, нашли пыльцу нескольких видов цветов, перемешавшуюся с фрагментами костей, камешками и пылью. И я вот о чем хочу спросить тебя. Скульптор: м-можно ли называть людей дикарями, если они заботились о калеках и отдавали уважение умершим, осыпая их яркими цветами?
– Но ведь алалои другие, – возразил я.
– Посмотрим, – сказал он.
Тут я должен честно признаться, что недооценил его, приняв за безумца или жертву самообмана, обреченную на смерть уже в десяти милях от Никогде. По договору между основателями города и алалоями нам принадлежал лишь один-единственный остров – хотя и достаточно большой, – и отцы города свято блюли соглашение. Лодки бесполезны из-за айсбергов, забивающих Пролив, а ветроходы потенциальных контрабандистов и браконьеров расстреливают с воздуха. Я даже вообразить себе не мог Гошевана, шагающего пешком через Старнбергзее – Старнбергское море, когда оно замерзает глубокой зимой, и довольно ехидно поинтересовался, каким образом он намерен отыскать алалоев.
– Собаки, – сразу ответил он. – Я запрягу в сани собак, и они перевезут меня через замерзшее море.
– А что такое собаки?
– Хищные млекопитающие со Старой Земли. Они подобны людям-рабам, но гораздо приветливее и стремятся угодить хозяину.
– А, так ты говоришь о хазгах, – догадался я (так алалои называют упряжных собак) и рассмеялся. Даже сквозь шерсть на лице Гошевана я разглядел, как покраснела его белая кожа, словно ее хлестнул порыв ледяного ветра. – И как ты намереваешься протащить таких зверей в наш город?
В ответ Гошеван молча раздвинул волосы на животе и показал тонкую полоску плотной белой кожи, которую я принял за шрам после вырезанного аппендикса.
– Разрежь здесь, – велел он.
Заблокировав нервы на животе, я сделал разрез и обнаружил странный орган, прилегающий к кишке в том месте, где находится аппендикс.
– Это псевдояичник, – пояснил Гошеван. – Хозяева питомника на Даркмуне оказались умны. Валяй, режь дальше и увидишь, что я с собой привез.
Я вырезал фальшивый орган – красный и скользкий, изготовленный из даркмунского биопластика с тошновато-сладким запахом, – и быстро полоснул по нему скальпелем. Из него вывалились тысячи неоплодотворенных яйцеклеток и мешочек со спермой, до этого плававшие в суспензии кридды, сохранявшей их свежими и жизнеспособными. Ткнув пальцем в молочно-белый мешочек спермы, Гошеван сказал:
– Семя лучших даркмунских маттов. Поначалу я намеревался вырастить и обучить собак для сотен упряжек.
Не знаю, где и как Гошеван вырастил и натренировал своих собак, потому что вновь не видел его две зимы. Я уже было решил, что его поймали и изгнали из города, или же кто-то раскроил ему череп, а его мозги давно высосал грязный тощий трупоед.
Но, как вы еще увидите, Гошеван оказался человеком изобретательным и умирать не собирался. Он вновь вернулся в мою мастерскую зимней ночью, когда воздух был столь черен и холоден, что даже на всегда оживленных глиссадах и ледовых улицах не было ни души. Похожий на белого медведя, он стоял в прихожей, сильными и плавными движениями расстегивая парку из меха шагшая и срывая прикрывающую лицо меховую маску. Под паркой я разглядел черную с золотом камелайку с подогревом – такие носят бегуны в дни фестивалей, желая сохранить тепло и в то же время без помех работать руками и ногами.
– И это мой благородный дикарь? – спросил я, погладив пальцами его замечательно теплую нижнюю одежду.
– Даже ф-фанатик вроде меня должен поступаться принципами ради выживания, – ответил он.
– А что ты станешь делать, когда сядут батареи?
Он посмотрел на меня – в его глазах я прочел одновременно страх и упоительное восхищение – и ответил:
– Когда батареи сядут, я или уже буду мертв, или отыщу свой дом.
Попрощавшись со мной, он вышел на улицу, где его ждали собаки, нетерпеливо натягивавшие постромки. Когда он подошел, они завыли и залаяли, тычась черными носами в его парку. Стоя у окна я видел, как Гошеван возится с задубевшими от мороза кожаными ремнями, время от времени похлопывая вожака огромными рукавицами. Он трижды перекладывал груз на нартах, равномерно раскладывая мешки с собачьим кормом и накрепко привязывая их к деревянной раме. Потом как-то хитро свистнул и отправился в путь. Свернув за угол, он растворился в морозной тьме.
Когда я произнес эти слова, в комнате словно похолодало. Юноша, глотнув кофе, плотно сжал узкие губы и тут же выдохнул облачко пара, словно зависшее в воздухе.
– Но ведь это еще не конец рассказа, верно, Скульптор? Вы забыли про мораль: как бедняга Гошеван погиб во льдах, проклиная свою дурацкую мечту и с разбитым сердцем.
– И почему вас, молодых, все время тянет заглянуть в конец? Неужели наша Вселенная вот-вот умрет или скукожится вместе со всеми своими измерениями? Как следует называть агатанцев – концом эволюции человека или новым видом людей? И так далее, и так далее. И кончатся ли когда-нибудь вопросы, задаваемые нетерпеливыми молодыми людьми?
Я торопливо хлебнул горького кваса, обжег рот и горло и просидел некоторое время, жадно, словно старые мехи, втягивая в легкие холодный воздух.
– Но вы правы, – выдохнул я. – Мой рассказ еще не закончен.
Гошеван погнал упряжку прямиком через замерзшее Старнбергзее. Все время на запад, шестьсот миль по утрамбованному ветром снегу, и как можно быстрее. Добравшись до первого из Тысячи Островов, он увидел покрытые вечнозелеными лесами горы, где на крутых гранитных утесах гнездились таллосы, наполнявшие воздух хриплым карканьем, слышным за много миль. Но алалоев он не нашел и потому направил собак через расщелины ледяного шельфа обратно в море.
Он осмотрел пятнадцать островов, не отыскав ни единого человеческого следа. Гошеван провел в пути шестьдесят два дня, и тут смертоносное безмолвие лютых морозов глубокой зимы начало сменяться жуткими буранами средизимней весны. Во время одного из них, когда снег стал настолько тяжелым и мокрым, что ему приходилось через каждые сто ярдов останавливаться и очищать стальные полозья саней от примерзшей снежной каши, вожак упряжки по кличке Юрий Яростный провалился вместе с другими собаками в расщелину. Гошеван вцепился в сани и удерживал их изо всех сил, уперев задники сапог в скользкий снег, но вес трех собак – Юрия, Саши и Али, – повисших на постромках и огромным маятником болтавшихся за краем расщелины, оказался настолько велик, что он почувствовал, как и его медленно притягивает к обрыву. Только быстрый взмах охотничьего ножа спас его самого и оставшихся собак. Перерезав постромки, он с бессильной яростью наблюдал, как самые крепкие собаки упряжки, цепляясь черными когтями за стены расщелины, с жалобным визгом падают на ледяное дно.
Несчастье ошеломило Гошевана, и, хотя снегопад прекратился, а на горизонте уже виднелся шестнадцатый, самый большой из Тысячи Островов, он понял, что не может идти дальше, не отдохнув. Поставив палатку, он скормил собакам остатки из последнего мешка с кормом. Вскоре послышалось отдаленное шипение, быстро превратившееся в рев – буран налетел вновь и бушевал вдоль Старнбергзее с такой яростью, что весь день и всю ночь Гошеван проверял ввинченные в лед штыри, державшие палатку, иначе его снесло бы вместе с ней. Он пролежал в ней девять дней, дрожа в спальном мешке, пока подгоняемые ветром ледяные кристаллы делали свое дело. На десятый день встроенные в камелайку батареи сели настолько, что он с отвращением швырнул их в задубевшие и бесполезные стенки палатки. Потом выкопал в снегу пещерку и затолкал в нее двух последних изголодавшихся собак, надеясь, что они прижмутся друг к другу и хоть как-то согреются. Но на одиннадцатый день Гашербрум, умнейшая из собак, умерла. А утром, двенадцатого дня, его любимая Каника, чьи лапы покрывала корка смешанного с кровью льда, тоже застыла, словно зимняя ночь.
Когда буран не утих и на пятнадцатый день, Гошеван настолько обезумел от жажды, что обжег и без того покусанные морозом губы о металлическую чашку, в которой растапливал снег. И хотя от голода стал слаб, как снежный червь, он так и не смог заставить себя есть собачатину, потому что каждой из собак был и отцом, и матерью. Сама мысль, вызывала у него такую тошноту, что он предпочел бы умереть.
Смастерив себе грубые снегоступы из отодранных от саней деревянных планок, обтянутых кожей, он отправился, перебираясь с одной дрейфующей льдины на другую, к огромной бело-голубой горе, пронзающей небо в отдалении. Как он позднее узнал, гора эта называлась Квейткел, то есть «белая гора» на языке деваков – племени алалоев, которые наткнулись на умирающего Гошевана в густом лесу на восточном склоне.
Спасители – пятеро богоподобных мужчин в ангельски-белых одеяниях, как тогда почудилось его воспаленному, измученному видениями сознанию, – принесли Гошевана в огромную пещеру. Несколько дней спустя он очнулся от восхитительного запаха горячего супа и жареных орехов. Гошеван услышал тихие голоса, произносящие слова странного музыкального языка, ласкавшего слух. Двое детей – мальчик и девочка – сидели на краешке укрывавшего его роскошного меха, застенчиво разглядывали чужака сквозь щелочки между пальчиками поднесенных к лицам ладошек и хихикали.
К нему подошел широкоплечий чернобородый мужчина. Могучими, покрытыми шрамами пальцами он держал суповую миску из пожелтевшей кости с вырезанными на ней изображениями ныряющих китов. Пока Гошеван глотал суп, мужчина спросил:
– Марек? Патвин? Олоран? Нодин? Маули?
Гошеван, еще не оправившийся полностью от снежной слепоты и туго соображавший, позабыл, что я сделал его внешне неотличимым от любого из алалоев. Ему показалось, будто его обвиняют в том, что он чужак, и потому он яростно тряс головой, услышав название очередного племени. Наконец, когда Локни – так звали большого мужчину – прекратил попытки узнать, из какого же племени найденный ими незнакомец, Гошеван стукнул себя в грудь и произнес:
– Я человек. Просто человек.
– Айямен, – повторил Локни. – Ни луриа ла деваки.
Вот так и получилось, что Локни из племени деваков пригласил в новый дом Гошевана из племени айяменов[2].
Гошеван быстро набирался сил, объедаясь солоноватым сыром из молока шагшаев и орехами балдо, запасы которых деваки делали, чтобы переждать бури средизимней весны. И хотя Катерина, жена Локни, предлагала ему толстые мамонтовые отбивные, сочащиеся под хрустящей корочкой красным соком жизни, он не ел мяса. Гошеван, всю жизнь жевавший лишь мягкое, искусственно выращенное мясо без костей, ужасался тому, что такие ласковые и заботливые люди питаются мясом живых животных. Вряд ли я сумею научить этих дикарей хотя бы нескольким правильным обычаям цивилизованных людей, как-то подумал он. С какой стати они будут прислушиваться к словам незнакомца? Именно тогда, впервые с того дня как покинул Летний Мир, Гошеван задумался о мудрости своего поступка.
К тому времени, когда Гошеван нарастил пятьдесят фунтов новых мускулов, бури средизимней весны сменились ясными днями мнимой зимы. Настали прохладные солнечные дни; выпадавший изредка снежок был не в силах прикрыть даже альпийские огневки и снежные георгины, ковром устилавшие нижние склоны Квейткела. Таяли ледники, меховые мухи откладывали яйца. Для мамонтов, которых деваки называли отувап, настало время приносить потомство, а для леваков – пора охоты.
Гошевана выворачивало от одной мысли об убийстве. Хотя он быстро выучил язык деваков, а заодно смирился с вшами и грязными немытыми волосами, он так и не знал, сможет ли убить животное. Но когда Локни молча сунул ему в руку копье, он понял, что ему придется охотиться вместе с восемнадцатью другими мужчинами, многие из которых уже давно дивились странным обычаям айяменов, и даже ставили под сомнение его мужество.
Поначалу охота шла хорошо. В одной из долин среди холмов у южных подножий Квейткела они отыскали стадо мамонтов, кормящихся арктической тимофеевкой и перезрелыми, уже наполовину перебродившими снежными яблоками. Огромные волосатые звери, пьяно пошатываясь, бродили по долине, заросшей альпийской огневкой, где все было словно охвачено ярким красным и оранжевым пламенем. Гошевану даже захотелось крикнуть при виде такой красоты. Охотники оттеснили трубящих мамонтов к краю долины и загнали в болото, где быстро прикончили копьями с кремневыми наконечниками трех молодых тува. Но потом Локни завяз в болоте, а Вемило растоптала разъяренная самка. Гошевану, оказавшемуся ближе остальных, пришлось спасать Локни. Он протягивал ему копье, но, хотя связки на его до предела вытянутой руке едва не лопались от напряжения, Локни никак не мог за него ухватиться. Гошеван услышал голоса и крики, потом оглушительный топот. Земля под ним затряслась. Подняв голову, он увидел несущуюся прямо на него самку с красными от ярости глазами и понял, что охотники уже молятся о его духе – каждый знал, что одиночке не справиться с нападающим тува.
Охваченный ужасом, Гошеван с такой отчаянной силой метнул копье в глаз мамонта, что наконечник вошел в мозг, а огромный зверь горой рухнул на землю. Деваки были ошеломлены. Никто еще не видел подобного, а Хайдар и Алани, сомневавшиеся до сих пор в его храбрости, заявили, что Гошеван даже больше, чем мужчина. Но сам Гошеван знал, что его победа – результат слепого везения и моей хирургии, и потому его охватило презрение к себе, ибо он убил могучего зверя и теперь недостоин называться человеком.
Ночью в пещере деваки устроили поминки, скорбя о духах умерших тува и напутствуя дух Вемило перед походом на другую сторону дня. Локни отрезал себе ухо острым обсидиановым ножом и положил окровавленный лоскут кожи на холодный лоб Вемило, дабы тот всегда мог слышать молитвы своего племени. Пока Катерина прикрывала рану мужа пушистым мхом, другие женщины забрасывали искалеченное тело Вемило снежными хризантемами.
Потом Локни повернулся к Гошевану и сказал:
– Мужчина, чтобы быть мужчиной, должен иметь женщину, а ты слишком стар, чтобы брать в жены девственницу. – Он подошел к Ларе, всхлипывающей над могилой мужа. – Посмотрите на эту несчастную женщину. Давным-давно Арани, ее отец, бросил ее, чтобы жить с безволосыми людьми в Призрачном Городе. Братьев у нее нет, а теперь и Вемило танцует среди звезд. Посмотри на эту несчастную, но прекрасную женщину, чьи волосы все еще черны, а зубы прямы и белы. Кто станет мужем этой женщины?
Гошеван посмотрел на Лару, и, хотя глаза ее застилали слезы, он увидел, что они темны и горячи, полны красоты и жизни. В груди Гошевана вспыхнуло пламя, и он воскликнул:
– Только дурак не пожелает такую женщину! – И добавил, желая утешить Лару. – Мы поженимся, и у нас будет много детей, которых мы станем любить.
Все внезапно замолчали. Деваки молча переглядывались, словно не верили собственным ушам. Наконец Уши удивленно молвила:
– Неужели он не знает, что у Лары три дочери и сын?
– Конечно, знаю, – ответил Гошеван. – Но это значит лишь то, что чресла ее обильны, и она легко родит сыновей и для меня.
Услышав это, Уши вскрикнула и начала рвать на себе волосы. Катерина закрыла лицо руками, а Локни спросил:
– Как вышло, Гошеван, что ты не знаешь Закона?
Гошеван, разгневанный и смущенный, ответил:
– Откуда мне знать ваши законы, раз я из далекого племени?
Локни посмотрел на него, и в глазах его была смерть.
– Закон есть Закон, – сказал он, – и он един для всех алалоев. Наверное, снежная буря украла твою память и заморозила душу. – И затем, не желая убивать мужчину, спасшего ему жизнь и собирающегося жениться на его сестре, он растолковал, что к чему:
– Лара может родить еще только одного ребенка. У женщины может быть пятеро детей: одного для Дыхания Змея глубокой зимой, одного для бивней тува, мамонта. Одного для лихорадки, приходящей по ночам. – Локни на мгновение смолк, пока слова Закона перебегали с уст на уста, и все племя – кроме Гошевана – нараспев повторяло: – Мальчика, который станет мужчиной, и девочку, которая станет девака, матерью Людей.
Потом Локни приложил ладонь к шее Гошевана, стиснул пальцы и молвил:
– Если нас станет слишком много, мы убьем всех мамонтов, и нам придется охотиться на шелкобрюхов и шагшаев, чтобы не умереть с голоду. А когда их не станет, нам придется долбить дыры в морском льду и бить копьями тюленей, которые всплывут к ним подышать. Когда не останется тюленей, придется убивать кикилиа – кита, который мудрее нас и силен, как Бог. А когда животных не станет совсем, мы начнем выкапывать кривые корешки, есть личинок меховых мух и крошить себе зубы, обгладывая лишайники со скал. Наконец нас станет так много, что мы начнем убивать леса, чтобы сажать снежные яблоки, и тогда у людей проснется жадность, и кончится все тем, что у кого-то будет больше земли, чем у других. А когда свободной земли не останется, сильные начнут заставлять слабых работать, а слабые будут продавать за еду своих женщин и детей. Самые же сильные станут воевать между собой, чтобы захватить еще больше земли, мы превратимся в охотников на людей, и настанет для нас ад при жизни и ад по ту сторону. А под конец, как то случилось на Земле перед расселением на звезды, с неба упадет огонь и деваков не станет.
И Гошеван, по-настоящему желавший лишь одного сына, принял Закон алалоев, потому что кто лучше него самого знал о зле от владения рабами и о ложности продажной любви?
В конце мнимой зимы он женился на Ларе. Вплетенные в знак скорби в длинные черные волосы снежные георгины она заменила огневками, как подобает молодой жене, и села шить Гошевану новую парку из шагшая, без которой ему не выйти на зимний мороз. Каждый из деваков сделал им свадебный подарок. Эйрена и Джаэль, те самые хихикающие ребятишки, что первыми заговорили с ним много месяцев назад, подарили ему пару рукавиц и украшенный резьбой рог тортрикса, чтобы ему было из чего пить крепкое пиво, которое варили каждую зиму из раздавленных корешков. Но самым ценным подарком, изумившим Гошевана мастерством и симметрией, оказалось преподнесенное Локни копье – длинное, прочное и с кремневым наконечником, таким острым, что пронзало шкуру мамонта с той же легкостью, словно то был кусок сыра.
Допив свой квас, я смолк, переводя дыхание. Звук, с каким мраморная чашка юноши коснулась твердого холодного стола, показался мне слишком резким и громким. Я ощутил запах корицы и меда; минуту спустя домашник подал нам хлеб с изюмом, намазанный медовым сыром, и принес два пыхтящих кофейника. С улицы донеслось легкое пощелкивание стальных коньков по ледовой дорожке, и я удивился – кто-то или очень глуп или безрассуден, иначе не вышел бы из дому в такую ночь. Юноша схватил меня за руки и столь пристально впился в меня взглядом, что мне пришлось отвернуться.
– А Гошеван? – спросил он. – Он стал счастлив с красавицей Ларой? Стал, правда ведь?
– Да, он был счастлив, – ответил я, пытаясь высвободить свою стариковскую руку из тисков молодых пальцев. – Настолько счастлив, что стал называть вшей «мои маленькие зверушки» и перестал вспоминать о том, что ему до самой смерти не придется более мыться. Заикание, раздражавшее его всю жизнь и нередко вгонявшее в краску стыда, внезапно прошло, едва он обнаружил, с какой легкостью слетают с его языка певучие гласные и гладкие согласные языка деваков. Он полюбил детей Лары как своих собственных, а Лару любил так, как только может любить женщину отчаянный и романтический мужчина. А она, хотя и понятия не имела о столь знакомых Гошевану экзотических умениях куртизанок, любила его с такой силой и страстью, что он разделил свою жизнь на две части: время до Лары – смутное, тусклое и полное путаных воспоминаний – и время Лары, наполненное светом, радостью и смехом. Поэтому когда следующей средизимней весной она коснулась своего живота и улыбнулась, он с уверенностью понял, что прожил жизнь не напрасно и что счастлив настолько, насколько может стать счастлив мужчина.
Пока падал сухой глубокий зимний снег, Лара все разбухала подобно созревшим орехам балдо, которые женщины собирали и хранили в больших бочках из мамонтовых ребер, обтянутых мамонтовой же шкурой.
– У нас будет мальчик, – сказала она как-то ночью, в начале глубокой зимы, когда склоны Квейткела под светом лун казались серебряными. – Когда я носила девочек, все три раза меня тошнило по утрам. Но с этим ребенком я просыпаюсь голодной, словно тува средизимней весной.
Когда ее время настало, Катерина прогнала Гошевана и Локни, отца и дядю, ко входу в пещеру, где они принялись ждать, пока женщины совершали свой тайный обряд. Мороз той ночью стоял такой лютый, какой, по словам старой Амалии, бывает лишь дважды в столетие. На севере мужчины видели зеленые лоскуты света, свисающие с черного звездного неба.
– Огненные водопады, – сказал Локни. – Иногда они бледные и зеленые, как сейчас, а иногда красные, словно кровь. Духи Вемило и всех наших предков освещают зимнюю ночь, одаривая нас надеждой, чтобы мы противостояли мраку. – Потом он показал на яркий треугольник звезд, мерцающий над восточным горизонтом. – Ваканда, Эанна и Фарфара. Наверное, там живут люди. Люди-тени, без тел. Говорят, у них нет душ, и они питаются светом.
И так они сидели долго, дрожа от холода даже под мехами шагшая, и разговаривали о том, о чем говорят мужчины, когда их переполняет странная тоска и удивление перед тайной жизни.
Из пещеры донесся писк младенца. Гошеван хлопнул Локни по спине и радостно захохотал. Но крик его новорожденного сына тут же смешался-с глухим стоном, а потом и плачем разом зарыдавших женщин. Охваченный безумным страхом, он вскочил, а Локни пытался его удержать.
Гошеван побежал в самую теплую и дальнюю часть пещеры, где мужчинам находиться не полагалось. И там, в тусклом желтом мерцании масляных светильников, на новом, залитом кровью меху увидел своего мокрого, скользкого и розовокожего сына, лежащего между согнутых ног Лары. Рядом с младенцем стояла на коленях Катерина, прикрывая его лицо уголком серого меха. Гошеван с такой силой отшвырнул ее от сына, что она, глотая ртом воздух, упала на пол. Когда же Хайдар и Палани схватили его за руки, к Гошевану подошел Локни, охваченный печалью; его голос дрожал, а из глаз катились слезы. Он сказал:
– Таков Закон, друг. Любой ребенок, родившийся таким, как твой сын, должен сразу отправиться в путешествие на ту сторону.
Лишь тогда Гошеван, все еще переполненный слепой паникой и яростью, взглянул на своего сына. Он увидел вместо бедер два крошечных шевелящихся красных обрубка – там, где у нормального ребенка виднелись бы дрыгающиеся ножки. Его сын родился без ног. Когда Локни взял младенца, Гошеван сказал ему:
– Деваки не убивают друг друга.
– Ребенок не считается деваком до тех пор, пока у него нет имени, – ответил Локни. Гошеван впал в такую ярость, что на помощь Хайдару и Палани поспешили Эйнар и Паули.
– Я нарекаю его Шанидар, – заявил Гошеван. – Моего сына, которого я люблю больше собственной жизни, отныне зовут Шанидар.
Но Локни лишь покачал головой, потому что жизнь деваков настолько тяжела, что они не дают детям имен, пока не минует четыре зимы. Начертив пальцем в воздухе звезду над головой вопящего младенца, он отправился хоронить его в снегу.
Вернувшись с пустыми руками и белой паркой, заляпанной алыми пятнами замерзшей крови, Локни прикрыл ладонью глаза, словно защищая их от полуденного солнца мнимой зимы. Гошеван вырвался, схватил копье для охоты на мамонта, подаренное ему на свадьбу, и отчаянно метнул его в Локни. Боль и страх ослепили его настолько, что он даже не увидел, как наконечник, войдя в живот Локни, вышел из спины. Гошеван бросился из пещеры на поиски сына.
Час спустя он вернулся, держа в руках молчащего неподвижного младенца, замерзшего до твердости мамонтовой ноги.
– Лара, – пробормотал он и, пошатываясь, словно пьяный, направился к жене. Но Лара, успевшая увидеть то, что вышло между ее ног, и то, что сделал ее муж, перерезала себе скребком для шкур артерию на горле раньше, чем он к ней приблизился. И пока Гошеван, рыдая, говорил, что любит ее и умрет, если ее не станет, она ответила, что суть Закона в том, что жизнь надо прожить честно и радостно, или не жить вовсе. Поэтому когда Лара умерла на его глазах, вместе с ней умерла и лучшая часть Гошевана. Зная, что его жизнь также подошла к концу, он развязал шнурки своей парки, обнажив черные свалявшиеся волосы на груди, чтобы Эйнару, Алани и другим было легче пронзить его копьем. Но Гошеван так ничего и не понял. Локни, лежавший на спине в луже крови, вытекшей из большой раны в животе, сказал ему:
– Возвращайся в Город, глупец. Мы не станем убивать тебя, потому что не охотимся на людей.
Они дали Гошевану упряжку рычащих собак, бочонок орехов балдо и отправили в путь по льду. И он, которому сотню раз полагалось умереть, остался жив, потому что его переполняло безумие, охраняющее отчаянных людей. В голове Гошевана зародилась новая идея, и он направился в обратный путь по льду замерзшего Старнбергзее. На этот раз он съедал умерших собак и не обращал внимания на то, что его борода покрылась коркой черной замерзшей крови. Он снова пришел в Никогде, назвавшись ищущим, и заявился ко мне в мастерскую – жалкий, изголодавшийся, покрытый грязью. Мертвая отмороженная кожа гноилась на его лице.
– Я ищу жизнь для моего сына, – заявил он, стоя в этой самой комнате. Из набитого снегом и задубевшего от мороза кожаного мешка он извлек скрюченный розоватый кусок замороженной плоти и выложил его на стол. – Вот мой сын, – сказал он. – Используй все свое умение, скульптор, и верни его мне.
Гошеван поведал мне свою историю, нянча на руках кожаный мешок, куда сунул труп несчастного младенца. Он был безумен, настолько безумен, что мне пришлось орать на него и по нескольку раз повторять одно и то же, пока он не перестал причитать.
– Во всем городе не найдется ни единого криолога, – твердил я, – который сумел бы оживить твоего сына.
Но он так и не понял меня, и отправился бродить по ледяным улицам, рассказывая свою историю каждому скульптору, свахе и сетику, согласному его выслушать. Вот так весь город и узнал, что я манипулировал с его ДНК, причем манипулировал серьезно. Меня вызвали к акашикам, и их проклятый оптический компьютер обшарил весь мой мозг и записал все мои поступки и воспоминания.
– Если ты еще когда-либо нарушишь законы нашего города, – предупредил меня глава акашиков, – тебя изгонят. – А для верности они приказали мне в первый день каждого нового года являться для очередной проверки «до конца своей жизни». Но, как ни странно, хоть я и взбудоражил почти весь город, моя «неандертальская процедура» тут же стала чрезвычайно популярна среди многих туристов, приезжающих в Никогде с целью изменить себя. Даже многие годы спустя на ледовых дорожках нашей части города теснились широкоплечие волосатые супермены, выглядевшие так, словно они братья Гошевана.
Бедный Гошеван! Хотя он умолял и грозил каждому криологу в квартале, смерть есть смерть, и никто не мог ничем ему помочь, разве что накормить чем-нибудь горячим, дать глотнуть тоалаче и отправить бродить дальше. Последнее, что я про него слышал – как он пытался кого-то подкупить, лишь бы попасть на Агатанж где, по его словам, люди уже больше не люди, и чудеса бесплатны для любого, кто согласится расстаться со своей человеческой сутью. Но всякий ведь знает, что агатанжское воскрешение – не что иное как миф, выдуманный неким фантазером, опьяненным пламенем тоалаче, и нисколько не реальнее телепатов Юлканды. Так Гошеван и сгинул в переулках нашего Призрачного Города, где, без сомнения, замерз насмерть в одну из темных зимних ночей. И тут, мой юный друг, моя история заканчивается.
Я поднялся, намекая, что наша беседа завершилась, но юноша остался сидеть, молча глядя на меня. Взгляд его стал таким напряженным, настолько мрачным и раздражающим, что мне невольно подумалось: возможно, все, жаждущие недостижимого, в той или иной степени затронуты безумием.
– А сейчас вы должны уйти, – сказал я, ощущая, как кислый квас и горячий кофе обжигают мне желудок. – Вы понимаете, почему именно сейчас, и понимаете также, почему должны это сделать.
Внезапно юноша ударил кулаком по столу. По комнате эхом пронесся громкий стук подпрыгнувших на столешнице чашек, смешанный с его дрожащим от возбуждения голосом.
– Но здесь эта история не кончается, – заявил он. – Существует другой, истинный конец истории о Гошеване, который рассказывают в серебряных рудниках Летнего Мира.
Услышав его слова, я улыбнулся, ибо история о Гошеване ныне превратилась в легенду, и окончаний у этой легенды не меньше, чем Тысячи Островов. И хотя я не сомневался, что вновь со скукой выслушаю один из мифических вариантов, в котором Гошеван с триумфом возвращается к патвинам, башамам или какому-нибудь другому племени алалоев, я все же решил послушать. Никогда нельзя знать наверняка. А поскольку я коллекционирую эти мифы, то ответил:
– Расскажите мне ваш конец.
– Гошеван отыскал Агатанж, – убежденно начал юноша. – Вы сами говорили, Скульптор, что он был не из тех, кого легко убить. Он отыскал Агатанж, где люди – полагаю, не стоит называть их людьми, потому что они многополые и больше похожи на тюленей, чем на людей, – где агатанцы оживили Шанидара. Они сделали ему механические ноги, сильнее настоящих, и, пока Шанидар рос, он сменил пятьдесят пар таких ног. Они предложили Гошевану покой агатанских океанов, мудрость и блаженство вживленных в мозг биопроцессоров. Но Гошеван ответил, что раз он оказался непригоден для ледяного мира, который менее чем цивилизован, то уж наверняка недостоин водного мира, давно превзошедшего цивилизацию. Поблагодарив хозяев планеты, он сказал:
– Когда Шанидар вырастет, он станет принцем. Я отвезу его на родной Летний Мир, где живут такие же люди, как мы.
Много лет спустя он вернулся на Летний Мир седым сгорбленным стариком. Отыскав старых друзей, он попросил у них взаймы богатые земли в дельте реки, чтобы восстановить свои прежние поместья. Но никто его не узнал. Прежние друзья, а ныне заносчивые и спесивые лорды, облаченные в белые летние шелка, увидели лишь старого безумца – полагаю, он показался им более похож на животное, чем на человека, – и странного на вид мальчика с агатанскими протезами вместо ног.
«Гошеван, – заметил Леонид Справедливый, который когда-то помог Гошевану подавить сорок восьмой на Летнем Мире бунт холопов, – был безволос, как слон. К тому же он заикался, если меня не подводит стариковская память».
А потом – ты слушаешь меня, скульптор? – Леонид приказал продать обоих на серебряные рудники. Сондеван, жирный надсмотрщик над рабами, снял с Шанидара протезы и привязал его к тележке, чтобы тот мог кататься по ведущим в шахту рельсам. Гошеван был стар, но все еще силен, как буйвол. Ему сунули в руки кайло и послали рубить жилу сильванита.
«Гошеваном, – сказал Сондеван, – звали моего отца. Он был невысок и слаб, и позволил лордам Дельты купить свои земли за бесценок – всего одну десятую таланна за акр. А это уродливое животное никакой не Гошеван».
В шахте было прохладнее, чем на рисовых полях, но и под землей царила адская жара, если сравнить температуру с морозными лесами Квейткела. Гошеван – помнишь, Скульптор, как ты удалял его потовые железы? – Гошеван продержался два часа, а потом свалился от теплового удара. Но перед смертью он рассказал своему сыну историю его рождения и объяснил Закон деваков. И за мгновение до того как на его череп обрушился серебряный молоток надсмотрщика, он произнес свое последнее слово: «Вернись!»
Поэтому я вернулся, – закончил юноша.
В мастерской царила тишина. Стоя на холодном кафельном полу, я слышал свое неровное дыхание, ощущал на языке горьковато-сладкий привкус кофе. Внезапно юноша встал, причем так резко, что задел бедром столик, и одна из моих драгоценных чашек упала и разбилась. Распахнув меха, он быстро спустил брюки, и я увидел кое-как, словно поработал невежественный ученик скульптора, прилаженные к бедрам искусственные ноги – из тех, что неумело клепают на Фосторе или Кайнане, – небрежно прикрытые сверху красными лоскутами кожи.
– Я вернулся, дед, – сказал он. – И ты должен сделать для меня то, чего не сумел сделать для Гошевана, моего отца.
И здесь мой рассказ воистину и на самом деле заканчивается. Я не знаю, настоящим ли Шанидаром был тот пришедший ко мне юноша. Не знаю, правдива ли история о смерти Гошевана. Я предпочел поверить его рассказу, хотя сам по себе он не столь уж и важен. Важны лишь точность и мастерство, новые ноги, отрастающие у калеки, и изменение, вопреки законам цивилизации, ДНК молодого человека, когда нужда в таком лечении и изменении и в самом деле велика. Важно, что есть люди, не боящиеся кроить и переделывать свою плоть, когда они стремятся начать все сначала.
И когда в первый день средизимней весны меня призовут к акашику, а потом изгонят из моего таинственного и любимого города, я не стану искать Агатанж, как бы завлекательны ни были его теплые океаны. Я слишком стар, чтобы переселяться в тело тюленя; я не ищу мудрости вживленных в мозг биопроцессоров. И если перефразировать закон, то он прозвучит так: «Человек может делать со своей ДНК все, что пожелает, но душа его принадлежит его народу». И я должен вернуться к своему народу, к девакам. Все эти годы мне мучительно не хватало спокойной заснеженной красоты Квейткела, а кроме того, мне нужно положить цветы на могилу моей дочери Лары. Я, Арани, когда-то пришедший в Никогде с шестнадцатого и самого большого из Тысячи Островов, пришедший как один из множества ищущих, сам переведу своего внука через замерзшее Старнбергзее. А за Гошевана, дитя моих лазеров и микроскопов, за моего несчастного, отважного и неугомонного зятя, я помолюсь так, как молимся мы за всех, совершающих великое путешествие: «Гошеван, ми алашария ла шанти деваки, да найдет твой дух покой по ту сторону дня…»
ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ
Посвящается Мелоди
1 КАДЕТЫ ГИБНУТ
Древние на Старой Земле часто задумывались над происхождением жизни и создали много мифов, объясняющих эту тайну тайн. Была Муму, богиня-мать, проглотившая огромного змея: он размножился в ней, и девять биллионов его детей, проев ев чрево, вышли на свет и стали тварями земными и морскими. Был Яхве, бог-отец, создавший небо и землю за шесть дней, причем птицы и звери появились на пятый и шестой день. Была богиня плодородия и богиня случая, именуемая Выборочной Мутацией. И так далее, и так далее. Истина же состоит в том, что всю нашу галактику засеяла жизнью некая раса, названная Эльдрией. Происхождение самой Эльдрии неизвестно и, возможно, непознаваемо в принципе, поэтому тайна остается тайной.
Хорта Хостхох, Хранитель Времени и Главный Горолог Ордена Мистических Математиков и Других Искателей Несказанного Пламени, «Реквием по хомо сапиенс».Надежда безгранична, но не для человека.
Франц Кафка, фабулист Века Холокоста.Задолго до того, как мы узнали, что цена мудрости и бессмертия, искомых нами, может оказаться непосильной для нас; когда человек – то, что осталось от человека – все еще походил на ребенка, играющего камешками и ракушками на берегу океана; когда мы стремились разгадать секрет Старшей Эдды[3], я услышал зов звезд и приготовился покинуть город своего рождения и смерти.
Я называю его Невернес. Основатели нашего Ордена, как рассказывал мне Хранитель Времени, обнаружили участок космоса, где пронизывающие мультиплекс во всех направлениях каналы сплетаются в тугой узел, и решили построить город на ближайшей планете, которую назвали Ледопадом. Поскольку подобные узлы считались крайне редким, а то и вовсе несуществующим явлением – теперь канторы именуют их сгущениями, – наш первый Хранитель Времени объявил, что, если даже они будут странствовать по галактике до скончания времен, более плотного участка им все равно не найти. Никто не знает, сколько биллионов каналов сходится возле нашего прохладного желтого солнца. Возможно, их число бесконечно. Древние канторы, полагавшие, что их теоремы доказывают невозможность существования бесконечно плотных сгущений, предсказывали, что нашим пилотам никогда не удастся найти подобный топологический объект. Поэтому, когда наш первый Главный Пилот вышел из мультиплекса над маленьким скальным островом, которому суждено было стать колыбелью нашего прекрасного и обреченного города, он назвал его Невернес в насмешку над неверующими академиками. Канторы, со своей стороны, до сих пор именуют Невернес Нереальным Городом, но мало кто придает этому значение. Я, Мэллори Рингесс, почитающий своим долгом изложить здесь историю золотого века и величайшего кризиса нашего Ордена, буду следовать традиции пилотов, моих предшественников. Я знал этот город как Невернес в детстве, в годы своего совсем еще недавнего послушничества; Невернес – я зову его теперь, под таковым названием он и останется.
На четырнадцатый день ложной зимы 2929 года от основания Города Леопольд Соли, мой дядя и Главный Пилот нашего Ордена, вернулся в город после странствия, которое продолжалось двадцать пять лет – на четыре года дольше, чем я жил на свете. Многие, моя мать и тетя Жюстина в том числе, считали его погибшим, затерявшимся в черных глубинах мультиплекса или испепеленным взрывающимися звездами Экстра. Но наш прославленный Главный Пилот всех надул. На протяжении восьмидесяти дней в городе только об этом и говорили. Когда ложная зима вошла в силу и сугробы стали глубже, я постоянно слышал эти разговоры как в барах и кафе Квартала Пришельцев, так и в башнях Академии. Все утверждали, что скоро объявят поиск. Поиск! Для пилотов-кадетов, которыми мы были тогда – на днях нам предстояло принести пилотскую присягу, – это было волнующее время и даже более того: время беспокойства и мучительного ожидания. Все мы в глубине души мечтали и одновременно побаивались, что скоро от нас потребуют невозможного. Все, что вы прочтете дальше, – это хроника невозможного, повествование о мечте, страхе и боли.
Вечером накануне присяги мы с моим толстым ленивым другом Бардо разработали план нашей – вернее, моей – встречи с Главным Пилотом еще до предстоящей долгой и утомительной церемонии. Шел девяносто четвертый день ложной зимы. За стенами нашего общежития выпал снег, окутав белой пеленой территорию пилотского колледжа. Сквозь замерзшие окна я видел башни Ресы и других колледжей, мерцающие в свете заходящего солнца.
– Но почему ты всегда делаешь то, что не следует? – спросил Бардо, скорбно воззрившись на меня своими большими карими глазами.
Мне часто казалось, что его большой выпуклый лоб и глубоко посаженные красивые глаза выражают все обаяние его сложного характера и изобретательного ума. Если исключить эти черты, он был урод уродом, с жесткой черной бородой и красным носом-картофелиной. Он сидел на мягком стуле у окна, облаченный в яркие шелковые одежды. На всех десяти толстых пальцах красовались кольца с камнями разного цвета. По рождению он был принцем Летнего Мира – кольца и стул входили в перечень имущества, доставленного из родового поместья, и служили напоминанием о богатстве и славе, которые были бы его уделом, если бы он не отрекся (или не попытался отречься) от мирских удовольствий ради красоты и ужасов мультиплекса. Когда он закрутил свои длинные усы между большим и указательным пальцами, кольца стукнулись друг о друга.
– Почему ты хочешь того, чего получить не можешь? Где твой здравый смысл?
– Я хочу встретиться со своим дядей – что в этом плохого? – возразил я, натягивая черную конькобежную камелайку.
– И почему ты всегда отвечаешь вопросом на вопрос?
– А почему бы мне этого не делать?
Он со вздохом закатил глаза:
– Ты встретишься с ним завтра – для тебя это недостаточно скоро? Мы принесем присягу, а затем Главный Пилот вручит нам наши кольца – надеюсь. Мы станем пилотами, Мэллори, и сможем делать, что нам в голову взбредет. Этой ночью нам положено курить тоалач или найти себе пару смазливых шлюшек – по паре на брата, я хотел сказать – и трахать их, пока соки не иссякнут.
Бардо по-своему был куда более буйным и непокорным, чем я. На самом деле в ночь перед присягой нам полагалось практиковаться в дзадзене, холлнинге и фугировании – дисциплинах, необходимых для входа в мультиплекс (и выживания в нем).
– В прошлую семидесятидневку, – сказал я, – мать пригласила Соли с Жюстиной на обед. У него недостало учтивости хотя бы ответить на приглашение. Похоже, он со мной знакомиться не жаждет.
– И ты задумал отплатить ему за грубость еще большей грубостью? Ну, пьет он со своими друзьями – все знают, как лорд Соли любит выпить и почему он это делает. Оставь его в покое, паренек.
Я надел ботинки. Они застыли, потому что долго лежали на холоде под окном.
– Идешь ты со мной или нет?
– Иду ли я с тобой? Ничего себе вопрос! – Он рыгнул и погладил живот. – Если Бардо с тобой не пойдет, ты ведь один попрешься? – Как и многие летнемирские принцы, он имел привычку говорить порой о себе в третьем лице. – И что тогда? Случись чего, а виноват будет Бардо.
Я затянул шнурки и сказал:
– Я хочу подружиться с дядей, если удастся, и посмотреть, как он выглядит.
– Да какая разница, как он выглядит?
– Мне есть разница. Сам знаешь.
– Не можешь ты быть его сыном, я тебе сто раз говорил. Ты родился через четыре года после его отлета из Города.
Я слышал, что сходство между мной и Главным Пилотом так велико, что меня можно принять за его брата – или сына. Всю жизнь я страдал от этих разговоров. Моя мать, как твердила молва, была когда-то влюблена в великого Соли. Когда он бросил ее ради тети Жюстины, она якобы отыскала в Квартале Пришельцев похожего на него мужчину и родила от этого мужчины сына. То есть меня. Мэллори-бастарда, как шептали послушники в Борхе у меня за спиной, а некоторые, посмелее, и в лицо говорили. По крайней мере до тех пор, пока Хранитель Времени не обучил меня древним искусствам борьбы и бокса.
– Ну и что, если ты на него похож? Ты его племянник.
– Не по крови.
Я не хотел быть похожим на знаменитого, надменного Главного Пилота. Мне претила мысль, что на мне отпечаток его хромосом. Довольно и того, что я его племянник. Я очень боялся, и Бардо знал об этом, что Соли тайно вернулся в Неверное и использовал мою мать в собственных эгоистических целях. Или… О других вариантах мне думать не хотелось.
– Разве тебе самому не любопытно? – спросил я. – Главный Пилот возвращается из самого долгого за три тысячелетия существования Ордена путешествия, а тебе не интересно узнать, что он такое открыл?
– Нет. Любопытство, слава Богу, не относится к числу моих пороков.
– Говорят, Хранитель Времени объявит поиск на нашем посвящении. Ты и об этом ничего не хочешь знать?
– Если поиск объявят, мы, возможно, погибнем все до одного.
– Кадеты гибнут, – напомнил я.
Это был наш девиз – предостережение, выбитое на мраморной арке при входе в Ресу. Цель его – заставить юных кадетов призадуматься до того, как соваться в мультиплекс, и слова эти – чистая правда.
– «Смерть среди звезд – самая прекрасная смерть», – процитировал я изречение Тихо.
– Чепуха! – Бардо хватил кулаком по подлокотнику кресла. – Двенадцать лет я тебя знаю, и ты по-прежнему чепуху городишь.
– Нельзя жить вечно.
– А я вот хочу попробовать.
– Это был бы настоящий ад. День за днем те же мысли, те же тусклые звезды, те же лица друзей, говорящих и делающих одно и то же, необоримая апатия, гнездящаяся в тех же закоснелых мозгах, вечность никчемной, полной страданий жизни.
Бардо замотал головой так, что капли пота полетели со лба.
– Другая женщина каждую ночь – а то и три женщины. Мальчики или инопланетные куртизанки для разнообразия. Тридцать тысяч планет Цивилизованных Миров, из которых я видел только пятьдесят. Слыхал я, что говорят о Главном Пилоте и его поиске. Тайна жизни! Хочешь ты ее знать, тайну жизни? Бардо скажет тебе, в чем она. Не в количестве отпущенного нам времени, вопреки тому, что я только что сказал. Секрет не в количестве и даже не в качестве, а в разнообразии.
Я, как обычно, дал ему волю, и он сам себя загнал в западню.
– Разнообразие баров в Квартале Пришельцев почти безгранично. Ну так как, идешь?
– Чтоб тебе пусто было, Мэллори! Ясное дело, иду!
Я надел конькобежные перчатки и прицепил коньки. По крепкому полу из красного дерева я двинулся к двери. Коньки оставляли вмятины на фравашийском ковре. Бардо разглаживал ковер шлепанцами, ворча:
– У тебя нет никакого уважения к искусству. – Он тоже надел коньки и застегнул свой черный шегшеевый плащ золотой цепью у горла. – Варвар! – Он открыл дверь, и мы выкатились на улицу.
Мы ехали между Утренними Башнями Ресы, пригнувшись, размахивая руками и механически постукивая коньками по гладкому красному льду. Холодный ветер в лицо был даже приятен. В мгновение ока мы оставили позади гранитные и базальтовые башни колледжа высшей ступени, Упплисы, проехали сквозь мраморную колоннаду западных ворот Академии, и вот город – перед нами.
Он мерцает, мой город, он светится. Невернес называют самым красивым городом в Цивилизованных Мирах, красивее даже, чем Парпаллекс или Кафедральные города Веспера. На западе, вдаваясь в зеленое море, как расшитый драгоценностями рукав, поблескивают черными зеркалами хрупкие обсидиановые монастыри и хосписы Квартала Пришельцев. Прямо перед нами пенится Зунд, разбиваясь об утесы Северного Берега, и над всем городом высятся блистающие снегом и льдом, пронизанные пурпурными жилами пирамиды Вааскеля и Аттакеля. Ниже полукольца давно погасших вулканов (крайняя и южная вершина, Уркель пониже прочих, но его коническая симметрия почти безупречна) блестят в ярком свете ложной зимы башни и шпили Академии, заставляя искриться весь Старый Город. Наши улицы, как всем известно, покрыты разноцветным льдом, так что белое сияние перемежается оранжевым, зеленым и голубым. «Странны улицы в этом городе боли», – любит цитировать Хранитель Времени, однако эта странность преследует определенную цель. Улицы – точнее, глиссады и ледянки – не имеют названий. Так повелось с тех пор, как первый Хранитель Времени объявил, что юные послушники должны готовить свой ум к каналам мультиплекса, запоминая улицы нашего Города. Понимая, что Город неизбежно будет расти и меняться, он разработал план, позволяющий даже долго отсутствовавшим пилотам без труда находить дорогу. План этот как будто прост. У нас есть две главные улицы: Продольная, которая вьется от Западного Берега вдоль всего длинного рукава полуострова к подножию Аттакеля и Вааскеля, и Поперечная, ведущая от Крышечных Полей прямо к Зунду. Оранжевые ледянки пересекают Поперечную, зеленые глиссады – Продольную. Пурпурные дорожки вливаются в глиссады, красные – в ледянки. Не стану запутывать ситуацию, упоминая о двух желтых улицах Пилотского Квартала, однако они существуют. Никто не знает, откуда они взялись – не иначе как первый Хранитель Времени решил пошутить.
Перекресток, расчерченный оранжево-белой клеткой, вывел нас на Поперечную примерно в миле западнее Академии. На улице толклись хариджаны[4], червячники и прочие пришельцы. На ходу мы кланялись эсхатологам, цефикам, акашикам, горологам и другим специалистам и академикам нашего Ордена. Пилоты нам не встречались. (Хотя мы, пилоты, как бы иные этого ни оспаривали, представляем собой душу Ордена, мы уступаем числом скраерам, холистам, историкам, мнемоникам, экологам, программистам, неологикам и канторам. В нашем Ордене сто восемнадцать дисциплин, и каждый год к ним прибавляются новые, как будто этих мало.) От двух Подруг Человека шел экзотический запах – они беседовали, подняв хоботы и осыпая друг дружку своими пахучими речевыми молекулами. Рядом с нами катился богато одетый алалой – вернее, человек, преобразовавший свое тело под мощного, мускулистого, волосатого алалоя. Это возвращение к первобытным формам не выходит у нас из моды с тех самых пор, как знаменитый Гошеван с планеты Летний Мир, устав от своей цивилизованной оболочки, ушел жить в алалойские пещеры на островах к западу от Города.
Лже-алалой, несущий на себе слишком много пурпурного бархата и золота, отпихнул с дороги тщедушного хариджана, рявкнув ему: «Ну ты, пришелец, смотри, куда прешь!» Растерянный хариджан, споткнувшись, осенил свой потный лоб знаком мира и шмыгнул в толпу, как побитая собака.
Бардо, посмотрев на меня, печально покачал головой. Он всегда питал странную симпатию к хариджанам и прочим бездомным пилигримам, прибывающим в наш Город ради духовного обогащения (а слишком часто и материального). Подкатившись поближе к варвару-алалою, мой друг мастерски сделал подножку, сталь звякнула о сталь, и алалой растянулся во весь рост. «Прошу прощения!» – со смехом бросил ему Бардо, а потом схватил меня за руку и потащил сквозь толчею конькобежцев, спешивших на ужин в свои излюбленные кафе. Я оглянулся, но пострадавший алалой уже скрылся из виду.
– На Летнем Мире, – сказал Бардо между двумя глотками воздуха, – мы клеймим таких каленым железом.
Мы свернули в Квартал Пришельцев, на улицу Десяти Тысяч Баров. Я говорил, что улицы Невернеса не имеют названий, но это не совсем так. Они не имеют официальных названий, которые значатся на уличных табличках, – но многие, особенно в Квартале Пришельцев, различаются по своим характерным особенностям. Есть улица Резчиков и Расщепителей, улица Публичных Девок и улица Мастер-Куртизанок. Улица Десяти Тысяч Баров – скорее район, чем улица. Это целый лабиринт красных дорожек с крошечными барами самой узкой специализации. В одном подают только тоалач, в другом – сулку, препарат из шишковидной железы птицы талло, вызывающий галлюцинации в малых дозах и грозящий смертью в больших. В одни бары ходят только Подруги Человека, другие открыты для всех, кто пишет хайку (но только самумские хайку) или играет на шакухачи. Есть бар, где эсхатологи спорят, скоро ли продолжающий взрываться Экстр уничтожит последние из Цивилизованных Миров, а рядом помещается бар тихистов, которые верят, что вселенная зиждется на элементе случайности, а посему некоторые миры, по всей вероятности, уцелеют. Не знаю, сколько этих баров всего – действительно десять тысяч или намного больше. Бардо часто шутит, что любой бар, который можно себе представить, наверняка уже существует. Он уверяет, что где-то есть бар, где фраваши критикуют мятущуюся поэзию Веков Роения, и другой, где критикуют самих критиков. Почему бы, собственно, и нет? А где-то есть и такой, где обсуждается все происходящее в остальных барах.
Мы остановились перед черным, без окон баром для мастер-пилотов – или, следовало бы сказать, баром для мастер-пилотов, вернувшихся из мультиплекса недавно. Солнце уже село, и ветер яростно гнал снег по темной ледяной дорожке. В тусклом свете уличных фонарей – когда он пробивался сквозь снежные завихрения – лед казался застывшей кровью.
– Экое скверное место. – Зычный голос Бардо отражался эхом от каменных стен. – Есть предложение. Я сегодня добрый и хочу купить тебе мастер-куртизанку на всю ночь. До сих пор ты не мог себе такого позволить, верно? Клянусь Богом, это ни с чем не…
– Нет, – отрезал я и открыл тяжелую дверь – обсидиановую и такую гладкую, что она казалась сальной на ощупь. Поначалу крохотное помещение показалось мне пустым. Потом я разглядел у темной стойки двух мужчин. И тот, что пониже, сказал:
– Пожалуйста, закройте дверь – холодно.
Мы вошли в бар, слабо освещаемый огнем в мраморном очаге.
– Мэллори, Бардо, – сказал тот же человек, – что вы здесь делаете?
Мои глаза уже привыкли к тусклому оранжевому свету, и я узнал мастер-пилота Лионела Киллиранда. Устремив на меня пристальный взгляд, он вопросительно вздернул свои белесые брови.
– Соли, – сказал он высокому человеку рядом, – позволь представить тебе твоего племянника.
Высокий повернулся к свету, и я увидел своего дядю Леопольда Соли, Главного Пилота нашего Ордена. Я словно в зеркало смотрел.
Соли уставился на меня беспокойными, глубоко посаженными голубыми глазами, и мне не нравилось то, что я в этих глазах видел. Мне вспомнились рассказы тетки: Соли славился бурными непредсказуемыми приступами ярости. Нос у него, как и у меня, был длинный и широкий, рот большой, с твердой линией губ. Худощавое тело от длинной шеи до коньков было одето в плотную черную шерсть. Казалось, он разглядывает меня с не меньшим любопытством, чем я его. Я смотрел на его волосы, а он на мои. У него они были стянуты позади в длинный хвост серебряной цепочкой по обычаю его родной планеты. Самума. В их волнистой черноте пробивались рыжие нити – генетическая метка какого-то давнего Соли, подправившего свои хромосомы. У меня, слава Богу, волосы густо-черные, без всякой рыжины. Я смотрел на него, он на меня, и в тысячный раз гадал, откуда взялись мои гены.
– Сын Мойры. – Имя моей матери он произнес как ругательство. – А ведь тебе не полагается здесь быть, правильно?
– Я хотел познакомиться с вами. Мать мне всю жизнь о вас рассказывала.
– Твоя мать меня ненавидит.
Наступило долгое молчание, которое нарушил Бардо, осведомившись:
– А где же бармен?
Бармен, послушник с тонзурой, прикрытой белым шерстяным клобуком Борхи, приоткрыл служебную дверь за стойкой и сказал:
– Это бар для мастер-пилотов. Кадеты пьют в кадетском баре, через пять домов на этой же дорожке по направлению к Музыкальной улице.
– Кадеты не спрашивают у послушников, что им следует делать, – отпарировал Бардо. – Подай мне трубку с тоалачем, а моему другу кофе – летнемирский, если он у вас есть, фарфарский, если нет.
Послушник, пожав тощими плечами, ответствовал:
– Мастер-пилоты не курят тоалач в этом баре.
– Тогда налей мне стопку жидкого тоалача.
– У нас не подают ни тоалач, ни кофе.
– Тогда аморгеник. Покрепче, чтоб гормоны заиграли. Нам предстоит деловая ночка.
Соли взял рюмку с какой-то дымчатой жидкостью и отпил глоток. В очаге позади нас треснуло и рассыпалось полено, брызнув углями и пеплом на плиточный пол.
– Мы пьем спиртное или пиво, – сказал Главный Пилот.
– Варварство какое, – буркнул Бардо и добавил: – Ладно. Мне пива.
– А как называется ваш напиток? – спросил я своего долговязого дядюшку.
– Виски.
– Мне тоже виски, – сказал я послушнику. Он наполнил большую кружку пенистым пивом, а бокал поменьше – янтарным виски и поставил напитки перед нами на стойку розового дерева.
Я глотнул и закашлялся, а Бардо, уже выхлебавший свое пиво, спросил:
– Каково это на вкус? – Я дал ему попробовать. Он тоже закашлялся, когда огонь обжег ему горло, и заявил: – Собачья моча!
Соли улыбнулся Лионелу и спросил меня:
– Сколько тебе лет?
– Двадцать один, Главный Пилот. Завтра, когда мы принесем присягу, я стану самым молодым пилотом за всю историю Ордена. Не подумайте только, что я хвастаюсь.
– А как же еще тебя понимать? – сказал Лионел.
Мы поговорили немного о происхождении таких колоссальных и загадочных явлений, как Кремниевый Бог и Твердь, и о прочих вещах, обычных для пилотов. Соли рассказал нам о своем путешествии к центру галактики, о плотных скоплениях горячих молодых звезд и об огромном кольцевом мире, который какое-то божество или кто-то еще соорудил вокруг Бетти Люс. Лионел утверждал, что колоссальные и зачастую неразумные галактоиды (он не любил слово «боги») организованы по иным принципам – не так, как наше убогое серое вещество: как бы иначе отдельные их доли – порой равные по величине лунам – могли поддерживать между собой связь через множество световых лет? Это был старый аргумент, часто используемый в ожесточенных спорах между пилотами и специалистами нашего Ордена. Лионел наряду со многими эсхатологами, программистами и механиками полагал, что галактоиды обрабатывают информацию посредством тахионных потоков, то есть почти мгновенно. Он считал, что мы должны попытаться наладить контакт с этими существами, хотя это чревато многими опасностями и может однажды вынудить Орден изменить свою политику вопреки убеждениям более консервативных пилотов старшего поколения – таких, как Соли.
– Кто может постигнуть разум, охватывающий тысячу кубических светолет космоса? – возразил Соли. – И кто знает, что такое тахионы? Возможно, галактоиды мыслят медленно, очень медленно.
Его самого происхождение и техника богов интересовали мало. В этом он был таким же занудой, как Хранитель Времени, и, как Хранитель, полагал, что некоторые вещи человеку знать не положено. Он прочел нам наизусть длинный список пилотов, в том числе и Тихо, которые погибли, пытаясь проникнуть в тайну Тверди.
– Они вышли за рамки своих возможностей, – сказал он. – Им следовало бы вовремя остановиться. – Я улыбнулся, услышав такие слова от человека, забравшегося дальше, чем кто-либо другой, от знаменитого пилота, чье открытие в скором времени вызвало кризис нашего Ордена.
Нам кружило голову то, что мы говорим с мастер-пилотами на равных – как будто мы уже давно принесли присягу и достойно проявили себя в мультиплексе. Я выпил свое виски, набрался смелости и спросил:
– Я слышал, скоро будет поиск. Это верно?
Соли заметно рассердился. Он производил впечатление угрюмого человека, и его зеленовато-голубые глаза смотрели печально и отрешенно – их взгляд говорил о ледяных туманах, бессонных ночах и припадках безумия. Его лицо, молодое и гладкое, как у меня, совсем еще недавно было старым и морщинистым. Личное время пилота в мультиплексе порой относится к невернесскому, как три к одному. Если бы я обладал мастерством цефика, то мог бы разглядеть старое лицо Соли под его новой, гладкой оливковой кожей – так некоторые видят черные увядшие лепестки на месте распустившегося огнецвета или голый череп под розовым личиком новорожденного. Один мастер-горолог, в чьи обязанности входило вычислять, сколько личного времени прожил пилот в космосе, с помощью сложных формул, где эйнштейново искажение времени сопрягается с непредсказуемыми возмущениями мультиплекса, сказал мне, что Соли в своем последнем путешествии состарился на сто три года и умер бы, если бы не искусство Главного Цефика. Это делало моего дядю, который подвергался омоложению трижды, старейшим пилотом нашего Ордена.
– Расскажите нам о своем открытии, – попросил я. Ходили нелепые слухи о том, что он достиг ядра галактики – единственный со времен Тихо, который вернулся назад полубезумным.
Он сделал длинный глоток, не переставая смотреть на меня сквозь клариевый бокал. Сырые дрова шипели, и с улицы доносился гул замбони, который, вися над дорожкой, пускал пар, разглаживая лед для завтрашних конькобежцев.
– Вот оно, нетерпение юности, – сказал Соли. – Ты приходишь сюда, не задумываясь о том, что пилоту хочется отдохнуть и побыть с друзьями. В этом ты похож на свою мать. Но раз ты уж дал себе такой труд и пострадал от шотландского виски, ты узнаешь, что со мной случилось, если действительно хочешь это знать.
Нормальный человек сказал бы попросту: «Я расскажу тебе, что со мной случилось», – но Соли, как и большинство выходцев с планеты мистиков Самум, соблюдал своеобразное табу относительно местоимения «я».
– Расскажите, – поддержал меня Бардо.
– Расскажите, – сказал я с той особой смесью поклонения и страха, которую испытывают кадеты к старым пилотам.
– Вот как это было. С моего отлета из Города прошло уже много времени. Мы, погруженные в сон-время, шли от окна к окну в направлении ядра. Звезды там многочисленны и сияют, как огни Квартала Пришельцев – целый веер огней, но в точке крепления этого веера царит полная чернота. В белом свете сон-времени – вы, молодые пилоты, видите в нем только остановленное мгновение, и вам еще многому предстоит учиться – внезапно возникло прояснение и послышались голоса. Мой корабль сообщил мне, что получен сигнал при пересечении одного из биллиона лазерных лучей, исходящих из черной точки сингулярности. – Соли неожиданно стукнул пустым бокалом по стойке, и его голос поднялся на целую октаву. – Да, так мне и было сказано! Из нее! Это невозможно, но это правда. Биллион инфракрасных лучей, исходящий из черной гравитационной пасти. Плесни мне, пожалуйста, еще виски, – добавил он, обращаясь к послушнику.
– А дальше?
– Дальше голоса. Корабельный компьютер, принимая полтриллиона битов в секунду, переводил информацию лазерных лучей в голоса. Голоса утверждали, что они – будем называть их Эльдрией… Знаком вам этот термин?
– Нет, Главный Пилот.
– Так эсхатологи именуют расу, засеявшую галактику своей ДНК.
– Мифическую расу.
– Теперь она перестала быть мифической. Они – многие отказываются в это верить – поместили свой коллективный разум, свое сознание, в черную дыру.
– В черную дыру?! – повторил Бардо, теребя свои усы.
Я вглядывался в Соли, стараясь понять, не разыгрывает ли он нас. Я ему не верил. На его руках не было перчаток. Этот надменный человек, видимо, не боялся инфекции или того, что враги могут воспользоваться его клетками. Костяшки пальцев, охватывающих бокал, побелели, черный алмаз пилотского кольца врезался в кожу мизинца.
– Это было послание, – сказал он. – Белый свет сон-времени кристаллизовался, настали тишина и ясность, а затем прозвучало послание. «У человека есть надежда, – сказали они. – Запомни: секрет человеческого бессмертия лежит в вашем прошлом и в вашем будущем». Так они сказали. Мы должны найти этот секрет. Если мы будем искать, то разгадаем тайну жизни и спасемся – так сказали мне Эльдрия.
Он, наверное, понимал, что мы ему не верим. Я кивал, как дурак, а Бардо не отрывал глаз от стойки, как будто завитушки розового дерева представляли для него особый интерес. Он обмакнул палец в пивную пену, сунул его в рот и громко чмокнул.
– Глупые юнцы, – сказал Соли и добавил, что Эльдрия, зная цинизм и безверие человеческой натуры, позаботились о подтверждении, предсказав последовательность сверхновых, долженствующих взорваться в Экстре.
– Разве это возможно – предсказать случайный процесс? – спросил я.
– А разве звезды в Экстре взрываются спонтанно? – спросил, в свою очередь, Лионел.
– Ну разумеется, – ответил Бардо.
По правде сказать, никто не знал по-настоящему, что происходит в Экстре. И что такое сам Экстр. Отдельный участок галактики, расширяющийся во всех направлениях? Или совокупность нескольких таких участков, спонтанных карманов адского пламени, вспыхивающих один за другим и связанных непостижимым для наших астрономов образом? Никто этого не ведал, и никто не знал, скоро ли взорвется маленькое солнце Ледопада вместе со всеми остальными звездами, положив конец разнообразным эсхатологическим прогнозам.
– Откуда вы знаете, что мы вообще что-то знаем? – осведомился Соли, глотнув виски. – Откуда известно, что моя память – реальность, а не галлюцинация, как утверждают некоторые дураки? Да, ты сомневаешься в моей истории, и ничто не докажет тебе ее правдивость, хотя ты и доводишься Жюстине племянником. Но вот что сказал мне Главный Акашик[5]: он сказал, что блок аудиозаписи чист. Корабль подавал информацию непосредственно на мой слуховой нерв. По-твоему, мой корабль тоже галлюцинировал?
– Нет, Главный Пилот. – Я начинал ему верить. На авторитет акашиков я полагаюсь полностью. Каких-нибудь полгода назад, завершив свое первое самостоятельное путешествие по мультиплексу, я сам предстал перед ними в студеный день глубокой зимы. Я помню, как сидел в затемненном кабинете Главного Акашика в шлеме депрограммирующего компьютера на голове, потел и ждал, когда подтвердится истинность моей памяти и моих маршрутов. У меня не было причин для страха, и все-таки я боялся. (Когда-то, во времена Тихо, мой страх был бы оправдан. Громоздкие старинные шлемы запускали протеиновые волокна сквозь череп испытуемого в мозг. Истое варварство! Современные шлемы – как утверждают акашики – моделируют коммуникации синапсов мозга голографически, «считывая» таким образом память и личные функции. Предполагается, что этот метод совершенно безопасен.)
Бардо громко пукнул (это часто случалось с ним, когда он нервничал или трусил) и спросил:
– И вы полагаете, что целью предстоящего поиска будет эта… тайна Эльдрии, не так ли. Главный Пилот?
– Эсхатологи назвали эту тайну Старшей Эддой, – сказал Соли, отступив подальше от Бардо. – И поиск действительно будет объявлен. Завтра, во время нашего посвящения, Хранитель Времени огласит свою волю.
Я поверил ему окончательно. Мой дядя, Главный Пилот, сказал, что будет поиск, и мое сердце забилось где-то в горле, словно судьба постучалась кулаком в двери моей души. В мозгу возникли самые дикие мечты и планы.
– Если бы нам удалось доказать Гипотезу Континуума, – выпалил я, – поиск завершился бы успешно и мы нашли бы вашу Старшую Эдду.
– Не называйте ее моей, – сказал Соли.
Должен сознаться, я не понимал Главного Пилота. То он заявляет, что некоторые вещи человеку знать не положено, то с явной гордостью стремится проникнуть в величайшую тайну. А в следующий момент хмурится и сожалеет о своем открытии. Очень уж сложный он человек – я знал только одного, кто превосходил его сложностью характера.
– Мэллори хотел только сказать, – вставил Бардо, – что он, как и все мы, воздает должное усилиям, которые вы затратили, стараясь доказать Великую Теорему.
Я имел в виду совсем не это.
Соли посмотрел на меня пристально и сказал:
– Кто не мечтал доказать Гипотезу Континуума. Гипотеза Континуума (иначе Великая Теорема) – это недоказанное следствие теоремы фокусов Лави. Она гласит, что между любыми двумя точками входа дискретных множеств Лави существует взимооднозначное соответствие. Проще говоря, от одной звезды к другой можно попасть за один-единственный ход. Это величайшая проблема мультиплекса и нашего Ордена. Когда-то Соли, будучи ненамного старше меня, чуть было не доказал Гипотезу, но отвлекся, поспорив о чем-то с Жюстиной, и забыл (как уверял он) изящный ход своей мысли. Воспоминание об этом не давало ему покоя, и он накачивался своим ядовитым виски, стремясь к забвению. (Голова у пилотов, как часто напоминал мне Бардо, лучше всего работает в молодости. Затем мозговые клетки начинают отмирать, а омоложение, которому мы все периодически подвергаемся, в этом отношении несовершенно. С возрастом мы постепенно глупеем – отсюда виски, тоалач или публичные женщины.)
– Возможно, Гипотеза Континуума вообще недоказуема, – продолжил Соли, крутя на стойке свой пустой бокал.
– Вы в ней разочаровались, я знаю.
– Ты тоже разочаруешься, если будешь стремиться к недостижимому.
– Простите меня, Главный Пилот, но разве мы можем знать заранее, что достижимо, а что нет?
– Мы начинаем понимать это с годами, когда становимся умнее.
Я пнул носком ботинка металлическую окантовку стойки, и медь глухо зазвенела.
– Я, конечно, молод, но не хотел бы показаться…
– Опять ты хвастаешься, – вмешался Лионел.
– Я считаю, что Гипотеза доказуема, и намерен доказать ее.
– Ради знания или ради славы? – спросил Соли. – Я слышал, ты сам не прочь стать Главным Пилотом.
– Каждый кадет мечтает когда-нибудь стать Главным Пилотом.
– Юношеские мечты для взрослого мужчины часто оборачиваются кошмаром.
Я снова задел ногой окантовку – нечаянно.
– Я уже не юноша. Главный Пилот. Завтра я дам обет, обязывающий меня искать истину, – разве вы забыли?
– Кто, я? – В запальчивости он нарушил свое табу, произнеся запретное местоимение, и поморщился. – Запомни, мой мальчик: я ничего не забываю.
Слово «ничего» повисло в воздухе вместе с гулом потревоженной меди. Соли уставился на меня, а я на него. Потом с улицы донесся чей-то смех, слишком громкий, и дверь бара распахнулась. Трое высоких, кряжистых мужчин, все с бледно-желтыми волосами, висячими усами, в легких черных шубах, припорошенных снегом, отстегнули коньки и ввалились внутрь. Они обменялись рукопожатиями с Соли и Лионелом. Самый большой из них, мастерпилот, терроризировавший Бардо все наши послушнические годы в Борхе, заказал три кружки кваса.
– Ну и холодина же на улице, – сказал он.
Бардо, нагнувшись ко мне, прошептал:
– Мне кажется, пора сматываться.
Я потряс головой.
Трое мастер-пилотов – их звали Нейт, Сет и Томот, и они были братьями – повернулись к нам спиной, делая вид, что нас не знают.
– Я оплачу тебе шесть ночей с мастер-куртизанкой, – настаивал Бардо.
Послушник принес три кружки с дымящимся черным напитком. Томот подошел поближе к огню и отряхнул шубу от снега. Глаза у него, как у многих пилотов, ослепших от старости, были блестящие, искусственные. Он только что вернулся с окраины Экстра.
– Твои Эльдрия были правы, дружище, – сказал он Соли. – Двойная Галливара и Сериза Люс взорвались. От них ничего не осталось, кроме пыли и света.
– Пыль и свет, – повторил его брат Нейт, обжег себе рот горячим квасом и выругался.
– Пыль и свет, – подхватил Сет. – Содервальд с двадцатью миллионами жителей попал в смерч радиоактивной пыли и света. Мы попытались эвакуировать их, но опоздали.
Солнцем Содервальда была Энола Люс, ближайшая к Двойной Галливара звезда. Сет сказал, что сверхновая сожгла поверхность Содервальда, уничтожила на планете всю жизнь, кроме земляных червей. Маленький пилотский бар вдруг показался мне удушающе тесным. Я вспомнил, что Содервальд – родная планета братьев.
– За нашу мать, – сказал Сет, чокнувшись с Соли, Лионелом и своими братьями.
– За нашего отца, – сказал Томот.
– Freyd, – завершил Нейт, едва заметно склонив голову – быть может, это была просто игра пламени в очаге? – За Юлет и Элат.
– Пошли, – сказал я Бардо.
Мы приготовились уйти, но тут Нейт, рыдая, припал к Томоту, а тот, поддерживая брата, повернулся в нашу сторону и устремил на нас свои мерцающие глаза.
– А это еще что такое?
– Что эти кадеты делают в нашем баре? – подхватил Сет. Нейт отвел мокрые волосы от заплаканных глаз и заявил:
– Бог мой, да это же бастард со своим толстым дружком – как, бишь, его звать? Бурпо? Лардо?
– Бардо, – сказал Бардо.
– Они как раз собрались уходить, – сказал Соли. Мне вдруг расхотелось уходить. Во рту пересохло и на глаза изнутри что-то давило.
– Какой там Бардо, – сказал Нейт. – В Борхе его звали Ссыкун Лал, потому что он каждую ночь ссал в постель.
Это была правда. При рождении Бардо получил имя Пешевал Лал. Первое время в Городе это был тощий, запуганный, тоскующий по дому мальчишка, который читал романтические стихи и по ночам мочился в постель. Одна половина послушников и мастеров звала его Бардо от слова «бард», а другая – Ссыкун. Но когда он стал заниматься тяжелой атлетикой, проводить ночи с женщинами и орошать постель жидкостью другого рода, мало кто осмеливался называть его иначе чем Бардо.
– Ладно. – Томот хлопнул в ладоши, подзывая послушника. – Пусть Бастард и Ссыкун выпьют с нами перед уходом.
Послушник налил им. Бардо посмотрел на меня. Не знаю, слышал ли он, как пульсирует кровь у меня в висках, видел ли выступившие у меня на глазах слезы.
– Freyd, – сказал Томот. – За погибших на Содервальде.
Я боялся, что сейчас заплачу от стыда и ярости, поэтому поднял бокал, глядя прямо в гнусные металлические глаза Томота, и попытался проглотить огненную жидкость залпом. Это было ошибкой с моей стороны. Я закашлялся и выплюнул виски, забрызгав лицо и желтые усы Томота. Он, должно быть, счел это насмешкой и оскорблением памяти его родных, потому что тут же, без лишних слов, одной рукой заехал мне в глаз, а другой вцепился в горло. Под бровью у меня вспыхнул огонь. Два прочих брата тоже обрушились на меня, как лавина. Замелькали кулаки, локти, и кровь потекла ручьем. Я лежал на холодном твердом полу, что-то твердое норовило мне выбить зубы, чьи-то твердые ногти раздирали веко. Вслепую я двинул Томота по морде, думая, что трусливый Бардо удрал и бросил меня. Но тут он взревел, вспомнив, должно быть, что он Бардо, а не Ссыкун. Раздались звучные удары кулаков по телу, и я освободился. Поднявшись, я приложил Томоту по голове коварным хуком, которому научил меня Хранитель Времени. Я разбил себе костяшки, и боль прошила руку до плеча. Томот схватился за голову и припал на одно колено.
– Сын Мойры. – Подоспевший Соли сгреб Томота за ворот шубы, не дав ему упасть. И тут я допустил ошибку, вторую по масштабам роковую ошибку в своей жизни. Я снова ударил Томота, но попал в Соли, расквасив его длинный гордый нос, словно спелый кровоплод. По сей день помню выражение изумления (и боли) у него на лице, как у человека, павшего жертвой предательства. Потом он обезумел. Он скрипнул зубами, высморкал кровь из носа и напал на меня с такой яростью, что сумел захватить мой затылок и попытался свернуть мне шею. Если бы Бардо не бросился между нами и не оторвал стальные пальцы Соли от моего черепа, дядюшка убил бы меня.
– Полегче, Главный Пилот. – Бардо помассировал мне затылок своей ручищей и подтолкнул к двери. Все остальные стояли, отдуваясь, глядя друг на друга и не совсем представляя себе, что делать дальше.
Затем последовали извинения и объяснения. Лионел, оставшийся в стороне от драки, сказал братьям, что я никогда раньше не пил виски и, разумеется, не хотел никого оскорблять. Послушник снова наполнил кружки и стопки, и я произнес траурную речь в честь погибших на Содервальде. Бардо предложил тост за Томота, а Томот – за открытие Соли. Все это время наш Главный Пилот не сводил с меня глаз, и кровь текла из его сломанного носа на чеканные губы и подбородок.
– Твоя мать меня ненавидит – значит, и ты тоже. Этого следовало ожидать.
– Извините меня. Главный Пилот. Клянусь вам, это была случайность. Вот, возьмите.
Я предложил ему свой носовой платок, но он притворился, что не видит моей протянутой руки. Я пожал плечами и промокнул кровь, сочившуюся из собственного века.
– За поиск Старшей Эдды, – сказал я, подняв свой бокал. – Уж за это вы непременно должны выпить. Главный Пилот!
– Как может какой-то кадет надеяться найти Эдду?
– Завтра я стану пилотом – и шансов у меня не меньше, чем у любого из пилотов Ордена.
– Шансов! Какие могут быть шансы у молодого дуралея-пилота, если речь идет о тайне жизни? И где ты собираешься искать? В каком-нибудь безопасном местечке, конечно, где шансов найти что-либо вообще никаких.
– А возможно, и там, куда разочарованные и одряхлевшие мастер-пилоты боятся сунуться.
В баре стало так тихо, что слышно было, как капли крови из дядиного носа падают на пол.
– Это где же? – спросил он. – Под юбками у твоей матери, что ли?
Мне захотелось ударить его еще раз. Томот с братом заржали, хлопая друг друга по спине, и мне захотелось разбить надменную, окровавленную физиономию Соли еще сильнее. Гнев всегда ударял мне в голову чересчур быстро и сильно. Да правда ли, что я ударил его чисто случайно? Быть может, судьба (или тайное желание) направила мою руку? Ноги у меня тряслись, и я, глядя на Соли, размышлял о судьбе и случае. Жар камина сделался вдруг невыносимым. В голове у меня пульсировали кровь и виски, подбитый глаз пылал, как жидкая лава, язык ворочался с трудом. В этот-то миг я и совершил самую тяжкую ошибку в своей жизни.
– Нет, Главный Пилот, – произнес я. – Я отправлюсь за туманность эты Киля и исследую Твердь.
– Не надо со мной шутить.
– Я не шучу. Это вы у нас шутник, но мне такие шутки не нравятся и я говорю серьезно.
– Нет, ты шутишь. – Он подступил ко мне поближе. – Это всего лишь глупая похвальба глупого кадета, так ведь?
Здоровым глазом я видел, что все, даже юный бармен, смотрят на меня.
– Ну конечно, это шутка, – пробасил Бардо, снова испортив воздух. – Скажи, что пошутил, паренек, и пойдем отсюда.
Глядя в злобные глаза Соли, я сказал:
– Клянусь вам: я не шучу.
Он сжал мне руку повыше локтя своими длинными пальцами.
– Клянешься, значит?
– Да, Главный Пилот.
– И готов повторить свою клятву официально?
Я освободился и сказал:
– Да, Главный Пилот.
– Ну так клянись как положено. Говори: «Я, Мэллори Рингесс, согласно канонам и обетам нашего Ордена, во исполнение призыва Хранителя Времени, клянусь перед моим Главным Пилотом исследовать каналы Тверди». Повторяй!
Дрожащим голосом я принес формальную клятву. Бардо смотрел на меня с нескрываемым ужасом. Соли приказал снова наполнить бокалы и провозгласил:
– За поиск Старшей Эдды. Да, мой юный дуралей-пилот, мы все выпьем за это!
Что было потом, я помню смутно. Думаю, что было много смеха, много виски и пива и много разговоров о тайне Эльдрии, о горестях и радостях жизни. Смутно припоминаю, как Томот и Бардо, обливаясь слезами, пытались прижать друг другу руки к блестящей стойке бара. Теперь-то я знаю, как спиртное уничтожает память. Потом мы с Бардо шатались по другим барам, где подавали виски и пиво (и сильные аморгеники), а под конец оказались на улице Мастер-Куртизанок, где красивые жакарандийки удовлетворяли наши желания. Так мне по крайней мере представляется. В первый раз имея дело с искусницей – искусницами – своего ремесла, я мало что смыслил в желаниях и их удовлетворении, а запомнил и того меньше. Я был так пьян, что не препятствовал женщине по имени Аида трогать мое нагое тело. В памяти остались тяжелые духи, темная горячая кожа, слепая нужда прильнувших друг к другу тел; и даже эти смутные воспоминания были испорчены виной и страхом из-за того, что я сделал Главного Пилота нашего Ордена своим врагом и дал клятву, обрекающую меня на верную смерть. «Кадеты гибнут», – сказал Соли, когда мы покидали бар мастер-пилотов. Я помню, как молился, выходя на улицу, чтобы его слова не подтвердились.
2 ПИЛОТСКАЯ ПРИСЯГА
Но странны, увы, улицы в Городе Боли…
Райнер Мария Рильке, скраер Века ХолокостаВо второй половине следующего дня мы получали свои пилотские кольца. Зал Пилотов, стоявший в центре Ресы среди общежитии, домов для преподавателей и учебных зданий, заполнили мужчины и женщины нашего Ордена. От огромной арки входа до помоста, где мы, выпускники, стояли коленопреклоненные, переливались радужными шелками одежды академиков и ведущих специалистов. Мастера различных профессий старались держаться вместе, и поэтому море шелков складывалось из пятен: у колонн в северном конце зала стояли цефики в оранжевых одеждах, рядом с ними – акашики в желтом. Группы скраеров блистали ослепительной белизной, механики в зеленом не иначе как спорили о фундаментальной (и парадоксальной) природе пространственно-временного континуума или о другой мистической проблеме. Под самым помостом чернела стена пилотов и мастер-пилотов. Я видел Лионела, Томота с братьями, Стивена Карагара и других своих знакомых. Впереди всех стояли моя мать и Жюстина, глядя на нас, как мне представлялось, с гордостью.
Хранитель Времени, суровый и великолепный, в струящемся красном одеянии, призвал нас, тридцать выпускников, повторить за ним слова присяги. Хорошо, что мы держались такой плотной группой. Теплая успокоительная масса Бардо справа, мой друг Кварин слева поддерживали меня, не давая упасть носом на блестящий мраморный пол. Утром я побывал у резчика, заштопавшего мое рваное веко, и принял слабительное, чтобы очистить организм от ядовитых веществ, но все-таки чувствовал себя отвратительно. Голова была тяжелой и горячей – казалось, что набухший мозг вот-вот разнесет череп. Душа моя тоже горела в жару. Моя жизнь была загублена, и меня мутило от страха. Я думал о Тихо, Эрендире Эде, Рикардо Лави и прочих знаменитых пилотах, которые погибли, пытаясь проникнуть в тайну Тверди.
Погруженный в свое горе, я пропустил почти все предостережения Хранителя Времени относительно опасностей мультиплекса. Но одно я расслышал хорошо: из двухсот одиннадцати кадетов нашего потока, поступивших в Ресу, остались только мы тридцать. «Кадеты гибнут», – сказал я себе, и внезапно низкий, вибрирующий голос Хранителя проник в самую глубину моего расстроенного сознания.
– Пилоты тоже гибнут, – сказал он. – Не столь часто, правда, и не столь легко, и ради более высокой цели. Ради такой цели мы и собрались здесь сегодня, чтобы посвятить… – Он продолжал в том же духе еще несколько минут, после чего мы принесли обеты целомудрия и бедности, наименее значительные из наших обетов. (Надо сказать, что целомудрие у нас соблюдается весьма условно. Физические сношения между мужчинами и женщинами отнюдь не возбраняются, однако в брак пилоты Ордена не вступают. Я считаю, что это хорошее правило. Когда пилот возвращается из мультиплекса на много лет старше или моложе своего супруга, как недавно Соли, разница в возрасте – мы называем это явление зловременьем – может погубить их брак.)
– Все, что вы знаете и будете узнавать сами, вы должны передать другим, – сказал Хранитель Времени, и мы принесли свой третий обет. Бардо, должно быть, услышал, как дрожит мой голос, потому что стиснул мое колено, словно желая передать мне часть своей силы. Четвертый обет, по моему мнению, был самым важным из всех. – Вы должны ограничивать себя, – сказал Хранитель. Я знал, что это правда. Глубокий симбиоз между пилотом и его кораблем вызывает опасное привыкание. Сколько пилотов пропало в мультиплексе, поддавшись ликованию по поводу мощи своего сопряженного с компьютером мозга! Обет послушания я повторил машинально, без всякого энтузиазма. Хранитель сделал паузу, и мне показалось, что сейчас он заставит меня повторить пятый обет сызнова. Но он произнес торжественно и многозначительно: – А теперь последний, самый священный обет – тот, без которого все другие пусты, как наполненная воздухом чаша. – И тогда, в девяносто пятый день ложной зимы 2929 года от основания Города, мы поклялись посвятить себя поиску истины и знания, даже если этот поиск приведет нас к смерти и к гибели всего, что нам дорого.
Хранитель Времени повелел вручить нам кольца, и Леопольд Соли вышел из примыкающего к помосту помещения. За ним следовал испуганный послушник с бархатным жезлом, на котором были нанизаны тридцать колец. Мы склонили головы и протянули вперед правые руки. Соли шел вдоль ряда, снимая с жезла кольца из алмазного волокна и надевая каждому из нас на мизинец.
– Этим кольцом посвящаю тебя в пилоты, – говорил он Аларку Мандаре и Шанталю Асторету, блестящему Джонатану Эде и Зондервалю. – Этим кольцом посвящаю тебя в пилоты. – Он продвигался все дальше. Нос у него распух, и он гнусавил, как будто подхватил насморк. Он подошел к Бардо, который ради такого случая снял все свои перстни, оставившие на пальцах белые полоски, и взял с жезла самое большое кольцо. (Я, несмотря на склоненную голову, все-таки умудрился подглядеть, как Соли насаживает блестящее черное кольцо на здоровенный палец Бардо.) Затем настал мой черед. Соли нагнулся ко мне. – Этим кольцом посвящаю тебя… в пилоты. – Последнее слово он выговорил так, точно оно жгло ему язык. И натянул мне кольцо так, что оно содрало кожу с пальца и больно сдавило сустав. Еще восемь раз я услышал «этим кольцом посвящаю тебя в пилоты», после чего Хранитель Времени прочел литанию в честь Главного Пилота, произнес реквием, и церемония завершилась.
Мы, тридцать пилотов, сошли с помоста, чтобы показать свои новые кольца нашим друзьям и мастерам. Родные наиболее состоятельных выпускников прилетели в Город, оплатив рейс на дорогих коммерческих лайнерах, но Бардо к таким не принадлежал. (Его отец считал сына изменником за то, что тот пожертвовал семейным богатством ради нашего Ордена.) Мы смешались с нашими товарищами, и море разноцветного шелка поглотило нас. Радостные восклицания сливались с топотом и смехом. Подруга матери, эсхатолог Колония Мор, бесцеремонно прижалась своей пухлой влажной щекой к моей, причитая:
– Нет, Мойра, ты только посмотри на него.
– Смотрю, смотрю, – ответила мать.
Она у меня женщина высокая, сильная – и красивая, хотя, надо сознаться, и располнела немного из-за любви к шоколаду. На ней была простая серая мантия мастер-кантора, наичистейшего из чистых математиков. Мне казалось, что ее быстрые серые глаза замечают все сразу.
– Я вижу, тебе зашили веко, – сказала она мне, – и совсем недавно. – Даже не взглянув на мое кольцо она добавила: – О твоей клятве всем уже известно. Я только и слышу с утра, что сын Мойры поклялся проникнуть в Твердь. Мой красивый, талантливый, неугомонный сын. – И она заплакала, ввергнув меня в полный шок – я впервые видел ее плачущей.
– Красивое кольцо, – сказала подошедшая тетя Жюстина и показала мне свое. – И ты вполне его заслужил, что бы там ни говорил Соли. – Жюстина тоже высокая, ее черные, с легкой проседью волосы уложены на затылке в шиньон, и шоколад она любит не меньше, чем моя мать. Но мать проводит свои дни в думах и честолюбивых грезах, тогда как Жюстина предпочитает общаться и выписывать сложные фигуры на Огненном, Северном или любом другом из катков нашего города. Так она сохранила свою стройность – не без ущерба, как мне думается, для своего острого от природы ума. Я часто думал о том, почему она выбрала в мужья Соли – а главное, почему Хранитель Времени, в виде исключения, разрешил этим двум знаменитым пилотам пожениться.
Бургос Харша со своими кустистыми бровями, отвисшими щеками и волосами, растущими из ноздрей, подошел к нам и сказал:
– Поздравляю, Мэллори. Я всегда ожидал от тебя чего-то незаурядного – как и все мы, впрочем, – но не думал, что ты расквасишь Главному Пилоту нос при первой же встрече и поклянешься сгубить себя в туманности, именуемой в просторечии (довольно вульгарно, надо заметить) Твердью. – Мастер-историк энергично потер руки и сказал моей матери: – Так вот, Мойра, я изучил каноны, устную историю Тихо, а также своды правил и должен сказать – я, конечно, могу ошибиться, но разве я когда-нибудь ошибался на твоей памяти? – должен сказать, что клятва Мэллори – всего лишь слово, данное Главному Пилоту, а не клятвенное обещание, принесенное Ордену. И, уж конечно, не торжественная присяга. В то время, когда он поклялся сложить свою голову – обстоятельство тонкое, но важное, – он еще не получил своего кольца, а потому официально пилотом не являлся и клятвенного обещания дать никак не мог.
– Не понимаю, – сказал я. – Позади слышалось пение, шорох шелков и шум тысячи голосов. – Я поклялся, и это главное. Какая разница, кому я дал клятву?
– Разница, Мэллори, в том, что Соли может освободить тебя от клятвы, если захочет.
Я ощутил прилив адреналина, и сердце забилось в груди, как пойманная птица. Мне вспомнилось, как гибли пилоты. Они гибли в интервалах между окнами, разрушив мозг непрерывным симбиозом со своим кораблем; умирали от старости, затерявшись в деревьях решений; сверхновые превращали их тела в плазму; сон-время – слишком много сон-времени оставляло их до конца жизни бессмысленно таращившимися на горящие в темноте звезды; их убивали инопланетяне и такие же люди, как они, они попадали в метеоритные потоки, сгорали в обманчивой тени голубых гигантов и замерзали в пустыне глубокого космоса. Я понял тогда, что, несмотря на мои же дурацкие слова о славной смерти среди звезд, мне не нужна слава и отчаянно не хочется умирать.
Бургос покинул нас, и мать сказала Жюстине:
– Ты поговоришь с Соли, правда? Я знаю, меня он ненавидит – но за что ему ненавидеть Мэллори?
Я топнул ботинком об пол. Жюстина разгладила пальцем бровь и сказала:
– С ним так трудно теперь. Это последнее путешествие чуть не убило его – как внутри, так и снаружи. Я, конечно же, поговорю с ним. Буду говорить, пока язык не отвалится, как всегда, но боюсь, он просто уставится на меня своим сумрачным взором и скажет что-нибудь вроде: «Если жизнь имеет смысл, откуда нам знать, суждено нам найти его или нет?» Или: «Пилоту лучше умирать молодым, пока зловременье не убило то, что он любит». Когда он такой, говорить с ним по-настоящему невозможно. Он, может быть, считает, что поступает благородно, взяв с Мэллори клятву погибнуть геройски, а может, правда верит, что Мэллори добьется успеха, и хочет им гордиться – я не знаю, что у него на уме, когда он вот так весь в себе, но поговорить поговорю, Мойра, не сомневайся.
Я не питал особой надежды на то, что Жюстине удастся поговорить с ним. Когда-то Хранитель Времени, позволив им пожениться, предупредил их: «Зловременье победить нельзя». И оказался прав. Считается, что именно разница в возрасте убивает любовь, но я думаю, это не всегда правда. Любовь убивает не только возраст, но и самосознание. С каждой прожитой нами секундой мы все больше становимся собой. Если такая вещь, как судьба, действительно есть, она состоит именно в этом: наше внешнее «я» ищет и пробуждает в себе истинное «я», несмотря на ужас и боль этого процесса – а ужас и боль присутствуют всегда – и на цену, которую приходится за это платить. Соли, повинуясь своему сокровенному желанию, вернулся из центра галактики, охваченный стремлением постичь смысл жизни и смерти, а Жюстина те же самые годы провела, наслаждаясь радостями жизни: вкусной едой, прогулками над морем в сумерки (а если верить молве, и любовью), упражняясь при этом в прыжках и выписывая восьмерки.
– Я не хочу, чтобы Жюстина с ним говорила, – заявил я. Мать тронула мою щеку рукой, как делала в детстве, когда я температурил, и сказала:
– Не дури.
Мои однокашники-пилоты во главе с невероятно длинным и тощим Зондервалем просочились сквозь толпу специалистов, как черное облако, и окружили нас. Ли Тош, Елена Чарбо, Ричардесс – я считаю их лучшими пилотами, когда-либо выходившими из стен Ресы. Мой старый друг Делора ви Тови поздоровалась с моей матерью, теребя свои белокурые косы. Зондерваль, происходящий из семьи эталонов с Сольскена, вытянулся во весь свой восьмифутовый рост и сказал:
– Вот что я хочу тебе сообщить, Мэллори. Весь наш колледж гордится тобой. Тем, что ты не побоялся Главного Пилота – извините, Жюстина, я не хотел вас обидеть, – и твоей клятвой. Мы все понимаем, какое для этого требуется мужество, и желаем тебе успеха в твоем путешествии.
Я улыбнулся, потому что мы с Зондервалем всегда были самыми заядлыми в Ресе соперниками. Он вместе с Делорой, Ли Тошем (и Бардо, когда тому приходила охота) был самым способным из моих соучеников. Хитрости при этом ему было не занимать, и я почувствовал в его хвалебной речи немалую долю упрека. Думаю, он не верил, что это отвага побудила меня произнести подобную клятву, и понимал, что я пал жертвой собственной запальчивости. Впрочем, он казался весьма довольным, думая, вероятно, что из такого путешествия я уже не вернусь. Хотя эталоны с Сольскена всегда испытывают потребность быть довольными собой, потому и сделали себя особями такого немыслимого роста. Зондерваль и остальные, извинившись, оставили нас, и мать сказала:
– Мэллори всегда был популярен – если не у мастеров, так у своих товарищей.
Я кашлянул, уставившись в белые треугольники пола. Пение стало громче, я узнал один из героико-романтических мадригалов Такеко, и меня охватило отчаяние пополам с ложной отвагой. В полном смятении, колеблясь между бравадой и трусливой надеждой, что Соли освободит меня от клятвы, я сказал, повысив голос:
– Мама, я дал клятву по доброй воле, и для меня не имеет значения, что Жюстина скажет Соли.
– Не дури, – повторила она. – Я не позволю тебе убить себя.
– Ты хочешь, чтобы я себя обесчестил?
– Лучше бесчестье – что бы ни означало это слово, – чем смерть.
– Нет, – сказал я, – лучше смерть, чем бесчестье. – Но я сам не верил в то, что говорил, и в глубине души был готов предпочесть бесчестье смерти.
Мать пробормотала что-то себе под нос – у нее была такая привычка.
– Уж лучше бы Соли умер, – послышалось мне. – Тогда тебе не грозили бы ни смерть, ни бесчестье.
– Что ты сказала?
– Так, ничего.
Она посмотрела через мое плечо и нахмурилась. Я обернулся и увидел идущего к нам Соли, высокого и мрачного в своем облегающем черном наряде. За руку он вел красивую безглазую женщину-скраера, и меня на миг поразил этот контраст черного и белого. Черные волосы скраера ниспадали атласным покрывалом на ее белое платье, густые черные брови выделялись на белом лбу. Она двигалась медленно, с преувеличенной осторожностью, словно мраморная статуя, внезапно – и против воли – оживленная. Я почти не обратил внимания на ее тяжелые груди с большими темными сосками, хорошо видными под тонким шелком, – меня притягивало ее лицо: длинный орлиный нос, полные красные губы и прежде всего гладкие впадины на месте глаз.
– Катарина! – вскрикнула внезапно Жюстина. – Дорогая моя девочка! Как же мы долго не виделись! – Она обняла женщину в белом платье, вытерла глаза тыльной стороной перчатки и сказала: – Мэллори, познакомься со своей кузиной, дамой Катариной Рингесс Соли.
Я поздоровался, и Катарина повернула ко мне голову.
– Мэллори. Наконец-то.
В моей жизни бывали моменты, когда время останавливалось и мне казалось, будто я переживаю какое-то полузабытое (но чрезвычайно важное) событие заново. Иногда зимние крики талло или запах мокрых водорослей возвращают меня в ту ясную ночь, когда я стоял один на пустынном ветреном берегу Штарнбергерзее, мечтая покорить звезды; иногда меня переносит в другое место и время оранжевая ледянка или яркая зелень глиссады; иногда бывает достаточно косых лучей солнца или дуновения студеного морского ветра. Эти моменты, как бы таинственны и чудесны они ни были, чреваты скрытым смыслом и страхом. Скраеры – провидящие будущее и связь времен – учат нас, что «теперь», «тогда» и «потом» едины. Для них, наверное, мечты и воспоминания – всего лишь две стороны одной загадки. Эти странные, почти святые, сами себя ослепляющие мужчины и женщины верят, что мы, желая увидеть будущее, должны заглянуть в прошлое. Поэтому, когда Катарина улыбнулась мне и я ощутил внутри вибрацию ее спокойного сладостного голоса, я понял, что такой момент настал и мои прошлое и будущее слились воедино.
Я никогда не видел ее раньше, но мне казалось, что я знал ее всю свою жизнь. Я тут же влюбился в нее – не так, как в женщину, а как может путешественник влюбиться в океан или великолепную снежную вершину, которые видит впервые. Ее безмятежность и красота лишили меня дара речи, и я брякнул первую же глупость, которая пришла мне в голову:
– Добро пожаловать в Невернес.
– Да. Добро пожаловать в Город Света, – подхватил Соли с немалой долей сарказма и озлобления.
– Я очень хорошо помню этот город, отец. – И верно, она должна была его помнить – ведь она родилась здесь, как и я. Но в раннем детстве, когда Соли отправился к ядру галактики, Жюстина увезла ее к бабушке на Лешуа. Катарина не видела отца двадцать пять лет (а теперь никогда уже не увидит). Все это время она провела на Лешуа в обществе женщин-мужененавистниц. У нее были все причины озлобиться, но этого не случилось. Озлобился Соли, а не она. Он злился на себя за то, что бросил жену и дочь, и на Жюстину за то, что она позволила Катарине пойти в скраеры и даже поощряла ее в этом. Он ненавидел скраеров.
– Спасибо, что проделала весь этот путь, – сказал Соли дочери.
– Я услышала, что ты вернулся, отец.
– Да, верно.
Воцарилось неловкое молчание. Эта странная семья стояла, точно немая, среди гула неумолкающих разговоров. Соли сердито смотрел на Жюстину, она на него, а моя мать украдкой бросала неприязненные взгляды на Катарину. Я видел, что матери она не нравится – возможно, потому, что нравилась мне. Катарина снова улыбнулась мне и сказала:
– Поздравляю тебя, Мэллори… Отправиться исследовать Твердь – это так смело… мы все гордимся тобой. – Меня немного раздражала эта скраерская привычка не договаривать фразы до конца – как будто ее собеседник способен «видеть» то, что осталось недосказанным, и предугадывать стремительный ход ее мыслей.
– Присоединяюсь к поздравлениям, – сказал Соли. – Но мне кажется, пилотское кольцо тебе маловато – будем надеяться, что присяга окажется не слишком велика.
Мать нацелила палец ему в грудь.
– А кому она впору? Главному Пилоту, усталому и ожесточившемуся? Не говори таких слов моему сыну.
– О чем же нам тогда поговорить? О жизни? Что ж… Будем надеяться, Мэллори проживет достаточно долго, чтобы наслаждаться пилотской долей. Будь у нас под рукой виски, мы бы выпили за блистательные, но слишком короткие судьбы молодых дуралеев-пилотов.
– Главный Пилот слишком гордится собственным долгожительством, – парировала мать.
Жюстина, схватив Соли за локоть, стала что-то шептать ему на ухо. Он вырвался и сказал мне:
– Ты, вероятно, был пьян, когда давал свою клятву. Твой Главный Пилот уж точно был пьян. Посему, как сообщает мне моя милая женушка, нам остается только обратить все это в шутку и перестать валять дурака.
Чувствуя, как пот струится по телу под шелком, я спросил:
– И вы готовы это сделать, Главный Пилот?
– Кто знает? Кто может знать свою судьбу? – И он спросил, – обращаясь к Катарине: – Видела ты его будущее? Что ждет Мэллори впереди? Следует ли препятствовать его судьбе? «Смерть среди звезд – самая прекрасная из всех смертей», – сказал Тихо, прежде чем пропасть в Тверди. А вдруг Мэллори добьется успеха там, где величайший наш пилот потерпел неудачу? Нужно ли становиться на пути его судьбы и его славы? Скажи нам, дорогой мой скраер.
Все взгляды обратились на Катарину. Она стояла спокойно, внимательно слушая Соли. Должно быть, она почувствовала наши взгляды, потому что опустила руку в карман своего платья, потайной кармашек, где скраеры носят свое зачерняющее масло. Когда она вынула руку обратно, ее указательный палец был так черен, что не отражал света – как будто пальца не стало вовсе, а на его месте возникла миниатюрная черная дыра. Катарина помазала свои глазные впадины. Теперь они, чернея над ее высокими скулами, казались двумя таинственными туннелями, ведущими в ее душу, – вместо окон, которым надлежало быть на их месте. Я только взглянул на нее и тут же отвел глаза.
Я уже собрался сказать своему саркастическому, надменному дядюшке, что исполню свою клятву, что бы он там ни решил, когда Катарина рассмеялась звонким девичьим смехом и сказала:
– Судьба Мэллори – это его судьба, и ничто ее не изменит… Впрочем, ты, отец, повлиял на нее и всегда будешь… – Она снова засмеялась и добавила: – Но в конце концов мы сами выбираем свое будущее, понимаете?
Соли не понимал – как и я, и все прочие. Кто вообще способен понять парадоксальные, раздражающие высказывания скраеров?
Тут подвалил Бардо и хлопнул меня по спине. С улыбкой поклонившись Жюстине, он сразу отвел от нее взгляд. Бардо, хотя очень старался это скрыть, всегда желал мою тетку. Не думаю, что она отвечала ему взаимностью или одобряла его неприкрытую сексуальность, хотя, по правде говоря, в одном они были похожи: оба любили физические удовольствия и мало беспокоились о прошлом, а о будущем и вовсе не думали. Будучи представлен Катарине, Бардо поклонился Соли и сказал:
– Главный Пилот, Мэллори уже извинился за свое варварское поведение прошлой ночью? Нет? Тогда я извиняюсь за него – сам он слишком горд, чтобы извиняться, и только я один знаю, как он сожалеет на самом деле…
– Гордость убивает, – заметил Соли.
– О да, – согласился Бардо, разглаживая свои черные усы. – Но откуда взял свою гордость Мэллори? Я живу с ним в одной комнате двенадцать лет и знаю, откуда. «Соли исследует звезды ядра, – слышал я от него. – Соли почти что доказал Великую Теорему». Соли то, Соли се – знаете, что он сказал мне, когда я заметил, что его тренировки в скоростном беге – дурацкая трата времени? «Соли выиграл пилотские состязания, когда стал пилотом, и я тоже выиграю».
Он говорил о конькобежных состязаниях между новыми пилотами и старыми, которые устраиваются каждый год после посвящения. Многие считают их кульминацией Фестиваля Тихо.
Я чувствовал, что покраснел до ушей, и не мог смотреть на дядю.
– Значит, завтрашние соревнования обещают быть интересными, – сказал он. – Меня никому не удавалось побить вот уже… – Глаза у него внезапно затуманились и голос дрогнул. – Уже много лет.
Мы поговорили еще немного, обсуждая аэродинамику бега на коньках. Я выступал за низкую стойку. Соли же утверждал, что на длинной дистанции – такой, как завтрашняя – низкая стойка быстро утомляет мускулы бедра и силы лучше расходовать экономно.
Наша беседа оборвалась, когда десять горологов в красных одеждах взошли на помост и заняли места рядом с Хранителем Времени, по пять с каждой стороны.
– Тише, время пришло! – пропели они в унисон. – Тише, время пришло!
В зале воцарилась тишина. Хранитель Времени вышел вперед и объявил поиск Старшей Эдды.
– Секрет бессмертия человека, – сказал он, – лежит в нашем прошлом и нашем будущем. – Плечо Катарины задело мое, и длинные пальцы быстро, украдкой, сжали мою руку, вызвав во мне шок (и возбуждение). Хранитель Времени повторил послание, доставленное Соли из ядра галактики; я слушал его, погруженный в мечты о великих открытиях. Но тут я случайно поймал мрачный взгляд Соли и перестал думать о великом, желая лишь одного: побить его в завтрашнем состязании. – Наша цель – искать, – сказал Хранитель Времени. – В своем поиске мы раскроем тайну жизни и спасемся. – Даже спасение человечества не волновало меня в этот момент. Победить непревзойденного чемпиона, надменного гордеца – больше мне ничего не надо.
Я вернулся к себе с намерением проспать до тех пор, пока солнце не поднимется высоко над Уркелем, но при этом не учел волнения, вызванного речью Хранителя Времени. Коридоры нашего общежития – как и вся Реса – звенели от радостных криков пилотов, кадетов и мастеров. Моя комната, вопреки моему желанию, сделалась средоточием ночного веселья. Шанталь Асторет и Делора ви Тови пришли в компании трех своих друзей-неологиков из Лара-Сига. Бардо раздал всем троим трубки с тоалачем, и разгул начался. Это была бурная, волшебная ночь, когда высказывались вслух заветные планы найти Старую Землю, составить карту Туманности Тихо – словом, исполнить, данный нами обет искать истину согласно своим индивидуальным талантам и мечтам. В двух наших смежных комнатах стало сине от дыма, а на полу от стены до стены простирались тела пилотов и прочих специалистов, прослышавших о вечеринке. Ли Тош, славный парень с мягкими миндалевидными глазами, объявил о своем намерении отыскать родную планету хитроумных пришельцев даргинни.
– Говорят, они изучают историю галактоидов. Вот вернусь и тоже, может быть, наберусь смелости проникнуть в Твердь.
Хидеки Смит собрался переделать свое тело по причудливому образу файоли, отправиться на какую-нибудь их планету и выдать себя за одного из них в надежде выведать их тайны. Рыжий Квирин, чтобы не остаться в долгу, планировал полететь на Агатанге и узнать у тамошних людейдельфинов – нарушивших когда-то закон Цивилизованных Миров и подправивших свою ДНК с целью приобрести сверхчеловеческие свойства – он хотел узнать у мудрых агатангитов секрет человеческой жизни. Были среди нас, надо сознаться, и скептики наподобие Бардо, не верившие, что Эльдрия обладает разгадкой этой тайны. Но даже самым отъявленным скептикам, таким как Ричардесс и Зондерваль, не терпелось отправиться в мультиплекс – для них поиск был отличным способом завоевания славы.
Ближе к полуночи на пороге появилась моя кузина Катарина. Я так и не понял, как она, одна и незрячая, нашла дорогу в лабиринте Академии. Она устроилась рядом со мной на полу, поджав ноги, и начала меня соблазнять – исподтишка, по-скраерски. Я был заинтригован тем, что женщина старше и умнее меня уделяет мне столько времени, а она, видимо, понимала, как меня к ней влечет. Я говорил себе, что она, наверно, тоже немного влюблена в меня, хотя и знал; что скраеры часто ведут себя так не ради удовлетворения страсти, а ради осуществления какого-нибудь мимолетного видения. В некоторых варварских краях, где еще не овладели искусством генотипирования, браки (и романы) между кузенами находятся под запретом. Никто не знает, какие чудовища могут появиться на свет вследствие смешения родственных генов. Но Неверное к таким местам не относится и намек на инцест возбуждал меня еще больше.
Мы обсуждали то, что она сказала Соли о судьбе, в частности о моей. Смеясь, она сняла перчатку с моей правой руки, провела пальцами по линиям у меня на ладони и предсказала мне жизнь, «не поддающуюся человеческим меркам». Я подумал, что у нее хорошо развито чувство юмора. Когда я спросил, значит ли это, что моя жизнь будет невообразимо длинна или, наоборот, коротка до нелепости, она одарила меня своей прелестной, таинственной скраерской улыбкой и сказала:
– Для фотино мгновение длится бесконечно, а для божества вся наша вселенная существует всего лишь мгновение. Ты должен научиться любить каждое свое мгновение, Мэллори. – (К утру я благодаря ей узнал, что мгновения сексуального экстаза и любви могут длиться поистине бесконечно. Тогда у меня еще не было ответа на вопрос, следует ли приписать это чудо отрицающему время искусству скраеров или такой властью обладают все женщины.)
Эта ночь также была временем горестных прощаний. В какой-то момент Бардо с мокрыми, горящими от тоалача глазами отвел меня от Катарины и сказал:
– Ты лучший друг, который у меня когда-либо был. Лучших друзей, чем ты, вообще ни у кого не было. А теперь Бардо суждено потерять тебя из-за глупой клятвы. Это нечестно! Почему эта холодная, пустая вселенная, одарившая нас тем, что мы издевательски называем жизнью, ведет себя так варварски нечестно? Я, Бардо, готов кричать об этом во все горло, чтобы слышали Туманность Розетты, Эта Киля и Регал Люс. Это нечестно, и вот почему нам дается мозг, чтобы строить козни, обманывать и плутовать. Сейчас я скажу тебе кое-что – я придумал это, чтобы обмануть смерть. Тебе это не понравится, мой храбрый, благородный друг, но завтра ты должен дать Соли выиграть. Он горд и тщеславен, совсем как мой отец, и терпеть не может, когда его в чем-то превосходят. Я в людях хорошо разбираюсь. Дай ему выиграть эти состязания, и он освободит тебя от клятвы. Пожалуйста, Мэллори, если любишь меня, дай ему выиграть эти дурацкие гонки!
Поздним утром я натянул свою камелайку и вышел, чтобы позавтракать с матерью. Мы встретились в одном их кафе, которые тянутся вдоль Продольной напротив Гиацинтовых Садов.
– Ты сегодня соревнуешься с Соли и при этом всю ночь не спал, верно ведь? Вот, выпей-ка кофе – это фарфарский, высший сорт. Я учу тебя стратегии с четырех лет, а ты не спишь в ночь перед состязаниями.
– Бардо говорит, что я должен дать Соли выиграть.
– Дурак он толстый, твой Бардо. Я твержу тебе об этом двенадцать лет. Он считает себя умным, но это не так. Я могла бы поучить его уму-разуму, когда мне самой было четыре года.
Она налила кофе в мраморную чашку из хрупкого голубого кофейника и подвинула ее ко мне. Я попробовал горячий напиток, и следующие слова матери застали меня врасплох.
– Мы можем покинуть Орден, – прошептала она, косясь на двух мастер-механиков за соседним столиком. – Новой академии – трийской, ты знаешь, о чем я – требуются хорошие пилоты, такие, как ты. Нашему Ордену монополии никто не давал.
Я испытал такой шок, что пролил кофе себе на колени и обжегся. Коалиция торговых пилотов Триа – этих изворотливых, беспринципных вещистов и тубистов – давно уже пыталась подорвать власть нашего Ордена.
– Что ты такое говоришь? Ты хочешь, чтобы мы стали предателями?
– По отношению к Ордену – да. Лучше тебе изменить нескольким необдуманно данным обетам, чем загубить жизнь, которую я тебе дала.
– Ты же всегда надеялась, что я когда-нибудь стану Главным Пилотом.
– На Триа ты сможешь стать торговым магнатом.
– Нет, мама. Ни за что.
– Может, тебя это удивит, но есть пилоты, которым на Триа предлагали приличные земельные наделы. Программистам и канторам тоже.
– Но никто из них не согласился, верно?
– Пока нет, – призналась она, барабаня пальцами по столу. – Но недовольство среди специалистов сильнее, чем ты полагаешь. Некоторые историки, Бургос Харша в том числе, придерживаются мнения, что Орден загнивает. А пилотов возмущает обет безбрачия, хотя, по-моему, обычай вступить в брак не менее возмутителен. – Посмеявшись немного, она продолжала: – Внутри Ордена творится такое, что тебе и не снилось. – Она засмеялась снова, как будто знала что-то, чего не знал я, и откинулась назад в выжидательной позе.
– Я скорее умру, чем отправлюсь на Триа.
– Бежим тогда на Лешуа. Твоя бабушка охотно примет нас, хотя ты и бычок.
– Сомневаюсь.
Моя бабушка, которую я никогда не видел, дама Ориана Рингесс, воспитала мою мать, Жюстину и Катарину как подобает. «Как подобает» в понятиях лешуанского матриархата значит раннее посвящение в женские тайны и соблюдение строгих языковых правил. Мужчины у них именуются не иначе как «бычки», «петушки», а иногда и «мулы». Влечение между мужчиной и женщиной определяется как «гнилая горячка», а гетеросексуальный брак – как «прижизненный ад». Гранд-дамы, среди которых бабушка занимает один из высших постов, отвергают Мнение, что из мужчин получаются лучшие пилоты, чем из женщин, и содержат одну из лучших в Ордене элитных школ. Когда мать с Жюстиной прибыли в Борху, ни разу не видев мужчин, их глубоко шокировало – а мать еще и ожесточило – то, что молодые самцы вроде Лионела и Соли в математике могут быть сильнее, чем они.
– Дама Ориана, – сказал я, – не сделает ничего, что могло бы посрамить матриархат, – разве не так?
– Слушай меня. Слушай! Я не позволю Соли убить моего сына. – Слово «сын» она вымолвила с таким душераздирающим отчаянием, что я невольно взглянул на нее в тот самый момент, когда она разрыдалась. Нервно выдернув несколько прядей из-под скрепляющей их кожаной ленты, она осушила ими лицо. – Слушай меня. Наш блестящий Соли вернулся из мультиплекса, но блеск его не столь уж велик. Мне случалось обыгрывать его в шахматы – три партии из четырех, пока он не перестал со мной играть.
– Что ты хочешь этим сказать?
– Я заказала тебе хлеб. – Она сделала знак роботу-прислужнику. Тот подкатился к столу и поставил передо мной корзину с ломтями свежего, горячего черного хлеба. – Ешь и пей кофе.
– А ты почему не ешь?
Обычно она тоже ела хлеб на завтрак – мать, как все ее сестры на Лешуа, не признавала пищи животного происхождения, даже искусственного мяса, которое любят почти все жители нашего города.
Я взял продолговатый ломтик и с удовольствием стал жевать. Мать взяла из глубокой мисочки шоколадный шарик и сунула его в рот.
– Ну а вдруг я добьюсь успеха, мама?
Она сунула в рот еще три конфеты и неразборчиво выговорила:
– Иногда мне кажется, что Соли прав и мой сын дурак.
– Ты всегда говорила, что веришь в меня.
– Верю, но не слепо.
– Почему ты считаешь это невозможным? Твердь – такая же туманность, как множество других: горячие газы, межзвездная пыль и несколько миллионов звезд. Возможно, это чистая случайность, что Тихо и все прочие погибли там.
– Что за ересь! – Она раскроила конфету пополам своими длинными ногтями. – Так-то ты усвоил все, чему я тебя учила? Я не потерплю от тебя таких слов. «Случайность»! Тихо убил не случай. Это Она.
– Она?
– Твердь. Сеть, состоящая из миллионов биокомпьютеров планетарного масштаба. Она манипулирует материей, накапливает энергию и искривляет пространство, как Ей вздумается. Мультиплекс внутри нее чудовищно, невероятно сложен.
– Ты произносишь «она» с большой буквы.
– Разве может величайший во вселенной интеллект быть «ей» с маленькой буквы? – улыбнулась мать. – А уж тем более «им»?
– А как же Кремниевый Бог?
– Это неверное наименование. Так его называли старые эсхатологи Ордена, делившие все сущее по мужскому и женскому признаку. Этот разум должен называться «Кремниевой Богиней». Вселенная рождает жизнь – по сути своей она женщина.
– Зачем тогда нужны мужчины?
– Мужчины – это депозитарии спермы. Выучил ты мертвые языки Старой Земли, как я тебя просила? Нет? Так вот, у римлян было выражение «instrumenta vocalia». Мужчины – это говорящие орудия, и слушать их порой очень приятно. Но без женщин они ничто.
– А женщины без мужчин?
– Лешуанский матриархат основан пять тысяч лет назад, а патриархатов нет ни одного.
Иногда мне кажется, что матери следовало стать историком или мнемоником. Она знает очень много всего о древних народах, языках и обычаях – во всяком случае, достаточно, чтобы обернуть спор в свою пользу.
– Я тоже мужчина, мама. Почему ты решила родить сына, а не дочь?
– Глупый мальчишка.
Я хлебнул кофе и поинтересовался вслух:
– Любопытно, как чувствует себя человек, беседуя с богиней?
– Еще одна глупость. Я приняла решение – мы летим на Лешуа.
– Нет уж, мама. Не хочу я быть единственным мужчиной среди восьми миллионов женщин, которые хитрость ставят превыше веры.
Она грохнула чашкой об стол.
– Ладно. Ступай соревноваться со своим Соли. И скажи спасибо, что твоя бабка научила твою мать хитрить.
Я уставился на нее, она на меня, и это продолжалось довольно долго. Я, словно мастер-цефик, пытался разгадать правду по бликам на ее радужке и по складке ее большого рта. Но в результате мне открылась только одна, старая истина: я способен читать по ее лицу не больше, чем заглядывать в будущее.
Я выпил остатки кофе, дотронулся до ее лба и пошел соревноваться с Соли.
К гонкам Тысячи Пилотов никто не относился всерьез. (И столько пилотов в них никогда не участвует.) Это скорее символическая, шуточная битва старых пилотов с новыми, своеобразный ритуал посвящения. Мастер-пилоты – обычно их бывает около сотни – собираются перед Пилотским Залом, пьют горячий квас или что-то другое, по выбору, хлопают друг друга по плечам и кричат разные вещи в адрес более мелкой группы молодых пилотов. В тот день на территории Ресы толпилось множество академиков, специалистов и послушников в мехах всех цветов и оттенков. Позванивали колокольчики, а кадеты освистывали червячников, заключавших свои нелегальные ставки. Со ступеней Зала звучали кларины и шакухачи. Высокие стонущие ноты, выражающие мольбу, отчаяние и предчувствие недоброго, контрастировали с общим весельем. Бардо эта музыка тоже, видимо, казалась неподходящей. Он подошел ко мне, когда я пробовал лезвия коньков на ногте большого пальца, и сказал:
– Не выношу мистической музыки. Она вселяет в меня жалость ко всей вселенной и разные другие чувства, которые я предпочел бы не испытывать. Мне подайте рог и барабан. Кстати, паренек, не хочешь ли щепотку огоньтравы, чтобы разогреть кровь?
Я отверг его красные кристаллики – он мог заранее знать, что я откажусь. Распорядитель – я с удовольствием увидел, что это Бургос Харша, который вихлялся на коньках, потому что с утра накачался квасом – вызвал обе группы на старт. Мы столпились вдоль расчерченной в красную клетку линии там, где мелкие ледянки нашего колледжа выходили на белый лед.
– Мне надо сказать вам что-то важное, но я забыл, что, – объявил Бургос. – Разве я на вашей памяти чтонибудь забывал? Ладно, не имеет значения. Желаю вам, пилоты, не сбиться с пути и поскорее вернуться назад. – Послушник подал ему белый стартовый флаг, и Бургос умудрился в нем запутаться. Послушник всунул древко ему в руку, Бургос сделал отмашку, и гонки начались.
Я расскажу о том, что происходило в тот день на улицах нашего города, лишь в самых общих чертах – это все, на что способен отдельный пилот благодаря правилам состязаний. Правила эти просты. Пилот может выбрать любой маршрут по четырем кварталам города с условием, что он или она последовательно минует четыре контрольных пункта – таких, как Каток Ролло в Квартале Пришельцев и Хофгартен между зоопарком и Пилотским Кварталом. Считается, что победить должен самый умный пилот, лучше всех знающий город – но на практике скорость значит не меньше, чем мозги.
Бардо с ревом растолкал кучку мастер-пилотов, загораживающих ему дорогу. (Надо отметить, что это допускается, если пилот прежде выкрикнет предупреждение.) Белобрысый Томот, принявший высокую стойку, чуть не упал, когда Бардо заехал ему локтем по плечу.
– Первый среди равных! – гаркнул Бардо и исчез за поворотом дорожки. Я догнал его у Обители Розового Чрева – скопления приземистых зданий на западном краю Ресы, где мы, плавая в бассейнах, проводили немалую часть своих кадетских лет. Запинаясь на ходу, он откинул капюшон камелайки с потного лба и пропыхтел:
– Первый среди равных… по крайней мере… на четверть мили.
У западных ворот Академии мы разошлись. Пятнадцать пилотов повернули на самую южную из оранжевых ледянок, ведущих к Поперечной, восемь мастер-пилотов – Соли и я в том числе – выбрали более узкую ледянку мерцающего Старого Города с тем, чтобы избежать движения на проезжей магистрали. Так оно и шло. Небо над нами было густо-синее, воздух холодный и плотный. Впереди меня шуршали по льду коньки Соли, зрители, стоящие вдоль улицы, подбадривали нас криками и смехом. Я пригнулся пониже, заложил правую руку за спину, повернул и остался один.
Двух участников я видел всего несколько раз на протяжении состязаний. Не хочу создавать ложной аналогии между улицами Города и каналами мультиплекса, но сходство определенно есть: выехать с темной красной дорожки на ледянку, а потом на ослепительно освещенную Поперечную – это все равно что выйти в окно из мультиплекса на яркий свет звезды. Пилот, вошедший в дерево решений, должен избрать правильный путь или погибнуть – мы, гонщики, должны совместить свою память о городских улицах с их реальными переплетениями или проиграть. Сон-время, самое важное и приятное из умственных состояний пилота, у нас заменяется экстазом свежего ветра и напряженного внимания – по крайней мере первые несколько миль. Когда я вкатился на контрольный пункт Зимнего Катка в глубине Квартала Пришельцев и увидел Соли и Лионела в десяти ярдах перед собой, а других – позади, у меня еще достало дыхания и энтузиазма, чтобы крикнуть:
– Пять миль один на городских улицах – и вот мы все собираемся здесь, словно вокруг фокуса звезды!
Соли обернулся ко мне лицом, стянутым в маску яростной сосредоточенности. Глубоко дыша, он сказал:
– Берегись – звезды взрываются! – И умчался по ледянке, ведущей на опасную улицу Контрабандистов.
Я догнал его только ближе к концу состязаний. В процессе гонок я обогнул фонтан Серебристая Пена в зоопарке, где Подруги Человека, фраваши и еще два вида пришельцев, которых я не знал, дивились на зрелище, которое мы им обеспечили. На Северном Катке контролер крикнул:
– Первым идет Соли, за ним Киллиранд в ста ярдах, следующий Рингесс в ста пятидесяти… – А у большого Хофгартенского круга, где Поперечная пересекается с Продольной, я услышал: – Соли первый, следующий Рингесс в пятидесяти ярдах, следующий Киллиранд, триста… – На следующем пункте, в Пилотском Квартале, я увидел дядю в каких-нибудь двадцати ярдах перед собой. Я знал, что не увижу его больше, пока не въеду первым на поле Ресы и Бургос не объявит меня победителем.
Я ошибался.
Я катился на запад по Продольной, хитро – как я думал – делая крюк вдоль северного края Старого Города, чтобы потом свернуть на известную мне маленькую ледянку, ведущую прямо к северным воротам Академии. На голубом льду толпились послушники и другие конькобежцы, каким-то образом угадавшие, что некоторые из гонщиков выберут этот маловероятный путь. Я уже поздравлял себя и воображал, как Бургос приколет мне на грудь алмазную медаль победы, как вдруг заметил впереди что-то черное. Толпа раздалась. Соли преспокойно катился вдоль красной линии, отделяющей конькобежную полосу от санной. Я хотел уже крикнуть, предупреждая, что догоняю его, когда услышал за спиной чей-то хохот. Я повернул голову, не снижая темпа. Двое чернобородых мужиков – червячники, судя по вызывающему покрою шуб – ехали рядом, попеременно выталкивая друг друга вперед. Они были староваты для такой игры, да и запруженная народом улица к ней не располагала – мне следовало бы сразу это сообразить. Вместо этого я решил не предупреждать Соли вовсе. В тот же миг здоровенный червячник врезался в спину Соли, вытолкнув его на санную полосу. Там как раз гремели большие красные сани. Соли зашатался на коньках, вытянув руки. Исполнив отчаянный танец, он едва избежал заостренного носа саней и вдруг упал. Сани промчались мимо за десятую долю секунды (мне показалось, что прошел целый год). Я пересек линию безопасности и вытащил его обратно на конькобежную полосу. Он оттолкнул меня с силой, поразительной для человека, которого чуть было не проткнули насквозь.
– Убийца, – рявкнул он и попытался встать.
Я сказал ему, что это червячник его толкнул, но он ответил:
– Если это не ты, то наемники твоей матери. Она ненавидит меня, потому что думает, будто я заставляю тебя исполнять клятву, и по другим причинам.
Я оглядел круг людей, собравшихся около нас, но нигде не видел чернобородых червячников.
– Да только она ошибается, Мойра. – Он закашлялся, держась за бок. Из носа и рта у него текла кровь. Он поманил к себе ближайшую послушницу. – Твое имя?
– Софи Дин с Нефа, Главный Пилот, – ответила хорошенькая девушка.
– Так вот: ваш Главный Пилот в присутствии свидетельницы Софи Дин освобождает Мэллори Рингесса от его клятвы проникнуть в Твердь. – Он снова закашлялся, обрызгав мелкими красными каплями белую куртку Софи.
– У вас, по-моему, ребра сломаны, – сказал я. – Для вас гонка окончена. Главный Пилот.
Он схватил меня за руку и притянул к себе.
– Ты так думаешь? – В новом приступе кашля он оттолкнул меня и покатил к Академии.
Какой-то миг я стоял, глядя на капли крови, прожегшие крохотные дырочки в голубом льду. Мне не хотелось верить, что мать способна подослать к Соли убийц, и я не мог понять, почему он освободил меня от клятвы.
– Вы хорошо себя чувствуете, пилот? – спросила Софи. Я чувствовал себя плохо. Жизнь моя была спасена, но меня мутило, и я был глубоко несчастен. Я поперхнулся, и меня вырвало черным хлебом, черным кофе и желчью.
– Пилот? – Софи моргнула ясными голубыми глазами, порыв ветра проник мне под одежду, и я вдруг понял с ослепительной ясностью, что сдержу клятву, данную Соли, и присягу, данную Ордену, чего бы мне это ни стоило. Каждый из нас должен когда-нибудь взглянуть смерти в лицо – просто моя судьба велит мне встретиться с ней раньше большинства других. – Может быть, вызвать вам сани, пилот?
– Нет. Я закончу дистанцию.
– Он намного опередил вас.
Она была права. Соли свернул с Продольной на желтую улицу, соединяющуюся с моим тайным прямым путем к Академии.
– Не беспокойся, малютка, – сказал я. – Он ранен, испытывает боль и кашляет кровью. Я нагоню его на полдороге до Борхи.
Но я опять ошибся. Я несся что было духу, но так и не догнал его ни у шпилей Борхи, ни на дорожке вокруг башни Хранителя Времени. Я вообще его не догнал.
Ветер ревел у меня в ушах, как зимняя буря, когда мы въехали яа территорию Ресы. Толпа разразилась криками, Бургус Харша махнул зеленым финишным флагом, и Леопольд Соли, едва не теряющий сознание и потерявший столько крови из поврежденных легких, что резчику потом пришлось делать ему переливание, опередил меня на десять футов.
С тем же успехом они могли быть десятью световыми годами.
3 БАШНЯ ХРАНИТЕЛЯ ВРЕМЕНИ
Цель моей теории – доказать раз и навсегда надежность математических методов… Настоящее положение дел, когда мы постоянно натыкаемся на парадоксы, невыносимо. Как это возможно, что определения и дедуктивный метод, повсеместно используемые в математике, приводят к абсурду? Если даже математическое мышление несовершенно, где же нам тогда обрести истину и уверенность?
Дэвид Гилберт, кантор Машинного Века, «О бесконечном»Дни после пилотских гонок, едва не завершившихся смертью Леопольда Соли, бежали быстро. Сухая, ясная солнечная погода сменилась снегопадами. Снег постоянно заваливал дорожки, обеспечивая работой замбони. Предполагаемых убийц Соли так и не поймали. Все ресурсы Ордена были пущены в ход, и Хранитель Времени разослал своих шпионов подслушивать у дверей и заглядывать в окна (или чем там шпионы занимаются), но пользы это не принесло. Нашему Главному Пилоту оставалось только беситься и требовать, чтобы мою мать допросили акашики. «Необходимо оголить ее мозг, – гремел он на пилотском конклаве, – разоблачить ее ложь и козни!» О том, какой блестящей репутацией он пользовался, свидетельствует то, что пилоты, многие из которых выросли и принесли присягу во время его долгого отсутствия, проголосовали «за».
Через четыре дня мать предстала перед Николосом Старшим. Его компьютеры представили ее мозг живым, как фравашийская фреска, и маленький пухлый Главный Акашик объявил, что не нашел в ее памяти намерения убить Соли.
Той же ночью, в своем кирпичном домике в Пилотском Квартале, мать сказала мне:
– Соли заходит слишком далеко! Николас объявляет меня невиновной, а Соли твердит свое: «Известно, что в лешуанском матриархате применяются препараты, уничтожающие определенные участки памяти». Как же, жди! Стала бы я уничтожать часть собственного мозга!
Я знал, как ей дороги сто биллионов нейронов, составляющие ее мозг, и я не верил, что она, подобно сектантамафазикам, способна принять афагеник и стереть часть своей памяти; но после того, что она сказала мне в день состязаний, в ее невиновность поверить я не мог. Даже если предположить, что она воспользовалась-таки наркотиком, я все равно не узнал бы об этом. Природа микроповреждений памяти такова, что мать должна была забыть как о своем преступлении, так и о том, что стерла память о нем.) Обозлившись, я спросил ее дрожащим голосом:
– Как это тебе удалось надуть Главного Акашика?
– Даже родной сын сомневается во мне! – воскликнула она, привалившись к голой кирпичной стене своей спальни. – Как я ненавижу этого Соли! Главный Пилот возвращается и отнимает у меня то, что мне всего дороже. Я пошла к Хранителю Времени и солгала, да, солгала. Я молила его попросить Соли освободить тебя от клятвы.
– И Хранитель послушал тебя?
– Он считает себя хитрецом. Но я сказала ему, что мы улетим на Триа и поступим в торговый флот, если он не поговорит с Соли. Хранитель мнит себя бесстрашным, но скандалов боится.
– Так и сказала?! Да он же сочтет меня законченным трусом!
– Какое кому дело, что он подумает. Зато я спасла тебя от глупой смерти.
– Ни от чего ты меня не спасла, – сказал я, направляясь к двери. – Никогда больше не лги ради меня, мама.
Я сказал ей, что решил сдержать свою клятву, и она расплакалась.
– Как я ненавижу Соли! – кричала она, когда я открыл дверь на улицу. – Он еще узнает, что такое моя ненависть.
Следующие несколько дней я провел, готовясь к путешествию. Я консультировался с эсхатологами и другими специалистами, надеясь почерпнуть у них хоть какую-нибудь информацию относительно загадочного явления, известного как Твердь. Бургос Харша сказал мне, что первых галактоидов открыл Ролло Галливер, который полагал, что они – пришельцы из другой галактики.
– Апокрифы первого Хранителя Времени гласят, что Кремниевый Бог возник в туманности Эты Киля к концу Веков Роения. А в хрониках Тисандера Недоверчивого мы находим сходное указание. Но разве на такие источники можно полагаться? Рейна Эде в истории Тихо утверждает, что эти существа произошли из семени Эльдрии, как и хомо сапиенс. Ты спросишь, во что верю я сам? Я не знаю, во что верю.
Колония Мор полагала, что Эльдрия, до того как спрятать свой коллективный разум в скрученном пространствевремени сингулярности, должна была иметь большое сходство с Твердью.
– Что до ее цели, то это цель всего живого: стать самим собой. – Мы долго с ней говорили, и я сказал, что многие молодые пилоты не согласны с тем, что у жизни вообще есть какая-то цель. Колония в ужасе уставилась на меня своими маленькими глазками и воскликнула: – Это ересь, причем очень древняя!
Я был, конечно, не единственным, кто собирался в странствия. Казалось, будто весь Орден загорелся мечтой разгадать Старшую Эдду. В чем она – тайна бессмертия человека?
– Надо узнать, отчего проклятые звезды взрываются – в этом и заключается тайна, – сказал Бардо. Впрочем, он был прагматиком и не часто задумывался над эзотерическими проблемами. Другие думали, что тайна Экстра – лишь первая часть Старшей Эдды. (Хоть и чрезвычайно важная.) Где искать ее разгадку? Фантасты, технари, пилоты – многие из нас подозревали, что за три тысячи лет, несмотря на все накопленные Орденом знания, мы упустили из виду нечто важное, а возможно, и главное. Историки умоляли Хранителя Времени разрешить им покинуть Город и порыться в ксандарийской библиотеке, чтобы там поискать ключи к разгадке. Неологики и семантологи заперлись в своих холодных башнях, где создавали и открывали новые языки в уверенности, что тайна Старшей Эдды – как и вся иная мудрость – сокрыта в словах. Фабулисты плели свои вымыслы, не менее реальные, по их утверждению, чем любая реальность, и заявляли, что Старшая Эдда есть то, что создаем мы сами. И кто мог поручиться, что они не правы? А пилоты… Мои храбрые собратья, Ричардесс и Зондерваль, отправились в мультиплекс на поиски затерянных планет и новых видов мыслящих существ. Томот и еще сто мастер-пилотов задались целью составить карту Экстра. Соли тоже собирался в Экстр, намереваясь проникнуть за его внутреннюю завесу, а Лионел придумал очередной план обнаружения Старой Земли. Даже трусишка Бардо собрался в путь – правда, не слишком опасный: он задумал предпринять собственную частную экспедицию на Ксандарию. Отдельные циники-специалисты вроде моей матери вовсе не собирались рисковать жизнью ради мечты, но все равно – это было волнующее и даже славное время, которого нам больше пережить не придется.
Накануне моего отлета, когда в Городе бушевала метель, Хранитель Времени вызвал меня в свою башню. Я дрожал в своей тонкой камелайке, скользя мимо серых угрюмых зданий, отделяющих башню от Ресы, и жалел, что не намазал лицо жиром или не надел маску. Это просто оскорбительно – появляться перед Хранителем Времени с обмороженной физиономией. Тепло башни показалось мне как нельзя более приятным – приятно было даже торчать в приемной наверху, топая ботинками о красный ковер и дожидаясь, когда мастер-горолог доложит о моем приходе.
– Он ждет вас, – сказал наконец горолог, запыхавшийся после подъема к покоям Хранителя и спуска обратно. – Будьте осторожны – он сегодня в скверном настроении. – По винтовой лестнице я поднялся в святая святых башни, где стоял и ждал меня Хранитель Времени.
– Что, Мэллори, – хорошо носить пилотское кольцо на руке?
Хранитель был человек угрюмого вида, с буйной гривой густых белых волос. Большую часть времени он выглядел очень старым, хотя никто не знал в точности, сколько ему лет. Когда он хмурился, что бывало с ним часто, в углах рта у него выступали желваки. Толстая шея была жилистой, как и все подобранное, ширококостное тело. Я стоял в просторной, ярко освещенной комнате, а он разглядывал меня, как всегда, когда я к нему приходил. Черные, как два куска еще не остывшего обсидиана, глаза, вбитые глубоко в череп, смотрели горячо, беспокойно, гневно и страдальчески.
– Много ли нужно, чтобы убить тебя? – спросил он.
Мускулы на его голых руках напрягались и расслаблялись попеременно. В мою бытность послушником, когда он учил меня захватам и прочим борцовским приемам, я имел возможность наблюдать его могучее тело, обычно скрытое под красным одеянием. Он был весь покрыт шрамами – целой сетью белых шрамов, не уступающей сложностью ледянкам Квартала Пришельцев. Они начинались у шеи, тянулись сквозь густую белую поросль на груди до паха и спускались по мускулистым ногам до самых ступней. Когда я спросил его об этих шрамах, он ответил: «Чтобы убить меня, много чего нужно».
Он указал мне на резной стул перед южным окном. С башни, монолита из белого мрамора, который доставили с Утрадеса по немыслимой цене, открывался вид на всю Академию. На западе вздымались гранитные и базальтовые арки колледжей высшей ступени, Упплисы и Лара-Сига, на севере торчали густо натыканные шпили Борхи, на юге, близ Уркеля, виднелась моя милая Реса. (Надо сказать, что окна башни сделаны из сплава кварца с окислами кальция и натрия, который Хранитель Времени называет стеклом. Этот хрупкий материал бьется, когда средизимней весной со Штарнбергерзее приходят ревущие шторма, но Хранитель, любящий всякие древности, утверждает, что стекло дает более ясное освещение, чем повсеместно принятый в Цивилизованных Мирах кларий.)
– Слышишь, как оно тикает, Мэллори, мой храбрый, глупый, такой молодой пилот? Время тикает, бежит, течет, ширится, убывает и убивает – а однажды для каждого из нас, чем бы мы ни занимались, оно остановится. Останавливается, слышишь?
Он подтянул к себе стул, такой же, как мой, и поставил ногу в. красной туфле на сиденье. Хранитель Времени – боясь, возможно, что, если он прекратит свое непрерывное движение, остановятся его собственные часы – сидеть не любил.
– Ты самый молодой пилот в нашей истории. Двадцать один год – микросекунда в жизни звезды, но это все, что есть у тебя. А часы между тем стучат, бьют, тикают – слышишь ты их?
Я слышал, как они тикают. В круглой башне Хранителя Времени часы тикали везде. По всей окружности комнаты, от устланного шкурами пола до белого оштукатуренного потолка, за стеклянными рамами тянулись деревянные полки, уставленные часами всех форм и размеров. Здесь были древние часы с гирьками и пружинные, в пластмассовых корпусах; часы с маятниками в деревянных футлярах, электрические и кварцевые биочасы, движимые сердечными мышцами различных организмов; квантовые часы и песочные с ярко-синим и алым содержимым; три клепсидры и даже одни фравашийские, отмеряющие время с той поры, когда Местное Скопление галактик было извергнуто из первоначальной сингулярности. Насколько я мог судить, ни одни из этих часов не показывали одинаковое время. На самой верхней полке стояла Печать нашего Ордена – маленькие атомные часы из стекла и стали, впервые пущенные на Старой Земле в день основания Ордена. (Самые большие часы – это, конечно, сама башня. Двадцать гранитных делений на ледяном кругу у ее подножия отмечают прохождение солнечной тени. Этот гигантский солнечный диск, хотя он не слишком точен, – практически единственные в городе часы, которыми мы, горожане, руководствуемся в своей деятельности. Наш Хранитель, борец с тиранией времени, давно запретил нам все остальные. Этот запрет сыграл на руку червячникам – они наживают себе состояния, ввозя контрабандой карманные часы с Ярконы.)
Одни из часов пробили, и Хранитель, охватив себя за локти, сказал:
– Я слышал. Соли освободил тебя от клятвы.
– Это правда, Хранитель. И я хотел бы извиниться за свою мать. Она была не вправе приходить к вам и просить, чтобы вы говорили обо мне с Соли.
Он оттолкнул ногой стул, продолжая месить тугие мускулы своих рук.
– Ты думаешь, это я приказал Соли освободить тебя от клятвы?
– А разве это не так?
– Нет.
– Мать, похоже, думает, что…
– Твоя мать – ты уж прости меня, пилот, – часто заблуждается. Я знаю тебя всю твою жизнь. Ты думаешь, я настолько глуп, чтобы поверить, будто ты способен дезертировать из Ордена и пойти в торговые пилоты? Ха!
– Значит, вы не говорили с Соли?
– Ты что, допрашиваешь меня?
– Извините, Хранитель, – смутился я.
Почему же тогда Соли освободил меня от клятвы – не для того ли, чтобы осрамить меня перед друзьями и мастерами Академии? Я поделился своими сомнениями с Хранителем, и он сказал:
– Соли прожил три долгие жизни – не пытайся понять его.
– Мне кажется, есть многое, чего я не понимаю.
– Что-то ты сегодня скромен.
– Зачем вы послали за мной?
– Не смей задавать мне вопросы, паршивец! Мое терпение ограничено, даже когда дело касается тебя.
Я умолк, глядя в окно на красивый главный шпиль Борхи, построенный Тихо тысячу лет назад. Хранитель обошел меня, чтобы заглянуть мне в лицо. Я смотрел прямо перед собой – этого требовали правила учтивости между мастером и послушником, которым меня первым делом обучили в Академии. Хранитель мог вдоволь разглядывать мое лицо в поисках правды, лжи и всего остального, сохраняя в неприкосновенности собственные мысли и чувства.
– Известно также, что ты намерен сдержать свою клятву.
– Да, Главный Горолог.
– Похоже, Соли тебя перехитрил.
– Да, Главный Горолог.
– А мать подвела тебя.
– Возможно, Главный Горолог.
– И ты все-таки попытаешься проникнуть в Твердь?
– Я отправлюсь туда завтра, Главный Горолог.
– Твой корабль готов?
– Да, Главный Горолог.
– «Смерть среди звезд – прекраснейшая из всех смертей», не так ли?
– Да, Главный Горолог.
Сбоку от меня что-то мелькнуло, и Хранитель залепил мне оплеуху, взревев:
– Чушь собачья! Чтобы я больше не слышал от тебя подобных глупостей! – Он подошел к окну и постучал по стеклу костяшками пальцев. – Прекрасны города – такие, как Невернес. Прекрасны океан на закате и северное сияние. Смерть есть смерть – мрак и ужас. Нет ничего прекрасного в том, что время истекает и тиканье прекращается, слышишь? Есть только чернота и ужас вечного ничто. Не спеши умирать – слышишь, Мэллори?
– Да, Главный Горолог.
– Хорошо! – Он открыл шкаф, где стоял сосуд с пульсирующей, светящейся красной жидкостью. (Я всегда подозревал, что эта зловещего вида штуковина – часы, но не осмеливался спросить об этом Хранителя.) Из темных глубин шкафа – тот был из редкой породы дерева, такого черного, что оно почти не отражало света – Хранитель извлек предмет, который я принял за старый, обтянутый кожей ларец. Но очень скоро понял, что ошибаюсь: когда Хранитель открыл ларец – точнее, откинул в сторону одну из его кожаных створок, – внутри оказалось множество листов, видимо, бумажных, искусно скрепленных в середине. Он подошел поближе, и на меня пахнуло плесенью, пылью и бумагой многовековой давности. Хранитель стал переворачивать желтые листы, вздыхая временами:
– Староанглийский – это тебе не абы что. – Или: – Ах, какая музыка – теперь этого никто не умеет, эти искусство ушло от нас. Смотри сюда, Мэллори! – Я послушно смотрел на бумажные листы, испещренные строка за строкой черными закорючками, ничего не говорившими мне. Я понимал, что вижу перед собой один из тех древних артефактов, где слова символически (и избыточно) представлены зрительными идеопластами. Древние называли эти идеопласты буквами, но как называется сам крытый кожей артефакт, я забыл.
– Это книга! – объявил Хранитель. – Настоящее сокровище – здесь собраны прекраснейшие стихи, когда-либо созданные человеческим разумом. Вот послушай. – И он перевел мне с мертвого языка, который назвал французским, стихотворение под названием «Часы». Не могу сказать, что оно мне понравилось – там было много жутких образов, безысходности и страха.
– Как вы превращаете эти символы в слова? – спросил я.
– Это искусство называется чтением. Я научился ему давным-давно.
Я на мгновение опешил, потому что всегда понимал слово «читать» в ином, более широком смысле. Читают погоду по бегущим облакам, читают привычки и программы человека по мимике его лица. Потом я вспомнил, что некоторые специалисты, а также граждане наиболее отсталых миров, владеют искусством чтения. И книги я тоже видел – в музее на Сольскене. Вероятно, слова можно не только произносить, но и читать – но как низка эффективность этого процесса! Я пожалел древних, не умевших кодировать информацию так, чтобы направлять ее непосредственно на воспринимающие и познающие центры мозга. Экое варварство, как сказал бы Бардо! Хранитель сжал пальцы в кулак и сказал:
– Я хочу, чтобы ты выучился читать и прочел эту книгу.
– Прочел книгу?
– Да. – Он захлопнул ее и протянул мне. – Ты прекрасно слышал, что я сказал.
– Но зачем, Хранитель? Я не понимаю. Читать глазами – это так… неудобно.
– Ты выучишься читать и выучишь все языки, какие есть в этой книге.
– Для чего?
– Чтобы слышать эти стихи в своем сердце.
– Зачем это нужно?
– Еще один вопрос – и я закрою для тебя космос на семь лет. Это научит тебя терпению.
– Простите меня. Хранитель.
– Если прочтешь эту книгу, у тебя появится шанс выжить. – Хранитель потрепал меня по затылку. – Жизнь – это все, что у тебя есть, береги ее.
Хранитель был самым сложным человеком из всех, известных мне. Его личность складывалась из тысяч причудливых фрагментов любви и ненависти, каприза и воли; он принадлежал к тем, кто вечно сражается сам с собой. Я стоял, держа в руках пыльную книгу, которую он мне дал, смотрел в черные колодцы его непроницаемых глаз и видел там ад. Он расхаживал по комнате, как старый белый волк, попавшийся когда-то в капкан червячника. Его беспокоило что-то – возможно, то, что он отдал мне книгу. Он слегка прихрамывал и потирал на ходу правое бедро. Он казался одновременно злым и добрым, одиноким и ожесточившимся в своем одиночестве. Вот человек, думал я, который никогда не знал покоя ни днем, ни ночью, старый-престарый человек, обойденный любовью, отмеченный войной, обожженный обратившимися в пепел мечтами. Он наделен громадной жизненной силой, и в конце концов его пыл и любовь к жизни привели его к извечному парадоксу существования. Он так любит воздух, которым дышит, и биение собственного сердца, что позволил естественному отвращению к смерти разрушить его живую жизнь. Он слишком много думает о смерти. Говорят, что он однажды своими руками убил человека, чтобы спасти собственную жизнь. Ходят слухи, что он пользуется непентесом, чтобы облегчить ужас уходящего времени и забыть хотя бы ненадолго боль прошлого и злобный рев настоящего. Я смотрел на глубокие линии его хмурого лица и думал, что эти слухи, очень возможно, правдивы.
– Не понимаю, – сказал я со смехом, – каким образом книга стихов может спасти мою жизнь.
Он остановился у окна, глядя на меня с невеселой улыбкой, сцепив за спиной большие, с набухшими венами руки.
– Я скажу тебе о Тверди то, чего больше никто не знает. Она питает склонность ко многому в человеческой культуре, но больше всего любит древнюю поэзию.
Я снова опустился на стул, не смея спросить, откуда ему известно о любви Тверди к человеческой поэзии.
– Если ты выучишь эти стихи, она, быть может, не прихлопнет тебя, как муху.
Я поблагодарил его, не зная, что еще сказать. Лучше было не сердить этого немного свихнувшегося старца. Я даже перелистал книгу, притворяясь, что заинтересован бесконечными строками черных букв. Где-то посередине книги, в которой было тысяча триста сорок девять ветхих страниц, я увидел слово, которое узнал. Оно напоминало мне, что Хранитель – человек не из тех, над которыми можно смеяться. Однажды, когда я был юным послушником, горологи поймали демократа, выжигавшего лазером слова на белом мраморе башни. Хранитель – я помню, как вздулись тогда мускулы у него на шее – приказал сбросить беднягу с башни во искупление двойного преступления: истребления красоты и навязывания своих идей другим. Варварство, конечно. По канонам нашего Ордена единственное преступление, за которое полагается смертная казнь, – это спеллинг. (Спеллеров, пойманных на похищении чужой ДНК, обезглавливают – это один из немногих старинных обычаев, эффективных и милосердных одновременно.) Мы считаем, что изгнание из нашего прекрасного Города служит достаточно суровым наказанием за все прочие провинности. Но почему-то Хранитель, увидев надпись СВОБОДА, выжженную над входом в башню, рассвирепел и выискал в девяносто первом каноне пункт, позволивший ему, как он утверждал, отдать упомянутый приказ. «Кара должна соответствовать преступлению», – гласил этот пункт. Крамольная надпись и теперь красуется над входом в башню, напоминая не только о том, что свобода – отмершее понятие, но и о том, что жизнь наша зависит от весьма капризных, не подвластных нам сил.
Мы поговорили немного о силах, правящих вселенной, и о нашем поиске. Когда я выразил свое волнение по поводу возможной находки Старшей Эдды, Хранитель, противоречивый как всегда, с гримасой запустил пальцы в свои белые волосы и сказал:
– Я не так уж уверен, что желаю спасти человечество. Я сыт людьми по горло – возможно, часы тикали достаточно долго и пора их остановить. Пусть себе Экстр взрывается от Веспера до Нварта. Спасение! Да ведь жизнь – это ад, и нет от него спасения, кроме смерти, что бы там ни говорили Подруги Человека. – Я ждал, когда он выдохнется, но он еще долго разглагольствовал о разлагающем влиянии, оказываемом пришельцами-миссионерами и чуждыми религиями на человеческий род.
За окном давно уже стемнело, когда он хватил себя кулаком по бедру и рявкнул:
– Насрать мне на Эльдрию! Раз уж они превратили себя в богов и влезли в свою черную дыру, то могли бы оставить нас в покое. Человек есть человек, а боги есть боги, и цели у нас разные. Но ты дал свою дурацкую клятву, поэтому ступай ищи их, или их знаменитую Эдду, или что ты там намереваешься найти. – Он вздохнул и добавил: – Только будь осторожен.
Не странно ли, как часто самые мелкие события и самые незначительные решения меняют всю нашу жизнь? Простившись с Хранителем, я спустился с башни и еще раз посмотрел на книгу, которую он мне дал. Стихи! Целая книга нелепых старинных стихотворений! Я долго стоял на темной ледянке, думая, не бросить ли мне эту книгу в камин у себя в комнате, размышляя о случае и о судьбе. Потом с Зунда подул ледяной сырой ветер, пробрав меня холодом смерти – тогда я еще не знал, чьей. Ветер гнал по льду снег, который жалил мне лицо и бил в окна башни. Шорох снега по стеклу заглушался колокольчиками, подвешенными к башенным карнизам. Пожав плечами, я натянул на голову капюшон камелайки. Хранитель хочет, чтобы я прочел книгу? Хорошо, я прочту ее.
Озябшими руками я уложил ее в заплечную сумку и покатил по дорожке. Бардо и другие мои друзья ждали меня с прощальным обедом – я проголодался и продрог.
Почти всю мою последнюю ночь в Городе я только и делал, что прощался. Водном из фешенебельных ресторанчиков Хофгартена был дан обед в мою честь. Катарина, по обычаю скраеров, не стала желать мне удачи, сказав, что моя судьба записана в моей истории, что бы это ни означало. Бардо, как и следовало ожидать, то рыдал, то ругался. Он приобрел извращенное пристрастие к подогретому пиву и вливал в себя неимоверное количество этой пенистой желтой жидкости, чтобы разогнать страх перед будущим. Он произносил тосты и читал сентиментальные вирши собственного сочинения. Потом он запел, но Шантало Асторет, тонкий ценитель музыки, указал ему, что пьяный он поет далеко не так хорошо, как обычно. Наконец он плюхнулся на стул и взял меня за руку.
– Это самый печальный день в моей проклятой жизни, – объявил он и тут же уснул.
Мать тоже сказала нечто подобное и едва удержалась от слез. (Но уголок ее рта подергивался, как всегда, когда она испытывала сильные эмоции.) Скорбно заломив свои темные брови, она говорила:
– Соли отменил твою клятву только потому, что твоя мать обратилась с мольбой к Хранителю Времени. И так-то ты меня отблагодарил? Ты разбиваешь мне сердце.
Я не стал повторять ей то, что сказал мне Хранитель. Незачем ей было знать, как легко он раскусил ее ложь. Она надела свою поношенную шубу, серую и блестящую в местах, где шегшеевый мех вытерся, и засмеялась по-своему, тихо – словно над шуткой, известной ей одной. Я думал, она так и уйдет, ничего больше не сказав, но она поцеловала меня в лоб и прошептала:
– Возвращайся ко мне. К своей матери, которая тебя любит и душу отдаст за тебя.
Я вышел из ресторана перед рассветом (в ту ночь я не сомкнул глаз) и покатил по пустой Поперечной на Крышечные Поля. Там, у подножия Уркеля, даже в эти холодные утренние часы все дорожки и платформы были забиты санями, ветрорезами и прочим транспортом. Лед сотрясался от гула, и в воздухе мелькали красные хвосты ракет. На ясном утреннем небе розовели перистые инверсионные следы – это было очень красиво. Мне часто приходилось бывать здесь по делу в это время дня, но раньше я почемуто не замечал этой красоты.
За Полями открывалась Пещера Тысячи Кораблей – полмили выплавленного скального грунта. На самом деле в ней не было тысячи кораблей – и не было со времен Тихо – но их было больше, чем мог охватить взгляд. Ближе к середине восьмого ряда стоял мой «Имманентный». Когда я обсуждал с программистом в оливковой одежде разные мелкие усовершенствования в эвристике и парадоксальной логике моего корабля, кто-то позвал меня по имени. Я посмотрел вдоль ряда блестящих корпусов и в слабом свете фосфоресцирующего лишайника, покрывающего стены Пещеры, увидел высокую фигуру.
– Ну что, Мэллори, – произнес голос, вызвав гулкое эхо, – пришла пора прощаться? – Гремя сапогами по ступенькам настила, человек подошел поближе, и я разглядел его как следует, высокого и мрачного, одетого в черную шерсть. Это был Соли.
Программист, мастер Рафаэль, тихий застенчивый человек с базальтово-черной кожей, поздоровался с ним и поспешил оставить нас.
– Красавец, – сказал Соли, разглядывая узкий нос и скошенные вперед крылья моего корабля. – Ничего не скажешь, красавец – стройный и хорошо сбалансированный. Но душа легкого корабля помещается внутри, не так ли? Главный программист сказал мне, что ты уделял повышенное внимание логике Гилберта – с чего бы это, пилот?
У нас завязался обычный пилотский разговор. Мы обсудили парадоксы гилбертовой логики и выбор, остановленный мной на идеопластах мастера Джафара.
– Он был великий знакопоклонник, – сказал Соли, – но его представление омега-функции Джустерини несколько избыточно, не так ли?
Он предложил несколько подстановок, значительно упрощавших поиск, и я, не в силах скрыть удивление, спросил:
– Почему вы мне помогаете, Главный Пилот?
– Помогать молодым пилотам – мой долг.
– Я думал, вы хотите, чтобы у меня ничего не вышло.
– Откуда ты можешь знать, что у меня на уме? – Он потер виски и заглянул в открытую кабину моего корабля. Мне показалось, что он волнуется и чувствует себя неловко.
– Но ведь вы сами спровоцировали меня дать эту клятву.
– Да неужели?
– А потом освободили меня от нее. Почему?
Он погладил корабль, почти как женщину, и не ответил, а спросил меня сам:
– Так ты действительно отправляешься в Твердь?
– Да, Главный Пилот, – как и обещал.
– Ты делаешь это по доброй воле?
– Да, Главный Пилот.
– Возможно ли это? Ты полагаешь, что способен действовать по собственной воле? Что ты на это способен? Экое самомнение!
Я не понимал, куда он клонит, поэтому привел обычную отговорку:
– Холисты учат, что противоречие между свободной волей и вынужденным действием есть ложная дихотомия.
Он потянул себя за подбородок и сказал:
– Да кто их слушает, этих холистов с их никчемным учением? Вопрос в другом: обрекаешь ты себя на смерть по собственной воле или все это свалят на твоего Главного Пилота?
Разумеется, я винил его – винил с такой яростью, что желчь жгла мне желудок и огнем бежала по венам. Мне очень хотелось высказать ему свои обвинения, но я уставился на его отражение в блестящем боку корабля, на его руку в черной перчатке, лежащую на корпусе, и промолчал.
Он убрал руку, потер нос и сказал:
– Когда твое время придет и перед тобой встанет выбор, обвинить меня или нет, вспомни, пожалуйста, что ты сам себя вовлек в эту западню.
Мускулы у меня напряглись, и я, не задумываясь, стукнул кулаком по блестящей черноте корпуса там, где отражалось его лицо, чуть не раздробив себе костяшки.
– Меня ждет не западня, а успех. – Я процедил это медленно, чтобы не заорать от боли. Я не мог смотреть на него, на его длинный нос и черные, пронизанные рыжиной волосы.
Он наклонил голову и произнес:
– Мы все в конце концов терпим поражение, не так ли? До свидания, пилот, желаю тебе удачи. – Он повернулся и пошел прочь, в глубину Пещеры.
Не так уж много мне осталось рассказать про это злосчастное утро. Мастер Рафаэль вернулся с обычным составом специалистов, кадетов и послушников, участвующих в проводах пилота. Цефик в оранжевой одежде прижал мне большие пальцы к вискам и долго изучал мое лицо, проверяя, не болен ли я. Кадеты-технари подсадили меня в темную кабину, горолог опечатал корабельные часы. И так далее. По прошествии, как мне показалось, нескольких дней (мое чувство времени уже подверглось искажению), я, как выражаются мастер-пилоты, «сопрягся со своим кораблем», то есть вступил в контакт с его сложной нервной системой. Теперь у меня было два мозга – точнее сказать, мой живой биологический мозг соединился с кораблем. Мелкая реальность зрения, слуха и прочих чувственных ощущений уступила место высшей реальности мультиплекса. Я погрузился в холодный океан чистой математики, в царство порядка и смысла, лежащее под хаосом повседневного пространства, и Пещера Тысячи Кораблей перестала существовать.
Мне предстояли еще полные нетерпеливого ожидания минуты, пока корабль поднимали на поверхность, предстояло скучное время прохода сквозь атмосферу и выхода в сгущение над нашей ледяной планетой. Я проложил маршрут, и окно в мультиплекс открылось передо мной. Затем наше солнце, маленькая желтая звезда, исчезло, и я оказался среди безбрежности огней, красоты и ужаса, оставив Невернес и свою юность далеко позади.
4 ЦИФРОВОЙ ШТОРМ
В начале, конечно же, был Бог. А от Бога родилась Старшая Эльдрия, светоносные существа, которые сами были как Бог – за тем исключением, что было время, когда их не существовало, и будет время, когда они перестанут существовать. От Старшей Эльдрии родилась просто Элъдрия, раса, похожая на старую, но уже облеченная плотью. Эльдрия засеяла нашу галактику, как, возможно, и еще многие галактики, своей ДНК. На Старой Земле из этого божественного семени развились примитивные водоросли и бактерии, планктон, разные виды плесени, черви, рыбы и так далее, пока человек-обезьяна не слез с дерева на одном из континентов. От человека-обезьяны произошел пещерный человек, очень похожий на совершенного, однако не имеющий власти прекратить собственное существование.
И наконец, от пещерного человека произошел просто Человек, у которого достало ума и глупости взять себе четырех жен: Бомбу, Вычислительную Машину, Пробирку и Женщину.
Хорти Хостхох, «Реквием по хомо сапиенс».Невозможно описать то, что не поддается описанию. Слова по определению не могут вызвать то, для чего слов не существует. Сказав это, я попытаюсь объяснить, что случилось со мной после, в моем путешествии по безымянным каналам мультиплекса.
Я шел вдоль сверкающего спирального рукава Стрельца, уверенно пронзая линзу Млечного Пути, хотя порой был вынужден закладывать обратные петли: я двигался к ядру галактики, к адскому пламени центрального скопления. Я знал, что эта часть моего пути будет легкой, потому что пользовался каналами, давным-давно открытыми Тихо и Джемму Флоуто. Легко шагнуть от красного гиганта наподобие Глорианы Люс к одной из жарких голубых звезд Малого Морбио, если расположение соответствующих фокусов этих двух звезд давно известно (и доказано, что они соединяются напрямую). Настолько легко, что канторы окрестили эти изученные каналы звездными туннелями – в отличие от той части мультиплекса, которая остается и, возможно, навсегда останется белым пятном. Я уточняю, что в начале своего путешествия двигался по туннелям и перескакивал от окна к окну, от звезды к звезде, спеша добраться до Тверди.
Почти все это время я свободно парил в своей затемненной кабине. Некоторые боязливые и неудачливые пилоты, которые водят тяжелые корабли и лайнеры по коммерческим туннелям, утверждают, что кабина – это не святилище, где ты погружаешься в глубины своего разума, а ловушка, черный металлический гроб. Для меня кабина «Имманентного» была словно мягкий уютный шлем, покрывающий не только голову, но и все тело. (Во времена Тихо шлем корабельного компьютера действительно надевался пилоту на голову – и запускал протеиновые щупальца ему в мозг, как и шлемы акашиков.) В моем путешествии по близлежащим звездам нейросхемы, вживленные в темную скорлупу кабины, голографически моделировали функции моего мозга и тела. Более того, они подавали образы, импульсы и символы прямо в мой мозг. Миновав Наширскую Триаду, я сопрягся с компьютером и стал «разговаривать» с ним. Я слышал беззвучный гул корабельных двигателей, пожирающих пространство-время и открывающих окна в мультиплексе, видел пламя далеких туманностей и доказывал свои теоремы – все это благодаря компьютеру и его нейросхемам. Такое сопряжение моего мозга с кораблем делало меня могущественным, но оно не было совершенным. Порой информация, поступающая в разные мозговые центры, перепутывалась: я чуял запах молодых звезд Саролты и слышал, как пурпурно звучат решаемые уравнения. Для распутывания этих несоответствий холисты изобрели дисциплину, именуемую холдингом; мне еще не раз придется рассказывать о дисциплинах, предназначенных для умственной подготовки пилотов.
Я вошел в Трифиду – небольшую туманность, где юные горячие звезды излучали волны голубого света. Когда мой корабль выпадал в реальное пространство близ одной из звезд, казалось, будто вся туманность светится от красных облаков водорода. Стремясь поскорее попасть в соседнюю туманность, Лагуну, я пересек Трифиду от окна к окну так быстро, что мне пришлось прибегнуть к замедленному времени. Это было парадоксальное состояние. Пока компьютер во много раз ускорял мой обмен веществ и работу моего мозга, время, наоборот, растягивалось, как резина. Секунды превращались для меня в часы, а часы в годы. Такой процесс был необходим, иначе быстро мелькающие звезды не оставили бы мне времени на определение изоморфизмов и на доказательство теорем. Я мог бы попасть в фотосферу голубого гиганта или вляпаться в бесконечное дерево – да мало ли как еще можно погибнуть.
В конце концов я прошел в Лагуну и был ослеплен ее огнями (некоторые из них принадлежали к самым ярким объектам галактики). Близ звездного скопления под названием Бластула Люс я вычислил долгий маршрут к Туманности Розетты в рукаве Ориона. Затем проник в Бластулу и вышел в сгущение в ее почти пустой центральной части. Оно называется Гущей Тихо и намного уступает плотностью тому, что расположено близ нашей планеты, но все же в нем имеется много точек входа, связанных с точками выхода в Туманности Розетты.
Я нашел одну такую точку, теоремы вероятностной топологии возникли перед моим внутренним взором, и маршрут был определен окончательно. Окно в мультиплекс открылось, и звезда, на орбите которой я находился, уродливый красный гигант, названный мной Красным Башмаком, исчезла. Я парил в кабине, гадая, сколько времени у меня уйдет на дорогу от Лагуны до Розетты, и задумываясь, далеко не в последний раз, над любопытнейшей природой того, что мы называем временем.
В мультиплексе нет пространства, а значит, нет и времени. Точнее сказать, внешнего времени. Внутри моего корабля существовало корабельное время – но только не реальное время окружающей нас вселенной. Поскольку мой путь до Розетты мог оказаться долгим и скучным, я часто прибегал к успокаивающему мозг ускоренному времени. Все умственные процессы делались медленными, как ползущий ледник, а время летело быстро. Годы превращались в часы, и долгие периоды скучного ничегонеделания уменьшались до мгновений, равных одному удару сердца.
Затем быстрое время мне надоело, и я решил, что с тем же успехом могу одурманить свой мозг сном или наркотиками. Большую часть моего путешествия я провел в более-менее нормальном бодрствующем состоянии корабельного времени, изучая книгу, которую дал мне Хранитель. Я учился читать, и это был болезненный процесс. Древний способ представления звуков отдельными буквами был крайне неэффективным средством кодирования информации. Просто варварским. Я выучил глифы массива, известного как алфавит, и научился выстраивать их линейно – линейно! – чтобы формировать слова. Поскольку книга состояла из стихов, написанных на нескольких древних языках Старой Земли, мне пришлось выучить и эти языки тоже. Это было самой легкой из моих задач, так как мой речевой центр и память были непосредственно связаны с компьютером. (Староанглийский, на котором были написаны некоторые стихи, я выучил первым делом, ибо мать давно настаивала, чтобы я им занялся.)
Научившись сканировать буквенные строки, бегущие по старым желтым страницам, я обнаружил, что мне не обязательно произносить мысленно каждую букву и что я могу воспринимать смысловые единицы слово за словом. К изумлению своему я открыл, что так называемым чтением заниматься приятно. Приятно держать в руках затертый кожаный переплет, приятно водить глазами по черным символам, представляющим слова в произнесенном некогда виде. Как это, в сущности, оказалось просто – читать! И каким странным показался бы я другому пилоту, если бы он увидел меня за этим занятием! Я парил в кабине, держа перед собой книгу, и водил глазами слева направо, слева направо по высохшим от времени страницам.
Но самое большое удовольствие доставили мне сами стихи. Для меня явилось откровением, что древние, ничего не ведавшие о пространстве-времени и бесконечном разнообразии жизни, наполняющей нашу вселенную, о тайне жизни знали не меньше – или не больше, – чем мы. При всей простоте и смелости их восприятия они, как мне казалось, часто даже более глубоко воспринимали ту часть реальности, которая доступна каждому человеку. Их стихи были как неотшлифованные драгоценные камни; их наполняла звучная, чувственная, варварская музыка; они заставляли кровь бежать быстрее и вызывали перед глазами картины недосягаемых звезд и холодных северных морей. Были там короткие афористические стихотворения, призванные сохранить краткие и печальные (но прекрасные) мгновения жизни – так бабочка сохраняется в толще ледника. Были стихи, занимающие полные страницы – они повествовали о жажде человека к убийству и кровопролитию и воспевали моменты чистого героизма, когда человек чувствует, что его жизнь должна слиться с жизнью вне его.
Я особенно полюбил стихотворение, которое Хранитель Времени прочел мне в тот день перед отлетом. Я помнил, как он расхаживал по башне, сжимая кулаки, и декламировал:
Тигр, о тигр, светло горящий В глубине полночной чащи! Кто смел задумать огневой Соразмерный образ твой?[6]Я перечитывал стихи снова и снова. Через некоторое время я уже мог повторить некоторые из них, не заглядывая в книгу. Я читал их вслух, пока они не зазвучали внутри, и я не начал слышать их сердцем.
Так я достиг Туманности Розетты, лежащей на краю расширяющегося скопления взрывающихся звезд, известного как Экстр. Посмотрев на пылающий Экстр, полный света, погибших звезд и космической пыли, я услышал внутри:
Звезда упадет и другая, Но сколько б не пало их впредь, На пологе неба, я знаю, Не станет их меньше гореть.(Говоря, что я посмотрел на Экстр, я, конечно, имею в виду модель Экстра, созданную кораблем в моем мозгу; в реальном пространстве Розетту отделяет от Экстра несколько световых лет, и свет взрывающихся звезд еще не дошел до нее.)
Розетта по контрасту с безобразием гибнущего Экстра была прекрасна. Это гигантское чрево, рождающее звезды, которые излучали столь бурную энергию, что выжгли всю туманность изнутри, оставив ее полой, как утыканная рубинами и алмазами яичная скорлупа. У Шивы Люс, ярчайшей из всех этих великолепных розовых световых сфер, я начал первый маршрут из серии, долженствующей привести меня к порогу Эты Киля и Тверди.
Я шел по старейшему пути человеческого роения и выходил из мультиплекса у звезд, чьи планеты были густо населены людьми (и существами, стоящими чуть ниже или чуть выше человека). Старые планеты наподобие Скалы Ролло, Ваканды и Веспера я старался миновать как можно быстрее. А также Нварт и Охру, Фарфаду и Фостору, где, как говорили, люди давно научились совмещать свои индивидуальности с компьютерами. (Говорили также, что фосторские женщины, возмущенные противоестественным внедрением человеческого разума в машины, погрузились на тяжелые корабли и нашли себе новую планету, которую назвали Лешуа. Там они основали старейший из матриархатов. Историк Бургос Харша, однако, объясняет его происхождение по-другому. Он полагает, что Лешуа колонизировали девицы брачного возраста с взбунтовавшегося лайнера, который вез их в солнечные купола Небесных Врат. Кто знает, как все было на самом деле?)
Долгое время спустя я оказался в той части туннелей, которую почти не затронули ни вторая, ни третья волна Роения. Здешние планеты – Фрипорт, Новая Земля и Каарта в том числе – были заселены задолго до того, как человек начал формировать для себя законы цивилизации. Здесь люди, манипулируя со своей ДНК, придавали своим телам самые жуткие формы, чтобы приспособиться к новым условиям обитания, – так сверлящий червь приспосабливается к дыре, которую прогрызает в живом черепе.
За желтой звездой Даррейн Люс началась область, для которой проторенных маршрутов не существовало. Моей задачей, как пилота, было проложить новые маршруты, установить изоморфизмы и доказать мои теоремы – или умереть. Кадетом я уже прокладывал новые пути близ нашего маленького солнца, но не в таком количестве и не так далеко от дома.
Поначалу все шло легко. С помощью дзадзена, особого рода медитации, я освободил свой ум от всего, кроме математики, открыв себя изгибам и внезапным деформациям мультиплекса. Вокруг меня складывались и разворачивались пространства самых разных метрик. Я испугался, оказавшись в псевдотороиде, но с помощью одной теоремки сумел разобраться в его извилистых каналах, грозивших меня поглотить. «Верующий в науку математик должен использовать свою волю, чтобы проникнуть в суть образа», – говорят канторы. Моя воля поначалу была сильна и крепла все больше с каждым удачным маршрутом. Но в шестидесяти восьми звездах от Даррейн Люс я угодил в то, что с первого взгляда счел довольно простым сгущением. Тогда меня прямо распирало от гордости!
Это оказалось нечто совсем другое. Точки входа здесь действительно сидели густо, как вши на голове хариджана, но я никак не мог найти соответствующих им точек выхода в лежащей передо мной туманности – в туманности, именуемой Твердью. Я не понимал, почему это так. Невозможность проложить туда маршрут превышала всякую вероятность. Поскольку дальше идти было нельзя, я вышел в реальное пространство над окруженной кольцами планетой. Чувствуя себя одиноким и потерянным, я назвал ближайшую к сгущению слабую желтую звезду Пердидо Люс[7]. И поклялся одолеть эту чащобу, даже если она отнимет у меня сорок дней реального времени.
Не знаю, сколько я потратил личного времени, блуждая между окнами сгущения, – уж точно больше чем сорок дней. Это было поистине странное место, изобилующее нулевыми точками и вложенными пространствами. Часто я испытывал трудности с фиксацией точек, часто, пробравшись от одного темного окна к другому, обнаруживал, что они образуют замкнутый круг. Общепринятые правила межоконных коммуникаций здесь как будто не действовали. Я зарегистрировал около шестидесяти четырех тысяч точек входа, но ни одна из них не могла связать меня с другой среди звезд Тверди. Я то смеялся так, что чуть челюсти себе не вывихивал, то в отчаянии кусал губы, чувствуя солоноватый вкус крови. Само существование этого невероятного сгущения подрывало мою веру в правильность Великой Теоремы. Я был почти уверен, что между Пердидо Люс и Твердью в самом деле нет ни одного маршрута, и уже готов был сдаться, как вдруг наткнулся на одно красивое дискретное множество точек входа, и все они оказались связаны с одной белой звездой во внешней оболочке Тверди. Мне оставалось только вычислить маршрут и открыть окно, чтобы стать первым за пятьсот лет пилотом, дерзнувшим проникнуть в неверные взвихренные пространства живой туманности.
Я проложил этот маршрут и вышел из мультиплекса у белой звезды. Так вот она, эта туманность, терроризировавшая пилотов моего Ордена. Не так уж она и страшна. Я твердил себе, что бояться нечего, – но, глядя на светящиеся водородные облака, не питал на этот счет уверенности. Туманность казалась мне темной и странной. В ней было меньше звезд, чем я полагал, – пожалуй, не более ста тысяч. Слишком плотная космическая пыль затемняла даже близкие из них. Зерна графита и силикатов, льдинки и частицы железа рдели, отражая тусклый звездный свет. Некоторые обломки были так огромны, что казались скорее фрагментами раздробленных планет. Но зачем стала бы Твердь разрушать планеты? Чтобы обеспечить пищей – дополнительной массой – свои пресловутые мозги размером с луны? Что лишило планет почти каждую звезду, мимо которой я проходил, – Она или какое-то другое явление, естественное, хотя и губительное?
Механики говорят, что разум способен искривлять и формировать ткань пространства-времени. Теперь я знаю, что это правда. Направившись к сердцу Тверди, я стал замечать вмультиплексе внутри нее легкие перемены. Слишком часто я возвращался назад по своим каналам. Однажды я подумал, что попал в бесконечную петлю, как змея, заглатывающая собственный хвост; я боялся умереть от старости или сойти с ума среди этих неподдающихся пониманию каналов, пронизывающих во всех направлениях неизвестную часть мультиплекса. В другой раз я потерял смысл теоремы, которую доказывал. В нормальных условиях такой мимолетный подвох памяти ничего бы не значил, но я находился посреди невероятно сегментированного пространства – такого я еще не встречал. Я стал менять свою обычную последовательность окон, испытывая странное чувство, что это сама Твердь возмущает пространство передо мной, что она экзаменует меня по математике, экзаменует как пилота и человека.
Сегментированное пространство внезапно распалось, и я оказался в реальном пространстве, чуть не угодив в гравитационный колодец нейтронной звезды. Вокруг была сплошная чернота, в которой плавали какие-то необычные глобулы черной материи около полумили в диаметре. Эти черные тела – их были миллионы – создала, должно быть, Твердь. Я мог лишь предполагать, что это такое. Они были так черны, что не отражали ни молочного света звезд, ни иной радиации, и их присутствие угадывалось лишь по гравитационному полю. Полю очень сильному, хотя и не настолько, как у нейтронной звезды, вокруг которой они кружили. Я не мог понять, почему их не засосало в ее гравитационный колодец.
Возможно, они состояли из искусственно созданной материи, как-то регулирующий поток информации внутри Тверди? А может, это были тахионные машины или какието другие устройства для генерации частиц, путешествующих со сверхсветовой скоростью? Или они представляли собой раковые опухоли, сгустки дикой нестабильной материи, оставшиеся от экспериментов Тверди, меняющей вселенную по своей прихоти? Этого я не знал. Возможно, эсхатологи заблуждаются и мозг Тверди состоит из тел гораздо мельче, чем луны. Возможно, в этот самый момент я смотрю на вместилище разума богини.
У меня не было времени задумываться над этим потрясающим открытием, поскольку магнитное поле звезды – в тысячу биллионов раз сильнее, чем у Ледопада – разрушало мой корабль. Надо было срочно прокладывать новый маршрут, пока меня не разнесло на куски. Я ушел в мультиплекс наугад, и мне повезло, что я не напоролся на бесконечное дерево решений.
Встречались мне и другие опасности, о которых упоминать не стану. И чудеса тоже. Первую из долей мозга Тверди я обнаружил в том районе туманности, где мультиплекс изобиловал сквозными каналами и точками входа, связанными со всеми прочими ее частями. Там была звезда, излучавшая свет мерными вспышками каждые девять десятых секунды.
Этот маленький пульсар напоминал мне маяк на горе Аттакель, отводящий ветрорезы от ее темных замерзших скал, только звезда была гораздо, гораздо ярче. Она пульсировала энергией тысячи солнц в такт моему сердцебиению, каждым импульсом освещая серебристую луну, кружащую по орбите в полубиллионе миль от нее. Я видел это через телескопы моего корабля, бывшие моими глазами и ушами. Я смотрел, как сказочный лунный мозг Тверди поглощает энергию, вращается вокруг оси и думает свои неразгаданные думы – или чем там еще богиня заполняет свое существование?
Что делает Твердь со всей этой энергией, оставалось, разумеется, тайной. Но расправлялась она с ней быстрее, чем голодный хибакуся[8] – с миской молока. Говоря о своем невежестве, я должен упомянуть, что не знал, действительно ли мозг Тверди состоит из твердого вещества или его скрепляет воедино какая-то искусственная материя. (При этом я думал о черных телах, которые видел у нейтронной звезды.) Ее мозг явно не был твердотелен в том смысле, что не состоял из кристаллов кремния, германия или других полупроводников. Когда-то, во времена правления Тисандера Недоверчивого, эсхатологи обнаружили возле Двойной Ауда мертвый галактоид. Анатомировав эту луну – на самом-то деле она была величиной с большой астероид, – они нашли биллионы слоев ультратонких органических кристаллов, сложнейшее белковое кружево, реагирующее на электрический ток. Это кружево очень походило на нейросхемы, наращиваемые технарями внутри легких кораблей, но намного превышало их сложностью. Поэтому программистам так и не удалось расшифровать ни одну из программ этого мозга – даже простые программы выживания, которым полагалось быть жестко вписанными в белковые цепи. Цель жизни (и причина смерти) того мозга осталась такой же загадкой, как и деятельность этого, живого, двигающегося по орбите вокруг пульсара.
Я продолжил маршрут и вышел в реальное пространство в полумиллионе миль от луны. Я провел какие только мог анализы, но мало что выяснил относительно ее состава. Однако в том, что это действительно мозг, а не естественная луна, я не сомневался. Естественная луна не могла быть такой безликой и безкратерной. Поверхность у нее была гладкая и шелковистая, словно кожа жакарандийской шлюхи. А мультиплекс около нее, как я уже говорил, был так искривлен, что это могло объяснить только присутствие некого разума громадного размера. Но какова природа этого разума? При всем своем отчаянном желании узнать это я не мог рассматривать всерьез возможность высадиться на поверхности луны и взять пробу из ее ядра для анализа. Это было бы грубое варварство, к тому же бесполезное – все равно что запустить сверло в розовый мозг аутиста, пытаясь составить каргу его фантазий. Да и опасность подобного предприятия не укладывалась в воображении. Я понимал, что мне и так уже посчастливилось выжить в мультиплексе. Я поступал достаточно глупо уже потому только, что возмущал покой Тверди, как она сама возмущала мультиплекс одним своим присутствием. Не может же мне везти постоянно.
Мне следовало тогда же повернуть домой. Я исполнил свою клятву, проник в Твердь и нанес на карту по крайней мере часть Ее. Не надо было пытаться вступить с Ней в контакт. Что такое человек, чтобы лезть с разговорами к богине? Мне казалось глупым бомбардировать луну несущими информацию лазерными лучами, посылать на ее серебристую поверхность радиоволны со своими вопросами и кодированными приветствиями корабельного компьютера – но я все равно это делал. Человек хотя бы раз в жизни должен рискнуть всем, чтобы познать нечто выше себя самого.
Но Твердь, похоже, даже не подозревала о моем существовании. Для Нее мои лазерные лучи были, видимо, так же незаметны, как для человека единственный фотон, чпокнувший о его мозолистую ладонь. А радиоволны казались каплями в море волн, излучаемых пульсаром. Я был для Нее ничем, но стоило ли впадать из-за этого в отчаяние?
Разве я сознаю присутствие какого-нибудь вируса, копошащегося в капиллярах моего мозга? Но ведь вирус не имеет сознания, возражал я себе, тогда как я – человек, наделенный самосознанием. Ведь должна же богиня как-то заметить это постороннее сознание? Должна же понять, что я здесь?
Напрасно, конечно, я так думал – но я никогда не отличался смирением. Это один из худших моих пороков. Однако при всем своем тщеславии я понимал, что мне не дано постичь этот фантастический, блистающий, чуждый разум. Я благоговел перед Ней – по-другому не скажешь. С помощью лазера я измерил диаметр лунного мозга и обнаружил, что он насчитывает тысячу сорок миль от полюса до полюса. Если бы я мог увеличить собственный мозг в триллион раз, а потом еще в биллион и скрепить всю эту липкую розовую массу воедино, то все равно не сравнился бы с Ней. Я сознавал, что каждый бит в ее нейросхемах движется в миллион раз быстрее, чем мои ленивые нейроны, и что внутри туманности, вокруг ярких звезд за десятки световых лет от меня, плавают, возможно, миллионы таких же лунных мозгов – и все они пульсируют мощным разумом, и все связаны между собой неведомыми путями сквозь приливную зыбь космоса.
Будучи любопытным и убежденным в собственном бессмертии, как все молодые люди, я решил составить более подробную карту Тверди. Выйдя в реальное пространство у жарких красных звезд-гигантов, я открыл еще множество лунных мозгов. Мультиплекс здесь был искривлен и до безобразия сложен. Я то и дело входил в опасные деревья решений и сегментированные пространства, еще более причудливые, чем то, первое. Во время этого долгого путешествия в глубь Тверди я впервые уверился в своем пилотском искусстве и по-настоящему почувствовал себя пилотом. Порой я бывал излишне уверен и даже бесшабашен. Есть ли еще хоть один пилот, думал я, способный обучиться столь многому в столь короткий срок? Мог бы Томот, Лионел или любой другой мастер-пилот пройти псевдотороид столь же изящно, как я?
Жаль, что здесь нет места, чтобы каталогизировать все чудеса этой уникальной туманности – они заворожили бы многих, помимо астрономов нашего Ордена. Самым удивительным из моих открытий, не считая самой туманности, стала планета под названием Камилюза, которую я обнаружил у красной звезды – так назвал ее не я, а живущие на планете люди. Люди! Откуда они там взялись? Прошли через мультиплекс, как и я? Не были ли они потомками Тихо, Эрендиры Эде и других пилотов, пропавших в Тверди? Меня поразило то, что люди живут в мозгу у богини. Это было как-то неправильно. Они казались мне паразитами, питающимися светом их кровавого солнца, какими-то сверкающими червями, прогрызшими ходы в мозгу неизмеримо высшего существа.
Приветствовав их по радио, я совершил посадку на одном из широких западных пляжей островного континента Сендаи. Было очень тихо, и я открыл кабину. Жаркий красный диск солнца висел надо мной, и птицы, похожие на снежных чаек, ныряли в поток влажного ветра, пахнущего водорослями и другой растительностью. Все вокруг, включая и воздух, казалось чересчур зеленым.
Должно быть, для голых людей, усеивающих дюны, я представлял собой очень странное зрелище в своих черных сапогах и камелайке. За время путешествия у меня отросла борода, и я немного сбавил в весе из-за недостатка упражнений. Я поклонился присутствующим, и мускулы спины задрожали от напряжения. Само собой, я попросил разрешения поговорить с правителем планеты, но у них его не было – равно как мастеров, сэнсеев, матриархинь, королей, протекторов или иных лиц, которые регулировали бы их повседневную деятельность. Жители планеты были анархистами. После я узнал, что они, возможно, являются потомками хибакуся, бежавших много веков назад от иерархического ига Японских Миров. Но о путешествии через Твердь у них сохранились лишь самые смутные воспоминания. Никто не мог сказать мне, как они когда-то провели свои лайнеры сквозь окна мультиплекса, потому что никто этого не помнил. И никого это не интересовало.
Они утратили это благороднейшее из всех искусств и большинство других искусств тоже. Несколько сот тысяч обитателей планеты были варварами, которые заполняли свои долгие дни тем, что ели, плавали, совокуплялись и жарились дочерна под палящими лучами красного солнца. Общество Камилюзы принадлежало к тем застойным утопиям, где роботы делают всю работу за человека, а также производят новых роботов. Хуже того – эти люди запрограммировали свои компьютеры на управление роботами, а самое худшее – позволили компьютерам думать за них. Я провел там пять их сточасовых суток и ни разу не встретил мужчины или женщины, размышляющих о происхождении жизни или о том, куда она движется. (Хотя многие дети обладали естественным любопытством, которому вскоре суждено было увянуть.) Примечательно, что никто из них – кроме разве что компьютеров – не осознавал, что Камилюза находится внутри мозга богини. Нижеследующую беседу я привожу потому, что она характерна для всех остальных, которые я вел в те удушливо жаркие дни и ночи.
Однажды вечером, на веранде одной из вилл, построенных на прибрежных дюнах, я сидел на плюшевом стуле напротив старой женщины по имени Такара. Я овладел новозападным японским диалектом достаточно, чтобы на нем разговаривать. Она была крошечной, сморщенной старушкой с редкими прядями волос на голом черепе. Как и все на планете, она ходила голой. Когда я спросил ее, почему никто здесь не интересуется замечательной конструкцией моего корабля, она сказала:
– Наши компьютеры смогут сконструировать легкий корабль, если мы захотим.
– Но смогут ли они подготовить пилотов?
– Наверное. – Она попробовала голубой напиток, который принес ей один из домашних роботов. – Но зачем это нужно – готовить пилотов?
– Чтобы летать среди звезд. Есть чудеса, которые только пилоты…
– Ну, не думаю. Все звезды похожи одна на другую, разве нет? Они дают нам свое тепло – разве этого не достаточно? Притом ты сам признаешь, что такие путешествия опасны.
– Жить вечно все равно невозможно.
– Хай, зато возможно жить долго. Вот я, скажем, прожила… – Тут она обратилась к одному из встроенных в веранду компьютеров. Он ответил ей, и она сказала: – Я прожила пятьсот ваших невернесских лет. За это время я была молодой… – она снова справилась у компьютера, – была молодой десять раз. Молодость – это чудесно. Быть может, я повторю это еще раз десять, но только в том случае, если буду избегать опасностей. Плавать в море и без того опасно, и я больше этого не делаю, хотя роботы и отпугивают акул. Мало ли – вдруг судорога случится. Известно, что с годами опасности возрастают. Есть такое слово… как его? – Компьютер подсказал ей слово, и она продолжила: – Если я могу когда-нибудь умереть, то эта вероятность возрастает с каждым годом. Она умножается. Самый маленький риск со временем становится все рискованнее, и однажды, даже при самом минимальном риске, смерть все-таки настанет. Вот почему я никогда не выхожу со своей виллы. Когда-то я любила плавать, но мой четырнадцатый муж погиб оттого, что птица сбросила ему на голову большую раковину. Ашира – красивый был мужчина – брил себе голову, и птица, как видно, приняла ее за камень. Раковина проломила ему череп, и он умер.
Она взглянула на звездное небо, очевидно, высматривая там опасных птиц. Потом показала на автоматические лазеры, расставленные по всей веранде, и добавила:
– Но птицы мне больше не страшны.
Все, что она сказала, разумеется, было правдой. Жизнь – опасная штука. Согласно закону невезения, почти никто из пилотов – да и других членов нашего Ордена – не доживет до возраста Соли. Понятно, почему более молодые пилоты зовут его Соли-Счастливчик.
– Да, эта вселенная опасна, – сказал я, – и загадочна. Но есть в ней красота… вы сами признаете, что цените прекрасное.
– Что ты понимаешь под словом «прекрасное»? – Она положила руку между грудей, коричневых и сморщенных, как кожаные мешочки, понюхала воздух с моей стороны и дернула своим крохотным носом. Ей явно не нравился запах моей пропотевшей шерстяной камелайки. Она держала себя так, будто варваром был я, а не она, и это меня раздражало.
Я показал на сияющую луну и объяснил, что эта луна на самом деле – огромный биокомпьютер, часть мозга богини.
– Она сияет, как серебро, и это красиво, но свой блистающий интеллект она делит с миллионом других лун. Вообразите только, какие это возможности… это уже иной, высший вид красоты.
Она посмотрела на меня, как логик смотрит на лепечущего бессмыслицу аутиста, и сказала:
– Не думаю, что луна может быть компьютером. Зачем ты мне лжешь? В компьютерах ничего красивого нет.
– Я не лгу вам.
– А что ты имеешь в виду, когда говоришь «богиня»?
Когда я рассказал ей про высшие умы, как их классифицируют эсхатологи, она засмеялась.
– Ну, Бог-то, наверное, есть. Или был – не помню уже. Но верить, что луна думает, – просто сумасшествие!
Внезапно она настороженно впилась в меня своими старыми глазами и задрожала, как лист на ветру. Сумасшедший вроде меня мог быть опасен и представлял угрозу ее долгожительству. Лазеры перевели свой прицел на меня. Такара посовещалась с компьютером и сказала:
– Луна состоит из элементов – углерода, водорода, кислорода и азота.
– Это все элементы белка, а нейросхемы компьютеров часто бывают белковыми.
– Какая разница, что из чего сделано? Мир и гармония – вот что важно. А ты угрожаешь нарушить нашу гармонию.
– Я не стану здесь задерживаться, если вам это неприятно.
Мне и самому не терпелось убраться с этой удушливой планеты.
– Хай, ты должен покинуть нас. Чем дольше ты здесь остаешься, тем опаснее делаешься. Завтра, хорошо? И пожалуйста, не надо больше говорить с детьми. Они напугаются, если услышат, что луна живая.
Я покинул этих людей, предоставив им наслаждаться их удовольствиями и их декадентской гармонией. В середине долгой ночи я улетел и снова ушел в мультиплекс. Мой путь вел меня внутрь, к центру мозга Тверди. Я преисполнился еще большей решимостью найти главный узел ее разума, если таковой существует. По мере своего продвижения я открывал все больше лунных мозгов. У одной горячей голубой звезды-гиганта тысяч десять лун слились вместе наподобие эмбриона. Я испытывал острое чувство, что вижу то, что видеть не должен, – как если бы застал свою мать обнаженной во время утренней ванны. Быть может, луны таким образом размножаются? Ответа у меня не было. Я не мог заглянуть в середину их скопления, поскольку там было черно, как в черной дыре. Я знал, что идти дальше опасно, но, вдохновленный перспективой увидеть зарождение новой божественной жизни, проложил маршрут прямо туда, в середину.
Сделав это, я тут же понял, что совершил элементарную ошибку. Вместо центра лунного скопления я попал в раскидистое дерево решений. Сто каналов открылись передо мной, разветвляясь на десять тысяч более мелких. Меня замутило от страха: у меня было всего несколько секунд на выбор нужной ветви, иначе я погиб.
Я мысленно соединился со своим кораблем и погрузился в замедленное время. Мысли завихрились у меня в мозгу, как снежинки на холодном ветру, время же, наоборот, сбавило темп своего бега. Передо мной протянулось длинное-предлинное мгновение, в которое я должен был доказать особо трудную маршрутную теорему. Я должен был доказать ее со всей доступной мне быстротой. Компьютер моделировал мои мысли и питал мою зрительную кору идеопластами, которые я вызывал в памяти. Кристаллические символы, сверкая перед моим внутренним взором, сцеплялись, выстраивались в доказательство теоремы. Каждый знак был уникален в своей красоте. Теорема фокусов, например, выглядела как свернутое рубиновое ожерелье, По мере доказательства оно соединилось с перистыми алмазными волокнами первой маршрутной леммы Лави. Моя мысль работала на полных оборотах, заставляя идеопласты застывать на месте. Замысловатые изумрудные глифы правила инвариантности, клинообразные руны сентенционных связующих и все прочие знаки складывались в трехмерную фигуру, проектируемую логикой и вдохновением. Чем быстрее я мыслил, тем быстрее, невесть откуда, возникали идеопласты, занимая свое место в конструкции. Такое преобразование символов в доказательство имеет особое название: мы именуем его цифровым штормом, ибо чисто математическое мышление затмевает все остальное, словно метель средизимней весной.
Пока цифровой шторм нес меня к моменту доказательства теоремы, я перешел в сон-время. Там я испытал неподдающееся ощущение упорядоченности – вся краса и весь ужас мультиплекса открылись передо мной. Цифровой шторм усиливался, ослепляя меня белым светом сон-времени. Далеко не в первый раз я задумался о природе этой временной разновидности и о том удивительном ментальном пространстве, которое мы называем мультиплексом. Что такое мультиплекс в действительности – объективная реальность, определяющая форму и состав внешней вселенной? Некоторые канторы (но не моя мать) верят в это – и верят, что при безупречно правильном использовании математики мы сможем объяснить вселенную до конца. Но канторы – чистые математики, а мы, пилоты, – нет. В мультиплексе нет совершенства, и многого мы в нем не понимаем.
Погруженный в сон-время, я осознал, что не понимаю, к какому типу относится дерево решений, в которое я попал. Я был близок к своему доказательству – мне оставалось только показать, что множество Лави есть подмножество инвариантного пространства. Но я не мог показать этого и не знал, почему. Казалось бы, что может быть проще? Дерево между тем разделилось сперва на миллион, потом на биллион веток, и меня прошиб пот. Сон-время перешло в жуткое, безымянное состояние, которое я про себя окрестил кошмар-временем. Я понял вдруг, что множество Лави не есть подмножество инвариантного пространства. Сердце у меня заколотилось, как у охваченного паникой ребенка. С паникой пришло отчаяние, и мое доказательство начало рассыпаться, как сложенная из льдинок фигура под наступившим на нее сапогом. Я понял, что доказательства нет и маршрута к точке выхода в реальное пространство не существует. Нет мне выхода ни к одной звезде – ни к ближней, ни к дальней. Мне досталось не просто трудное дерево – я попал (или был помещен) в бесконечное дерево решений. Конечные деревья даже самого худшего вида дают пилоту возможность найти правильный выход среди биллиона биллионов их разветвлений, но в бесконечном дереве правильного хода нет, и оно не позволяет выбраться к теплому солнечному свету реального пространства. Каждая его ветвь делится на десять септиллионов других и продолжает ветвиться в бесконечность. Из бесконечного дерева выйти нельзя. Мой мозг будет распадаться синапс за синапсом, и в конце концов я начну играть пальцами собственных ног, как малый ребенок. Я сойду с ума, ослепну от цифрового шторма, навеки застыну в сон-времени и буду вечно пускать слюни в бесконечности. Я могу, впрочем, отсоединиться от своего корабля и дать своему разуму успокоиться. Тогда не будет ничего – ничего, кроме пустого черного гроба, несущего меня в ад мультиплекса.
Я понял тогда, что лгал себе. Я не был готов рискнуть всем ради встречи с богиней и не был готов встретить смерть. Да, я выбрал свою судьбу добровольно и мог винить лишь себя и свою глупую гордость. Последней моей мыслью до того, как я стал слышать внутри голоса, было: «Почему человек рождается в мире лжи и самообмана?»
5 ТВЕРДЬ
Если бы мозг был настолько прост, что мы могли бы его понять, мы были бы так просты, что не смогли бы этого сделать.
Лайел Уотсон, эсхатолог Века ХолокостаГде-то написано, что первый человек, Гильгамеш, услышал внутри себя голос и решил, что это голос Бога. Я тоже слышал голоса и думал, что страх перед бесконечным деревом лишил меня рассудка.
Почему?
Это явный признак безумия, когда человек начинает слышать голоса, порожденные собственной тоской и одиночеством. Если, конечно, это не голос его корабля, стимулирующий его слуховой нерв и подающий звуки прямо ему в мозг.
Почему человек?
Но корабельный компьютер почти не имеет собственной воли и не способен выбирать ни слова, ни тембр голоса, когда обращается к пилоту. Он может принимать сигналы от других кораблей и переводить их в голоса, но не запрограммирован генерировать собственные сигналы.
Почему человек рождается?
Я знал, что мой компьютер не может получать сигналы от другого легкого корабля, поскольку в мультиплексе распространение сигналов невозможно. Зато возможно другое: возможно, что некоторые из нейросхем моего корабля ослабли и умерли. В этом случае с ума сошел корабль, а значит, и я, пока сопряжен с ним.
Почему человек рождается в мире лжи и самообмана?
Мне не нравилось, что мой корабль повторяет сокровеннейшие мои мысли, а эти его голоса, болтающие на несусветной смеси мертвых языков Старой Земли, меня просто ужасали. Некоторые из этих языков я знал по своей книге, другие были так же непонятны, как обонятельный язык Подруг Человека.
Шалом, инструмент вокале, ля илляха иль Алла тат твам оси, нес-па, кодомо-га, вакирамасу? Хай, и поидоша он дале, пой с аскози цель фоко ке льи аффина, и нарек он сие Твердью, унд зо вир бетретен, фойер-трункен – анест ду ден шопфер? Се я, Мэллори Рингесс.
Ну разве это не безумие – обзывать себя говорящим орудием, говорить, что я вошел в Твердь, «опьяненный огнем», что бы это не означало? Фразу «анест ду ден шопфер» я узнал. Это была строка стихотворения, написанного на старогерманском, и значила она нечто вроде: «Чувствуешь ли ты своего создателя?» Я «чувствовал», что мы с кораблем на пару спятили вконец – или же я действительно получаю сигналы через здешний искривленный мультиплекс. Потом я услышал:
Если рожден ты для чудных картин, Невидимых смертным очам, Будешь по свету бродить до седин, Счет теряя дням и ночам.Значит, Твердь и правда любит древнюю поэзию. Если кто-то и мог послать мне сигнал через мультиплекс, то только Она. Многочисленные голоса стали сливаться в один, по-своему женский, соблазнительный и тоскливый одновременно, красивый и печальный. Этот голос не был уверен, поймут его или нет. Слыша, как он перебирает мертвые наречия, я догадался, что Она хочет определить, который из этих языков мой родной. Но я отбросил эту мысль, как только она пришла мне в голову. Возможно, мне слишком сильно хотелось поговорить с Ней; возможно, я все-таки говорил сам с собой.
Нет, Мэллори, ты говоришь со мной.
– Но я вообще не говорю – только думаю.
Ты льстишь себе, полагая, что все мысли, которые рождаются у тебя в уме, верны.
– Так ты читаешь мои мысли?
Ты во мне, а я в тебе. Инь-ян, лингам-йони, вперед-назад. Я Твердь, но не твердая. Не всегда бываю такой.
– Что же ты такое?
Я горячка, я молния, я твой очищающий огонь.
– Не понимаю.
Ты человек – воистину ручей нечистый. Что сделал ты для того, чтобы очиститься?
Ну вот, подумал я, ты так жаждал встречи с высшим существом, а Она говорит с тобой загадками. Отвлекшись от мультиплекса и бесконечного дерева, я проверил корабельные нейросхемы. Все они были здоровы, и я нигде не мог обнаружить источник подаваемых Твердью сигналов.
Сигнала в твоем понимании нет. Есть только восприятие и прикосновение. Я смотрю в электрическое поле логики твоего корабля и тасую электроны, меняя голограмму по своему усмотрению. А твой компьютер, следуя моим мыслям, подает мой голос тебе в мозг. Я могла бы войти в твой мозг напрямую, но это испугало бы тебя.
Еще как испугало бы. Я и так уже был достаточно напуган. Я не хотел, чтобы нечто постороннее «тасовало» электроны моего мозга, наполняя меня своими образами и звуками, заставляя видеть, слышать, ощущать и обонять несуществующие вещи, подрывая самую основу моего восприятия реальности. С этой мыслью пришла другая, гораздо более тревожная: а что, если Твердь уже тасует электроны моего мозга? Если Она только говорит, что голос, который я слышу, исходит из компьютера? Я не знал, что и думать.
Да и мои ли это мысли? А может быть, Твердь играет со мной, заставляя меня в этом сомневаться? Или еще того хуже, все это бред сумасшедшего? Возможно, мой корабль распался, и я переживаю предсмертные мгновения, а Твердь – по непонятной причине – вторглась в мой мозг, чтобы создать иллюзию полного здоровья и трезвого ума. Возможно, я умер или просто сплю, возможно, я, что бы это «я» ни означало, – только то, что снится Тверди. Я знаю, что подобные мысли и страхи посещают всех, но очень мало кому доводилось беседовать с богиней. Думая о том, что Она сейчас у меня в мозгу, я испытывал ошеломляющее чувство потери себя. Боязнь лишиться собственной воли скручивала желудок узлом. Жуткий это был момент. Вселенная казалась мне ужасно ненадежным местом, где можно быть уверенным только в одном: я не хочу, что бы кто-то другой думал за меня.
Понимая мой страх и сомнение, Твердь объяснила, как она манипулирует материей через слои мультиплекса. Я понял это лишь в самом упрощенном смысле. Твердь создала новую математику для описания того, как Она перекраивает пространство-время. Ее теория взаимосвязанности была мне столь же недоступна, как демонстрация порядков бесконечности – какому-нибудь червяку. Я понимаю, что парадоксы квантовой механики объяснены давным-давно. Доказано, например, что оба фотона в паре фотонов остаются связанными между собой, как бы далеко они ни находились друг от друга в реальном пространстве. Если они даже разлетятся по разным концам вселенной, каждый из них будет «помнить» некоторые параметры своего близнеца, такие как спин и поляризация. Каждый мгновенно «сообразит», что он поляризуется горизонтально, а не вертикально. Из этого открытия механики вывели теорию о возможности передачи информации со скоростью выше световой, но, к стыду своему, так и не осуществили ее на практике. У них для этого чересчур мелкие мозги, а вот мозг Тверди беспределен. Кажется, Она нашла способ не только передавать информацию, но и манипулировать частицами через космическое пространство. Но я до сих пор не понимаю, как Она это делает.
– Я не понял твоего определения корреспондирующего пространства: изоморфно ли оно тому, что мы называем пространством Лави? Я не улавливаю… если б у меня было время!
В начале времен все частицы были сжаты вместе в одной точке.
– И я не помню формулы твоего уравнения поля. Это, должно быть…
Память – это все. Все частицы помнят мгновение первичного взрыва, когда родилась вселенная. В определенном смысле вселенная – это память и ничего больше.
– Значит, передача происходит быстрее света и теория передачи рушится? Я сто раз пытался это доказать, но…
Все во вселенной соткано из единой сверхсветовой ткани. Тот твам оси, ты есть оно[9].
– Я не понимаю.
Ты здесь не для того, чтобы понимать.
– Зачем же я, по-твоему, пересек полгалактики?
Ты здесь, чтоб преклонить колена.
– Что?
Ты здесь, чтоб преклонить колена. Это слова из одного старого стихотворения. Знаешь ты его?
– Нет, не знаю.
Экая жалость. Тогда тебе, возможно, придется не только преклонять колена, но и умереть.
– Я умру в бесконечном дереве – ведь выхода из него нет.
Другие до тебя тоже пропадали в этом дереве.
– Другие?
Голос богини стал вдруг высоким и звонким, как у маленькой девочки, и Ее слова полились мне в мозг, как звуки флейты:
Они ушли туда, где вечный свет, Лишь я все медлю, одинокий; Но в памяти о них укора нет, И светел образ их высокий.Умереть все равно придется – в глубине души ты это понимаешь. Не бойся.
– Что ж, пилоты гибнут, как говорят у нас. Я не боюсь.
Мне жаль, но ты боишься. С другими тоже было так.
– С кем это?
Восемь пилотов Ордена пытались проникнуть в мой мозг: Висент ей Тови, Эрендира Эде, Александравондила, Иши Мокку, Рикардо Лави, Джемму Флоуто, Атара с Темной Луны. И Джон Пенхаллегон, которого вы зовете Тихо.
– И ты их убила?
Разве ты понимаешь, что это значит – убивать? Устрица обволакивает раздражающую ее песчинку слоями перламутра, превращая ее в жемчужину, а я укрыла пилотов в разветвлениях дерева решений – всех, кроме одного.
– Что такое устрица?
Вместо ответа Твердь ввела в компьютерное пространство зрительно-осязательно-обонятельный образ. С помощью этой запретной телепатии – запретной для нас, пилотов – я воспринял устрицу так же, как Она. Я увидел мягкое студенистое существо, укрывающееся в двустворчатой раковине, которую оно могло открывать и закрывать произвольно. Мои пальцы сомкнулись почти непроизвольно, и я ощутил в руке твердую чашеобразную раковину, покрытую мокрым песком. Зубы, разомкнувшись сами по себе, вонзились в нежное мясо, и оно наполнило мой рот живыми соками и соленым вкусом моря. Я почувствовал густой тяжелый запах натурального белка и с хлюпаньем втянул в себя сырую живую плоть.
Вот что такое устрица.
– Нельзя убивать животных ради того, чтобы съесть их.
А ты, невинный мой, – прекрасная жемчужина в ожерелье времени. Понимаешь ли ты, что это такое – время? Те другие пилоты живы, как жива жемчужина в своем блеске и красоте, однако они не живут. Они умерли, но и в смерти остались живыми.
– Снова ты говоришь загадками.
Вся вселенная – это загадка.
– Ты играешь со мной.
Я люблю играть.
Внутренним зрением я увидел перед собой прозрачный светящийся куб, поделенный на восемь более мелких кубиков, в каждом их которых мелькали какие-то образы. Я присмотрелся к ним повнимательнее, и образы обрели четкость. В каждом кубе, кроме правого нижнего, плавала отделенная от туловища голова, как пилот плавает в кабине своего корабля. Каждое из лиц искажала гримаса ужаса и безумия. Все они с разинутыми ртами смотрели на меня – сквозь меня, – словно меня тут не было. Я узнал эти лица – истории меня обучали добросовестно. Это были Висент ви Тови, Иши Мокку и другие, побывавшие здесь до меня.
Что такое смерть, Мэллори? Каждый из этих пилотов пребывает в своей ветви дерева решений. Они затеряны и забыты так же прочно, как поэмы Эсхила. Но когда-нибудь я вспомню их.
Я задавал себе вопрос, как Ей удалось завлечь пилотов (и меня в том числе) в бесконечное дерево. Есть способы, позволяющие произвольно открыть окно в мультиплекс и послать неподготовленного, не имеющего маршрута пилота в такое дерево. Но Она ими не воспользовалась. Она сделала что-то другое, что-то вроде чуда. Как это возможно? Мне очень хотелось знать. Неужели Ее сознание действительно способно лепить мультиплекс, разминая ткань объективной реальности, как ребенок лепит завитушки из глины?
Я не знал этого и не мог знать. Я видел меньше миллионной Ее части, а Ей, должно быть, и такой ничтожно малой доли хватало, чтобы вести со мной эту телепатическую беседу. Я был как песчинка, пытающаяся понять океан по нескольким водоворотам и течениям, в которые ей довелось попасть; как цветок, желающий осмыслить космос по слабому звездному свету, озаряющему его лепестки. Я и по сей день ищу слова, чтобы описать впечатление, произведенное на меня могуществом Тверди, но таких слов нет. Я узнал – если можно так сказать о том, что происходит во вспышке внезапного озарения, – мне дано было понять, что Она манипулирует целыми науками и философскими системам, как я – словами, из которых составляю предложения. Но Ее «предложения» так огромны и полны смысла, точно их произнесла сама вселенная. Истины и пути познания, постигнутые Ею, намного опережают даже фравашийскую метафилософию. Она, богиня, играет концепциями, способными перекроить вселенную, концепциями, непостижимыми для человеческого разума. Большинство представителей моего вида проводят свои дни, копошась во мраке, Она же решает задачи и прокладывает пути, которые нам даже не снились, – и, хуже того, делает это с такой же легкостью, как я перемножаю один на два.
Механики часто со скорбью ссылаются на древнейший свой парадокс: нити, из которых соткана вселенная, столь бесконечно тонки, что мы при любой попытке исследовать их нарушаем их свойства. Самый акт наблюдения меняет то, что служит его объектом. На Старой Земле, по преданию, был царь, так извративший атомную структуру окружающих его вещей, что они при каждом его прикосновении превращались в золото. Этот сказочный царь не мог ни есть, ни пить, поскольку все, и пища и вино, имело вкус золота. Механики подобны этому царю: все, к чему они «прикасаются», превращается в бесформенные комки материи, в электроны, кварки и нейтрино. В глубокую реальность им дано заглянуть не иначе чем через искривляющие золотые линзы своих приборов или посредством своих золотых уравнений. Сущность же неким непознаваемым образом преодолела это препятствие. Видеть реальность такой, какая она реально есть, – в этом, пожалуй, и состоит привилегия божественного разума.
Видишь ты этих пилотов, Мэллори Рингесс?
Я видел безумие и хаос. Передо мной в кубах плавали головы живых мертвецов. Черный, с резкими чертами лица Джемму Флоуто пускал слюни с тонких губ.
– Ты поймала их в ловушку, а значит, можешь освободить. И меня тоже.
Но они свободны. Или будут свободны, когда вселенная переделает себя по-иному. Что было, то будет.
– Так говорят скраеры.
Относительно времени: когда вселенная расширится так, что две соседние звезды станут также далеки друг от друга, как теперешние галактические скопления Журавля и Гончих Псов, по прошествии биллиона ваших лет, эти пилоты останутся такими же, как ты их видишь, – застывшими в вечном «сейчас». Легче остановить время, чем включить его вновь, верно? Легче убивать, чем созидать? Но созидание не знает времени; созидание – это все.
– Эти пилоты в дереве, где бесконечность переходит в безумие, – видела ли ты их безумные, застывшие лица?
От безумия средства нет. Это цена, которую некоторым приходится платить.
– Я чувствую, что сам схожу с ума в этой ветви, которая делится надвое и еще раз надвое, а ты говоришь, что нет способа выйти из бесконечности, и прекрати шутить с моим разумом!
О нет, Мэллори, неистовый мой, мы еще поиграем, и я покажу тебе, что такое миг вечности – а быть может, и безумия тоже. Хочешь присоединиться к другим пилотам? Посмотри хорошенько – тот пустой куб приготовлен для тебя.
Тогда я заметил то, на что должен был сразу же обратить внимание: в Тверди пропало восемь пилотов, но в кубах плавало только семь голов, и среди них не было огромной, похожей на моржовую головы Тихо.
– Что ты сделала с Тихо?
Я и есть Тихо, а Тихо – это я, часть меня.
– Не понял.
Тихо существует в моей памяти.
Она снова заговорила девчоночьим голосом, но на сей раз он был не столь звонким и не столь уж девчоночьим. Невинные переливы флейты окрашивались темными, зловещими нотами:
Но между кедров, полных тишиной, Расщелина по склону ниспадала. О, никогда под бледною лупой Так пышен не был тот уют лесной, Где женщина о демоне рыдала![10]Он был дикарь под шелком своих одежд, прекрасный дикарь, демон-любовник. Познакомившись с его неистовым разумом, я отделила его мозг от тела и скопировала синапс за синапсом в маленьком кармашке одного из моих мелких мозгов. Вот он, Джон Пенхаллегон, – смотри.
И передо мной, прямо в кабине, внезапно появилось изображение Тихо. Он был так близко от меня, что я мог бы потрогать его распухший красный нос. Лицо у него было мясистое, желтоватые резцы не помещались в толстогубом рту. Черные блестящие волосы космами падали на спину, брыли свисали ниже заросшего щетиной подбородка.
– Далеко ли летишь, пилот? – спросил он. Так, по традиции, приветствуют друг друга пилоты, встречаясь в далеких местах. Его голос гудел в моей кабине, как колокол. Твердь, очевидно, создавала голограммы и звуковые волны столь же легко, как тасовала электроны. – Шалом. – Он сделал своими красными потными пальцами тайный знак, известный только пилотам нашего Ордена.
– Не можешь ты быть Тихо, – сказал я вслух и вздрогнул от звука собственного голоса. – Тихо умер.
– Я Джон Пенхаллегон, такой же живой, как и ты. Даже живее, потому что меня убить не так-то легко.
– Ты – голос Тверди. – Я вытер пот со лба.
– Я и то и другое.
– Это невозможно.
– Не говори так уверенно о том, что возможно, а что нет. Уверенность убивает, я-то знаю.
Я почесал нос и сказал:
– Значит, Твердь приняла в себя память и мышление Тихо – в это я могу поверить. Но Тихо не может быть живым, не может действовать по собственной воле – ведь так? Ведь ты не можешь? Раз ты только часть ее… Тверди?
Тихо – вернее, его изображение, напомнил я себе – захохотал так, что на губах запузырилась слюна.
– Нет, дорогой мой пилот, я такой же, как ты, как все люди. Иногда действую по собственной воле, а иногда и нет.
– Значит, ты не такой, как я, – вырвалось у меня. – У меня есть свобода выбора, как у каждого человека.
– Выходит, ты разбил своему Главному Пилоту нос по собственному выбору?
Испуганный и разозленный тем, что Твердь сумела извлечь это воспоминание из моего мозга, я сказал сердито:
– Соли раздразнил меня, и я вышел из себя.
Тихо осушил мокрые губы и потер руки – я слышал, как шуршат его ладони.
– Допустим. Соли тебя раздразнил. Значит, выбирал он, а не ты.
– Ты передергиваешь. Он так разозлил меня, что мне захотелось его ударить.
– Ну да – он разозлил.
– Я мог бы сдержаться.
– В самом деле?
В порыве злости я выпалил:
– Конечно. Просто я так взбесился, что мне стало все равно.
– Тебе, должно быть, нравится впадать в бешенство.
– Нет, я ненавижу это, всегда ненавидел. Но такой уж я есть.
– Тебе, должно быть, нравится, что ты такой.
Я потряс головой.
– Нет, ты не понимаешь. Я пытался… пытаюсь, но стоит мне разозлиться… это сидит во мне, понятно? У всех людей свои недостатки.
– И никто не поступает по собственной воле.
Кровь бросилась мне в лицо и во рту пересохло. Тихо, похоже, тоже старался вывести меня из себя. Я стал дышать мерно, глядя на световые волны, составляющие его изображение. Его одежда в темноте выглядела как светящийся дым.
– А богиня? – спросил я. – Она поступает?
Тихо снова засмеялся и сказал:
– Обладает ли собака природой Будды? Ты быстро соображаешь, мой пилот, но ты здесь не затем, чтобы экзаменовать богиню. Ты сам должен выдержать испытание.
– Испытание… какое?
– На степень своих возможностей.
Как я узнал вскоре, Твердь испытывала меня с тех самых пор, как я пересек границу Ее огромного мозга. Псевдотороид и сегментированные пространства были Ее работой, как и бесконечное дерево, взявшее меня в плен. Она проверяла мою математическую подготовленность и – как сказал мне Тихо – мое мужество. Не последним из этих испытаний была моя способность слушать Ее божественный голос, не потерявшись от ужаса. Я не понимал, зачем Ей вообще нужно испытывать меня – разве что ради игры. И зачем Ей нужно было использовать для этого Тихо, когда Ей достаточно было заглянуть в мой мозг, чтобы увидеть все, что там есть? Не успел я обо всем этом подумать, как голос богини загремел у меня в голове:
Тысячи лет назад ваши эсхатологи составили схему молекулы ДНК с точностью до последнего атома углерода, но до сих пор не знают правил, по которым ДНК развертывает жизнь и кодирует новые формы жизни. Они все еще проходят грамматику ДНК. Так и с мозгом. Представь себе ребенка, который выучил азбуку, но не знает ни значения слов, ни правил, по которым они складываются вместе. Понять мозг по триллионам его синапсов – все равно что пытаться расшифровать стихотворение по начертанию отдельных букв. Ты и есть стихотворение. Возможности безграничны. Ты, мой Мэллори, всегда останешься для меня тайной.
– Я не хочу, чтобы меня испытывали.
Вся жизнь – это испытание.
– Если я выдержу, ты освободишь меня из этого дерева?
Ты волен хоть сейчас слезть с него, как обезьяна.
– Но я не знаю, как это сделать.
Тем хуже. Если ты выдержишь, сможешь задать мне три вопроса – любых вопроса. Есть такая старая-старая игра.
– А если провалюсь?
Тогда свет погаснет. Кстати, а куда девается свет, когда он гаснет?
Я сжал кулаки так, что ногти впились ладони. Я не хотел подвергаться никаким испытаниям.
– Ну так как, пилот, начнем? – спросил Тихо, почесывая свои брыли.
– Не знаю.
Не стану перечислять здесь многочисленные тесты, которым подвергал меня Тихо – то есть Твердь. Некоторые, вроде общеобразовательного, как назвал его Тихо, были длинными, скрупулезными и нудными. Суть других, например хаотического, я понимал с трудом. Был тест на умение рассуждать и тест на парадоксы. За ними следовал, помнится, тест на реальность, во время которого Тихо подвергал сомнению все мои взгляды, привычки и верования, бомбардируя меня чуждыми идеями, никогда прежде не приходившими мне в голову. Я чуть не свихнулся на этом. Я не понимал, зачем мне все это нужно, даже после объяснения, данного Тихо:
– Когда-нибудь, мой сердитый пилот, ты можешь получить большую власть – возможно, станешь Главным Пилотом – и тебе придется смотреть на вещи с разных точек зрения.
– Меня и собственная вполне устраивает.
– И все же… и все же…
В голове у меня вдруг зазвучали постулаты учения знаменитого кантора Александара Самумского, Александара Диего Соли, давно умершего отца Леопольда Соли. Я весь, с головой и потрохами, погрузился в религиозную доктрину секты, именующей себя Друзьями Бога. Я видел вселенную темно-серыми глазами Александара. Это была холодная вселенная, не дающая уверенности ни в чем, кроме сотворения математики. Все созданное помимо нее в реальности не существовало. Был, правда, человек, но что такое человек, в конце концов? Создание Эльдрии, которых, в свою очередь, создала Старшая Эльдрия? Кто тогда создал этих последних? Самая Старшая Эльдрия?
Я досконально постиг странную теологию Александара Диего Соли. Известно, что первый Главный Кантор, великий Георг Кантор[11], с необычайным изяществом доказал, что бесконечность целых чисел – которую он назвал алефнуль – есть часть высшей бесконечности действительных чисел. А эта бесконечность входит в еще более высшую бесконечность алеф-два, и так далее – целая иерархия бесконечностей, бесконечность бесконечностей. Самумские канторы верят, что с иерархией богов дело обстоит так же, как с числами. В самом деле, как учил Александар своего сына Леопольда, если бог существует, то кто же создал его (или ее?). Если же существует бог высшего порядка, назовем его бог-2, то должен быть и бог-3, и бог-4, и так далее. Существует алеф-миллион и алеф-сентиллион, но конца нет, нет высочайшей бесконечности, а следовательно, нет и Бога. Не может быть истинного Бога, а значит, нет и истинного творения. Эта логика столь же сурова и беспощадна, как сам Александар Самумский: если нет истинного творения, то нет и истинной реальности. А если ничего реального нет, то и человек нереален: в фундаментальном смысле его вообще не существует. Реальность – всего лишь сон, меньше чем сон, потому что сон должен кому-то сниться. Всякая другая теория противоречит здравому смыслу. Поэтому теория о существовании личности есть грех, тягчайший из грехов, и лучше отрезать себе язык, чем произнести слово «я».
Я перенесся куда-то в пространстве и времени и увидел горный туман над каменным домом Александара на Самуме. Я находился в крошечной, голой, безупречно опрятной комнате, и передо мной стоял на коленях мальчик. Я был Александаром Самумским, а мальчик был Соли.
– Видишь? – спросил Тихо.
И вложил в мою память воспоминания о суровом воспитании, которое дал Александар своему сыну.
– Ты все понял, Леопольд? Ты никогда больше не должен говорить этого слова.
– Какого слова, отец?
– Не играй со мной, слышишь?
– Да, отец, только не бей меня.
– Да кто ты такой, чтобы тебя наказывать?
– Никто, отец… никто.
– Это правда, а поскольку это правда, нет причины с тобой разговаривать, не так ли?
– Но молчание ужасно, отец, хуже всякого наказания. Как же ты будешь учить меня, если все время молчишь?
– А зачем нужно учить тебя чему-то?
– Потому что математика – единственная истинная реальность, только… как же это возможно? Если мы действительно ничто, как же мы можем создавать математику?
– Тебе уже было сказано. Математика не создается. Она не материальна, как дерево или луч света, и не является созданием разума. Математика просто есть. Это единственное, что есть. Можешь думать о Боге как о безвременной, вечной вселенной математики.
– Но как это может быть, если… я просто не пони…
– Что ты сказал?!
– Я не понимаю!
– И продолжаешь кощунствовать. С тобой больше не будут разговаривать.
– Я, я, я, я… Отец! Не надо!
Непонятно было, откуда Твердь взяла эти воспоминания Александара Самумского. (А может быть, воспоминания Соли?) Осталось также неизвестным, откуда Она так хорошо разбиралась в еще более странной реальности аутистов или калечащих свой мозг афазиков. Но какими бы странными эти реальности ни были – а мысленные ландшафты аутиста вызывали крайне странное впечатление, – это все-таки были человеческие реальности. Люди, в принципе, мыслят одинаково. Разные личности или разные группы могут думать по-разному, но сам способ нашего мышления ограничен глубокими структурами нашего слишком человеческого мозга. Это и проклятие, и благословение. Мы все заключены в наших черепных коробках, мы пленники своего разума, каким он стал за миллион лет эволюции. Но это уютная тюрьма со знакомыми белыми стенами, и ее воздух, хотя и затхлый, пригоден для нашего дыхания. Если мы покинем эту тюрьму хотя бы на миг и ощутим, что значит видеть и познавать по-новому, мы начнем задыхаться. За ее стенами нас ждут чудеса, невообразимая красота и, как мне вскоре предстояло убедиться, безумие.
– Ну вот, – сказал Тихо, – ты ознакомился с реальностями Александара Самумского и Ямме-солипсиста. А теперь инопланетяне.
Тихо – вернее, световые волны, из которых он состоял – заколебался. Его красный нос стал фиолетовым и вытянулся, точно глиняный, в длинный гибкий хобот. Лоб вздулся, как переспелый кровоплод, подбородок и щеки превратились в коробчатую структуру, прорезанную десятками узких розовых щелей. Одежда исчезла как дым, и серое обвисшее тело Тихо заиграло буграми мускулов, поросших коричневым и алым мехом. Внушительные половые органы увяли, съежились и исчезли в красной складке кожи между толстых ног. В моей кабине формировалось инопланетное существо. Вскоре я узнал в нем одну из представительниц дружелюбного (но хитрого) вида, известного как Подруги Человека.
Она подняла хобот, и из розовых щелей ее речевого органа вышло облако эфиров, кетонов и цветочных ароматов. К смраду тухлого мяса примешивалась сладость снежных далий. С голубой спиралью мастер-куртизанки, обвитой вокруг хобота, она показалась мне похожей на приятельницу (и, по слухам, любовницу Соли), Жасмин Оранж.
Это и есть Жасмин Оранж. Смотри.
Я смотрел на Жасмин Оранж ее собственными глазами: я сам стал ею. Я был Жасмин Оранж и Мэллори Рингессом одновременно – смотрел на инопланетянку человеческими глазами и обонял своим хоботом запахи человека. Потом мое сознание покинуло человеческое тело, и краски исчезли. Мой коричневый и алый мех стал просто темно– и светло-серым. В кабине своего корабля я видел молодого бородатого человека-пилота – себя самого. Я прислушивался к голосу Тверди, но не слышал никаких звуков ни внутри, ни снаружи, ибо был глух, как бревно. Я вообще не знал, что такое звук. Я знал только запахи, чудесный, изменчивый мир пахучих молекул. Когда я произносил(а) свое прелестное имя, пахло жасмином и раздавленными апельсинами. Изогнув хобот, я впивала запахи чеснока и снежного винограда. Я поздоровалась с человеком, Мэллори Рингессом, а он поздоровался со мной. Как это странно и безнадежно глупо – составлять смысловые единицы путем дискретной прогрессии линейных «звуков», что бы ни означало это понятие – «звуки». И как ограничены возможности их складывания – точно бусы нанизываешь на нитку. Как люди вообще могут думать, пробираясь в своих мыслях от звука к звуку и от слова к слову, как букашка, ползущая по бусинам ожерелья? Как это медленно!
Желая поговорить с пилотом Рингессом, я подняла свой хобот и выпустила облако приятных ароматов – по сравнению с человеческой фразой это, наверное, все равно что симфония по сравнению с детской погремушкой. Но он, не имея нюха, почти ничего не понял. Да, Рингесс, сказала я ему, пахучие символы не фиксируются жестко, как, например, звуки в слове «пурпур», и означают не всегда одно и то же. Разве смысл не столь же изменчив, как запахи моря? Разве ты не ощущаешь очертания крошечных пирамид мяты, ванильных бобов и мускуса в этом облаке запахов? Известно ли тебе, что могут означать запахи жасмина, олаты и апельсина? Это может значить «я Жасмин Оранж, любовница человека» или «море сегодня спокойно», в зависимости от расположения одной пирамиды по отношению к другим. Способен ли ты воспринять смысл как единое целое? А логическую структуру? Доступны ли тебе сложности языка, мой Рингесс?
Мысли распускаются, как арктические маки под солнцем, перерастают в другие, переплетаются ароматными звеньями ассоциаций, запахи жареного мяса и мокрого меха плывут вперед, вбок и вниз, разрастаясь в сладко пахнущие поля новых логических структур и новых истин, которые ты должен вдыхать, как прохладную мяту, чтобы избавиться от своих прогорклых прямолинейных понятий о логике, причинности и времени. Время – это не линия; события твоей жизни напоминают скорее клубок запахов, навеки закупоренных в бутылке. Стоит нюхнуть, и ты ощутишь сразу весь клубок вместо отдельных ароматов. Понимаешь ли ты все эти тонкости? Осмелишься ли открыть бутылку? Нет, у тебя нюха нет, и ты не понимаешь.
Он понимает все, что структура его мозга позволяет ему понять.
Я понимал одно: человек, который задержится слишком надолго в мозгу чуждого ему вида, определенно сойдет с ума. Я закрыл глаза и зажал ноздри, спасаясь от умопомрачительных запахов, наполняющих мою кабину. Да, мои глаза, мои ноздри! Открыв их, я снова стал человеком. Образ инопланетянки исчез, хотя запахи ванильных бобов и червячного дерева еще чувствовались. Я был один в своем потном волосатом человеческом теле, в своем старом мозгу, который, как мне казалось, я так хорошо знал.
– Их логика и понятие истины так отличаются от наших – я и не предполагал.
Глубинная структура их мозга действительно другая, но логика на более глубоком уровне та же самая.
– Мне она непонятна.
Мало кто из вашего Ордена по-настоящему понимает Подруг Человека.
Я, как и все, относился с подозрением к этим экзотическим инопланетным проституткам. Считалось, что они соблазняют мужчин своими мощными возбуждающими запахами с целью обратить их, одурманенных сексом, в свою загадочную веру. Теперь я видел – впрочем, это не то слово, – я ощущал, что цель их гораздо глубже, чем обращение человека в свою веру: они хотят изменить самого человека.
Но нет задачи трудней, чем изменить человеческий разум. У вас такое низкое самосознание.
– Человек должен знать, кто он есть – так говорит Бардо.
Что такое Бардо?
Фыркая, чтобы очистить свой нос и ум от беспокойных запахов, я подумал о Бардо и о его всегда ясном, хотя и чересчур прямом понимании себя самого. Вот человек, решившийся насладиться жизнью, как еще никто до него.
Твой Бардо судит о себе слишком узко. Даже у него есть свои возможности.
При последующих тестах я косвенно, дедуктивным путем узнал многое о том, как Твердь понимает себя самое. Каждый Ее лунный мозг, насколько я понял, был одновременно островом сознания и частью большего целого. Каждая луна при необходимости могла делиться и дробиться на более мелкие единицы, триллионы единиц разума, которые перемещались и собирались вместе, как тучи песка. Я предполагал, что моей экзаменовкой занимается мельчайшая частица одной из Ее малых лун. И все же мне парадоксально давали понять, что в некотором смысле Она вся находится у меня в мозгу, как я – у Нее. Когда я пошутил по поводу странной топологии, которую предполагает такой парадокс. Ее мысли нахлынули волной:
Ты как Тихо – только ты играешь, а он свирепствует.
– Да? Иногда я сам не знаю, какой я.
Ты такой, как есть – человек, открытый своим возможностям.
– Другие говорят, что я слишком многое считаю возможным. Они говорят, что умный человек должен знать свои пределы.
Другие не проходили теста на реальность.
Я порадовался, что мне не придется больше вживаться в чужую реальность, и ощутил немалое довольство собой – но длилось оно не дольше мгновения ока.
А теперь последнее испытание.
– Какое?
Назовем его Тестом Судьбы.
Воздух передо мной заколебался и приобрел очертания высокой женщины в белой одежде. Ее прямые, блестящие черные волосы пахли снежной далией. Она повернулась ко мне, и я не мог больше отвести глаз от ее лица. Я хорошо знал этот орлиный нос, высокие скулы, а прежде всего – гладкие впадины на месте глаз; это было лицо моей прекрасной Катарины.
Я рассердился на то, что Твердь извлекла это глубоко личное воспоминание из моей памяти. Катарина улыбнулась мне, слегка склонив голову, и я понадеялся, что Твердь не услышит слова старинного стихотворения, которые повисли, непроизнесенные, у меня на губах:
Люблю, о бледная, воздушный мост бровей, Связующий два озера печали, Те, что влекут в бездонности своей Не к смерти, нет – в иные дали.Голосом таинственным и глубоким, где пророческие предчувствия Катарины сочетались с трезвыми рассуждениями Тверди, изображение произнесло:
– Да, мой Мэллори, существует иной путь кроме того, что ведет к смерти. Я рада, что ты любишь поэзию.
– Что такое Тест Судьбы? – спросил я вслух.
В темных пустотах под ее черными бровями появился намек на цвет. Я подумал сначала, что это просто аберрация световых волн, но нет: пустые глазницы налились колышащейся синевой. Катарина моргнула новыми глазами, блестящими, как жидкий темно-синий сапфир, взглянула ими на меня и сказала:
– Ради тебя я отреклась от зрения более глубокого… Видишь ли ты свою судьбу? Теперь, когда у меня снова есть глаза, я ослепла и не могу видеть, что… Какое славное у тебя лицо! Если б только я могла тебя сохранить! Тест Судьбы – это тест-причуда, тест-каприз. Я прочту тебе начальные строки трех старинных четверостиший, и если ты сможешь назвать две последние строки, свет не погаснет.
– Но это же абсурд! Значит, моя жизнь будет зависеть от каких-то дурацких стихов?
Я закусил отросшие в путешествии усы, взбешенный тем, что моя судьба – моя жизнь и моя смерть – будет определяться столь несерьезным тестом. Потом я вспомнил, что воины-поэты – секта наемных убийц, существующая в некоторых Цивилизованных Мирах – тоже спрашивают у своей жертвы стихи, прежде чем убить. Зачем нужно богине перенимать обычаи воинов-поэтов? Или Она переняла их тысячи лет назад, когда воины-поэты поклонялись Ей? Кто знает.
– А Тихо? – спросил я, скрипнув зубами. – Он-то твоих стихов, надо думать, не знал?
Катарина с таинственной скраерской улыбкой покачала головой.
– Нет, знал – все, кроме последнего, само собой разумеется. Он сам выбрал Свою судьбу, понимаешь?
Я не понимал. Я потер свои сухие глаза, а она вздохнула и прочла с печалью в голосе:
Так много молодых людей Лишились бытия…Она смотрела на меня, словно ожидая, что я тут же закончу строфу. Но я не мог. Грудь вдруг стеснило, и стало трудно дышать. Память моя была чиста, как снежное поле.
Так много молодых людей Лишились бытия…Я был пуст и мучился, потому что определенно читал эти стихи. Это были строки из длинной поэмы, расположенной в третьей четверти книги Хранителя Времени. Закрыв глаза, я увидел на странице девятьсот десять заглавие этой поэмы: «Сказание о Старом Пилоте», и повествовалось в ней о жизни, смерти и искуплении. Я пытался вызвать в памяти длинные последовательности черных букв и наложить их на белую пустоту в моем мозгу, как поэт некогда набрасывал на белую бумагу. Но ничего не выходило. Хотя в Борхе я вместе с другими послушниками проходил тренинг по мнемонике (как и по многим другим искусствам), мнемоником я не был. Я горько и далеко не впервые сожалел, что не обладаю абсолютной «зрительной памятью», когда любой образ, запечатленный глазом, вызывается по желанию перед внутренним взором в цвете и мельчайших подробностях.
Катарина с лицом, принявшим оттенок утрадесского мрамора, сказала:
– Я повторю эти строки еще раз. Ты должен ответить или… – Положив руку на горло, она прочла голосом ясным, как колокол Ресы:
Так много молодых людей Лишились бытия…Я вспомнил, что Хранитель Времени велел мне перечитывать стихи до тех пор, пока я не начну слышать их в своем сердце. Я закрыл свой внутренний глаз перед сумятицей черных букв, которые пытался разглядеть. Мнемоники учат, что у памяти много путей. Все записано, говорят они, и ничто не забывается. Я вслушался в музыку и ритм прочитанных Катариной строк. Во мне тут же зазвучали последующие слова, и я повторил то, что услышал сердцем:
Так много молодых людей Лишились бытия, А склизких тварей миллион Живет – и с ними я.[12]Образ Катарины улыбнулся, как будто она осталась довольна. Мне пришлось напомнить себе, что это не настоящая Катарина, а ее воссозданный Твердью облик. Вернее, моя несовершенная память о ней, высосанная из моего мозга. Я понимал, что знаю разве что сотую часть настоящей Катарины. Я знал ее длинные твердые пальцы и глубину меж ее ног, знал ее потаенную жгучую жажду красоты и наслаждения (мне казалось, что для нее они были одним и тем же); знал, как сладостно звучит ее голос, когда она поет свои печальные колдовские песни, но в душу ей мне не удалось заглянуть. Как все скраеры, она была обучена глушить свои страсти и страхи мокрым одеялом внешнего спокойствия. Я не знал, что лежит там внизу – а если бы даже и знал, кто я такой, чтобы вместить в себя душу женщины? Я не мог этого, и потому образ Катарины, воссозданный по моей памяти, был не совсем верен. Настоящая Катарина заставляла терять голову, изображение заигрывало; Катарина любила стихи и видения будущего ради их самих, изображение использовало их в собственных целях. В середине изображения скрывалась могущественная, но не абсолютно всеведущая сущность, играющая плотью и разумом живого человека; в середине Катарины скрывалась… Катарина.
Я был еще зол и поэтому сказал сердито:
– Не хочу больше играть в эти утайки.
Катарина снова улыбнулась и сказала:
– Но тебе осталось еще два стихотворения.
– Тебе должно быть известно, какие стихи я знаю, а какие нет.
– Нет, я не вижу… не знаю.
– Ты должна знать, – настаивал я.
– Разве я не могу выбирать, что хочу знать, а что нет? Так гораздо интереснее, мой Мэллори.
– Это предопределено заранее, не так ли?
– Все предопределено заранее. Что было, то будет.
– Скраерский треп.
– На то я и скраер.
– Ты богиня, и ты уже предрешила исход этой игры.
– Предрешить ничего нельзя – в конечном счете мы сами выбираем свое будущее.
Я сжал кулаки.
– До чего же я ненавижу скраерский треп и твои якобы глубокие парадоксы!
– Однако твои математические парадоксы приносят тебе удовольствие.
– Это другое дело.
Она заслонила ладонью свои сияющие глаза, словно обожженная их внутренним светом, и сказала:
– Продолжим. Эти стихи написаны древним скраером, который не мог знать, что Экстр будет взрываться:
Звезда упадет и другая, Но сколько б ни пало их впредь…Я закончил:
На пологе неба, я знаю, Не станет их меньше гореть.– Но ведь звезды все-таки гаснут? Экстр растет, и никто не знает почему.
– Надо что-то сделать, чтобы остановить его рост, – сказала она. – Будет очень непоэтично, если все звезды погаснут.
Я отвел волосы с глаз и задал вопрос, над которым бились лучшие умы нашего Ордена:
– Почему Экстр взрывается?
Изображение Катарины улыбнулось.
– Если и на следующий раз ответишь правильно, можешь спросить меня и об этом, и о чем тебе будет угодно. О, это чудесные стихи! – Она захлопала в ладоши с восторгом девочки, собирающейся вручить подружке подарок на день рождения, и в воздухе прозвенели хорошо знакомые мне слова:
Тигр, о тигр, светло горящий В глубине полночной чащи!Я свободен! Твердь устами простой голограммы прочла первые две строчки моего любимого стихотворения, и я свободен. Осталось только назвать две следующие, и я получу право спросить Ее, как может пилот найти выход из бесконечного дерева. (Я ни разу не усомнился в том, что Она сдержит обещание и ответит на мои вопросы – сам не знаю почему.) С еще не просохшими на лбу каплями пота я засмеялся и прочел:
Тигр, о тигр, светло горящий В глубине полночной чащи! Кто мог задумать огневой Соразмерный образ твой?Я смеялся, счастливый, как никогда прежде. (Странно, что избавление от угрозы немедленной смерти вызывает такую эйфорию. Я мог бы дать старым, замшелым академикам нашего Ордена, изнывающим от скуки, хороший совет: рискните своей жизнью однажды ночью, и каждый миг вашего следующего дня будет наполнен сладкой музыкой бытия.)
Изображение Катарины смотрело на меня. Было в ней что-то непреодолимо влекущее, почти не поддающееся описанию. Мне казалось, что эта Катарина пребывает в мире с собой и вселенной – в мире, который настоящей Катарине испытать не дано.
Она закрыла глаза и сказала:
– Нет, неверно. Я назвала тебе начальные строчки последней строфы, а не первой.
Мне думается, что в тот миг мое сердце на какое-то время, остановилось. Охваченный паникой, я сказал:
– Но ведь первая строфа идентична последней.
– Нет. Первые две строчки у них идентичны, четвертые тоже, а третьи отличаются одна от другой одним-единственным словом.
– Откуда мне тогда было знать, какую строфу ты цитировала, раз первые две строчки у них идентичны?
– Это не тест на знание, а тест-каприз, как я тебе говорила. Но поскольку это мой каприз, я дам тебе еще один шанс. – И с глазами, переливающимися кобальтово-индиговым огнем, она повторила:
Тигр, о тигр, светло горящий В глубине полночной чащи!Я погиб. Я очень ясно, так ясно, как если бы обладал абсолютной зрительной памятью, помнил каждую букву и каждое слово этого странного стихотворения. Я все прочел верно – я был уверен, что первая и последняя строфы идентичны. Я услышал снова:
Тигр, о тигр, светло горящий В глубине полночной чащи! Кто…– Так как же звучит третья строка, Мэллори? Та, которую написал поэт, а не та, что напечатана в твоей книге?
Кто знает – может, древние академики, переписывая стихотворение из одной книги в другую (или с книги на компьютер), совершили ошибку? Быть может, это произошло в последние дни века Холокоста. Я легко мог представить себе древнего историка, женщину, торопящуюся сохранить этот бесценный шедевр, пока лучевая болезнь еще не доконала ее, и в спешке заменяющую единственное (но жизненно важное) слово. А быть может, ошибка была допущена в суматохе Веков Роения: может, какой-нибудь ревизионист, по ему только ведомой причине, вздумал заменить это слово.
Каким бы образом ни произошла эта ошибка, мне отчаянно требовалось изобрести – или вспомнить – первоначальное слово. Я снова прибег к своему приему повторения сердцем, но из этого ничего не вышло. Я использовал другую мнемоническую технику – безрезультатно. Уж лучше было сообразить, какое именно слово заменено, и подставить на его место любое другое – наугад. Тут по крайней мере имелась вероятность, хотя и крохотная, что я отгадаю верно.
Катарина, зажмурив глаза, облизнула губы и спросила:
– Третья строка, Мэллори. Назови мне ее или мне придется выделить в своем мозгу кармашек, где я скопирую твой.
От каприза Тверди меня спас Хранитель Времени. Скрипя зубами от досады и отчаяния, я случайно вспомнил о нем – возможно, потому, что именно он всучил мне эту книгу, полную ошибок. Я вспомнил, как он читал это самое стихотворение, и наконец-то услышал слова в своем сердце. Были ли стихи, которые декламировал он, подлинными? И если да, то откуда он знал более старый вариант? Было в нем нечто очень подозрительное и даже загадочное, в Хранителе Времени. Почему он выбрал те же самые стихи, что и богиня? Может быть, он, будучи молодым, побывал в сердце Тверди и Она спросила у него те же строки? То, что он прорычал мне, действительно отличалось от стихов, напечатанных в книге, одним только словом.
Я стиснул руки, набрал в грудь воздуха и прочел:
Тигр, о тигр, светло горящий В глубине полночной чащи! Кто смел задумать огневой Соразмерный образ твой?– Смел, – повторил я. – Вот оно, то самое слово, верно? Не мог, а смел.
Изображение Катарины молча открыло глаза.
– Верно или нет?
Тогда она улыбнулась и прошептала:
В родном краю царит покой, Ясны и холм, и дол: Вернулся мореход домой, Охотник с гор пришел.– До свидания, мой Мэллори. Кто смел задумать твой огневой образ? Только не я.
С этими словами ее голограмма исчезла из кабины, и я остался один. Куда же, куда уходит свет, когда он гаснет?
Ты почти уже дома, мой моряк, мой охотник за тайнами.
– Значит, я правильно вспомнил?
Можешь задать мне три своих вопроса.
Я прошел ее испытание и был свободен. Свободен – на этот раз уж точно! В уме у меня, словно куча полуодетых жакарандийских куртизанок, плясала целая сотня вопросов. Открыта вселенная или закрыта? Откуда взялась первичная точка, из которой она произошла? Может ли любое натуральное число быть представлено как сумма двух простых чисел? Действительно ли моя мать пыталась убить Соли? Сколько на самом деле лет Хранителю Времени? Почему Экстр взрывается? Куда девается свет, когда он…
Он гаснет.
– Это был не вопрос. Я просто думал…
Так задавай же свои вопросы.
Похоже, мне следовало быть очень осторожным, чтобы Твердь не сыграла со мной шутку. Я долго раздумывал, о чем бы таком спросить, чтобы получить ключ к многим тайнам сразу. Я облизнул сухие губы и задал вслух вопрос, который мучил меня с детства:
– Почему вселенная вообще существует – почему есть что-то, хотя могло бы не быть ничего?
Это я и сама хотела бы знать.
Я рассердился, что она не ответила на мой вопрос, и потому, не подумав, выпалил:
– Почему Экстр взрывается?
Ты уверен, что действительно хочешь это знать? Какой прок от твоего «почему», если ты не знаешь, как это остановить? Может быть, ты задашь вопрос по-другому?
– Хорошо. Что я могу… что можно сделать, чтобы Экстр не взрывался?
Пока ничего. Секрет исцеления Экстра – это часть другой, высшей тайны, которую ты должен раскрыть сам.
Опять загадки! Опять игры! Разве нельзя ответить на мои вопросы попросту, без загадок? Видимо, нет. Твердь, словно трианская торговая королева, трясущаяся над своими драгоценностями, решилась, очевидно, отстаивать свои тайны до последнего. Наполовину отчаявшись, наполовину шутя, я сказал:
– Вот и Эльдрия тоже говорят загадками. Они говорят, что секрет человеческого бессмертия лежит в прошлом и в будущем. Что они хотели этим сказать? И где искать этот секрет, если точно?
Я по-настоящему не ожидал ответа – по крайней мере понятного, – поэтому был потрясен до глубины души, когда божественный голос произнес во мне:
Этот секрет записан в старейшей ДНК человеческого вида.
– В старейшей ДНК? Где же это? И как его расшифровать? И почему он…
Ты уже задал свои три вопроса.
– Но ты отвечала на них загадками!
Значит, тебе придется разгадать их.
– Разгадать? А зачем? Мои разгадки умрут вместе со мной. Из бесконечного дерева выхода нет, так ведь? Как же я из него выйду?
Надо было спросить об этом меня, когда задавал третий вопрос.
– Да пропади ты пропадом со своими играми!
Из бесконечного дерева выхода нет. Но уверен ли ты, что это дерево – не конечное?
Разумеется, я был уверен – как любой пилот, знакомый с маршрутными теоремами Галливара. Разве я не доказал, что множество Лави не входит в инвариантное пространство? Что я, конечное дерево от бесконечного отличить не могу?
Ты хорошо проверил свое доказательство?
Я его не проверял. Мне не хотелось думать, что в нем есть погрешность. Но умирать мне тоже не хотелось, поэтому я сопрягся со своим кораблем. Я вошел в ментальное пространство мультиплекса, в уме у меня сразу замелькали кристаллы идеопластов, и я начал выстраивать из них доказательство. В вихре «цифрового шторма» я составил математическую модель мультиплекса, и он открылся передо мной. Погруженный в сон-время, я реконструировал свое доказательство. Оно было верным: откуда ни возьмись, явилась мысль: а подходит ли множество Лави для моделирования ветвей данного дерева? Не следует ли применить для моделирования простое множество Лави? И входит ли простое множество Лави в инвариантное пространство?
Дрожа от возбуждения, я выстроил новое доказательство. Да, простое множество входило туда! Я доказал, что оно туда входит. Я вытер пот со лба и составил вероятностный маршрут. В тот же миг триллионы ветвей дерева слились в одну – дерево все-таки оказалось конечным. Я был спасен! Я проложил другой маршрут к точке выхода у голубой звезды-гиганта и вышел в реальное пространство среди десяти тысяч лунных мозгов Тверди.
Я довольна тобой, Мэллори. Но мы еще встретимся, и тогда ты доставишь мне еще большее удовольствие. А пока что лети, пилот, и прощай!
По сей день я спрашиваю себя, каким же все-таки было дерево, в которое я попал. Действительно конечное? Или Твердь каким-то невероятным образом превратила бесконечное дерево в конечное? Если так, то Она в самом деле богиня, достойная поклонения, думал я, – или, по меньшей мере, внушающая ужас. Упомянутая эмоция так одолела меня, что я, едва взглянув на теплый голубой свет звезды, тут же проложил первый из множества маршрутов, ведущих к Городу. Меня мучили странные чувства и незаданные вопросы, но я не собирался встречаться с Ней снова. Я не хотел опять держать экзамен и ставить свою жизнь в зависимость от случая и от каприза богини. Я не желал больше слышать, как божественный голос вторгается в мой мозг. Мне хотелось попросту вернуться домой, выпить с Бардо виски в Квартале Пришельцев и рассказать эсхатологам, Соли, всему Городу о том, что секрет жизни заложен в старейшей ДНК человека.
6 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОБРАЗ
Для нас человечность была отдаленной целью, к которой все люди шли, не зная, как она выглядит, и чьи законы нигде не были записаны.
Эмиль Синклер, эсхатолог Века ХолокостаПрием, который мне оказали дома, оправдал все мои ожидания. Мой триумф портило только то, что Леопольда Соли не было в Городе – он отправился исследовать внешнюю оболочку Экстра. Поэтому он не встречал меня вместе с другими пилотами, цефиками, технарями и горологами, когда я вышел из своей кабины в Пещере Кораблей. Я очень жалел, что он не видит, как они все выстроились на стальной дорожке между рядами кораблей, не видит их потрясенных лиц и не слышит их взволнованного шепота после моего заявления, что я говорил с богиней! Склонил бы он передо мной голову, как сделали это самые отъявленные скептики и ретрограды Стивен Карагар, Томот и другие его друзья?
Очень жаль, что его не было там, когда Бардо, растолкав пилотов, ринулся ко мне с таким энтузиазмом, что вся дорожка затряслась и загудела, как колокол. Такие моменты не часто случаются! Бардо растопырил свои ручищи и заревел:
– Мэллори! Клянусь Богом, я знал, что тебя убить не так просто! – Его голос наполнил пещеры, как грохот взорванной бомбы, а он продолжал греметь, повернувшись к пилотам: – Сколько раз я вам это говорил? Мэллори – величайший пилот со времен Ролло Галливара! Более великий, чем сам Галливар, ей-богу! – Он обращался прямо к Томоту, таращившему на него свои механические глаза. – Вы говорили, что он затерялся в сон-времени, а я твердил, что он скользит по складкам мультиплекса и вернется, когда сочтет нужным. Вы говорили, что эта сука-богиня по имени Твердь поймала его в бесконечную петлю, а я – что он мчится домой с уверенностью и изяществом и вернется к своим друзьям с открытием, которое сделает его мастерпилотом. Ну что, прав я был или нет? Мастер Мэллори – звучит отлично! Ей-богу, паренек!
Он заключил меня в объятия, едва не поломав мне ребра, молотя меня при этом по спине и повторяя:
– Ей-богу, паренек, ей-богу!
Пилоты и специалисты толпились вокруг меня, пожимая мне руку и задавая вопросы. Жюстина, одетая в шерсть и новую черную шубу, коснулась моего лба и поклонилась.
– Ты посмотри только на него! – сказала она моей матери, которая рыдала не стесняясь. Мне и самому хотелось заплакать. – Ах, если бы Соли был здесь!
Мать пробралась ко мне сквозь толпу, и каждый из нас коснулся лба другого.
– Как меня утомляют эти официальные любезности, – сказала она, к моему удивлению, а потом обняла меня и поцеловала в губы. – Как же ты исхудал. – Вытирая глаза руками в перчатках, она подняла свои густые брови и сморщила нос. – Тощий, как хариджан, и пахнет от тебя ужасно. Приходи ко мне, когда побреешься, вымоешься и закончишь с акашиками. Я так счастлива.
– Мы все счастливы, – заметил Лионел с легким поклоном и резко выпрямился, откинув светлые волосы с глаз. – И озадачены словами твоей богини. Секрет жизни записан в старейшей ДНК человека – что она, по-твоему, хотела этим сказать? И что это за старейшая ДНК прежде всего?
Когда акашики повели меня, грязного, обросшего и отощавшего, к себе, чтобы депрограммировать, я вдруг сообразил, что это может быть. Эта мысль не замедлила распуститься во мне и стала разрастаться в совершенно безумный план. Будь Соли здесь, я тут же изложил бы ему этот план лишь ради того, чтобы поглядеть, как он хмурится. Но он пытался проникнуть в искривленные взрывами пространства Экстра и, вероятно, считал меня давно умершим, если вообще думал обо мне.
Я же был живехонек и бурно радовался жизни – несмотря на лишения, которым подверглось в мультиплексе мое бедное тело, несмотря на разлуку с моим кораблем и переходу на низовое время. Я был переполнен уверенностью, успехом и до крайности горд. Мне казалось, что я лечу, подхваченный попутным ветром. Цефики называют это состояние тестостероновым взлетом, по названию мощного гормона, который вырабатывается организмом человека, добившегося успеха. Они предупреждают, однако, что этот гормон повышает агрессивность, агрессивный же человек стремится к новым успехам, которые вырабатывают в нем еще больше тестостерона. Это порочный цикл. Цефики говорят, что тестостерон может отравить мозг человека и повлиять на трезвость его суждений. Я думаю, что это правда. Мне следовало бы прислушаться к цефикам. Если бы я не был тогда так полон собой, если бы моя кровь не столь бурно бежала по венам и меня не распирало так от спеси, я бы, вероятно, сразу отказался от своего несусветного плана найти старейшую ДНК человека. Но в том моем состоянии мне не терпелось открыть свой план Бардо и всему Ордену, чтобы снискать себе еще большую славу.
В последующие дни мне некогда было обдумать это, потому что мной занимались акашики и другие специалисты. Николос Старший, Главный Акашик, подробно исследовал мои воспоминания с момента отлета из Города и передал копию своим компьютерам. Механики расспрашивали меня о черных телах и других явлениях, которые я наблюдал в Тверди. Их изумило – вернее сказать, ошарашило – то, что Она способна изменять мультиплекс по своему усмотрению. Старейшие механики отказывались верить моим словам, даже когда акашики и цефики сошлись на том, что моя память не иллюзорна, а представляет собой результат реальных событий. Механики, разумеется, знали уже много веков, что модель реальности должна включать в себя сознание как фундаментальную волновую структуру – но Марта Резерфорд и Мимма Джонс, в числе прочих, не желали верить, что Твердь может создать и уничтожить бесконечное дерево по своей воле. Они вели ожесточенный спор с Колонией Мор и парой других эсхатологов, которых больше интересовал тот факт, что в Тверди живут люди, чем эзотерические вопросы физики. Фурор и междоусобица, вызванная моими открытиями среди специалистов, забавляли меня. Мне было приятно, что я дал программистам, неологикам, историкам и даже холистам новую пищу для разговоров – причем надолго.
Я с любопытством ожидал, когда мастер-горолог с помощью скрытного молодого программиста прочтет память моего корабельного компьютера и вскроет опечатанные часы. Немедленно сообщать возвратившемуся пилоту, сколько личного времени он провел в пути, запрещено, но этот запрет обычно игнорируют. Я узнал, что по личному времени состарился на пять лет и сорок три дня (а также восемь часов, десять минут и тридцать две секунды).
– Который теперь день? – спросил я, и горолог сказал мне, что нынче двадцать восьмой день средизимней весны 2930 года. В Городе за время моего отсутствия прошло чуть больше полугода. Я стал старше на пять лет, а Катарина – лишь на десятую долю этого времени. Зловременье победить нельзя, подумал я. Я надеялся, что разное тиканье моих и Катарининых внутренних часов не будет к нам столь жестоко, как к Жюстине и Соли.
Позднее в тот же день – следующий после моего возвращения – я был вызван в башню Хранителя Времени. Хранитель, который как будто совсем не состарился, усадил меня на резной стул у стеклянного окна, а сам стал расхаживать по ярко освещенной комнате, утопая красными туфлями в пушистых белых коврах. Я слушал, как тикают часы, а он не сводил с меня глаз.
– Отощал, – сказал он наконец. – Мои горологи говорят, у тебя было много замедленного времени, чертовски много. Сколько раз я предостерегал тебя против замедленного времени?
– Много было сложных моментов. Приходилось думать со скоростью света, как вы говорите. Я бы умер, если б не прибегал к замедленному времени.
– Эти перегрузки тебя изнурили.
– Буду остаток сезона кататься на коньках и опять приду в норму.
– Я говорю об уме, а не о теле. – Он сжал кулак и помассировал костяшки пальцев. – Итак, твой ум, твой мозг, состарился на пять лет.
– Клеткам всегда можно вернуть молодость.
– Ты так думаешь?
Мне не хотелось спорить с ним об эффектах временных искажений мультиплекса. Я поерзал на жестком стуле и сказал:
– А хорошо вернуться домой.
Хранитель потер свою морщинистую шею.
– Я горжусь тобой, Мэллори. Теперь ты у нас знаменитость, а? И карьера твоя обеспечена. Поговаривают о том, чтобы сделать тебя мастер-пилотом – слыхал?
По правде сказать, мои однокашники вроде Бардо и Зондерваля ни о чем другом почти не говорили. Даже Лионел, раньше журивший меня за хвастовство, сообщил мне по секрету, что принятие меня в Коллегию Мастеров почти решено.
– Ты совершил великое открытие. – Хранитель запустил пальцы в свою белую гриву. – Я очень доволен тобой.
Мне он, откровенно говоря, не казался довольным. Да, возможно, он был рад увидеть меня снова, взъерошить мне волосы, как в мальчишеские годы, но не думаю, чтобы его радовала моя внезапная слава и популярность. Он был ревнивцем и не потерпел бы угрозы своему первенству в Ордене.
– Без вашей книги стихотворений, – сказал я, – меня постигла бы участь похуже смерти. – Я рассказал ему обо всем, что случилось со мной, но могущество Тверди не произвело на него особого впечатления.
– Значит, стихи. Ты хорошо их выучил?
– Да, Хранитель.
– Угум. – Он с улыбкой положил исполосованную шрамами руку мне на плечо. Выражение его лица трудно было истолковать. Оно казалось добрым и опечаленным одновременно, как будто он сомневался в том, правильно ли поступил, дав мне эту книгу.
Он возвышался надо мной, и я видел в его черных глазах свое отражение. Сочтя момент подходящим, я задал ему вопрос, не дававший мне покоя:
– Откуда вы знали, что Твердь будет спрашивать у меня стихи? А два стихотворения из тех, что Она спросила, вы сами прочли мне!
– Откуда же мне было знать? – ответил он, скорчив гримасу. – Просто догадался.
– Но вы определенно должны были знать, что Твердь любит загадывать загадки из древней поэзии. Откуда?
Он стиснул мое плечо пальцами цепкими, как корни дерева.
– Не задавай мне вопросов, паршивец! Разучился вести себя как следует?
– Я не единственный, у кого есть вопросы. Акашикам и всем остальным тоже хочется узнать, откуда вам это было известно.
– Ну и пусть их.
Когда-то, когда мне было двенадцать. Хранитель сказал мне, что тайное знание дает власть. Он умел хранить свои секреты. За несколько часов нашего разговора он все время расхаживал по комнате, не давая мне случая задать ему вопросы о его прошлом и вообще о чем бы то ни было. Он приказал подать кофе и выпил его стоя. Часто он подходил к окну и смотрел на здания Академии, потряхивая головой и сжимая челюсти. Возможно, ему хотелось поделиться секретами со мной (или еще с кем-нибудь) – не знаю. Он походил на сильного, полного жизни зверя, попавшего в западню. Были люди, которые говорили, что он и правда никогда не покидает своей башни, потому что боится быстро мчащихся саней, скользкого льда и злоумышленников. Но я в это не верил. От одного пьяного горолога я слышал другое: что будто бы у Хранителя есть двойник, который и занимается делами Ордена, а сам он ночью выходит в Город и выслеживает на глиссадах, словно одинокий волк, тех, кто имел глупость строить против него заговоры. Ходили даже слухи, что его подолгу не бывает в Городе, что будто бы в Пещерах у него спрятан свой собственный легкий корабль. Может, он уже давным-давно сделал те же открытия, что и я, но оставил их при себе? Я полагал, что это возможно. Он человек бесстрашный и слишком живой, чтобы не нуждаться в свежем ветре, дующем навстречу, в сверкающих кристаллах цифрового шторма, в холодной звездной красоте космоса. Не он ли, страстный любитель жизни, сказал мне однажды, что мгновения человеческого бытия чересчур драгоценны, чтобы тратить их на сон? Поэтому он практиковал бессонницу и ходил вот так, то напрягая, то расслабляя мускулы, и днем и ночью, подхлестываемый адреналином и кофеином, движимый потребностью видеть, слышать, быть.
Почувствовав редкий прилив жалости к нему (а заодно и к себе за то, что терплю его выверты), я сказал:
– Мне кажется, вас что-то тревожит.
Сказал я это зря. Хранитель терпеть не мог жалости и презирал жалелыциков, особенно тех, кто жалеет себя.
– Тревожит! Что ты можешь знать о тревоге? Вот послушал бы, как механики просят меня снарядить экспедицию в туманность Тверди, тогда и говорил бы, будь ты неладен!
– О чем это вы?
– О том самом. Марта Резерфорд и ее фракция желают, чтобы я отправил туда настоящую экспедицию! Чтобы я послал в Твердь целый лайнер! Точно я могу себе позволить потерять лайнер с тысячью специалистов!
Они думают, что если тебе повезло, то им тоже повезет. А эсхатологи уже заявляют, что, если экспедиция состоится, возглавят ее они.
Я стиснул подлокотники стула и сказал:
– Мне жаль, что мое открытие вызвало столько проблем. – На самом деле никакого сожаления я не испытывал. Я был в восторге от того, что мое открытие – наряду с открытием Соли – расшевелило степенных специалистов нашего Ордена.
– Открытие? – рявкнул он. – Какое такое открытие? – Он подошел к окну и погрозил кулаком серым штормовым тучам, плывущим над Городом с юга. Я вспомнил, что он не любит холода и ненавидит снег.
– Но ведь Твердь… Она сказала, что секрет жизни…
– Секрет жизни! Ты веришь лживым словам этого лживого галактоида? Чушь! Нет никакого секрета в «старейшей человеческой ДНК», что бы эта белиберда ни означала. Никакого секрета нет, понимаешь? Секрет жизни – это сама жизнь, которая идет себе и идет, больше ничего.
В этот миг, как бы соглашаясь с его пессимизмом, прозвонили низко и гулко одни из его часов, а он сказал:
– На Утрадесе настал Новый Год. Они поубивают всех больных белокровием младенцев, родившихся в прошлом году, потом напьются и будут совокупляться целые сутки, пока чрева всех женщин не наполнятся снова. Жизнь идет себе да идет.
– Мне кажется, Твердь сказала правду, – сказал я ему.
Он хрипло рассмеялся, и по коже вокруг его глаз побежали трещины, как по льду.
– Пра-авду! – протянул он с горечью. – У богов что правда, что ложь – все едино.
Я сказал ему, что у меня есть план, где искать старейшую ДНК человека.
Он снова засмеялся – да так, что длинные белые зубы ощерились и слезы выступили на глазах.
– План, говоришь. Ты еще мальчишкой все строил планы. Помнишь, как я учил тебя замедлять время? Когда я сказал, что нужно быть терпеливым и ждать, когда первые волны адажио накроют твой ум, ты заявил, что должен быть способ замедлить время чередованием необычных поз, У тебя был даже план, как войти в замедленное время без помощи корабельного компьютера. А все потому, что как раз терпения тебе и недоставало. Недостает и теперь. Почему бы тебе не подождать, пока расщепители и геноцензоры – или эсхатологи, или историки, или цефики – не найдут эту самую старейшую ДНК? Тебе недостаточно, что тебя наверняка сделают мастер-пилотом?
Я почесал нос и спросил:
– А если я попрошу вас разрешить мне собственную маленькую экспедицию, вы дадите согласие?
– Ты говоришь об официальном прошении?
– Да. Потому что мне придется нарушить один из ковенантов.
– Вот оно что.
Последовало долгое молчание, во время которого он стоял неподвижно, как ледяная статуя.
– Так как же, Хранитель?
– И какой же ковенант ты собираешься нарушить?
– Восьмой.
– Так. – Он уставился в окно, выходящее на запад.
Восьмым ковенантом был договор, заключенный три тысячи лет назад между основателями Города и первобытными алалоями, живущими в своих пещерах в шестистах милях к западу.
– Они неандертальцы, – сказал я. – Пещерные люди. Их культура, их организмы – все это очень старое.
– Ты обращаешься ко мне с просьбой отправиться к алалоям, чтобы взять образцы тканей их живых организмов?
– Старейшая ДНК человека. Разве это не ирония, что я найду ее так близко от дома?
Когда я изложил ему свой план в подробностях, он наклонился и ухватил меня за руки, опершись локтями на подлокотники стула. Его массивная голова оказалась совсем близко от моей; от него пахло кофе и кровью.
– Это чертовски опасный план, – сказал он, – как для тебя, так и для алалоев.
– Не такой уж опасный, – с чрезмерной уверенностью заявил я. – Я приму все меры и буду осторожен.
– А я говорю – опасный! Чертовски опасный.
– Удовлетворяете вы мою просьбу или нет?
Он посмотрел на меня страдальчески, как будто я заставлял его принять самое трудное решение в его жизни.
Мне не понравился этот его взгляд.
– Хранитель!
– Я подумаю, – холодно сказал он. – И уведомлю тебя о своем решении.
Я повернул голову вбок. Подобная нерешительность была не в его духе. Я догадывался, что он разрывается между нарушением ковенанта и интересами поиска, который сам же объявил; но моя догадка оказалась неверной. Должны были пройти годы, прежде чем я открыл истинную причину его колебаний.
Он дал понять, что больше меня не задерживает. Встав, я обнаружил, что твердый край сиденья нарушил мое кровообращение и ноги затекли. Пока я растирал их, Хранитель стоял у окна и разговаривал сам с собой, как будто не замечая, что я еще здесь.
– Идет себе да идет, – произнес он тихо. – Идет да идет, хоть бы что.
Я вышел от него, чувствуя себя, как всегда в таких случаях, обессиленным, окрыленным и смущенным.
Последующие дни (и ночи) были самыми счастливыми в моей жизни. Утро я проводил на глиссадах, глядя, как борются пришельцы с обильными средизимними снегами. Приятно было снова дышать свежим воздухом, вдыхать запах сосен, и свежевыпеченного хлеба, и разные инопланетные ароматы, приятно катить на коньках по знакомым улицам Города. Долгие послеполуденные часы я просиживал с друзьями в каком-нибудь кафе, выходившем на белый лед Поперечной. В первый день мы с Бардо заняли столик у запотевшего окна, глядя на текущую мимо толпу и обмениваясь рассказами о своих странствиях. Я, попивая кофе с корицей, расспрашивал его о Делоре ви Тови, Квирине. Ли Тоше и других наших товарищах. Почти все они пребывали где-то в галактике, словно пригоршня алмазов, брошенная в ночное море. Только Ли Тош, Зондерваль и еще несколько человек успели вернуться домой.
– Ты разве не слышал? – спросил Бардо, заказав себе пирожных. – Ли Тош открыл родной мир даргинни. В другое время это считалось бы крупным, даже великим открытием. Ему просто не повезло, что он принес присягу одновременно с Мэллори Рингессом. – Он обмакнул пирожное в кофе. – Как не повезло и Бардо.
– Ты о чем это?
Тогда он, уминая пирожные, рассказал мне о своем путешествии. Прибыв на край Туманности Розетты, он попытался подкупить энциклопедистов Ксандарии, чтобы получить доступ в святилище. Зная, как трясутся энциклопедисты над своими драгоценными фондами и как ненавидят они Орден, боясь его власти, Бардо выдал себя за принца с Летнего Мира, что ему нетрудно было сделать.
– Сто маундов ярконских звезд уплатил я этим паршивым тубистам. Но даже за эту безбожную цену – прости, друг, если я признаюсь, что нарушил обет бедности и потратил малую долю своего наследства… о чем, бишь, я? Так вот, они, даже слупив с меня целое состояние, не допустили меня в святая святых, решив, что профан вроде меня вполне удовлетворится и более скромными эзотерическими сведениями. У меня ушло добрых двадцать дней, чтобы понять, как мелка поглощаемая мною информация. Нашли дурака! Тогда я заявил хитрому мастер-энциклопедисту, что пошлю воина-поэта отравить его, если он не откроет мне врата своего тайного хранилища. Он, дурак этакий, поверил, и я погрузился в тот запретный колодезь, где они хранят сведения по древней истории и старейшие комментарии со Старой Земли. И там… – Бардо отхлебнул кофе и запихнул в рот очередное пирожное. – Мне уже надоело рассказывать эту историю – наши акашики и библиотекари и без того высосали мои мозги досуха, но ты мой лучший друг, так вот: я раскопал там кое-что, ведущее в самые недра прошлого, как я думал тогда. На Старой Земле перед самым Роением была секта, именующая себя аркеологами. Они практиковали ритуал, известный как «раскопки». Тебе интересно? Ну вот, жрецы и жрицы этого ордена заставляли многочисленных рабов-послушников просеивать землю слой за слоем в поисках осколков глины и других реликвий прошлого. Приведу тебе подлинные слова из древнего источника, чтобы ты знал, кто такие были аркеологи. «Эти последователи Генрихашлимана поклонялись памяти предков. Они верили, что могут сообщаться с миром духов через предметы, которых предки касались, а иногда и через мертвые тела самих предков». Хочешь еще кофе? Нет? Так вот, орден аркеологов, как и все другие, наверно, был раздроблен на множество фракций. Одна из них – эйгиптологи, кажется – следовала учению Флиндерса Питри и Шампольона. Они раскалывали трупы, набальзамированные с помощью битумных веществ. Эти трупы они растирали в порошок, который – ты не поверишь! – поглощали как причастие, полагая, что при этом жизненная сила предков переходит в них. Они верили, что с течением жизни, которая идет себе да идет, как говорит Хранитель Времени, по прошествии многих поколений, человек очистится и станет бессмертным. Я тебе еще не надоел? Надеюсь, что нет, потому что должен рассказать тебе об одной фракции, первосвященники которой именовали себя кураторами. Перед самым третьим разменом Холокоста кураторы и их помощники каталогизаторы нагрузили музейный корабль старыми камнями, костями и набальзамированными трупами предков, которые назывались муммиями. Этот корабль под названием «Вишну» совершил посадку в одном из даргиннийских миров. Кураторы были слишком невежественны, чтобы распознать в туземцах разумные существа. Как это ни печально, они начали рыться в почве этой древней цивилизации. Они не могли знать, что даргинни испытывают ужас перед собственным прошлым – оно и неудивительно. Вот тогда-то, дружище, именно тогда и начались первые войны человека с даргинни.
Мы обсудили этот постыдный инцидент – единственный конфликт, который когда-либо имело человечество с чуждыми видами. Когда я поздравил Бардо со столь выдающимся открытием, он хлопнул пухлой лапой по столу и заявил:
– Я еще не закончил! Надеюсь, что не очень тебя утомил, потому что как раз перехожу к самой сути. После своего успеха у энциклопедистов – да, я признаю, что добился успеха – я преисполнился радостью. «Секрет человеческого бессмертия лежит в нашем прошлом и нашем будущем» – разве не так сказали Эльдрия? Я, конечно, не скраер и о будущем судить не могу, но мне казалось, что я открыл жизненно важное звено, связующее нас с прошлым. Теперь это подтвердилось. Не думаешь ли ты, что в моих муммиях могла сохраниться очень-очень старая ДНК? Ладно, перехожу к заключению. Полный радости, я устремился обратно в Невернес, чтобы стать первым, кто вернется с замечательным открытием. Ты должен это понять: я мог бы стать знаменитым. Послушники отпихивали бы друг дружку локтями, чтобы коснуться моих одежд. Мастер-куртизанки сами платили бы мне, чтобы поглядеть, какой мужчина скрывается под этими одеждами. Какой полнокровной могла бы стать моя жизнь! Но Бардо увлекся. Спеша от окна к окну, я утратил бдительность.
Не стану приводить здесь весь рассказ моего друга. Если быть кратким, Бардо, проходя сквозь опасное разреженное пространство Данлади, совершил ошибку, которой устыдился бы и самый зеленый кадет. Маршрутизируя группу решений, он забыл показать однозначность функции и попал в петлю. Любой другой пилот в такой ситуации начал бы кропотливо разрабатывать последовательность маршрутов, чтобы освободиться, но Бардо был ленив и не хотел тратить на это сто или больше дней личного времени. Этот ленивый, но блестящий ум придумал способ немедленного освобождения и через каких-нибудь семь часов вкусил плод своей гениальности. Он доказал, что связь между настоящими и прошлыми точками существует всегда, что пилот всегда может вернуться в любую точку пройденного им пути. Более того, это доказательство было конструктивным: он не только доказал, что это возможно, но тут же и сконструировал такой маршрут. Он проследовал к звезде рядом с солнцем Ксандрии, вышел в знакомые пространства, недавно им пройденные, и снова направился домой к Невернесу.
– Это-то меня и прославило, – со смехом сказал он. – Ну не ирония ли это: попасть по собственной глупости в петлю, чтобы потом доказать самую важную из недоказанных мелких теорем. Теорема Бумеранга Бардо – вот как ее теперь окрестили кадеты. Поговаривают даже о присвоении мне степени мастера, известно это тебе? Я, Бардо, мастер-пилот! Да, теперь я популярен как у Колонии, так и других, со сладкими губками и славными толстыми ляжками. Моя сперма течет как магма, дружище! Я знаменит – но все-таки не так, как ты, а?
Мы говорили до вечера, пока не стемнело и в кафе не набился голодный люд. Тогда мы заказали себе по огромной порции искусственного мяса и разные экзотические блюда, любимые Бардо.
– Тебе надо срочно нарастить мяса на костях! – заявил он, ткнув меня под ребро. Он не уставал превозносить мое открытие, и я рассказал ему про свой новый план.
– Вот, значит, что ты задумал? – Бардо вытер губы салфеткой. – Отправиться к алалоям и похитить их ДНК? Да ведь это же спеллинг! – Спохватившись, что произнес это страшное слово слишком громко, он оглянулся по сторонам, подался ко мне и конспиративно понизил голос: – Не можем же мы вот так взять и заняться спеллингом алалойской ДНК!
– Это не настоящий спеллинг, – перебил я Бардо.
– А как же быть с ковенантом? Хранитель никогда этого не разрешит – и слава Богу!
– Может, и разрешит.
Я рассказал ему о своем прошении. Бардо помрачнел и стал спорить.
– Бог ты мой, нельзя же посадить ветрорез на одном из их островов и попросить их слить немного спермы нам в пробирку, так ведь?
– У меня другой план.
– Даже и слушать не хочу. – Бардо поглотил еще несколько пирожных, вытер рот и пукнул.
– Явимся к алалоям замаскированными. Думаю, будет не слишком сложно изучить их обычаи и соскрести немного кожи у них с ладоней.
– Ну уж нет. Горе тебе и горе Бардо, если ты будешь настаивать на этом безумном плане. И как, по-твоему, мы сможем замаскироваться? Нет-нет, не говори, не надо. Довольно с меня твоих планов.
– Есть один способ. Помнишь историю Гошевана? Мы поступим так же, как он. Пойдем к резчику и переделаем наши тела. Алалои подумают, что мы их родичи.
Он снова пукнул, а потом рыгнул.
– Безумие! Посмотри на меня, Мэллори, и признайся, что это безумие. Клянусь Богом, не можем же мы сделаться алалоями! И почему ты думаешь, что алалойская ДНК старше всех остальных? Почему бы нам не сосредоточить свои усилия на более реальном направлении? Раз уж я открыл муммии, существовавшие за три тысячи лет до Роения, почему бы нам – мне, тебе и Ли Тошу – не снарядить экспедицию к даргинни? Ведь мы знаем, что остатки музейного корабля находятся в одном из их миров.
Я кашлянул и почесал нос. Мне не хотелось напоминать Бардо, что мы пока не имеем понятия, где искать этот корабль, и я сказал:
– Алалойской ДНК должно быть около пятидесяти тысяч лет.
– Да правда ли это? Об алалоях нам известно только то, что у них даже языка нет – не хватило ума его придумать.
Я улыбнулся, понимая, что Бардо паясничает мне назло, и напомнил ему все, что мы в действительности знали об алалоях, этих мечтателях, превративших себя в неандертальцев. Как сказано в истории, предкам алалоев были ненавистны гниль и порочность цивилизации – любой цивилизации, и они бежали со Старой Земли на тяжелых кораблях. Стремясь к существованию, которое считали естественным, они подвергли обратной мутации некоторые из своих хромосом, чтобы вырастить сильное, неприхотливое потомство для жизни в девственных мирах, которые надеялись открыть. На одном из своих кораблей они везли замороженное тело неандертальского мальчика, найденное во льдах Сиберы, самого северного континента Старой Земли. Они отщепили образцы замороженной ДНК мальчика, репродуцировали ее и с ее помощью совершали свои ритуалы, вводя в свои половые клетки древние хромосомы. Несколько поколений спустя, после многих лет экспериментов и селекции, пещерные люди – если пользоваться этим старым вульгарным термином – высадились на Ледопаде. Они уничтожили свои корабли, облачились в меха и поселились в заснеженных лесах Десяти Тысяч Островов.
– Все это очень интересно, – сказал Бардо, – но меня беспокоит одна вещь. Вернее сказать, меня беспокоит все, что ты тут наговорил, но во всей этой истории со старейшей ДНК человека одно особенно не дает мне покоя.
Он заказал еще кофе и выпил его. Он уже успел углядеть в кафе хорошенькую историчку-кадета и строил ей глазки.
– И что же именно? – спросил я.
Он неохотно отвлекся и сказал:
– Что имела в виду богиня, говоря, что секрет жизни записан в старейшей ДНК человеческого вида? Это надо обдумать как следует. Что Она подразумевала под словом «старая»?
– То есть как – «что подразумевала»?
Он надул щеки и выругался.
– Да провались ты – почему ты всегда отвечаешь вопросом на вопрос? Что значит «старая»? Является ли ДНК одного человеческого подвида старше, чем ДНК другого? Как может быть ДНК одного живого человека старше ДНК другого?
– Ты играешь словами, как семантолог.
– Не думаю. – Он снял перчатку, потрогал свой сальный нос и сказал: – ДНК моей кожи, к примеру, очень старая. Элементы нашего генома – продукт эволюции, которая продолжается четыре биллиона лет. Полагаю, это достаточно почтенный возраст, и раз уж ты заговорил об игре словами, то пожалуйста. Что скажешь об атомах, составляющих мою ДНК? Они, надо думать, еще старше, поскольку появились из звездного ядра десять биллионов лет назад.
Он поскреб себе нос и вытянул палец. Под ногтем остался жир и желтые отмершие частицы кожи.
– Вот тебе твой секрет жизни. – И Бардо, явно довольный собой, вернулся к флирту с историчкой. Я хлопнул его по руке.
– Признаю, что слова Тверди несколько загадочны. Значит, мы должны их разгадать.
– Никогда не любил загадок.
Я перехватил его взгляд.
– Ты сказал, что наш геном развивается биллионы лет. Следовательно, ДНК всех наших предков старше, чем наша. Вот это, по-моему, и значит «старая». Надо же откуда-то начинать. Алалои привили себе ДНК тела, насчитывавшего пятьдесят тысяч лет. Есть надежда, что эта ДНК – и то, что в ней записано – не подверглась мутациям и не деградировала.
– Но алалои – не наши предки.
– Да, но неандертальцы Старой Земли ими были.
– Да нет же, ей-богу, они даже не принадлежали к человеческому виду! Это были сутулые скоты со скошенной челюстью, тупые как пробки.
– Ошибаешься. Их мозг был больше, чем у современного человека.
– Больше, чем твой – возможно. – Он постучал себя по лбу. – Но уж точно не больше, чем у Бардо.
– Мы произошли от них.
– Возмутительные слова – но я тебе не верю. Полагаю, Бардо разбирается в истории не хуже других, но вести исторические споры – не дело пилотов. – Он погладил бороду и поглядел на историчку. – Надо, чтобы нас рассудил историк.
С этими словами он рыгнул, встал, стряхнул крошки с бороды и начал протискиваться между столиками. Подойдя к историчке, он что-то сказал ей. Она засмеялась и подала ему руку, а он проводил ее к нашему столу.
– Позволь представить тебе Эстреллу Доминго с Темной Луны. – Эстрелла была хорошенькая и полненькая, как раз во вкусе Бардо. Представив ей меня, он сказал: – Эстрелла согласилась рассудить наш спор. – Он пододвинул ей стул и налил кофе. – А теперь скажите, юная Эстрелла, – неандертальцы действительно были нашими предками?
По правде говоря, я не думал, что Бардо надеялся выиграть спор. Вскоре стало ясно, что он пригласил к нам эту милую девушку не ради истории, а ради ее самой. Когда она терпеливо объяснила, что существуют разные теории происхождения человека и что неандертальцы, вероятнее всего, действительно были нашими прямыми предками, он воскликнул:
– Выходит, мой друг снова прав! Но признайтесь, это нехорошо, что человек когда-то походил на пещерных жителей. Они такие уроды, вы не находите?
Эстрелла не согласилась и застенчиво заметила, что многим женщинам нравятся мощные, мускулистые, волосатые мужчины. Поэтому, отчасти, некоторые специалисты и завели моду переделывать себя под алалоев.
– Гм-м. – Бардо покрутил усы. – Интересная мысль. Далее Эстрелла сказала, что различие между неандертальцем и современным человеком не столь велико, как думают многие.
– Если хорошо присмотреться, вы найдете неандертальские гены в облике людей на каждой улице каждого города каждой планеты Цивилизованных Миров. – (Как я уже говорил, она была милая, умная девушка, но имела досадную привычку вплетать в свою речь слишком много препозитивных предложений.) – Взять хотя бы вас, мастер Бардо, с вашими толстыми надбровными дугами над глубоко посаженными глазами и вашей роскошной бородой – вы никогда не задумывались над этим?
– Честно говоря, нет. Но было бы весьма интересно обсудить эту тему подробнее, согласны? Мы могли бы изучить разные детали моей анатомии и определить, которые из них наиболее примитивны.
Условившись с Бардо, как и когда «обсудить эту тему более подробно», она вернулась к своему столику и шепнула что-то на ухо подруге.
– Ну что за прелесть! – сказал Бардо. – И как мило эти кадеточки пасуют перед старыми пилотами! Ладно. Возможно, неандертальцы правда были нашими предками… а возможно, и нет. Это еще не повод, чтобы переделывать свои тела и жить в пещерах. У меня есть план получше. Заплатим червячнику, чтобы он поймал для нас алалоя. Ведь на шегшеев-то они охотятся, червячники? Ну, так пусть отловят пещерного человека и привезут его в Город.
Я глотнул кофе и почесал переносицу.
– Ты же знаешь, что мы не можем так поступить.
– В самом-то деле все, что нужно, – это немного крови. Пусть червячник оглушит его, отцедит малость крови и привезет нам.
Я поболтал кофе во рту – он остыл и отдавал горечью.
– Ты всегда обвинял меня в избытке праведности, но представь себе, я об этом уже думал.
– Ну и что же?
Я заказал еще кофейник.
– Крови одного человека недостаточно. Неандертальские гены широко рассеяны в алалойских семьях, и нам нужно собрать достаточно богатый статистический материал.
Бардо закатил глаза.
– Уж ты всегда найдешь причину, паренек. По-моему, тебе просто хочется испохабить свое тело и пожить среди дикарей. Это же так романтично, а ты у нас всегда был романтиком.
– Если Хранитель Времени удовлетворит мою просьбу, я поеду к алалоям. А ты?
– Я? Что я? Ничего себе вопрос! – Бардо откусил хлеб. – Если я с тобой не поеду, ты скажешь, что Бардо испугался, так ведь? Ну, тем хуже. Я готов пройти с тобой всю галактику, дружище, но воровать плазму у дикарей… это безумие!
Мне так и не удалось его уговорить, но оптимизма у меня не убавилось – я был так счастлив вернуться домой, что все остальное не имело значения. Мне как вернувшемуся из странствий пилоту выделили дом в Пилотском Квартале. Я выбрал маленькое, с крутой крышей шале, отапливаемое горячей водой от гейзера у подножия Аттакеля, и перетащил туда свою книгу стихов, меха, камелайку, три пары коньков, шахматы, мандолину, на которой так и не научился играть, и еще кое-какие пожитки, приобретенные за годы учения в Ресе. (Послушникам в Борхе не разрешается иметь ничего, кроме того, что на них.) Я подумывал, не заказать ли себе кровать и несколько деревянных столов и стульев – такие мелкие удобства были тогда в большой моде. Но мне не нравилось спать на кровати, а столы и стулья я считал уместными только для кафе, где ими пользуются многие. У меня была и другая причина не забивать свой дом вещами: Катарина все ночи проводила со мной. Я не хотел, чтобы она в своей вечной темноте натыкалась на стулья, рискуя испортить свое красивое лицо.
Мы держали наши ночные свидания в секрете от моей матери и тетки, да и от всех остальных тоже, включая Бардо. Мне очень хотелось довериться ему, рассказать, каким счастливым делает меня Катарина – ее руки, ее язык, ее подвижные бедра, ее страстные, хотя и обычные для любовников, слова и стоны. Но Бардо был способен хранить секреты не более, чем удерживать в себе газы после слишком большого количества хлеба и пива. После того нашего разговора в кафе половина Ордена – практически все, кроме моего трусоватого друга – возжелала сопровождать меня в моем великом, как его уже называл, походе.
Даже Катарина, достаточно знакомая с будущим, чтобы не волноваться, пришла в волнение. В поздние часы пятидесятого числа, после медленных неистовых соитий (она всегда стремилась поглощать время медленно, смакуя его, как змея поглощает добычу), она удивила меня. Она лежала нагая перед огнем, и оранжево-красные блики играли на ее потной белой коже. От нее пахло духами, дымом и сексом. Руки она закинула за голову, и ее тяжелые груди казались безупречно круглыми дисками. Незрячая, она не стыдилась своего тела и не сознавала своей красоты. Я, умиротворенный, смотрел на треугольник темных густых волос под круглым животом, на длинные скрещенные ноги с высоким подъемом. Она смотрела вверх, на звезды – то есть смотрела бы, будь у нее глаза и если бы потолок и толстый покров снега на крыше не отделяли от нас небо. Кто знает, что видела она, вглядываясь в темные туннели будущего? И если бы она вдруг прозрела снова, заменил бы ей молочный свет средизимних звезд то, что она видела внутренним взором?
– О Мэллори! – сказала она. – Что я сейчас… я должна поехать с тобой к твоим алалоям, понимаешь?
Я улыбнулся, хотя она не могла видеть моей улыбки. Я сидел, рядом с ней, подогнув ноги и набросив на плечи мех. Откинув длинные черные волосы с ее пустых глаз, я сказал:
– Жаль, что у Бардо нет твоего энтузиазма.
– Не будь слишком суров с Бардо. В конце концов он тоже поедет.
– Поедет? Куда? – Не знаю, что беспокоило меня больше: ее предвидение или ее желание сопровождать меня к алалоям. – Что ты видела?
– Бардо в пещере с его большим… он такой смешной!
– Ты уж прости, но никуда ты со мной не поедешь.
– Но я должна! И поеду, потому что… о Мэллори!
Это, разумеется, было невозможно.
– Алалои, – сказал я ей, – оставляют слепых и увечных на снегу во время метели. И те умирают. – Я не знал, впрочем, правда это или нет.
Она с улыбкой повернулась ко мне.
– Выдумщик из тебя неважный.
– Допустим. Но я не понимаю, почему тебе так необходимо ехать со мной.
– Это трудно объяснить.
– А ты попытайся.
– Прости, Мэллори, но я не могу.
– Потому что это нарушило бы твой обет?
– И поэтому тоже… но больше из-за того, что для описания будущего слов не существует.
– Я думал, вы, скраеры, изобрели для этого специальный словарь.
– Я очень хотела бы найти слова и рассказать тебе, что я видела.
– Ну так попробуй.
– Я хотела бы снова обрести глаза, чтобы видеть лица твоих… там, на льду, глубокой зимой, ты найдешь то, что… О, как назвать то, что я видела, этот образ, человеческий образ? Я нарушу свой обет и верну себе глаза, чтобы увидеть это снова, прежде чем… прежде чем увижу.
Я молча почесал нос, сидя весь в поту перед трескучим огнем. Верну глаза! Это был шок – услышать такое от скраера.
– Ну вот, видишь, – вздохнула она. – Ничего у меня не вышло.
– Разве ты не можешь просто сказать, что случится, а что нет?
– Милый Мэллори, представь, что я видела то, что одно лишь имеет значение. Если бы я назвала тебе точное время твоей смерти, это отравило бы всю твою жизнь, потому что… ты всегда переживал бы тот момент… и это отняло бы у тебя все счастливые мгновения. Если бы ты знал.
Я поцеловал ее в губы.
– Есть и другой вариант. Если бы я знал, что умру лет через сто, я ничего бы не боялся и наслаждался каждым мгновением жизни.
– Да, это правда.
– Но и парадокс тоже.
Она посмеялась и сказала:
– Мы, скраеры, славимся своими парадоксами.
– Ты видишь одно будущее? Или несколько возможных? Мне всегда хотелось это знать.
Большинству пилотов – да и всем, кто состоял в нашем Ордене – тоже любопытно было бы узнать секреты скраеров.
– И ведь в будущем можно что-то изменить, раз ты его видишь?
Она снова рассмеялась. Иногда, когда она вот так отдыхала перед огнем, ее смех звучал очень красиво.
– Вот ты и сформулировал наш первый парадокс, сам того не ведая. Видеть будущее и… если мы потом захотим изменить его и это нам удастся… если оно изменимо, как же мы могли тогда видеть его?
– И вы отказываетесь что-либо менять лишь ради того, чтобы сохранить увиденное?
Она взяла мою руку и погладила ладонь.
– Ты не понимаешь.
– В некотором фундаментальном смысле я никогда не верил, что вы способны видеть что-либо, кроме вариантов.
Она провела ногтем по моей линии жизни.
– Да, конечно… кроме вариантов.
Я засмеялся, раздосадованный.
– Мне сдается, легче понять механика, чем скраера. Вера механиков по крайней мере поддается расчетам.
– Некоторые механики верят, что каждое количественное событие, происходящее во вселенной, меняет… Они просчитывают варианты. На каждое событие приходится свое будущее. Пространство-время делится и множится, как ветви твоих бесконечных деревьев. Все эти бесконечные, или параллельные, как они говорят, будущие осуществляются одновременно – а значит, существуют и бесконечные «сейчас», понимаешь? Но механики заблуждаются. Настоящее – это… существует единство имманентности… возможно лишь одно будущее, Мэллори.
– Значит, будущее неизменяемо?
– У нас есть одна поговорка: «Мы не меняем будущее, мы выбираем его».
– Скраерский треп.
Она провела пальцами по волосам у меня на груди и внезапно сжала руку в кулак над сердцем, притянув меня к себе.
– Мне надо будет пойти к резчику, которого зовут… Он вырастит мне новые глаза. Хочу видеть твое лицо, когда ты… один раз, один-единственный, хорошо?
– Ты правда сделаешь это? Нарушишь свой обет? Зачем?
– Потому что люблю… Я люблю тебя, понимаешь?
В следующие несколько дней я не мог думать почти ни о чем помимо этого странного разговора. Как возвратившийся пилот я обязан был преподавать и взялся обучать двух послушников холлнингу. Должен сознаться, что к своим учительским обязанностям я относился не слишком ответственно. Ранним утром в классной комнате моего шале, показывая маленьким Рафи и Джорду простые геометрические превращения, я невольно думал о своем путешествии и вспоминал, как изображение Катарины взглянуло на меня вновь обретенными глазами. Знала ли Твердь о том, что однажды скажет мне Катарина? Я размышлял над этим, одновременно показывая своим ученикам, что невозможно наложить двухмерный бумажный макет правой перчатки на такой же макет левой, если ограничить его перемещения одной плоскостью. Не замечая, что им скучно, я поднял макет с пола, перевернул в воздухе и наложил на другой.
– Но если мы возьмем предмет с плоскости и проведем через пространство, оба макета совмещаются легко. Подобным же образом…
– Подобным же образом, – перебил меня долговязый нетерпеливый Рафи, – невозможно повернуть трехмерную левую перчатку так, чтобы она превратилась в правую. Но если мы проведем ее через пространство-время, это станет возможным. Мы это знаем, пилот. Можно считать, что урок окончен? Вы обещали рассказать нам о своем путешествии к алалоям, помните? Вы правда собираетесь ехать по льду на собаках и есть живое мясо?
Я с испугом заметил, что мое прохладное отношение к науке заразило и моих учеников, и немного подосадовал на Рафи, слишком шустрого для своего же блага.
– Верно, – сказал я, – левая перчатка может сделаться правой, но можешь ли ты представить зрительно, как она перемещается в пространстве-времени? Нет? Так я и думал.
Два дня спустя я повел их к резчику, который модифицировал им легкие, а потом в Обитель Розового Чрева. Там, в шестиугольной тренировочной камере, занимавшей почти весь выложенный розовой плиткой резервуар, им предстояло, дыша растворенным в воде кислородом, выполнить комплекс упражнений. Теплая соленая темная вода, где утрачивалось чувство правой и левой стороны, верха и низа, позволяла представить себе четырехмерное пространство. Вращаясь в воображаемой плоскости, проходящей через нос, пупок и позвоночник, ребята пытались совместить себя с собственными зеркальными отражениями. Хотя упражнение это простое – вроде того, когда переворачиваешь линейную диаграмму куба, глядя на него, пока не «щелкнет», – за ними следовало пристально наблюдать. Я же опять отвлекся, думая, сумеет ли Катарина найти резчика, который сделает ей новые глаза, – и довольно поздно заметил, поглядев сквозь винно-красную воду, что Рафи плавает, обхватив руками колени и крепко зажмурив глаза. Если оставить его в этой эмбриональной позе слишком надолго, у него может развиться привычка к слепоте и погруженности в себя. Я напомнил себе, что он готовится стать пилотом, а не скраером, и забрал его из бассейна.
– Это слишком легко, – заявил голый Рафи, с которого капала вода. Измененные легкие мешали ему свободно дышать обычным воздухом. – Когда увидишь один раз, как это делается, все остальное уже проще простого.
– Если говорить о геометрических превращениях, то да. А вот топологические будут потруднее. Помню, как Лионел Киллиранд велел мне вывернуться наизнанку – вот где жуть была! Раз сегодняшние упражнения показались тебе такими легкими, не хочешь ли заняться топологическими превращениями?
– Я бы лучше занялся настоящими, как вы, пилот, – ответил он с надменной улыбочкой. – Вы правда собираетесь переделывать себя? Это такая же серьезная операция, как переделка легких? А послушник вам у алалоев не понадобится? Возьмите меня!
– Нет, ты еще маленький. Ну так что, займемся движением в подпространстве? Его тебе, полагаю, будет представить не так-то легко.
Ажиотаж, вызванный в Ордене моим предполагаемым путешествием, меня не слишком удивлял. Люди остаются людьми, и даже самые цивилизованные из них иногда испытывают желание опроститься. В каждом из нас таится желание вернуться к природе, испробовать жизнь в ее наиболее примитивной форме; таится потребность испытать себя, доказать, что способен существовать (как хищник) в естественных условиях. Бытовало мнение, что алалои ведут более здоровый, чистый образ жизни, чем современный человек. Недаром история Гошевана и его больного белокровием сына Шанидара воспламеняла умы целого поколения. Вернуться к природе сильным, приспособленным для этого человеком – что могло быть романтичнее? Не проходило дня без того, чтобы какой-нибудь семантолог не высказывался о сложностях алалойского языка или фабулист не цитировал эпос о роковом путешествии Гошевана; не проходило ночи, чтобы какой-нибудь пилот, накурившись тоалача, не клянчил взять его с собой к алалоям.
В конце этого счастливого сезона романтики, глубоких снегов и планов меня посвятили в мастера. Как ни странно, я, будучи самым молодым пилотом, когда-либо получавшим это звание, больше не гордился своей относительной молодостью. Состарившись в пути на пять лет личного времени, я стал чувствовать себя человеком, не имеющим возраста, даже старым – таким же старым, как выложенные глазурью простенки Зала Пилотов, где мастер-пилоты приняли меня в свои ряды. Помню, как ждал их решения в дальнем конце зала, у помоста, где мы с Бардо получили свои кольца. Я постукивал ботинком по холодному полу, слушая, как звук пропадает в высоких сводах надо мной. Перед собой я видел черные двери конклава, сделанные из осколочника и украшенные барельефами Ролло Галливара и Тисандера Недоверчивого, Тихо и Йоши – всех трехсот восьмидесяти пяти наших Главных Пилотов, сменившихся со времен основания Ордена Ближе к центру Левой створки я отыскал резной профиль Соли с длинным широким носом, твердым подбородком и скрепленными серебряной цепочкой волосами. Интересно, вырежут ли когда-нибудь в этом старом дереве мой собственный профиль – и если да, сумеет ли кто-нибудь отличить его от изображения Соли? Потом двери отворились, и почтенный Салмалин, самый старый после Соли пилот, пригласил меня, огладив белую бороду, в круглую комнату конклава. В этот момент я почувствовал, что сам не так уж стар. Я занял табурет в центре круглого кольцеобразного стола. Вокруг меня сидели Томот, Пилар Гаприндашвили, мрачный Стивен Карагар, Лионел, Жюстина и другие мастер-пилоты. Когда Салмалин стоя объявил, что я принят в коллегию мастеров, все другие тоже встали, и каждый снял перчатку с правой руки. Я обошел вокруг стола, пожимая руки, – это была самая простая и трогательная из всех церемоний нашего Ордена. Жюстина, подав мне свою длинную изящную кисть, сказала:
– Как жаль, что Соли этого не видит. Я уверена – он гордился бы не меньше, чем я.
Я не стал ей напоминать, что Соли, будь он здесь, скорее всего наложил бы вето на решение коллегии.
Когда каждый из мастеров меня поздравил, у дверей конклава меня встретила мать. Мы вместе прошли через почти безлюдный зал.
– Вот ты и мастер, – сказала она. – Теперь Хранителю Времени придется отнестись к твоему прошению более внимательно. Если он даст согласие, мы переделаем наши тела и отправимся к алалоям, где нас ждет слава – все равно, найдем мы что-то или нет.
Мне показалось забавным то, что даже мать не устояла перед общим порывом. Прикусив губу, я спросил:
– Неужели ты всерьез, мама?
– А ты как думал? Я твоя мать, мы одна семья. В глазах алалоев это будет выглядеть более естественно.
– Нет, это невозможно.
– Я слышала, что для алалоев семья – это главное.
– Хранитель Времени мне скорее всего откажет.
Она склонила голову набок и засмеялась тихо, почти про себя.
– Откажет? Помешает тебе использовать такой шанс? Не думаю. Впрочем, поживем – увидим.
Позже состоялась грандиозная пьянка. Бардо был так счастлив за меня, что чуть не плакал.
– Клянусь Богом, это надо отметить! – заявил он. – Мы поставим Город с ног на голову!
Его слова, наряду с предчувствиями матери, оказались, как ни странно, пророческими. (Иногда мне кажется, что моя мать – тайный скраер.) Через два дня после моего избрания, восемьдесят пятого числа, в день рыхлого снега и глубокой иронии, вернулся из Экстра Леопольд Соли. Он пришел в бешенство, узнав, что я жив – такие ходили слухи. Движимый мстительным чувством – так сказал мне Бардо, – он потребовал от Хранителя Времени, чтобы тот отказал мне. Но Хранитель его провел. Хранитель провел всех, а прежде всего меня. Он удовлетворил мою просьбу, но с условием: я должен был взять в экспедицию всех своих родных, а именно мать, Жюстину и Катарину. И Соли тоже. Соли, как мой дядя, должен войти в состав, иначе никакой экспедиции не будет. А поскольку Соли Главный Пилот, он и должен возглавить экспедицию – вот такое условие поставил мне Хранитель. Услышав об этом, я не поверил. Не подозревал я также, что Бардо оказался прав и Город в результате нашей экспедиции действительно станет с ног на голову.
7 СКУЛЬПТУРА РЕЙНЕРА
Я был экспериментом природы, прорывом в неизвестность, поставленным то ли с какой-то целью, то ли просто так, и моей единственной задачей было позволить этой игре первобытных стихий развиться, ощутить ее волю внутри себя и сделать ее своей. Либо так, либо никак!
Эмиль Синклер, эсхатолог Века ХолокостаНесколько дней я сидел у себя и дулся. Мне стыдно в этом признаваться, но что правда, то правда: я надулся, как маленький мальчик, узнав об условии Хранителя Времени. Я велел Катарине не приходить, сказав, что сержусь на нее: почему она не предупредила меня об уготованном мне унижении? (Я солгал. Как я мог сердиться на моего прекрасного скраера, давшего обет никому не открывать своих видений?) Я читал мою книгу, колол дрова или разыгрывал на шахматной доске гроссмейстерские партий, все это время проклиная Соли за то, что он загубил мою экспедицию. В том, что это Соли убедил Хранителя передать командование ему, я не сомневался.
Вскоре после своего возвращения Соли пришел ко мне – обсудить планы экспедиции, а заодно и позлорадствовать (так, во всяком случае, думал я). Я принял его в комнате с камином, который давно остыл. Он сразу заметил мелкое оскорбление, состоявшее в том, что я не зажег огонь, но не усек более крупного: я усадил его на те самые меха, на которых трахал его дочь. И бесстыдно наслаждался этим тайным оскорблением. Есть во мне жестокая жилка – Бардо часто напоминал мне об этом.
Я был удивлен, увидев, как постарел Соли. Сидя на шкурах с поджатыми ногами, он тер морщинистый лоб и теребил отвисшую кожу под длинным подбородком – он выглядел лет на двадцать старше прежнего. Я слышал, что он почти что прошел во внутреннюю оболочку Экстра. Но ценой, которую он платил за штурм этих недосягаемых пространств, было время, зловременье. Даже голос у него постарел, стал ниже, с новыми интонациями.
– Прими мои поздравления – сказал он. – Коллегия правильно поступила, сделав тебя мастером.
Я не мог не признать, что он может быть любезным, когда хочет, – даже если откровенно лжет при этом. Мне хотелось сказать, чтобы он не тратил слов попусту, но я не хотел быть грубым и сказал:
– Расскажите мне об Экстре.
– Да, Экстр… Впрочем, что о нем рассказывать? Звезды вспыхивают и умирают. Экстр растет. И скорость, с которой это происходит, тоже растет. Что еще ты хочешь знать? Что составить карту этих пространств невозможно? Что пилот в Экстре вынужден пользоваться замедленным временем почти постоянно? Посмотри на меня и увидишь.
Мы поговорили еще немного о наших путешествиях. Мне казалось, что ему это неприятно, поскольку я добился успеха, а он нет. Но он удивил меня, поздравив еще раз по поводу маршрутов, которые я проложил в Тверди.
– Изящный пилотаж, – сказал он, подчеркнуто избегая, однако, упоминаний о моем открытии.
Я предложил ему кофе, но он отказался.
– Кофе подстегивает мозг, а моему и без того уже досталось.
– Может, тогда виски?
– Нет, пилот, спасибо. Не очень-то уютно пить виски перед погасшим камином, верно?
– Я могу разжечь его, если хотите.
– Сделай одолжение.
Я положил в камин сырых поленьев, зажег огонь, и Соли перешел к цели своего визита.
– Похоже, экспедиция к алалоям все-таки состоится.
– И возглавите ее вы?
– Да.
– Понимаю. Вам нужна слава, – скрипнув зубами, вымолвил я.
– Неужели? Напрасно ты так думаешь. Возглавить экспедицию мне приказал Хранитель Времени.
– Зачем?
– Разве его поймешь?
Лжец, подумал я. Лжец!
– Я сам поговорю с ним.
– Устроишь ему допрос?
– Это мое открытие. И план насчет алалоев тоже мой. И экспедиция моя.
– Я вижу – это тебе нужна слава, – с легким наклоном головы заметил он.
– Не слава – только знание.
– Это ты себе так говоришь. – Он отпил глоток виски, которое я ему налил.
– Ваше участие только повредит экспедиции. – Я посмотрел на его длинный нос, сломанный мною. – Между нами кровь.
Он почесал переносицу и сказал:
– Ошибаешься. Никакой крови между нами нет.
Я проглотил добрую четверть собственного виски. Сосновый дым, идущий в комнату, ел глаза.
– Если Хранитель не снимет свое условие, я откажусь от экспедиции и не пойду с вами.
– Я понимаю, твоя гордость затронута, – улыбнулся Соли, – но выбора у тебя нет.
– В каком смысле?
– Я для того и пришел, чтобы сказать: Хранитель приказывает тебе отправиться в экспедицию.
– Приказывает? – чуть ли не в голос крикнул я. – Десять дней назад он еще не знал, разрешать ее или нет.
– Видимо, он передумал. Не спрашивай меня, почему. – Соли выпил еще и сказал: – Нас будет шестеро. Жюстине, Бардо и твоей матери приказано сопровождать нас.
– Получается пять человек.
– Шестой будет Катарина, – ненатурально спокойным голосом ответил он. – Хранитель приказал моей дочери вырастить себе новые глаза и отправиться с нами.
Наверное, Соли сам попросил у Хранителя разрешение взять с собой жену и дочь, подумал я. Его, презирающего скраеров, должно очень устраивать то, что Катарина откажется от своих обетов и вернет себе глаза. Но я не понимал, почему мать и Бардо тоже включили в список – разве что для того, чтобы я утихомирился и не наделал глупостей: например, не нарушил свой обет послушания и не сбежал к алалоям в одиночку. Соли, словно догадавшись, о чем я думаю, объяснил:
– Мы выдадим себя за дальних родичей деваки, одного из алалойских племен. Хранитель полагает, что у нас будет больше шансов, если мы вступим под видом большой семьи. А поскольку некоторые из нас действительно родственники, нам легче будет притворяться.
Ты в этом деле и без того мастак, подумал я, а вслух сказал:
– Дайте угадаю. Бардо будет вашим сыном и моим двоюродным братом.
– Нет, не совсем так. – Мина у него вдруг стала такая, точно он проглотил мочу, а не виски. – Моим сыном будешь ты.
– Что? Да нет, это невозможно!
– Именно так, потому что ты очень похож на меня. А Катарина будет твоей сестрой.
– Безумие какое-то! Ничего у нас не выйдет! – Я вскочил на ноги, потрясая кулаками над головой. – А если мы с вами подеремся? Что подумают алалои? Весь этот план… еще и Катарину дали мне в сестры! Я вышибу дверь башни Хранителя, если придется, но не дам ему осуществить этот безумный план!
– Разреши опять-таки напомнить, что выбора у тебя нет. Извини.
И правда, выбора у меня не было. Из-за этого я и бесился. Я был пилотом, принесшим присягу, – о чем и твердил себе, бегая взад-вперед перед камином после ухода Соли. В тот же день я попросил Хранителя Времени принять меня, но он отказал. Я просидел в его голой приемной полдня, проигрывая в уме шахматные партии, чтобы успокоиться и не вломиться к нему силой. Наконец он послал кадетагоролога уведомить меня, что встречается с трийским торговым магнатом и не сможет никого принять еще дней десять.
Я не поверил ему и решил, что Хранитель нарочно испытывает степень моего послушания и унижает меня, потому что завидует моему открытию. Бардо разделял мое мнение. Около полуночи мы с ним встретились в баре мастер-пилотов. Он был пьян, но вел себя тихо, что было ему совсем несвойственно, и продолжал дуть пиво, мотая бородой.
– Вот жалость какая, – бубнил он. – Это, случаем, не ты попросил Хранителя включить меня в экспедицию… ик… нет? Конечно, не ты, глупо было даже подозревать такое. Где же моя чертова вера в друзей? Ох, горе тяжкое – куда она подевалась, моя вера во что бы то ни было? Ты всегда говоришь, что успех порождает успех, но я так не думаю. Будь ты неладен со своим тестостероновым взлетом! Ты возвращаешься знаменитым, гордость и сперма тебя распирают, и ты готов на все, но в реальности все обстоит совсем по-другому. Хочешь, чтобы я прибег к метафорам? Сейчас: мы с тобой как две талло. Чем выше мы залетим, тем больнее будет падать, когда ветер переменится. У меня недобрые предчувствия насчет этой экспедиции, паренек.
По правде сказать, Бардо испытывал недобрые предчувствия по поводу всего, что подвергало его жизнь опасности. По природе он был пессимистом, всегда ожидающим какого-нибудь несчастья, и чем счастливее он был, тем больше боялся, что это счастье у него отнимут. Желая успокоить его (а заодно и себя), я выпил еще виски, обнял Бардо за плечи и сказал:
– Все будет нормально.
– Нет, паренек, я умру там, во льдах, – я уверен.
– Вот не знал, что ты у нас скраер.
– Не надо быть провидцем, чтобы понимать, что я обречен. – Он достал из кармана зеркальце и, держа его перед собой, нетвердой рукой вытер пивную пену с усов. – Ах, Бардо, друг мой, что с тобой будет? Ох, горе, горе!
Несмотря на предчувствия Бардо и мою раненую гордость, несмотря на нашу с Соли взаимную антипатию, первоначальная стадия нашей экспедиции осуществлялась без помех. Каждый из нас, кроме Бардо, получил определенное задание. Лионел, хоть и дулся на то, что его не включили, вносил свою лепту, уча нас управлять собачьими упряжками. Соли готовил необходимый инвентарь: копья, горючие камни, пешни для льда и кридцовые сферы – все, что нужно было нам, чтобы выдать себя за алалоев (а возможно, и чтобы выжить). Мать с Жюстиной изучали историю и записи акашиков, стараясь узнать как можно больше о культуре племени деваки. Мне было поручено – Соли умно поступил, доверив мне это ответственнейшее задание и умаслив тем мою гордость – найти резчика, который переделает нас под неандертальцев.
На десятый день ложной зимы я условился встретиться с Мехтаром Хаджиме, владельцем самой большой и хорошо оборудованной мастерской на улице Резчиков (которая, в свою очередь, представляет собой одну из самых прямых и широких улиц Квартала Пришельцев). Фасад мастерской украшали фигуры из редкого синего обсидиана. Некоторые из них имели отдаленное сходство с человеком, другие походили на него столь же мало, как сам человек походит на обезьян. У гротескных бородатых мужиков отдельные части тела были сильно увеличены – члены, к примеру, свисали до колен; другие были тонкими и длинными, как эталоны. Никакой логики в расположении фигур не просматривалось: оргия двуполых существ соседствовала с безгрудой мадонной, чью удлиненную голову покрывала повязка весперской монахини. Странное, причудливое, варварское зрелище. Самая большая из фигур была выплавлена в камне над дверью и символизировала собой тот вид скульптур, на которых специализировался Мехтар. Алалой, крепко стиснув тяжелые челюсти и держа копье на изготовку, смотрел прямо в глаза бегущему на него мамонту. Я узнал в нем Гошевана, геройски убившего мамонта одним ударом копья. Мехтар, очевидно, очень гордился тем, что Гошевана когда-то превратил в алалоя такой же вот резчик.
Я постучал. Домашний робот открыл и проводил меня через каменный холл в теплую, испоганенную плющом чайную комнату. Я сел за единственный стол, и робот подал мне отменный кофе, сорт которого я не сумел распознать. Барабаня пальцами по столу, я разглядывал ковры на стенах и дорогие безделушки на полированной мебели. Вещелюбивый хозяин этих мест не спешил появиться, и меня это раздражало.
– Люди хорошо платят за то, чтобы подправить оболочку, в которой родились, – произнес кто-то. На пороге двери, ведущей в собственно мастерскую, стоял человек – должно быть, сам Мехтар, ни дать ни взять пещерный житель. Мощного сложения, с буграми мускулов под волосатой кожей, с так сильно выступающими надбровными дугами, что живые карие глаза были едва видны. Он показался мне знакомым: я был почти уверен, что видел его раньше, но не мог вспомнить, где. Он хлопнул себя по груди. – Видите, это великолепное тело? То, что я сделал для себя, я могу сделать и для вас.
Я пригубил свой кофе (кажется, сольскенский, ценимый больше за редкость, чем за вкус) и спросил:
– Почем вы знаете – может быть, я пришел укоротить себе нос?
– Вы – мастер-пилот Мэллори Рингесс. И мне известно, зачем вы пришли. – Он сел напротив меня, поглаживая свою мощную челюсть и рассматривая меня, как произведение искусства. – Взгляните на это фравашийское тондо, – сказал он внезапно, указав на стену позади меня.
Я оглянулся. Инопланетная картина, составленная из культур программированных бактерий, зажатых между двумя листами клария, мутировала, меняя цвета и контуры. На ней в чистых струящихся красках изображалась история Гошевана с Летнего Мира и рождение его сына Шанидара. Частным лицам запрещалось держать у себя такую живопись, но я промолчал.
– Один знаменитый кастрат, потерявший голос – я уверен, его имя вам знакомо, – подарил мне эту картину в благодарность за свое исцеление. Я хорошо над ним поработал! Кромсал его гортань, пока он не начал звучать как колокол, а вдобавок вшил новые яички в мошонку – бесплатно. И он снова стал мужчиной, сохранив свой ангельский голос! Нет, я человек не корыстолюбивый, что бы ни говорили обо мне враги.
Я объяснил ему, что мне нужно, и он, потеребив нос, заявил:
– Шесть тысяч городских дисков, по тысяче за каждую скульптуру и…
– Шесть тысяч?! Шутить изволите!
– Выпейте еще кофе. – Он наполнил мою кружку. – Да, цены у меня высокие, потому что я тот, кто я есть. Спросите любого резчика и расщепителя на этой улице – они вам скажут, кто здесь лучший. Знаете ли вы, что я был в подмастерьях у Рейнера? У резчика, который изваял Гошевана?
Он, разумеется, лгал. Я навел справки в городском архиве перед тем, как выбрать резчика. Мастер, довольно пожилой на вид, в действительности был молод, слишком молод, чтобы служить в подмастерьях у Рейнера. В Невернес он прибыл мальчиком после гибели своей планеты, Алесара, в одной из тех оголтелых религиозных войн, что приводят иногда к уничтожению изолированных обществ. Его семья принадлежала к раскольнической секте спиритуалистов – не помню, в чем именно заключалась их вера; все его родные умерли от лучевой болезни, а сам он, мучаясь кровавой рвотой, поклялся никогда больше не верить в идеалы, которые нельзя увидеть или потрогать. В Невернесе он вознамерился разбогатеть, мстя при этом всякой плоти, которая ему попадается, и вскоре стал лучшим – и самым чудаковатым – резчиком в Городе.
– Шесть тысяч дисков! – повторил я. – Куда столько? Это просто неприлично.
– Я не стану оказывать вам услуги, если вы будете оскорблять меня, пилот.
– Мы заплатим вам тысячу дисков.
– Этого мало.
– Две тысячи.
Он потряс головой, цокая языком.
– Такие деньги взял бы с вас Альварес или Поливик – да любой из второстепенных резчиков. Вот к ним и обращайтесь.
– Хорошо – три тысячи.
– Не люблю сумм, содержащих цифру «три», – такое уж у меня суеверие.
– Четыре тысячи. – Зря я не уговорил Бардо пойти со мной. Мне редко приходилось иметь дело с деньгами, а он всю жизнь спорил о стоимости земельных наделов и торговался со шлюхами.
– За такую цену я берусь изваять четверых.
– Ну, тогда пять. Пять тысяч!
– Нет, пилот. Нет, нет.
Я стукнул по столу так, что кружка подскочила и кофе перелился через край.
– Вы могли бы сделать свою работу и за три. Разве наш поиск для вас ничего не значит?
– Ровным счетом ничего.
– Больше пяти тысяч я заплатить не могу. – Я был уверен, что Бардо, будь он со мной, нипочем бы не согласился на шесть тысяч, которые заломил Мехтар.
– Если у вас больше нет, дело ваше. Но вы никогда не узнаете, как это чудесно – носить алалойское тело, как хорошо быть сильным. – С этими словами он стиснул в руке свою пустую кружку, и она рассыпалась на куски, один из которых вонзился ему в ладонь. Мехтар поднял руку, чтобы я видел, и не спеша извлек окровавленный белый осколок. Из раны ритмичными толчками била кровь, и Мехтар сказал: – Артерию повредил. – Он закрыл глаза, мускулы поднятой руки затрепетали, и пульсирующая кровь потекла ровным потоком, который быстро превратился в тонкую струйку. Когда Мехтар открыл глаза, кровотечение остановилось. – Я дам вам не только силу, но и власть над вашим новым телом. Существуют гормоны, которые наполнят вашу половую систему спермой до отказа, и нейропередаточный раствор, снимающий необходимость в сне. Есть и более практическое предложение: небольшое расщепление запрограммирует ваши ткани на выработку гликопептидов, которые не дадут вам замерзнуть в пути. Я, Мехтар Констанцио Хаджиме, могу все это сделать. И возьму за это шесть тысяч сто городских дисков.
– Шесть тысяч сто?
Он указал на осколки, раскиданные по столу.
– Включая стоимость рекламы. Эти кружки делают на Фосторе – сами знаете, сколько они стоят.
Я снова стукнул кулаком в кожаной перчатке по столу, раздробив в пыль несколько осколков, и заявил:
– Вы грязный, алчный тубист.
Он уставился на меня, раздувая широкие ноздри.
– Вы называете меня тубистом. Да, я люблю себя побаловать – а почему бы и нет? Когда-то я служил своему Богу, но Он предал меня. – Он показал на тондо и на ларчик с даргиннийскими драгоценностями рядом. – Теперь я собираю вещи. Вещи не предают.
– Слишком много вещей. Вы вещист и тубист.
– Ну и что из этого? Некоторые вещи обладают блеском и красотой, которые не вянут с годами. Поднимаясь утром, мы здороваемся со своими красивыми вещами, у каждой из которых есть свое место. Мы покупаем какойнибудь резной стул из ценного осколочника или даргинийское висячее гнездо и можем быть уверены, что эти вещи повысят и нашу ценность.
– Я в это не верю.
– Однако это правда, – улыбнулся он. – Имея много вещей, мы можем обменять их на другие, еще красивее, еще дороже, обладающие вполне реальной ценностью – ведь может настать такой день, когда ими придется пожертвовать, чтобы спасти самое драгоценное, что у нас есть: нашу жизнь.
– Вечно жить все равно нельзя, – сказал я, глядя на серебристое висячее гнездо, мерцающее в своем футляре, и думая о тысячах даргиннийских нимф, погибших, когда их гнездо похитили. – По-моему, вы чересчур высоко себя цените.
– Делать нечего, пилот: я – это тело, которое сейчас на мне, и больше ничего. Разве может что-нибудь для меня быть дороже? Шесть тысяч сто городских дисков – сумма солидная, но никакие деньги, если они затрачены ради сохранности вашего священного тела, не будут лишними. Уверяю вас.
В конце концов я заплатил столько, сколько он требовал. Я чувствовал себя скверно уже потому, что заключал денежную сделку – торговаться было еще омерзительнее. Бардо, когда я сообщил ему подробности, пришел в ужас.
– Да тебя просто ограбили, ей-богу! Надо было мне и правда пойти с тобой. А Хранитель Времени что сказал? Он ведь прижимистый старый волк… он еще не знает, да?
– И не узнает, если мастер-казначей ему не скажет.
– Тогда ладно. А скажи… по-твоему, на этого Мехтара Хаджиме можно положиться?
Можно ли? Как можно положиться на человека, который покупает контрабандные шкуры шегшеев, содранные с еще недавно живых существ?
– Я доверяю его жадности, – сказал я. – Он сделает то, за что ему заплачено, в надежде, что наши друзья потом тоже к нему придут.
Четыре дня спустя я первым лег под лазер Мехтара. Я удивился, узнав, что алалой на самом деле очень мало чем отличается от современного человека – но эти небольшие отличия, к несчастью, охватывают все части тела. Мехтар переделывал меня изнутри и снаружи, не пропуская ничего. Начал он со скелета, наращивая и укрепляя все сто восемьдесят его костей. Во время этого процесса, который длился пару десятидневок, мне было больнее всего. Мехтар, насвистывая и рассказывая мне глупые анекдоты, вскрывал кожу, мускулы и вгрызался в губчатую внутренность кости, а я сжимал челюсти и обливался потом. Резчик выкладывал стенки новой костной тканью и укреплял места присоединения сухожилий.
– Кости причиняют самую сильную боль, – говорил он, шевеля ноздрями и сверля мою берцовую кость. – Но это ненадолго.
Несколько раз моя блокировка отказывала, и Мехтар вынужден был погружать меня в бессознательное состояние. Я подозревал, что он пользуется этим, чтобы вводить в мой организм колонии нелегальных запрограммированных бактерий. Бактерии – впрочем, я так и не смог этого доказать – проникали в мои кости так глубоко, как никогда не проникли бы сверла Мехтара. Одни из них внедрялись в самый костяк, другие плели паутину коллагенов и минеральных кристаллов, делая новую кость более прочной на разрыв, чем сталь. Однажды, когда я намекнул на свой страх перед подобной технологией, Мехтар рассмеялся и сказал:
– Думай об этих бактериях как об инструментах, крошечных машинках, бесконечно малых роботах, запрограммированных на определенное биохимическое задание. Разве машины бунтуют? Разве компьютер способен сам себя программировать? Нет, нет и нет, пилот, – никакой опасности они не содержат, но я все равно не стал бы ими пользоваться, чтобы не нарушать ваших городских канонов, какими бы архаичными эти каноны ни были.
Я потрогал свеженаклеенную кожу руки – в тот день он работал над плечевым суставом – и сказал:
– Никому не хочется, чтобы его колонизировали бактерии – в особенности разумные.
– Благороднейший пилот, если бы я даже относился к тем резчикам, которые плюют на ваши дурацкие каноны, я запрограммировал бы бактерии на умирание после окончания работы – ты уж мне поверь!
Но его уверения меня как-то не успокаивали.
– А как же скопления Химена и Апрель? – спросил я.
– Эти названия мне ничего не говорят.
Я рассказал ему, что Химена была одной из планет, где мутировавшая колония пожрала всю жизнь в биосфере, превратив поверхность планеты в пурпурно-коричневый мат из чрезвычайно разумных бактерий – все это в считанные дни.
– И эсхатологи полагают, что они же всего через несколько лет заразили все Апрельское скопление. Ваши безвредные бактерии захватили десять тысяч звезд. Из всех богов галактики эсхатологи боялись Апрельского колониального разума больше всего.
– Древняя история! – фыркнул Мехтар. – В наши дни подобная беспечность невозможна. Кто бы такое допустил? Уверяю тебя еще раз – бояться нечего.
Пока я поправлялся, он работал над всеми остальными поочередно. Соли испытал костные муки вторым, за ним последовали Жюстина, Катарина и моя мать. Бардо, желавший наблюдать как можно больше результатов, шел последним.
– Я слышал жуткие вещи об этих резчиках, – сообщил он мне как-то в мастерской. – Я и так как будто достаточно крепок – не мог бы он оставить мои кости в покое? Нет? Ей-богу, хоть позвоночник бы не трогал – там столько тонюсеньких нервов. А вдруг он чихнет не в тот момент? Вильнет лазер не туда – и Бардо никогда уже не влезет на женщину. Я слышал о таких случаях. Представь себе только: мощный стержень Бардо повиснет, как лапша, – и все из-за какого-то чиха!
Чтобы помочь ему расслабиться и блокировать нервы, я помассировал тугие веерообразные мускулы в верхней части его спины, втолковывая ему, что многие люди подвергаются куда более сложному ваянию исключительно ради моды. О своих подозрениях относительно мехтаровских бактерий я умолчал.
– Ладно, допустим, что изменения не так уж велики, – признал он, когда мы вспомнили некоторых пилотов, переделывавших себя в собственных целях под тот или иной инопланетный вид. – Но дело не только в этом. Не кажется ли тебе, что наш резчик смахивает на того алалоя, которого я повалил в день, когда ты разбил Соли нос? Помнишь?
Я действительно вспомнил – и понял, где видел Мехтара раньше.
– Я уверен, что это не тот человек, – сказал я, чтобы успокоить Бардо. Я врал, но что мне оставалось?
– А вдруг ты ошибаешься? Вдруг он меня запомнил? Вот возьмет теперь да и отомстит.
Но Мехтар, похоже, его не помнил – а может, просто не держал на него зла. С Бардо дело шло даже легче, чем у всех прочих – возможно, потому, что резчик уже набил руку на нас пятерых. Но Бардо не успокоился, пока не проверил свою мужскую силу экспериментальным путем. Система, по всей видимости, функционировала нормально: он сказал, что трахнул двенадцать баб за один вечер, что было рекордом даже для него.
Работа над моим лицом началась вскоре после этого, в конце ложной зимы. Мехтар сделал мне новую челюсть с более крупными зубами. Резцы были покрыты несколькими толстыми слоями эмали, сама челюсть, массивная, выступала вперед, чтобы уравновесить усиленные челюстные мускулы. Я мог разгрызать орехи бальдо и кости без всякого труда. Этот этап работы был ювелирным, особенно когда дело коснулось глаз. Мое новое лицо, если смотреть на него в профиль, составляло более острый угол с черепом, поэтому Мехтару пришлось изваять мощные надбровные дуги для защиты уязвимых глаз. Он делал это медленно, чтобы не повредить зрительные нервы, и почти двое суток я оставался слепым. Я думал, что никогда уже не прозрею, и гадал, как это Катарина находит дорогу в надетом на голову черном мешке.
Когда резчик завершил свой кропотливый труд и я снова стал видеть, он поднес мне серебряное зеркало.
– Загляденье, а? Обрати внимание на нос – я расширил его, пока ты был незрячим и находился под наркозом. Ноздри-то, ноздри каковы! А ну-ка, пошевели ими. Раздуй, закрой и опять раздуй. Вот так. Хорошая защита против холода. – Во время этой горделивой речи Мехтар не переставая работал собственными ноздрями. – До чего у вас планета холодная – жуть.
То, что отражалось в зеркале, было не похоже на меня. Точнее, это походило на мутировавшего Мэллори Рингесса, который на две трети остался собой, а треть взял от зверя. Лицо, сильное и пропорциональное, было примитивным, но не менее выразительным, чем у всякого человека. Вот так, должно быть, выглядели мои предки со Старой Земли. Я не мог решить, красив ли теперь, безобразен или ни то ни се. Я пощупал надбровные дуги – они напоминали скальный карниз. Я не привык видеть себя заросшим бородой и не мог удержаться, чтобы не трогать языком здоровенные новые зубы. Мной овладели растерянность и подавленность. Я чувствовал симптомы утраты личности, как будто перестал сознавать, кто я, – или, еще хуже, как будто меня вообще не существовало. Но тут я взглянул себе в глаза – они, хоть и сидели теперь глубоко в черепе, остались теми же, голубыми и хорошо мне знакомыми.
Должен признаться, что так, как я, больше никто не мучился. Мать, Жюстина и, конечно же. Соли уже не раз прошли через шок обновления своих старых тел. Это не значит, что плоды деятельности Мехтара их полностью удовлетворяли. Соли, например, негодовал оттого, что мы после стольких болезненных операций все-таки остались похожими на себя прежних. (Впрочем, он, как обычно, не высказывал этого вслух.) Жюстине был ненавистен весь ее новый облик. Увидев, что сделал с ней Мехтар, она воскликнула:
– Нет, вы посмотрите только! На катке в Хофгартене меня засмеют, да и как я теперь буду кататься? Центр тяжести у меня переместился – как хочешь, так и поворачивайся! – По этому поводу она дулась три дня. Когда Соли сказал ей, что алалои сочтут ее красавицей, она спросила: – А ты как считаешь? – И Соли, любящий выдавать себя за правдолюбца, промолчал.
Перед первыми бурями средизимней весны мы подверглись менее серьезным переменам. Мехтар обработал нашу кожу, удалив лишние потовые железы, чтобы мы не промочили насквозь свои меха и не замерзли, оказавшись в ледяном футляре. Он также стимулировал отдельные волосяные фолликулы, и мы, как мужчины, так и женщины, обросли волосами с головы до пят. (По причине, которую Мехтар не сумел объяснить, у Бардо между пальцами ног и на подъеме тоже появилась густая черная поросль. Мехтар сказал, что бывают генетические отклонения, против которых даже лучшие резчики бессильны.) В этот период мы все поднимали камни и проделывали энергичные упражнения, чтобы стимулировать рост мускулов. Мехтар в своем тренажерном зале массировал нас, а также применял фравашийский метод, при котором на мускулы вдоль конечностей наводится распределенная сверхнагрузка. Соли ненавидел это не менее всех прочих процедур, которые Мехтар с ним проделывал.
– Если так пойдет и дальше, – говорил он, сгибая руку с громадным бугром бицепса, – у меня будет туша, как у Бардо.
Занимались мы и мыслительными упражнениями. Мы, каждый индивидуально, посещали геноцензора, которая помогала нам представить зрительно работу отдельных мышц и вкладывала в наши нервные центры знания, необходимые, чтобы выглядеть настоящими алалоями. Мы научились, например, обтесывать кремень, даже не прикасаясь рукой к камню. Алалойским мужчинам требуется десять лет, чтобы научиться попадать копьем точно в цель, мы же постигли это искусство за один день.
Я забыл упомянуть еще об одной мелкой операции. Алалои острыми кремневыми лезвиями проделывают то же самое над членами подростков мужского пола. Крайняя плоть обрезается, и вдоль ствола делаются крошечные насечки, в которые втираются зола, соль и разноцветные порошки. Когда раны заживают, на члене мальчика, ставшего мужчиной, остаются ряды миниатюрных разноцветных келоидных рубцов. Бардо, само собой, пришел в ужас, узнав, что Мехтар собирается сымитировать этот варварский ритуал. (Я скрывал это от него до последнего момента.) Сам я тоже испытывал некоторое беспокойство – оно усилилось, когда Мехтар, ухватив меня за член, пошутил, что если он, мол, окончательно его испортит, то запросто превратит меня в женщину, да так, что никто и не догадается, как было раньше. Но все опять прошло гладко, хотя я несколько дней старался не смотреть вниз, когда мочился.
Под конец Мехтар сделал Катарине новые глаза – тогда я думал, что это последняя его операция. Он имплантировал их во впадины под ее темными утолщенными бровями. Глаза были красивые, красивее даже, чем мне мечталось – именно такие имела Катарина, чье изображение показала мне Твердь: темно-синие, словно жидкие сапфиры. Я поднес Катарине зеркало, но она отстранила его.
– Я слишком долго смотрела в себя – теперь я хочу видеть то, что снаружи.
Как ребенок, впервые глядящий в телескоп, она рассматривала вещи в операционной Мехтара: белую плитку, сложные микроскопы, лазеры, разные блестящие инструменты. Когда я повел ее в Хофгартен посмотреть на конькобежцев, она со вздохом сказала:
– Как это хорошо – снова видеть! Я забыла, какого цвета лед, какой он голубой.
На следующий день у меня дома она исследовала меня не только руками, но и глазами. Горячими сухими пальцами она провела по цветным рубцам у меня на члене. Очевидно, это ее возбуждало – может быть, алалои раскрашивают себе члены как раз для того, чтобы нравиться своим женщинам? (Впрочем, насколько я знал их культуру, они мало что делали исключительно с этой целью.) После, когда мы, задыхаясь, прижимали друг к другу наши наращенные тела, в момент наивысшего экстаза, она открыла глаза и посмотрела на меня так, словно видела впервые.
– Твое лицо, – сказала она, когда мы разомкнули объятия, – как у самца… такое зверское.
Я пощупал здоровенную челюсть под бородой и согласился, что оно и правда зверское.
– Да нет, ты не понимаешь. Я увидела что-то, чего в детстве знать не могла. Все мужчины звери, если посмотреть на них в нужный момент.
В последующие дни мы были очень заняты. Чтобы стать похожими на алалоев, одной физической переделки, разумеется, было мало. Нужно было стать алалоями, для чего требовалось изучить их язык и впечатать в мозг миллион битов специфической информации. Способ потрошения снежного зайца, укладывание головой на север во время сна, слова и интонации при погребении умерших – всему этому следовало учиться. Языкдеваки, алалойского племени, к которому мы намеревались примкнуть, оказался труднее, чем я полагал. Не то чтобы мы испытывали трудности с запоминанием или произношением – нет. Моя мать обнаружила, что когда-то акашикские компьютеры вскрыли сознание алалоя по имени Рейнер, сделав запись его мыслей, деяний и памяти. Перенести его память в нашу вместе со словарем и грамматикой девакийского языка было очень просто. Мягкие округлые гласные и сочные согласные тоже запросто слетали с наших тренированных языков. Только ознакомление с тональностями заняло некоторое время. Некоторые девакийские слова отличаются друг от друга по смыслу только посредством повышения или понижения тона гласных. Например, «сура» может означать либо «одинокий», либо «пурпурный» в зависимости от того, по восходящей или по нисходящей произносится первый слог. Но в конце концов все мы, кроме Бардо, овладели этими немногими словами. А вот понимание далось нам не так просто. Морфология, особенно касающаяся глаголов, оказалась весьма сложной. Прошлое, настоящее и будущее время в нашем понимании у деваки отсутствовали, поскольку они понимали время не так, как мы. (Как мне предстояло убедиться позже, деваки отрицают существование прошлого и будущего.) Как же они тогда спрягают свои глаголы? Они спрягают их в зависимости от состояния оратора. Так, человек, охваченный страхом, может выкрикнуть: «Ля мора ли Тува! Я убил мамонта!», тогда как человек в сон-времени – в том, что у деваки соответствует сон-времени – может сказать: «Ля мориша ли Тува», что означает примерно следующее: «Я, в экстазе вечного «теперь», встретился с духом мамонта, открывшего свое сердце моему копью». Существует сто восемь видов спряжения, каждое из которых соответствует определенной эмоции или состоянию ума. Меня смущало то, что не меньше семи этих состояний были чужды мне и недоступны пониманию кого бы то ни было в Ордене. Как же выбрать правильную грамматическую форму, как понять этих дикарей, препарирующих и осмысливающих реальность совсем не так, как мы?
Мы с матерью и Жюстиной затратили немало времени, обсуждая эту проблему с семантологами. Яннис Старший, ростом выше всех известных мне людей, тонкий и хрупкий на вид, как сосулька, предложил для расшифровки этих необъяснимых состояний обратиться к Подругам Человека.
– Насколько я понял, вы частично овладели их языком запахов, – сказал он мне, ссылаясь на мой опыт, приобретенный в Тверди. – Почему бы для понимания чуждого нам мышления, каковым, в нашем понимании, является девакийский менталитет, не обратиться к настоящим инопланетянам, которые, возможно, сочтут, а возможно, и нет, что вышеупомянутый менталитет способен понять любой, кто понимает, что все непонятное непонятно лишь в контексте непонимания. – (Именно так они изъясняются, семантологи, эти несчастные педанты, доискивающиеся до смысла слов. Я не шучу.) Толку от его предложения было мало. Когда ударила глубокая зима, заключив Город в море почти что жидкого воздуха, нам пришлось прервать наши изыскания в области этих эзотерических материй. Язык и обычаи деваки мы могли освоить лишь до определенных пределов – дальше нужно будет импровизировать.
Леопольда Соли перспектива подобных импровизаций не вдохновляла. По-своему он был человек скрупулезный, несмотря на фантастический риск, которому часто подвергал себя в мультиплексе. По мере того как срок нашего отправления приближался, он все придирчивее относился к моим планам и приготовлениям. Мы спорили из-за сотни мелочей, от количества нарт до того, сколько раций брать с собой. Я настаивал, что одной будет достаточно, чтобы вызвать помощь из Города в случае чрезвычайной ситуации. Случалось, спор заходил и о более важных вещах. Из-за одного такого вопроса экспедиция чуть было не развалилась, не успев начаться.
На самом краю Упплисы, колледжа высшей ступени, стоит ряд зданий, известных как Мозговые Коробки. Кровли семи этих низких строений из розового гранита сложены из треугольных стеклянных пластин – в бесснежные дни это обеспечивает яркое естественное освещение. Во времена Рикардо Лави технари и программисты выращивали здесь нейросхемы для компьютеров, но потом все предприятия такого рода были перенесены на территорию к югу от Уркеля. В ту зиму перед нашей экспедицией два из этих просторных помещений были предоставлены кадетам, ваявшим огромные скульптуры из льда, и всем остальным, желающим заняться ручными ремеслами. В третьем и четвертом фабулисты создавали свои трехмерные тоновые поэмы, в пятом историки реконструировали в миниатюре подземные города Старой Земли. Пустое седьмое здание Соли облюбовал под склад нашей экспедиции. Вдоль голой стены, выходящей к западным воротам Академии, лежали длинные тяжелые копья для охоты на мамонта, связки белых шелковистых шегшеевых шкур, кожаные ремни и гибкие деревянные пластины, пригодные для изготовления лыж или санных полозьев. Имелись там еще кожаные мешки со строганиной из мороженого мяса, снежные очки, груды горючих камней и кремня и сотни других вещей.
Ранним утром шестидесятого дня я сидел в этом холодном помещении один и готовил собачью упряжь. Соли, не доверяя поспешной мозговой печати, настоял, чтобы мы практиковались в обработке кожи, обтесывании кремня и прочих девакийских ремеслах. Я протыкал дырки в куске кожи костяным шилом. Рядом со мной устроился красивый ездовой пес по имени Лико. Я подружился с этим умным зверем, и он любил смотреть, как я работаю, сам усердно трудясь над полученной от меня мозговой костью. Я разговаривал с ним, временами поглаживая его серую лохматую голову. Внезапно он насторожил уши, заскулил, и я услышал, что к дому подъехал конькобежец. Дверь открылась, скрипя по замерзшему снегу, и в мягком свете с улицы обрисовалась темная фигура Соли. Несмотря на мороз, он был в одной камелайке и тонкой шерстяной куртке, с непокрытой головой. Добавочный вес наращенных черепных костей не мешал ему держаться очень прямо. Его походка, когда он шел ко мне, была ровной и грациозной – отдаю ему должное, – но при этом содержала в себе грозный намек на новообретенную силу.
– Ты рано поднялся, – сказал он, взяв зубило и мамонтовый бивень, и огладил густую черную бороду, пронизанную рыжиной. Под глазами у него были мешки, как будто он не выспался; он выглядел довольно пожилым и был слишком худ, потому что плохо ел. Он свистнул Лико, понаблюдал за мной и сказал: – Так шило не держат. Смотри, проткнешь себе ногу.
Некоторое время мы работали молча. Слышны были только скрежет кремня по кости и мягкий звук протыкаемой кожи – да еще Лико хрустел своим мослом. Время от времени Соли прятал шею в воротник и выдыхал облачко пара. Я сказал, что глупо оставаться на таком холоде с непокрытой головой, и он ответил:
– Глупо готовить себя к холодам Десяти Тысяч Островов? Глупо закаляться, рассчитывая на худшее? Я вижу, это ты боишься заглядывать вперед, а не я.
– Что вы хотите этим сказать? – Скрипнув зубами, я проткнул очередную дырку.
– Отверстия должны располагаться через равные промежутки, – указал он. – Иначе деваки сочтут нас неумехами. Что до планов, то твой план сбора образцов никуда не годится.
– Это еще почему?
Я собирался использовать в качестве генетического материала обрезки ногтей, волосы и тому подобное, производя их сбор со всей возможной осторожностью. Хранитель Времени поставил нам условие: деваки не должны знать, что мы нарушили договор между основателями Города и алалойскими племенами; они не должны узнать, кто мы на самом деле.
– Твой план недостаточно хорошо продуман. Собирать образцы кожи и прочее может оказаться не так легко, как тебе кажется.
– Вы можете предложить нечто лучшее?
– Могу – правда, это придумали женщины, а не я. – Он потер руки и принялся, стуча зубами, прилаживать длинный костяной полоз к деревянной распорке.
– Так посвятите и меня в их замысел.
– Все очень просто, – сказал он, почесав нос. – Известно, что деваки неразборчивы в половых связях. Жюстина думает, что нашим женщинам нетрудно будет собрать образцы их спермы.
– Но ведь со стороны Жюстины это адюльтер! – вскричал я. – И если вы полагаете, что моя мать будет…
– Ни твоя мать, ни Жюстина сперму собирать не будут. Никто не станет требовать от твоей матери невозможного, а Жюстине, как замужней женщине, это и вовсе не пристало. Жюстина особо подчеркнула, что здесь нужна женщина свободная. Сбором спермы займется Катарина.
– Катарина?!
– Да.
– Ваша дочь?! Хотите сделать из своей дочери шлюху?
– Катарина сама это предложила – не я.
– Я вам не верю!
Он бросил на меня быстрый взгляд, и я понял, что протестую слишком уж бурно. До этого момента он, возможно, и не подозревал омоих чувствах к Катарине. Я стиснул зубы и сжал шило так, что оно впилось мне в пальцы.
– Дочь, говоришь? – Он улыбнулся, и мне захотелось вогнать шило прямо ему в глаз. Никогда еще я не затрачивал таких усилий на борьбу со своей яростью, никогда так себя не сдерживал. – Да, она действительно ею была.
– Не понял.
Он уставился на свой полоз, трогая его большим пальцем, – так, словно смотрел не на материальный предмет, а на отрезок своей прежней жизни. Как я ненавидел эту его замкнутость! В каждом человеке и в каждой проблеме он умудрялся найти предлог для покаянного исследования рубцов и потемок собственной души.
– Раньше, когда она была маленькая, – медленно проговорил он, – мы понимали друг друга с одного взгляда. Она была умна не по годам и такая хорошенькая. Но когда она стала скраером – не пилотом, согласно моему желанию, а проклятым скраером, – мы не могли больше обмениваться взглядами, потому что она вырвала себе глаза. Нет, Катарина покинула меня уже давно.
Я сказал, что не могу поверить, чтобы женщина из нашего Города, а в особенности моя кузина, согласилась лечь с деваки – хотя, по правде, я легко себе представлял, как она выкачивает жизненные соки из грубых и похотливых пещерных самцов.
– Возможно, цивилизованные мужчины ей наскучили, – сказал Соли. Мне казалось, что он смотрит на мои стиснутые пальцы, на дрожащие руки. – А возможно, ей просто интересно – она всегда была любопытной.
Я ткнул шилом куда попало, ощутил острую боль в бедре и вскрикнул. Костяное острие проткнуло мои шерстяные штаны, и на них расплывалось темное пятно. Лико, усердно грызший кость, вскочил на ноги, принюхался и заскулил, переводя взгляд с Соли на меня.
Соли покачал головой, глядя, как я обнажаю рану.
– Нужна помощь, пилот? Экая неосторожность. – И он протянул ко мне руку.
– Будь ты проклят! – Я встал и сгреб его за локти, а он – меня. По ноге у меня струилась горячая кровь, и Лико лаял, не зная, как ему быть. – Будь ты проклят!
Мы стояли, крепко сцепившись, и я чувствовал мощь его нового тела. Я пытался высвободить одну руку, чтобы вцепиться в мягкое место у него под ухом и оторвать ему челюсть, – но он держал меня с такой же силой, как я его. В его холодных глазах я читал полную уверенность в том, что мы, с нашими укрепленными связками и сухожилиями, способны уничтожить друг друга – разорвать на куски, поломать кости, превратить драгоценный мозг противника в месиво. Сильный мужчина может быстро убить сильного мужчину – в тот миг я понял это и знал, что Соли тоже читает в моих глазах сознание этого. Я знал, что никогда больше не смогу напасть на него в гневе, не будучи готов убить его.
Я выдернул шило из бедра и бросил его на связку шегшеевых шкур. Оно подскочило, оставив кровавый след на белой выделанной коже. Я попытался остановить кровь так, как это сделал поранивший руку Мехтар. Мозг способен управлять мускулами тела, и это настоящее чудо. Я попытался осуществить это чудо на практике, а Соли, потрепав Лико по голове, кивнул мне и сказал:
– Я понимаю, как тебе больно.
Не знаю, о чем он говорил: о ноге или о моем бешенстве по поводу предлагаемой деятельности Катарины. Больше он не упомянул об этом ни словом (и Катарина тоже не ответила мне, когда я спросил, действительно ли она сама вызвалась собирать сперму). Десять дней спустя, в начале самых жестоких морозов глубокой зимы, перед рассветом, Бардо, я и все мое злосчастное семейство вывели наши груженые нарты из склада. Мы проследовали по улицам Академии к Крышечным Полям, где ждал ветрорез, чтобы, пролетев шестьсот миль, высадить нас среди западных льдов.
8 КВЕЙТКЕЛЬ
Итак, Человек поместил свое семя в Пробирку, после чего из искусственных чрев вышло множество как человеческих рас, так и тех, что больше не были человеческими. Элиди отрастили крылья, агатангиты придали себе форму тюленей, чтобы плавать в водах своей планеты; хоши овладели трудным искусством дыхания метаном, алалои открыли для себя древние, но неувядающие ремесла. В Цивилизованных Мирах немало таких, кто постарался хоть немного, да улучшить свою наследственность. Эталоны Бодхи Люс, например, пожелали, чтобы их дети были выше их, и постепенно, дюйм за дюймом, поколение за поколением, вывели человеческую породу десятифутовой вышины. Когда люди с разных планет обнаружили, что больше не могут вступать в браки и иметь детей естественным путем, воцарился хаос. Так Человек сформулировал третий и самый важный из своих законов, который позднее назвали законом Цивилизованных Миров: человек может делать со своим телом что ему вздумается, но его ДНК принадлежит его виду.
Хорти Хостхох, «Реквием по хомо сапиенс»Десять Тысяч Островов – это огромный архипелаг, разбросанный на четырех тысячах миль океана, острова широким полумесяцем тянутся от Ландасаллы на крайнем западе до Невернеса на юго-востоке. В действительности их не десять тысяч, а намного больше. Большинство из них – это мелкие вулканические образования, ставшие почти плоскими под действием ветра, льдов и силы тяжести. На этих тундровых островках растет только осока и лежит плотный снег. (Собственно говоря, «Десять Тысяч Островов» – это вольный перевод девакийского «гелагеласалия», что означает «много-много островов». Деваки, как и все алалойские племена, обозначают все числа больше двадцати выражением «гела».) Все тридцать три племени расселились на более крупных островах. В южной группе архипелага, которая называется Алигельстеи, или Сверкающие Камни Богов, жизнь бьет ключом. Острова эти очень красивы. В их вечнозеленых лесах алалои охотятся на шегшеев и грузных мамонтов, заслоняя глаза от ярких переливов снеговых полей; здесь в своих снежных хижинах и пещерах они пьют кровяной чай, любуясь звездами.
Шестнадцатый остров носит название Квейткель, как и большая белая гора, подымающаяся на пятнадцать тысяч футов над уровнем моря. По словам моей матери, впечатавшей себе наиболее релевантную часть памяти Рейнера, именно там, в пещере под южным склоном, мы должны были найти деваки. Каждую зиму, когда море замерзает, разбросанные семьи этого племени переезжают на собаках по льду с ближних островов – Ваасаллы, Ялкеля и Аллсаллы, а также с Савесаллы и Аурунии, довольно отдаленных. Они собираются, чтобы подыскать жен своим сыновьям и совершить обряды инициации; собираются, чтобы обменяться рассказами и подарками и просто из-за темных ночей глубокой зимы: страшно быть одним, когда холод норовит высосать из тебя жизнь вместе с дыханием.
Наш план состоял в том, чтобы подъехать к Квейткелю с юга под видом семьи, желающей воссоединиться с домом своих предков. По легенде мы должны были представиться как потомки Сенве, храбреца, покинувшего своих девакийских родичей четыре поколения назад, чтобы основать собственное племя. (Я надеялся на то, что память не подвела Рейнера и такой человек действительно существовал. Неужели он взаправду отправился через южные льды на поиски Пеласалии, сказочных Благословенных Островов? К югу от Квейткеля островов нет, ни благословенных, ни каких-либо иных. Если Сенве в самом деле отправился на юг, и он, и его злополучная семья должны были погибнуть в холодном бездонном море, когда лед вскрылся под ярким солнцем ложной зимы.) Под покровом тьмы наш ветрорез сядет в десяти милях от южного берега Квейткеля. Там, где ветер, не зная преград, ревет над тысячами миль морского льда, мы запряжем своих собак, облачимся в меха и совершим короткий переезд до нашего нового дома.
В брюхе серебристого ветрореза мы мигом преодолели шестьсот миль, отделявших Неверное от первого из Внешних Островов. Два поколения назад этот же путь, только по льду, проделал Гошеван. Мы путешествовали гораздо быстрее и легче, чем он, за короткое время мы прошли над пятнадцатью Внешними островами, браконьерскими угодьями червячников, которые, рискуя жизнью под лучами лазеров, доставляют драгоценные натуральные меха городским тубистам. Под нами, скрытые чернильной тьмой, проносились лесистые горы и белые стада шегшеев. Там же – если опять-таки положиться на память Рейнера – находилось потомственное обиталище Еленалины и Рейналины, двух крупнейших семей девакийского племени.
Следую нашему плану, мы сели к югу от Квейткеля. Я, во всяком случае, полагал, что мы сели именно там. Нам приходилось полагаться на штурманское искусство кадеталетчика, только что вышедшего из Борхи. (Ирония заключается в том, что мы, пилоты, с легкостью проделывающие путь от Утрадеса до Гелид Люс, напрочь лишены способности управлять ветрорезом, что, казалось бы, гораздо проще.) Почти молча мы выгрузили наши нарты и пятнадцать скулящих собак. Мы работали быстро, чтобы Марков Линг, наш летчик, снялся еще до восхода солнца – иначе наш обман стал бы очевиден для любого, кто мог смотреть на нас с далекого берега.
В темноте и на морозе я долго провозился с упряжью: звезды давали слишком слабое освещение. Мои собаки рычали, огрызались друг на дружку и кусали мерзлые кожаные постромки. Ветер гнал поземку, и их пробирала дрожь. Бардо рядом со мной дал тумака вожаку своей упряжки Алише. В шегшеевой шубе с туго завязанным капюшоном он смахивал на белого медведя. В промежутках между руганью он переговаривался с Жюстиной, но я не разбирал слов из-за ветра. Соли, на которого ветер как будто не действовал, уже запряг собак и проверял, как закреплен груз. Женщины, по алалойскому обычаю, помогали чем могли. Но Жюстина слишком туго затянула постромки моей третьей собаки, Тусы, и он лязгнул на нее зубами, чуть не порвав ей рукавицу. Мать тут же накинулась на злобного пса с кнутом и хлестала его, пока он не взвыл и не припал брюхом к снегу.
– Этот Туса просто зверюга, – сказала она мне, перекрикивая ветер. – Я говорила, что надо было брать сук вместо кобелей.
Соли, все это время глядевший на нее с неразличимым во тьме выражением лица, сказал только:
– Кобели крепче. – И дал Маркову знак отправляться. Марков, не вылезавший из теплой кабины, подал ответный сигнал и запустил ракетные двигатели. Ветрорез с ревом рванулся вперед и взвился в темное небо на востоке. Гром прокатился по льду и затих.
Я не помню, чтобы когда-нибудь чувствовал себя таким же одиноким, как в то утро на морском льду. Я, путешествовавший в глубинах мультиплекса за миллиарды миль от другого человеческого существа, стоял лицом к востоку, глядя, как исчезает вдали красный ракетный огонь. Внутри легкого корабля – как и любого корабля – ты не одинок по-настоящему. Там, в надежной, как материнская утроба, кабине, ты испытываешь знакомое, успокоительное прикосновение нейросхем и знаешь, что тебя окружают творения человеческой мысли. А здесь, на льду, – только жестокий ветер и мороз, от которого воздух вокруг глаз и носа кажется жидким. Природа здесь убивает, и ни родные, ни друзья тебе не помогут. Впервые в жизни я оказался к ней так близок. Я буду убивать животных ради их мяса и шить себе одежду из их окровавленных шкур; буду складывать себе дом из плотных снеговых блоков, чтобы не замерзнуть до смерти. Ветер проникал мне под парку, и я вдруг понял самым осязательным образом, насколько нежна моя кожа, несмотря на черную волосяную поросль и белый мех. Снеговая крупа жалила мое смазанное жиром лицо; я слушал, как стонет ветер, и из моих прохваченных холодом легких тоже вырывались стоны, а в носу при каждом вдохе и выдохе образовывалась изморозь. Не в первый и не в последний раз я спросил себя, стоит ли то, что найду я на острове Квейткель, ноющих зубов и обморожений.
Вскоре Соли свистнул вожаку своей упряжки, и я понял, что пора ехать. Поскольку я выдавал себя за алалоя, то решил выдержать свою роль до конца. Я повернулся на все четыре стороны света, воздав благодарение утру. На востоке, где лед соединялся с небом, уже брезжил тусклый кровавый свет. На медленно синеющем небе от солнца, скрытого за краем земли, проступали розовато-серые полосы. На юге – серый туман и бескрайние льды. На темном западе еще не проступили из мрака очертания Савельсалии. Я поклонился на север и увидел Квейткель, стоящий в отдалении, как могучий белый бог. (Слово «кель» – «гора» – у деваки обозначает также и бога.) Его нижние склоны казались зелеными и серыми на фоне неба, но вершина уже зажглась оранжевым огнем.
– Квейткель, ни ля луришия, – прошептал я, надеясь, что меня никто не слышит. – Шантих, шантих.
Мы направили нарты на север и просвистали четыре низкие короткие ноты, за которыми последовала одна высокая и протяжная. Такой трелью деваки погоняют своих собак, не желая прибегать к кнуту. Собаки, блестя черными носами, вывесив розовые языки, натянули постромки и уперлись лапами в снег. Передние нарты вел Соли, за ним ехал Бардо. Женщины сидели на нартах. Не менее двух раз за это утро мать приставала ко мне, чтобы я дал ей поводья, но я не давал, раздраженно заявляя, что у деваки женщины не правят нартами. Ехать позади было выгодно по двум причинам: во-первых, мой вожак Лико был самым сильным и умным из всех наших собак, а во-вторых, мы двигались по следу, проложенному Соли и Бардо. Снег сам по себе был тверд и чист – намороженные полозья нарт скользили по своим колеям без усилий. Деваки называют такой снег саффель, крепкий снег, и он действительно был крепким. К середине утра мы покрыли больше половины расстояния, отделявшего нас от острова, и проехали бы еще больше, если бы не плачевное состояние наших собак.
Должен сознаться, что это по моей вине их морили голодом. Я придумал этот жестокий план с самого начала. Из всего дурного, что я делал в жизни – а такого наберется немало, – я в некотором смысле больше всего сожалею об этом истязании, которому подверг ни в чем не повинных тварей. Это необходимо, внушал я себе и остальным, – необходимо для того, чтобы сделать вид, будто мы проехали большой путь. Если бы мы действительно проделали тысячу миль по льду, как притворялись, наши собаки вымотались бы и отощали, получая половинную порцию в течение многих дней. С этой целью, вопреки мнению Соли, я потребовал, чтобы собакам давали корм очень скупо. Больше того, я сам перед отъездом из Города натер им лапы соленым колючим снежным крошевом, пока те не начали кровоточить. А они скулили и смотрели на меня своими доверчивыми глазами. Я мучил их и морил голодом, чтобы деваки приняли нас как братьев и чтобы мы могли раскрыть секрет жизни. (Я и сам голодал, но знаю, что это не оправдывает моего варварства. Другие делали то же самое. Что такое человек, как не животное, способное вынести любые лишения и любую боль?)
Жалею я и о том, что нам с Бардо приходилось хлестать собак. Бардо орудовал кнутом всю дорогу до острова, не переставая ругаться. А вот Соли, чьи собаки, собственно, и прокладывали путь, хлыстом не пользовался. Он перенял у Лионела другой способ погонять их, освоив его лучше, чем сам Лионел. Его свист разносился далеко в утреннем воздухе. Это была красивая трель, очень мелодичная – я и теперь помню эти протяжные ноты. Свист побуждал двигаться быстрее и одновременно выражал понимание, как будто Соли знал, что такое голодные животы и замерзшие кровоточащие лапы. Он свистел, и собаки тянули из последних сил. Я надеялся, что скоро, если нам и дальше будет везти, их вознаградит жаркий огонь и кровавые куски свежего мяса.
Наконец мы добрались до скалистого берега. Полозья скрипели по снегу. Лицо у меня так окоченело, что я едва мог говорить и довольствовался тем, что слушал. Лай собак и громовой голос Бардо, крики талло, пикирующих с утесов над нами, хлопая крыльями на ветру, шорох поземки, бьющей в каменистые, встающие из моря мысы. А когда ветер утих и живые существа на миг умолкли, уши наполнила глубокая, необъятная тишина.
Примерно в миле от берега я понял, что наша высадка сулит нам немалые трудности. Южное побережье Квейткеля состояло из сплошных вулканических скал, торчащих из моря как корявые черные пальцы, изъеденные солью и снегом. Лед вокруг них застыл неровными, голубовато-белыми складками. Я предложил обогнуть остров и въехать на сушу по отлогому западному берегу. Когда мы остановились перекусить орехами бальдо, запивая их холодной водой. Соли возразил мне:
– Если предполагается, что мы прибыли с дальнего юга, мы должны с юга и появиться.
– Но с запада будет быстрее, – невнятным от холода голосом ответил я.
– Тебе, как всегда, не терпится, да?
– Возможно, деваки уже видели нас на льду, – продолжил он. – У них было целое утро, чтобы вдоволь наглядеться. – Я посмотрел на голые южные утесы, и в горле у меня запершило от предчувствия чего-то недоброго. Но я не скраер и потому ограничился словами: – Не нравятся мне эти утесы.
Хотел бы я знать, как выглядят наши нарты, если смотреть на них от устья девакийской пещеры. Ничто не кажется столь мелким и жалким на бескрайней пустыне льда, как человек и все им созданное. Три черточки, удручающе медленно ползущие по неоглядной белизне, – вот, пожалуй, и все, что можно разглядеть.
Соли сжал смазанные жиром губы.
– Вселенная не вращается вокруг Мэллори Рингесса, как и вокруг любого из нас. – Он, словно в поисках поддержки, посмотрел на Жюстину, сидящую на его нартах. – С чего бы деваки стали наблюдать за нами?
Я почесал нос, покрытый липким застывшим жиром.
– Если мы потащим собак через эти утесы, они нас сочтут дураками.
– Отчего же. – Соли заслонил рукой глаза и прищурился, вглядываясь в берег. – Вон, смотри. – Он говорил на девакийском, словно на родном языке. – Мы въедем по ледяному скату, который ведет к лесу.
– Подъем будет не из легких.
– Да, это верно.
Как выяснилось позже, ничего труднее нам в жизни делать еще не доводилось. Лед около берега застыл зеленовато-синими надолбами величиной с дом. Острые ледяные копья цеплялись за упряжь и норовили проткнуть собак насквозь. Были моменты, когда нарты застревали между торосами или, хуже того, повисали на краю глубокой трещины, а собаки выли от досады и страха. Не менее трех раз нам приходилось выпрягать их и перетаскивать нарты через нагромождения льдин, а однажды нарты пришлось разгрузить целиком. Бардо, ненавидящий всякие физические усилия, прикладываемые не в постели, всякий раз громогласно проклинал час своего рождения. Все остальные вели себя в соответствии со своим характером. Жюстина при каждом затруднении весело напевала и смеялась, потому что ей нравилось быть на свежем воздухе рядом со своим мужем. Катарина, рассеянно выполняя свою работу, любовалась блеском льда и зеленью далекого леса – она до сих пор не могла наглядеться на окружающий ее мир. Соли, видимо, любил задачи всякого рода, позволяющие ему проверить остроту своего ума и выносливость. Только мать – и это явилось одной из самых больших неожиданностей моей жизни – воспринимала эту рвущую жилы работу как должное. Опасные участки она преодолевала с грациозной уверенностью, явно наслаждаясь возможностями своего нового алалойского тела. Эта вновь обретенная радость бытия сказывалась в, том, как легко она тянула постромки и шла против ветра, упираясь унтами в скользкий лед; это сказывалось в выражении ее лица, очень красивого, несмотря на толстый нос и массивную челюсть.
Лишь во второй половине дня мы добрались до опушки леса. Мускулы у меня на руках горели огнем, и я растянул колено, когда Катарина поскользнулась и балансировавшие на краю обрыва нарты всем своим весом обрушились на меня. Я тоже поскользнулся и чуть не порвал связки – они выдержали только благодаря Мехтару. Да – как это ни абсурдно, я, хромая к лесу, воздавал в душе благодарность тубисту-резчику за то, что не остался калекой.
Бардо, прикидываясь, что надорвался вконец, уселся на камень и обхватил голову руками.
– Бог мой, как я устал! Видишь мои руки? Я даже кулаки сжать не могу! А холодно-то как… такой холод, что моча стынет, не долетев до земли – я бы показал тебе, да встать нет сил. Будь прокляты Шива Лал и Дризана Лал за то, что зачали меня. Будь прокляты Говинда Лал, и Тумир, и Ганиф… – Он еще долго проклинал своих предков: принцы Летнего Мира знают свою родословную назубок. Он клял их всех до десятого колена и клял воду, имеющую свойство застывать сосульками у него на усах. Но в тот миг я не питал к нему жалости, хотя и знал, что до своего прибытия в Город он ни разу не видел снега и льда.
Мать, взяв одну из собак и став на лыжи, отправилась в лес на разведку, Жюстина бинтовала шкурами стертые в кровь лапы других собак. Катарина, к моему изумлению и раздражению, склонилась над колючим кустом, держа голые руки над лепестками огнецвета.
– От него идет тепло, – сказала она. – Посмотри, как меняются краски: от огненной к кармину, от кармина к…
Соли влез на берег рядом со мной, и мы тут же начали спорить. Мне не терпелось поскорее доехать до пещеры деваки, но он заявил:
– Уже поздно. Нельзя, чтобы ночь застала нас в лесу.
– К ночи мы будем уже в пещере. До нее всего четыре мили, а лесом ехать легко.
– Да, если полагаться на память Рейнера.
– А ты ей не веришь? – с хитрецой осведомился я.
– Вера… – проворчал он, вытряхивая снег из унтов.
– Из темноты еще два часа.
– Ты уверен, пилот?
Я взглянул на запад: но мы находились слишком близко к утесу, чтобы видеть положение солнца. Я пожалел, что мы не взяли с собой часы. Это было бы легко сделать. В башне Хранителя Времени я видел часы величиной с ноготь моего мизинца – до того, как Мехтар переваял мои руки. Они были сделаны из какой-то живой субстанции, которая меняла цвета, отмечая прошествие секунд и часов – совсем как Катаринин цветок, меняющий оттенки от алого до пурпурного. Если бы я спрятал такие часы в своих мехах, то мог бы предсказать момент, когда солнце закатится за край земли.
– Надо было попросить технаря снабдить радио часами, – сказал я, возобновляя старый спор, – но ты побоялся нарушить запрет Хранителя.
Радио было спрятано в двойном днище нарт Соли вместе с криддовыми емкостями, куда мы должны были складывать собранные образцы тканей. Достать его было не так-то легко – мы воспользуемся им только для того, чтобы подать сигнал ветрорезу, когда закончим свое опасное задание.
Соли, видимо, тоже сожалел, что отказался нарушить этот запрет. Трудно это, должно быть, – носить звание Главного Пилота. Он устремил взгляд на утес, словно хотел проникнуть сквозь мергели и осадочные породы в самое сердце планеты.
– Хранитель прав, что ненавидит время. К чему нам беспокоиться о нем? Зачем нам часы, когда есть Мэллори Рингесс, утверждающий, что до темноты еще два часа?
Мать, вернувшись, доложила, что через лес можно проехать свободно и подъем не слишком крут. Это решило дело.
– Снег там глубокий, – сказала она, – но сверху крепкий наст, который не проламывается под лапами Ивара.
Мы стали запрягать собак для последнего перегона через лес, и тут случилось ужасное. Мне следовало насторожиться, еще когда Катарина вдруг бросила сбрую, выпрямилась и посмотрела на небо, словно на живописное полотно. Но я устал, был занят с Лико и не понял, что она смотрит на свое осуществляемое видение. Я затягивал постромки на широкой груди Лико, когда что-то выскочило из-за ближней скалы. Заяц-беляк, заложив уши, бешеными зигзагами несся по снегу. Лико рявкнул, вырвался у меня из рук и пустился вдогонку за зайцем.
Трудно описать то, что случилось потом. Трудно не только потому, что это запомнилось мне очень смутно, но и потому, что это причиняет мне боль. Лико мчался, почти белый на белом снегу, за такой же белой добычей. Бардо вскочил со своего камня, глядя вверх, и крикнул:
– Бог ты мой! Гляди! – Над краем утеса что-то мелькнуло. Заяц приближался к лесу, и я, тоже взглянув вверх, увидел синий силуэт на голубом небе. Талло, выставив когти, падала на зайца и на Лико – трудно было сказать, на кого именно, – падала камнем, нацелив задний коготь, как копье. Коготь вонзился в шею Лико. Раздался страшный тонкий крик – возможно, это слились воедино два звука: победный крик птицы и полный ужаса вой Лико. Собака упала на снег, судорожно сжимая челюсти. Я бежал к Лико, не понимая, почему он сам не пытается убежать. Я бежал к нему, полуослепший от снега и от страха, что талло сломала ему шею. Я бежал, намереваясь оторвать талло крылья и свернуть шею ей самой, а птица, глядя на меня ярким глазом, запустила когти Лико в бок, повернула голову, как бы недоумевая, и погрузила свой загнутый клюв в раскрытую, исходящую пеной пасть Лико. Еще один жуткий вопль – а потом тишина. Птица вскинула голову – все это время, которое как бы остановилось, я продолжал бежать, – держа в клюве розовый язык Лико. Щелкнув клювом, она проглотила лакомый кусок, не сводя с меня своего глаза. И снова клюнула, как будто времени у нее было невпроворот. На этот раз заорал я, а клюв вошел Лико в глаз, открытый и полный ужаса. Я рассекал воздух кулаками. Птица, запрокинув голову, разинула клюв, а потом лениво, все так же глядя на меня, подскочила, захлопала крыльями и взмыла ввысь. Я стоял над Лико, беспомощно сжимая и разжимая кулаки.
Подошел Соли, за ним Бардо и все остальные. Соли, глядя на визжащего Лико, сказал:
– Не видишь разве – он умирает?
Я молчал, уставившись на запятнанный красным снег.
– Это твоя собака, пилот. – Кровавая снежная каша стыла у меня на глазах. – Ты должен убить его, – сказал Соли.
Нет. Я не мог убить Лико, вожака моей упряжки, моего друга…
– Сделай это, пилот. Быстрее.
– Нет. Не могу.
– Будь ты проклят! – вскричал редко ругавшийся Соли, нагнулся и со страшной силой обрушил кулак на голову Лико. Хрустнул череп, и Лико затих, превратившись в кусок покрытого шерстью мяса. Соли выругался еще раз, прижал ладонь к виску и зашагал прочь.
– Лико умер, – сказал, подойдя ко мне, Бардо. Своей мощной ручищей он обнял меня за плечи. – Все, паренек.
Я хотел посмотреть на Лико, но не смог.
– Он был живой, – прошептал я, – а теперь мертвый.
– Вот горе-то, – промолвил Бардо, качая головой. – Вот горе.
Мне хотелось обнять Лико, пощупать его, подержать руку на его стынущем носу – но я не мог себя заставить. Он перестал быть живым существом, которое можно потрогать, – он стал мохнатым мешком, полным густеющей крови и костей, а когда вернется талло или придут волки, он него не останется ничего, кроме пятна на снегу.
– Он был красавец, – сказала Жюстина. И добавила так тихо, что ветер почти заглушил ее слова: – Лико, ми алашария ля шантих. – Это была заупокойная молитва деваки.
Я хотел повторить молитву, но слова не выговаривались. Я никогда еще не видел, как умирают животные. Я не верил, что дух Лико теперь упокоится по ту сторону дня. «Нет ничего прекрасного в том, что тиканье прекращается, – сказал Хранитель Времени. – Есть только чернота и ужас вечного ничто». Я смотрел на труп собаки и видел это ничто. Ветер, ревевший в ушах, ерошил его шерсть, как море ложной зимой, и я вспомнил, что уже видел смерть. Однажды в детстве, на берегу у Хофгартена, я видел, как чайка клевала труп другой чайки. Я очень хорошо запомнил это первое зрелище смерти: взъерошенные перья, вывалянные в песке и морской пене, и ярко-красные пятна обнажившегося мяса. В тот же день, продолжая свою одинокую прогулку по берегу, я увидел скелет заплывшего на мель кита – отлив уносил его в море. Я помню, как торчали вверх изогнутые белые ребра, словно стараясь поймать ветер. Да, я уже видел смерть, но никогда еще не видел, как умирают. Сломанные крылья чайки, голые ребра кита – все это были вещи, выброшенные на берег случайно, вещи, напоминающие о существовании таинственного и ужасного, которого следует избегать во что бы то ни стало. Я смотрел на красивое тело Лико, на его толстую шею и широкую грудь – это была уже не вещь, а нечто большее: он был неповторимым живым существом, которое на моих глазах перешло из жизни в смерть. Именно этот переход и ужасал меня. Именно акт умирания привел к тому, что у меня ныли все зубы и мускулы отказывались повиноваться. Я смотрел на Лико, и слезы замерзали у меня на глазах; я смотрел на Лико и презирал себя, понимая, что мои жалость и боль уже ничего для него не значат.
Я похоронил бы его, но снег был слишком плотен, чтобы копать. Соли на берегу свистнул своих собак, напоминая, что в лесу скоро станет темно и что времени на похороны у нас нет. Жюстина, в простоте своей полагающая, что никогда не умрет, сказала мне несколько глупых утешительных слов и пошла к мужу. Мать, стоя над Лико, потерла свои массивные надбровья.
– Это всего лишь собака. Стоит ли с ним возиться? Надо вернуться к нартам, пока не стемнело. – И она тоже ушла. Я посмотрел, как она выпрягает Тусу и ставит его на место Лико во главе упряжки.
– Варвары! – крикнул им Бардо. – Бросили бедного пса! – Он поднял голову к небу и разразился проклятиями. Он проклинал талло, убившую Лико, и богов, позволивших ему умереть; он проклинал родителей Лико за то, что произвели его на свет, а под конец проклял Соли и меня. Продолжая ругаться, он поднял кусок гранита и навалил его на Лико. Я взял камень поменьше и сделал то же самое. Таким манером, работая как сумасшедшие, мы быстро воздвигли над Лико могильную пирамиду.
Катарина пришла с пучком огнецвета, который нарвала в лесу, и возложила его на могилу.
– Я сожалею, Мэллори, – сказала она.
– Ты ведь видела эту талло, верно? Я имею в виду раньше, во сне. Ты знала, что это случится.
– Я видела… такую возможность. Я знала, но не… Не могла же я сделать так, чтобы и ты это увидел, правда?
Я смотрел, как съеживаются и вянут цветы: потребовалось всего несколько мгновений, чтобы их огонь угас.
– Надо было сказать мне о том, что ты видела. Я мог бы его спасти.
– Мне очень жаль.
– Не думаю.
– Не его – тебя.
Я мало что могу рассказать о нашем путешествии к пещере деваки. Через лес мы проехали быстро и легко, как я и надеялся. Мне запомнилась красота этого острова. Зелень деревьев на белых склонах, белые с зеленым холмы на голубом небе – как ни странно, именно эти сочные краски приходят ко мне, когда я вспоминаю трагические события нашей экспедиции. (Я говорю не о смерти Лико, а о трагедиях, которым еще предстояло случиться.) Собаки тянули исправно, преодолевая плавный покатый подъем. Здесь было не так холодно, как на льду, однако деревья трещали от мороза. Нам часто встречались поверженные стволы осколочника, занесенные снегом. Мы ни разу не видели, как они падают, но треск, которым сопровождалась их гибель, прокатывался от холма к холму. Глядя на длинные белые щепки, торчащие из снега, я понял, что Соли был прав и на ночь в лесу лучше не оставаться.
Когда свет стал меркнуть и тени почти сравнялись длиной с деревьями, мы обогнули небольшой холм. Впереди был еще один, повыше, и на его северо-восточном склоне чернела пещера деваки. К северу от обоих холмов высился Квейткель, белый великан – священный великан, по верованиям деваки. Но сейчас, глядя на закате дня во мрак пещеры, я не чувствовал никакого благоговения; я очень устал и разуверился во всем на свете.
9 ЮРИЙ ПРЕМУДРЫЙ
От Человека и Бомбы произошли хибакуся, миры Геи, Смерти, Ужаса и Первый закон Цивилизованных Миров, воспрещающий Человеку превращать водород в свет. Хибакуся, в свою очередь, заключили брак с Законом, от которого произошли афазики, Друзья Бога, астриеры, аутисты, маггиды и архаты с Ньювании. Ужас же сочетался со Смертью, и от них родился Экстр и великое Ничто. Ужас, кроме того, соединился с Законом, породив Пчелолюдей, которые, ценя жизнь меньше Порядка, подчинили свою Волю этому младшему божеству – Порядку. О Пчелолюдях мы не знаем почти ничего.
Хости Хостхох, «Реквием по хомо сапиенс»Наш въезд в пещеру ознаменовался лаем, криками и беготней детей, снующих между нашими нартами. Они отдирали ручонками покрышки, чтобы посмотреть, привезли ли мы с собой мамонтовые языки, шегшееву печенку и прочие девакийские лакомства. Вскрыв кожаные мешки с орехами бальдо, они увидели, как скудны остатки нашей провизии, и разочаровались. Они явно не заподозрили, что мы вовсе не их отдаленные родичи, а цивилизованные люди, явившиеся воровать их плазму. Мы стояли и ждали, когда подойдут их родители. Я повернулся лицом к входным кострам, и моя обледенелая борода понемногу оттаивала. Изнутри доносился плач младенцев и запахи жареного мяса, мокрых шкур и тухлятины. Я оказался неподготовлен к этому букету, и меня затошнило. В густое облако ароматов вплеталась застарелая моча на камнях, прогорклый жир, дым, сосновые дрова и детская блевотина, которой разило от шуб любопытных женщин; память Рейнера при всей своей точности оказалась неполной – эта вонь в ней отсутствовала. (В этом, видимо, проявился дефект акашикских компьютеров: память о запахах располагается на периферии мозга, слишком глубоко для акашиков.) Между кострами валялись разгрызенные кости, куски шкур и ошметки мяса. Надо было смотреть себе под ноги, чтобы не вляпаться в одну из многочисленных, полузамерзших собачьих куч на снегу. Нас окружили здоровенные мужчины деваки, одетые, как и мы, в шегшеевые шкуры. То и дело трогая наши меха, наши нарты и друг друга, они произносили слова приветствия:
«Ни лурия ля деваки, ни лурия ля». Соли, погладив по голове одного из ребятишек, сказал:
– Я Соли, сын Маули, сына Вилану-Китобоя, чьим отцом был Рудольф, сын Сенве, который покинул племя деваки много лет назад и отправился искать Благословенные Острова. – Он повернулся ко мне и обнял меня за плечи. – Это мой сын Мэллори; мы люди Сенве, который был сыном Ямалиэля Свирепого.
Мне было противно прикосновение Соли и противно представляться его сыном. Мне было противно все: вонь пещеры и мокнущие язвы на руках мужчин, обступившие меня вонючие тела и все прочее, говорящее о болезнях и смерти. Но смаковать свои ощущения было некогда, ибо наша мнимая родословная вызвала среди деваки великое волнение. Вокруг слышался смех и изумленные возгласы. Огромный одноглазый человек вышел, прихрамывая, вперед, охватил ладонями наши с Соли затылки и сказал:
– Я Юрий, сын Нури, сына Локни Несчастливого. – Юрий, в весьма пожилых годах, с косматой седой бородой и выдубленной возрастом кожей, был выше всех сорока мужчин в пещере за исключением Бардо. Огромный нос торчал между мощными скулами. Говоря с нами, он вертел головой, как талло, оглядывая единственным глазом наши нарты и изнуренных рычащих собак, как будто искал чтото и не мог найти. – Отцом Локни был Жиаси, – продолжал он, – сын Омара, сына Пайата, который был старшим братом Сенве и сыном Ямалиэля. – Он обнял Соли, молотя его кулаками по спине. – Мы все равно что братья, – сказал он, блестя большим карим глазом в свете костров. – Ни лурия, ни лурия. Соли ви Сенвелина.
Он ввел нас в пещеру. В тридцати футах от костров стояли две снежные хижины, куполообразные, сложенные из снежных кирпичиков, тщательно обтесанных и плотно пригнанных. У той, что в глубине, в стене имелось отверстие, достаточно большое, чтобы просунуть голову, и сама хижина была очень невелика. Другая, испещренная рябинами капели, была еще меньше первой. Когда Соли представил мою мать и Бардо как свою невестку и племянника, Юрий предложил им занять меньшую хижину. Ощупав бицепсы и грудные мускулы Бардо, он сказал:
– Бардо – странное имя, а ты – странный человек, странный, но очень сильный. – Он оглядел мою мать с ног до головы, словно сомневаясь, что она родила Бардо. – Тебе надо бы – назвать его Тува – мамонт. – Большую хижину он предназначил нам с Соли, Жюстине и Катарине. Мне показалось, что я не расслышал. Неужели он думает, что мы сумеем разместиться в такой тесноте? Я заглянул в стенное отверстие, но было слишком темно, чтобы что-то разглядеть. Вонь тухлой рыбы и мочи вызвала у меня желание разнести эту хижину вдребезги. – Постелите свои спальные шкуры, заделайте дыру, и вам будет тепло, – сказал Юрий. – А теперь я покажу вам пещеру Ямалиэля, сына Яна, чьим отцом был Мальмо Счастливый, сын… – Ведя нас в глубину пещеры, он перечислил всю родословную вплоть до легендарного Манве, сына Деваки, родоначальницы племени. (Согласно легенде, бог Квейткель оплодотворил Деваки своей остроконечной вершиной, и из ее чрева вышли Елена, Рейна, Манве и множество других сынов и дочерей.)
Пещера представляла собой туннель в застывшем лавовом потоке, вклинившемся на семьдесят ярдов в глубину холма. Она, несомненно, образовалась при выходе гигантского газового пузыря, раздвинувшего лаву, которая изверглась из какой-нибудь отдушины Квейткеля (горы, а не бога). Лава остыла, а газы улетучились сквозь трещины в затвердевшей породе. Затем очередное землетрясение вскрыло конец туннеля, открыв пещеру ветрам и снегу, – а после горстка алалоев нашла в ней приют. Напротив двух наших хижин, чуть дальше от входа, в почти ровном цилиндре пещеры располагались жилища одной из мелких семей племени, Шарайлины. Еще дальше, в середине, свисала с потолка сосулька твердой лавы. Лава, возможно, под давлением природных газов, застыла неровно и напоминала, если смотреть на нее, стоя лицом к входным огням, профиль улыбающегося старика.
– Это Пещерный Старец, – сказал Юрий. – Он улыбается, потому что настала глубокая зима и все его дети к нему вернулись. – Мы прошли еще глубже, мимо хижин Рейналины и Еленалины, к шести хижинам Манвелины – дальше, как мне показалось, ходу не было. Но тут послышался плач младенца, и Юрий сказал, указав в темноту: – Дальше помещаются родильные хижины – это моя внучка кричит.
Мы сели на грязные шкуры, расстеленные между хижинами Манвелины. Строго говоря, мы не принадлежали к этой семье, поскольку наш мнимый предок Сенве ушел из нее, чтобы создать свою собственную. Однако Юрий принял нас как родных. Он позвал двух своих здоровенных сыновей, Лиама и Сейва, посидеть с нами, а его жена подала нам миски с горячей похлебкой. Ее звали Анала, что значит «огонь жизни», – это была крепкая, статная женщина с ниспадающими до пояса седыми волосами. Она слишком много улыбалась, и мне не понравилось, что она сразу подружилась с моей матерью. Их объятия, пожимания рук и перешептывания казались мне подозрительными. Очень уж скоро мать преобразилась в деваки.
– Моя жена счастлива, что встретила свою сестру, – сказал Юрий, – и кто ее за это упрекнет? – Сам он, глядя на тусклое желтое пламя горючего камня, отнюдь не казался счастливым. Моя мать не пришлась ему по душе. – Расскажи нам о вашем путешествии, – сказал он Соли, – расскажи о Пеласалии, Благословенных Островах.
Когда Соли стал излагать заранее подготовленную легенду о нашем «необычайном» путешествии, вокруг нас собралось много деваки. Те, кому негде было сесть, стояли, вытянув шеи, и прислушивались, стараясь запомнить достопамятный рассказ Соли. Он закончил под удивленные ахи и скорбные возгласы. Висент, младший и чрезвычайно косматый брат Юрия, сказал:
– Это великая повесть – печальная, но великая. Мы будем молиться за духи наших родичей – матерей, отцов и детей, погибших в замерзшем море.
Соли сказал им, что Сенве не нашел Благословенных Островов, а нашел лишь голую ледяную пустыню, где жизнь была тяжкой и полной лишений. Наши предки, по его словам, не достигли благосостояния, и потомство их было немногочисленным. После смерти своего отца Маули Соли якобы решил вернуть тех, кто остался в живых, на родину предков. «Но жена Мэдлори Хелена и трое моих внуков подхватили горячку и умерли в пути. Жена же Бардо умерла в родах еще до отъезда».
Я почесал нос, смущенный столь беспардонным враньем. К моему удивлению (и удовлетворению, надо сказать), деваки, судя по всему, верили каждому слову.
– За детей мы будем молиться особо, – сказал Юрий. – Когда вы приехали без детей, я побоялся спросить у вас, что с ними случилось.
Соли с деланной скорбью потер виски и сказал:
– Благословенные Острова – всего лишь мечта. На юге нет ничего, кроме голых скал и льдов – вечных льдов. – Он сказал это, как было условлено заранее, чтобы никто из деваки не вздумал отправиться на юг и не погиб в погоне за мечтой.
Но Лиам с яркими голубыми глазами смельчака и мечтателя сказал:
– Вам надо было идти дальше на юг, а не возвращаться на Квейткель. Льды не могут тянуться вечно – на краю их лежат Благословенные Острова. Воздух там теплый, а с неба падает не снег, а вода.
– На юге нет ничего, кроме льда и смерти, – ответил Соли.
Лиам посмотрел на Катарину, откинувшую капюшон своей парки, и пробормотал:
– Пожалуй, это к лучшему, что вы вернулись на север.
Мне не нравился этот задиристый молодой человек и не нравилось, как он смотрел на Катарину, которая, поднеся миску к губам, дула на горячую похлебку. Даже по стандартам цивилизованного общества он был чересчур красив для мужчины со своим прямым носом и длинными ресницами. Волосы его и роскошная борода были золотистого цвета – масть, которая у человека всегда казалась мне неуместной. Его улыбку все находили обаятельной – я же, глядя, как он улыбается Катарине, мог думать лишь о том, что зубы у него слишком ровные, а губы слишком красные, полные и чувственные.
– На юге нет ничего, кроме льда и смерти, – в кои-то веки согласившись с Соли, подтвердил я. – Только глупец стал бы искать свою смерть во льдах.
– То, что для слабого сумасбродство, для сильного доблесть – так говорят у нас.
– Когда ты проедешь тысячу миль по льду и будешь вынужден убить вожака своей упряжки, тогда и поговорим о доблести.
Лиам, посмотрев на меня, смекнул, наверное, что лестью добьется большего, чем оскорблениями.
– Конечно же, только сила и храбрость позволили Сенвелине перебраться через замерзшее море, пережив бури и холодное Дыхание Змея. Мой брат Мэллори очень храбр, а моя сестра еще и красива. Это хорошо, что вы вернулись домой и такой красивой женщине не придется выходить замуж за Бардо, своего храброго двоюродного брата.
Мне неприятно было видеть, как улыбнулась ему Катарина после этих слов. Улыбка была дерзкая, интимная, с немалой долей любопытства. Необходимость выдавать себя за ее брата угнетала меня. Мне хотелось взять Лиама за шиворот, встряхнуть его и сказать, что это я довожусь Катарине кузеном, а не Бардо. А также сообщить ему и всем остальным, что, как только мы вернемся в Город, Катарина уж непременно выйдет за своего двоюродного брата – настоящего. Но я молчал, стиснув челюсти.
Юрий прошел в переднюю часть пещеры и снял с вертела над огнем несколько бечевок с нанизанным на них мясом. Он нес их на руке, не обращая внимания на текущий из обугленных кусочков сок. Одну из бечевок он вручил Соли, другую оставил себе, третью дал своему брату.
– Мы видели, как вы ехали с юга, – сказал Юрий. – Это был плохой год: шегшей и шелкобрюх ушли на Внешние Острова, а тува болен ротовой гнилью, и его стало так мало, что мы не можем на него охотиться. – Он поднес к носу обугленное мясо и понюхал его. – Остается Нунки, тюлень, но и его стало мало, потому что и рыбы убавилось. Нунки не хочет выходить на наши копья. Это тюленье мясо – последнее у нас. Лиам собирался съесть его на завтрак, и кто бы его за это упрекнул? Но мы увидели, как вы едете с юга, и решили, что если вы люди, а не духи, как подумал про вас Висент, то вам захочется поесть мяса.
Сказав это, он запрокинул голову, опустил в рот веревку и отгрыз часть ее своими крепкими белыми зубами. Мясо, к моему ужасу, под черной коркой было сырое. Юрий кусал, жевал, глотал, снова кусал, и кровь стекала у него по губам. Прожевав, он производил всасывающий мокрый звук, а жевал с открытым ртом, смачно перемалывая жесткое мясо.
Соли наблюдал, как он ест, и следовал его примеру, пожирая свое мясо, как дикий зверь. Юрий поел еще немного и передал то, что осталось, старшему сыну Лиаму. Соли, невозмутимо работая челюстями, тоже передал мне отвратительную, объеденную им связку мяса. Но я не мог к ней притронуться. Я, с таким пылом замышлявший этот романтический поход за тайной жизни, мучился тошнотой и цепенел при виде частицы этой самой жизни, болтающейся в сальных пальцах Соли.
Лиам, вгрызаясь в свое мясо, смотрел на меня. Юрий тоже обратил ко мне свой глаз, недоумевая, почему я не ем.
– Мясо хорошее, жирное, – сказал он, подмигнув мне, и облизнул усы. – Я не люблю убивать Нунки, но люблю его мясо.
Соли смотрел на меня. Висент и его сыновья, Вемило и Хайдар, тоже смотрели. Мать, Катарина и сто любопытных деваки – все они смотрели на меня. Бардо, сидящий с подогнутыми ногами рядом со мной, пихнул меня локтем. Я протянул руку и взял мясо. Оно было еще теплое, жесткое сверху, горячее, мягкое и податливое внутри. Я держал его легко, словно боясь повредить своими нервными пальцами. Жирный сок тек у меня по руке. Вот он брызнул мне в рот, и тошнота подступила к горлу. От запаха жареного меня чуть не вырвало. Я отвернулся, проглотил слюну и сказал:
– Мне следовало бы отдать это мясо моему двоюродному брату Бардо. Он больше меня и голоднее, чем медведь в конце средизимней весны.
Я посмотрел на Бардо, который действительно не сводил глаз с мяса, покусывая себе усы. Несмотря на приобретенный им культурный лоск, несмотря на глубокое отвращение цивилизованного человека ко всякому мясу, кроме искусственного, несмотря на то что поедание живого мяса было откровенным варварством, – Бардо, проголодавшись, съел бы что угодно.
Но Юрий, покачав головой, молвил:
– Разве сын отказывается от жизни, которую дали ему мать с отцом? Нет. Поэтому он не должен отказываться также от мяса, которое предлагает ему отец, и от питья, приготовленного матерью. Не болен ли ты, Мэллори? Иногда холод и ветер так изнуряют человека, что он не может есть. Он перестает чувствовать голод, и его голодный дух, которому не терпится попасть на ту сторону дня, начинает пожирать его собственное мясо. Я думаю, ты слишком долго не утолял свой голод – это и слепому видно. Я велю Анале приготовить кровяной чай, чтобы пробудить твой голод.
Держа в руке бечевку с мясом, я переборол тошноту и сказал:
– Не надо. Я съем это мясо. – В памяти Рейнера хранился рецепт этого самого кровяного чая. Как ни велико было мое отвращение к мясу, еще больший ужас вызывал у меня этот напиток, жуткая смесь тюленьей крови, мочи и горького корня осколочника. Я запрокинул голову, опустил бечевку в рот и откусил.
Не стану делать вид, что это мясо так уж отличалось от искусственного, которым мать пичкала меня в детстве. Оно, конечно, было жирнее и, пережаренное снаружи, внутри оставалось куда более сырым, чем положено быть мясу, – но особой разницы я не почувствовал.
– Мясо есть мясо, – как сказал Бардо, уминая его, когда я съел свою долю. Дело было не во вкусе, а в сознании, что я ем тело, которое еще недавно подчинялось командам живого мозга – мышечную ткань живого существа. В остальном это белковое вещество мало чем отличалось от клонированных, лишенных мозга мышечных клеток, выращиваемых в автоклавах. Я глотал его, и эта необходимость пожирать другую жизнь ради собственной ужасала и завораживала меня. Я чувствовал во рту вкус железа и соли, и мое промерзшее, обессиленное тело пробуждалось к жизни. Я откусил еще, и еще, и еще. Мясо было вкусное. Я так проголодался, что прикусил себе язык и глотал свою кровь вместе с тюленьей. Лишь почувствовав новый позыв к рвоте, я передал связку Бардо.
Последующая трапеза была еще отвратительнее. Та тухлятина, которую подавали нам Анала и другие женщины, вкусной уж никак не была. Деваки, взрослые и дети, грызли орехи бальдо и ели желтые заплесневелые ядрышки. Жена Висента Лилуйе, тощая нервная женщина со стертыми желтыми зубами, приготовила болтушку из больших голубых яиц талло. Яйца были уже насиженные, с зародышами, но их все равно ели, выковыривая Только глаза (это делалось потому, что птенцы талло появляются на свет слепыми, и деваки не хотели, чтобы их слепота перешла к ним). Подавались и другие блюда – я никогда бы не поверил, что человек может такое есть: сырой тюлений жир, который мать глотала, как шоколадные шарики; сырые потроха талло и других птиц; кости мамонта годичной давности, которые зарыли в землю, чтобы они размягчились, – и, разумеется, плошки с непременным кровяным чаем. (Я не хочу этим сказать, что деваки способны проглотить что попало. Это не так. Например, они никогда бы не стали пить воду даже с самой малой примесью грязи. Что до вышеупомянутых блюд – они ели их, потому что были голодны. Голод – лучшая приправа для жизни. Позже в ту зиму нам предстояло испытать еще и не то.)
Когда мы поели, Юрий погладил живот и произнес молитву за души животных, съеденных нами.
– Зима была холодная и трудная, – сказал он. – И прошлая тоже, и позапрошлая. Позапрошлая, когда умерла Мерили, тоже была плохая. Но если бы вы приехали пять зим назад, то полакомились бы мамонтовой мякотью. – Он зевнул и стиснул бедро Аналы, которая сидела рядом и искала у него в голове. – Но тува болен ротовой гнилью, поэтому завтра будем охотиться на тюленя. – Анала поймала у него за ухом какое-то насекомое, раздавила своими грязными ногтями и проглотила. Юрий, обращаясь к Соли, Бардо и мне, спросил: – Не слишком ли устали мужчины Сенвелины, такие же деваки, как и я, чтобы пойти с нами завтра на жирного серого тюленя?
Надо было предоставить отвечать Соли, поскольку главой нашей мнимой семьи был он. Но я наелся тюленьего мяса и не мог без ужаса подумать о том, чтобы убить столь разумное животное, поэтому брякнул:
– Мы устали. Мы устали, и наши собаки нуждаются в отдыхе.
Соли прожег меня взглядом, а Лиам вытер сальные руки о лицо своего младшего брата Сейва. (Что это было – защита против холода или варварское благословение? Я не нашел в своей памяти сведений об этом обычае.) Выковырнув ногтем застрявшее мясо из зубов, Лиам сказал:
– Твоя усталость не помешала тебе съесть тюленя.
Он нагнулся надо мной, обдав меня своим смрадом, и провел заскорузлой ладонью под моей паркой, щупая мускулы шеи и спины. Ох эти девакийские обычаи! Я содрогался от прикосновения холодных сальных чужих рук.
– Мэллори отощал, но силы не утратил, – объявил Лиам. – Думаю, он достаточно силен, чтобы идти на тюленя. Но он устал – пусть отдохнет на своих шкурах, а братья принесут ему грудинку, огузок и другие лакомые кусочки.
Я отстранился. Схватить бы его сейчас за горло и вырвать гортань. Я собрал воротник вокруг шеи и выдал такое, что вся наша экспедиция опешила:
– Да, мы устали, но не настолько, чтобы отказаться от охоты. В южных льдах мамонтов нет, поэтому мы часто охотились на тюленя. Я убил много тюленей; завтра я тоже убью одного и отдам Лиаму его печень.
Сказав это, я вспомнил, как пообещал проникнуть в Твердь. Но тогда я действовал под влиянием импульса и едва не поплатился за это жизнью, теперь же сделал это намеренно. Я убью тюленя. Не знаю как, но я убью это благородное животное. Я сделаю это, чтобы посрамить Лиама и заслужить уважение моей «семьи». Тогда, как полагал я, мы сможем быстро выполнить свою задачу и покинуть это грязное, варварское стойбище.
Мы еще долго сидели на шкурах, рассказывая байки о том, как охотятся на тюленя в южных морях. Миловидная дочь Аналы, Сания, разносила кровяной чай, который деваки лакали шумно, обмакивая туда губы и языки. Чуть позже я был шокирован, увидев, как маленький ребенок Сании сосет ее голую, с голубыми венами грудь. Многое шокировало меня той ночью, особенно откровенные страстные крики, несущиеся из ближних хижин Еленалины. Я слышал, как женщина дает интимные инструкции своему мужу – хотелось надеяться, что мужу; слышал хриплое дыхание, шорох шкур и прочие звуки, сопровождающие это животное совокупление. Поглощенный этими новыми впечатлениями, я не заметил, как Юрий подсел ко мне. Я смотрел на пламя, слабо трепещущее над горючими камнями, и вздрогнул, когда он тихо произнес:
– Не надо тебе убивать тюленя. Нунки – твой доффель. Вот почему тебе было так трудно есть его мясо – я должен был сразу это понять.
Я вспомнил, что деваки верят, будто у души каждого человека есть двойник, воплощенный в каком-нибудь животном, его доффеле, на которого этому человеку охотиться не следует.
Я быстро огляделся, но никто не обращал на нас внимания. Соли с Жюстиной ушли в нашу хижину, мать и Катарина сидели с Аналой, а Бардо развлекал остальных – если можно так выразиться – песней, которую сочинял по ходу исполнения.
Я ответил Юрию первое, что пришло мне на ум:
– Нет, мой доффель – талло. Мой дед сказал мне об этом, когда я стал мужчиной.
Юрий схватил меня за руку, всматриваясь в меня своим печальным глазом.
– Иногда бывает очень трудно понять, в ком из животных заключена твоя душа. Это трудно, и происходят ошибки.
– Мой дед был очень мудр, – извернулся я.
Тут все дружно рассмеялись, потому что Бардо переврал три слова в своей песни, что коренным образом изменило ее смысл. Он хотел спеть:
Я холостяк из южных льдов, И хочу я посватать невесту.Но он ошибся в произношении гласных, и у него получилось:
Я лиловый парень из южных лесов, И хочу я посватать вошь.Он, похоже, не заметил своей ошибки, даже когда Анала раскудахталась, как гагара, хлопая себя по ляжкам, и принялась рыться в золотой гриве Лиама, чтобы приискать Бардо «невесту». Все, очевидно, решили, что он ошибся нарочно, и Бардо приобрел славу великого остроума.
Юрий, улыбнувшись, сжал мне руку еще крепче. Лапищи у него были такие же здоровенные, как у Бардо, только тверже – многолетний труд и холод закалили их.
– Иногда, – произнес он со странной настойчивостью, – иногда деды, любящие своих внуков, не видят, что за душа прячется позади их глаз. У тебя глаза трудные, это и слепому ясно. Они голубые и свирепые, как ледовый туман, и смотрят они далеко. Кто же упрекнет твоего деда Маули за то, что он увидел в тебе гневную душу талло? Но Эйяй, талло, – не твой доффель, я и одним глазом это вижу. Нунки-тюлень, который любит вкус соли и холодный покой океана, – вот кто твой доффель.
Я не могу излагать здесь верования алалоев. Мне не хватит места, чтобы привести их обширную мифологию и систему тотемов, связанную с духами животных и тем, что алалои называют мировой душой. (Кроме того, я не уверен, что до конца понимаю принцип их телепатического общения с деревьями, тюленями, талло и даже со скалами. Даже после всего, что случилось с нами, я не понимаю, как алалои создает свой мир мгновение за мгновением, в трансе вечного настоящего.) Это сложная система и древняя, такая древняя, что даже историки не могут сказать, откуда она произошла. Бургос Харша полагает, что первые алалои взяли из суфийского мистицизма и других древних философий то, что подходило к их новым условиям жизни. Он считает также, что тотемную систему и способы вхождения в транс они позаимствовали у австралийских племен Старой Земли. Там, в пустынях изолированного континента, у человека было пятьдесят тысяч лет, чтобы выработать особый порядок символов и мышления. Это было сложное, логически выстроенное учение, основанное на причудливых иерархиях мысли и разума. Люди жили по определенному своду правил. Они предусматривали все стороны жизни: как мужчине разводить костер, в какую сторону ему мочиться (на юг, всегда на юг), когда ему разрешено совокупляться со своей женой. Какой бы наивной и примитивной ни казалась мне эта система, она представляла собой самую длинную и непрерывную интеллектуальную схему в человеческой истории. А поскольку Юрий, как старейшина племени, владел этой системой в совершенстве, я мог положиться на то, что он верно определил единственное животное, на которое мне охотиться не полагалось. Но я не послушался его и заявил:
– Завтра я пойду охотиться на Нунки, как сказал.
Юрий покачал головой и испустил долгий тихий свист – так делают деваки, оплакивая мертвых.
– Печально это, – сказал он. – Немногие знают, что время от времени рождается человек, не понимающий свое воплощение. Это делает его уязвимым, потому что его доффель предпочитает лучше истребить его, чем навсегда остаться в одиночестве. Такой человек не ведает, что значит быть единым. Поэтому он обречен убивать свое воплощение – понимаешь? Если он не будет этого делать, оставшаяся – бессмертная его половина никогда не станет полной. Это очень тяжело, и я должен спросить тебя: разве тебе хочется быть убийцей?
Мы еще долго говорили после того, как все прочие улеглись спать. Звучный голос Юрия – голос сказителя или шамана – держал меня, не давая уйти. В его словах мне слышалось эхо тайных учений. Эти слова, слишком простые, чтобы принимать их всерьез, тем не менее волновали меня. Он говорил, что страх перед этим убиением себя самого сделает меня больным, и предрекал, что скоро настанет день, когда мое мужество умчится прочь, как снежный заяц, и я, скрежеща зубами, закричу: «Все обман!»
– Ибо что такое страх – большой страх? Это не страх перед холодом или зубами белого медведя. Этого боится лишь наша плоть – такие страхи забываются, когда ты сидишь в тепле или играешь с женой. И это не страх смерти – ведь ты знаешь, что, пока племя молится за твою душу, ты будешь жить вечно по ту сторону дня. Большой страх – это когда ты боишься себя самого. Мы боимся стать теми, бессмертными. Открыть неизвестное внутри себя – все равно что прыгнуть в жерло вулкана. Это сжигает душу. Если ты убьешь своего доффеля, ты познаешь этот страх, и тогда страданиям твоим не будет ни меры, ни конца.
В конце концов я в состоянии полного изнурения доплелся до нашей хижины. Это был самый длинный день в моей жизни. (За исключением, конечно, тех дней в мультиплексе – если их можно назвать днями, – которые я провел в замедленном времени.) Я вполз через входное отверстие в тускло освещенное жилье и увидел, что кто-то уже разложил на снегу мои спальные шкуры. Я забрался в них, но боль в колене и еще одна боль мешали мне уснуть. Теплый желтый свет горючего камня позволял видеть фигуры спящих. Катарина лежала рядом со мной, дыша тихо и ровно, как волна, плещущая о берег. Соли, к моему изумлению, спал, обняв Жюстину. (Не знаю, что явилось для меня более сильным шоком: его нежность к ней или то, что этот мрачный Соли вообще способен спать.) Я пребывал в том возбужденном состоянии, которое не дает человеку забыться сном, даже когда он полностью обессилен. Я думал о том, что сказал мне Юрий. Соли скрипел зубами, вода капала с крыши, синкопируя с моим громким сердцебиением, ветер свистел в забитом льдом стенном отверстии – все эти звуки помогали моей бессоннице. Снежные стены чересчур хорошо защищали от холода. Хижина сильно нагрелась, и в ней воняло. Тепло спящих тел оживило запахи мочи, моего собственного кислого пота и еще какие-то, которые я не мог распознать. Вонь стояла такая, что дышать было нечем. Воздух душил меня, как пропитанное блевотиной меховое одеяло. Меня тошнило, и под ложечкой засел страх. Я сбросил с себя шкуры, быстро оделся, добежал до устья пещеры и выблевал свой ужин на снег. Мне вспомнилось мое обещание убить назавтра тюленя, и меня вывернуло так, что в желудке ничего не осталось. Я сунулся было наружу, но одна из собак зарычала и облаяла меня, за ней другая и третья. На полусогнутых ногах я поплелся обратно в пещеру. Там, в пляшущем оранжевом свете пламени, метались на привязи собаки. Туса, Нура, Руфо и Сануйе, мои бедные изголодавшиеся псы, дрались из-за полупереваренных, извергнутых мной кусков тюленьего мяса. Туса рычал и лязгал зубами, ласковый Руфо, скуля, довольствовался тем, чти подлизывал лужицу рвоты. Потом Туса тяпнул Нуру за ухо, а Сануйе тут же слопал снег, обагренный кровью Нуры.
Я растащил разъяренных, взъерошенных собак. Кто-то из них укусил меня. Я покрепче привязал их к кольям и закидал снегом свинство, которое учинил.
Какая страшная это вещь – голод! И надо же мне было довести собак до такого состояния! Моя укушенная рука горела, пустой желудок ныл. Неужели это и есть жизнь? А эта пустота внутри и желание нажраться – цена жизни? Нет, слишком уж страшная это цена. Я думал о своем тщеславии, которое привело меня сюда в поисках тайны жизни. Возможно ли, чтобы тайна жизни действительно заключалась в хромосомах этих грязных, лакающих кровь существ? Возможно ли, что их предки зашифровали в своей ДНК тайну Эльдрии?
Хотел бы я обладать мастерством расщепителя и геноцензора, чтобы расплести ДНК Юрия, как историк в своем стремлении к истине распускает древний гобелен. Нашел бы я там, среди Сахаров и химических оснований, информацию, некогда вплетенную туда Эльдрией? Взаправду ли в сперме Висента или Лиама записано то, что укажет верный путь всему человечеству? И если это послание существует, почему оно окутано такой тайной? Почему Эльдрия, велев нам искать секрет жизни в прошлом и будущем, не сказали заодно, в чем этот секрет состоит?
Почему бы богам, если они правда боги, не поговорить с нами попросту?
Я смотрел на звезды, на яркий треугольник Веканды, Эанны и Фарфары, мерцающий над восточным горизонтом. За ними ядро галактики излучало лазерные импульсы, природу которых механики не могли объяснить. Если я раскрою глаза как можно шире, загорится ли в них свет богов? Если я обращу лицо к солнечному ветру далеких звезд ядра, услышу ли, как боги шепчут мне на ухо?
Я вслушивался, но слышал только шум ветра в лесу под горой. На западном склоне Квейткеля завыл волк, посылая свою жалобу небу. Я стоял, вслушиваясь, всматриваясь и ожидая, и наконец вернулся в пещеру. Завтра я убью тюленя и авось пойму если не тайну жизни, то хотя бы тайну смерти.
10 АКЛИЯ
Человек не способен вынести то, что недостаточно реально.
Поговорка цефиковРано утром я проснулся от дружного кашля и отхаркивания – это мужчины и женщины Рейналины, обитающие напротив нас, прочищали свои больные глотки. У меня в горле тоже саднило после вчерашнего путешествия по морозу. (Неужели талло убила Лико только вчера? Мне казалось, что прошел целый год.) Нога так затекла, что я с трудом ее разгибал. Несмотря на голод, предложенные Жюстиной орехи я есть не мог.
– У нас у всех горло болит, – заметила она, поджаривая орехи над огнем. – Я знаю, их больно глотать, но вкус у них неплохой, если прожевывать быстро. Тебе нужно подкрепиться, если ты собираешься идти на тюленя. Ты правда пойдешь?
Катарина одевалась, стоя на коленях, и смотрела на меня так, словно знала наверняка, что я буду делать, но молчала. Соли сидел у огня, счищая лед со своей парки. Я дивился тому, как прямо он держится, даже когда сидит, – и это несмотря на боль в переделанном заново позвоночнике. (Соли почему-то поправлялся после операций дольше всех нас. Мехтар предполагал, что омоложенные клетки имеют свой предел выносливости и что Соли, которому возвращали молодость трижды, близок к этому пределу.) Он поднял глаза, обведя взглядом хижину и все, что в ней было: прямоугольный блок снега, загораживающий вход; растрескавшуюся сушилку над огнем: длинный зазубренный снегорез; скребки для шкур, копья, миски, сверла и прочие предметы, разложенные вдоль круглых стен; мягкие, еще теплые спальные шкуры на их с Жюстиной снеговом ложе.
– Да, – сказал он, – Мэллори пойдет на тюленя.
– Полгода мы планировали эту экспедицию, – сказал я, понизив голос, – но об одном забыли.
– О чем же? – осведомился, погладив бороду, Соли.
– О кофе. – Меня мучила головная боль. – Жизнь бы отдал за чашку кофе.
– Ты голоден – потому у тебя голова и болит.
– Я не говорил, что она у меня болит.
– Говорить не обязательно. Думаешь, ты один страдаешь без кофе?
Я откашлялся, глядя, как Катарина расчесывает свои длинные волосы.
– Мне сдается, путешествие сюда было глупой затеей.
– Поешь-ка орехов, – сказал Соли. – Не думай ни о кофе, ни о собственной глупости. У тебя будет время подумать об этом, когда мы вернемся в Город.
Я взял пригоршню орехов и сунул их в рот. Они были сухие и горькие.
– Их надо разжевать, – сказала Жюстина. Она подала миску жареных орехов Соли. Он взял ее руки в свои, глядя ей в глаза, а она медленно разжала пальцы, передав миску ему. Видно было, что они, несмотря на разные мотивы и мечты, несмотря на годы взаимного пренебрежения и озлобления, несмотря на зловременье, – что они преданно любят друг друга. Теперь их любовь ожила с новой силой благодаря чувству изолированности, чистоте льда и открытого неба. Да и как было не любить ее, красавицу Жюстину с ее неисчерпаемым оптимизмом, пылкую и счастливую одним тем, что она живет? Я понимал, за что Соли любит ее, потому что мы все ее любили, но в толк не мог взять, за что она любит Соли.
Когда мы прожевали свой завтрак, мать с Бардо залезли к нам, чтобы попить травяного чаю. Какую странную группу составляли мы, сидя кружком бок о бок, прихлебывая горячий настой из костяных чашек и притворяясь алалоями! Не чудо ли, что нам удалось надуть деваки, выдав себя за их родичей? Я был даже рад, что считаюсь сыном Соли. Наше родство ни у кого не вызвало сомнений, а вот насчет происхождения Бардо Лиам то и дело отпускал шуточки.
– Не нравится мне этот Лиам, – сказал Бардо, протирая со сна свои карие глазищи. (К сожалению, Мехтар оставил почти без изменений его некрасивый выпирающий лоб и нос картошкой.) – Слыхал ты, что он сказал? Будто бы твою мать нельзя оставлять одну, когда мы уйдем на охоту, не то ее опять подомнет под себя медведь и она родит еще одного Бардо. Ничего себе шуточки!
Я порадовался, что деваки не знают, что я сын своей матери, а не Жюстины. Если бы они знали, то пришли бы к выводу, что это Соли подмял ее под себя.
– Если б они знали мою мать, – шепнул я Бардо, – то пожалели бы медведя и всякого другого зверя, который попытался бы ее взять. – Насколько я знал, мать допустила к себе мужчину единственный раз в жизни – когда зачала меня.
Соли допил свой чай и объявил, что пора идти.
– Юрий со своими, наверно, уже ждет. – Он взял свои тюленьи копья и нахмурился, посмотрев на Катарину. – Женщины в наше отсутствие займутся своими… женскими делами.
Мне почему-то показалось, что Соли имел в виду не шитье и не присмотр за детьми, входившие в число повседневных занятий девакийских женщин. Он явно подозревал, что мы с Катариной – любовники, и явно хотел, чтобы я мучился, представляя себе, как Катарина ложится под пещерных мужиков. А может, он сам себя мучил – не знаю. Но вряд ли у Катарины было много шансов заняться этим своим «делом» сегодня. Большинство мужчин уйдут на охоту – не станет же она выдаивать сперму у мальчишек.
Пока мы надевали шубы, мать смотрела то на Соли, то на Катарину, то на меня. Мне не понравилось, как она смотрит на Катарину. Мне показалось, она завидует Катарине, которая берется выполнить то, что ей самой недоступно.
– Ступайте себе, – сказала она. – Пока вас не будет, мы, женщины, приготовим вам постели – чтобы было куда лечь, когда вернетесь.
У входа в пещеру мы присоединились к мужчинам и мальчикам из семьи Манвелина. Ездовые собаки пожирали свой корм, а мужчины готовили упряжь и намораживали полозья нарт. Эта нелегкая работа производилась на морозе, при свете розовой зари. Под обледенелыми валунами и заснеженными елями Юрий, Висент, Лиам, Сейв, Хайдар, Джиндже и все остальные переворачивали свои нарты, обращая их полозьями к еще темному небу. К кости лед не пристает, поэтому на полозья сперва накладывалась кашица из растительной жвачки, смешанной с грязью, водой и мочой, а щербины замазывались землей. На таком морозе паста застывала сразу, до того, как ее успели разгладить. Я ожидал услышать уйму ругани, но деваки шутили и смеялись, обмакивая пальцы в мешочки с теплой кашицей, которые держали за пазухой. Быстрыми, точными движениями они наносили это месиво на костяную поверхность. Лиам в десяти футах от меня мастерски заделал трещину и сунул пальцы в рот, чтобы отогреть. В воздухе стоял пар от дыхания и мелькали плевки – все грели свои пальцы таким же манером, не переставая балагурить. Бардо приходилось трудно, мне тоже. Он пододвинулся ко мне и пробурчал:
– Как это романтично! Свежий воздух, вой одинокого волка, покой, природа – и приправленная мочой жвачка. Спасибо, паренек, что привел меня в это восхитительное место.
Лиам побрызгал слой кашицы теплой водой изо рта, и его полозья тут же оделись льдом. Я огляделся. Двоюродные братья Юрий, Арани и Бодхи и их сыновья Юкио, Джемму и Джиндже тоже обрызгивали полозья.
Бардо кивнул на Джайве и Арве, тоже родственников Юрия.
– Они возятся с этой вонючей подмазкой всю жизнь – и как им только не надоест? – Следуя их примеру, он начал брызгать на свои полозья водой. – Что мне по-настоящему мерзко, так это таскать бурдюк с водой на животе. Что я им, грелка для воды, что ли? Как меня бесит это хлюпанье. Бог ты мой!
Соли, заметив, что мы шепчемся, подошел к нам.
– Тихо вы, – сказал он и добавил: – Силу вания, мансе ри дамия, – что можно перевести примерно так: «Дети жалуются, мужчины терпят».
Мы загрузили нарты, запрягли собак, и Юрий собрал всю семью вокруг себя.
– Мэллори пообещал нам добыть тюленя, – молвил он, – значит, Мэллори и должен сказать нам, где искать Нунки.
Все посмотрели на меня, и я вспомнил, что у алалоев с такими обещаниями не шутят. Охотник обещает убить зверя, лишь когда полагает, что этот зверь готов «выйти на его копье». Для этого охотник должен войти в состояние аувании, или ожидания, – род транса, в котором он способен смотреть через черное море смерти на ту сторону дня. Такая способность – это дар живой души зверя, которого он собирается убить. Я обратил лицо к белому конусу Квейткеля и устремил взгляд в бесконечность. Я старался обрести вышеназванное зрение – «аскир», как говорят алалои, но, как видно, перестарался. Никакого видения мне не явилось. Но охотники ждали, поэтому я притворился, что душа тюленя явилась мне, и заявил:
– Ло аскарата ли Нунки, ми анаслан, ло мората ви Нункианима. – Я указал на запад: тамошние острова, Такель и Алисалия, горели золотом, маня меня к себе.
Юрий кивнул и обернулся к востоку, чтобы встретить рассвет.
– Лура савель, – произнес он.
– Лура савель, – повторили мы все, приняв ритуальную позу поклонения солнцу. Мы стояли, воздев к нему руки и опустив сомкнутые пальцы к заснеженной земле – ни дать ни взять насекомые, которых я видел в зоопарке. При этом полагалось склонить голову и стоять на одной ноге, поджав другую. В этом нелепом положении мы оставались долго, ибо великий Манве в десятое утро мира именно так почтил своего дядю, солнце. Затем Юрий ухватился за спинку своих нарт, свистнул собакам, и мы отправились.
День обещал быть морозным, и в холмах стояла почти полная тишина. Единственными звуками были шуршание полозьев да крики гагар, круживших над нами в поисках утреннего пропитания. Косматые ели на дальней гряде выделялись так четко, что мне казалось, будто я различаю отдельные иглы. Мы ехали через лес под уклон, к морю. Берег здесь изобиловал оврагами и гранитными утесами. Я остерегался этих скал, потому что на них гнездились талло. Но сегодня птиц не было видно, хотя и зайцы, и гладыши выкапывали из-под снега ягоды. Однажды я заметил полярную лису, и на снегу часто попадались волчьи следы, но они были старые – Юрий сказал, что почти все волки покинули остров и ушли за стадами шегшеев.
Выехав к морю, мы преодолели прибрежные торосы с некоторым трудом, хотя и далеко не с таким, который затратили вшестером накануне на негостеприимном южном берегу. К позднему утру мы выбрались из этих ледяных джунглей и понеслись по плотному гладкому льду Штарнбергерзее. Милях в пяти от суши я кивнул Юрию, и мы разъехались. Я говорю «милях в пяти» приблизительно, поскольку голубая линза тяжелого воздуха искажала расстояние, делая далекое близким. Четверо нарт повернули на северо-запад к Алисалии, которая мерцала на горизонте за белой гладью океана, девять нарт – Юрия и Лиама в том числе – направились к Якелю и Ваасалии. Мы раскинулись по льду кругом около двух миль в диаметре. Я остановил свою упряжку в месте, которое показалось мне подходящим, другие охотники, вероятно, сделали то же самое. Я выпряг Нуру, натасканного вынюхивать тюленьи лунки. Бардо ярдах в пятидесяти к северу от меня взял своего следопыта на поводок, хотя непонятно было, кто кого ведет. Могучий Самса тянул Бардо рывками по снегу, виляя туда-сюда. Порой он совал свой черный нос в снег и поднимал облако белой пыли. К югу от меня устроился Соли, а Юрий и его сыновья на западе, видимо, уже обнаружили лунки и резали кирпичи из снега, чтобы сложить стенку от ветра.
У алалоев тюленья лунка называется аклией. Нура, которого я держал на плетеном кожаном поводке, рыл лапами снег и нюхал. Явно обрадованный тем, что его распрягли, он дважды задирал ногу и метил снег просто так, от удовольствия. Потом он напал на след, взлаял и ринулся вперед. Отметив место, где он принялся копать, палочкой, я оттащил разочарованного пса под ветер и привязал к вбитому в лед колышку. Там же я поместил остальных собак – Руфо, Сануйе и Тусу. Тюлени практически слепы, но слух у них необычайно острый, и я не хотел, чтобы тявканье собак спугнуло моего. К аклии я вернулся с щупом, пешней и другим, более смертоносным, снаряжением.
Тюлени, млекопитающие земного типа, не могут дышать под водой в отличие от некоторых отрядов млекопитающих, искусственно выведенных в морях Агатанге, Баланики и других многоводных миров. Им нужен воздух, поэтому каждый тюлень держит зимой во льду множество лунок. Самцы – а возможно, и самки – проламывают свои полыньи в начале зимы, когда лед еще слаб, и продолжают проламывать тонкую корочку, в то время как вокруг аклии нарастает толстый лед. Вскрывая очередную лунку, тюлень дышит и переплывает к следующей. С началом сильных морозов стенки аклии достигают почти десятифутовой толщины. Снегопады чередуются с морозами, оттепелями и новыми снегопадами, и над аклией образуется снеговой мост, скрывая ее от глаз охотника, но не от чуткого собачьего носа. Под мостом тюлень всплывает и усаживается на покатый край лунки. Там, под снежной кровлей, средизимней весной самки приносят своих мохнатых детенышей. Там тюлени обнимаются и играют, укрытые от ветра, морской пучины и хищных касаток – но не от человека.
Я запустил мой закругленный шуп под мост, в невидимую лунку. Вращая его, я определил размер аклии и нашел ее центр. И повернулся лицом к северному ветру, обжигающему кожу даже сквозь слои жира. Мороз был сильный. Глаза у меня слезились, и пальцы ног начали неметь. Предполагая, что тюленя придется ждать долго, я нарезал снега и сложил стенку вокруг северного края аклии, а потом опустил на воду в середине лунки деревянный поплавок. Тюлень, всплыв подышать – я молился, чтобы он оказался самцом, потому что боялся убить беременную самку, – всколыхнет воду, и поплавок подскочит. Когда он опустится снова, я буду знать, что вода отхлынула и тюлень поднялся на поверхность.
– Ло люрата лани Нунки, – помолился я, разостлав перед лункой коврик из шкуры шелкобрюха. Я встал на мех, шевеля пальцами в унтах и надеясь, что он не даст моим ногам превратиться в ледышки. В завершение своих трудов я положил гарпун на две рогульки, воткнутые в снег. Съемная головка гарпуна, острая, зазубренная и смертоносная, была сделана из китовой кости. У ее основания помещалось резное кольцо, к которому привязывалась плетеная кожаная веревка. Я обмотал ее конец вокруг руки и стал смотреть на поплавок. Когда он поднимется, я возьму гарпун, а когда опадет – и я узнаю, что тюлень всплыл, – я ударю гарпуном в середину аклии. Я сделаю это из ревности, из гордости и потому, что дал обещание это сделать.
Итак, я ждал – не знаю, сколько времени. Что такое время без часов, которые его измеряют? Сколько держал я эту охотничью стойку, сдвинув ноги и приподняв зад, глядя вниз и только вниз? Сколько должен ждать голодный человек, чтобы утолить свой голод?
«Три дня, – сказал мне Юрий накануне. – Три дня – не слишком долгий срок, потому что у Нунки много дыр. В последний миг его душа может убояться великого путешествия, и он совершит путь покороче – к другой лунке».
Я ждал, стоя абсолютно неподвижно, согнувшись, как древний старец. Мускулы на ногах уже сводило – я ждал долго.
Говорят, что терпение – высшая добродетель охотника. Что ж, прекрасно, сказал я себе, – буду терпелив. Я слушал, как свистит ветер, как отдельные его струйки и завихрения сливаются вместе и словно бы затихают, а потом вдруг кидаются на меня с новой силой. Временами ветер замирал совсем, и наступала тишина. Эти промежутки вселяли в меня беспокойство и предчувствие худшего. Я не хотел слушать стук собственного сердца и не хотел, чтобы ветер сорвался как раз в тот момент, когда тюлень всплывет подышать – если он вообще всплывет. Я много чего не хотел слышать. Белые медведи тоже охотятся на тюленя – и на человека. По словам Юрия, Тотунья любит подкрасться к аклии и залечь, а потом бросается на охотника и сворачивает ему шею одним ударом. Медведя, когда он крадется по снегу, разглядеть невозможно, а шума он почти не производит. Но я все-таки прислушивался. С севера донесся стонущий звук – ветер задул снова, и стон его постепенно переходил в рев. Я сильно замерз, и мочевой пузырь у меня был полнехонек. На голубом небе плясал желтоватый отсвет ледяных полей. Деваки в таких случаях говорят, что лед моргает. Я тоже моргал, не сводя глаз с поплавка, думая о своем мочевом пузыре, медвежьих зубах и прочих приятных вещах. Я попытался сосредоточиться. Мне казалось, что душа тюленя шепчет мне что-то и зовет меня, но это был только ветер. Он жег мне лицо, я моргал, и тут…
И тут поплавок подскочил вверх.
Я взял гарпун, выжидая, когда поплавок опустится. Он исчез в аклии, и я обеими руками поднял гарпун высоко над головой, а потом вогнал его в снег. Он легко пробил белую корку, и я ощутил что-то неподатливое – это зазубренное острие вонзилось в тюленя. Из-под снега раздался низкий, полный боли рев.
– Ло морас ли Нунки! – вскричал я и ухватился за веревку. Последующий рывок чуть меня не свалил. Я уперся пятками в снег, откинулся назад и пропустил веревку поперек спины.
– Мэллори морас ли Нунки! – услышал я крик Бардо, и новость эхом покатилась от аклии к аклии: – Мэллори морас ли Нунки!
Я напряг все силы, пытаясь вытащить тюленя из лунки. Поврежденное колено разболелось. Я то выигрывал несколько футов, то опять уступал их, и наконец тюлень, собравшись с силами, повалил меня. Я ехал к аклии, зарывшись носом в снег, понимая, что надо отпустить веревку – иначе тюлень утащит меня под воду сквозь непрочный снежный мост. Но я только крепче вцепился в нее, пытаясь перевернуться на спину и выбросить ноги вперед, чтобы зарыться ими в снег. Вместо этого я запутался ногами в веревке. Я тщетно пытался выпутаться, а снежный мост уже прогибался подо мной.
– Отпусти! – заорал кто-то, но я не мог этого сделать. Веревка позади меня натянулась: Бардо, выпучив глаза и надув красные щеки, тянул ее на себя. – Тащи давай, олух! – крикнул он мне.
Я поднялся и тоже стал тянуть. В бурлящей аклии, среди глыб обвалившегося снега, показался большой черный тюлень. В боку у него, чуть выше плавника, торчал гарпун. Я опасался, что от наших усилий гарпун выскочит, но он держался, и мы фут за футом вытащили тюленя из аклии на снег. Я пришел в ужас, увидев, что матерый самец все еще жив. У него вырвался кашель, похожий на полный изнеможения вздох, и яркая артериальная кровь фонтаном брызнула из пасти.
– Мори-се! – сказал я Бардо. – Убей его!
Но он потряс головой и указал на север. Юрий с Лиамом бежали к нам на помощь. Убить тюленя было моим долгом и привилегией, о чем не преминул напомнить мне трусишка Бардо. Я обещал, что сделаю это, но теперь не мог.
– Ти мори-се, – сказал Бардо, подав мне каменную палицу. – Давай, паренек. Скорей, пока я не разревелся.
Я размахнулся и опустил палицу на лоб тюленя. Раздался мягкий удар, и тюлень с шумом выпустил воздух, словно благодаря меня за избавление от мучений. Вслед за этим настала тишина. Я заглянул в темные влажные глаза тюленя, но жизнь уже ушла из них.
Юрий и Лиам, отдуваясь, остановились на краю аклии. Юрий, оглядев тюленя, тут же помолился за его душу.
– Пела Нункианима, ми алашария ля шантих деваки. Никогда еще, Мэллори, не видел я такого тюленя. Это дед всех тюленей, пращур всех тюленей. Чудо, что вам с Бардо удалось вытянуть его вдвоем.
Прибежал Соли, за ним Висент и вся прочая Манвелина. Они окружили тюленя, тыкая его унтами и трогая его темную шкуру. Лиам, оттянув свою толстую нижнюю губу, заявил:
– Это тюлень на четырех человек. Когда я был мальчишкой, мой отец, Висент и Джайве вытянули тюленя втроем, и он был самым большим из всех, которых я видел. – Посмотрев на меня и Бардо со смесью зависти и почтения, он спросил: – Как это вы сумели вытащить тюленя, который требует четырех человек?
– У Бардо сил хватит на двоих, – объяснил ему Юрий, – а Мэллори нынче убил своего доффеля – поэтому не удивляйся, что они вдвоем вытащили из моря праотца всех тюленей. – Но и Юрий еще долго смотрел на распростертую на снегу огромную тушу, словно сам не понимал, как это мы ухитрились.
Я убил тюленя.
Я сунул в рот пригоршню снега и раскрыл тюленю пасть. От него шел крепкий бродильный дух. Я пустил струйку талой воды ему в рот, дав ему напиться, чтобы он не испытывал жажды, совершая путь на ту сторону.
Соли, перехватив мой взгляд, слегка кивнул. У алалоев охотники, добывшие зверя, наедаются досыта тут же на месте. Тюленя убил я, и привилегия разделать его тоже принадлежала мне – но я медлил, чувствуя, как Соли прямо-таки сверлит меня взглядом. Потом я взял нож, вспорол тюленю брюхо и вырезал печень. Это была страшная, кровавая работа. Пурпурную, дымящуюся печенку я, как и обещал, вручил Лиаму. Он угрюмо разрезал ее на куски и раздал всем охотникам, сказав:
– Мэллори посчастливилось.
Я съел свой кусок – сочный, железистый и вкусный. Мне не верилось, что я убил тюленя.
– Мэллори Тюленебой принес нам удачу, – сказал Юрий. – Бардо Силач и Мэллори Тюленебой, они оба принесли нам удачу. Я думаю, завтра мы добудем много тюленей.
Все улыбались и казались счастливыми – не улыбался только Джиндже, сын двоюродного брата Юрия, приземистый неприглядный парень. Он отморозил себе ноги, карауля тюленя, который так и не появился. Юрий помог ему снять унты и засунул его волосатые побелевшие ступни в тушу тюленя, чтобы отогреть, а Лиам дал Джиндже кусок печенки, который тот сглотнул, как голодный пес.
Охотники набросились на тюленя с ножами, отрезая самые лакомые части. Чокло, младший сын Висента, вскрыл желудок, набитый нототенией, окунем и другой рыбой. Еще не достигший возмужания, с безбородой бесовской мордочкой и маленькими руками, он, однако, очень ловко орудовал рыбным ножом. В один миг он очистил окуня, выпотрошил его и нашел в нем другую рыбку, поменьше. Он очистил и ее, отрезал ей голову и проглотил целиком. Все вокруг усердно резали и глотали. Снег около тюленя стал скользким от жира и крови. Голодные мужчины – страшное зрелище. В животах у них урчало, когда они раздирали зубами огромные куски мяса. Просто удивительно, сколько способен съесть один человек. Я сам съел большую часть сердца – алалои верят, что именно там помещается душа. Мы, пятнадцать охотников, умяли не меньше ста фунтов мяса. Животы у нас раздулись, и теплая кровь стыла на бородах. Поглощение мяса было серьезным делом, и мы занимались им молча, без передышки. Челюсти работали, губы причмокивали, а Бардо состязался с Чокло, кто громче рыгнет. Мы, словно звери, первым делом съели самое вкусное и лишь потом перешли к остальному. Лиам, которому не терпелось, отломил ребро, разгрыз его своими крепкими зубами и стал сосать мозг, как грудной младенец сосет молоко. Мы ели долго и прервались только потому, что приближались сумерки, а ночью на открытом месте оставаться нельзя.
Все вернулись к своим аклиям, чтобы построить снежные хижины на ночь. Мы трое, собрав нарты вместе, покормили собак потрохами, ворванью и легким. Потом мы с Соли тоже принялись ставить хижину. Я резал снег, а Соли укладывал кирпичи, заполняя трещины снежной пылью. Бардо держался за живот и смотрел, как мы работаем.
– Ох, мой бедный желудок, – стонал он, – что я с тобой сделал! Я знаю, это эгоистично с моей стороны сидеть сложа руки, но вы и без меня хорошо справляетесь.
Соли действительно управлялся с кладкой не хуже любого алалоя. Скоро хижина была готова, и мы разложили внутри спальные шкуры. Северный ветер гнал поземку по темнеющему морю. Мы молча повернулись на юг и отлили на сон грядущий. Бардо тут же улегся, а мы с Соли привязали Тусу у входа в хижину – авось он поднимет лай, если медведь почует убитого тюленя и решит им заняться.
Некоторое время мы смотрели на звезды. Соли туго завязал капюшон своей парки.
– Тебе повезло убить тюленя – необычайно повезло.
– Хорошо везение – убить большого благородного зверя.
– Но на удачу все время рассчитывать нельзя. В один прекрасный день она обернется против тебя. Дом рухнет тебе на голову или бедный хариджан, с которым ты встретишься на темной ледянке, окажется спеллером, пришедшим за твой плазмой. А может, ты захочешь пройти за внутреннюю оболочку Вильда и пропадешь там…
– Я в случай не верю.
– Ну еще бы – как я мог забыть. Мэллори следует велению своей судьбы.
– А вам не кажется странным, что тюлень выбрал именно мою аклию? По-вашему, это простое совпадение?
– О нет, нет. Душа тюленя нашла твою аклию, чтобы твоя судьба осуществилась. Каково это – быть убийцей?
Я смахнул каплю с носа и сказал:
– Это… естественно. – Я сказал ему правду, но умолчал о том, как это жутко – занять свое место в естественном порядке вещей.
– Неужели?
Я прикрыл лицо рукавицами и потому говорил невнятно. Мне не хотелось обсуждать с ним свои страхи, поэтому я спросил:
– Вы ведь тихист, верно?
– Кто тебе сказал?
– Я слышал, что все старые пилоты придерживаются таких убеждений.
Он потер виски и сказал:
– Верно. Пилоты, полагающие, что им уготована особая судьба, теряют бдительность и до старости не доживают.
– Но вы рисковали еще больше, чем я. Кадеты в Ресе прозвали вас Соли-Счастливчик.
– Я всегда просчитывал свой риск.
– Но все-таки шли на него.
Он, кажется, улыбнулся – было слишком темно, чтобы это разглядеть. И потопал ногами по снегу.
– Когда-нибудь удача и против меня обернется. Такая судьба.
Я помялся и спросил его:
– Значит, вы не верите, что судьба может быть счастливой от начала до конца?
– Нет. Удача вечно не длится.
Он зевнул, отряхнул парку от снега и полез в хижину спать. Я стоял, глядя, как светятся пурпуром горы Алисалии на звездном горизонте.
Моей судьбой было убить большого благородного тюленя.
Ветер в конце концов проник мне под парку, и меня пробрала дрожь. Я залез в хижину и улегся рядом с громко храпящим Бардо. Я лежал еще довольно долго, пока не согрелся и не уснул. Но сон мой оказался тревожным. Я ворочался, потел, и мне снилась всякая всячина. Один сон я помню хорошо: мне приснилось, что я убил большого тюленя и его сыновья и дочери, не желая оставаться одни, вышли на наши копья, чтобы соединиться со своим отцом по ту сторону дня.
На следующее утро мы убили девять тюленей, и Соли сказал, что нам очень повезло.
11 ПЕЩЕРНЫЙ СТАРЕЦ
Жить? Наши слуги сделают это за нас.
Вилье де Лиль Адан, фабулист Машинного Века, «Аксель»Деваки считают северное сияние самым красивым зрелищем в мире. Атомы кислорода, люминисцируя высоко в атмосфере, создают целую световую стену. (Деваки, разумеется, не знают этого и верят, что бледный огонь в небесах зажигают духи их предков. Иногда они свистят, чтобы привлечь этих духов к себе.) Глубокой зимой бывают такие ночи, когда сияние стоит на северном небосклоне, как огромный, зеленый с розовым занавес, поражая почти нездешней красотой. Но красота красоте рознь. Удеваки для ее обозначения есть два слова: «шона», применяемое к закатам, горам и заснеженным деревьям, и «халла», имеющее совершенно иной смысл. Вещь или событие считается «халла», когда оно находится в гармонии с природой или, если точнее, «понимает замысел мировой души». Для деваки халла не убивать больных мамонтов и халла умереть в свое время. Халла может быть что угодно. Копье, сделанное на совесть и хорошо сбалансированное, тоже халла. Деваки называют халла такие вещи, в которых как будто бы никакой красоты быть не может. Будучи людьми, они часто путают замысел мировой души с собственными неотложными нуждами. Ободранная туша тюленя – зрелище омерзительное, но я слышал, как Юрий назвал его халла. Разве один тюлень не кормит всю семью Манвелина целых три дня? Разве не угодно мировой душе, чтобы деваки были сыты и процветали? Поэтому туша тюленя – халла, а десять туш, лежащих на нартах едущих домой охотников, – это халлахалла, потому что нет для деваки зрелища милее свежего мяса. В ночь после нашей удачной охоты мы разгрузили свои нарты у входных костров, и мужчины, женщины и дети, высыпавшие из пещеры, трогали тюленей и кричали: «Лозна халла! Ли пела Нунки лозна-ну халлахалла!» Только одна старуха, Лорелея, заметила северное сияние, мерцающее на небе, и сказала: «Лозиша шона. – (Огни в тот вечер переливались алым пламенем.) – Ло мориша ви шона гельстей».
Когда мы делили наших красивых тюленей, Юрий подошел ко мне и сказал:
– Кому-то надо отнести мясо Пещерному Старцу.
Я посмотрел в глубину пещеры на почти не видимый во мраке лавовый нарост. Меня смущало то, что деваки, насколько я знал, не приносят жертв идолам или скальным образованиям, даже имеющим форму человеческого лица. Я признался Юрию, что не понял его.
Он почесал лоб окровавленными пальцами и сказал:
– Это деваки, который живет один в боковом гроте. Он тебе все равно что дед – быть может, ты сам почтишь его, раз ты убил первого тюленя?
– Но почему он живет один?
– Потому что когда-то он совершил великое зло, и никто не хочет с ним жить. Он тоже Пещерный Старец.
– Он убил кого-нибудь?
– Хуже. Он остался жить, хотя должен был умереть. Когда пришло его время совершить великое путешествие, дух вулкана вселился в его отца, и тот спас сына от ледовой смерти. Разве не сказано, что многие хотят умереть позже своего срока, но мало кто хочет умереть раньше? Но все мы должны умирать в свое время. А он не умер. Он родился марасикой, без ног, и когда повитуха хотела его задушить, его отец побил ее и обманом вернул сына в жизнь. То, что рассказывал Юрий, показалось мне до боли знакомым. Постаравшись отвлечься от радостных выкриков людей, толпящихся вокруг нарт с мясом, я спросил:
– Как зовут этого человека?
Заслонив глаз рукой, Юрий ответил:
– Его зовут Шанидар, сын Гошевана. Гошеван убил моего деда Локни, когда тот попытался помешать этому преступлению. Гошеван сам пришел жить к деваки, но когда его сын родился без ног, он похитил Шанидара и увез его через восточные льды в Небывалый Город, где люди-тени сделали мальчику новые ноги. Когда же Шанидар стал мужчиной, он вернулся к нам и сказал: «Я Шанидар, и я пришел жить со своим народом». Но все знали, что он живет не свой век, и мой отец Нури сказал, что остаток своих дней он проведет в боковом гроте.
Юрий показал мне длинную темную трещину в стене пещеры, над хижинами семьи Шарайлина. Должно быть, это и был ход в жилище Шанидара.
– Теперь он стар и не может сам добывать себе мясо, – пояснил Юрий. – Кто его за это упрекнет? И он немного повредился от своей неживой жизни, этот бедный, одинокий Шанидар.
Я кивнул, как бы признавая, что это имеет какой-то смысл.
– Ему нужно отнести мясо, чтобы он не совершил двойного преступления и не умер слишком рано.
Я кивнул еще раз.
– Шанидар будет рад услышать рассказ о вашем путешествии через южные льды, потому что и сам много путешествовал.
Я кивнул снова, медленно, и спросил:
– Не может ли кто-нибудь другой отнести ему мясо? – Мне не хотелось встречаться с этим стариком, знакомым с резчицкими мастерскими и прочими реалиями Города.
– Эта честь обычно выпадает Чокло, – вздохнул Юрий. – Но сегодня я хочу, чтобы причитающуюся Шанидару долю этого прекрасного мяса отнес ему ты.
Я попытался разглядеть через трещину жилище Шанидара, но там было черным-черно.
– Хорошо. Я отнесу Шанидару его мясо.
Я взял несколько кусков и завернул их в кусок кожи. Потом полез по трещине вверх, спотыкаясь о глыбы камня. Холодные стены смыкались вокруг. Я стукнулся головой о выступ скалы и выругался. Впереди вверху брезжил слабый желтый свет, падающий как бы из далекого окна. Где-то близко громко капала вода. Пахло сыростью и чем-то сладким, противным и тошнотворным. От каменных стен отражался стон, полный одновременно иронии и горя, жалости и боли. Временами он переходил в тонкое завывание или в напевное урчание. Я шел на эти жалостные животные звуки, заранее боясь того, что увижу. Странно, что легендарный Шанидар до сих пор жив. Должно быть, он очень-очень стар.
Но что может молодой человек знать о старости? Как ему понять ее боли, страхи и ностальгию по дням своей молодости? Я часто общался со стариками – взять хотя бы Соли и не имеющего возраста Хранителя Времени, – но их старость смягчалась условиями цивилизованной жизни; их старые души обитали в обновленных молодых телах, не успев по-настоящему вкусить старческого бессилия. Я тоже был цивилизованным человеком и не желал знать, что такое медленное умирание, сопровождаемое дрожью в членах, язвами и провалами памяти.
С естественной старостью я ни разу еще не сталкивался. Старик сидел, поджав ноги, посреди каменного грота, такого маленького, что двое человек вряд ли смогли бы улечься здесь во весь рост. Перед ним теплился костер, и дым уходил в какую-то щель высоко над нами. Старик грел над огнем костлявые руки, глядя на меня.
– Мэллори Тюленебой, – сказал он, ласково улыбнувшись беззубым ртом. – Ни лурия, ни лурия. Меня зовут Шанидар.
– Ни лурия. – Я положил мясо на камень рядом с костром. – Откуда ты знаешь мое имя?
– Чокло, мой названый внук, часто навещает меня, вот как. Вчера утром, перед охотой, он сказал мне, что к нам по льду приехали люди. Вот такая история. Он и сам любит послушать историю о Небывалом Городе, хотя и не верит, когда я говорю, что люди-тени строят лодки, которые плавают среди звезд. Да и кто бы такому поверил? Однако это правда. Я видел это своими глазами.
Он осторожно потрогал свои веки и снова улыбнулся. Набрякшие, отяжелевшие веки придавали ему сонный вид. Глаза неопределенного голубоватого цвета были прикрыты молочными катарактами – вряд ли они сумели бы передать ему серебристые линии легкого корабля, хотя смену света и мрака, вероятно, еще воспринимали. Из-за отсутствия зубов лицо его казалось укороченным и подбородок наезжал на нос, это было очень некрасиво. Кожа на щеках свисала белыми складками, под ней просвечивали лопнувшие голубые сосуды. Мне не хотелось смотреть на него, но в его безобразии было какое-то величие, невольно притягивающее взгляд.
Он сразу увидел – впрочем, это слово здесь вряд ли подходит, – почувствовал мой смешанный с ужасом интерес и сказал:
– Люди-тени из Небывалого Города держат свои души в молодых телах, и потому они, души, совершают путешествие на ту сторону дня уже очень старыми. Ты принес мясо? Старость не радость. Говорят, по ту сторону дня есть голый остров, где эти души воют от ярости, потому что они старые, старые, старые и никогда уже не достигнут возвышения. Это тюленина, да? Им не дано спастись, сам знаешь – мне приходится прерываться, потому что я боюсь забыть что-нибудь важное, – им не дано спастись, и потому они блуждают по своему мертвому острову в плену у вечного Теперь. Жаль их – это тяжкие муки. Мы должны стариться и умирать в свое время – вот что главное. В тюленьем мясе много жизни, так ведь? Будь так добр, отрежь мне маленький кусочек жира.
Я выполнил его просьбу, и он сунул кусок жира в рот. Мне не нравилось, что он то и дело говорит о Небывалом Городе, и я привел ему скептическое (и в то же время мечтательное) девакийское изречение:
– Мне приснились люди-тени, живущие в городе под серебряным пологом тумана, небывалые, небывалые. Я проснулся, и город пропал, небывалый, небывалый.
Он съел еще кусочек, глядя в мою сторону своими глазами в бельмах.
– Вкусно. Отрежь теперь мяса, ладно? Маленькие кусочки – мне ведь приходится целиком их глотать. Знаешь ли ты, что в Небывалом Городе мясо растет в прудах? Я видел это своими глазами. Но это вкуснее – режь помельче, не то я подавлюсь. – Он засмеялся. – Негоже это – уходить, подавившись тюленьим мясом, правда? Есть, конечно, такие, которые скажут тебе, что мне следовало уйти давным-давно, сразу после рождения – ведь я родился безногим. Но мой отец увидел сон и отвез меня в Небывалый Город, который я видел своими глазами. Мой отец, которого я любил, видел вещие сны.
Пока он распространялся о том, как его отец задумал уйти от кошмара цивилизации, я резал крошечными кусочками тюленье мясо и рассматривал грот. На источенных водой стенах я, к своему удивлению, увидел многочисленные рисунки. Откуда он брал эти малиновые, зеленые, розовые краски? Одну из стен занимал этюд в серебряных, красных и пурпурных тонах – возможно, так Шанидар пытался передать свое видение Небывалого Города. Это было красиво, хотя художнику недоставало мастерства. На другой стене господствовали совсем другие оттенки: охряные, темно-зеленые и красно-коричневые. Свет в гроте был тусклый, но я видел, что Шанидар щедро разбросал повсюду красные пятна. Они могли означать что угодно: глаза хищника, глядящие сквозь завесу ветвей, красные гиганты, превратившиеся в новые звезды, или капли крови. Эти пятна, как и вся прочая живопись, вселяли чувство тревоги. Шанидар, видимо, понял, на что я смотрю, потому что спросил:
– Видишь мои чудеса? Видишь? Видишь?
Я видел, что этот старик – человек недостаточно цивилизованный, но и не совсем дикарь. Его картины, судя по всему, отражали как ужасы первобытного мира, так и чудеса цивилизации, увиденные его глазами. В этой темной щели он жил отдельно от других людей, как безродный чужак, не имеющий своего дома. (Нельзя же было считать домом эту вонючую дыру с пропитанными мочой шкурами и аккуратными коническими кучами нечистот.) Я чувствовал к нему жалость, но по ходу разговора стало ясно, что сам себя он почти не жалеет.
– Люблю тюленье мясо! – восклицал он. – В прежние времена, когда у меня были зубы и оно отдавало мне свои соки, было еще лучше, но оно и теперь вкусное. Говорят, что Нунки – твой доффель, и ты убил его. Правда это, Мэллори Тюленебой?
– Это Юрий думает, что мой доффель – тюлень.
– Говорят, он мудрый человек.
– Мой дед сказал мне, что мой доффель – Эйяй, талло.
– А кто был твой дед?
Я назвал ему свою мнимую родословную, и он признался:
– В детские годы у меня не было деда, который сказал бы мне, кто мой доффель. Мне пришлось открывать это самому. Нарежь мне еще мяса, а? Только помельче, так оно сочнее. Ах, хорошо! Люблю вкус Нунки, да и кто не любит?
– Хочешь еще ворвани?
– Молодым человеком я приехал сюда из Небывалого Города через восточные воды – да, хорошо, ворвань тоже вкусная. Я помню каждую трещину и каждый буран на своем пути, но не помню, как родился юный Чокло, хотя было это всего тринадцать зим назад, – почему так? Или двенадцать… Но своего доффеля я не забыл. – Он усмехнулся, выжидательно глядя на меня.
– Так кто же он, твой доффель?
Я нарезал ему пригоршню мясных кубиков. Он покатал их во рту, проглотил и сказал:
– Я прожил полную жизнь. Я жил одиноко, отделенный от всех, но ни у кого не было жизни богаче моей. Иногда человек должен пожить отдельно от своих братьев, вне семейной пещеры. Это трудная жизнь, зато богатая и прекрасная, ибо жить так – значит быть горой над холмами, богом среди людей. О чудеса! На вершине горы обитают одиночество и ужас, но и чудо там есть. Вышина ее ужасна, но как широк оттуда обзор! Ты сам знаешь – зачем тебе слушать старика? Ты делаешь это по своей доброте – я буду звать тебя Мэллори Добрый. Это будет нашей тайной, вот как. Отрежь-ка еще мяса! Он вкусен, Нунки, мой доффель, как и твой. Разве Юрий тебе не сказал? Когда я был моложе, то убил однажды тюленя, просто чтобы убедиться, что я могу. Юрий думал, я испугаюсь, но я сумел.
Я резал ему мясо, все время думая, как бы сбежать отсюда, не обидев его. Я не хотел признавать, что тюлень – мой доффель. Не хотел никакой общности между нами. Не хотел делить с ним бесчестья убиения нашего общего доффеля и причислять себя к родству людей, которые должны держаться отдельно от других. Я хотел всего лишь раскрыть тайну жизни, чтобы прожить ее как можно полнее в обществе других мужчин и женщин.
Пещерный Старец ел и ждал моего ответа. Он втягивал мясо в беззубый рот и глотал не жуя. Он проглотил столько мяса, что его старому сморщенному животу впору было лопнуть. Внезапно он пожелтел, словно у него разлилась желчь. Он закашлялся, в животе у него заурчало, и он выпустил газы так громко, что даже Бардо посрамил.
– Переел я. Ох, какая боль – в кишках у меня словно лед. – Он опустился на четвереньки, тяжело дыша и пытаясь встать. – Человек не должен накидываться на мясо, будто собака. Помоги мне.
Я помог ему подняться. Мне противно было дотрагиваться до него, противны его тонкие птичьи кости и согнувшаяся от старости спина. Он разжал губы, чтобы поблагодарить меня, и я невольно заглянул ему в рот. Это был ужас: толстый обложенный язык и кровоточащие десны, покрытые язвами. Вони, которая шла от него, мне еще не доводилось обонять. Он поковылял в угол фота, где его вырвало на одну из его собственных куч. Когда он вернулся назад, кожа у него стала белой и почти прозрачной, как поверхность ледника. Он взял мою руку в свои, холодные и влажные.
– Мясо у Нунки вкусное, но жесткое. Ты улыбаешься, да? У тебя-то все зубы целы. И крепки, а? Может, ты разжуешь мне мясо своими крепкими зубами?
Я не хотел жевать для него мясо. Я наелся до отвала, и при мысли о том, чтобы жевать его снова, меня тошнило.
– Чокло иногда разжевывает мне мясо. Добрый, хороший мальчик.
Я не желал видеть, как он сует разжеванную мной кашицу себе в рот, и сказал:
– Нет, не могу.
– Прошу тебя, Мэллори. Я голоден.
Тихо выругавшись, я откусил кусок мяса и стал жевать. Когда я выплюнул красновато-бурую массу себе на ладонь, Шанидар сказал:
– Я тоже жевал мясо для отца, когда он состарился. – Он взял то, что было у меня в руке, и запихал себе в рот. – Хорошо, очень хорошо. Но ты напрасно жуешь так долго. Так из него уходят соки, а мясо вкуснее, когда оно сочное, так ведь?
Он ощупал мясо, которое я ему принес, меся его пальцами, вытер сальные руки о лицо и вернулся к своим исследованиям.
– Что это тут, под ребрами? – вскричал он вдруг. – Уж не печенка ли?
– Да, я принес тебе немного печени – думал, тебе понравится.
– Но мне нельзя есть печенку, разве ты не знаешь?
– Тебе вредно ее есть?
– Нет, не вредно – просто нельзя. Юрий говорит, что печенка только для охотников и беременных женщин – иногда еще для детей. Они нуждаются в ней больше, чем я, вот как.
– Здесь совсем немного. Ведь не запретит же тебе Юрий отведать печенки?
– Он еще и не то бы мне запретил. До вашего приезда я двенадцать дней почти ничего не ел. В тяжелые времена… ну что ж, я стар, а детей надо кормить.
Я знал об этом жестоком алалойском обычае и сказал, не подумав:
– Детей надо кормить, это верно, но нехорошо, когда родные морят человека голодом.
На самом деле я не считал таким уже дурным то, что дети выживают ценой жизни стариков. Существование алалоев бок о бок со смертью – вот что меня пугало.
– Нехорошо, да… ладно, отрежь мне кусок печенки. – Он смотрел в огонь, теребя отвисшую кожу на горле. Оранжевые блики играли на его засаленном лице. Со своей морщинистой шеей и ввалившимся, приоткрытым в предвкушении десерта ртом он походил на какую-то адскую светящуюся птицу. – Знаешь ли ты, что нехорошо, а что хорошо? – Он порылся в куче тухлой требухи и старых костей и показал мне какой-то полусгнивший кусок. – Это желудок талло, которая летает там, высоко – знаешь ли ты, что Юрий ненавидит меня за то, что я однажды освободил молодую талло из его силков? Она летает выше гор, и есть ее нехорошо, но Юрию она нужна была для посвящения Лиама в мужчины, не для еды. Но я все равно выпустил птицу, потому что пожалел ее, понимаешь? И я все равно выпустил бы ее, даже если бы Юрий было голоден и хотел ее съесть, потому что есть ее нехорошо. Видишь этот желудок талло, который принес мне Чокло, – желудок птицы, которую съел мой голодный народ?
– Вижу. Убери, от него смердит.
Он сунул свой бледный скрюченный палец в нижнее отверстие желудка, натянул блестящую мускульную ткань на руку, как перчатку, высунул палец из верхнего отверстия, покрутил им и сказал:
– Смерть – это нехорошо, так ведь? Мы черви в животе у Бога и потому видим только два его свойства, так? Одна наша половина, – он снова пошевелил пальцем, – смотрит вверх через глотку и рот Бога, видит там свет и говорит, что это хорошо. А знаешь ли ты, что доффель Юрия – талло? Мы смотрим на свет жизни и говорим, что это хорошо, а другая наша половина глядит в кишечник Бога, в черноту, смрад и зло. Большинство людей, вынужденных сидеть так в желудке у Бога, видят только эти две стороны – между тем у него есть много других, недоступных нам. Отрежь-ка еще печенки, а?
Я отрезал и сказал:
– Старайся есть помедленнее, иначе ты выблюешь ее, и это будет нехорошо.
– Спасибо. Ух, вкусно. Хорошо старику есть нежную тюленью печенку, а вот для Нунки ничего хорошего тут нет. Если бы Нунки умел говорить, он, быть может, сказал бы, что нехорошо ему уходить на ту сторону еще молодым и полным сил. Но что может знать животное? И что знает человек? Вот маленький Чокло, он любит говорить со мной – спеть тебе песню, которой я его научил? Он говорит мне о том, что видит, и он сказал, что Мэллори Тюленебой смотрит на свою сестру Катарину так же, как смотрит на нее Лиам. И это нехорошо, говорит Чокло, это дурно – но разве может он знать, что хорошо, а что нет? Он думает, что знает, но я не сказал ему, что некоторые люди, стоящие отдельно, высоко над другими, могут вообразить, что значит вылезти из живота Бога и обозреть все его тело. Я сам, можно сказать, видел это раз или два. Бог – это могущественное существо, с золотым клювом и серебряными крыльями, которые простираются через всю вселенную, касаясь концами той стороны дня. Я слышал его крик раз или два, в детстве, и скажу тебе самое сокровенное из всего, что я знаю: Бог выше добра и зла.
Я улыбнулся, продолжая резать мягкую студенистую печенку. Алалои представляют себе Бога в образе талло, такой огромной, что она способна проглотить весь мир, как гагара глотает ягоду; они верят, что Бог и вселенная – одно. Я разжевал кусок печенки и выплюнул багровый комок на ладонь. Я сомневался в том, что кто-то из людей способен постичь истинную природу Бога, чем бы тот ни был: талло, или световым шаром, или языком, позволяющим описать бесконечные структуры мультиплекса (как верят некоторые пилоты), я сомневался и потому сказал:
– Возможно, талло, которая тебе привиделась, – только сон. Сон может иногда показаться правдой, но в большинстве своем сны лгут, ведь так?
Он взял у меня разжеванную печенку и съел.
– Вам, людям из южных льдов, снятся странные сны, да? И ложные. Вот ты – добрый человек, но иногда твои слова режут, как ветер. Я скажу тебе самое простое из того, что знаю: голодный не так уверен в существовании горячего мяса, как я – в существовании Бога.
Почти весь вечер я сидел с ним и кормил его, как звери кормят свое потомство. Мы говорили о многом, но больше всего – это главным образом относится к Шанидару – о добре и зле. Я был удивлен свободой его речи, однако алалои – философы от природы и любят поговорить. Кроме того, мне показалось, что Шанидар очень остро сознает, насколько сам близок к смерти, и очень нуждается в чьем-нибудь обществе, хотя бы и в моем. Но меня озадачивало то, что я как будто пришелся ему по сердцу, в то время как я не питал к нему ни малейшей симпатии. Я только жалел его – эта жалость усилилась, когда он ощупью нашел мою руку и сказал:
– Когда-то давно мне приснилось, что у меня есть сын, но никто из наших женщин не пошел бы замуж за человека, который не умер в свое время, так ведь? Мне снилось… знаешь, небесные огни – это глаза Бога, и они смотрят на нас. Эти огни – звезды, и там, в сиянии очей Бога, тоже живут люди, хотя никто не верит, что это правда. Будь у меня сын, я рассказал бы ему об этом… послушай, я хочу тебя кое о чем спросить. Когда придет мое время уходить – не теперь еще, ведь эта печенка так славно улеглась у меня в животе, – когда оно придет, ты… Не надо Юрию знать, что ты принес мне тюленью печенку, – иначе он подумает, что я украл ее у других, а я поступил бы нехорошо, если бы правда так сделал, верно? Так вот – когда Бог захочет отведать моего мяса, ты вынесешь меня из пещеры, чтобы я мог посидеть под пологом ночи? Я хочу еще раз почувствовать звездный свет, прежде чем пуститься в великое путешествие.
Я пообещал выполнить его просьбу, а он пожал мне руку и поблагодарил. Я принес ему столько мяса, сказал он. что теперь он сможет спокойно уснуть, не думая о своем голоде. Он с улыбкой погладил свой живот, и я, радуясь, что покончил со своим омерзительным занятием, тоже улыбнулся. Момент, казалось бы, был самый благостный – на самом деле в нем заключался ужас. Меня охватила вдруг острая, необъяснимая паника. Стены грота, пестрящие яркими красками, треск поленьев, выбрасывающих искры, зловонные запахи крови и нечистого дыхания, беззубая улыбка Шанидара – все это вселило в меня глубокий страх перед собственным существованием. Безнадежность человеческой жизни ужасала меня. Шанидар улыбался мне с той стороны костра, и казалось, будто его голова плавает поверх оранжевого пламени. Я видел только его лицо, исчерченное и высушенное временем, – оно улыбалось, как и мое. Своими глазами я смотрел в такие же глаза, подернутые льдом катаракт. У каждого человека глаза когда-нибудь будут такими, если он проживет достаточно долго. Меня потряс этот страх, это глубокое знание, эта полная уверенность в том, что улыбающееся лицо Шанидара являет собой копию моего. Ничто не спасет меня от такой судьбы, если мои часы начнут тикать медленнее, как его часы. Сейчас я молод, но очень скоро, если считать по универсальному времени, я буду стар. Мой страх был так велик, что мне хотелось закричать, позвать на помощь. Но помощи ждать было неоткуда – от этой мысли сводило желудок и бросало в пот. Резчики и цефики могут вернуть телу молодость несколько, даже много раз, но изменчивость человеческого «я», человеческой души им побороть не дано. Нет способа сохранить себя молодым, уберечь себя от внутренних перемен. Я обречен меняться – это моя судьба и судьба каждого человека. Шанидар улыбался беззубым ртом, и я сознавал, что вся моя жизнь до этого момента была ненастоящей. Рисунки на стенах и мое больное колено – все представлялось мне нереальным.
Шанидар, словно подслушав мои мысли, повернул ко мне голову, и улыбка вдруг исчезла с его лица.
– Даже добрые люди вроде нас с тобой стареют, так ведь? Вот почему мы должны уходить в свое время. Иначе нам никогда не будет покоя.
Он стал говорить о покое и просветлении, ожидающем нас по ту сторону дня, и о любви к своему народу, почти полностью отвергнувшему его. Должен сознаться, я слушал его внимательно. Мне хотелось убежать от него в главную пещеру, увидеть Соли и остальных, объяснить им, что наш поиск секрета жизни – глупая и бессмысленная затея. Никакого секрета нет – есть только давящий гнет бытия, в конце которого наступает ничто.
Я вскочил, почти не слушая Пещерного Старца, и он сказал:
– Еще одно перед тем, как ты уйдешь, да? Я забыл сказать тебе об этом, но ты должен знать. Крылья Бога простираются через всю вселенную – я ведь уже говорил тебе? Они серебряные и простираются до самого края, но глаза Бога закрыты, ибо он спит. Однажды Бог проснется и увидит себя таким, как есть. Я так и слышу его крик, хлопанье его крыльев. Но пока это время не настало, добра и зла не существует, ибо один Бог ведает, что хорошо и что плохо. Вот это я и хотел тебе сказать. Такие люди, как мы с тобой, добрые люди, убивающие своих доффелей, должны поступать по собственной воле, потому что нам все дозволено. Но даром ничего не дается, так ведь? – Он провел дрожащими пальцами по своим деснам. – Надо платить.
Я спустился по скальному проходу быстро, как только мог. Я хотел найти Катарину, погладить ее волосы, спросить, что она видела: пусть скажет мне, каким я буду в старости. Пещерный Старец затянул мне вслед скорбную песню, и я старался не слушать ее.
12 МАЛАЯ СМЕРТЬ
Как объяснить то, что волны пространственно-временного континуума способны контролировать собственное волнение? Как объяснить, что связанная энергия достигает еще большей концентрации, вместо того чтобы постепенно иссякнуть, приведя к тепловой смерти и вселенскому покою? Как объяснить, что сознание стремится к более высокому уровню сознания и жизнь порождает высшую и более сложную жизнь?
Хорти Хостхох, «Реквием по хомо сапиенс»Мое «семейство» пировало в главной пещере вместе со всеми деваки. Я, одержимый мыслями о распаде и смерти, оказался не готов к дружной радости ста двадцати человек, набивающих желудки прекраснейшим на свете мясом. Это был пир плоти, праздник любви и жизни, не знающий пауз и передышек. Все, кроме грудных младенцев и малых детей, объедались жареной мякотью и жиром. (Многие так изголодались, что начали пиршество с сырого мяса.) Пещеру наполняли вкусные запахи, а ребятишки весело щебетали, лакомясь жареной печенкой, которую макали в расплавленный жир. Юрий и вся прочая Манвелина охотно поделились едой с Елиналиной и Рейналиной. Охотники двух этих семей вернулись после охоты на шегшея раньше нас и с пустыми нартами, но Юрий объявил, что голодными они не останутся – ведь в следующий раз удача может обернуться другой стороной. Даже Шарайлина, занимавшая самый низкий статус среди всех семей после одного давнего неприглядного события, – и та получила свою долю. Между хижинами на полу валялись разгрызенные кости и раздутые тела объевшихся (то есть почти все племя). Лежавшие отрыгивались и стонали. Многие, к моему удивлению, при этом отпускали сальные шутки и открыто лапали друг друга. Молодка из Еленалины – кажется, ее звали Пуалани, – хихикая, шептала что-то на ухо Чокло. Потом они, обнявшись, скрылись в одной из хижин Еленалины. Повсюду в мягком мигающем свете горючего камня мужчины и женщины делились на пары, ласкали друг друга и расходились по темным углам. Бардо, сидя между двумя хорошенькими девушками из Манвелины, обнимал их и пел. Под несущиеся из хижин страстные вздохи он подмигнул мне и прокричал.
– Двое для одного – в самый раз, а вот для двух таких, как мы, будет маловато! Но Бардо нынче доволен и потому готов поделиться. Где ты был? Ты белый, точно птичий помет.
– Где Катарина? – спросил я.
– Забудь о Катарине. Какое тебе дело, где она?
Время было не совсем подходящее, чтобы оповещать его о наших любовных делах – хотя, судя по его хитрым карим гляделкам, он догадался об этом еще до отправления из Города.
– Ты ее видел?
Он, не отвечая, ткнулся губами в шею младшей из двух девушек, с маленьким носиком и приятным звонким смехом.
– Это Надя, дочь Дженсе. Говорит, что любопытствует узнать, достаточно ли длинное и крепкое у Мэллори Тюленебоя копье, чтобы пробить ее аклию.
Надя хихикнула и явно испытала разочарование, когда я покачал головой.
– Я должен найти Катарину.
– Вот ведь горе-то. – Он встал и отвел меня в сторону. – Что с тобой стряслось?
Я хотел рассказать ему о своем визите к Шанидару, но прикусил губу и выдавил из себя:
– Экспедиция, поиск… все это бессмысленно.
– Ясное дело. Потому-то и надо жить, пока живется. Жизнь скучна и бессмысленна, но в тот момент, когда ты извергаешься в женщину, скука проходит, и – тебе не скучно? – и ты чувствуешь, что сейчас умрешь не то от удовольствия, не то от чего-то еще – но тебе на это наплевать. Ты умираешь малой смертью, а она визжит и впивается ногтями тебе в спину, потому что тоже умирает – да разве есть что-нибудь лучше этого?
Я попытался объяснить ему, что проблема куда сложнее, чем он думает. Но он только мотал головой, держа меня за плечо.
– Учишь тебя, учишь – и все не впрок. Кстати: спасибо тебе, паренек, что привел меня в это восхитительное место.
Я напомнил ему об опасностях секса с молодыми здоровыми женщинами, и он задумчиво поскреб бороду. Он всегда боялся зачать ребенка. Была у него такая странность: он вбил себе в голову, что если семя его приживается, он как бы исполнит свое предназначение в жизни и будет обречен умереть.
– Плохо, что нельзя обучить моих живчиков дохнуть, как только они покидают мое тело. Но… если даже одна из этих волосатых бабенок забеременеет, откуда они узнают, кто отец?
Он вздохнул, облизнул усы и вернулся к девушкам. У таких, как Бардо, похоть всегда побеждает страх.
Я бродил по пещере в поисках Катарины, но найти ее не мог, и никто не знал, где она. Я вернулся к нашей хижине, услышал, что Соли с Жюстиной занимаются любовью, и поплелся к хижинам Манвелины. Моя мать сидела там с Аналой – они скоблили тюленьи шкуры и пересмеивались. Анала похвалялась мужской силой своего сына Лиама. Он будет хорошим мужем любой женщине, сказала она. Я вспомнил, что Лиам мне тоже ни разу не попался на глаза. Из ближней хижины, освещенной изнутри, неслись ритмичные вздохи и вскрикивания. Скрипнув зубами, я прислонился к холодной стене пещеры. Почему-то в памяти Рейнера не содержалось ничего относительно повальной эротической горячки.
То, что происходило в ту ночь и в последующие двое суток, не было оргией в точном смысле этого слова. Деваки, насколько я мог судить, занимались сексом парами и по возможности уединенно. За одним исключением (я имею в виду Бардо, о чьих подвигах речь пойдет ниже), групповых сношений, вуайеризма и прочих извращений здесь не наблюдалось: достижения цивилизации в этой области деваки еще не коснулись. Зато у них практиковалась свободная любовь – этакий островок внутри жесткой системы различных правил и табу. (Запрещалось, например, совокупляться с чужим супругом или супругой, а секс между членами семьи рассматривался как гнусность.) Молодые же и неженатые предавались «извержениям вулкана», постоянно меняя партнеров, а после поглощения мяса в больших количествах кровь у всех играла особенно бурно. Молодые деваки, сходясь в полумраке пещеры, неистово совокуплялись, пировали и искали удовольствий с новыми партнерами. Юрий сказал мне, что любовь – это дар деваки богу Квейткелю, и ей следует предаваться, пока чрева женщин (или девушек, ставших женщинами) не наполнятся новой жизнью.
– Не жди долго, чтобы поднять свое копье, – посоветовал он около полуночи, найдя меня сидящим вместе с собаками у входных костров. – Скоро аклии молодых женщин истощатся, и ты упустишь свое удовольствие. – Он подбавил дров в огонь и вздохнул. – Ты, наверно, печалишься о том, что убил своего доффеля, и кто тебя за это упрекнет? Но человеку не годится думать слишком много. – Он постучал себя пальцем по лбу над пустой глазницей. – Мне кажется, у тебя здесь слишком много голосов. Тебе нужно, чтобы буря в голове улеглась, и нет лучшего способа, чем забыться с женщиной. Не видишь разве, как Ментина и Лилит смотрят на тебя?
В самом деле – есть ли способ лучше? Как я завидовал чистоте и невинности Юрия! Он ничего не знал о болезнях, сгубивших множество Цивилизованных Миров, о спеллерах, конструирующих генотоксины, которые отнимают у человека личность и душу. Мне отчаянно хотелось забыться с женщиной или как бы то ни было – что угодно, лишь бы заглушить дрожащий старческий голос Шанидара, изгнать его образ, выжженный во мне. Но я оставался цивилизованным человеком, несмотря на свое первобытное тело, и втайне боялся прикасаться к этим немытым, вшивым женщинам. Как объяснить это Юрию? Как объяснить, что я, искатель тайны жизни, испытываю перед жизнью страх?
Одна женщина из Еленалины, впрочем, чем-то отличалась от остальных. Ее звали Камалия, и она была красива. Волосы у нее выглядели не такими сальными, как у ее соплеменниц, зубы были белые и не такие стертые. Когда Юрий с Аналой отправились спать, она пришла и села рядом со мной у костра. Она застенчиво улыбалась, прикрывая рукой свои розовые губы, дергала меня за парку, и ее густой запах вдруг показался мне приятным, даже влекущим. Огонь дышал жаром мне в лицо, дым обволакивал сладким курением, в ушах стоял смех Камалии. Я устал от поисков, устал от дум, и мне не хотелось ничего, кроме прикосновений ее умелых маленьких рук. Я уткнулся ей в шею (варварское искусство поцелуя деваки, слава Богу, неведомо), мы нашли пустую хижину и занялись любовью. Мы трахались до изнеможения, засыпали, просыпались и снова трахались. Я умирал малой смертью, чувствуя себя диким, чистым и неуязвимым. За последующие сутки я соединялся с Камалией четыре раза, стремясь избавиться от скуки и страха перед жизнью. Это было хорошо, но мало, и я трахнул ее младшую сестру Пиларию, которая визжала и впивалась ногтями мне в спину – это было очень хорошо, но мало, чтобы меня успокоить. Я проголодался, поэтому поел мяса и оказался в хижине Арке, где уговорил робкую Тасарлу лечь со мной. Позже – не знаю, который это был день – я поимел Ментину, которая мурлыкала песенку и массировала мне грудь, раскачиваясь на мне взадвперед. Бардо, узнав о моих успехах в этом персональном поиске, распространил слух, что я великий охотник на женщин и искусно орудую своим длинным и толстым копьем – не таким, правда, длинным и толстым, как у него самого. (Такого ни у кого нет.) Я трахал женщин, чьи имена забывал или не знал вовсе. Все они были хороши по-своему, даже косоглазая Ментина и Лилит с кривыми зубами, от которой воняло рыбой. Они дарили мне много удовольствия, но его все-таки было мало, чтобы унять шум у меня в голове.
На третью ночь этого разгула мы с Камалией, задремав было, проснулись от крика и рева в соседней хижине. После длинной симфонии, составленной из стонов, смешков, кряхтения и визга, глубокий бас Бардо, сопровождаемый каскадом звонкого девичьего смеха, возгласил:
– Десять! – За этим чуть позже последовало: – Одиннадцать! – А затем: – Двенадцать! Тринадцать! – В хижине слышались голоса сразу нескольких женщин. – Четырнадцать! – На этом месте я сообразил, что Бардо ведет счет своим победам. Услышав ближе к рассвету «девятнадцать», я побоялся, что ему не хватит алалойских слов – я уже говорил, что у деваки нет названий для чисел больше двадцати. (Не станет же он выкрикивать «гела», или «много», овладев очередной женщиной, – это просто смешно.) Мы с Камалией поделили на двоих кусок тюленины, ожидая, когда он объявит о двадцатой. Но за номером девятнадцать последовало долгое молчание, прерванное воплем: – Бог ты мой, это еще что за напасть? – А после: – Он не хочет опускаться! – Бардо позвал меня по имени, и в его голосе слышалась паника. Я улыбнулся Камалии, быстро оделся и вошел к нему в хижину. – Мэллори, – выдохнул он, – посмотри. Стоит, и все тут!
Бардо, совершенно голый, топтался посреди хижины. На одной из снеговых постелей две женщины, едва прикрытые шкурами, сидели и смотрели на него. Держась за руки, они хихикали и показывали на его огромный напряженный член, торчащий из-под круглого пуза, как носик чайника.
– Бардо вое Туваланка! – заявила одна. – Туваланка! – («Копье» у Бардо действительно было как у мамонта. В юности он опасался, что кровь, нужная для питания мозга, оттягивается туда, лишая его возможности мыслить в полную силу.)
Я велел женщинам одеться, выставил их из хижины и спросил:
– Что с тобой такое?
– Не знаю. – Он привел свой инструмент в горизонтальное положение. – Стоит, хоть ты тресни. Отравили меня, что ли? Это со мной впервые.
– Ты просто перевозбудился.
– Нет, паренек, нет.
– За эти три дня женщины накачали тебя адреналином. – Я и сам, по правде сказать, чувствовал себя гигантом – кто бы не почувствовал этого после целого ряда молодых женщин, выходящих тебе на копье?
– Да, их было много, но, по-моему, дело не в них. Гормоны во мне так и бурлят. Меня отравили, ей-богу!
Осмотрев с некоторого расстояния его орган, я заметил любопытную вещь. Цветные рубцы вдоль «Мамонтова копья» располагались не в произвольном порядке. Красные пятнышки, разбросанные среди зеленых и голубых тонов, складывались в знакомый образ. Я присел на корточки, чтобы лучше видеть. Мне вспомнились мертвые языки, которые я изучал по книге Хранителя Времени, и я узнал в красном знаке древнюю японскую пиктограмму, обозначающую слово «месть». Хитрый Мехтар вытатуировал ее на члене Бардо, думая, вероятно, что его послание никто не расшифрует. Резчик отомстил Бардо за то, что тот толкнул его на лед в день нашей первой встречи с Соли. Скорее всего он начинил Бардо запрограммированными гормонами, обеспечив ему постоянную эрекцию. Эта подстроенная резчиком каверза, безусловно, подлая и жестокая, в то же время, сам не знаю почему, показалась мне уморительно смешной.
– Что ты там видишь? – спросил Бардо.
– Ничего.
– Не ври мне, паренек.
– Все будет хорошо.
– Мэллори!
– Нет, правда ничего. – И тут меня разобрал смех.
– Да говори же, ей-богу!
Я смеялся, а он багровел, и член у него становился еще тверже. Я ржал так, что слезы текли из глаз, я икал и захлебывался.
– Как это жестоко с твоей стороны, – расстроился Бардо.
Я унялся и объяснил ему коварный замысел Мехтара.
– Я слышал о таких вещах, – сказал он. – Он изменил мою биохимию! Собственные половые железы отравляют меня! Мститель хренов. Когда мы вернемся в Город, я покажу ему, что такое месть. Отрежу ему письку и прибью над дверью его заведения, как Бог свят.
– Да тише ты!
– Ничего, никто не услышит.
Но кто-то, видимо, все-таки услышал – а может, те две женщины разнесли повсюду весть о бедственном положении Бардо. К нам вошел Юрий со своим братом Висентом, и оба в изумлении воззрились на моего друга.
– Мы слышали, как вы кричали, – сказал Юрий. Никогда не забуду беспомощного выражения на лице Бардо, пока Юрий исследовал его орган, зажав его своими сальными пальцами. – Тот, кто посвящал тебя в мужчины, был большой искусник. Великий шаман делал эти надрезы, но и копье ему досталось необыкновенное. Поистине у Бардо оно, как у мамонта, – Серата и Ома ничего не преувеличивали.
Бардо освободился от него и стал одеваться, красный, как кровоплод.
– Всем женщинам любопытно поглядеть на такое копье, – продолжал Юрий, – и кто их за это упрекнет? – Он придвинулся поближе к Бардо, говоря тихо и конфиденциально. – Их любопытство чересчур велико. Мы не хотим, чтобы замужние женщины украдкой бегали в твою хижину, чтобы удостовериться в величине твоего копья. Это нарушило бы спокойствие. Ты должен удовлетворить их любопытство сейчас, когда они вволю насытились мужскими копьями. Известное привлекает меньше, чем тайное. Выйди-ка из хижины – там ждут Анала и Лилуйе. Бардо, вытаращив на него глаза, не двинулся с места.
– Быстрее, пока твое копье не обмякло.
На лице Бардо отразилась целая гамма эмоций. Тот, кто не знал его, счел бы, что скромность препятствует ему позировать перед женщинами. Но Бардо к скромникам не принадлежал. По-моему, он просто боялся, что Соли и наши женщины, увидев его во всей красе, догадаются, какому унижению подверг его мстительный Мехтар. Но вряд ли кто-то из наших, кроме меня и, возможно, моей матушки, изучал древнеяпонский. Я кивнул другу, подбадривая его. Он, как видно, понял меня, потому что пожал плечами и сказал:
– Надеюсь, они не упадут в обморок от такого зрелища. – С этими словами он вылез из хижины, накинув на себя, как плащ, шегшеевую шкуру. В таком виде он прошелся мимо освещенных хижин и остановился, прислонившись, перед Пещерным Старцем. Женщины, числом не менее пятидесяти, окружили его. (Следует упомянуть о том, что мужчины любопытствовали не меньше и заглядывали через плечи женщин, явно завидуя.) Наиболее впечатлительные особы, Анала и нервная Лилуйе в том числе, ахали, охали и наперебой стремились пощупать «копье», чтобы удостовериться в его великолепии. Многочисленные руки тянулись к Бардо, трогая его и лаская. Большинство женщин, однако, печально покачивали головами и отводили взгляд. Бардо красовался как ни в чем не бывало, делая движения бедрами и заявляя:
– У Тувы, мамонта, копье не больше моего. Смотрите! – При этом он не преминул прочесть свой любимый стишок:
Тонкий и короткий Не дружит с красоткой. Толстый и длинный — Вот он, друг старинный!Мулийя, толстая косоглазая мать Ментины, осведомилась:
– Разве женщины ложатся с мамонтами?
– Твое дело – разжечь в женщине огонь, а не убивать ее своим копьем, – заметила Анала, и все, включая Бардо, засмеялись.
– Однако тут холодно, – поежился он.
– Смотри, копье заморозишь, – крикнул кто-то. Это напомнило Бардо о серьезности его положения.
– То-то же, заморозишь. Ох, горе, горе. – Он моргнул мне и вернулся в хижину, чтобы одеться.
Мужчины и женщины, пошутив еще немного, разбрелись. Юрий, удержав меня за руку, сказал:
– Странный человек Бардо. Вы все, сыны Сенве из южных льдов, странные. Храбрые и сильные, да, но странные.
Я промолчал, боясь, что выходки Бардо вместе с моими дурацкими ужимками заставили Юрия заподозрить в нас городских жителей. Но из дальнейших его слов стало ясно, что он считал странным не только нас с Бардо.
– Соли тоже странный. Никогда не видел, чтобы человек получал так мало радости от жизни. Он любит Жюстину, как солнце любит землю, но видя, что она не способна отразить все его сияние, становится холодным, как звезда. Он забывает, что такая любовь – это напрасная попытка души уйти от своего одиночества. Очень странно. А ты, Мэллори, самый странный из всех – ведь ты убил собственного доффеля. Что может получиться из такой странности? – Он с явным беспокойством уставился на меня своим глазом. – Не знаю, не знаю.
Через его плечо я видел хижины Манвелины. Из ближней как раз вышел Лиам. Расчесав пятерней свои длинные светлые волосы, он прошел к мясной яме и отрубил кусок тюленины. Чуть позже из хижины, пятясь задом, вылезла Катарина. Она встала и улыбнулась ему так, что у меня возникло желание вцепиться зубами в скалу. Она пошла к входным кострам, а я отступил в тень Пещерного Старца, чтобы она меня не заметила, посмотрел на Юрия и сказал:
– Я тоже не знаю.
* * *
Я последовал за Катариной до нашей хижины. Не желая, чтобы она подумала, будто я шпионю за ней, я выждал немного и лишь потом пролез внутрь, стараясь делать это как можно тише. Все наши горючие камни были зажжены, и хижину заливало море золотого света. Соли ушел – то ли покормить собак, то ли побегать на лыжах по лесу, что он любил делать на рассвете. Жюстины тоже не было. Я залег в темном входном туннеле. Катарина, став на колени перед своей снеговой постелью, обвела взглядом стены хижины и откинула в сторону шкуры. Потом начала раскапывать плотно утоптанный снег – так тихо, что даже ее дыхание звучало громче. Вскоре она выкопала ямку фута два глубиной. Подняв голову – я, несмотря на свою ревность, невольно залюбовался ее красотой, – она огляделась еще раз и достала из своего тайника, одну за другой, пять криддовых сфер, прозрачно-зеленоватых, чуть поменьше яиц гагары. Катарина осторожно открыла первую сферу и достала из внутреннего кармана парки прядь светлых волос. Скатав волосы в золотистый комок, она поместила их в сферу. То же самое она проделала с остальными емкостями, уложив в них обрезки ногтей, детский молочный зуб и – надо же! – черный отрезанный палец ноги Джиндже, у которого обморожение перешло в гангрену. Под конец – я видел это ясно, поскольку она сидела на корточках спиной ко мне – она снова порылась в своих мехах ниже живота и достала, как я догадался, маточное кольцо, без сомнения, наполненное спермой Лиама. Его она, должно быть, опорожнила в последнюю сферу, спрятала все сосуды обратно и закопала ямку.
Разозлившись, я забыл, что не должен выглядеть в ее глазах шпионом.
Я встал и сказал:
– Надеюсь, ты собрала достаточно проб.
Она подскочила, содрогнувшись всем телом – с ней случалось это иногда, когда она засыпала, лежа рядом со мной.
– Ох… я не знала, что ты… – Она прикрыла тайник шкурами и села на них, грея под мышками озябшие пальцы.
Мне хотелось взять ее руки в свои и перелить в них свой жар, но я был очень зол и потому спросил:
– Ну так как – много собрала?
– Право, не знаю.
– Ты уже три дня мотаешься по пещере – сколько тебе еще понадобится? – Мы планировали собрать не меньше двадцати образцов девакийской плазмы и тканей – по пять от каждой из четырех семей. По словам мастер-геноцензора, этого должно хватить, чтобы составить понятие о хромосомах всего племени.
– Не знаю, – повторила она.
– Почему бы просто не сосчитать их?
– Откуда у тебя эта мания – все считать?
– У меня математическое мышление.
Она потерла руки и подула на них. В воздухе стоял пар от ее дыхания.
– Ты хочешь спросить, со сколькими мужчинами я имела дело – так вот, их недостаточно. – За сим последовала так бесившая меня скраерская поговорка: – Что будет, то было; что было, то будет. – Катарина согнула пальцы. – Я не Бардо и не считаю своих…
– Сколько?
– Ответить на твой вопрос было бы жестоко.
– И все же – сколько? Семь? Восемь? Эта варварская оргия длится трое суток.
– Меньше, чем ты полагаешь. Я люблю мужчин не до такой степени, как вы с Бардо – женщин.
Я подошел к ней и схватил ее за руки.
– Двое? Трое? Все это время я не мог тебя найти. Сколько их было?
– Мужчина был только один – понимаешь? – с грустной улыбкой ответила она.
Еще бы не понять. Передо мной сразу возникли нагие тела ее и Лиама. Я пытался думать о другом, но не мог. Моя прекрасная Катарина лежала под ним, прижимая к себе его ягодицы. Эта картина горела во мне, напоминая похабные фрески, которые переливаются под белой кожей инопланетных шлюх. Я стиснул зубы и спросил:
– Значит, ты все время была с Лиамом? Почему?
– Лучше мне не говорить. Это было бы жестоко…
Настаивать было глупо, но я в тот день был особенно глуп и повторил:
– Почему?
Она отняла у меня руки и сказала:
– Лиам не такой, как другие мужчины… цивилизованные мужчины.
– Мужики, они и есть мужики. Чем это он такой особенный?
– Когда он… когда я… когда мы вместе, он не думает о болезнях, о других мужчинах, с которыми я была, о последствиях… он не всегда думает, понимаешь? Знаешь, как здорово быть с кем-то, кто в такой момент только твой?
– Нет, – честно ответил я.
– Это экстаз.
– Экстаз, – повторил я, глядя ей в глаза. От ревности у меня напряглись жилы на шее.
– С Лиамом это так же естественно, как дышать… он терпелив, понимаешь?
Я закрыл глаза и представил себе этот самый экстаз – представил Катарину с зажмуренными веками, с запрокинутой головой. Моя ревность преобразовалась в желание, гнев уступал место похоти. Пульсирующая кровь распирала меня изнутри. Несмотря на эти разгульные три дня, а может, как раз благодаря им, я страстно желал Катарину – я просто умирал от желания. Я уже шептал ей на ухо какие-то извинения, почти помимо воли, запустив руку в шелк ее волос. Я, как варвар, целовал ее шею. Я снимал с нее шкуры, а она все это время смотрела на меня широко раскрытыми, но ничего не видящими глазами. Внезапно она кивнула, словно увидев нечто доступное только ей, взяла мое лицо в ладони и медленно произнесла:
– Это очень… опасно! – Но в тот момент мне было наплевать на опасность; одержимый необходимостью действовать, я скинул с себя шкуры и стал ласкать ее. – Ты не понимаешь… ты не… – Она легла на свою постель, закинула, как инопланетная проститутка, руки за голову и согнула колени, открыв темный треугольник между ног. Связки у нее под кожей напряглись, и от нее пахло сексом. – Мэллори, – сказала она. Я раздвинул ее колени своими, и скребущие звуки за стенами хижины ушли из моего сознания, как и все остальное. Как объяснить тот таинственный порыв, который овладевал нами каждый раз, когда мы оставались наедине? Мы с ней шутили, что, хотя мы друг другу не всегда нравимся, клетки ее тела любят клетки моего. Мне хочется думать, что тогда в хижине нас толкнула друг к другу любовь. Мы соединились быстро, как звери, в неискусном, но экстатическом акте. Катарина в отличие от большинства женщин возбуждалась легко и быстро, но уже воспламенившись, любила растягивать удовольствие на час или больше, смакуя каждое мгновение. Меня это часто раздражало, потому что я всегда спешил к финалу, к тому ослепительному моменту, когда наш экстаз достигнет вершины и мы оба умрем малой смертью. Сейчас времени у нас было мало, и мы напряглись яростно, в такт, тяжело дыша и обливаясь потом. Она подгоняла меня, нажимая сзади пятками на мои бедра. Я, должно быть, расшвырял старые шкуры, покрывавшие пол, потому что пальцы моих ног зарывались в снег. Я умирал от нетерпения и наяривал все быстрее, рыча, как дикий зверь.
– Погоди, – сказала Катарина. Я открыл глаза, и она открыла свои, глядя сквозь меня внутрь себя, в сверкающую кристальную глубину, где собственное удовольствие виделось ей со стороны – так соглядатай подсматривает за совокупляющейся парой сквозь щелку в ледяной стене. Но я умирал и не мог ждать, не мог ни о чем думать. Я взорвался в ней, и горящие капли жизни извергались из меня спазматическими толчками. Мы оба производили слишком много шума, но мне было все равно.
После она долго лежала тихо, лаская пальцами мой затылок. Казалось, что ей весело и грустно одновременно; на ее лице отражались покорность и тревога, но и счастье тоже.
– Ох, Мэллори, – сказала она, – бедный Мэллори. – Я подумал было, что все случившееся произошло против ее воли, но потом вспомнил, что она скраер и отрицает наличие воли. – Все это слишком сильно для тебя, да? – Она закрыла руками глаза, заливаясь смехом и слезами, и мне стало ясно, что я никогда ее не пойму.
Она отделилась от меня и стала одеваться, говоря своим скраерским шепотом:
– Я так любила вот это наше, последнее… всегда буду любить. – И она убежала, а я остался поправлять горючие камни, ставшие тускло-желтыми после слишком сильного горения.
13 ГОЛОД
Если нас станет слишком много, мы убьем всех мамонтов, и нам придется добывать себе пропитание, охотясь на шелкобрюха и шегшея. Когда их тоже не станет, нам придется долбить лунки на морском льду и бить копьями тюленей, когда те всплывут подышать. Когда не станет тюленей, нам придется убивать Кикилью, кита, который мудрее нас и силен, как Бог. Когда животных не станет совсем, мы начнем выкапывать колтун-корень, есть личинок и обламывать зубы, обгрызая лишайник со скал. В конце концов нас станет так много, что мы сведем леса и посадим снежные яблони, пробудив у человека жадность к земле, и найдутся люди, которые захотят иметь больше земли, чем другие. А когда земли больше не останется, сильные люди будут пользоваться трудом слабых, которым придется продавать ради пропитания своих женщин и детей. Сильные люди станут воевать между собой, чтобы получить еще больше земли. Тогда мы станем охотниками на людей и будем обречены на муки и при жизни, и по ту сторону дня. А потом, как это было на Земле до Роения, с неба прольется огонь, и деваки не станет.
Слова Локни Несчастливого, пересказанные Юрием ПремудрымНесколько дней спустя я признался во всем Бардо. Боясь смерти больше всех, кого я знал, он напустил на себя скучающий и мнимо спокойный вид, когда я рассказал ему, что пережил в гроте Шанидара – о моем «прикосновении к беспредельному», как выразился он. Гораздо больше заинтересовали его подробности моего свидания с Катариной. Зная, что мы стали любовниками в ночь, когда я получил кольцо пилота, он надавал мне массу советов.
– Ревность губит тебя, паренек. Пусть себе трахается с мужиками, сколько влезет – зачем же еще мы явились сюда? Мужчина, конечно, должен любить женщин, но не должен любить одну женщину слишком сильно. Это для него отрава. – Мы стояли с ним в лесу около пещеры и совершали обряд отлития после утреннего чая, сверля в снегу желтые дыры. Ветер дул с юга, делая упомянутый процесс сложным и опасным – ведь деваки, облегчаясь, всегда должны становиться лицом к югу. Бардо, стряхнув последние капли, сказал: – Надо же, как этот подлый ветер задувает в штаны. Отрава! Взять хотя бы ту, которой накачал меня Мехтар. Любопытная, доложу я тебе, штука. Гляди. – Он показал мне свой член, вялый и сморщенный, но по-прежнему очень большой. – Где это слыхано? Весь день он висит, как язык колокола, и ни я, ни наши волосатые красотки не могут его поднять, хоть ты тресни. Зато ночью – ночью он рассекает воздух. И мне волей-неволей приходится искать бабенку, чтобы его опорожнить. Надо радоваться, что деваки так свободно относятся к сексу, дружище. Хочешь совет? Так вот: предоставь Катарине собирать ее пробы – это ускорит наш отъезд.
Должен упомянуть, что не одной Катарине удавалось собирать образчики девакийских тканей. Соли, как главу нашей семьи, позвали держать Джиндже, когда Юрий ампутировал последнему обмороженные, почерневшие пальцы ног. Я не присутствовал при операции и не знаю, как Соли удалось прикарманить один палец и передать его Катарине для помещения в тайник. К Марии, когда она рожала своего мальчика на задах пещеры, меня, разумеется, тоже не допустили. Мужчинам запрещено присутствовать при самом сокровенном из женских таинств. Но мать помогала при родах (не сомневаюсь, что ей в этом процессе принадлежала ведущая роль) и принесла нам частицу последа Марии. Хотя эту экспедицию затеял я, мне с трудом верилось, что в последе может содержаться какой-то секрет. Сущность явно обманула меня. Это, конечно, была шутка или какая-то игра, в которой мы только фигурки, и нас можно двигать, замораживать, морить голодом и резать на куски по капризу богини или стоящих над ней богов. Никакого секрета нет и быть не может.
Наша жизнь у деваки скоро вошла в привычную колею. Когда мы доели остатки тюленьего мяса, мужчины каждое утро намораживали нарты и выезжали на лед либо отправлялись в лес на лыжах. Со зверем нам не везло, но мне нравилось быть на свежем воздухе, подальше от дымной пещеры и от Катарины, каждую ночь совершавшей вылазки в хижины разных мужчин. На льду мне были обеспечены покой и уединение, хотя тюлени больше не появлялись. В лесу, где обычно паслись стада шегшеев, мне тоже многое нравилось: пересвистывание охотников, шелковистый снег под лыжами. Утренняя тишина, зелень на белизне, а над деревьями, снегом и тишиной – голубое окно зимнего неба. Мне часто вспоминаются те каменистые холмы у подножия Квейткеля, потому что там я впервые начал видеть деваки такими, как они есть. Глядя, как Юрий выслеживает полярную лису или ставит силки на гагару и других птиц, я стал ценить заботливость, которой сопровождалась охота всякого рода. Деваки не были мясниками и никогда не убивали бездумно. Охотник, взяв тюленя, поил его изо рта, чтобы душа зверя не испытывала жажды в своем пути на ту сторону. Поморнику следовало натереть глаза льдом, и так далее. Каждое животное требовало своего ритуала, которых было не меньше ста. Я заметил, что деваки не смотрят на животных как на мясо – по крайней мере пока не воздадут почести духам убитых зверей. Деваки любили животных и не представляли себе мира, где их нет; они и о себе думали как о животных, имеющих обязательства перед душами зверей, на которых охотились. Они были близко связаны с миром животных и с миром вообще бесчисленным количеством уз.
Однажды морозным днем в конце глубокой зимы я видел, как Юрий позволил белой медведице уйти из круга копий, нацеленных ей в грудь. Почему он это сделал? Да потому, что третий коготь на ее правой передней лапе был сломан, и все знали (или должны были знать), что такие медведи – это имакла, волшебные животные, которых убивать нельзя. Гибель зверя, как я выяснил, не была конечной целью охоты – это явилось для меня суровым уроком. Сознание того, что я должен убивать, чтобы жить, доставило мне много неприятных переживаний. Больше всего я ненавидел прилив жизненной энергии, дурманящий меня, как наркотик, когда я пронзал копьем ни в чем не повинное существо и смотрел на его брызнувшую кровь как на питье, которое ускорит бег моей собственной. Деваки не разделяли моей ненависти, хотя и они, я полагаю, никогда не чувствовали себя более живыми, чем в миг умерщвления добычи. Я не претендую на проникновение в менталитет охотников, но думаю, что усвоил хотя бы часть их мировоззрения: охотиться – это значит впитывать мириады производимых ветром звуков, чуять далекий запах мамонтов, читать послания в горностаевом помете и бороздах на снегу, читать послания в складках льда, в приметах земли и неба; охотиться – значит быть частью всего этого, как деревья, камни и птицы. Ничего нет важнее, чем восприятие этого целого, этой красоты, сотворенной мировой душой. И ни одно слово, мысль или поступок охотника не должны нарушать этой красоты, этого халла.
– Лучше уйти на ту сторону голодным, – сказал Юрий, глядя, как медведица уходит в свою снежную берлогу, – чем уйти туда одурманенным и опьяненным кровью имакла, которая слепит наши души.
Это сознание взаимосвязанности живых существ, событий и предметов окружающего мира было вопросом не морали, а выживания. Деваки верили, что жить миг за мигом, поколение за поколением возможно лишь при понимании того, что требует от них мир. Но, говоря о правильном поведении, о понимании, что вокруг халла, а что нет, я вовсе не хочу сказать, что кто-то из деваки владел этим искусством в совершенстве. В их повседневной жизни всегда присутствовали недочеты, неуверенность и мелкие нарушения. Ведь убил же кто-то талло, чей желудок демонстрировал мне Шанидар, ради еды, хотя все талло считались имакла. Кто-то из деваки. Кто-то из деваки, наверняка знавший все правила назубок, все же не согласился с миром, где люди вынуждены голодать, в то время как талло летают безбоязненно. Как может такой мир быть халла? И охотники убивали священных птиц, и медведей имакла, а изредка тюленей или других животных, бывших их доффелями.
По правде говоря, настоящего голода у деваки никогда не было. Лес не был пуст по-настоящему и скорее походил на кафе, где кончились самые вкусные блюда. Когда мы были голодны, мы начинали есть ту мерзость, которой до сих пор брезговали. Мы ели (это касается в основном Манвелины и других семей; мы, городские, терпели сколько могли) самые невообразимые вещи. Висент и его сын Вемило откопали рыбьи головы, зарытые на черный день прошлой ложной зимой, острые кости превратились в серовато-белую мягкую массу. Лилуйе собрала головы в миску и замесила вонючее тесто, из которого налепила мелкие круглые лепешки, быстро валяя их в своих нервных пальцах. Она испекла лепешки на углях, и мужчины съели их, хотя и с неохотой. Другие блюда были еще хуже. Собак кормили слизью, соскобленной со старых шкур, – это были остатки мозгов, используемых при выделке. Юрий убил шелкобрюха и умял, прищурив свой единственный глаз, содержимое его желудка. Во время еды он причмокивал губами и уверял сидящих тут же детей, что эта дрянь ничем не хуже жареных орехов. Дети тоже часто промышляли что-нибудь на снегу. Они, например, ели помет гладышей, который жевали, как ягоды. Двоюродный брат Юрия Джайве дробил залежалые кости мамонтов, кишащие червями. Этот забавный коротышка, любивший лакомиться тухлыми птичьими яйцами, со смаком высасывал червивую массу и говорил, что это вкуснее гагарьих яиц годичной давности. Я охотно ему верил. В семье после этого случая его прозвали Джайве-Червеедом. Сам я пробовал есть оттаявших устриц. Студенистые солоноватые кусочки, проскакивая мне в рот, каждый раз напоминали о том, что я испытал в Тверди. Я дивился тому, что вкус настоящих устриц оказался точно таким же, как тот, который дала мне почувствовать Твердь – таким же реальным и таким же мерзким.
В сущности, деваки были смышленым, изобретательным народом. Убить их было не так-то просто. Во время нашего краткого пребывания в пещере я слышал тысячи историй о выживании. Юрий рассказывал мне, что, когда он был мальчишкой, его родители чуть не погибли, перебираясь через лед в начале ложной зимы.
– Когда мне было пять лет, – рассказывал он, – родители решили совершить паломничество на Имакель, где похоронены предки моей матери. Но однажды ночью лед вскрылся – такое случается. Мы потеряли одни нарты, а с ними гарпуны, шкуры, горючие камни, копья – все. Больше половины собак тоже погибло. У отца остался только снегорез, а у матери – ее звали Элиора – ничего, кроме зубов да нескольких старых тюленьих шкур. Ни поохотиться, ни костер развести. Я испугался, и кто бы меня за это упрекнул? Но отцу с матерью мужество ни разу не изменило.
Не стану приводить весь его рассказ – он слишком длинен. Если быть кратким, Нури, отец Юрия, выловил из моря утонувших собак (тяжелые нарты камнем пошли ко дну), и люди вместе с оставшимися собаками их съели. Им удалось добраться до ближайшего островка, маленького, голого и безымянного. Нури с помощью своего снегореза построил хижину. Потом они с Элиорой смастерили новое оружие и инструменты из скудного материала, найденного на острове. Нури охотился, а Элиора обрабатывала шкуры убитых им животных и шила всем одежду. Они ели зайцев, гладышей, поморников, чаек и чиношей – все, что попадалось, кормились сами и кормили собак. Юрий рос исправно, а одна из сук принесла щенков в следующую ложную зиму. Муж с женой за эти несколько зим восстановили почти из ничего необходимый им для жизни инвентарь. Им понадобилось три года, чтобы соорудить из плавника и сбереженных костей новые нарты. Они изобретали новые способы соединения шкур и костей, а когда их труд увенчался успехом, не вернулись на Квейткель. Они продолжили путь на Имакель, завершили свое паломничество и возложили огнецветы на могилу деда и бабки Элиоры. Они навестили родных Элиоры, а когда ее отец Нараин предложил дать им нарты на обратный путь, Нури ответил, показав на свое корявое изделие: «Спасибо, но в Манвелине, как видишь, тоже умеют строить нарты». Все засмеялись, потому что этих нарт и на милю бы не хватило, а до Квейткеля было двести миль.
Мне часто думалось, что это умение превращать подручные материалы в полезные вещи составляет основу алалойской культуры. Не было ничего, что они не могли бы смастерить, учитывая их потребности. Если какое-то орудие или предмет одежды требовали определенной гибкости, крепости, структуры или изолирующих свойств, деваки экспериментировали, пока не подбирали нужную комбинацию. Их знания о природе вещей были точными и подробными. Смазочные материалы они извлекали из копыт шегшея, потому что открыли, что эти жиры не застывают при низких температурах. Окна своих хижин (если в окнах была нужда) они затягивали плотными прозрачными кишками бородатого тюленя. Гибкие рога шегшеев шли на боковые зубцы рыболовных острог. Деваки были гениями созидания – как мужчины, так и женщины. Женщины, помимо всего прочего, отвечали за изготовление и сохранение в целости того, что для выживания всего важнее: восхитительной алалойской одежды.
В ночь после охоты – это тоже входило в обиход – мы сидели вокруг горючих камней, ели то, что имелось в наличии, разговаривали и смотрели, как работают женщины. Рты у них всегда были заняты – либо обсуждением событий дня, либо обработкой шкур. Крепкие, порядком стертые зубы были их орудием – с их помощью женщины размягчали задубевшие на морозе парки своих мужей или выделывали новые кожи. К ранней средизимней весне, когда за стенами пещеры бушевали первые новогодние бури, мать с Жюстиной и Катариной вполне освоили этот нелегкий труд. Кроме этого, они мастерски шили непромокаемые унты из шкур тюленя и непромокаемые камелайки. Они делали воротники шегшеевых парок из волчьего меха, с которого лед, намерзающий от дыхания, сразу осыпается. Костяными иглами с вдетыми в них жилами они делали искусные стежки – от сырости эти швы набухали, не давая холоду и влаге проникать внутрь. Я был рад, что они заблаговременно впечатали себе эти навыки: ведь алалойский охотник целиком и полностью зависит от женщин своей семьи. Верно сказала моя мать однажды, прикладывая к моим плечам недошитую камелайку: «Что было бы с Юрием, если бы не умелые руки его матери? Что было бы с ним без сшитой ею одежды, без острог, без горючего камня, без ее молока? Есть ли на свете что-нибудь, что женщина не могла бы сделать?»
Была, однако, в нашем обиходе одна сторона, о которой я бы охотно забыл. В суровый период холода, голода, ознобышей и прочих мелких несчастий меня постигло еще одно, самое угнетающее. Я обнаружил, что у меня завелись вши. Они кишели повсюду – в голове и на теле. Вот она, цена любви с грязными дикарками! Я скреб себя до крови, натирался золой до пят, но ничего не помогло. Наконец я покорился матери, и с тех пор она каждый вечер освобождала меня от насекомых. Я клал голову ей на колени, и она искала у меня в волосах. У нее был острый глаз – ведь ей приходилось выискивать их в моей черной гриве при тусклом свете горючих камней. Ее острые ногти давили вшей, как щипцы, а порой выдергивали из моего расчесанного скальпа отдельные волоски – седые, как у Юрия, говорила она.
От ее забот, впрочем, было мало толку, поскольку вся пещера и все шкуры кишели вшами и гнидами. Другие члены моей семьи тоже страдали от них, хотя и в меньшей степени, но относились к этой будничной пытке более терпеливо. (У Бардо, вопреки всякой справедливости, вшей почему-то не было – он объяснял это тем, что яд из половых желез пропитывает его кожу, отпугивая насекомых.) Меня донимали не столько укусы или зуд, сколько сознание того, что эти крошечные твари грызут мою кожу – от одной мысли об этом меня передергивало. Меня бесило то, что они пьют мою кровь, кормятся моей жизнью. Я подумывал о том, чтобы выбрить все тело острым кремневым лезвием, но отказался от этой мысли, вспомнив об опыте некоторых человеческих обществ близ Гамина Люс. Они полностью очистили свои организмы от бактерий и других паразитов, после чего обнаружили, что вынуждены укрываться в искусственных мирах, чтобы не подвергать свои стерильные тела многочисленным инфекциям цивилизации. Эта изоляция, в свою очередь, ослабила их иммунную систему, сделав их уязвимыми для неведомых ранее болезней. Кто знает, какой естественный баланс я нарушу, если начну жить не так, как все алалои? Была и другая причина, по которой я не стал бриться: изготавливаемые нами кремневые ножи были очень остры – я мог порезаться и занести в ранки грязь. Инфекция же в первобытных условиях, как доказывал пример обмороженного Джиндже, была вещь опасная.
Порой мне казалось, что горячая ванна – высшее из всех достижений цивилизации. Как я тосковал по мылу и горячей воде! Погрузить бы в нее свое измерзшееся тело, чтобы дремотное тепло прогрело его до костей! Снова стать чистым! Мне недоставало звуков, запахов и удобств Города-я ловил себя на том, что думаю о них постоянно. Зачем я покинул Город? Зачем явился сюда в поисках несуществующих тайн, чтобы убивать тюленей, кормить беззубых старцев, нарушать гармонию девакийской жизни? Как мог я поверить, что цивилизованный человек способен жить как дикарь? Откуда набрался такого самомнения?
Бардо однажды за кружкой чая тоже признался, что ему не хватает городских удобств.
– Хотелось бы убраться отсюда побыстрее, как только Катарина соберет свои образцы. Надоела эта голодуха. Всего и дел-то – потрахаться с несколькими мужиками. Извини за откровенность, паренек, но я не понимаю, почему она упускает столько возможностей?
Само собой, он не так желал бы уехать, если бы мог каждый вечер набивать брюхо мясом, а ночью начинять женщин своим семенем. Остальные и вовсе не спешили с отъездом. Соли нравилась суровость первобытной жизни – казалось, он даже наслаждался ею, насколько такой угрюмый человек способен чем-то наслаждаться. Жюстина находила свое новое существование «захватывающим», мать говорила, что способна делать все необходимое для жизни своими руками. Что до Катарины, то она как будто нарочно тянула время, ожидая какого-то важного события – она не говорила, какого.
Новогодние бураны участились, и я стал замечать, что деваки относятся к нам не совсем как к своим. Я не хочу сказать, что они подозревали в нас цивилизованных людей – но многие помимо Юрия тоже считали нас странными и даже хуже чем странными. Охотиться из-за бурь стало трудно и опасно, и голод усиливался. Люди ворчали, жаловались и спорили по поводу дележки мяса. Мне не раз доводилось слышать, что я, убив своего доффеля, принес племени несчастье вместо удачи. По пещере прошел слух, что я скормил Шанидару половину нежной гагачьей печенки. (Я и в самом деле после своего знакомства с Пещерным Старцем то и дело таскал ему лакомые кусочки, чтобы поддержать в нем жизнь. Я знал, что поступаю неправильно, но что я мог поделать?) Между женщинами ходила еще одна злобная сплетня, которая мало-помалу дошла и до их мужей. Мне следовало заподозрить неладное еще в ту пору, когда Пьеро из Еленалины и Олин из Шарайлины заявили о своем намерении уехать на западные острова. Я думал, что причина этому – голод, но вскоре узнал, что они жалуются на другое.
Однажды вечером, после долгой бесплодной охоты, Юрий подошел ко мне в лесу и сказал:
– Пьеро говорит, что голод вызвал ты, но он заблуждается. Если бы Тува не захворал ротовой гнилью, у нас было бы много еды.
Я согласился с этим.
– Но все же странно, что животные не выходят больше на наши копья, верно?
Я признал, что это странно.
– Хотя Пьеро неправ, что винит тебя, я не виню его за это. А ты? Есть и другие, которые видели твое странное поведение и потому винят тебя в своих неудачах. Я к таким людям уважения не питаю, но как я могу упрекать их?
– Что в моем поведении такого странного? Они винят меня за то, что я убил тюленя?
Он поднял исполосованную шрамами руку и покачал головой.
– Дело не в этом, хотя мало кто способен убить своего доффеля. Дело вот в чем: умному человеку лучше не оставаться в хижине наедине со своей сестрой, особенно если сестра красива, как Катарина. Тогда никто не обвинит его в гнусности, которая приносит племени несчастье.
От этих слов мне скрутило живот. Краска вины залила мои щеки, и я возблагодарил ледяной ветер, от которого лицо у меня и без того уже побагровело. Юрий, прислонившись к валуну, дышал паром и смотрел на широкую белую долину внизу. Мне хотелось сказать ему, что те, кто обвиняет нас с Катариной в кровосмешении, клевещут на нас. Мне хотелось крикнуть на всю долину, что Катарина мне вовсе не сестра. Мне хотелось развернуть перед старым деваки весь ковер лжи и обмана, который мы соткали, выдавая себя за алалоев. Мне хотелось сделать это по двум причинам: чтобы положить конец нашей дурацкой затее и чтобы не выглядеть бесчестным в глазах Юрия. Но я ничего не сказал, ничего не сделал. Как объяснить этому одноглазому дикарю всю сложность цивилизованной жизни и эзотерическую подоплеку нашего поиска? Я промолчал, и Юрий пожал плечами.
– Катарина тоже странная женщина.
На десятый день средизимней весны я убедился, насколько серьезны обвинения против меня. Это был день внезапных снежных шквалов и тяжелого сырого воздуха. Снег был серый, как свинец, и деревья на фоне ненастного неба казались черными. То и дело срывавшийся ветер нес запах мокрого грифеля. Несколько мужчин, которые накануне отправились охотиться – все из Шарайлины, – вернулись в пещеру к вечеру, когда снег, горные склоны и низкое небо слились в сплошное серое море. Они нашли мясо, заявили Аурай и его сын Вишне, стряхивая снег со своих сырых парок. За ними шел Один Безобразный, грубиян с изуродованным шрамами лицом. Он волок за хвост тушу наполовину съеденного зверя, направляясь к хижине Шарайлины.
– Мясо Сабры! – пояснил он. Его семейство во главе с женой Джелиной, такой же безобразной, как и он, высыпало из хижин, улыбаясь и жадно нюхая воздух.
Я стоял на утоптанном снегу рядом с нашей хижиной, выстругивая новое копье, и сразу увидел, что мяса слишком мало и вряд ли Один им поделится. Тот уже начал рассказ о том, как им удалось найти волчье мясо.
Накануне, сказал он, охотники Шарайлины выследили Тотунью, медведя, в спускающемся к морю южном лесу. Когда пошел снег, юный Вишне хотел вернуться в пещеру, но Олин повел всех к берегу, где ему послышался грохот камней и рев. Аурай думал, что это ломаются деревья и ревет ветер, но, выйдя из леса, они увидели белого медведя, дерущего волка около кучи камней. Охотники бросились на медведя, но трусливый Тотунья с длинными черными когтями увидел шрамы на лице Олина (так рассказывал сам Олин) и убежал, потому что понял, что Олин когда-то уже сталкивался с медведем и теперь неуязвим. И охотники вернулись с мясом волка, которое, как сказал Аурай, пристально глядя на своего брата, «конечно, не такое жирное и мягкое, как у медведя, зато и достанется не так дорого».
Несколько мужчин из Манведины подошло послушать рассказчика. Сын Висента, Вемило, и озорник Чокло начали отпускать шуточки. Сейв, очень похожий на своего брата Лиама, хотя не такой красивый и не такой большой, смеялся над Олином, прикрывая рукой глаза. Лиам тоже вышел из хижины и присоединился к потехе.
– А ты уверен, что это Сабра? – Он облизнул свои красные губы и откинул назад свои белокурые волосы. – Я, знаешь ли, хотел бы удостовериться, прежде чем начать его есть.
Олин, выругавшись, оторвал хвост и швырнул его хохочущему и утирающему слезы Лиаму.
– По-твоему, я не могу отличить Сабру от чего-то другого?
– А деваки? – еще пуще закатился Лиам. – Деваки можешь отличить?
Он намекал на конфуз, пагубно сказавшийся на репутации Шарайлины. В стародавние времена одной ложной зимой прапрапрадед Олина припрятал мясо шегшея, чтобы съесть его средизимней весной. Когда пришло время, он откопал то, что принял за ногу шегшея, и съел вместе со всей семьей. На следующий день Локни, пращур Лиама, обнаружил, что мясо на самом деле было частью человеческого тела, которое медведь отрыл на кладбище повыше пещеры. Зверь, видимо, притащил труп на поляну перед пещерой, где деваки иногда хранили мясо. Ошибка была вполне объяснима, но с тех пор у потомков Локни вошло в традицию высмеивать гастрономические обычаи Шарайлины.
Лиам, держась со смеху за живот, подобрал хвост, который бросил ему Олин, и поднес ко рту, как будто собирался его съесть.
– Как я люблю лохматый мясистый хвост Сабры! – сказал он, сделав вид, что давится. – Меня радует твоя уверенность в том, что это волчье мясо. Но я должен спросить у тебя одну вещь. – Лиам с деланной грустью посмотрел на Сейва и снова повернулся к Олину. – Разве у волка серая шерсть? Мне встречались только белые; может быть, Шарайлине известна другая порода?
Олин пнул тушу ногой.
– Он белый, а серым кажется из-за тусклого света.
– Он серый, как собака, – гнул свое Лиам.
– Нет, – вступился за брата Аурай, – он белый. Он посерел от грязи и морской соли.
Лиам, мнивший себя забавником, внезапно плюхнулся на четвереньки, запрокинул голову и залаял.
– Это собака, – заверил он, перевернувшись на спину. – Вы собрались съесть собаку.
Я смотрел на представление, продолжая обстругивать двумя кремнями копье. До меня уже дошло то, что следовало сообразить с самого начала: Олин с братом разобрали каменную пирамиду, которую Бардо и я нагородили над мертвым вожаком моей упряжки. То, что валялось у хижины Олина, было останками Лико.
– Собачатина! – не унимался Лиам. – Шарайлина охотится на собак!
Олин, настаивая на том, что это волк, собрался откромсать от туши кусок, но тут подошел я и подтвердил:
– Это собака. – Я рассказал, как талло убила Лико и как мы с Бардо похоронили его. – Не режь его – он был храбрым и верным, и есть его не годится.
К этому моменту все племя повылезло из хижин и окружило нас. Миловидная Сания, держа у груди свою новорожденную дочку, сказала:
– Не годится, когда матери голодают и молоко у них сохнет, как лужица на солнце. Мэллори забывает, что мясо есть мясо – оно не бывает ни храбрым, ни верным.
Лиам все это время валялся на спине, смеялся и гавкал.
– Надеюсь, шегшей скоро выйдет на наши копья, – вставил он, – иначе мы все станем мясом для голодной Шарайлины.
Этого Олин уже не выдержал. С бранью потрясая своим длинным кремневым ножом, он обрушился сверху на Лиама. Его колени вышибли воздух у Лиама из груди.
– Осторожно, нож! – крикнул кто-то.
Олин по непонятной для меня причине бросил нож, и они начали бороться. Лиам ухитрился захватить руку Олина и нацелился ему в глаза своими длинными когтями. Я был уверен, что он сейчас запустит пальцы в глазные яблоки и ослепит противника. Когда-то Олина изувечил медведь – мне было тошно смотреть, как теперь его увечит недалеко ушедший от медведя Лиам.
– Не трогай глаза! – заорал я, покрепче уперся в снег ногой и двинул Лиама в висок тупым концом своего копья. Он откатился от Олина, держась за голову. Кровь, просачиваясь между пальцами, стекала в густую золотистую бороду. Обругав меня и плюнув мне под ноги, он крикнул:
– Ты что, не можешь отличить игру от смертоубийства? Мозги у тебя размягчились, как тюлений жир – так оно и бывает у тех, кто спит с сестрами. Может, Катарина высосала у тебя все мозги заодно с семенем?
Кажется, я чуть не убил его тогда. На глазах у Олина, Юрия и всего племени я поднял копье над головой, взявшись за кожаную накладку древка. Я смутно сознавал, что Бардо, Жюстина и моя перепуганная мать тоже смотрят на меня из-за спин пораженных деваки. Нацелившись Лиаму в горло, я увидел Катарину, стоявшую прямо передо мной между двумя манвелинскими женщинами. Она смотрела на меня без всякого стыда, точно заранее знала, что я его не убью. Я вынес руку вперед и ощутил внезапное сопротивление – мне показалось, что я пытаюсь вырвать с корнем осколочник. Множество рук вцепилось в древко, и кто-то вырвал у меня копье. Я обернулся – это был Соли. Он держал копье, как дохлую рыбу, крепко стиснув побелевшие губы, и на лбу у него пульсировала толстая вена.
Юрий вышел вперед, взял у него копье и переломил через колено. Впившись в меня глазом, горящим, как ракетный маяк, он сказал просто:
– Ты забыл, что мы не охотимся на людей. – Потом повернулся и увел свою семью обратно в хижины. Один, почесав обезображенную щеку, сказал мне:
– Это только игра такая. Зачем, по-твоему, я бросил нож? Лиам никогда бы не ослепил своего брата! – Он посмотрел на половинки копья, лежащие на снегу, рассмеялся нервно и ушел, повторяя: – Это только игра.
Соли стоял на месте и сверлил меня взглядом, неподвижный, как дерево. Катарина, кивнув нам, ушла в нашу хижину. Мать, Бардо и Жюстина последовали за ней. Мы с Соли остались одни посреди окутанной сумраком пещеры.
Я начинал думать, что он никогда уже не пошевельнется и не заговорит, но тут он прошептал:
– Откуда, пилот? Откуда в тебе это буйство? Скажи, сделай милость. – Ногой он затоптал копье в снег. – Зачем ты творишь эти глупости раз за разом?
Я потупился, прикусив губу.
– Зачем?
– Не знаю, – честно ответил я.
– Ты опасен, пилот, – я всегда это знал. А теперь, после этого случая, наша экспедиция и все, что мы здесь делаем, тоже становится опасным, не так ли?
– Возможно.
– Да – слишком опасным, чтобы здесь оставаться. Будем надеяться, что Катарина собрала достаточно образцов, потому что дальнейший их сбор нежелателен. Завтра мы радируем в Город, чтобы за нами прислали ветрорез, распростимся – и на этом конец.
– По-твоему, это так необходимо – уползать в Город неподобие побитых собак? – Не знаю, зачем я это сказал – возможно, просто из чувства противоречия. По правде говоря, мне не терпелось вернуться в Город и вновь заняться такой прекрасной, хотя и не имеющей смысла, математикой.
Соли очень разозлился, услышав это, – мне показалось, что кровяной сосуд у него в глазу вот-вот лопнет и он ослепнет.
– Да, необходимо, – шепотом ответил он и произнес запретное слово: – Я так решил. Завтра мы уезжаем.
Он потер глаза и ушел, а я остался стоять, размышляя, откуда во мне это буйство и почему я совершаю одни только глупости.
14 РАДИО
Искусство ценнее артефакта, память ценнее всего.
Поговорка мнемониковНа рассвете следующего дня Рейналина, Еленалина и Шарайлина уложили свои длинные дорожные нарты. Аурай, Юлита и их дети – Вишне, Намилей и Эмили Младшая – завязывали крепежные ремни и запрягали собак неохотно, точно сомневаясь, разумно ли они поступают, уезжая в самый разгар бурь средизимней весны. Однако Олин и главы других семей были непреклонны. Объясняя причину своего отъезда на западные острова, они ссылались на голод и недостаток дичи, но не только на это.
– Мы поедем на Саверсалию, – объявил Олин. – Там патвины накормят нас жирной и сочной мякотью мамонта, и люди там не поднимают копья друг на друга.
Юрий, в нижней одежде из поношенных шкур, сказал, печально качая головой:
– Плохой это день для деваки. Почему ты думаешь, что у наших родичей на Саверсалии есть мясо, чтобы поделиться с вами? Может быть, они не станут угощать вас мякотью мамонта; может быть, они примут вас не с тем радушием, с каким деваки принимают деваки.
– Возможно, деваки стало слишком много для жизни в этой маленькой пещере, – ответил Олин. – И если у наших родичей мамонты тоже болеют и мяса мало, мы будем есть рубец, пока море не вскроется. Тогда мы построим лодки и будем охотиться на Кикилью, когда он всплывет подышать. – Он повернулся ко мне и сказал: – Прощай, человек из южных льдов. Возможно, тебе следует вернуться домой. – С этими словами он хлопнул своего сына Яшу по затылку, свистнул собакам, и нарты его семьи скрылись в лесу. Вскоре за ним последовали и другие семьи.
Юрий, отогнав своего маленького внука Джоната от ярко пылающего входного костра, сказал:
– Плохо, когда начинают говорить об охоте на китов. Уж лучше пожертвовать мамонтами, чем убивать Кикилью, который мудрее нас и силен, как Бог. Но семья Олина голодает, и кто его за это упрекнет?
– Китов убивать нехорошо, – согласился я, обернувшись к востоку, где встающее солнце окрасило кровью снеговые поля. Меня обуревало чувство вины в сочетании с другими эмоциями.
Юрий, прищурив глаз, промолвил:
– Красно с утра море – путникам горе; не стоило в такой день отправляться в путь. Я должен сказать тебе, что в нашей семье многие – Лилуйе, Сейв, Джайве и, конечно, Лиам – говорят, что ты и твоя семья тоже должны уехать. Мы с Висентом и старой Илоной думаем, что вам надо остаться, но остальные… и кто их за это упрекнет после того, как ты поднял копье на Лиама?
Юрий внезапно опротивел мне до тошноты своей смазанной жиром физиономией и своей присказкой «кто их за это упрекнет». Мне очень захотелось как бы нечаянно пихнуть его в одну из луж, оттаявших на снегу от огня, а когда он плюхнется в ледяную воду, сказать: «Кто меня за это упрекнет?» Я не желал больше слышать мудрых изречений из этих толстых сальных уст.
– Соли решил, что нам надо ехать. Мы отправимся завтра или послезавтра.
– Что ж, Соли твердый человек – если он решил ехать, кто его за это упрекнет?
Но нам не суждено было покинуть деваки так просто. В то же утро Соли достал радио из тайника в днище нарт и уединился с ним в лесу, но ему не удалось связаться с Городом. Он провел в бесплодных попытках полдня, пока начавшаяся вьюга не вынудила его вернуться в пещеру. Вечером мы все собрались в нашей хижине вокруг горючих камней. Соли поставил на белые шкуры в центре хижины блестящий черный ящик длиной с половину мужской руки и сказал:
– Радио мертво.
– Это невозможно, – заявил Бардо. Теребя бороду, он лежал на моей постели и жевал какие-то орехи. – Оно не могло умереть.
Мать с Жюстиной в дальнем углу распяливали шкуры на сушилке. В хижине было тепло, так тепло, что на круглых стенах блестела вода. Мать стряхнула капли с шелковистого шегшеевого меха. Ее сильное лицо при свете камней казалось желтым.
– С чего ты взял, что радио умерло? – спросила она.
– Если это правда, то дело наше плохо, – заметил Бардо, глядя, как Жюстина встряхивает другую шкуру. К немалому раздражению Соли, он наблюдал за Жюстиной при всяком удобном случае, а также постоянно вел с ней дружеские беседы. – Но где это слыхано, чтобы радио умирало? – Бардо небрежно бросил в рот орех, но я-то видел, как он нервничает.
– Конечно же, оно не может умереть, – вставила Жюстина со своей милой улыбкой. – Разве можно вообразить себе такое? Все равно как если бы солнце не встало на рассвете. Есть вещи, которые не умирают. Главный Технарь делал эту рацию лично – как она может быть мертва?
Бардо, схватившись за живот, застонал, и ему отозвался скулеж из входного туннеля. Две наши собаки хворали, и мы взяли их в хижину из-за непогоды.
– Туса, Лола, – окликнул их Бардо, – как по-вашему, мертво радио или нет? Если да – гавкните три раза. – Он подождал, но псы в своих снеговых норах молчали. – Вот видишь – все согласны, что радио не может умереть.
– Тихо! – прошипел Соли, наклонившись над рацией. – Помолчи немного.
– Может быть, оно просто болеет? – сказала Катарина. Она раскопала тайник под своей постелью и разбирала образцы. В согнутом положении она казалась полнее, чем обычно, и ее волосы блестящей черной завесой спадали на пол. Она опорожнила на снег одну из сфер, дымчатую, под цвет ее глаз, и на снегу образовалось индиговое пятно. Я почувствовал перечно-мятный запах консервирующей жидкости, и Катарина забросала пятно свежим снегом. – Теперь, когда три семьи уехали, эти образцы – все, что… – Она перебирала пробы одну за другой, показывая Жюстине наиболее ценные.
– Если это все, что у нас есть, – сказала Жюстина, – придется, полагаю, ограничиться этим. Тебе, должно быть, нелегко было их собирать, да теперь здесь и мужчин не осталось, кроме манвелинских, а у них… у них ты уже взяла пробы, почти у всех, правда, Катарина?
Мне не хотелось смотреть на эти сферы с густым белым семенем деваки. Я подошел к рации и взял ее в руки, сказав Соли:
– Может быть, Катарина права и радио просто болеет?
– Но если это так, – вмешался Бардо, – почему оно не может вылечиться самостоятельно? А, Главный Пилот? Вы его не спрашивали?
– Спросил первым делом, – ответил Соли. – Но радио молчит – стало быть, оно мертво.
– Все этот треклятый холод. Он чье угодно нутро заморозит.
– Мы все учли? – спросила мать. – Все возможности?
– Какие возможности? – осведомился Соли.
Мы стали обсуждать возможные варианты. Главный Технарь мог забыть настроить свое радио на прием нашего сигнала; радиоактивный выплеск из Экстра мог наконец дойти до Невернеса, вызвав атмосферные помехи. А может быть, в Ордене наконец случился раскол, началась гражданская война и Башня Технарей вместе со всеми их замечательными машинами уничтожена?
Ночь шла своим чередом, мы устали, и в голову лезли самые дикие мысли. Мы, наверное, слишком долго прожили в этих снежных холмах, слишком много ночей провели в этой хижине, слушая, как дует ветер и воют волки. Мне лично все реалии Города казались очень далекими. Даже сам Город стал представляться фантастическим, нереальным – это был какой-то давний сон, засевший в памяти прежнего Мэллори. Глядя на эти гарпуны, выделанные шкуры, горючие камни, мигающие желтовато-оранжевым светом, трудно было поверить в существование другого мира, и все что угодно казалось возможным. Вдруг в Городе высадилась новая раса пришельцев, перебила всех людей и захватила Город? Вдруг Твердь или какое-то другое божество так изменили законы пространства-времени, что все электромагнитные волны стали распространяться медленнее или вообще перестали существовать? Вдруг и самого Города больше не существует?
Эти разговоры усиливали нервозность Бардо. Он крутил усы, тер себе живот и бесшумно, как всегда в присутствии женщин, пускал газы. Воздух в хижине заметно испортился. Жюстина махала рукой у себя перед носом.
– Чертов Туса! – выругался Бардо. – Нажрался тухлой тюленьей требухи и пердит, что твоя ракета. Дыхнуть нечем, ей-богу!
Вонь действительно стояла такая, что мы стали дышать ртом – все, кроме Соли, который ощупывал футляр рации, ни на что не обращая внимания. Мать, сморщив нос и прикрыв его воротником парки, негодующе посмотрела на Бардо и заявила:
– Все мужчины – вонючие скоты.
Бардо смущенно набычился, а мать презрительно вскинула подбородок. Презрение вскоре перешло в ненависть – и к Бардо, и к себе самой. Язык у матери был обоюдоострый, и пользоваться им было опасно: когда ее задевали, она тут же расправлялась с обидчиком, а потом ненавидела себя за проявленную жестокость и обидчика за то, что он вынудил ее эту жестокость проявить.
– Я понимаю, о чем вы думаете, – сказал Бардо, – но это сделали Туса или Лола, а не я.
Мать с отвращением отвернулась от него к Соли и сказала:
– Если радио мертво, то его убили, машины, сделанные технарями, естественной смертью не умирают. – Она вышла из хижины подышать свежим воздухом – а может быть, отправилась к Анале попить чаю и посплетничать, что уже вошло у нее в привычку.
Соли ковырнул футляр кремневым ножом.
– Надо как-то открыть его и узнать, почему оно умерло.
– Открыть, Главный Пилот?! – вскричал Бардо. – Шутите вы, что ли? – Можно было подумать, что Соли предложил вскрыть самого Бардо с целью исследовать, почему тот производит столько газов.
Но Соли не шутил – он и правда вознамерился открыть радио. Где-то около полуночи он обнаружил, что от нагретого кремня толстый лакированный пластик отслаивается тоненькими чешуйками. Он облупил таким образом все покрытие, но радио так и не открыл. Внимательно осмотрев заднюю сторону футляра, Соли нашел на ее черной поверхности четыре расположенных по углам кружочка. Далее выяснилось, что это отверстия, заполненные герметизатором. Соли терпеливо выковырял его, орудуя горячими кремневыми иглами. Покончив с этим кропотливым и нудным делом, он поднес радио к горючему камню и объявил, что видит в отверстиях какие-то металлические диски с желобами.
– А что это такое? – спросил я.
– Трудно сказать.
– Технарские штучки. Пилоты не должны с этим возиться.
Жюстина и Катарина уже улеглись спать, а Бардо храпел вовсю.
– Да, это технарская работа, но здесь у нас технаря нет. – Соли всунул кремневую иглу в одно из отверстий, и она сломалась. Он вставил другую и повернул ее в другую сторону, но она тоже сломалась.
– Пропади они пропадом, технари, вместе со своими секретами, – сказал я.
Соли вытряс из отверстия осколки кремня.
– Кремень слишком хрупок, – сказал он и взял длинную щепку осколочника, которую состругал со своего копья для охоты на мамонтов. – Дерево не такое твердое, как кремень, зато не такое хрупкое, верно? – Он обстругал конец щепки, и она плотно вошла в желобок металлического диска.
– Зачем вы все это делаете? Если радио рассчитано на то, что его будут открывать технари, вам его нипочем не открыть.
– Где же твоя хваленая инициатива? Я просто удивляюсь, как это тебе удалось проникнуть в Твердь и вернуться обратно.
– Это совсем другое дело.
– Ну да, там тебе просто повезло, но здесь одним везением не обойдешься.
Он повернул щепку вправо – безрезультатно. Повернул влево – опять ничего.
– Везение, – буркнул он и нажал посильнее. – Поддается! – Он крутанул еще и достал металлический штырек размером с мой ноготь.
– Что это такое? – спросил я опять.
– Неизвестно. – Соли рассмотрел штырек при свете горючего камня и передал его мне. На штырьке была вырезана канавка в виде спирали. – Но очевидно, что эта резьба как-то совмещается с резьбой внутри футляра, иначе штырек бы сразу выпал. – Соли вынул три оставшихся штырька, и радио открылось.
– Ха! – выдохнул я. – Технарь спятил бы, как только попал в мультиплекс, зато пилот раскалывает технарские секреты, как…
– Тише! Мы пока ничего не раскрыли.
Я заглянул в нутро радио, где разноцветные детальки из пластика, клария и металла соединялись самым причудливым образом. Я сразу понял, почему радио не смогло вылечиться самостоятельно: технари почему-то собрали его из архаических компонентов, а не вырастили целиком, как, например, схемы и другие части легкого корабля. Вид этих обманчиво простых компонентов меня нервировал. Я пытался отгадать, как радио работает, но с тем же успехом мог бы попытаться извлечь эзотерическое знание из скоплений бактерий. Я способен был раскрыть тайну радио не более, чем разгадать тайну Эльдрии, заключенную в алалойской клеточной плазме.
– Какое варварство, – сказал я. – Зачем технари собрали его на старинный лад?
– У нас свои секреты, и них – свои. Может, они просто хотели пошутить, снабдив нас старинным аппаратом для путешествия в прошлое?
– Потрясите его, – посоветовал я. – Возможно, какая-нибудь деталь просто разболталась.
– Это невозможно, – сказал Соли, но все-таки потряс – безрезультатно. Детали, поставленные технарями, не разбалтываются.
– Почему вы думаете, что оно мертво?
– Когда эту штуку нажимаешь, – он показал мне черный выступ на фасаде радио, – ничего не происходит. Нет потока электронов. Одна или несколько деталей, очевидно, больны.
– Которые?
Он потыкал пальцем в несколько мест.
– Кто его знает.
– Ну, если оно мертво, мы тут ничего поделать не можем.
– Там видно будет.
Я снова заглянул в радио. Одни детали в нем, надо полагать, отвечали за прием наших голосов, другие – за кодирование информации, содержащейся в звуковых волнах, третьи – за модулирование этой информации, четвертые – за генерирование радиоволн и передачу их на орбитальный спутник. Но я понятия не имел, где какие искать.
– Это безнадежно, – заявил я.
– Посмотрим. – Соли поскреб длинным ногтем поверхность какого-то белого кристалла. – Возможно, вот эта штука вибрирует от звука наших голосов и преобразует звуковые колебания в электрические. То есть варьирует электрическое сопротивление. Если бы мы сумели проследить за током, то, может, и разобрались бы, почему радио мертво.
Я покачал головой – в радио было штук сто деталей. Я не верил, что мы можем вызвать ток или определить назначение компонентов.
– Отец когда-то обучал меня радиотехнике и другим наукам, – сказал Соли. – Хотел, чтобы я усвоил историю нашей техники.
– Я думал, Александар был кантором, а не историком.
– Да, он был кантором. Потому и хотел показать мне несовершенство техники и прикладных наук. Сам он ненавидел всю технику – и старую, и новую. Лучшая математика, говорил он, – это чистая математика, которую механики и технари не могут использовать. Он учил меня термодинамике и гидравлике, термоядерной теории, теории элементарных частиц, картографии, информатике – их было сто или тысяча, этих прикладных теорий. Мой отец был холодный, жесткий, безжалостный педант – он хотел, чтобы я разделял его эстетические воззрения, чтобы стал таким же, как он. – Соли зажмурился, потер виски и отвернулся от меня. Я расслышал его шепот: – Но я не такой. Не такой.
Я подождал немного и сказал:
– Тогда вы должны разбираться в радио.
– Нет. Только теорию знал когда-то, да и ту забыл.
Забыть все подчистую Соли, конечно, не мог. Какие-то обрывки отцовской науки вспоминались ему. Например, что электромагнитные волны образуются, когда магнитное поле располагается под прямым углом к электрическому. Информация с них записывается разными способами – например, путем модулирования амплитуды или частоты волн. Исходящий из радио сигнал подвержен влиянию атмосферного и другого электричества. Главная проблема в передаче информации по радио, сказал Соли, – это борьба с шумом.
– Но правильно закодированному сигналу можно придать высокую степень устойчивости. Есть способы сделать его избыточно надежным, и есть теоремы, доказывающие существование почти идеального кода, если у нас хватит ума изобрести таковой. Вот в этом, пожалуй, весь фокус и заключается – в кодировании сигнала и фильтрации шума. В том, чтобы найти нужный код. – И Соли, поджав губы, уставился на радио.
– А если закодировать неверно, информация пропадет?
– Нет. Информация создается, но никогда не умирает, если верить холистам. На определенном уровне она существует всегда. Фокус в том, чтобы сделать ее осмысленной и передать без шума.
Я почесал нос и потрогал прозрачную голубую детальку, твердую и гладкую, как стекло.
– Но что здесь кодирует информацию, а что служит фильтром? Не помните?
– Нет, к сожалению. – И Соли стукнул себя кулаком по виску.
– Вот горе-то.
– Да, плохо – но всегда есть шанс восстановить память.
– Шанс, говорите?
Мы разбудили остальных, и Бардо сходил к Анале за моей матерью. Она пролезла в хижину первой, Бардо за ней – он ругался, потому что вляпался в собачью кучу. Соли собрал всех в кружок, держа радио на коленях, и сказал:
– Нужна ваша помощь.
Бардо ерзал, явно чувствуя себя не лучшим образом. Его по-прежнему мучили ночные эрекции, и шкуры ниже живота стояли торчком, как палатка вокруг опорного шеста.
– Плохо дело, Главный Пилот, – сказал он, подозрительно поглядев на радио, и принялся соскребать дерьмо со штанов.
– И это все, что ты можешь сказать?
– Я хотел сказать, что, если радио мертво, нам отсюда не выбраться до глубокой зимы, так ведь? И это плохо, потому что…
– Нет. Мы вылечим радио. Поройся в своей памяти. Может быть, ты когда-нибудь видел, как технарь лечит робота; может, вспомнишь что-нибудь из того, что знал в детстве.
– Только не я, Главный Пилот. – Бардо засмеялся, и я тоже, потому что на планете Летний Мир, где он провел свое детство, нет ни технарей, ни роботов. Тамошние вельможи не пользуются сколько-нибудь сложными механизмами, справедливо опасаясь власти технарей и программистов, знающих куда больше, чем они сами. На Летнем Мире вместо машин работают люди. – Я помню, когда рабы на наших фамильных рудниках становились калеками – не смотри на меня так, Мэллори, я ничего не мог с этим поделать, – мы продавали их живодерам-резчикам, которые брали у них органы. Машины я увидел только в Городе.
Мать, состроив возмущенную гримасу в адрес Бардо, спросила Соли:
– Неужели ты вправду надеешься вылечить радио? Даже если мы вспомним функции всех его деталей, разве сможем вылечить хоть одну? Где у нас инструменты, где знания? Пока мы не впечатали себе умение обрабатывать кремень, мы даже зазубренный наконечник копья не сумели бы обтесать.
– Возможно, – согласился Соли, и мать, прищурившись, тут же ввернула:
– Главный Пилот всегда критически относился к людям, пробующим совершить невозможное.
Глаза Соли превратились в голубые щелки, но он промолчал.
Жюстина все это время внимательно разглядывала радио, и внезапно ее гладкие загорелые щеки дрогнули в улыбке.
– Я, конечно, не уверена, насколько можно полагаться на детские воспоминания. Особенно если это воспоминания о том, что нам когда-то рассказывали… но ты помнишь, Мойра, как в детстве мама водила нас в музей на Рюэде? Не помнишь? А я вот помню, и там был стенд с древней электроникой. – Она осторожно потрогала крошечный металлический кружок в механизме радио. – Я могу ошибаться, но вот это, кажется, называется диодом или триодом. Не помню, как именно, зато помню, что детали, называемые детекторными диодами, формируют радиосигналы. Или это выходные диоды? Право же, не помню.
Соли впился в нее взглядом, как талло в полярного зайца.
– Постарайся вспомнить.
Жюстина с улыбкой коснулась его запястья.
– Зачем мне стараться, Леопольд, – ведь ты и сам видел такие экземпляры в музеях Города? Ты интересовался такими вещами, когда мы поженились, – забыл разве?
Соли, чье лицо внезапно утратило все краски, потер глаза и вздохнул.
– Да, припоминаю смутно – но это было так давно. – Он закрыл глаза, сморщившись, словно от головной боли, задержал дыхание и наконец сказал: – Твоя правда. Около Гиацинтовых Садов есть зал, где полно таких вот деталей. – Я впервые видел его смущенным. – Но как они называются и для чего служат – забыл начисто.
– Мнемоники говорят, что память может прятаться, но никогда не исчезает, – напомнил я ему.
– Да – мнемоники действительно так говорят.
– Их подготовка не так уже отличается от нашей, – заметила Жюстина. – Некоторые принципы одинаковы – так сказал мне однажды Томас Раин на Северном катке. Жюстина, сказал он… в общем, я не буду пересказывать все, что он говорил, но суть такова: все, что мы когда-либо видели, слышали или чувствовали, и все наши мысли записываются где-то в памяти, и каждый может прочесть это, если владеет секвенсированием – так выразился Томас – и воображением; это и есть два их принципа, имеющих сходство с нашими.
Взор Соли устремился в прошлое.
– Чтобы пилот мыслил, как мнемоник? Возможно ли это? Что ж, шанс есть.
Он закрыл глаза и погрузился в двадцатое из шестидесяти четырех состояний холлнинга, называемое у пилота ассоциативной памятью. Оттуда он перешел в стадию воображения, где и провел почти всю ночь. (Лишь несколько лет спустя, на морском льду, он дал мне полный отчет в своих изнурительных трудах. Той ночью мне казалось, что он то ли спит, то ли отдыхает в позиции ожидания.) Он попытался вызвать в памяти образы того, что видел сто лет назад, не владея при этом искусством мнемоников переводить образы из химической, обонятельной памяти в эйдетическую. Мнемоники учат, что запахи часто служат ключом к дальнейшим секвенциям памяти, поэтому Соли пытался освежить свою память, нюхая арсенид галлия и германий, которые соскреб с радиодеталей. Он прибег к помощи логической памяти – он очень старался осуществить то, чему его не учили, так старался, что голова его к концу ночи стала падать на грудь, а пальцы так вцепились в радио, что на них проступила кровь. Жюстина шепнула мне, что он делает это, потому что злится на собственную несостоятельность.
Наконец он открыл глаза, и мне не понравился его взгляд, особенно когда Соли перевел его с меня на мою мать.
– Радио мертво, – объявил он, – и вылечить его нельзя.
– Вот горе, – сказал Бардо.
– Когда мы вернемся в Город, каждый, кто хоть пальцем прикасался к радио, предстанет перед акашиками. Мойра права: радио кто-то убил – возможно, для того, чтобы погубить нашу экспедицию, отрезав нам обратный путь. Я клянусь: виновник будет изгнан из Города, кем бы он ни был.
Я переглянулся с матерью. Неужели кто-то, даже если это Соли, способен подозревать, что один из нас станет подвергать свою и чужую жизнь опасности, саботируя собственную экспедицию?
В предрассветных сумерках мы обсудили, кто бы мог убить радио. Бардо заметил, что многие – например, торговые пилоты с Тира – не желают, чтобы наш Орден получил доступ к секретам Эльдрии, в чем бы эти секреты ни заключались.
– И есть инопланетяне вроде даргинни, которые ревнуют к людям, заявляющим, что Эльдрия оказала предпочтение человеческому виду. Даргинни, скутари и прочие. На человеческих планетах тоже полно религиозных организаций, готовых убивать, лишь бы их мелкие таинства не померкли перед более великим. Вспомним Небесные Врата, Веспер и даже Ларондисман. А искусственные миры Двойной Ауда? Да Бог ты мой…
– Да, врагов у нас хватает, – сказал Соли, – но к своим личным вещам мы их не допускаем, верно?
– Ну, в общем-то, да, Главный Пилот. – Бардо задумчиво пожевал усы и задал вопрос, который у каждого вертелся на языке: – Что же мы дальше будем делать, Главный Пилот?
Мы все выжидательно посмотрели на Соли.
– На это трудновато ответить из-за несдержанности Мэллори. Надо крепко подумать, ждать ветрореза или нет.
Надо сказать, что Соли предвидел возможность потери одних-двух нарт (а с ними и радио). Потому он договорился, что ветрорез будет ждать нас в месте нашей высадки к югу от острова, если нам не удастся радировать в Город. Машина должна была вылететь к нам в первый день глубокой зимы – примерно через двести дней.
– Так долго ждать нельзя, – решил Соли, – поскольку мы перестали быть здесь желанными гостями. Лучше всего, возможно, было бы выехать сегодня. Можем отправиться на восток к Внешним Островам и подождать там, когда море вскроется. А будущей зимой, когда оно опять замерзнет, мы проделаем остаток пути к Городу.
Но Бардо этот план не понравился, и он сказал:
– А если на Внешних Островах есть будет нечего? Если море вскроется рано, до ложной зимы? Если…
– Мы же теперь алалои, разве нет? – насмешливо бросил Соли. – И должны быть приспособлены для того, что у алалоев получается лучше всего – для выживания. Так что мой план всем хорош. Выедем, как только уложим нарты.
– А вдруг начнется буря, – настаивал Бардо, – вдруг мы заблудимся?
– Мы, помимо прочего, еще и пилоты. Будем ориентироваться по звездам – авось не заблудимся.
Катарина все это время молчала. Она сидела на постели, расчесывая пальцами волосы, глядела в огонь костра и не принимала участия в наших спорах. Но когда Соли начал собирать шкуры, она подошла к нему и накрыла его пальцы своими – я впервые видел, как она к нему прикоснулась.
– Это неразумно, отец, – ехать на восток, когда…
– Когда что?
– То есть ты и все остальные могут ехать на восток и голодать там, но я не могу…
– Почему не можешь?
Она копнула носком ноги снег.
– Потому что я беременна.
В хижине настала почти абсолютная тишина, как в глубоком космосе. Соли уставился на Катарину, Жюстина широко раскрыла глаза. Я тоже смотрел на Катарину.
– От кого? – спросил наконец Соли. Мне тоже желательно было это знать. – От Лиама?
– Неизвестно.
– Что ты сказала?
– Откуда мне знать, от кого… Я ведь со многими мужчинами имела дело.
Соли стиснул кровоточащие пальцы другой рукой.
– Но ведь есть же способы… меры, которые принимают женщины…
– Я не нарочно, отец.
– Как это неосторожно с твоей стороны!
– Что случалось, случится опять, – с улыбкой сказала она. – Что будет, то было.
– Скраерский треп – вечно это скраерский треп.
– Я сожалею, отец.
Она снова накрыла его руку своей. Он отвернулся и сказал, глядя в потолок:
– Какая, собственно, разница, кто отец? Надо возвращаться в Город, чтобы ты рожала в нормальных условиях. Когда срок?
– Если брать наиболее вероятный день, это случится семнадцатого числа глубокой зимы.
– Тогда мы останемся здесь до девяносто третьего и встретим ветрорез в первый день глубокой зимы. Мэллори извинится за свою провинность. Заключим с хозяевами мир и будем жить мирно, насколько это возможно. – Он повернулся к радио, капая кровью на детали. – Да, Мэллори извинится и будет сдерживать себя, чтобы мы могли жить спокойно.
В тот же день я пошел к Лиаму и извинился за то, что поднял на него копье. Это было тяжело, потому что он отказался встретиться со мной один на один. Я извинялся перед Юрием, Аналой, Висентом, Сейвом, Лилуйе – перед всеми мужчинами и женщинами Манвелины. Под конец я извинился перед Соли – если, конечно, он расслышал то, что я сказал. Сидя в хижине с радио на коленях, он прошептал:
– Вернемся в Город, проведем генотипирование и выясним, кто отец.
После этого я попытался уснуть, но не смог. Я лежал весь день, слушая, как воет снаружи буря, и думая, не мой ли ребенок растет в животе у Катарины.
15 ГЛАЗА СКРАЕРА
Коль вы способны, сев времен провидя, Сказать, чьи семена взойдут, чьи – нет, Судьбу и мне откройте – мне, кому Ваш гнев не страшен, ваших благ не нужно. Шекспир, фабулист Века Открытий. «Макбет»И мы стали жить с деваки мирно, хотя этот мир зачастую был худым. Время шло быстро. Бури средизимней весны сменились ясными, сухими днями ложной зимы. Когда море вскрылось и лед растаял, мы начали бить в прибрежных водах идущую косяками треску, а на суше охотились на шегшея. Мы загнали небольшое стадо, заставив его прыгнуть с утеса, и это избавило нас от голода. Еды было много, солнце пригревало, и я не обращал внимания на угрюмые взгляды, которые бросал на меня Лиам всякий раз, когда наши дорожки пересекались, будь то в пещере или в лесу. Я старался отгонять от себя мысли о чем-то неотвратимом, одолевавшие меня при виде Катарины. Живот ее рос с каждым днем. Я тысячу раз задумывался о том, чье семя там внутри, и не мог дождаться, когда мы вернемся в Город. Там я отнесу ребенка к мастер-расщепителю, и он скажет мне, кто отец – я или кто-то другой.
Вопрос отцовства беспокоил не меня одного. Лиаму и еще нескольким мужчинам тоже явно было небезразлично, чей это ребенок. Но их интерес во многом отличался от моего. Они мало что смыслили в генетике, и биологическое происхождение их детей никого не волновало. У деваки было так много общих генов, что они справедливо смотрели на всех детей племени как на родных сыновей и дочерей. Они, конечно, признавали, что отцом по крови может быть только один мужчина, но настоящее значение для них имел только брак. Всем было любопытно, когда у Катарины настанет срок и кто на ней женится, став тем самым законным отцом ребенка. Все полагали, что это будет Лиам, и Юрий не раз приходил к Соли, чтобы договориться о союзе между нашими семьями.
– Нехорошо, когда у ребенка нет отца, – сказал он однажды после удачной охоты. – Ты сам видишь, как весело вместе Лиаму и Катарине – и кто их за это упрекнет? Катарина красивая женщина, а сын мой красивый мужчина, и они народят много красивых детей, если поженятся.
– Да-да, – отвечал каждый раз Соли. – Там видно будет.
Эти разговоры так его нервировали, что он избегал Юрия, как только мог. И часто всю ночь просиживал над радио, пытаясь вспомнить, как оно работает. Глядя на спящую Катарину, он думал свои угрюмые думы. Однажды моя мать поймала его на этом, но истолковала его взгляд совершенно неверно. Я сидел у горючих камней и слышал, как она сказал Соли:
– Катарине надо бы сделать аборт. Вот о чем ты думаешь, и мы все тоже. Раз отец неизвестен, нужно избавиться от плода. Есть способы, алалойские способы. Корень волчьего куста вызывает естественный выкидыш.
Соли застыл, не глядя на мать, а потом прошептал:
– Уйди отсюда. Уйди.
Если бы он в нее плюнул, матери, думаю, было бы легче. Больше всего она ненавидела, когда ею пренебрегают (и в этом очень походила на Соли). Не могу описать выражения, которое появилось у нее на лице после того ответа.
Обычно она ставила самообладание превыше всего, но в ту ночь не сумела скрыть стыда, ярости, страха и других темных эмоций, которые я не смог распознать. С подергивающимися веками она произнесла загадочные слова:
– Главный Пилот считает себя святым, но есть кое-что, чего ты не знаешь.
Я по сей день думаю, что мы могли бы избежать катастрофы, если бы у нас хватило предусмотрительности уехать сразу, как только выяснилось, что радио мертво, и если бы у некоторых из нас было бы больше выдержки. (Катарина определенно не согласилась бы со мной: случилось то, что случалось всегда, сказала бы она, и семена несчастья были посеяны еще до нашего рождения – а может быть, и до рождения звезд.) Откуда в нас эта почти безграничная способность обманывать себя и говорить на черное, что оно белое?. Почему я вбил себе в голову, что деваки – добрые, умеющие прощать люди, ценящие покой и гармонию превыше всего? Вернее сказать, почему я думал, что они всегда бывают такими (потому что они в самом деле были добры, а их умение прощать должно было однажды тронуть меня до слез)? Почему я составил себе о них такое простое понятие? Почему не видел их такими, как есть?
Верить в то, что другие разделяют твои чувства и мысли, – самая распространенная ошибка как у человека, так и у других разумных существ. Я тоже совершил эту ошибку, несмотря на то что испытал в Тверди – а может быть, как раз из-за этого. Мне довелось побывать внутри сознания инопланетянки Жасмин Оранж – насколько же, казалось бы, проще было мне понять первобытных людей, с которыми я прожил полгода. И мне казалось, что я понимаю их досконально. Я вел жизнь алалоя и думал, что воспринимаю эту жизнь так же, как они. Взять хотя бы их отношение к прекрасному. Разве во время охоты в лесу они не любили, как любил и я, хруст под лыжами, морозную свежесть воздуха, лай собак, заметенные снегом ели, крики гагар? Они, безусловно, были ближе к жизни, чем цивилизованные люди, во многом счастливее, чем они, а порой и человечнее. (Я тоже был по-своему счастлив в их горах, несмотря на мелкие пакости вроде вшей, грязи и кровяного чая. До сих пор не могу понять, как я сумел привыкнуть ко всему этому.) Были моменты в лесу или на берегу холодного океана, когда я впервые в жизни чувствовал, что живу. Какая ирония, что я приехал на этот остров, чтобы найти секрет жизни в людских телах, а нашел его в шуме волн, в криках гагар и полярных гусей, во всех реалиях дикой природы. Каким далеким и бессмысленным представлялся мне тогда наш поиск. Что такое божественная мудрость, записанная в хромосомах человека, по сравнению с неизмеримо более великой мудростью мира? Я открыл в себе твердую решимость жить так полно, как только это возможно. Я радовался, разводя костер и глядя, как тают в нем снежинки, находил радость в еде, совокуплении и даже в охоте – и мне верилось, что деваки разделяют эту радость, что ради нее они и живут. Гармония, мир, радость – вот элементы жизни, протекающей на лоне природы.
Но жизнь состоит не из одних радостей. Деваки это понимали, и я в глубине души понимал тоже, но понимать и принимать – разные вещи. В этом и заключалась суть моего сомнения, моей близорукости, моей ошибки: в природе существует не только радость, но и насилие, и трагедия. И вот того, как могут деваки мириться с ее трагедиями и даже приветствовать их, я как раз и не понимал. Я неверно оценивал их любовь к гармонии, к мировому порядку, который они называли халла. Я думал, что мир и всепрощение – основа взаимоотношений между всеми людьми Десяти Тысяч Островов. Я плохо разбирался в самом понятии халла, которое имеет порой страшный смысл.
Я всегда считал величайшей трагедией жизни то, что она неизбежно приводит к смерти. Даже к тем, кто умирает с запозданием, смерть когда-нибудь, да приходит. Как бы это ни было мне неприятно, я должен рассказать здесь о смерти Шанидара, поскольку именно это событие и то, что за ним последовало, привело меня к открытию, на что способны деваки ради сохранения своего халла-отношения к миру.
Начало зимы обычно бывает временем прохладных ясных дней и студеных ночей. Снег вдет чрез два дня на третий, укрывая землю мягкими пушистыми складками. Но где-то раз в десять лет зима приходит внезапно и действует круто. Морозы трещат весь день, а снега нет как нет. К тому времени, когда мы прожили у деваки уже около двухсот дней, сильно похолодало, и все говорили, что нас ждет именно такая зима, которая бывает каждые десять лет. Деваки были веселы, потому что собрали хороший урожай орехов бальдо, сложив его в кожаные мешки, наморозили трески и другой рыбы, накоптили шегшеевого мяса, запасли гагачьи яйца и жареную шелкобрюшину. Особенно радовались старики, проголодавшие всю прошлую зиму, – все, кроме Шанидара, чье усталое тело не держало больше никакой пищи. На пятьдесят третий день он стал жаловаться на жгучую боль в животе. Я приходил к нему и пытался кормить его яйцами всмятку, но безуспешно. Он таял, и его желтая кожа обтягивала кости. Шли дни, и я дивился, как он еще жив, а он шутливо говорил, что некоторые люди способны питаться воздухом. Временами его одолевал кашель, и он не мог говорить. Я не понимал, что его держит, какой внутренний огонь позволяет ему пережить все отпущенные сроки.
Конец приближался медленно. На восемьдесят второй день у него началась кровавая рвота. Два дня он даже пить не мог, и не оставляло сомнений, что третий станет для него последним. Он попросил меня вынести его из пещеры на воздух, и я исполнил его просьбу. Даже завернутый в несколько шкур, он был легок, как ребенок, как будто большая его половина уже перешла на ту сторону дня. Я посадил его перед кострами у входа. Его глаза – только они еще могли двигаться – следили за облаками высоко в небе.
– Мэллори Тюленебой – добрый человек, – сказал он и закашлялся.
Я подложил в огонь хворосту и спросил:
– Тепло ли тебе?
– Знаешь, я не чувствую больше своего тела, потому и не могу сказать, холодно мне или нет. – И тут же: – Нет, мне холодно, так холодно, точно я в прорубь провалился.
Я набросал в костер столько дров, что огонь загудел. Оранжевые языки лизали скалу у входа, и снег вокруг кострища растаял на четыре фута. Жар опалял мне лицо. Мы сидели, прислонившись к теплой скале, и смотрели на длинный снежный склон, сбегающий к лесу.
– Так лучше; хорошо, когда тепло. А долго ли еще до того, как звезды выйдут?
– Недолго, – солгал я.
Мы сидели там весь мучительно долгий день, обсуждая беременность Катарины и прочие дела племени. Шанидар любил поговорить, хотя уже так ослаб, что едва дышал, и ему приходилось делать долгие паузы. Деваки, ходившие мимо, старательно огибали нас. Женщины, таскавшие глыбы снега, из которого натаивали воду для питья, поглядывали на нас особенно подозрительно, как будто мы были волками, задумавшими украсть у них детей. В предыдущие дни они то и дело шептались и покачивали головами по поводу моих визитов к Шанидару – не могли, видно, в толк взять, зачем я трачу время на человека, не умершего в свое время. Я, поддерживая костер и глядя, как сморщенные губы Шанидара пытаются что-то выговорить, задавал себе тот же вопрос.
Наконец стемнело и взошли звезды – блестящие льдинки на черной шубе ночи.
– Лозас шона, – сказал Шанидар, глядя на них своими полуослепшими глазами, закашлялся и выдохнул: – Как я люблю эти огни! Не подбросишь ли еще дров, а то холодно что-то? Я думаю, в эту глубокую зиму морозы ударят рано. Теперь зима только началась, а вон как студено уже. Мэллори, у меня ресницы смерзаются – протри мне глаза, а?
Я протер, и он затрясся в новом приступе кашля. Потом его отпустило, и он затих. Я подумал, что он умер, но нет – внезапно он уцепился за мою руку, как падающий со скалы цепляется за камни.
– Ох, как больно. Знаешь, небесные огни – это звезды. Горящий водород превращается в свет – так учил меня отец, когда я был еще мальчишкой.
Меня порядком шокировало произнесенное им слово «водород». Не потому, что Шанидар его знал – он ведь путешествовал к звездам в юности, – а потому, что он произнес это слово при мне, как будто и я должен был его знать.
– Водо-род? – с нарочитым трудом повторил я. – Странные слова ты говоришь, старец.
Стиснув полу моей парки, он сказал:
– Ты обманул других, но не меня, человек из Города. Когда я был моложе… – Он снова закашлялся. – Я помню, каково это – иметь крепкие мускулы, как у тебя… так вот, когда я был молодым, но безногим, меня отправили к резчику по имени Рейнер, и он отрастил мне новые ноги у себя в мастерской, в Квартале Пришельцев, что в Небывалом Городе. Так что городского человека я всегда отличу.
После многочисленных отговорок и прямого вранья я огляделся, чтобы удостовериться, что нас никто не слышит, и признался наконец, что я действительно из Города.
– Но как ты узнал?
– Ты можешь носить шкуры шегшея, можешь выучить язык, можешь изменить свое тело – у меня тоже было хорошее сильное тело, только без ног, – можно изменить все, только не то, как ты думаешь. Ход мыслей изменить нельзя – иначе я не стал бы отверженным среди собственного народа.
Он спросил, зачем мы приехали к деваки, и я рассказал. Не знаю, почему я ему доверился. Ночь сгущалась вокруг, холодная и бездонная, как космос, и я повторил Шанидару послание Эльдрии: «Секрет человеческого бессмертия лежит в вашем прошлом и вашем будущем. Если вы будете искать, то разгадаете тайну жизни и спасетесь». Я рассказал ему о своем путешествии в Твердь. Я сказал, хотя сам уже в это не верил, что тайну тайн можно найти в старейшей ДНК человека. Я рассказывал ему все это, а костер угасал, и звезды струили свой слабый свет нам в глаза.
– Так ты пилот? Я человек невежественный, хотя отец и учил меня, как мог, а ты пилот и можешь счесть глупостью все, что я наговорил тебе за год. Но нет, это не глупость. – Его кашель сменился одышкой, и он выдавливал из себя каждое слово между двумя глотками воздуха. – Деваки тоже кое-что знают, и ты должен понять: все, что я говорил тебе про убийство своих доффелей и про людей, которые стоят отдельно от других – а еще о добре и зле, помнишь? – все, что я говорил тебе, – правда.
– Я внимательно слушал все, что ты говорил, – сказал я и не солгал.
– Выслушай тогда еще одну мою просьбу. Не доверяй посланию богов. Когда я родился здесь, в этой пещере – я не знаю истории печальнее, – меня, как безногого марасику, выкинули на снег глубокой зимой, и я замерз. Отец отвез меня, мертвого, резчикам в Город, но они ничем не могли помочь мне. И мой бедный отец Гошеван, сын Ягаравала, сына Пешевала Кульпака с Летнего Мира, мой отец повез меня на Агатанге. Люди там – ты это знаешь, пилот? – люди там все равно что боги. Они вернули меня к жизни, чтобы я мог вернуться в родную пещеру – вроде бы добро мне сделали, так ведь? Они меня оживили и запросто могли бы сделать мне ноги, но не сделали. Почему, ты спросишь? Слушай, я скажу тебе правду. Боги хитры, и когда они переделывают человека, то всегда оставляют что-то недоделанным, чтобы он не забывался. Поэтому не надо верить посланию твоей Эльдрии: эти боги, я вижу, не сказали вам самую простую вещь, а именно: «Секрет жизни – в создании жизни». – Он попытался приподняться, прислушиваясь к звонкому щенячьему лаю и детскому смеху. – Слышишь, как Джонат и Аида играют с щенками? Секрет жизни в том, чтобы делать детей – отец говорил мне это, когда я сам был маленький, но я не верил.
Я задумался об отцах и детях, а Шанидар выдавил:
– Если у тебя будет сын, будь к нему добр, Мэллори.
Я почесал нос и сказал:
– Ты не знаешь законов нашего Ордена: нам, пилотам, нельзя жениться. – Я подумал о Катарине, толстеющей с каждым днем из-за ребенка от неизвестного отца. – У меня никогда не будет сына.
– Плохо это – отправляться на ту сторону, когда нет ни сынов, ни дочерей. Напрасно я не поверил отцу. – Он закашлялся, застонал и выговорил что-то неразборчивое.
– Тебе больно? – спросил я. Он слабо потер свою руку и сказал:
– Знаешь, когда деваки уходят туда, они не боятся, потому что сыновья и дочери молятся за их души. – Он поднял глаза к небу и произнес так тихо, что я с трудом расслышал его: – А я вот боюсь, пилот. Рука у меня болит и горло. – Он надрывно кашлянул и схватился за грудь. – Вот тут как лед, ох… – Он застонал, пробормотал что-то вроде «шона лос халла, халла лос шона» и начал задыхаться. Некоторое время спустя мне показалось, что он больше не дышит. Я поднес полу его парки к его губам, но шелковистый мех не шелохнулся. Следовало бы пощупать пульс у него на шее, но мне стало страшно, и я не решился.
Я встал и запахнулся в шубу. Было так холодно, что даже глаза стыли. Сморщенное лицо Шанидара у меня на глазах затвердевало, как мрамор. Сам не зная почему – наверное, просто потому, что он ушел, исчез, как луч света, поглощенный черной дырой, – я поднял глаза к небу и помолился за его душу: «Шанидар, ми алашария ля шантих деваки». Челюсть у него отвалилась, и лицо казалось одновременно знакомым и совершенно чужим. Я прикрыл его мехом, чтобы не видеть больше, и пошел искать Юрия. Я никогда еще не видел покойников. Торопливо пробираясь через пещеру, я спотыкался на неровном полу. Горючие камни светили тускло, и круглые хижины едва обозначались во мраке. Каменный Пещерный Старец улыбался в черную глубину. Без всякой причины я ударил его, промахнулся и ударил еще раз. Шанидар не выходил у меня из головы. Неужели все, кто видит смерть человека впервые, чувствуют то же, что и я? Меня ужасала мысль о собственной смерти и обуревало ликование оттого, что я жив. Скорбь и меланхолия пришли после – в тот миг я радовался, что умер он, а не я. Никогда еще, пожалуй, я не чувствовал так остро вкус жизни. Ударив по камню, я ушиб себе руку. Должно быть, секрет жизни в том, чтобы всегда ощущать ее вот так.
Я разбудил Юрия и сообщил ему о смерти его соплеменника. Он стал будить свое семейство – ведь для деваки нет события важнее, чем смерть, – а я пошел за Соли и остальными. Мы все собрались за хижинами Манвелины. Висент и Юрий положили Шанидара на шкуру тюленя, Лиам и Сейв сложили вокруг него шесть пирамидок из ароматного дерева пела и зажгли погребальные костры. Теплый свет играл на обнаженном теле Шанидара, которое Анала и Лилуйе натерли горячим тюленьим жиром. (Деваки верят, что человек должен отправляться на ту сторону таким же нагим, как явился в этот мир – но, поскольку ему предстоит путешествовать через замерзшее море, его тело нужно защитить от холода.) Красные блики на белой коже казались красивыми и зловещими одновременно. Женщины усыпали покойного снежными далиями и полярными маками, и густой запах цветов бил мне в нос. Затем Юрий, ближайший родич Шанидара, взял кремневый нож и отрезал у покойного ухо. Кто-то завернул его в пушистый мох, и Юрий сказал:
– Мы будем хранить ухо Шанидара, чтобы он слышал, как племя молится за него. Я, Юрий, сын Нури, сам буду молиться за его душу, ибо нет у него сынов и дочерей. Сын мой Лиам и его сыновья тоже будут молиться за Шанидара, ми алашария ля шантих деваки. Легко упрекнуть его за то, что он не уходил так долго, но мы не должны его упрекать, ибо человеку следует уходить на ту сторону свободным от всякой вины.
Когда костры догорели, а мы охрипли от молитв и рыданий (у деваки роль плакальщиков исполняют мужчины, а женщины хранят скорбное молчание), мы завернули Шанидара в тюленью шкуру и вынесли из пещеры на кладбище. Земля промерзла, как камень, и на ней лежал снег, поэтому мы воздвигли над телом пирамиду из гранитных валунов. Камни были тяжелые, и мы до боли напрягали брюшные мышцы и бицепсы, но вскоре, под бдительными взорами звезд, завершили свой труд. Юрий произнес надгробное слово, и деваки, позевывая, отправились спать. Мать и все наши, даже Бардо, тоже ушли, оставив меня одного.
Я постоял над могилой. Ветер свистел между стволами деревьев, наполняя меня холодными, путаными мыслями. Я оставался там всю ночь, пока мрак не начал редеть. Как это трагично, что Шанидар не оставил в мире своего семени, чтобы выросшие из него могли, в свою очередь, вкусить горько-сладкий напиток жизни! Я жалел его, себя и всех, кто умирает бездетным и одиноким. Шанидар был прав: секрет жизни в том, чтобы стать звеном вечной, неразрывной цепи. Иного смысла в жизни нет, и нет иного бессмертия. Повернувшись спиной к ветру, я растер онемевшие щеки. Дети вдруг показались мне самым главным во вселенной. Сын – что может быть прекраснее, чем иметь сына?
Я бросился в пещеру, чтобы найти Катарину. Я пролез в нашу хижину, подполз к ее постели, зажал ей рот и разбудил. Когда я шепотом сообщил ей, что должен с ней поговорить, она молча оделась, и мы снова вышли из пещеры. Я увел ее в лес, к ручью. За ночь собрались облака, и стало теплее, но в воздухе висела морозная сырость. В лесу стоял предрассветный сумрак, шел легкий снег, и черный с белыми прожилками воздух казался мраморным. Я едва различал свои унты, ступающие по камням у ручья. Журчание бегущего подо льдом ручья заглушало мои слова, зато я мог быть уверен, что нас никто не подслушает.
Я взял Катарину за руку.
– Ты сказала Соли, что не знаешь, от кого у тебя ребенок. Это правда?
– Разве я так сказала? Вспомни как следует, Мэллори.
Я не помнил ее точных слов, хотя знал, что все сказанное скраерами следует запоминать буквально. Я пытался прочесть правду на ее лице, но было темно и Катарина прятала подбородок в мех. Руки она держала на животе. Некоторые женщины носят свое бремя низко, точно у них под мехами мяч, а у нее живот был высокий и овальный, как кровоплод.
– Так как же: знаешь ты, кто отец, или нет?
– Отец… он тот, кто им будет. Мать… отец.
Мне отчаянно хотелось знать, мой ли это ребенок. Мысль о том, что отцом может быть Лиам, была невыносима. Каким он родится, ребенок? Со светлыми волосами и мощными надбровными дугами? Наполовину алалой, наполовину хомо сапиенс? А может – ведь операции Мехтара не затронули наших половых клеток – он будет целиком хомо сапиенс, нашим с Катариной произведением, и я смогу назвать его сыном? Держа ее руку в варежке, я спросил:
– Это наш ребенок, Катарина?
– А что, если я не знаю?
– Но ты же скраер: скраеры должны знать такие вещи. Вас первым делом учат «думать как ДНК», разве нет?
– Ты пилот, тебе и знать, – поддразнила она, звонко рассмеявшись. – Ах, Мэллори, милый Мэллори.
– Послушай меня. Для ребенка унизительно, когда его называют бастардом. – (На многих планетах это слово означает всего лишь, что человек родился вне брака, но я брал его в более широком смысле, обозначая им тех несчастных, кто не знает своих родителей, дедов и бабок. Какая разница, были отец с матерью женаты или нет. Главное – знать, от кого ты унаследовал свои гены, видеть свой идущий сквозь поколения след.)
Мне показалось, что она улыбается.
– Этот ребенок бастардом не будет, обещаю тебе.
Себя я тоже считал бастардом, поэтому понял ее в том смысле, что отец – не я. От разочарования голова у меня отяжелела, как камень. Лед на ручье местами провалился, и я смотрел сквозь его хрупкие слои на темную бегущую воду.
– Если отец не я, то кто он?
– Разве я сказала, что ты не…
– Не играй со мной, Катарина.
– Я не играю. Просто если я скажу, то страдания… понимаешь?
Ветер усилился, и она затянула капюшон потуже, скрестив руки на груди. Видя, как она дрожит, я обнял ее и припал к ней головой. В тот миг я понял одну простую вещь: поведение скраеров объясняется не любовью к играм, а желанием отвлечь себя и других от страшных истин, представших Перед ними.
– Так кто же отец? – шепнул я ей на ухо. – Скажи мне.
– Если я скажу, это тебя убьет – понимаешь?
– Значит, Лиам?
Она хотела ответить, но ее голос дрогнул, выдав сидящий в ней страх. В ее синих глазах застыл ужас. Мне открылось это только на миг – потом ее скраерская выучка возобладала, глаза закрылись, и лицо стало гладким и белым, как скраерские одежды. Она тихонько засмеялась, приложив руки к животу.
– Это твой сын, Мэллори. Наш сын. Он будет красивым мальчиком. Красивым и чувствительным… мечтателем, как его отец.
Сын! Катарина сказала, что у нас будет сын, и эта новость в самом деле чуть не убила меня. Я умирал от счастья и гордости. Я был так счастлив, что вскинул голову и заорал:
– Сын! Сын, паршивец этакий!
Катарина в полном молчании смотрела на серый утренний лес. Я почти не обращал на нее внимания. Я слушал пение ветра и доносящийся издали волчий вой – долгий, полный тоски и одиночества. Ветер несся через заснеженные холмы и долины, и мне в голову пришла нелепая мысль: это вторая половина Шанидара взывает ко мне, заклиная быть добрым к своему сыну. Волк выл долго. Катарина начала плакать, – и я вспомнил, что доффель Шанидара – тюлень, а не волк. Вой утратил свой мистический смысл и снова стал всего лишь звуком, исходящим из глотки замерзшего одинокого зверя. Катарина рыдала в моих объятиях. Я коснулся ее мокрых щек, поцеловал ее веки и спросил, что ее так печалит, но она не ответила.
– Сын, – только и выговорила она. – Сын, красивый мальчик, понимаешь?
Рассказывая о крахе нашей экспедиции, а также о череде заговоров и убийств, приведших к кризису нашего Ордена и к войне, я должен начать с событий, при которых сам не присутствовал. Кое-кто – я имею в виду эпистемологов – сочтет такое вторичное повествование недостоверным, но я уверен, что рассказ Жюстины можно рассматривать как максимальное приближение к истине. Что такое истина, в конце концов? Эпистемы я предложить не могу, поскольку в том, что касается нашего биологического вида, достоверного знания не существует. Если то, что я говорю, порой кажется нелогичным, несет отпечаток хаоса и безумия – это потому, что человеческая жизнь отмечена такой же печатью.
Через два дня после похорон Шанидара, на восемьдесят пятый день зимы, все мужчины и большинство мальчиков ранним утром ушли охотиться на шегшея в одной из западных долин Квейткеля. Было холодно: утро началось с синего мороза, который днем еще больше окреп. Воздух окружал остров стальным колпаком, деревья трещали и раскалывались, брызгая щепками. Женщины и дети из-за холода оставались в пещере, держась поближе к кострам и горючим камням. Все зябли и тряслись – кроме моей матери. Мать горела в жару, но виной тому была не болезнь, если не считать болезнью ревность и ненависть. Два дня назад она проследила нас с Катариной до ручья, проявив незаурядные шпионские качества. Она спряталась за деревом и слышала мой радостный крик. Весть о моем отцовстве ранила ее в самое сердце. Два дня она молчала, и ненависть зрела в ней, как нарыв.
Не в силах больше выносить сжигающего ее пламени, она в день охоты застала Катарину одну в нашей хижине. Мать накинулась на нее, изрыгая ядовитые слова, Катарина же отмалчивалась, еще сильнее разжигая ее бешенство. Я не знаю всего, что было сказано, но Жюстина и другие женщины слышали ужасные вещи. Мать обзывала Катарину ведьмой и кричала: «Ты околдовала моего сына! Приворожила его с помощью ласк и своих тайных знаний!»
Услышав такие обвинения, Анала, Сания и Мулийя тут же ворвались в хижину. Жюстина, помогавшая щениться одной из сук, услышала шум и тоже бросилась туда. Четыре женщины, столпившись в тесной хижине, оттащили мать от Катарины.
– Почему ты назвала Катарину ведьмой? – спросила Анала.
Косоглазая Мулийя при слове «ведьма» забубнила молитву и натерла веки золой, чтобы вторая душа ведьмы ее не увидела. (Я забыл упомянуть, что эта Мулийя была необычайно безобразна. У нее был сломан нос, и она смахивала на овцебыка, как напомнила мне Жюстина. Любопытно, что женщины часто бывают более чувствительны к женской красоте – или ее отсутствию, – чем мужчины.)
Сания, нервно потирая худые руки, смотрела то на Аналу, то на Мулийю. Это была умная маленькая женщина с узкой лисьей мордочкой. Проведя языком по желтым сточенным зубам, она сказала:
– Мы все удивлялись, почему Мэллори ведет себе так странно. Но колдовство? Зачем бы Катарина стала наводить на него порчу? – И она улыбнулась Катарине, которая ей нравилась, явно не веря, что та может быть ведьмой.
– Некоторым женщинам нравится, когда братья трогают их руками, – сказала Мулийя, – а еще больше нравится, когда те трогают их своими копьями. Все знают, что Катарина с Мэллори ерзали по снегу вместе.
Мать, в ужасе от того, что натворила, вмешалась:
– Я говорила сгоряча, потому что рассердилась. Никакая Катарина не ведьма.
Жюстина все это время стояла между Мулийей и спокойной, хранящей молчание Катариной. Мулийя сказала матери:
– Вот уж скоро год, как мы с тобой пьем кровяной чай вместе. Когда это ты говорила сгоряча? Ты назвала Катарину ведьмой – я сама слышала.
Анала, стоя в центре хижины, откинула назад седые волосы. Среди женщин она была самой высокой, самой сильной и, возможно, самой здравомыслящей.
– Ты назвала ее ведьмой, – сказала она моей матери, – и это самые тяжкие слова, которые одна женщина может сказать другой. Если она ведьма, то в чем ее колдовство?
Завязался спор относительно способов, которыми женщина может околдовать мужчину (или, реже, другую женщину). Мулийя, кося глазами, заявила:
– Хорошо известно, что у парвинов начался голод из-за того, что одна женщина высосала семя у своего родича. Это верный способ околдовать мужчину.
– Но кто из нас не хотел бы сделать то же самое? – с нервным смехом заметила Сания.
Мулийя рассказала также об олуранской женщине, которой достался плохой муж – он колотил ее всякий раз, приходя с охоты пустым. Однажды поздней средизимней весной эта женщина – звали ее Галья – сделала из палочек и меха куклу и бросила ее в талую воду. На другой день ее муж ступил на тонкий лед, провалился в море и утонул.
– А Такеко из племени нодинов? Все знают, что она сделала: с помощью плесени арагло и хитрыми колдовскими словами она разожгла в нем ярость. Вот любовник и убил ее мужа!
Анала, послушав ее, рассердилась, срезала скребком для шкур мозоль с ладони и предъявила всем.
– Как может женщина пленить душу мужчины? Для этого она должна взять от него какую-то часть, чтобы ее другая душа увидела через эту часть другую душу мужчины – это все знают. Будь Катарина ведьмой, она собирала бы волосы, обрезки ногтей и прочее. Где у нее эти вещи? Кто их видел?
– Ведьма не стала бы оставлять такое на виду, – хитро заметила Мулийя, глядя между ног Катарины на ее постель. Глаза ее, косые и слабые, были все же алалойскими глазами и подмечали многое, особенно состояние снега, для обозначения которого у алалоев имеется около сотни слов. – Почему около ее постели лежит сореш – свежий снег?
– Может быть, собака испортила ее лежанку своей мочой, – пожала плечами Сания.
– Кто же позволит собаке мочится на свою постель? Я думаю, нам надо посмотреть, что зарыто у нее под лежанкой.
Мать и Жюстина, не желавшие, естественно, чтобы Мулийя рылась под лежанкой, стали спорить и приводить доводы против, а когда это не помогло, попросили ее выйти из хижины.
– Если Катарина ведьма, – сказал Жюстина, – я, конечно, уверена, что это неправда, но если она вдруг окажется ею – мы сами найдем колдовские предметы. Она моя дочь, так кому же, как не мне, следует ее наказать?
– Требовать такого от матери было бы слишком, – возразила ей Анала.
Мулийя двинулась к лежанке, но мать остановила ее силой. Катарина сидела и смотрела, а мать с Жюстиной попытались выставить женщин из хижины. Жюстина толкнула Мулийю, и та упала на стену, проломив ее. Другие женщины Манвелины, ожидавшие снаружи, подняли Мулийю, развалили хижину окончательно и столпились вокруг Катарины. Ириша, Лилуйе и еще шесть держали мать и Жюстину.
– Вот видите, – сказал Анала, – мать ведьмы всегда защищает свою дочь. Это печальный день для нас, но Мулийя права. Надо посмотреть, что у нее под лежанкой. – Она присела и быстро, как собака, стала рыть скребком снег. Белая пыль запорошила унты других женщин, с любопытством следивших за ее работой. Скребок вскоре наткнулся на что-то. – Есть, – сказала Анала и вынула покрытый снегом криддовый шар.
– Что это? – спросила Сания. – Как красиво!
Анала счистила с шара снег, и Мулийя сказала:
– Похоже на раковину, но я никогда еще не видела таких красивых и круглых раковин. На Южных Островах много таких? – спросила она у моей матери.
Та, попытавшись вырваться от Марии, Люсы и Лилуйе, ответила:
– Много.
Анале удалось открыть сферу. Перевернув ее, она вылила голубовато-белое содержимое себе на ладонь и понюхала.
– Мужское семя, – объявила она, и у женщин вытянулись лица.
Мулийя коснулась пальцами ладони Аналы и облизнула их.
– Да, это мужское семя, но подслащенное чем-то неизвестным мне. Катарина смешивает семя Мэллори с соком неведомых растений, чтобы навести на него порчу.
Дело начинало принимать серьезный оборот. Сания подошла к Мулийе и сказала:
– Мне всегда нравилась Катарина. Она всегда улыбается, даже когда нам живется плохо. Так ли уж дурно она поступила, околдовав Мэллори? Он такой необузданный – он нуждается в укрощении, как никто из мужчин. – И она задала вопрос, который вертелся на языке у каждой: – Неужели мы за это прогоним ее на лед?
– Надо отрубить ей пальцы, чтобы она больше не могла колдовать, – заявила Мулийя.
Жюстина стояла смирно, думая, как бы ей освободиться от державших ее рук. Она боялась за Катарину, но сохраняла хладнокровие, понимая, что лучше дочери лишиться пальцев, чем жизни. Пальцы, сказала она мне после, всегда можно отрастить заново.
Пока женщины спорили о судьбе Катарины, Мулийя продолжала рыться под лежанкой.
– Смотрите! – вскричала она, откопав еще две криддовые сферы. – И это не все – вот еще четыре. Тут их много, этих раковин!
Женщины смолкли. Они открывали сферы одну за другой, разглядывая то, что лежало внутри.
– Волосы, – сказала Ириша. – Чьи же это, такие желтые? Лиама или Мейва?
– Еще семя! – объявила Мулийя. – В этой раковине оно пахнет как колтун-корень. Чье бы оно ни было, этот мужчина съел целую кучу корней. – Некоторые женщины рассмеялись, поскольку все знали, что горький колтункорень придает мужскому семени дурной запах. – А вот тут семя жидкое и водянистое, как у мальчика. Как много раковин – я и не знала, что у нее перебывало столько мужчин!
Наконец дело дошло до сфер с обрезками ногтей и ампутированным пальцем Джиндже. Женщины заохали, удрученно трогая друг друга за щеки. Анала выпрямилась, глядя на черный палец у своих ног.
– Это очень плохо, очень, очень плохо. Никогда не думала, что такое возможно.
Женщины поговорили немного и согласились, что Джиндже лишился пальцев на ноге из-за Катарининого колдовства.
– Но зачем Катарина это сделала? То, что она околдовала Мэллори, можно понять, но калечить Джиндже – злое дело.
Женщины сошлись на том, что Катарина – ведьма худшего рода, злая сатинка, причиняющая вред невинным людям просто так, ради забавы. Когда же Сания поинтересовалась, как могла сатинка казаться такой доброй и милой, Анала ответила ей:
– Они это умеют. Этот год потому и был у нас таким тяжелым и голодным, что Катарина – сатинка. Мы все должны осудить ее, иначе у деваки больше не будет халла. Мы должны приготовить постель для сатинки.
Жюстина на миг растерялась, не поняв, зачем Анала хочет приготовить Катарине постель. Но потом она взглянула на мою мать, которая чуть не плакала, потому что слишком хорошо знала девакийские обычаи, и ей стало очень страшно. В ужасе Жюстина стала кричать на Аналу. Она рассказала ей все, сознавшись, что мы пришли сюда из Города в поисках тайны жизни. Но ей никто не поверил. Для многих деваки Город был всего лишь мифом. И даже тех немногих, кто готов был признать, что Город есть и в нем живут люди со странными лицами, искусство Мехтара одурачило как нельзя лучше.
– Посмотрите на Катарину с Жюстиной, – резонно заметила Мулийя, – разве они не такие же деваки, как и мы?
Анала же сказал Жюстине:
– Не надо выдумывать сказки, чтобы спасти свою дочь. Никто не упрекнет мать за то, что она любит свое дитя, но даже родная мать не должна оставлять сатинку в живых.
После этих слов женщины схватили Жюстину, Катарину и мою мать и потащили их на зады пещеры. В том месте пол поднимался к темному потолку, было душно, разило горелым жиром и дымом. Около двадцати горючих камней, заново заправленных, горели ярко. На стенах плясали тени, и желтые пальцы света трогали черные, свисающие с потолка сталактиты. Там женщины соорудили лежанку из снега и уложили Катарину на эту холодную постель, привязав ее руки и ноги ремнями к четырем кольям.
– Мать сатинки должна присутствовать при обряде, – сказала Анала Жюстине.
– Нет! – Жюстина вырвала одну руку и ударила Лилуйе по лицу, крича моей матери: – Мойра, Мойра! – Но Мария и еще две женщины держали мать крепко, не давая ей шелохнуться.
– Ведьма не сможет делать свою работу без пальцев, – сказала Анала, обхватив запястье Катарины. – Сначала мы лишим ее пальцев.
Катарина все это время сохраняла неестественное спокойствие, глядя широко раскрытыми глазами на выступы скального потолка. Но Жюстина думала, что она смотрела не на камень, а на свою жизнь, заново переживая эти последние мгновения, которые, должно быть, видела уже много раз. Как могла она принять свою судьбу так покорно? Действительно ли она видела собственную смерть или ей являлись только варианты, где Анала решала ее пощадить или ее спасал счастливый случай? Какой же это, наверное, ад – знать час своей смерти и способ, которым ты умрешь! Другие люди могут обманывать себя, веря в то, что они бессмертны – или, во всяком случае, предвкушая впереди еще много сладостных мгновений. Им не дано знать, не дано видеть. Но скраер знает и видит слишком много. Все, что он может противопоставить вечности, – это его выучка и его мужество. Катарина обладала этим мужеством, великим мужеством, но под конец оно изменило ей. (А может быть, не оно, но ее второе зрение?) Она посмотрела на Аналу, как будто увидев ее впервые, напряглась в своих путах и закричала:
– Нет, нет, не надо, я ничего не вижу… пожалуйста!
Анала начала пилить ее пальцы своим скребком. Катарина билась, кричала и старалась сжать руку в кулак, и Анала сказала Мулийе:
– Этот кремень слишком туп. Принеси-ка мой тюлений нож. – Когда Мулийя вернулась с острым лезвием, Анала вежливо поблагодарила ее и снова взялась за дело. Деваки мастера разделывать мясо – в поразительно короткий срок она отпилила все пальцы на одной руке и принялась за другую.
Покончив с этим, она встала и посмотрела на неподвижно лежащую Катарину.
– Она лишилась чувств от боли – кто ее за это упрекнет? – И Анала добавила, обращаясь к Жюстине: – Известно, что сатинка не должна уходить на ту сторону, имея во чреве дитя, иначе она снова родится сатинкой. Надо вынуть дитя, пока она спит. – С помощью Сании и Мулийи Анала разрезала на Катарине одежду и обнажила живот. Когда плод извлекли из водяного пузыря и перерезали пуповину, Катарина внезапно открыла глаза. Анала отдала окровавленный комочек Сании, сказав: – Позаботься о нем, – и молодая женщина ушла.
– Нет! – закричала Катарина и стала звать свою мать, умоляя Жюстину на языке Города спасти ее дитя.
– Видишь, – сказала Анала Жюстине, которая вывихнула себе плечо в тщетных попытках вырваться, – она говорит на колдовском языке – ее вина доказана.
– Она не ведьма! – вопила Жюстина. – Она скраер!
– Что это за слово? Мать сатинки заразилась от нее странными словами, и потому мы должны вырвать сатинке язык. Но сначала мы выколем ей глаза, чтобы сатинка не могла видеть нас с той стороны и насылать на нас порчу.
С этими словами Анала быстро, точно выковыривая ядрышко ореха, вонзила нож в глаз Катарины и повернула лезвие. Аккуратно вынув глазное яблоко, она вручила его Мулийе. Катарина сумела не издать ни звука, даже когда Анала вынула ее второй глаз. Только когда Анала велела Мулийе и Лилуйе раскрыть Катарине челюсти, та вдруг ожила и закричала:
– Мэллори, не убивай его!
Все это Жюстина рассказала мне после, когда дело было сделано. Но часть ее рассказа я могу подтвердить сам, поскольку видел это собственными глазами. В тот день нам с Бардо посчастливилось убить первого шегшея, и судьба распорядилась так, что я вернулся в пещеру раньше всех. Вряд ли кто-нибудь, кроме Катарины, ожидал, что мы вернемся так рано, но наши груженные мясом нарты мчались к пещере в то самое время, когда Анала делала свою мясницкую работу внутри. Помню, мороз был такой, что свежее парное мясо по дороге застыло. Казалось, даже небо замерзло, как глубокий синий океан, и воздух, как вода, усиливал звуки, превращая шепот ветра в пронзительный вой. Звуки, которые неслись из пещеры, я поначалу принял за щенячий визг, но, подъехав ближе, понял, что это кричит человек. Меня охватила паника, и я внезапно понял, в чем тут дело. Схватив свое окровавленное охотничье копье, я ринулся в пещеру.
Несколько женщин – не помню их лиц – попытались удержать меня, но я расшвырял их. (Одна из них, возможно, мягкая обычно Ментина, оцарапала мне щеку скребком – этот шрам и теперь при мне.) Бардо пыхтел, спеша за мной. Мы подбежали как раз в тот момент, когда Анала пыталась разжать Катарине зубы. У Катарины на губах была кровь. Кровь текла из ее вспоротого живота и обрубленных пальцев, кровь прожигала дыры в снеговой постели, кровь стояла в ее пустых глазницах. Мать, захлебываясь, пыталась рассказать мне о происшедшем. Я отшвырнул от Катарины Аналу, Мулийю и Лилуйе. Бардо освободил Жюстину, молотя женщин древком своего копья. Отогнав их, он наставил на них острие, а они, вооружившись ножами и скребками, свирепо глядели на нас, не зная, что делать дальше.
Я упал на колени, стараясь расслышать, что говорит Катарина, но зычный рев Бардо заглушал все остальное.
– Надеюсь, они не бросятся на нас, – сказал он мне. – Не думаю, что смогу убивать их.
– Тише! – рявкнул я и сказал так тихо, что только Катарина могла меня слышать: – Я тоже; я и того окаянного тюленя убил с трудом.
– Но все же убил, – прошелестела Катарина. – Это легко… но его ты не должен убивать, слышишь?
– О чем ты? – Я старался не смотреть в ее наполненные кровью глазницы.
– Тебе выбирать. Выбор всегда… – Она пребывала в своем скраерском мире, вновь открытом для нее ножом Аналы, и, возможно, впервые видела все в истинном свете.
– Я тебя не понимаю.
– Ты убил, но его не убивай, потому что он твой… о Мэллори, не будь же таким глупым!
– Катарина, я не…
– В конечном счете мы сами выбираем свое будущее, понимаешь?
– Нет…
– Да. – Она вновь превратилась в девушку, приносящую свой скраерский обет. – Отдавать, сострадать, воздерживаться… – А после она выдохнула так, словно ей надавили на живот: – Потому что ты никогда не умрешь. – Ее губы перестали шевелиться, и все вокруг стало неподвижным: грудь, ноги и льющаяся кровь. Она лежала, глядя сквозь черный каменный потолок в небо и в вечность своими незрячими глазами, окончив свои дни, как подобает скраеру.
Для меня кошмар только начинался. Кровь стыла у меня на губах и застилала глаза. Я поднял со снега тюлений нож Аналы. Мне следовало бы заняться телом Катарины – если бы я это сделал, наша с ней жизнь могла бы обернуться совсем по-другому. Но я не думал о ней – я вообще не думал, потому что превратился в зверя. Я ринулся к хижинам Манвелины, ища Аналу. Безумная мысль овладела мной: если я схвачу ее за шею и тряхну, как собака встряхивает гладыша, она вернет Катарине то, что отняла. Анала вышла из хижины с мамонтовым копьем Юрия, и я решил, что не стоит ее трясти. В конце концов, она не резчик; ничто уже не спасет Катарину и не вернет ее мне. Нет, я не стану трясти Аналу – я выколю глаза ей самой, чтобы она увидела, какое зло сотворила.
Я плохо сознавал, что происходит вокруг. Кто-то из женщин порезал мне ухо ножом. Анала метнула копье, но я отбил его в сторону. Кто-то ткнул меня ножом в плечо. Жюстина двинула Мулийю в лицо локтем, Бардо рычал, как медведь. Какая-то женщина, оступившись, повалилась на хижину Аналы, стена рухнула, и снежинки замельтешили в чадном свете горючих камней. Анала по-настоящему испугалась – я видел страх на ее широком желтом лице. Потом рука у меня повисла, и я уронил нож на снег. Разве мог я воткнуть этот нож ей в глаз? Я бы и тюленю не смог глаза выколоть. Я хотел уже вернуться к Катарине, когда Бардо крикнул:
– Берегись, Лиам!
Я вспомнил, что нарты Лиама ехали следом за нами. Я обернулся – он бежал на меня, темный и безликий на фоне яркого устья пещеры, низко держа свой тюлений нож. Он, вероятно, подумал, что я собираюсь убить его мать – теперь я это понимаю, – и не видел, как я бросил нож. Он целил мне в живот, и я перехватил его руку. Обмениваясь пинками, мы упали и покатились по снегу. Он пырнул меня в горло, но я вскинул руку, и нож вошел в нее. Боль взбесила меня. Я выполнил другой рукой захват, которому научил меня Хранитель Времени, и сгреб Лиама за глотку.
– Сестрин хахаль! – крикнул он мне в ухо.
Момент был решающий. Я держал его жизнь в своих пальцах. Я мог стиснуть их, сделав свой выбор. Я мог распорядиться по-другому, отпустив его и обеспечив нам мирный уход. Но я был в ярости и потому стиснул пальцы и сжимал их, пока его лицо не побагровело и глаза не вылезли из орбит. Я убил его. Это и правда оказалось легко – легче, чем убить шегшея или тюленя.
– Бог мой, да ему крышка! – крикнул Бардо, помогая мне встать. – Скорей – надо бежать, пока Юрий не вернулся.
– Нет… ведь здесь Катарина… ее тело. Надо увезти ее домой.
– Поздно, паренек.
– Нет, не поздно.
Анала с криком повалилась на Лиама, водя руками по его телу.
– Охты, горе горькое – ей-богу же, нам надо спешить!
Мы пошли за Катариной, но ее тело исчезло – должно быть, женщины вытащили его из пещеры. Я собрался искать его, собрался схватить Аналу за волосы и заставить сказать, куда оно делось, но мать сказала:
– Бардо прав. Надо уходить, не то будет поздно.
Не помню, как мы пробились к нашей разрушенной хижине. Помню только, как ползал на коленях, точно полоумный, собирая оставшиеся невскрытыми криддовые сферы. Жюстина с матерью собрали спальные шкуры и другие пожитки. Кое-как мы побросали все на нарты. Думаю, женщины могли бы остановить нас, если бы захотели, но они были ошарашены и не желали, видимо, с нами связываться. Мы направили нарты вниз по склону, слыша за собой вой – вой матери, оплакивающей сына, ушедшего слишком рано. Этот звук, самый жалостный во вселенной, был так пронзителен и громок, что наши собаки тоже подняли вой. Мы мчались среди снежных холмов, и еще много миль собаки выли не переставая.
16 СМЕРТЬ ПИЛОТА
Если я влюблен в море и все, что с ним связано – и тем сильнее, чем более гневно оно противится мне; если пыл первооткрывателя гонит мои паруса в неизведанные пределы; если восторг, присущий только мореплавателям, переполняет меня; если мое ликование восклицает: «Берег исчез, порвалась последняя цепь, безбрежность ревет вокруг, пространство и время блещут вдали – возрадуйся, старое сердце!» – как же не возлюбить мне Вечность и брачное кольцо колец – кольцо возвращений?
Никогда не встретить мне женщины, от которой я захочу иметь детей, если она не будет той, возлюбленной мною: ибо я люблю тебя, о Вечность.
Ибо я люблю тебя, о Вечность!
Пятая предсмертная медитация воинов-поэтовПроехав немного вдоль ручья, мы остановились, чтобы сбросить с нарт мясо шегшея и облегчить свой груз. Я увел мать в лес, в чащу заснеженных деревьев, и велел рассказать мне все. Сначала она изворачивалась, говоря, что не имеет понятия, почему деваки сочли Катарину ведьмой, но потом рассердилась и сказала:
– А разве она ею не была? Что такое скраер, если не ведьма? С чего бы еще мой сын стал спать со скраером? Как мог ты быть так неосторожен! Предаваться похоти, как дикие звери, и получать удовольствие – что люди при этом чувствуют? Ох, мужчины! Вам удовольствие, а нам приходится рожать. Но ведь Катарина сама хотела этого ребенка, правда? Твоего ребенка. Я знаю, что он был от тебя. Твое семя. Катарина так сказала. Твоя двоюродная сестра… и дочь Соли. Она знала. Она была скраером и видела правду. Она совратила тебя умышленно, эта ведьма! Умышленно! Потому я и сказала ей, что она ведьма. Неужели ты винишь меня за это? Ей следовало сделать аборт, пока еще можно было.
Второй раз в своей жизни я чуть было ее не ударил. Меня бросило в пот, несмотря на мороз, и я не мог смотреть на мать.
– Значит, это ты ее убила, – сказал я.
– Да ты что? И экспедицию тоже я задумала? И с Катариной спала? Мой сын может быть очень жесток, когда говорит, не подумав.
Мы молча вернулись по глубокому снегу к нартам. Пальцы на моей раненой руке онемели, и я не чувствовал их, держась за борта. Мы спустились дальше по ручью через холмы, на восток от горы Квейткель, чьи многочисленные, теперь замерзшие, потоки вливались в ручей, превращая его в маленькую речку. За поворотом возник голый холм, который деваки прозвали Оспиной. (Из пещеры при слабом свете он из-за своей наготы кажется не возвышением, а впадиной – отсюда и название.) Река ниже Оспины вилась сквозь деревья сверкающей белой лентой. Около ее южного берега мы нашли Соли – он бил острогой рыбу в проруби и набросал уже целую кучу. Когда мы вывернулись из-за поворота, его собаки подняли лай. Он выпрямился и посмотрел на нас. Зрение у него было острое – он бросил острогу, схватил копье для охоты на шегшея и побежал нам навстречу.
– Где Катарина? – крикнул он, переводя взгляд с одних нарт на другие. – Что случилось? Где Катарина?
Жюстина подошла к нему и стала шептать что-то на ухо. Его лицо застыло, дыхание пресеклось, и Жюстина, рыдая, рассказала ему всю историю Катарининой гибели – но сказала она не всю правду. Она умолчала о том, что моя мать назвала Катарину ведьмой. По ее словам выходило, что Анала шпионила за Катариной и подсмотрела, как та разбирает образцы.
– Умерла наша девочка, – плакала Жюстина. – Ох, Леопольд, ее нет больше!
– С чего это Анале вздумалось шпионить за Катариной? – спросил он.
Мать, внеся свою лепту лжи, пояснила:
– Анала всегда ее недолюбливала. Мы были подругами, поэтому я знаю. Анале не нравились разговоры Юрия о женитьбе Лиама на Катарине. Она считала, что Катарина приворожила Лиама. Я сказала, что это чепуха – мне показалось, что я ее убедила.
Я сидел на нартах и слушал, как они врут. Парку я скинул, чтобы дать Бардо перевязать мои раны – они были глубокие, сильно кровоточили и причиняли мне боль. Я всегда ненавидел и ложь, и лжецов. Есть ли что-нибудь заразительнее и пагубнее дезинформации, изворотливых слов неправды? Я смотрел на Бардо, но его, очевидно, больше беспокоили мои раны, чем измышления моей матери. Он забинтовал мне руку нерпичьей шкуркой. Я весь продрог и трясся, как щенок. Мне очень хотелось изобличить мать, но я боялся, как бы Соли после этого ее не убил.
– Что за чушь! – рявкнул Соли. Он стоял над матерью, глядя на нее сверху вниз. – Ведь Катарина скраер – неужели она не заметила бы, что Анала за ней шпионит?
– Мотивы скраеров известны только им самим, – ответила мать, стиснув руки.
– Но почему? Почему?
– Быть может, она хотела умереть. Мне кажется, она знала – знала, как это будет.
Соли понурил голову, выдохнув облако пара.
– Зачем, зачем она пошла в скраеры? – сказал он, обращаясь к прибрежным скалам. – И если она видела свою смерть, то почему не помешала этому свершиться? Почему? Я не должен, не должен был пускать ее в скраеры. – Он произнес это слово, как самое гнусное ругательство, стиснул древко копья и напустился на нас за то, что мы не увезли с собой тело Катарины. – Вы поступили бездумно – ты признаешь это, пилот?
– У нас не было времени, – пробормотал я, мучимый болью от только что перевязанных ран.
– Вы могли бы спасти ее.
– Спасти? Она мертва.
– Если бы вы увезли ее тело, мы заморозили бы ее в реке и доставили криологам. Они могли бы ее вылечить – а ты говоришь, что времени не было. Так ли это? Оно было, и был шанс ее спасти. Но ты не думал о Катарине – тебе приспичило отомстить, безмозглый убийца.
По правде говоря, такой способ спасения не пришел мне в голову. Почему же я не подумал об этом? Что со мной сделалось? Почему Соли соображает лучше меня, лучше оценивает шансы? Неужели я и правда мог бы спасти Катарину? По сей день я не знаю, так это или нет.
– Мы не успели бы, – сказал я. – На задах пещеры тепло – ее мозг слишком долго оставался бы мертвым. Хочешь, чтобы криологи вернули тебе дочь слабоумной, пускающей слюни?
– Она была такая хорошая, – простонал он. – Даже когда мочилась на меня в младенчестве или плевалась рисовой кашей. Ох, как давно это было, как давно – такая милая, такая невинная. – (Это слово в его устах прозвучало слаще меда.) – Сама невинность до того, как стала скраером.
Жюстина расплакалась, и он, сколь бы невероятным это ни казалось, обнял ее, приник лицом к ее черным волосам и сам заплакал, как маленький мальчик. Я наблюдал за этой ошеломляющей сценой молча. Великий Главный Пилот рыдал, как послушник – я отвернулся, надел парку и спустился к реке, на чистый голубой лед. Ветер пронизывал насквозь, и я окоченел, но образ живой Катарины леденил меня сильнее, чем ветер. Можно ли было спасти ее и вернуть к жизни, как вернули некогда Шанидара? И к чему бы это привело? Ни один криолог ни в Городе, ни во всей вселенной не в силах воскресить мертвые, распавшиеся мозговые клетки. Это невозможно – и Катарина скорее всего об этом знала. И почему-то верила, что должна умереть. В отличие от Шанидара – как мне самому хотелось верить в это! – она умерла в свое время.
Я вернулся к нартам. Соли с Жюстиной стояли у серого ствола дерева йау, поддерживая друг друга. Бардо, заразившись их горем, тоже рыдал – огромные слезы катались у него по щекам и застывали сосульками на бороде. Он взглянул на меня мокрыми красными глазами, и я увидел, что он сердит.
– Катарина умерла, а тебе хоть бы что. Сухой, как дохлая птица. Ну что ты за человек? Она умерла, а ты даже поплакать не можешь, как мужчина.
Как я мог сказать ему правду? Со смертью Катарины часть меня умерла тоже – оплакивать ее значило бы оплакивать самого себя, что было бы трусливым, постыдным делом.
Соли, расставшись с Жюстиной, подошел ко мне. Щеки у него блестели, но глаза уже высохли и приобрели трезвое, подобающее пилоту выражение.
– А ребенок? – спросил он. – Что сталось с моим внуком?
Я так промерз изнутри и снаружи, что не сразу понял его вопрос.
– Умер он, когда его извлекли из Катарины? Они придушили его?
– Ясное дело, умер. Вернее, вовсе не жил. Он ведь родился за тридцать с лишним дней до срока! Если это можно назвать рождением. Они выпотрошили ее как тюленя, Соли, как тюленя!!!
– Ты уверен?
Я ни в чем уже не был уверен – кроме необходимости развести костер и посмотреть на пламя, уйти от пронизывающих ледяных глаз Соли.
– Он умер, – повторил я. – Не мог не умереть.
Все, кроме Соли, согласились, что ребенок не мог остаться в живых. Бардо то и дело оглядывался на лес, явно боясь, что мужчины деваки погонятся за нами, обнаружив, что Лиам убит. Мы все этого боялись.
– Надо спешить, – сказал Бардо. – Времени у нас мало, а ехать ох как далеко.
Дневной свет быстро уходил из холмов, и по снегу ползли длинные серые тени. Темно-зеленые деревья колебались, как море перед ложнозимним штормом. Небо, окрашенное пурпуром и густой синевой, начинало темнеть. Мы надеялись, что деваки не станут преследовать нас ночью в лесу – а возможно, вовсе откажутся от погони. Мы решили спуститься вдоль реки к морю. Там, от восточного берега острова, мы повернем на юг, к месту встречи с ветрорезом, и будем ждать пять дней, пока он не придет.
Так началось наше возвращение домой. Мы с Бардо ехали на головных санях, за нами следовала мать. Соли и Жюстина, явно нуждавшиеся в уединении, по очереди правили задними нартами. Настала ночь, и мороз усилился. Собаки натягивали постромки, дыша паром, и мы резво мчались по освещенному звездами берегу. Колдовским было это наше путешествие через ночной лес. Если не считать щелканья кнутов, поскуливания собак и редких гагачьих криков (да неутихающего гула реки), в холмах стояла глубокая тишина. Пахло сосной и еще чем-то, непонятным мне. При слабом звездном свете был виден только белый наст и лед, мерцающий на деревьях – сами деревья терялись во мраке. Собаки и нарты казались серыми бусинами на серебряной нити. Следуя извивам реки, мы неслись по шелковистому снегу, руководимые поблескиванием полозьев, страхами, которые у каждого были свои, и судьбой. Затем лес отвернул в сторону, и стало светлее. На восточном горизонте, над коническими деревьями, вздулся белый волдырь Пелаблинки. После взрыва сверхновой прошло уже некоторое время, но свет ее был по-прежнему ярок – мне казалось, что я различаю красноватые щишки и голубовато-зеленые иглы дерева йау. Я смотрел на Пелаблинку, последнюю из взорвавшихся звезд Экстр, и думал: возможно, скоро на небе загорится столько Пелаблинок, что ночи больше не будет. Но как скоро? Как скоро гамма– и альфа-излучение сверхновых накатит смертельной волной на Цивилизованные Миры? Как скоро погибнут звезды, а с ними мечты человека и миллиарда миллиардов других живых существ? Как скоро умру я сам? «Ты никогда не умрешь», – сказала мне Катарина. Сказала и умерла, и я тоже умираю в душе – умираю медленно, летя мимо мерцающих деревьев этого леса. На моих нартах, надежно укрытые мехами, лежат криддовые сферы, наполненные жизнью – и ее тайнами, возможно. Но Катарина мертва, и свет Пелаблинки режет мне глаза, и криддовые контейнеры утратили для меня всякое значение.
Так, молчаливые и погруженные каждый в свои мысли, мы добрались до последнего отрезка реки перед впадением ее в море, прямого и широкого. Я хорошо помню, как мы въехали в чащу ярконских елей. Они плотно стояли по обе стороны узкой тропы, словно норовя уколоть нас своими серыми иглами. Легкий ветер дул нам в спину, подгоняя вперед. Яркий диск Пелаблинки стоял высоко в небе, и лес казался выкованным из стали-серебрянки. Ближе к опушке ветер совсем стих, и стало так тихо, что я слышал, как дышит каждая из собак. Туса нюхал воздух, высоко вскидывая лапы. Ветер внезапно переменился и задул с востока. Нам в лицо – оттуда, где на краю ельника стояли, словно прямые молчаливые черные боги, осколочники. Туса задрал голову и залаял, а Руфо и другие собаки присоединились к нему. На сером мелькнуло что-то черное. Копье – такое толстое, что впору идти с ним на мамонта – вылетело из леса и вонзилось Сануйе в бок. Мощный удар пригвоздил собаку к снегу. Псы подняли вой, перепутав постромки. Из чащи полетели новые копья. Одна из материнских собак заскулила тонко, как старуха.
– Ни лурия-му! – послышалось впереди, и мужчины на лыжах, скользя между деревьями тихо, как волки, загородили нам дорогу. Их парки переливались при свете звезд, и каждый держал в обеих руках по копью. Юрий, Висент, Хайдар, Вемило и их родичи – Арани, Джайве, Юкио и Сантаяна – стояли плечом к плечу, копьем к копью. Сейв, дрожа как безумный, вышел вперед и сказал:
– Ни лурия, Мэллори-ми. Ты убил моего брата, а я пришел убить тебя. Здравствуй.
Несколько человек метнули копья. Бардо, выругавшись, проделал пируэт, словно фигурист, попавший коньком в выбоину на льду.
– Берегись, паренек! – крикнул он и попытался перехватить в воздухе копье, летящее мне в бок. Я так никогда и не узнал, почему он загородил меня – умышленно или нечаянно. Он сделал движение, как медведь, ловящий форель в ручье – но было темно, а он и в детстве не очень-то умел ловить то, что ему бросают. Копье вошло прямо в него. – Бог… мой! – вскрикнул он, толкнув меня, и я повалился с запяток нарт на снег. Бардо остался стоять лицом к деваки, с красным древком дерева йау, торчащим из груди. Протерев глаза от снега, я увидел острие копья – оно выступало из его парки прямо посередине спины. Копье проткнуло Бардо насквозь, но он и не думал умирать – он кашлял, ругался, грозил кулаком Сейву и топтался на снегу, как раненый матерый шегшей. Потом хлынула кровь, а Бардо взревел от боли и упал на снег рядом со мной. – Паренек, – выдохнул он, – не дай мне умереть.
Я, Соли и даже мать с Жюстиной – мы все схватили притороченные к нартам копья. Нарты разворачивать было некогда, да и места для этого не было; мы стали на колени позади моих нарт, около Бардо, а Юрий подкатил к Сейву и взялся за его копье.
– Ти Мэллори! – окликнул меня старик. – Нынче злая ночь. Зачем ты позволил Бардо принять копье на себя?
Сейв, выхватив копье у отца, крикнул:
– Привет тебе, Мэллори! Ты убил моего брата, и я тоже убил твоего двоюродного брата, хотя метил в тебя. – Он поднял копье. – Теперь я убью тебя. Выходи!
– Нет, – сказал Юрий. – Бардо ушел, и теперь у Лиама будет с кем охотиться на той стороне. – Хайдар и Вемило плакали: они всегда любили Бардо, и он их любил.
– Я убью его, – заявил Сейв с гримасой ненависти на лице. Рука у него дрожала.
– Нет, – сказал Юрий. – Я устал от убийств.
– Он убил моего брата.
– А ты убил его брата.
– Моего брата!!!
– Все равно ты не должен его убивать.
– Нет. Я должен убить его.
– Нет.
– Отойди.
– Нет. Если ты его убьешь, вина ляжет на всех нас.
Я склонился над Бардо, моим мнимым двоюродным братом, моим братом по духу, моим другом. Я нажимал ему на грудь, пытался вдохнуть в него жизнь. Но все мои отчаянные усилия были напрасны – в его сердце не осталось крови.
– Мэллори! – крикнул мне Сейв.
Губы Бардо были холодны, и я тоже умирал в душе – во мне не было жалости, и я не желал сдерживаться. Я выдернул копье из груди Бардо и метнул его в Сейва – но это был плохой, сделанный наугад бросок, и Сейв легко увернулся.
– Бардо был теплым человеком, и мне жаль, что я его убил, – прокричал он. – Но у тебя душа как лед, и кто пожалеет, когда я убью тебя?
Тут мне в голову пришла одна мысль, и я сгреб Бардо за ворот.
– Мать, помоги-ка мне! Быстрее к реке, пока его мозг… – Я поволок Бардо по снегу. – Жюстина! Соли… Мы заморозим его и увезем с собой. Криологи спасут его. Да помогите же – он такой тяжелый!
– Брось его! – прошипела мать. Она всегда оставалась стратегом, всегда мыслила трезво. – Пригнись. Если мы подставимся, нас всех перебьют.
Но я в тот миг не думал о копьях деваки, хотя они и правда могли запросто перебить нас. Жюстина и Соли, тоже, видимо, решив, что нам так и так пропадать, подхватили Бардо под руки. Мать, бросив копье на снег, вздохнула:
– Ну почему мой сын так глуп?
Мы вытащили Бардо на речной лед, под которым струей черной крови ревела вода. На середине лед был тоньше всего. В воздухе стоял пар от нашего лихорадочного дыхания. Мать и Жюстина суетились, как всполошенные птицы, Соли шептал что-то себе под нос – кажется, корил себя за глупость: как он, мол, сразу не сообразил, что деваки погонятся за нами на лыжах? Он сбегал обратно к нартам, притащил пешни, и мы принялись долбить лед, подняв целую тучу блестящих осколков. Вскоре мы увидели бурлящую воду и расширили прорубь почти до размера тюленьей аклии. Взяв Бардо за руки и за ноги, мы погрузили его в воду. Вода – мало сказать, что она была ледяная – обжигала мне руки. Пальцы тут же окоченели. Я едва удерживал его курчавые волосы, за которые ухватился впопыхах.
– Держите, – твердил я, – держите! – Мы держали сколько могли, а потом вытащили Бардо на дед. Он хлопнулся тяжело, и вода зажурчала, струясь из его промокших насквозь мехов. Я поскорее вытер руки и надел рукавицы. Парка Бардо замерзала на глазах, заключая его в ледяной футляр. Он лежал на спине, с открытыми глазами. Я попытался закрыть их, но они были тверды, как мрамор. Одна рука застыла в согнутом положении, пальцы свело, как будто он грозил кулаком звездам. Мех ниже живота оттопыривался, точно в штанах у Бардо застрял кусок плавника. Я вспомнил о ночных эрекциях, от которых он по-прежнему страдал, и засмеялся. Все, должно быть, сочли, что я спятил, но смеяться было лучше, чем плакать – и разве не заслуживало смеха то, что Бардо умер так же, как и жил? Я не знал, сумеют ли городские криологи воскресить его – но если у них ничего не выйдет, он по крайней мере сойдет в могилу достойно.
Деваки все это время наблюдали за нами с берега и не могли, должно быть, взять в толк, что за погребальный обряд мы совершаем. Выдолбив Бардо из льда, к которому он примерз, мы отнесли его обратно к нартам. Сейв, треснув копьем о дерево, заявил:
– Говорил я вам – сатинка их совсем испортила. Их всех надо убить.
Под копьями деваки мы уложили Бардо на головные нарты. Укрыв его, я обрезал постромки убитого Сануйе.
Все было – хуже некуда, и то, что последовало за этим, было ничуть не лучше.
Юрий погладил древко своего копья, неотрывно глядя на Бардо.
– Мы никого не будем убивать, – сказал он, переводя взгляд на Сейва и косматого Висента. – Никто из мужчин Манвелины не убьет никого из семьи Сенвелина. Лиам покоится в мире, и нет нужды убивать Мэллори, хоть он и убил своего доффеля и давал нежную печенку старику, который не умер в свое время. Вы не поднимете на него свои копья, хотя сам он поднял копье на Лиама, и отпугивал нашу дичь, и спал с родной сестрой, которая была сатинкой и потому должна была умереть. Ты не убьешь Мэллори, Сейв, хотя он убил твоего брата. Мы не охотимся на человека, потому что на человека охотиться не годится.
Мы свистнули собакам и тронулись с места, а деваки расступились, пропуская нас. Мы ехали очень медленно. Наш путь вел через лощину с плоскими камнями и острыми, как ножи, ледяными застругами. Приходилось приподнимать нарты сзади, чтобы помочь собакам. Лед при этом ломался и хрустел у нас под ногами. Деваки шли за нами, перешептываясь, и их слова доносились до нас вместе с шорохом хвои и другими звуками леса. Я, одолеваемый горем, спотыкался о камни, почти не замечая, куда ступаю. Я горько сожалел обо всем случившемся, мои глаза, горло и душа стыли от мороза, я умирал – и на меня вдруг накатило желание объясниться, повиниться, покаяться в своих прегрешениях. Я скажу им всю правду – скажу, что в каждом мужчине и в каждой женщине сидит зверь, не знающий удержу. Вот это желание исправить содеянное меня и погубило. Я вылез из лощины и повернулся лицом к Юрию и Сейву.
– Лиам был убийцей… – начал я, и на этом моя речь закончилась. Я хотел сказать, что Лиам был убийцей, и я тоже убийца, и все люди убийцы, ибо всякая жизнь питается другой жизнью, и Лиам убил бы меня, чтобы жить самому. Мы все убийцы, потому что так устроен мир. Но в то же время мы все братья, и сестры, и отцы, и матери, и дети – я собирался сказать им все это и еще кое-какие простые истины. Но я успел сказать только «Лиам был убийцей», и Сейв, точно только того и ждал, выбросил руку вперед и метнул в меня черный камень. Будь это копье, я мог бы отбить его в сторону – у меня в отличие от Бардо руки всегда поспевали за глазами. Но это было не копье – Сейв, повинуясь отцовскому приказу, не стал бы поднимать копье. Это был тяжелый черный камень, почти невидимый на черноте леса. Если я даже и различал на этой черноте какие-то силуэты, что сомнительно, камня я не увидел. Он ударил меня в висок – это я уяснил из позднейшего рассказа Соли. Все записывается; все уже было и навечно останется записанным – так говорят скраеры. Черное облако опустилось мне на глаза – это камень вдавил часть моего черепа в мозг. Затем вспыхнул свет, точно взорвалась вся вселенная. Я упал на снег, как убитый охотником зверь, и все стало тихим, темным и холодным.
Далее последует отчет о нашем путешествии через море к месту встречи с ветрорезом и о возвращении в Город. Большую часть этого времени я смутно сознавал то, что говорилось и делалось вокруг меня, но не менее часто впадал в кому или пребывал в мучительном состоянии, когда все звуки кажутся одновременно слишком громкими, монотонными и неразборчивыми. Почти все, о чем я здесь рассказываю, я собрал по кусочкам намного позже. Но открытие, сделанное мной в тот период, до сих пор жжет мою память.
Юрий, увидев, что сделал его сын, пришел в ужас и устыдился. Перейдя через лощину, он положил руку на плечо моей матери, пытавшейся вернуть меня к жизни. Бросив одинединственный взгляд на мою голову, он сказал:
– Мэллори сейчас уйдет, и я ничего не могу сделать, ибо его время пришло. Хочешь, мы похороним твоего сына рядом с Катариной? – спросил он Соли. – Между нами произошло много плохого, и я не хочу больше несчастий.
– Нет, он еще не умер, – сказал Соли. – Мы похороним его сами, когда он уйдет.
Мать и Жюстина уложили меня на вторые нарты и закутали в меха.
– Страшно это – потерять сына, – сказал Юрий.
– Да, это было бы ужасно, – сказал любитель точности Соли. – Мы сожалеем о Лиаме.
– Потерять дочь, даже сатинку, тоже страшно. Я проливаю кровь за вас. – С этими словами Юрий ножом распорол себе щеку до подбородка – и, будучи добрым человеком, не способным долго винить кого-то, добавил: – Теперь вы уедете на Урасалию или на Келькель, и это к лучшему. Но если тебе когда-нибудь захочется навестить могилу дочери, ты будешь желанным гостем.
– А мой внук? – спросил Соли. – Он родился живым? Что с ним?
Юрий зажал рукой порез на лице, останавливая кровь.
– Кто отец этого ребенка, если не Лиам или не кто-то из родичей Лиама? Разве это дитя – не сын сынов Манве? – Он протянул Соли свою окровавленную руку, и в голосе у него появилась странная дрожь. Вряд ли он подозревал, что ребенок был моим. – Разве он и не мой внук тоже? Он кровь от моей крови и будет похоронен близ пещеры своих отцов.
После этого мы спустились к морю, и трое уцелевших построили из снега хижину. Остаток ночи и часть утра я лежал в бреду, а мать хлопотала надо мной, как над горящим от жара ребенком.
– Резчик отвел бы кровь, давящую ему на мозг, – то и дело говорила она Жюстине. Видя, что мне не становится лучше, она совсем отчаялась. – Что же делать? Череп у него проломлен, я уверена. Ох, Жюстина, по-моему, он умирает! Как же снять давление? Просверлить ему дырки в черепе или подождать? Но ждать – это так тяжело.
Соли, жаривший рыбу над горючими камнями, присел на корточки рядом со мной, глядя, как мать бережно оборачивает мне голову волчьим мехом. Я не видел выражения его лица – должно быть, потеря Катарины повлияла на его рассудок, – но помню шипение жира, рыбный запах и его страдальческий голос:
– Да, Катарины нет, а скоро и Мэллори не станет. Мы ничего не сможем сделать – пожалуй, он не переживет эту ночь.
– Главный Пилот слишком легко теряет надежду, – сказала мать, капая воду из бурдюка мне в рот.
– Да разве она есть, надежда?
– Надежда есть всегда.
– Не всегда. – Соли прикрыл глаза рукой. – Дала бы ты лучше сыну умереть спокойно. Сверлить дыры у него в голове было бы безумием.
– Я не позволю моему сыну умереть.
– Ты его все равно не спасешь. Выходит, судьба у него такая – разве можно идти наперекор судьбе?
– Если он умрет, я тоже умру.
– Пилоты гибнут – Мэллори всегда это знал. И знал, что ему не будет везти вечно – удача переменчива.
– Главный Пилот у нас еще и скраер?
– Не говори при мне этого слова.
– Мой сын умирает, а Главный Пилот придирается к словам.
– Было бы лучше, если бы ты вообще со мной не разговаривала. – Соли стукнул себя кулаком по носу так, что пошла кровь – об этом мне несколько лет спустя рассказала Жюстина.
Мать взяла на нартах мешочек с кремнем и стала разбирать камни.
– Я решилась, – сказала она. – Сделаем сверло и выпустим кровь. Поможешь мне, Жюстина?
Жюстина занималась тем, что выбивала лед из мехов и жевала кожаную подкладку, чтобы ее размягчить.
– Конечно, помогу, – отозвалась она, – если ты правда считаешь нужным дырявить его бедную голову – но это очень опасно и вряд ли ему поможет, но я все равно готова, хотя и боюсь за него – а как же мы снимем боль, когда будем сверлить? Ох, Мойра, подумай как следует!
– Бросьте. – Соли явно не одобрял готовность Жюстины помочь сестре, и его лицо от гнева приобрело меловой оттенок. – Подождем, когда он умрет – собакам легче будет. Опустим его в прорубь и его жирного дружка заодно.
– Леопольд, что ты такое говоришь! – ахнула Жюстина, а мать плюнула.
– Главному Пилоту кажется, будто он знает, что говорит, но знает он далеко не все.
– Не надо со мной разговаривать.
– Главного Пилота следовало бы уведомить…
– Пожалуйста, помолчи.
– Мой сын умирает, – низким, охрипшим от ярости голосом бросила мать.
– Ну и пусть его.
Я слышал над собой их голоса: звонкое сопрано Жюстины, принявшей сторону матери, и баритон Соли, звучащий, как надтреснутый колокол. Спор затянулся, и что-то в нем остановило мое внимание – то ли молящие слова матери, то ли какая-то реплика Соли. После краткого молчания мать набрала воздуха и произнесла худшее из всего, что я слышал в жизни:
– Он и твой сын! Мэллори – твой сын.
– Кто, он?!
– Да. Наш сын.
– Он – мой сын?!
– И дать ему умереть – все равно что убить часть себя самого.
– Нет у меня никакого сына!
– Есть. Наш сын.
И мать стала говорить то, чего я не хотел слышать, подтверждая то, что я так упорно отрицал. Когда-то давно, сказала она – я не хотел этого знать; я был на грани смерти, но знал, что не хочу этого знать, хотя какая-то часть меня всегда это знала, по крайней мере после той ночи, когда я впервые увидел Соли в пилотском баре, – когда-то давно, перед отлетом Соли к ядру галактики, она решила, что он больше уже не вернется. Всю свою жизнь она ревновала к Жюстине и завидовала тому, что имела ее красивая сестра – и в первую очередь это относилось к Леопольду Тисандеру Соли. Это не значит, что она любила его. Вряд ли моя мать способна была любить мужчину, как жена любит мужа. Но она знала, что он самый талантливый пилот со времен Тихо – это все признавали, даже она. Она завидовала его таланту и жаждала заполучить его гены, полагая, что источник таланта заложен в них. Ей очень хотелось иметь своего ребенка, такого же одаренного, как маленькая дочка Жюстины – так почему бы не скрестить хромосомы Соли со своими? (Потому что это преступление, мать, подумал я. Возможно, самое тяжкое из всех, доступных воображению.) Похитить плазму Соли оказалось просто: поскольку перчаток он не носил, ей стоило лишь как-то в Хофгартене провести своими острыми ногтями по его руке. Она осторожно извлекла из-под ногтей частицы его кожи и отнесла их продажному расщепителю, который расщепил ДНК на диплоидные хромосомы и создал-некоторое количество гамет. Когда возникло предположение, что Соли уже не вернется из своего путешествия, мать оплодотворила этими гаметами свою яйцеклетку и имплантировала ее себе. В результате этого гнусного спеллинга я был зачат и через двести восемьдесят дней появился на свет. Все это мать рассказала Соли, а я слушал, беспомощно шевеля губами и все еще пытаясь отрицать неопровержимое.
На какое-то время в хижине стало тихо. Я, вероятно, впал в кому или слуховые центры у меня отказали – я пропустил почти все из сказанного Соли и помню только его крик:
– …не мой сын! И в Ресе его похоронят не как моего сына!
– Нет. Он твой сын.
– Лжешь!
– Твой сын. Наш сын.
– Нет.
– Я хотела сына от тебя – что в этом плохого?
– Этот ублюдок не мой сын.
– Сейчас я тебе докажу.
– Не надо.
Но мать на глазах у Соли и Жюстины, вцепившись в его локоть, убрала волчий мех у меня с головы.
– Подойди поближе и посмотри. У него твои волосы, Главный Пилот. – Она осторожно разделила одну из прядей на здоровой стороне. – Густые, черные, с рыжими нитями. Как у всех мужчин рода Соли. Я постоянно выдергивала ему рыжие волоски, потому что не хотела, чтобы ты знал. Но теперь ты должен знать. Подойди же – взгляни на волосы своего сына!
Я вспомнил, как мать удаляла якобы седые волосы, когда искала у меня вшей/в пещере деваки, и моя наследственность перестала быть загадкой. Она дергала рыжие волосы, а не седые. Рыжие волосы, которые у всех Соли почему-то появляются только в период возмужания. У меня они начали расти в экспедиции – возможно, из-за стресса, вызванного голодом и холодом. Выходит, я не бастард – мой случай гораздо хуже. Я – мне и по сей день трудно произносить это слово, даже про себя, – я слельник. Я происхожу от драгоценных хромосом Соли, но зачал меня не он. Мать использовала заложенную в нем информацию, чтобы произвести на свет меня, став таким образом спеллером – и кто упрекнет Соли за его ненависть ко мне?
– Смотри, смотри! – твердила мать, перебирая мои волосы. – Чей же он, как не твой? У кого еще могут быть такие волосы?
– Это просто кровь, – сказал Соли. – У него волосы запачканы кровью.
– Посмотри как следует. Это не кровь, сам видишь. Его отец – ты.
– Нет, – прошептал он.
– Ты должен помочь ему.
– Нет.
– Он умрет, если ты…
– Нет! – вскричал Соли. Он сообразил, должно быть, что если я в самом деле его сын, то Катарина была моей сестрой. – Ты знала. Все это время, еще в Городе, Катарина и Мэллори… и ты знала?!
– О нет! – простонала Жюстина.
– Не вини в этом моего сына – вини Катарину. Она была скраером и знала, что Мэллори – ее брат, но все-таки зачала от него сына.
– Что?! – взревел Соли.
– Ребенок у нее был от Мэллори, а не от Лиама.
– Нет!!
Да, Соли, хотелось сказать мне. Я твой сын, и Катарина была моей сестрой, а ее сын был моим сыном и твоим внуком – цепь ужаса и преступлений тянется все дальше и дальше. Но я не мог говорить и не мог шевелиться – мог только слушать.
– Катарина околдовала его. – Мать распалилась, и ядовитые слова лились из нее потоком. – Она знала, что Мэллори ее брат. Кто, кроме ведьмы-скраера, стал бы спать с родным братом?
– Но почему? Почему?
– Я тоже спросила, почему, но она мне не ответила.
– Ты ее спрашивала?
– Твоя дочь была ведьма, проклятая ведьма.
– И ты ее в этом обвинила? Значит, это ты убила ее? Да, ты.
– Она заслуживала смерти.
Какое-то мгновение Соли стоял неподвижно. Потом на него накатил один из его редких, но ужасных приступов ярости, и он ударил мать, отшвырнув ее от меня. Он хотел убить ее (вернее, казнить, как заявлял позже). Он душил ее, а она разодрала ему лицо ногтями и молотила его коленом между ног.
– Подлая слеллерша! – орал он. – Ты знала!
Я попытался встать, но не смог пошевельнуться, как в страшном сне.
Дело принимало все более жуткий оборот. Жюстина, бросившись на помощь сестре, отцепила пальцы Соли от ее горла. Соли в ярости ударил ее, сам, должно быть, не понимая, что делает. Он бил и бил – он раздробил ребра моей матери, сломал челюсть Жюстине. Мать корчилась на утоптанном снегу, Жюстина со стонами выплевывала выбитые зубы.
– Соли! – прошелестела она окровавленными губами, но он, совсем обезумев, снова набросился на жену. Он сломал ей руку и нос и разбил вдребезги верную любовь, которую она всегда к нему питала. Обезумевший Главный Пилот с лицом, напоминающим ободранную тушу шегшея, смотрел на Жюстину, и ярость медленно покидала его.
– Не надо было лезть – я бы убил ее, подлую слеллершу! – проревел он. И снова набросил мех мне на голову, закрыв волосы и почти все лицо. – Это не мой сын.
Придя в себя, он устыдился того, что сделал, и стал извиняться перед Жюстиной. Он попытался помочь ей, но она сказала:
– Оставь меня. – Из носа у нее текла кровь, и ей было больно говорить, но она все-таки выдавила: – Я уже говорила тебе тридцать лет назад: не смей больше. Мне жаль тебя, жаль нас, но как я теперь могу тебе доверять? Если уж ты на это способен, то способен на что угодно. – Она закрыла лицо руками. – Ох, Леопольд, мне больно, больно, больно!
– Ты по-прежнему моя жена.
– Нет! Нет!
– Мы с тобой были друзьями больше ста лет.
Его самоуверенный тон рассердил Жюстину (что с ней случалось редко), и она сказала:
– Я тоже так думала, но ошибалась.
Соли грохнул кулаком по стенке хижины, проломив ее, и ветер ворвался внутрь. В проломе стали видны нарты с огромным телом Бардо, привязанным к ним. Соли долго хранил молчание по поводу зарождающейся дружбы Жюстины и Бардо, но теперь он совсем свихнулся от ревности и сказал:
– Еще бы – у тебя завелись новые друзья. Ныне покойные.
Мне грустно говорить о том, что было дальше. Ярость у Соли прошла, но безумие усилилось. Он не понимал, как сильно пострадали обе женщины. Он облыжно обвинил Жюстину в супружеской измене и счел ее плач признанием вины. Он заявил, что никогда ей этого не простит. И добавил, что ветрорез должен прибыть через четыре дня, поэтому пора ехать на юг, иначе нас может застигнуть буря. Мать снова завела речь о трепанации моего черепа, а Жюстина даже смотреть на него не хотела; тогда Соли побросал свои шкуры на нарты, запряг собак и сказал:
– Сверлите ему башку сколько влезет и сами добирайтесь до места встречи, если хотите вернуться в Город. Не все ли равно?
Когда он уехал, мать забинтовала Жюстине лицо нерпичьей шкуркой и вложила ее сломанную руку в лубок. Все это время собственные сломанные ребра царапали легкие, причиняя ей страшную боль. В ту же ночь она сделала из кремня сверло и продырявила мне голову, выпустив кровь. Возможно, благодаря этой операции я не умер в пути. Не знаю как – мне и по сей день это представляется чудом, – женщины наутро вынесли меня из хижины и погрузили на нарты. Опять-таки не знаю как, они припрягли нарты с телом Бардо к моим и погнали их по льду. Это было страшное, убийственное путешествие. Я помню, как мать кричала на каждом ухабе, помню ветер и мороз. Я сам кричал, жалуясь на боль в голове, кричал, что Соли мне не отец и еще много разной чепухи.
Поздним вечером того же дня мы приехали на место встречи. Белый волдырь Пелаблинки освещал наш путь. На безбрежной равнине моря стояла одинокая снежная хижина. Соли не вышел наружу и ни словом не перемолвился с женщинами. Мать с Жюстиной построили для нас другую хижину. Я впал в глубокую кому, но мать не позволяла отверстиям у меня в голове зарастать.
– Он будет жить, – твердила она Жюстине, – если только нам удастся доставить его домой вовремя.
Мы ждали ветрорез три дня и три ночи, полных ветра и боли, и он наконец прилетел. Оставшийся путь до Города мы проделали быстро, вернувшись к его сверкающим шпилям и к толпам специалистов, встречавших нас на Крышечных Полях. Они ликовали, пока мать с Жюстиной не вышли из ветрореза и наша трагедия не стала общим достоянием. Но я был слеп к завоеванной нами славе и почти уже не чувствовал боли. Меня отнесли в темное помещение под Полями, предназначенное для омоложения пилотов. Резчики вскрыли мой череп и объявили, что, несмотря на почти ювелирную работу, проделанную матерью, камень Сейва уничтожил часть моего мозга. Вскоре после этого выяснилось, что наши страдания были напрасны, поскольку привезенная нами плазма деваки мало чем отличалась от клеток современного человека. Мастер-расщепитель не обнаружил в их ДНК послания Эльдрии. Секрет жизни остался неразгаданным – возможно, ему предстояло навсегда остаться под покровом тайны. Главный Цефик выразил сожаление по поводу неудачи нашей экспедиции.
– Больше всего мне жаль Мэллори – он потерял слишком большую часть мозга, чтобы мы могли вернуть его к жизни. Жаль, что он заплатил такую цену ни за что ни про что.
Рано или поздно приходит время, когда удача изменяет нам и наши часы волей-неволей перестают тикать. Ни цефики, ни резчики, не геноцензоры не смогли мне помочь. Сохранять живым поврежденный, ущербный мозг для них было бы преступлением, а для меня адом – жизнью без зрения, слуха, любви и надежды. Гораздо лучше принять свою судьбу, когда твое время приходит – и это было бы куда легче, все равно что упасть с темной винтовой лестницы, выше той, что в башне Хранителя Времени, лестницы без света и без конца. И вот там, в маленькой темной каморке, почти что в виду Утренних Башен Ресы, в холодной бесснежный день глубокой зимы, я обратил свой взор внутрь, в еще более густую тьму, и упал. Упал и по сей день продолжаю падать.
В Городе я умер своей первой смертью.
17 АГАТАНГЕ
В смерти многое зависит от состояния разума.
Морис Габриэль-Томас, программист Веков РоенияКто может знать, что такое быть богом? Кто может сказать, которая из генетически подправленных человеческих рас – альфы с Ании, хоши, ныованийские архаты и прочие – достигла божественной власти, а которые представляют собой всего лишь долгожителей, обитающих в причудливых, порой очень красивых телах? Сколько мудрости должна накопить раса, прежде чем приблизиться к божественному уровню? Какими знаниями, какой мощью, какой степенью бессмертия должна она обладать? Кто такие боги-короли из скопления Эриады, построившие кольцевой мир вокруг Примулы Люс, – компьютеры в человеческом образе или нечто высшее? Я не знаю. Я плохо разбираюсь в эсхатологии, в ее бесконечных дебатах и ее скрупулезной классификации. Колония Мор утверждает, что главное – не статус расы, а ее направленность. Куда, например, движутся агатангиты – к божественным высотам или к эволюционному тупику? Для меня, прибывшего на таинственную планету Агатанге в качестве трупа, существовал только один критерий проверки уровня их божественности, а именно: в какой степени владеют они тайной жизни? Знают ли они, плавающие в теплых, вечно голубых водах Агатанге, что есть жизнь и что есть смерть?
Я говорил и повторяю, что Невернес – самый красивый город во всех Цивилизованных Мирах, но Ледопад, красивый на свой замороженный манер, – не самая прекрасная из планет. Самая прекрасная среди них – Агатанге. Из космоса она похожа на голубой с белыми искрами драгоценный камень, плавающий в украшенной бриллиантами чаше черного янтаря. (Я, надо заметить, увидел ее такой только после своего воскрешения. При посадке я не видел ничего, поскольку был мертв.) Звезды, окружающие Агатанге, лучатся светом, и ночное небо над океаном переливается огнями. Море бывает темным только в ненастные ночи, да и то это темнота скорее ртутная и кобальтовая, чем обсидиановая или чернильная. Океан, покрывающий поверхность всей планеты, если не считать небольшого количества мелких островов, – это теплая, тихая купель, изобилующая рыбой и прочей подводной жизнью. В мелких водах кишат миллионные косяки макрели и тунца, в глубине более крупная ранита охотится на других, безымянных рыб. Летучие рыбы, опьяненные, видимо, красотой своего существования, водятся там в таком количестве, что море на многие мили кажется ковром из трепещущего серебра. Именно это буйство жизни, должно быть, побудило первых агатангитов придать своим человеческим телам форму тюленьих, чтобы уйти в безмолвные глубины океана и наполнить его своим богоподобным потомством.
«Если соблюдать точность, то агатангиты не боги, а богочеловеки, – сказала мне позднее Колония Мор. – Они не стремятся к личному бессмертию, не стремятся уйти из тюремных стен материи, как Эльдрия, и не пытаются переделать вселенную по своему вкусу». На Агатанге, сообщила она, люди прибыли с первой волной Роения. Самая распространенная гипотеза о возникновении новой расы, которая по воле случая как раз и является достоверной, такова: давным-давно, в конце третьей интерлюдии Холокоста, группа экологов бежала со Старой Земли на одном из первых космических лайнеров. С собой они взяли замороженные зиготы нарвалов, дельфинов, кашалотов и других вымерших морских млекопитающих. Открыв планету с плодородным океаном и девственным, незагрязненным воздухом, они разморозили привезенные зиготы и стали растить китов и дельфинов, оберегая их от акул и прочих хищников. Молодь выросла под звуки китового языка, заложенные в корабельный компьютер, и экологи выпустили их в голубую купель океана. Празднуя счастье своих питомцев, люди откупоривали бочки столетнего вина и курили водоросли, которые сами открыли и назвали тоалачем. Отпраздновав же, они пришли в себя и опечалились, завидуя китам, чье счастье им не дано было испытать. Мастер-эколог заявил, что Землю привел к гибели человек со своими обезьяньими лапами, без конца загребающими сухопутные куски планеты и прочее имущество. Человек – просто неудачный вид, ошибка природы. Ну а если попробовать исправить эту ошибку? Накурившись тоалача, экологи узрели, какой могла бы стать их жизнь, и снабдили собственное потомство острыми носами, плавниками и раздвоенными хвостами. Свой водный мир они назвали Агатанге, что значит «место, где все движется к абсолютному добру». С тех пор прошло несколько тысячелетий, и даже эсхатологи затрудняются сказать, куда же движутся агатангиты – к абсолютному добру или к вырождению.
Стремясь к абсолютному добру в собственном понимании (а может быть, просто потому, что она дала мне жизнь и любила меня), моя мать решила доставить мое замороженное тело на Агатанге. Ее вдохновляла история Шанидара. Если уж богочеловеки вернули жизнь ему, почему бы им не сделать того же для пилота нашего знаменитого Ордена? Она совершила перелет на лайнере, шедшем за Пурпурное Скопление, и передала мой труп группе (или скорее семье) агатангитов, именовавших себя Реставраторами. После этого ей предложили покинуть планету и ждать в одной из маленьких гостиниц на ее орбите, когда Реставраторы совершат – или не совершат – свое чудо.
Ждать ей пришлось долго – починка моего мозга длилась около двух лет. (Невернесских лет, конечно. На Агатанге существует только одно время года – вечная весна, – и тамошние жители измеряют время степенью своего приобщения к всепланетному разуму. Впрочем, я забегаю вперед.) Большую часть первого года я провел под водой с временными протезами, заменившими некоторые части мозга. Эти примитивные, вживленные в кору биочипы снова привели в движение мое сердце, конечности и легкие, но речь восстановили не до конца, и в памяти у меня зияли многочисленные провалы. Очнувшись среди тысяч гладких черных тел, я поначалу подумал, что оказался по ту сторону дня и доффели всех убитых мною тюленей пришли спросить меня о причине моего безумия.
Еще древние скраеры открыли, что любая цивилизация, созданная богами, кажется человеку непонятной и чудесной. Как же мне описать агатангийские чудеса, если я так до конца и не понял их сказочной технологии? Расскажу лишь о том, что знаю. Их океан полон искусственно созданных организмов, многие из которых на треть роботы, на треть компьютеры, на треть живые существа. Большинство этих аппаратов составляют различные запрограммированные микроорганизмы: мохнатые инфузории, круглые кокки, хвостатые спирохеты. Сюда же относится искусственный фитопланктон, флагеллаты, одноклеточные и колониальные водоросли, идеально симметричные диатомы – эти маленькие драгоценности моря, прядущие волокна кремния или углерода в зависимости от того, для чего они сконструированы. Но в основном агатангиты ограничивают свою деятельность белковыми манипуляциями. Весь океан – это огромная кастрюля, где создаются, растворяются и пересоздаются белки. Технология этого процесса известна давно: ограничительные энзимы, эти белковые машины, издревле использовались для переделки и расщепления бактериальной ДНК. Но полубожественные агатангиты раскрыли столько тайн ДНК, сколько нашим городским расщепителям даже не снилось, и создали совершенно новые ее формы. Клеточная ДНК всех агатангийских искусственных организмов расшифрована и перенесена в РНК. А РНК, руководя естественными молекулярными механизмами клеток – рибосомами, – побуждает их строить новые энизмы, гормоны, мышечную ткань, гемоглобин, нейросхемы для микроскопических бактерий-компьютеров – словом, всевозможные белки во всем их практически бесконечном многообразии.
– Разнообразие жизни неисчерпаемо, – сказала мне как-то Балюсилюсталу. – Ну что знает о жизни человек? Самую малость, ха-ха! На Агатанге даже некоторые бактерии – или лучше назвать их компьютерами? – даже пирамидальные бактерии разумны. Возможности безграничны.
Здешний океан, как и на других планетах, изобиловал рачками, двустворчатыми моллюсками, головоногими, кольчатыми червями, губками и медузами, а также рыбами, стоящими выше в эволюционной цепочке. Но здесь водились еще и причудливые существа, напоминающие давильные или режущие машины, и машины, напоминающие живые существа. Эти формы жизни создали агатангиты – вернее сказать, запроектировали сборочные энзимы на их создание. (Я буду называть эти энзимы сборщиками, поскольку в действительности это машины.) Рибосомы запрограммированных бактерий поставляют сборщиков, предназначенных для определенных задач. В воде сборщики создают крупные молекулы путем сцепления частиц углерода или кремния с атомами золота, меди, натрия и прочих элементов, растворенных в теплом рассоле океана. Липиды, гормоны, хлорофилл, новые виды ДНК – из всего этого сборщики строят полуживотные, полурастительные организмы. Сборщики вяжут атомы углерода слой за слоем – словно морские нимфы, ткущие из алмазных волокон свои сверкающие гнезда. Каждый атом скрепляется с другими прочно, как клеем. Агатангиты способны собирать из атомов любые конструкции, допустимые законами природы. Они присоединяют молекулярные проводники к источникам тока в живых тканях и создают электрические поля. Если бы они захотели, то могли бы построить под водой город или сделать кита размером с космический лайнер; мне думается, они могли бы начинить нервы и мышцы какого-нибудь кита электроникой, превратить его в живой легкий корабль и запустить в космос. Не было ничего, что они не могли бы смастерить, разобрать и снова собрать молекулу за молекулой и нейрон за нейроном, – ничего, включая человека.
Таким образом семейство Балюсилюсталу переделало меня так, что я мог дышать и в воздухе, и в воде. При этом кора моего мозга не подвергалась действию фитопланктона, морских червей и прочего мусора. Ради моего удобства агатангиты построили в море островок и вырастили на нем плодоносящие деревья – всего за несколько дней. Другие операции производились не столь быстро. Изнутри я менялся медленно, день за днем, клетка за клеткой. К концу своего первого года на Агатанге половину времени я проводил в воде, половину на суше. Я бродил по своему островку, гадая, кто я такой и почему я здесь один. Я срывал с деревьев плоды, напоминающие вкусом снежные яблоки, но более питательные. Реставраторы умудрились изобрести единственный вид пищи, который я усваивал лучше, чем рыбу, плавающую в островной лагуне. Но вскоре фрукты мне надоели, и мне захотелось мяса – живого, способного двигаться. У меня чесались руки сделать из древесной ветки острогу, наколоть на нее жирную летучую рыбу, отделить соленое мясо от костей своими отросшими ногтями и с жадностью умять его. Но это мне запрещалось. Балюсилюсталу объявила, что я могу входить в воду, только когда мой мозг открыт – в полубессознательном состоянии.
– Ты не знаешь моря и не понимаешь, что разрешено есть тебе и чему разрешено есть тебя, – сказала она мне однажды, восстановив в моем зрительном центре восприятие лазурного цвета. (Я называю Балюсилюсталу «она», хотя ее нельзя было отнести к какому-то одному полу. Впрочем, в ней, как и в большинстве агатангитов, женское начало сильно преобладало над мужским.) Она лежала в воде у берега моего острова и смеялась так, что весь ее длинный торс колыхался и жир красиво переливался под блестящей кожей. На плавниках у нее имелись когти, которыми она рисовала фигурки зверей на мокром песке. Для агатангитки у нее была очень длинная шея, изгибающаяся со змеиной грацией. Надо сказать, что богочеловеки – богоженщины – вовсе не были одинаковыми. Одни придавали себе внешность морских коров, другие – дельфинов, выдр и даже китов. Их потомство носило тысячу разных форм – наш городской эколог головой бы поручился за то, что эти существа принадлежат к разным видам. Но при всем их различии у агатангитов была одна общая черта: человеческие глаза. У Балюсилюсталу они были большие, карие, умные, светящиеся юмором и иронией. Она не сводила их с меня, общаясь со мной посредством лающих, ворчащих и щелкающих звуков, которые я хорошо понимал. Позднее, когда из моего мозга удалили переводящие биочипы, этот язык для меня превратился в тарабарщину.
Но для Балюсилюсталу моя человеческая речь не вызывала затруднений.
– Мясо есть мясо, – сказал я (тогда я еще не причислял себя к цивилизованным людям и не помнил, что жил в Городе). – Человек должен охотиться, чтобы жить.
– Ты же не акула, дурачок, – ха-ха! Ешь фрукты – вот твоя пища.
Мне казалось, что она смотрит на меня свысока, как новоиспеченный кадет на послушника. Может, она думала, что я целый день буду лазать по деревьями, как обезьяна? Сильнее всего ее превосходство проявлялось при моих попытках понять устройство агатангийского общества.
– Даже если бы твой мозг был здоров, ты не услышал бы, как говорит с тобой море. Ты математик и хочешь бессмертия для себя самого, ха-ха! Что можешь ты знать о мировой душе? Подожди, – тут же добавляла она, – сначала ты должен вспомнить себя, а потом посмотрим, способен ли ты понять несколько простых вещей.
Через некоторое время, полностью восстановив способность управлять своими мускулами, я начал вспоминать. Собственная биография возвращалась ко мне частями, зыбкая, как морская пена, и всасывалась в трещины памяти. Это было странное, тревожное ощущение. Иногда я, как ребенок среди ночи, просыпался в море, не понимая, кто я и как здесь оказался. Я всплывал и качался на темных волнах, глядя на звезды. Мне снились сны. В них я был Мэллори Рингессом, маленьким послушником, изучающим булеву алгебру, был учителем, охотником, кадетом, «пареньком», отцом и сыном, а порой, в моменты просветления и экстаза, я был пилотом и рыбой – рыбой-пилотом – и постигал тайны извечного океана.
Однажды, когда я решил, что вспомнил все события своей жизни, за исключением совершенного мной убийства, собственного смертельного ранения и того, что было между этими двумя моментами – в день, когда над тихим морем курчавились белые облака, – Балюсилюсталу подплыла ко мне, толкнула носом и сказала:
– А теперь мы возьмемся за твой мозг основательно – и когда мы закончим, ты поймешь, что значит иметь мозг.
Она привела меня на глубокое место, где ждала вся остальная стая. Сотня агатангитов окружила меня, тыча холодными носами в мое обнаженное тело и облизывая с ног до головы. Повсюду, внизу и по бокам, работали плавники, и соленая пена наполняла мой рот. Потом Пакупакупаку, Цатцалюца и другие подняли меня на спинах над водой. Вдали виднелся мой островок, золотое с зеленью пятнышко на искрящейся голубизне океана. Реставраторы посвистывали, лаяли и чмокали. Вскоре им ответили такие же звуки, и море вокруг закипело от гладких черных тел. Я насчитал шестьсот тридцать фигур – потом меня уволокли под воду, и я перестал считать. (Позже я узнал, что стая насчитывает около тысячи агатангитов и что в океане обитает около десяти тысяч стай.) Балюсилюсталу – или Муму, или Сиселека – издала ряд высоких пронзительных звуков. Я понял, что она обращается к китам и дельфинам – и вскоре вокруг нас возникли их массивные тела.
– Мы пригласили глубинных богов присутствовать при твоем возрождении, – пояснила Балюсилюсталу. Я подивился умному устройству речевых органов агатангитов, дающему им возможность говорить еще и на языке китов, помимо своего.
Все это время агатангиты трогали друг друга и лаяли: информация передавалась от носа к носу и от горла к уху. Прикосновения становились все более игривыми, интимными и нетерпеливыми. Одни члены Стаи подставляли другим свои раскрытые щели. Подо мной, надо мной и со всех сторон самозабвенно совокуплялось множество пар, и в воде звучали их лай и стоны. Сначала я не понимал, что происходит, и думал, что боги обезумели от секса, но потом часть правды открылась мне – то ли телепатически, то ли через вживленные в мозг биочипы. Когда взрослая особь Стаи созревает для спаривания, сообщил мне божественный голос, она, Первая Мать, вызывает у себя овуляцию, находит партнера и совокупляется с ним. (У всех агатангитов имеются мужские половые члены, огромные, с треугольными красными верхушками – больше, чем у Бардо, но яички отсутствуют, поскольку необходимости в них нет.) Первая Мать вводит свой член в щель второй матери, и яйцеклетка поступает в совершенно особенный орган, называемый бакулой. В бакуле яйцеклетка частично оплодотворяется. Вторая мать обволакивает ее тщательно сконструированными нитями цитоплазмы, подобно тому, как вирус заражает клетку носителя своей ДНК. Затем она посредством своего члена передает яйцо третьему партнеру, который производит аналогичный процесс – и так много, много раз. Наконец, когда яйцеклетка проходит через все бакулы – агатангиты иногда именуют этот имеющий форму пончика орган «фабрикой перемен», – и все матери вносят в нее свою долю наследственности, оплодотворение завершается, и Последняя Мать принимает зиготу в свою матку, где и вынашивает плод. Таким образом, каждая агатангитка является дочерью всей Стаи.
– Но сегодня мы делаем не дочерей, а кое-что другое, – сказала мне Балюсилюсталу, глядя, как Стая под водой обменивается своей плазмой.
Трудно объяснить, что именно они делали. Семя, которое передавалось из бакулы в бакулу, было чем-то вроде бактерии, «нейрофага», поскольку предназначалось для поглощения и замены мертвых, разобщенных нервных клеток. В другом отношении оно больше напоминало информационный вирус, в который каждая мать Стаи вплетала цепочки исправленной ДНК, тоненькие ассоциативные волокна. Извиваясь в экстазе, они переносили этот вирус из одной бакулы в другую. Импульсивная десятая мать вносила свои ассоциации по вдохновению, более рассудительная пятисотая мать отменяла их и вносила свои. Когда вирус был близок к завершению, Балюсилюсталу приняла его в свою бакулу, где произвела окончательную доводку.
– Теперь мы введем это в твой мозг, – сказала она. – Я прошу тебя принять дар моих сестер.
Я, должен признаться, не желал принимать от них никаких даров. Я был еще не вполне собой, но соображал достаточно, чтобы испугаться. Я не знал, как они вскрыли мой мозг – возможно, применили разборочные механизмы, чтобы разделить швы и растворить черепные кости. Мне казалось, что все мое тело вскрыто и теперь анатомируется слой за слоем, клетка за клеткой. Вода покраснела от кровавых нитей. Различные части моего организма плавали в соленом море, медленно разворачиваясь. Из мозга удалили некоторые биочипы. Когда мне ввели вирус, я закричал – не от боли, а от страха, что этот вирус уничтожит меня вместо того, чтобы исцелить. Мой крик донесся по взбаламученной воде до группы тупорылых кашалотов, и я услышал булькающие стоны, напоминающие смех. Балюсилюсталу заговорила, не разжимая рта, и я услышал ее голос внутри себя.
– Глубинные боги хотели бы знать, почему это обезьяны всегда кричат, когда рождаются. Потому что они глупые, объясняю я, ха-ха.
– Я не рождаюсь, я умираю! Вы убиваете меня.
– Мы делаем тебя тем, чем ты мог бы стать.
– Чтобы жить, я должен умереть. Этот вирус убьет меня, я знаю.
– О-хо-хо, до чего же ты прост! То, что мы сконструировали, на самом деле не вирус.
– А что же это?
– Ну, мы ведь боги, ха-ха! Мы создали это семечко в своих телах, чтобы исцелить тебя. Можешь называть его божественным семенем.
– Вирусы – это наиболее примитивная ДНК, заражающая и убивающая клетки высшего порядка – так учили меня экологи, когда я был послушником.
– Глупость какая! Божественное семя будет искать мертвые мозговые клетки – ведь многие части твоего мозга мертвы.
– Горе мне, горе, как сказал бы Бардо.
– Оно по-своему разумно. Оно вводит ассоциативные связи в умершие клетки, ненадолго оживляя их. И берет на себя программирование ДНК.
– Я ухожу на ту сторону – горе мне.
– Слушай, Человек, – это и есть то, чем мы занимаемся на Агатанге. Ассоциативные связи репродуцируются в тысячекратном размере. Размножение – это жизнь, глупый ты Человек. Новые связи самоорганизуются, сплетаются вместе, как морские черви, формируют тысячи цепочек. Когда они разрастаются, нейрон лопается, гибнет, и рождается новое божественное семя, тысячи божественных семян.
– Кадеты гибнут, таково правило. Почему бы вам не оставить меня в покое?
– Когда по твоему мозгу начнут мигрировать миллионы божественных семян, мы удалим оставшиеся биочипы – они так примитивны. Они годятся для того, чтобы ты мог переставлять ноги и болтать своим глупым языком, но для восстановления математической и прочей памяти, для ее развертки они бесполезны.
– Развертки?
– Мозг – все равно что голограмма, где целое свернуто в комок вместе с частным.
– Нет.
– Позволь мне объяснить.
– Нет, нет. Я умираю, и мне страшно.
Я долго еще болтался в воде, колеблемый легким течением. Не знаю как, но меня кормили. Я чувствовал во рту вкус соли и крови, тюленьей кожи и мочи. (Агатангиты столь же мало заботятся о своих экскрементах, как младенец, лежащий в теплой ванночке. Но океан очень велик, поэтому облака темной оранжевой мочи растворяются быстро.) Долгие дни сменялись долгими ночами, ночи – днями, и ритм смены света и тьмы терялся в более глубоком ритме моря. Вокруг все время слышались лай и стоны Стаи, посвистывание дельфинов и ворчание кашалотов, сливающееся с долгим черным рокотом океана – все эти звуки накатывали на мою кожу непрестанными волнами. Я чувствовал их костями, и мне казалось, будто я их глотаю, будто звуки моря питают и поддерживают меня. Темные ритмы пронизывали мою кровь, и в мозгу снова возникал звук. Стая скользила под водой, перенося туда-сюда песнь и субстанцию заново создаваемой жизни – они касались друг друга, и пели, и опорожнялись одна в другую. Мне снова вскрыли мозг и опять ввели, уже глубже, свой вирус, свое божественное семя. Это повторялось еще много раз. Агатангиты пели о человеческой глупости и человеческом уме. Пели о мировой душе, свете и тьме. Вирус делал свое дело, и охватывающий меня океан звуков расширялся. Песнь Стаи становилась все яснее для меня. Я начинал кое-что понимать. Скорбные ноты зазвучали внутри, и я вспомнил, что однажды убил тюленя. Потом раздался еще один пронзительный звук, словно исторгнутый шакухачи, и я вспомнил, что убил человека по имени Лиам, и заново пережил момент собственной смерти. Звук смерти, звук жизни. Волны разбивались о мою голову, чайка била крыльями в воздухе, и я вспомнил вещи, которые лучше было забыть навсегда. Я вспомнил, как учился считать в детстве, вспомнил, что Леопольд Соли мой отец, и на миг припомнил всю свою жизнь. Я вспомнил то, чего никогда не знал. Странные новые воспоминания посещали меня – я понимал, что их вызывает разгуливающий внутри меня вирус. А вокруг звучала песня моря, песня Реставраторов и других стай – песнь жизни.
– Почему вы это делаете?
– Потому что это приятно! А тебя мы восстанавливаем еще и потому, что ты – это ты, Мэллори Рингесс, пилот, который никогда не умрет, ха-ха! Мы даем тебе нашу память, потому что ты должен знать.
– Не хочу я ничего знать!
– О-хо-хо! Слушай, Человек, и мы расскажем тебе все! Слышишь, как волны шепчут тебе твой секрет? Мы знаем, что ты хочешь знать, Человек. Секрет жизни в том, чтобы радоваться жизни, и эта радость разлита повсюду. Радость – это то, для чего мы созданы. Она в ночном прибое, в прибрежных скалах, в соли, в воздухе, в воде, которой мы дышим, и глубоко-глубоко в крови. Она в морском песке, в серебристых косяках рыбы, в густой зелени отмелей и в пурпурных глубинах, в хрупкой раковине, в розовых рифах и даже в иле, устилающем дно, – радость, радость!
– Нет. Жизнь – это боль, я знаю. Я помню одно стихотворение: «Мы рождаемся в материнских муках и гибнем в своих».
– Жизнь не погибнет. Мы даем тебе нашу память, чтобы она не погибла.
– Я помню песню Реставраторов.
– Все наши стаи – Реставраторы. В этом наше предназначение.
– Я не хочу, чтобы меня реставрировали таким образом.
– Это великая песнь, не так ли? Ты слышишь ее?
– Мне страшно.
– Ха-ха!
Песнь Агатанге – великая песнь, но мало кому из людей захотелось бы ее услышать. Впрочем, некоторые ее части, учитывая чисто человеческую наследственность этой таинственной расы, доступны пониманию. Люди и полубоги (и, надо полагать, большинство богов) в равной степени знают о том, что материя и сознание неразделимы. Это старая истина: механики еще много веков назад обнаружили, что невозможно описать поведение элементарных частиц, не учитывая влияния сознания на изучаемые объекты, так же как невозможно объяснить катастрофическую термодинамику и отравление Земли, не учитывая сознательную преступную деятельность миллиардов людей. (Лишь после этого большинство механиков отказалось от абсурдной идеи поиска абсолютной частицы. Трудно поверить в то, что древние «открыли», описали и каталогизировали тридцать тысяч триста восемь элементарных частиц: лептонов, глюонов, фотино, гравитонов, куонов, кварков, спиноров и прочих порождений их уравнений – прежде чем отказаться от этой безнадежной затеи.) Агатангиты же, веруя в единство сознания и материи, довели свою веру до логического конца. Все десять тысяч стай Реставраторов работали над повышением уровня сознания своей планеты, и песнь их повествовала об этом великом пути. Первые экологи не доверяли мизерному индивидуальному сознанию. Разве спасло оно Старую Землю? Нет, и Агатанге тоже не спасет, ибо человек остается человеком, и когда-нибудь – даже если люди превратятся в тюленей и поселятся в море – естественная гармония все равно будет нарушена. Только создав сознание, намного превышающее их собственное – мировую душу, – смогут люди пропеть гимн радости, к чему они в конечном счете и стремились.
Когда мой мозг выздоровел настолько, чтобы воспринимать наиболее древнюю гармонию океана, Балюсилюсталу разрешила мне ловить рыбу в лагуне моего островка. Долгие дневные часы я проводил, вспоминая и орудуя своей острогой. Спал я на берегу, и яркое розовое солнце сожгло мою белую алалойскую кожу. Часто я уплывал из лагуны вдоль по течению, где резвились, черпая планктон, мигрирующие киты. В воде, красной от крошечных рачков, взметались фонтаны горбачей, финвалов и других китов – я понимал все это так, словно прожил в море миллион лет, но все еще боялся хищников вроде акул, а также менее материальных вещей. Иногда я плавал со Стаей, чувствуя себя защищенным, как их детеныш – а когда они вскрывали мой мозг, успокаивающие мысли Балюсилюсталу и других омывали меня:
– Не бойся потерять себя. Есть часть и есть целое, и существуют они одновременно.
– Я человек! Я никогда не буду одним из Стаи.
– Ну что ж, людям – женщинам – Старой Земли почти что удалось создать всепланетное сознание. Десять миллиардов людей подобны нервным клеткам мозга. Соприкасаясь, беседуя, совокупляясь, дерясь и распевая песни, они взаимодействуют, как синапсы мозговых клеток.
– Почему же мы потерпели неудачу?
– А почему человеческий детеныш отрывает крылышки у мух?
– Я не хочу быть частью всепланетного мозга.
– А вот он хочет, чтобы ты побыл частью… целого. Хотя бы какое-то время.
– Нет-нет.
– Вот потому-то наши предки и потерпели неудачу. Зарождающееся сознание Матери-Земли погубила собственная юношеская беззаботность. Строго говоря, оно вообще не родилось – его части так по-настоящему и не стали целым.
– Я думаю, земляне тоже боялись.
– Да просто они были глупые, ха-ха! Разве рыба не воспринимает море только как воду, в которой плавает? Что знает отдельная клетка твоего мозга о математике, музыке или любви? Мы не можем сознавать всех параметров целого, но можем воспринимать некоторые его действия.
– Чем же занимаются десять тысяч ваших стай?
– Они творят чудеса! Разве мы не боги? Мы – мозг Агатанге, и когда мы плачем, то идет дождь, а когда вздыхаем – дует ветер. Кораллы, умирая в нужных местах, строят из своих скелетов океанские рифы. Мы создаем новые виды, когда возникает необходимость, а то и просто для забавы. Есть и другие вещи, высшего порядка – экология, гармония… мы трепещем, говоря тебе о них, мы очень бы хотели тебе рассказать, мы просто должны, но…
– Но что?
– Но ты слишком глуп для этого, ха-ха! Как глупы, впрочем, и все отдельно взятые агатангиты – Балюсилюсталу, Муму и Пакупакупаку. Но у нас по крайней мере есть понятие целого. Оно – это мы, и оно знает о нас.
– А киты?
– Киты для нас то же, что кора для более примитивных частей твоего мозга. Можно сказать, что киты – это душа Агатанге, но это было бы упрощением.
– Какая сложная иерархия, сколько слоев у вашего разума. Я все-таки боюсь потерять себя.
– Глупый ты, глупый человек! Голограмма сохраняется – все сохраняется.
– Я боюсь, и точка.
Я боялся не того, что всепланетное сознание поглотит меня. Как может человек с волосами, пальцами и математическим мышлением раствориться в стае тюленеобразных существ? Даже если им под силу изменить мое тело и мой мозг по своему капризу – а я вынужден был признать, что им это под силу, – для чего им это надо? Какую ценность для божественной расы представляет Мэллори Рингесс, простой пилот архаического Ордена? Нет – я боялся, что мою индивидуальность уничтожит вирус, внедренный ими в меня. Чем дольше я плавал со Стаей и чем успешнее «выздоравливал» мой мозг, тем сильнее я боялся.
Шли дни, и я постоянно убеждался, какую огромную власть имеют агатангиты над материей и сознанием. (А также, чтобы завершить полумистический пятиугольник механиков, над энергией, пространством-временем и информацией.) Я заметил, что там, где плавает Стая, никогда не бывает дождя и сильного ветра, который вызывал бы большие волны. Даже акулы почему-то держались на расстоянии. Эти изящные, обтекаемые убийцы поедали только немногих, очень старых агатангитов, готовых «следовать дальше», как выражались там. Молодняк – детей – акулы не трогали. Я не понимал, как могут Муму и Сиселека подплывать к большой белой акуле и нахально касаться ее плавников своими. Для меня было тайной, зачем они вообще это делают – разве что для того, чтобы показать мне свою любовь ко всему живому и, что еще важнее, любовь всего живого к себе. Только однажды усомнился я в их власти. Только однажды природа доказала, что поддается их контролю не больше, чем солнце – контролю подсолнуха.
В океане откуда ни возьмись появилась стая касаток с рядами конических зубов и мрачным оскалом. В мгновение ока они разорвали на части и сожрали Сиселеку и еще семерых. Крови в воде было столько, что даже акулы обезумели. Началась бойня – акулы, глотая воду, гибли без видимых причин. В суматохе один из китов прорвался в середину Стаи и проглотил, словно устриц, восемь вопящих детей. Наевшись – он не мог не насытиться, – он подцепил хвостом еще одного ребенка и выбросил его из воды над головами матерей прямо в пасть другой касатке. Три раза кит повторял этот трюк, и каждый раз дитя исчезало в животе ухмыляющегося, черного с белым чудища. Потом касатки уплыли столь же внезапно, как появились, и красные воды успокоились.
Стая долго рыдала, вскрикивала, свистела и стонала. Несколько матерей уволокли меня под воду, окружив толщей своих содрогающихся тел. Но касатки пропали, и песня Стаи вновь наполнила море. Возможно, агатангиты вели счет своим потерям или просто успокаивали друг друга. Возможно, они занимались своими «высшими материями». Меня привели в ужас опасности, грозящие мне как изнутри, так и снаружи. Мне хотелось одного: вернуться на свой остров и залезть на дерево, где я буду в безопасности. Поющие голоса между тем становились все спокойнее и гармоничнее: визг и лай превращались в слова, а слова – в мысли.
– Такова цена – даром ничего не дается, ха-ха!
– Но вы же боги! Ты сказала, что когда вы плачете, идет дождь.
– В глубине души мы остаемся людьми и плачем, когда видим кровь.
– Ты сказала, что киты – боги высшего порядка. Я не понимаю – они что, безумны?
– Это все долги, грехи наших отцов. Сознание Агатанге не совсем целостное, не совсем совершенно. Такова цена.
– Расскажи мне про этих касаток.
– Слушай музыку вздымающихся волн.
– Выходит, часть вашего всепланетного мозга безумна?
– Слушай шорох плывущих облаков.
– Скажи мне правду.
– Слушай биение собственного сердца.
– Нет!
– Плата. Изъяны. Вселенная несовершенна.
– И мой мозг тоже болен? Что ваш вирус сделает со мной?
– Но вселенная и совершенна в то же время, и твой мозг тоже совершенен или будет таким. И ты не должен употреблять слово «вирус». Говори «божественное семя». Оно создано для тебя одного. Разум наших стай окружил тебя и создал модель твоего мозга. Наш разум – это компьютер, наподобие акашикских компьютеров твоего Ордена или нейросхем твоего корабля. Только гораздо мощнее и глубже, о да! Разве мы не боги? А твой мозг – это безупречная голограмма. И разве в каждой части голограммы не содержится информации о целом? В наших бакулах, подключенных к компьютеру нашего разума, мы создаем божественное семя, «считывающее» голограмму твоего мозга. Оно разворачивает ее – в это самое время ты разворачиваешься, ха-ха! Божественное семя точно знает, в каком порядке следует заменять твои нервные клетки. И «видит» связи, которые следует создать между живыми нейронами.
– А моя память?
– Память – нелокальное явление. Ее можно создать, но нельзя уничтожить. Твоя память сохраняется целиком в каждой части твоего мозга. Божественное семя сохраняет ее.
– А я сам?
– Но ты же Мэллори Рингесс – так или нет, ха-ха?
– Моя индивидуальность тоже сохранится? Буду ли я по-прежнему собой? И как я об этом узнаю?
– Как звучит восходящее солнце?
– Мне кажется, будто я тону.
– Ты тонешь в море информации, да! Информация заключена везде – в спирали морской раковины и в пении стай; информация путешествует под водой, передаваясь от носителей матерям, от матерей носителям, которые затем заражают выдр и осьминогов, рыб и диатомы. Вот что такое носитель: он информирует нашу ДНК об изменениях других видов. Он информирует нас, а мы информируем весь океан, передавая информацию, передавая все время, от животного к животному и от растения к растению, по всему водному пространству Агатанге. Позволь нам открыть тебя этому морю информации.
– Нет!
– Не бойся. Все восстановится.
– Я боюсь умереть.
– Информация все равно что вода, а ты умираешь от жажды.
Настал момент тишины, который мне трудно вспоминать, но и забыть полностью невозможно. Меня вскрыли, и волны сознания хлынули внутрь. Я, как мне показалось, сделался частью Агатанге, частью живого мозга планеты. Я слышал массу звуков и чувствовал, как планета движется подо мной. Информация шла из меня в море, а каждое животное и растение в нем информировало меня о своем существовании. Мое сознание охватывало каждого моллюска, кита и. морскую звезду – я в этом уверен. Я был омаром и ощупывал клешнями песчаное дно в поисках падали. Я был сине-зеленой водою и плыл по течению, поглощая солнечный свет, был диатомой – стрелочным червем и пильщиком, режущим мягкую ткань медузы. Я был кашалотом, воспевающим радость совокупления, и кашалотихой, счастливо стонущей в миг разрешения от бремени. Я был многим и одним, я обнимал мир своими щупальцами, плавниками и руками. А информация все переходила от планеты к животному, от едомого к едоку, от вируса к бактерии, от матери к дочери. Эта информация была видимой и ясной, как алмаз, но теперь у меня об этом остались только воспоминания, слабые, как звездный свет, рассеянный в глубокой синей воде. Я был сразу и собой, крохотной клеточкой с ничтожным человеческим сознанием, и неким огромным существом, принимающим поток информации, струящийся через вселенную. Я знал. Для меня как для человека это знание было невероятно сложным, но как планета Агатанге, глядящая на звезды, я представлял все окружающее простым и прекрасным. Это понимание, до сих пор не знаю как, изменило меня, и продолжает менять, и, боюсь, никогда уже не перестанет.
Очнулся я лежащим на берегу, зарывшись пятками в мокрый песок у кромки моря. Песок был везде: во рту, в волосах, в ушах и глазах. Я шевельнул запекшимися губами, пытаясь что-то сказать, и песок заскрипел на зубах. Надо мной кричала чайка, и вдоль всей черты прибоя пенились волны. Розовое солнце клонилось к западу, и я не мог сообразить, сколько времени здесь пролежал. Кожа у меня обгорела и стала похожа на кровоплод. Я запустил пальцы в волосы, я хотел найти какие-нибудь швы или шрамы, доказывающие, что мой череп вскрывали, но не нашел ничего, кроме высохших водорослей, которые застряли в моих черных с рыжиной волосах. Тогда я закрыл глаза и заглянул в себя, отыскивая воспоминания, которые могли показаться нереальными. Я испытывал свое математическое мышление, выдвигая новые аксиомы, изобретая красивые теоремы и упражняясь в логике. За этим последовали долгие размышления о проблеме индивидуальности, с которой я впервые столкнулся в Тверди. Как мне узнать, изменилось мое первоначальное «я» или нет? И если оно действительно изменилось в какой-то неуловимой для меня степени, если я в чем-то стал другим или деградировал – имеет ли это значение?
Да, это имело значение. Сидя с зажмуренными глазами, я вспомнил последние слова Катарины, и это вдруг показалось мне важнее всего на свете. Самым большим моим страхом было то, что агатангийский вирус лишит меня собственной воли. Воины-поэты с Кваллара и презренные скутари, как известно, давно практикуют варварское искусство переделки мозга. Эта страшная методика называется у них «слель-мим». Крошечные слель-вирусы – в действительности это компьютеры – проникают в мозг жертвы. Сначала они организуют колонии в критических участках мозговой коры, а затем поочередно овладевают всеми программами жертвы – ее привычками, верованиями, передвижениями, мыслями и прочими функциями. После этого мозг начинает работать по программе своего нового хозяина. Когда вирус завершает свою работу и мозг перестраивается полностью, жертва перестает быть человеком и становится машиной.
«То, что находится внутри тебя, это не носитель информации и не слель-вирус. Мы уже сказали тебе: это божественное семя. Голограмма сохраняется».
Я лежал на берегу, вслушиваясь в свои внутренние ритмы. Признаться, я чувствовал себя таким же, как всегда – быть может, чуть более сложным, сердитым, угрюмым и слишком полным впечатлений, но… собой. Я встал и посмотрел туда, где за чертой прибоя собрались Реставраторы. В крови у меня звучала песнь Агатанге. Я остался тем же гордым, тщеславным, склонным к насилию человеком, каким был всегда, но знал, что во мне появилось нечто большее. Новая истина, новая страсть пылала где-то позади моих глаз – еще немного, и я пойму, в чем ее суть. Я что-то приобрел – что-то помимо песни стай. Я смотрел в океан, слушал шорох отлива и знал, что агатангиты не все сказали мне, не все объяснили.
Я выплыл из лагуны мимо бело-розовых рифов на глубокую воду. Дельфины, посвистывая, мчались впереди, кит-горбач выскочил из воды и плюхнулся обратно с оглушительным всплеском. Балюсилюсталу ткнула меня в живот, когда я заговорил с ней на языке Цивилизованных Миров. Я снова спросил ее о касатках, но она по-прежнему отвечала загадками. Мне давали понять, что эта тема – табу, и говорить об этом нельзя или нежелательно. (Не странно ли, что у всех людей – даже у полубогов – есть вещи, которые не обсуждаются. Деваки, например, почти никогда не рассказывают о своих страшных снах, многие эталоны избегают всяких упоминаний обо всем, что связано с сексом. Даже мы, пилоты, стараемся не говорить о том, о чем лучше не говорить.)
В последний раз они вскрыли мой мозг, но не физически. Они проникли в меня своими мыслями, своей любовью – и своей нуждой.
– Ты восстановлен, и пришло время расстаться.
– Во мне появилось что-то, чего я не могу выразить и даже осмыслить. Расскажите мне о касатках – я знаю, это ключ.
– Ощути свободу волн внутри себя.
– Почему боги не могут дать человеку простого ответа?
– Как был ты глупым, так и остался, ха-ха!
– Вы не все мне сказали.
– Мы открыли тебе секрет жизни.
– Никакого секрета нет.
– О-хо-хо, до чего же ты глуп!
– Почему вы восстановили меня?
– Потому что это было приятно.
– Почему?
– Почему-почему! Потому что ты Мэллори Рингесс, пилот, побывавший в Калинде – и она тоже побывала в тебе.
– Калинда?
– Вы называете ее Твердью, но ее настоящее имя – Калинда. И она знает секрет.
– Секрет жизни?
– Она знает секрет Экстра. Можно сказать, что для нашей галактики это равносильно секрету жизни.
– Не понимаю.
– Стаи поют жизнь Агатанге и ее океана, иногда мы поем даже солнце, но мы не можем помешать звездам Экстра взрываться.
– Этого никто не может.
– Кроме тебя, ха-ха!
– Боюсь, что и я не могу. Я всего лишь глупый человек.
– Ну нет, бери выше!
– Что же я такое?
– Придет время – узнаешь.
– Что узнаю?
– Что-что! Ты Мэллори Рингесс, человек, чей мозг стал огромным, как океан Агатанге. Разве ты не чувствуешь своей огромности? Как море вздымается под дождем и ветром, так и ты будешь вздыматься под бурями своей жизни. Возможностей много, пилот, и они будут раскрываться одна за другой. Однажды, став еще огромнее, ты спросишь Калинду, отчего растет Экстр. Мы бы сами ее спросили, но Калинда ненавидит нас, и существует иерархия. Мелкие боги должны кланяться более крупным.
– Я никогда не вернусь к Тверди.
– Когда-нибудь вернешься, потому что тебе предначертано вернуться и потому что мы просим тебя об этом.
– Почему просите?
– Потому что звезды гибнут, и нам страшно.
Иногда мне кажется, что страх – самое худшее во вселенной. Реставраторы распрощались со мной и уплыли вместе с быстрым течением. Кашалоты, один за другим, набрали воздуха и ушли под воду. Дельфины с улыбками и прощальными свистками последовали за ними. Серые киты, голубые киты, нарвалы – все исчезли с глаз долой. Касаток я в тот день не видел, и их тайна осталась неразрешенной. Океан от горизонта до горизонта стал голубым, пустым и тихим. Вдалеке призывно золотились пески моего островка. Я тряхнул длинными мокрыми волосами, убрав их с глаз, и посмотрел повнимательнее. Это блестел не песок, а корпус материнского челнока. Стая каким-то образом уведомила ее о моем выздоровлении и послала за ней корабль. Она ждала меня, чтобы забрать домой. Я поплыл к острову, слыша, как ревут внутри волны сознания. Никогда еще я не знал такого страха и такого одиночества.
18 ПРАВИЛО ТИХО
Мозг – это не компьютер; мозг – это мозг.
Поговорка акашиковКое-кто говорит, что Невернес и есть настоящий Вечный Город – город, который никогда не умрет. Три тысячи лет стоит он, доказывая, что человек способен выжить где угодно. В гранитных башнях и шпилях, в мерцающих куполах и блистающих улицах, в глазах пилотов и пришельцев горит холодное пламя нашего бессмертия, светится душа человечества. Не знаю, сколько еще простоит Город – тридцать тысяч лет, как пророчествуют скраеры, или тридцать миллионов. Доживут ли до того времени наши планеты? А звезды? Я как дитя Города всегда верил, что его судьба неразрывно связана с судьбой человека. Невернес – топологический узел нашей сверкающей галактики, и он же – Город Света, куда рано или поздно приходит каждый искатель. В нем сокрыты тайны и чудеса. Я считаю Город вечным в том же смысле, что и наши мечты: он будет жить, пока жива раса, создавшая его.
Итак, наш Город вечен и прекрасен, и в нем воплощена самая суть человека. Однако не стоит слишком долго витийствовать на эту тему. Человеческая натура – вещь сложная. «Воистину человек ручей нечистый», – как сказала мне Твердь. Поэтому Невернес, эта квинтэссенция человека, – тоже сложный город. Кроме талантливейших математиков, генетиков и фантастов в нем обитают также аутисты, эталоны и ярконские спеллеры. В нем то и дело возникают новые секты, наводняя ледянки сбитыми (и сбивающими) с толку людьми. Это прекрасный город – никогда не устану это повторять – город истины, но он засорен политикой, интригами и заговорами и часто, как ртуть, подвержен внезапным переменам.
На восемнадцатый день ложной зимы 2933 года я вернулся к улицам и шпилям моего детства. Я сразу заметил некоторые перемены – кое-где выросли новые здания, а в зоопарке появился огромный лиловый надувной купол, где разместилось посольство новой расы пришельцев – крылатых элиди. (Следует упомянуть, что между эсхатологами и другими специалистами не утихали дебаты на предмет того, кто же такие эти миниатюрные существа: настоящие пришельцы или просто один из искусственно выведенных, затерявшихся подвидов человека. Вскоре я убедился, что дебаты в Городе кипят не только на эту тему.) Коллегия Главных Специалистов, эти замшелые старцы, правящие нашим Орденом, наконец-то дали «добро» на постройку башни, увековечивающей профессию фантастов. Теперь она стояла среди прочих шпилей Старого Города, вся из плавных кривых и острых углов, и ее вид вселял тревогу. Ее опаловый фасад отражал попеременно все краски Города. Она обладала теми же свойствами, что и композиции самих фантастов: чем больше ты старался удержать ее образ своим внутренним зрением, тем упорнее он ускользал. А на дальних ледянках закопошилось несколько новых сект. У Катка Ролло в Квартале Пришельцев я встретил нейропевца с вживленными в кору мозга биочипами – он пел самому себе нескончаемую песнь электрического блаженства. Он вызвал во мне беспокойство – возможно, потому, что казался слишком счастливым. Он сгреб меня за рукав камелайки и назвал своим братом по духу – нейропевцы всегда так обращаются с пилотами. Я объяснил ему, что пилотам запрещается постоянно взаимодействовать с корабельным компьютером (как и с любым другим), после чего шуганул его, как сделал бы на моем месте каждый пилот. Старые секты тоже благополучно существовали – например Друзья Бога с Самума и древние магиды, выпевающие историю того, что у них называлось Первой Диаспорой. К ним следует добавить непременных аутистов, хариджан, хибакуся и беженцев со звезд Экстра. Воиныпоэты попадались слишком часто – мне это сразу бросилось в глаза. Один воин-поэт – это уже многовато, а я за один долгий день насчитал на улице Десяти Тысяч Баров, на Поперечной, в кафе и на катках десять человек. С чего вдруг эту опасную публику потянуло в мой Город?
Для меня это было время многочисленных вопросов и скудных ответов. На Агатанге мать рассказала мне о катастрофическом конце нашей экспедиции. О том, что Соли мой отец, я сам помнил, помимо еще более тяжких воспоминаний. Но о том, что произошло в Городе во время нашего двухлетнего отсутствия, ни я, ни она, разумеется, знать не могли. Сразу же по возвращении я запросил у Главного Акашика сводку новостей и наряду с трагическими нашел в ней и добрые вести: Бардо был жив! Криологи разморозили его, починили пробитое сердце и вернули к жизни. Сейчас он был где-то в мультиплексе, отправившись в рейс впервые с тех пор, как Хранитель Времени объявил поиск. Но другим не столь посчастливилось. Всю ночь я раскатывал по Городу на коньках, и беззубое лицо Шанидара улыбалось мне из мрака. Скраеров я избегал, как только мог. Завидев на улице белую одежду или белый мех, я спешил укрыться в ближайшем баре, каким бы диковинным он ни был. Однажды я наткнулся на ложный труп линяющего скутари, и красные кольца его мускулов неприятно напомнили мне то, что я видел у деваки. Все напоминало мне об экспедиции, и я не мог отделаться от мыслей о Катарине. Меня переполняли самые дикие идеи: вернуться к деваки одному, похитить ее тело и отвезти на Агатанге; когда ее исцелят, мы поженимся и покинем Орден, найдем тихую, нетронутую планету и станем родоначальниками новой расы. В более трезвые моменты я отдавал себе отчет в том, что тело Катарины скорее всего уже разложилось или съедено медведями. Ее не существует больше, и даже искусство агатангитов или других богов бессильно вернуть ее к жизни.
Агатингийское божественное семя жгло меня изнутри, воспламеняя мой страх – поэтому я отправился к Главному Акашику и попросил его составить модель моего мозга. Но он ничем не смог мне помочь (равно как цефики, холисты и генетики, к которым я тоже обращался). В своих темных, обшитых деревом апартаментах Николос Старший, пощипывая пухлый подбородок, надвинул мне на голову акашикский шлем и снял карту основных структур моего мозга: мозжечка вместе с миндалинами, периферийной системы, где гнездятся наши страхи, и складчатой теменной доли. Он обследовал мозг от коры до ствола, а затем смоделировал синапсы темпоральных долей.
– Начнем с того, что ты и сам знаешь, Мэллори: вирус заменил все твои мозговые клетки новыми. Это волшебство, которого я не могу объяснить. Взять хоть участок ниже сильвановой щели, где помещается твое чувство времени – если быть точным, оно нигде не помещается, но зарождается там, понимаешь?
– Если бы понимал, что агатангиты со мной сделали, я бы к вам не пришел. Мой мозг, голограмма, мое «я» – сохранилось все это или стало другим? Я должен знать.
– Чудо, настоящее чудо! – Николос пожал плечами и дернул себя за отвисшую ушную мочку. – Ну что ж, голограмма, думается мне, сохранилась. Нет-нет-нет – успокойся и больше не приставай ко мне с вопросами. Будешь приходить сюда каждую десятидневку, чтобы составить новую карту. Нет, лучше каждые пять дней – уж очень ты редкий случай. Магия богов! Жаль, что нельзя снять с тебя голову, поместить ее в питательный раствор и моделировать твой мозг ежесекундно. Ладно, шучу – не смотри на меня так!
Вскоре после возвращения я попытался встретиться с Соли, но высокомерный Главный Пилот, мой дядя и мой отец, не пожелал со мной увидеться. Мне хотелось взять его за руку, чтобы сравнить его длинные пальцы со своими, и заставить его сделать генотипирование. Я говорил себе, что это нужно для подтверждения его отцовства, но в глубине душе мне отчаянно хотелось убедиться, что я не его сын. Почти все утро я прождал в его приемной на верхушке Данладийской башни. В конце концов длинный прыщавый послушник, выйдя из арочной обсидиановой двери, сообщил мне:
– Главный Пилот работает над теоремой. Вы, наверное, слышали – это Гипотеза Континуума. Он поклялся оставаться в затворе, пока не докажет ее.
Меня позабавили грубые, заносчивые манеры этого послушника. Соли всегда подбирал себе именно таких юнцов.
– И сколько же времени Главный Пилот работает над этим?
– Он живет затворником уже около двух лет.
– Стало быть, он меня не примет?
– Он никого не принимает.
– Даже для меня не сделает исключения?
– Да кто вы, собственно, такой? Десятки пилотов и мастер-пилотов, таких же, как вы, пытались увидеться с ним, и среди них были его друзья, но он ни с кем не хочет общаться.
Послушник, очевидно, не знал, что я сын Соли, и меня это порадовало. Соли, без сомнения, постарался сохранить секрет. Нахальство послушника начинало меня раздражать, поэтому я встал и посмотрел на него сверху вниз. Он вспыхнул, и его прыщи стали еще краснее. Возможно, он слышал, что я убил человека, или его смущал мой дикий, первобытный облик – во всяком случае, он вдруг вспомнил о хороших манерах.
– Извините, мастер Мэллори, но Главный Пилот вас определенно не примет. Он стал таким с тех пор, как Жюстина ушла от него, с самой вашей, э-э… экспедиции. Притом вы друг Бардо, а Бардо с Жюстиной, ну, словом… тоже друзья, и все об этом знают. До вас, наверно, тоже дошли эти слухи.
Слухи до меня дошли. Все говорили, что Жюстина ушла от Соли из-за его жестокости и необузданности. Возвращаясь из экспедиции, он в приступе ярости сломал ей челюсть.
В отместку Жюстина, как гласила молва, сблизилась с Бардо и стала его любовницей. Некоторые утверждали даже, что они вместе летают на легком корабле Бардо и плавают вдвоем в его кабине нагими, блаженно соединяя свои столь же нагие умы. Неужели это правда и они добились полного слияния своих индивидуальностей с помощью нейросхем «Благословенной блудницы»? Неужели они пользуются общим усиленным мозгом, доказывают одни теоремы, видят мультиплекс теми же глазами и одинаково мыслят? Для Ордена это скандал, даже при отсутствии доказательств этой запрещенной телепатии. Многие из прежних друзей Жюстины, знаменитые мастер-пилоты, такие как Томот с Торнкалле, Лионел Киллирайд и Пилар Гаприндашвили, выступили против нее, требуя, чтобы Хранитель Времени наказал ее и даже изгнал из Города, а вместе с ней и Бардо. Но были и другие, оставшиеся на ее стороне. Кристобль Смелый объявил, что если Жюстина будет изгнана, он и его друзья последуют за ней. Возможно, они отправятся на Триа, где поступят в торговый флот; возможно, найдут себе новую планету и создадут собственный орден.
Все эти сплетни, конечно же, не замедлили дойти до ушей Хранителя Времени, и наш угрюмый старец столь же незамедлительно напомнил Бардо о его клятве посвятить себя поиску секрета Эльдрии и отправил его в мультиплекс.
– Не волнуйся, твой толстый друг вернется, – сказал мне Хранитель в своей башне. – Как и ты вернулся ко мне. Вы с ним ребята везучие, хотя Бардо правит исключительно его похоть – но разве не все мы таковы? Слыхал ты, какие ходят разговоры? В Городе многое изменилось со времен вашей проклятой экспедиции. Некоторые из моих пилотов – не стану называть их имен – поговаривают о том, чтобы выйти из Ордена. Выйти – подумать только! Да только никуда они не уйдут. – Он вцепился в резную спинку стула, как бы показывая, что добром никого не отпустит. – Когда Бардо вернется, поговори с ним. Объясни, что пилоту неприлично спать с женой Главного Пилота. А сейчас ты расскажешь мне об Агатанге. Сядь! И расскажи, как это вышло, что мой храбрейший пилот вернулся ко мне вместо того, чтобы исчезнуть в черной дыре смерти.
Тринадцать дней спустя Бардо действительно вернулся, и я стал свидетелем самой болезненной из перемен: перемены в человеке, который как и я, вернулся из черной дыры смерти. Я встретился с ним в Хофгартене, и мы пили виски и пиво, как тогда, четыре года назад, в баре для мастер-пилотов. Это был трудный день, полный сердитых слов и неверно понятого молчания. Он послужил началом великой перемены во мне самом, и поэтому я должен рассказать обо всех его необычайных событиях более подробно.
Странно, что я до сих пор лишь мельком упоминал о Хофгартене – а между тем в определенном смысле это самое главное здание нашего Города. Хофгартен, огромное помещение под куполом, где помещается множество кафе и баров, стоит на утесах над морем. Кафе располагаются по окружности большого катка в середине, поддерживая великолепный клариевый купол – самый большой в Цивилизованных Мирах, как утверждают у нас. Каждое кафе или бар имеет два больших окна: выпуклое, выходящее на каток с его суетливым движением, и вогнутое, из которого открывается вид на Старый Город, Квартал Пришельцев или – в зависимости от сектора, где расположено заведение – на ледяные воды Зунда. В этих кафе всегда полно пришельцев и инопланетян, беседующих в неформальной обстановке с членами нашего Ордена, а порой даже выписывающих неуклюжие вензели на катке. Хайкисты и спелисты предаются здесь своим утонченным игрищам, эталоны пытаются убедить эсхатологов в логичности своей генетической политики, а воины-поэты, демократы и торговые короли интригуют и строят козни. Бардо, нахохлившегося над кружкой пива, я обнаружил в кафе на самом краю утеса.
– Аларк Мандара сказал мне, что ты тут, – пояснил я.
– Мэллори! Я так и знал, что тебя нельзя убить надолго! – Он вскочил, отшвырнув с дороги червячника, и заключил меня в объятия. – Паренек, паренек, – со слезами на глазах повторял он, молотя меня по спине. – Мы живы! Ей-богу, живы!
Он подтащил чугунный столик поближе к внешнему окну, чтобы обеспечить нам максимум уединения. Мы сели на твердые чугунные стулья. Я смотрел на него, постукивая носком сапога по черным и золотым треугольникам паркета.
– Бог мой, чего ты так выпялился?
Бардо, мой большой и сильный, как гора, друг, очень изменился. Он уже не походил на алалоя – он побывал у резчика, который вернул ему – почти вернул – прежний облик. Он сбрил свою густую черную бороду, и стало видно, как обвисла кожа у него на лице. Без бороды он выглядел моложе, но при этом был зол, бледен и тощ, как белый медведь в конце глубокой зимы – не в меру тощ.
– Как видишь, не зря говорят, что дела у Бардо плохи – так оно и есть. Ничего – буду пить пиво, лопать мясо и опять приду в норму. – С этими словами он осушил кружку и заказал себе большую порцию мяса, сорго и хлеба с маслом. Уплетая все это за обе щеки, он нервно посматривал на меня, словно хотел что-то утаить.
– Я скучал по тебе, – сказал я.
В кафе было людно и шумно, в воздухе висел тоалачный и табачный дым. У нас на столе громоздились грязные тарелки и кружки с остатками пива – видимо, Бардо заседал здесь целый день, не переставая есть и пить.
– Два года тебя не было, – сказал он. – Два самых тяжелых года моей жизни. Я думал, ты насовсем умер. Чего я только не выстрадал из-за тебя и твоего проклятого поиска!
Послушник, которому выпала честь нас обслуживать, нервный парень с большими, слишком выразительными карими глазами, принес мне кофе и налил в большую синюю кружку. Я пригубил напиток – это был летнемирский кофе, густой, ароматный и восхитительный – и попросил Бардо рассказать мне обо всем, что с ним произошло. Он вытер свои красные губы, печально посмотрел на меня и поведал о самом большом своем страхе.
– Как пилот я человек конченый, – заявил он, постучав себя по голове. – Я уже сорвал лучший плод этого перезрелого мозга – сорвал, съел и семечки выплюнул. Мои открытия, мои озарения, моменты гениальности – все это никогда уже не вернется. Страшно это, дружище, – знать, что все лучшее уже позади и что остаток нашей жизни ведет к упадку и разрушению. – Он заказал еще пива и вперил в меня сердитый взгляд. – Я уже не тот, понимаешь? После твоей проклятой экспедиции – известно ли тебе, что ее прозвали Дурачеством Мэллори? – когда мы вернулись в Город, когда криологи разморозили меня, а резчики починили мне сердце… короче, они опоздали! Мозги у меня теперь ни к черту. Слишком много клеток погибло. Я уже не тот пилот, как бывало. Все в прошлом, паренек. Теоремы, тонкие ассоциации, красота мысли – все в прошлом. Я попытался сразиться с мультиплексом, но не смог. Я слишком туп.
Я заказал виски – Бардо выбрал одно из немногих кафе в Хофгартене, где подавали виски – и быстро выпил его, а потом еще порцию и еще. Мне вдруг расхотелось слушать его рассказ, густо приправленный жалостью к себе, и я пил, чтобы притупить собственные мозговые клетки, но виски мне в этом не очень-то помогало. Возможно, я выпил слишком много кофе.
– Твои мозги в полном порядке, – сказал я. – Со временем все вернется. И математика – ведь ты прирожденный пилот.
– Правда?
– Соли как-то сказал, что ты мог бы стать лучшим из лучших.
– Правда сказал? Значит, он ошибся. Мой талант умер вместе с мозговыми клетками и… и другими вещами.
– Какими вещами?
– Такими. – Бардо вперил взор в столешницу, украшенную узором из цветов.
– Скажи толком.
– Не могу.
– Скажи.
– Ты будешь смеяться.
– Не буду, честное слово.
– Нет, не могу.
– Скажи.
– Это слишком щекотливый вопрос, паренек, слишком щекотливый.
– Раньше ты от меня ничего не скрывал.
– Не знаю, как тебе и сказать.
– Просто скажи, и все.
– Не могу.
– Твой язык сам все скажет, только не мешай ему.
– Нет.
Я опустил глаза под стол. Шерстяные штаны Бардо висели на животе свободными складками.
– Отрава Мехтара больше не действует? Да говори же!
– Ты догадался, да? Что ж тут говорить… Когда меня разморозили, я пошел к другому резчику, который вернул мне прежнего меня во всем своем великолепии. И убрал из меня отраву Мехтара – да только перестарался, клянусь Богом! Я больше не страдаю от ночных вставаний моего копья – я вообще не страдаю от его вставаний. Ни днем. Ни ночью. Все в прошлом: могучее копье Бардо поникло, как чахлый стебелек. Ох, горе, горе!
Меня разбирал смех, но я сдержался и даже не улыбнулся.
– Порой лечение бывает хуже болезни.
– Не говори штампами.
– Извини. Мне очень жаль.
– Еще бы. Я хотел найти Мехтара, но он закрыл свою лавочку и смылся из Города. – Бардо хлебнул пива и продолжал: – Я так расстроился, потеряв мою… мою силу, что позволил новому резчику искоренить все волосяные фолликулы у себя на лице. Он сказал, что бороды больше никто не носит, ну я и дал ему оголить себя. Сижу теперь тут, точно безусый юнец. Это смешно, я знаю. Мне стыдно своего лица, и я, сам видишь, сижу тут целыми днями и накачиваюсь пивом.
Как бы желая подчеркнуть весь драматизм сказанного, он допил остатки пива и погладил свою голую верхнюю губу. Я видел его без растительности на лице впервые после лет послушничества и вынужден был отметить наиболее неприятную его черту: у Бардо, моего славного безобразного друга, не было подбородка. Хуже того – наклонность к лени и трусости отпечаталась у него на лице, как следы времени на камне. Без бороды он казался сразу юным и жестоким, святошей и полоумным. И несчастным – слишком несчастным для собственного блага или блага Ордена.
Я погладил собственную бороду, покрывающую массивную челюсть, и решил подождать немного, прежде чем возвращать своему телу прежнюю форму. По правде говоря, я не прочь был остаться алалоем.
Мы продолжали пить, обсуждая наши замечательные кадетские годы в Ресе и другие вещи, не столь замечательные. Я слушал его глубокий бас, перекрывающий стук ножей и тарелок и гул других голосов. Через внутреннее окно был виден каток, где скользили, беседуя, кадеты в камелайках, мастер-пилоты, академики и специалисты. Бардо указал мне на Колонию Мор – она попыталась сделать пируэт и хлопнулась на свою толстую задницу.
– Слыхал ты, о чем у нас говорят? Конечно, слыхал, я уверен. Жюстина сделала ошибку, доверившись Колонии, и теперь весь Орден про нас знает. – Бардо выпил еще пива и буркнул: – То есть это они думают, что знают.
– Так это правда? Про вас с Жюстиной? С моей теткой? Да разве это мыслимо? По личному времени она на сто лет старше тебя.
– Время! Что такое время? Прости меня за высокий штиль, но по прошествии определенного срока, когда женщина созревает окончательно… ее душа распускается, как огнецвет, и никакое время не в силах погасить огонь или сделать блеклыми краски. Душа Жюстины – именно такой чудный цветок, прекрасный, как нежный закат, и не имеющий возраста, как солнце. Я люблю ее душу, паренек. Ее душу.
– Любишь? Когда-то ты говорил мне, что мужчина не должен слишком сильно любить одну-единственную женщину.
– Правда говорил? Я был глуп, только и всего. Да, это так – я люблю ее. Бардо втрескался, и как еще втрескался! Я люблю ее верно, люблю без памяти, люблю страстно и любил бы как самец, если б мог.
– Но ведь она – жена Соли.
– Больше уже не жена. Когда Соли ее бросил, он все равно что развелся с ней – если не по закону, то по духу.
Дым в кафе так сгустился, что ел глаза.
– Однако у нас в Городе живут по законам. Законам Ордена.
Бардо лизнул голую верхнюю губу.
– Уж не Хранитель ли Времени говорит твоим голосом? Или мой друг сам решил заняться моим правовым воспитанием?
– Я говорю своим голосом и от своего имени, как друг с другом. Мы с тобой пилоты, Бардо, так или нет? И мы давали присягу.
– Ты все-таки воспитываешь меня, клянусь Богом! Уж кто-кто, а ты должен был понять, что иногда возникает потребность нарушить закон.
– Почему это? Разве я не такой же, как все остальные?
– Ты всегда был не такой, с самого своего преступного зачатия – ведь родился ты вне закона, верно? Когда твоя мать украла…
– Не имеет значения, как я родился – я не хочу больше говорить об этом.
– Извини, паренек, я просто хотел показать тебе, что всякий закон относителен. И разве не ты добился у Хранителя разрешения заняться спеллингом у бедных деваки?
Я проглотил свое виски, а следом еще две порции. Но я был пьян от гнева, и алкоголь на меня не действовал.
– Есть законы Города, но есть и высший закон – хотел бы я знать, в чем он заключается.
– Однако ты воровал у деваки их живые клетки – ей-богу, воровал!
Я поставил стакан, закрыл ладонями глаза и сказал охрипшим голосом:
– Когда-то я думал, что ясно вижу, в чем она, эта высшая необходимость, но видел только свои нужды и свою страсть к тому, что я принимал за истину. Я горько заблуждался, считая себя частью высшего закона, высшего порядка вещей. Я чувствовал это, Бардо, я в этом не сомневался. Но мои чувства обманули меня. Я такой же человек, как ты, как все остальные. Я ставил себя выше человеческих законов, и вот результат: Катарина мертва, а Лиама я убил своими руками.
– Есть еще закон выживания, который выше всех остальных.
Я вспомнил об Агатанге и других вещах и сказал:
– Нет, не выше.
– Что же может быть выше?
– Не знаю.
Позже, когда мы поужинали, в кафе вошла Жюстина и направилась прямо к нам. Бардо встал и взял ее за руку. В нем чувствовалось некоторое раздражение, но и радость тоже.
– Мы же договорились не показываться вместе на людях. – Но Жюстина, видимо, что-то передала ему взглядом – он кивнул и спросил: – А что случилось?
– Разве ты не слышал? – Жюстина слегка задыхалась, как будто долго и быстро бежала на коньках. – Мэллори! Как я счастлива тебя видеть!
Мы обнялись. Жюстина тоже изменилась со времен нашего возвращения из экспедиции. Алалойское тело, алалойский нос, нависший лоб, массивные челюсти – все исчезло. Она вернула себе прежний облик, став той же высокой, красивой тетей Жюстиной с пухлым ртом и длинными черными волосами, которую я знал всегда. Она немного утратила прежнюю гибкость, грудь у нее стала полнее, бедра раздались и округлились – но Бардо, наверное, это было только приятно.
– Столько времени прошло! – Она легонько потрогала мою голову, как будто не веря, что я вылечился, отвела меня в сторону и тихо произнесла: – Это настоящее чудо. Бедная Катарина! Если бы мы только… но нет, не надо было мне этого говорить. Я знаю, это больно вспоминать, и стараюсь воздерживаться, но иногда не могу не вспоминать, особенно в таких вот местах, где друзья Соли – и мои тоже, напоминаю я себе – смотрят на нас с Бардо, как будто мы спеллеры какие-нибудь – ты уж извини, Мэллори, но я хочу, чтобы ты знал правду: что бы тебе о нас ни говорили, мы с Бардо друзья, просто друзья; я всегда хотела, чтобы мы с Соли были такими же друзьями, но это невозможно – ты же знаешь его. Кому, как не тебе, его знать, особенно теперь… ладно, не будем об этом, но Соли слишком холодный человек, чертовски холодный – горе, а не человек.
Должен сказать, мне не понравились бранные слова в устах Жюстины – ведь она почти никогда их не употребляла, а еще больше не понравилось, что она перенимала кое-какие обороты у Бардо.
– Что за новость ты хотела сообщить? – спросил я.
Она уселась за стол рядом с Бардо и, не спрашивая разрешения, отпила пива из его кружки.
– Так вы правда не слышали? Взорвалась Меррипен. Это сверхновая второго типа, если верить вашему другу Ли Тошу, который обнаружил ее по пути домой, но на таком расстоянии даже второй тип…
Она посмотрела на Бардо. Тот наморщил брови – он явно никогда не слышал об этой звезде. Мне это название тоже ни о чем не говорило.
– Насколько это далеко? – спросил Бардо.
– Меррипен? Ну да, мне надо было сразу сказать – это одна из звезд Абелианской группы.
Мы с Бардо переглянулись, и я покачал головой. Абелианская звездная группа находится недалеко от Города – расстояние между ближайшей из ста ее звезд и Ледопадом составляет около тридцати световых лет.
– Давно ли она взорвалась? – продолжал расспрашивать Бардо. – И как далеко от нас волновой фронт?
– В двадцати пяти световых годах, по оценке Ли Тоша. В этот самый момент фотоны и гамма-лучи погибшей звезды струятся сквозь пространство, расширяя сферу своего захвата. За шесть секунд они пройдут больше миллиона миль, а через восемьсот миллионов секунд волновой фронт достигнет Ледопада и начнет поливать Город жесткой радиацией.
– Ну вот и конец всему, – сказал Бардо. – Горе, горе. Он отхлебнул пива как ни в чем не бывало, но я видел, что эта новость ошарашила его так же, как и меня. Мы ждали чего-то подобного всю свою жизнь, но когда это произошло, оказались не готовы.
– Какова интенсивность излучения? – спросил я. – Насколько это страшно?
Бардо взглянул на Жюстину и ответил за нее:
– Достаточно страшно. Очень страшно – может быть, даже смертельно. Сверхновая может растопить лед наших морей, сжечь растительность, вызвать слепоту у птиц и зверей. Короче, сделать стерильной всю поверхность Ледопада.
Жюстина отпила еще глоток из кружки Бардо и кивнула, подтверждая его слова.
– Уже начались разговоры о том, чтобы покинуть планету.
Мы еще долго обсуждали судьбу нашего города, нашей звезды и нашей галактики. Затем Бардо (и Жюстине) надоела эта дискуссия. Большинство человеческих особей способны беспокоиться только о самом ближайшем будущем, а Бардо был человек до мозга костей. Принимая во внимание его врожденный пессимизм, он вполне довольствовался перспективой очередной кормежки.
– Э-э, – сказал он (за этот миг убийственный свет звезды подошел к нам еще на полмиллиона миль), – зачем нам волноваться на этот счет, если за двадцать пять лет может случиться что угодно: еще одна сверхновая, поближе, или землетрясение – да мало ли что. К чему трепать языком по поводу того, чего мы, возможно, даже не увидим? – Он вытер пот со лба. – Где этот проклятый послушник? Я хочу еще пива.
Меня тревожило подозрительное сходство между речами Бардо и Жюстины. Тревожило даже больше, чем сверхновая, поскольку было более насущной проблемой. Они, как мне казалось, улавливали мое беспокойство, но не придавали ему значения и тем усугубляли его. Я не был цефиком, но они, похоже, вот-вот могли начать копировать программы друг друга и даже жить по ним. Такая опасность грозит всем, кто делит кабину легкого корабля – так, во всяком случае, утверждают цефики и программисты. Ни одна пара пилотов, насколько я знал, еще не входила одновременно в одно ментальное пространство. Когда я намекнул на эту опасность и на свое беспокойство, Жюстсна расправила платье, чопорно выпрямилась и заявила:
– Ты не понимаешь.
– И не можешь понять, – подхватил Бардо.
– Ты ведь не цефик.
– Ясное дело, он не цефик.
– Он пилот.
– Возможно, лучший из всех когда-либо существовавших.
– И уж точно самый удачливый.
– Но этот пилот никогда не знал, что такое летать вместе… вместе с другом.
– К несчастью.
– Это неправильно, что пилотам запрещают путешествовать вместе.
– Глупое и устаревшее правило.
– С ходом времени правила следует менять.
– Люди не должны ломать себя, подстраиваясь под правила.
– Я бы и Хранителю Времени сказал то же самое, если бы он согласился принять меня.
– Но и он бы не понял.
– Нет, не понял бы.
– Хуже того, не захотел бы понять.
Они продолжали в том же духе довольно долго. Такие разные внешне, они все-таки были очень похожи. Незнакомый человек мог бы принять их за брата и сестру, содержащих в себе набор тех же хромосом. Когда он улыбался, она тоже улыбалась, и улыбки у них были одинаковые. Они одинаково смеялись над чем-то непонятным мне, улавливая, видимо, нечто смешное в мимике друг друга. Так у них и шло, слово за словом, мысль за мыслью, улыбка за улыбкой: один начинал излагать какую-то идею или программу, другой ее завершал. Бывало также, что программа прерывалась на середине и начинала проигрываться между ними обоими, так что невозможно было понять, кто какого мнения придерживается. Они перебрасывались пустыми словами, точно два яркоперых трийских попугая.
– Как можем мы объяснить Мэллори, что это значит – совместно пользоваться одним усиленным мозгом?
– Когда мы вместе, мы добавляем нечто новое…
– Да – к своим «я».
– Даже когда мы вне нашего корабля.
– А когда мы в нем, это совсем другое, это…
– Это не только прибавка к нашим «я».
– Это сотворение общего «я».
– Один плюс один равняется…
– Бесконечности.
– Или алеф-два по меньшей мере.
– Хранитель Времени оценит бы такой математический фокус, ей-богу!
– Наши отдельные «я» тоже бесконечны, как говорят цефики, но в одиночестве мы, так сказать, являемся пленниками меньшей бесконечности.
– Быть вместе в легком корабле… скажи Мэллори, что это такое!
– Это чудо.
– Но и страх тоже – ох, какой страх!
– Ты все равно проходишь сквозь гобелен, сотканньэй из девяти миллиардов нитей, и прикосновение каждой нити это… экстаз.
– Этого нельзя описать.
– Это ужасает на самом-то деле.
– Я не могу рассказать ему, как это бывает.
– Я тоже.
– Это самое лучшее, лучше ничего нет.
– Но за это приходится платить.
– Как и за все остальное.
– Расплата неминуема.
– Без этого нельзя.
Я чувствовал, что платой за это будет скорая смерть тех Бардо и Жюстины, которых я любил, если их совместные путешествия будут, продолжаться. Новый их гибрид «Бардожюстина» меня никак не устраивал. Наиболее глубинные, сокровенные программы еще действовали, но на них уже накладывались новые, покрывая старые индивидуальности, как позолота – трийский кубок. Их трагедия – я, впрочем, надеялся, что до трагедий все же не дойдет – заключалась в том, что новое блестящее покрытие нравилось им больше, чем стальная основа прежних «я». На самом деле они были влюблены не друг в друга, а в мысль о своей влюбленности. Я опасался, что скоро их глубинные программы отомрут окончательно и почвы для любви просто не останется. Имеют ли они право губить друг друга таким образом? Имеют ли они право, невзирая на свою присягу и законы нашего Ордена, создавать нечто новое за пределами своих «я»?
Мне очень хотелось обсудить это с ними – у меня на то имелись свои причины, – но тут Жюстина извинилась и отошла поговорить с Коленией Мор. После ее ухода я перегнулся к Бардо через стол и спросил:
– Что с тобой такое?
Бардо вытер пот с выпуклого лба.
– Что ты имеешь в виду?
– Когда Жюстина рассказала нам о сверхновой, мне показалось, что ты испытал облегчение.
– Какое там облегчение! Я так сдрейфил, что чуть все пиво назад не отлил.
– Это правда?
Он оглянулся через плечо на трех механиков за соседним столиком – они не обращали на нас внимания.
– Ну ладно… я и правда испугался, но в каком-то смысле эта сверхновая взорвалась как раз вовремя, ты не находишь? Это послужит оправданием для бегства, если возникнет такая необходимость.
– Ты хочешь оставить Орден?
– Я не один такой. Очень многих пилотов не устраивает Хранитель Времени и прочие старые хрычи, заправляющие Орденом. – Бардо махнул послушнику, указав на свою пустую кружку. – И не устраивает то, что нам не дают свободы.
Я выпил виски и спросил:
– Свободы летать на одном корабле с женой Соли?
– Не говори о том, чего не понимаешь. Я люблю ее, паренек, ей-богу люблю!
– Тогда она должна обратиться к Соли с просьбой о разводе. И…
– Он не даст ей развода – для этого он чересчур горд, в точности как его сынок.
– Не называй меня его сыном. Никогда больше – слышишь, Бардо!
Мне не хотелось смотреть на него, поэтому я оперся локтем на холодный подоконник внешнего окна и стал смотреть, как чайки с криками клюют выброшенных на берег моллюсков. За Зундом ледник, вклинившийся между Вааскелем и Аттакелем, таял под теплым солнцем ложной зимы. Как раз в тот момент целая ледяная гора сползла с него и плюхнулась в море. Грохот, отразившийся от южного склона Вааскеля, был так силен, что окно у меня под рукой дрогнуло.
– Ты тоже изменился, дружище, – произнес Бардо. – Как и я.
– Когда-то, в кадетские годы, горологи и цефики предупреждали нас, что дружба между пилотами может быть почти столь же трудна, как и брак. Из-за зловременья, изза долгих разлук, из-за перемен.
– Это правда. Но ты говорил мне, что ни зловременье, ни все остальное никогда не встанет между нами. Ты давал мне слово, паренек.
– Да, помню.
Я помолчал, размышляя об изначальной хрупкости дружбы. Что такое дружба, как не двойное зеркало, которое мы держим между собой, видя в нем то, что нам приятно видеть? Когда же зеркало со временем начинает трескаться и изображение портится, дружбе приходит конец. Вот я сижу, точно холодное бесстрастное зеркало, перед моим страдающим другом – и он, должно быть, видит себя мрачным, растерянным и потерявшим веру. А я в его больших глазах вижу отражение дикаря, который мне совсем не симпатичен.
Не стану пересказывать все, о чем мы говорили той ночью. Ночь была долгая, хотя солнце зашло только после полуночи и через несколько часов взошло снова. Мы сидели за нашим столиком и пили, пока кафе не опустело. Мы делали вымученные попытки шутить и припоминали смешные истории из прошлого; мы переговорили обо всем, о чем только могут говорить двое друзей. И все это время Бардо сидел мрачный, являя собой невысказанный упрек. Наконец, уже под утро, когда пить стало невмоготу, он встал и обвинил меня в том, что я убил его веру в миссию пилота.
– Это твоя вина, – заявил он и грохнул кулаком по столу так, что чугунная столешница загудела и прогнулась, точно барабанная кожа. – Это из-за тебя я стал конченым человеком.
– Из-за меня?
– Да, из-за тебя! Из-за твоего проклятого поиска! Тебе приспичило узнать секрет жизни, вот в чем вся беда. И мне тоже. Твоя мечта, моя мечта – ты заразил меня своим проклятым энтузиазмом. Эх-х… Мы были душой этого поиска, ей-богу! Но мы же его и убили, верно? Все в прошлом. Ты убил мечту и меня тоже. Бардо теперь совсем не тот человек. Горе, горе!
Он был сильно пьян, зато я – трезв, как цефик. Возможно, божественное семя у меня в голове выработало во мне иммунитет к алкоголю. Я хотел уйти, но Бардо сгреб меня за руку.
– Давай сделаем круг по катку.
– Ты пьян.
– Не настолько.
Мы вышли из кафе, прицепили коньки и выехали в центр большого Хофгартенского круга. В нескольких ярдах от нас группа только что вставших с постели кадетов упражнялась, выписывая восьмерки. Я хотел поддержать Бардо, который вихлялся на коньках, держась за налитое пивом брюхо, но он рявкнул:
– Пусти!
– Слушай, Бардо, ты по-прежнему пилот, по-прежнему мой друг, и…
– Друг, говоришь!
– Слушай меня! Поиск не окончен – он будет продолжаться, пока мы живы, и…
– Ты мечтатель, вот ты кто – ох, горе.
– Допустим, а вот ты боишься…
– Я боюсь? – взревел он. – Я не видел тебя два года, я думал, что ты умер, а ты всю ночь мелешь о чем попало, кроме самого главного. Я чересчур хорошо тебя знаю, паренек. Ты любишь представляться твердым, как алмаз, но в душе дрейфишь так, что того и гляди штаны намочишь. Попробуй скажи, что это не так! Ты намеренно, намеренно уклоняешься от разговора об Агатанге. Думаешь, я не знаю, что они там с тобой сделали? Отлично знаю. Я нагляделся ночью, как ты сидишь и все время смотришь в себя сквозь свои проклятые голубые гляделки, в точности как твой папаша. Посмотри на меня! Чего ты боишься? Я скажу тебе, чего: ты боишься потерять себя, так или нет? Я знаю тебя лучше, чем ты полагаешь. Ты боишься, что перестанешь быть человеком. Ну а кто не боится – скажи, кто? Человеческое естество уходит от каждого, оно гниет клетка за клеткой, кусок за куском, пока совсем не перестанет существовать. Ну, добавили они какие-то детали в твой мозг – что из этого? Жаль, что твои проклятые боги и мне заодно не вставили новые мозги. Мозг – он и есть мозг! Какая разница, из чего он сделан – из кремния, из поганых нейронов или из шегшеевого сыра? Ведь он твой, клянусь Богом! Когда у нас к старости глаза становятся мутными, разве важно, что резчик выращивает нам новые или вставляет искусственные, выдерживающие ультрафиолет и открывающие нам новые краски? Главное, что мы продолжаем видеть, так ведь? Мы видим, что хотим – а ты своим мозгом думаешь, что хочешь. Твои чертовы бредовые идеи приходят к тебе потому, что всегда приходили. Что в тебе было, то и осталось. Сказать тебе, чего я боюсь по-настоящему? Тебя, потому что ты бешеный!
Он меня действительно взбесил, и я долбанул лед носком своего конька.
– Не меня ты боишься, а себя, – сказал я и стиснул зубы, понимая, что те же слова можно отнести и ко мне.
– Ну что ты за человек? Ради тебя я подставил свою грудь под копье, клянусь Богом – потому, что я знал твой секрет, знал, как ты боишься умереть, до мокрых штанов боишься! – Он заморгал, глядя на меня. – И еще потому, что…
– Я тебе не верю. Под копье ты подвернулся случайно. Ты пьяный, дряблый трус, больше ничего.
Я пожалел об этих словах, из тех, которые друг никогда не должен говорить другу – все равно, правда это или нет. Особенно если правда. Я шевельнул губами, подыскивая другие слова, чтобы загладить те, жестокие, но слова не находились.
– А ты ублюдок, – сказал Бардо, – и твоя мать грязная слеллерша. Ты бешеный, опасный ублюдок-слельник.
Мне показалось, будто он шарахнул меня по лицу куском льда. Меня трясло, и я не мог двинуться с места. Бардо исчез из поля моего зрения вместе с другими конькобежцами в ярких камелайках. Только отливающий сталью лед бил мне в глаза резким белым светом. Целый океан звуков омывал меня: отдаленные голоса, скрип коньков, шорох ветра – но я ничего не видел. Не знаю, сколько я простоял там в своей слепой ярости. Когда красное, синее и зеленое снова появилось передо мной, как появляются цветы ложной зимой из-под снежного поля, я так и стоял один посреди шумного катка. Трусливый Бардо, самый старый мой друг, ушел.
Я покинул Хофгартен, решив найти его, пока он не упился в другом баре и не свалился в каком-нибудь темном закоулке Квартала Пришельцев. Я катил по улице Десяти Тысяч Баров. Утренний свет струился сквозь хрупкие обсидиановые хосписы и другие здания. Поперечные улицы были пустынны, и восточные ледянки пылали жидким огнем. Из люка одного хосписа вылезло несколько фраваши, усталых и голодных на вид. Они стерли ночные мембраны с глаз и стали пересвистываться на таких высоких нотах, что я разбирал разве что десятую долю их слов. Поравнявшись с группой сонных послушников, они взяли пониже, чтобы их певучая молитва стала понятна всем. Послушники неумело засвистали в ответ, благодаря пришельцев, и со смехом проследовали дальше, чтобы совершить утреннюю медитацию. В своих белоснежных одеждах и белых перчатках они походили на красивых кукол-солнцепоклонников.
На середине улицы быстро сновали туда-сюда ярко-желтые сани, нагруженные продуктами, одеждой и прочими товарами. Работающие на смеси водорода и кислорода, они через равные промежутки времени выпускали пар. Именно эти водяные выхлопы, оседая на стенах домов и тут же замерзая, одевали Город в серебро. Мне вспомнился мастер Джонат – наш с Брадо учитель истории во втором классе Борхи: он говорил, что на Старой Земле в Век Холокоста сани передвигались на смазанных колесах, а их стальные двигатели работали на углеводороде. Их выхлопные газы, утверждал он, были невидимы и совершенно безвредны. Джонат, ненавидевший холодные туманы, столь часто посещающие наш Город, стоял за то, чтобы убрать лед с наших прекрасных улиц и последовать примеру древних. Я помнил его слова так же ясно, как таблицу умножения. Добрый мастер Джонат со своими бородавками и длинными прямыми черными волосами – как терпеливо он излагал нам свой урок, пока мы с Бардо обменивались тычками на безобразном сером ковре в его квартире. Что за шутки выкидывает память, позволяя нам столь четко представить себя в юном возрасте? Почему более поздние события – например, тот случай, когда я, по утверждению Бардо, вышел из себя и чуть не убил Марека Кессе – вспоминаются нам куда более смутно?
Но какой бы несовершенной ни была моя память, чудо, свершившееся в то утро, я буду помнить всегда. Я катил по Променаду Тысячи Монументов, и тут с моим чувством времени стало твориться нечто странное. В тот миг, когда ледянка разделилась на два широких оранжевых рукава, время начало дробиться на бесконечно долгие малые величины. Здесь между северным и южным рукавами стояли на протяжении мили статуи, обелиски и прочие памятники в честь знаменательных событий – как прошлых, так и тех, которым еще предстояло случиться. Когда я миновал огромный грибовидный мемориал хибакуся, мне показалось, что послушники неподалеку от меня движутся с преувеличенной осторожностью – так медленно, словно их ноги вязли в ледяной каше Штарнбергерзее. Яркая вспышка красок внезапно ударила мне в глаза. Похвальба Тихо впереди резала воздух аметистовыми, бриллиантовыми и рубиновыми ножами. Эти чудовищные камни – некоторые с вековую ель вышиной – поднимались прямо из льда Променада. Они соединялись друг с другом, и красное переходило в синее, а золото в пурпур под самыми немыслимыми углами. Многим паломникам, посещающим Город, эта коллекция представляется беспорядочным нагромождением камней, фантастически дорогой палитрой случайных красок. Пилот видит эту композицию совсем по-другому. Толстые изумрудные колоды и тонкие сапфировые нити воплощают собой идеопласты, которые использовал Тихо, формулируя свое знаменитое правило. Он распорядился, чтобы лучшее творение его разума было представлено в материальной форме, и теперь на протяжении семидесяти ярдов Променада первая из двадцати трех лемм, необходимых для доказательства правила, блистает, увековеченная в переливчатых столпах. (Тихо желал, чтобы таким же образом были воплощены все двадцать три леммы, долженствовавшие занять полторы мили, но такой проект сочли слишком грандиозным. Орден и на первой-то лемме едва не разорился, хотя был тогда намного богаче и могущественнее, чем теперь.) Я ехал мимо кольчатых рубиновых глифов, представляющих теорему фокусов, когда время замедлило ход почти до полной остановки. Я никогда еще не испытывал такой протяженности мгновений без связи с нейросхемами своего корабля. Мне не верилось, что невооруженный мозг способен остановить время. На моей сетчатке отпечатались образы послушников, разинувших рты и застывших на полушаге, как белые статуи. Грохот саней и постукивание коньков растягивались, сливаясь в единый звук. Я, с выброшенной вперед одной рукой и откинутой назад другой, с застывшим на льду передним коньком, смахивал, должно быть, на один из глифов Тихо. В этот-то миг, когда несколько гагар повисло низко у меня над головой, а Город замер без движения, я и нашел Бардо.
Он повис на большом рубине, обхватив его руками и удерживая свое большое тело под косым углом. Его лицо, застывшее как маска, выражало одновременно ужас, возбуждение, стыд и озорство непослушного мальчишки.
Как может сознание существовать вне времени? Как можно мыслить и составлять стратегемы, если нейротрансмиттеры твоего мозга застывают, точно лед глубокой зимой? Возможно ли полностью остановить время? (Катарина верила, что время создается сознанием и что для любовников в момент экстаза времени не существует. Однажды она доказала мне это, но большую часть моей жизни я всетаки действовал в рамках времени.) Останавливается ли время по-настоящему или просто растягивается так, что доля секунды превращается в год и бесконечно малая величина – в вечность? Почти весь мой мозг оставался человеческим и состоял из крови и нервных клеток, но часть его была настроена на компьютерное время: божественное семя перерабатывало информацию непонятным для меня способом. Смешная картинка с Бардо, висящим, как обезьяна, на рубиновом копье, стояла передо мной неподвижно, и я раздумывал, как его спасти – как вызволить его вместе с нашей дружбой из черного янтаря времени. Внезапно я сообразил, что он собирается сделать. Мир вокруг на мгновение опять ожил, и я понял, что Бардо пришел сюда, чтобы покончить с собой.
В моем растянутом времени все последующее протекало медленно, как работа морского червя, строящего свою раковину. Бардо качался взад-вперед, разламывая кристалл своим весом. Треск ломающегося камня надолго повис в холодном утреннем воздухе. Бардо, как шар, медленно выпускающий воздух, плавно опустился на лед, сжимая окровавленными руками острую верхушку рубинового копья. Он закрепил тупой конец в полузамерзшей луже, направив острие себе в грудь. Его взгляд устремился на меня медленно и печально, и грустное понимание медленно разгладило искаженные черты его лица. Взгляд его переместился, он стиснул зубы, и серебристая капля скатилась у него со щеки. Он вытер кровоточащие руки о черный балахон, медленно улыбнулся, и тонкая пленка окрашенной пивом слюны натянулась между верхними и нижними зубами. Пленка надулась, наполнившись воздухом, и лопнула. Руки Бардо скрылись в складках одежды у шеи. Кровь впитывалась в черную шерсть. Он обнажил себе грудь, и я увидел оливковую кожу в густых черных завитках. Он засмеялся, и басовитый рокот растянулся на несколько часов. Точно глыба, медленно отламывающаяся от ледника, он начал падать на рубиновое острие. Если бы он завершил свою траекторию, копье пронзило бы его кожу, медленно вошло в напрягшиеся мускулы и, возможно, разломало бы ребра. Это был бы момент вечной боли. Это было бы жестоко. Копье проникло бы в большое сердце Бардо, замершее между двумя ударами. Раздался бы крик, кровь хлынула бы рекой, и Бардо стало бы бесконечно страшно.
Мое оцепенение прошло. Мир вокруг пришел в медленное движение, в то время как я сам, вероятно, действовал с быстротой пикирующей талло. «Я жар, я молния», – повторяла звучащая во мне поговорка воинов-поэтов. Внезапно я познал огненный экстаз нейронов, быстро сокращающихся мускулов и ускоренных движений. Как воин-поэт, бросающийся на свою жертву, я обрушился на Бардо, преодолев разделяющий нас лед за ничтожную долю реального времени. Я врезался плечом в его подмышку, отшвырнув его прочь, и упал сам. Красное копье разминулось с его грудью на какой-нибудь дюйм.
Мы оба лежали ошеломленные, сбитые с толку, хватая воздух ртом. С мучительным щелчком сознания я вернулся в реальное время, и Бардо сказал:
– Клянусь Богом, это невозможно – двигаться с такой быстротой!
Я попытался сесть, но горящие огнем связки не послушались меня.
– Если бы я не поторопился, ты убил бы себя.
Он встал на полусогнутых ногах, упершись руками в колени, застенчиво посмотрел на меня и сказал:
– Да нет, не убил бы. Бардо слишком труслив, чтобы убить Бардо. Я увидел, что ты едешь по Променаду, и подумал… понадеялся, что ты крикнешь, чтобы я остановился.
– Это было бы проще, спору нет.
– И снова ты спас меня. Как в тот раз, когда пнул в голову Марека Кесси, который меня душил – помнишь?
С его помощью я встал, но плечо у меня работало плохо и сустав жгло, точно кости в нем разошлись.
– Так, смутно… как будто это был сон.
Он потер свои израненные руки и кашлянул.
– Сказанного назад не воротишь, верно, паренек?
– Верно.
Сзади послышались голоса послушников и фраваши. Они столпились вокруг нас, явно ошеломленные тем, что Бардо осквернил столь замечательный памятник. (И не менее ошарашенные моими действиями, которые я произвел с быстротой воина-поэта.)
– Чего глаза выпялили? – заорал на них Бардо. Я хотел опереться на него, но не смог пошевельнуть рукой.
– Я тоже не могу вернуть назад того, что сказал, но все-таки добавлю: ты не трус.
Он посмотрел на рубиновое копье, едва его не проткнувшее, и дал ему такого пинка, что оно полетело прочь, дребезжа по льду. Один из послушников, тощий и веснушчатый, так и ахнул. Он, должно быть, наслушался о баснословной стоимости кристаллов Похвальбы Тихо – но не знал, что, раздробленные на мелкие части и ограненные, они не стоили бы ничего. Тихо, человек хитрый и тщеславный, заранее пресек возможные хищения, распорядившись пропитать камни растворами, нарушающими их чистоту и вызывающими дефекты.
– Еще какой трус, – сказал Бардо. – Но в наши юные годы ты имел милосердие никогда не говорить мне об этом – даже когда я трусил.
– Прости меня.
Он посмотрел на мое недействующее плечо.
– Ты вошел в замедленное время, правда?
– Дело обстояло еще хуже.
– Ты замедлил время без помощи своего проклятого корабля?
– Я остановил его.
– Это невозможно. Никому не под силу остановить время.
– Кроме меня.
– Тогда это чудо, клянусь Богом!
– Эта штука внутри меня, которую агатангиты называют божественным семенем, – она переделывает мои нейроны, а может, и нервы. В этот самый момент… откуда мне знать, какие перемены оно во мне производит? Мне кажется, что я так и остался собой, но…
– Конечно, ты остался собой. Что я, не отличил бы Мэллори от кого-то другого?
– Прости меня за то, что я сказал, Бардо. Я бешеный и не умею держать себя в руках.
– Тот самый Мэллори, которого я знаю!
Я зажал рукой поврежденное плечо и признался:
– И мне страшно.
– Хуже страха ничего нет, правда?
– Я боюсь потерять себя.
Он обхватил меня рукой за спину и повел, почти понес, по ледянке.
– Паренек, ты никогда себя не потеряешь. И друзей тоже никогда не потеряешь, по крайней мере такого друга, как я.
Он пообещал мне, что никогда не уйдет из Ордена по собственной воле, даже если в небесах загорится тысяча сверхновых.
– В глубине души я люблю Город и своих друзей не менее сильно, чем Жюстину. И хотел бы спасти наш Город. Только поэтому я говорю тебе то, что сейчас скажу. Крепись, паренек, – у меня для тебя дурные новости.
И я узнал, что в Городе – Городе Света, Последнем Городе, Городе Тысячи Заговоров, существует заговор с целью реформировать Орден. Город как будто дожидался, когда я вернусь с Агатанге. Все эти два года группа пилотов и специалистов планировала изменить существующий порядок по своему проекту. А душой заговора, как печально и с неохотой сообщил мне Бардо, – лидером людей, замышляющих сместить Хранителя Времени, а возможно, и всех остальных, была моя мать, мастер-кантор, дама Мойра Рингесс.
19 ПРИТЧА О БЕЗУМНОМ КОРОЛЕ
Что пользы от воина без войны, от поэта без стихов?
Поговорка воинов-поэтовВ тот же день я попытался найти мать, но ее домик в Пилотском Квартале пустовал. Я отправился к ее друзьям, к Елене Чарбо и Колонии Мор в том числе, но никто как будто бы не знал, где она. И никто не желал признаться, что у нас существует заговор, имеющий целью свержение Хранителя Времени, не говоря уже о реформе Ордена. Бардо, должно быть, придавал слишком большое значение слухам, как сказала мне Коления. Бургос Харша, нервно пощипывая свои кустистые брови, тоже заверил меня, что никакого заговора нет.
– Многие пилоты действительно недовольны, но кто бы стал злоумышлять против Хранителя Времени? Могу добавить, что некоторые пилоты и специалисты действительно желали бы перемен, но последние должны производиться в рамках существующих канонов, легальным путем – у кого хватило бы глупости на нелегальные действия?
Прошло несколько дней, но мать так и не объявилась, и я начал беспокоиться. Ли Тош клялся, что видел ее в обществе воина-поэта однажды ночью у сквера Меррипен в Квартале Пришельцев. Это доказывает, что она жива и я волнуюсь понапрасну, сказал он. Может, она наконец завела себе любовника. Но я все-таки волновался – прямо места себе не находил от волнения. Я не верил, что она завела любовника – зачем же ей в таком случае общаться с воином-поэтом? Для чего здравомыслящие в общем-то люди входят в контакт с воинами-поэтами, если не для того, чтобы заказать им убийство своих врагов? А кто главный враг матери, если не Соли? Она украла его ДНК, чтобы создать меня, а это ~ тяжкое преступление. Соли мог бы даже потребовать у Хранителя Времени ее казни, если бы пожелал отомстить и согласился признать меня своим сыном. Но я-то знал, что Соли не признается в этом никогда и никому, даже самому себе. А мать? Могла ли она быть уверена в его молчании? Нет, не могла – потому она и замышляет свои козни, скрывается в Квартале Пришельцев и якшается с убийцами, даже не подумав посоветоваться со мной. Из этого следует, что она мне не доверяет.
Если у вас в ходе моего рассказа создалось впечатление, что у нас в Ордене все только и делают, что устраивают заговоры, то это впечатление неверное. Поиск оставался в силе, и великие открытия совершались постоянно; были люди, для которых то время сохраняло свой ореол мечты и дерзаний. Два года назад, когда я охотился на шелкобрюха в квейткельском лесу, команда из пяти пилотов вызвалась проникнуть в Кремниевого Бога. Только одна из них, Анастасия с Нефа, вернулась, чтобы рассказать о пространствах, еще более непроходимых, чем пространства Тверди. Другой пилот, прославленный Киоши, нашел планету, которая, по его мнению, была древней родиной Эльдрии. Великие дела, великие замыслы. Программист, расщепитель и историк, работая вместе (вот уж поистине нечестивая троица), сумели пройти назад по эволюционным цепочкам и составили модель ДНК доисторического человека. Теперь мастер-расщепители трудились над ее расшифровкой, надеясь раскрыть секрет древних богов. И я не могу обойтись без упоминания о фабулисте, создавшем сценарий, согласно которому Старая Земля не погибла. Это побудило семантолога Сенсима Вена заново вникнуть в смысл одной фравашийской тональной поэмы, что, в свою очередь, вдохновило холиста составить новую модель Роения. Фантаст, изучив эту новую модель, удалился в свою берлогу и пересмотрел голограмму того, что у него называлось «Галактикой, Какой Она Могла Бы Быть». И наконец, пилот, ознакомившись с этой голограммой, отправился к внутреннему краю рукава Ориона, где ожидал найти Старую Землю. Его попытка, разумеется, ни к чему не привела – но это было отважное предприятие, хотя и не без оттенка смешного.
Не менее странным в своем роде было воспоминание – или прозрение – мастера Томаса Рана, мнемоника. Оно вызвало ожесточенные споры среди эсхатологов и сыграло важную роль в кризисе, который разразился вскоре после моего возвращения – поэтому я привожу здесь слово в слово то, что он вспомнил, спустившись по темной спирали наследственной памяти в далекое прошлое:
Меня зовут Келькемеш, у меня сильные молодые руки и кожа кофейного цвета. Я одет в шкуру волка, которого убил, когда стал мужчиной. Шкура мокрая. Я стою высоко на склоне горы. Прошел дождь, и в зеленых долинах подо мной клубится туман, а надо мной стоит радуга. Вокруг тихо – это ощущение тишины очень реально. Затем в небе, у края радуги, появляется дыра. Она черная, как глаза моего отца. Из нее исходит серебристый свет, который потом становится белым и заливает все небо. Свет льется на меня, как дождь. Я открываю рот, чтобы закричать, и свет проникает мне в горло. Мой позвоночник пронизывает дрожь. Свет бежит вдоль хребта в мои чресла. В чреслах вспыхивает огонь, и они наполняются пылающими каплями света. Бог Шамеш вошел в меня и вжигает свой образ в мою плоть. Шамеш – это солнце, Шамеш – свет мира. Шамеш говорит, и его голос – это мой голос: «Ты – память Человека, и в тебе заложен секрет бессмертия. Ты будешь жить, пока звезды не свалятся с неба и не умрет последний человек. Это мое благословение и мое проклятие». Потом свет гаснет, радуга пропадает, и на голубой скорлупе неба нет никаких дыр.
Я бегу с горы к хижинам моего отца, шамана Урмеша. Когда я рассказываю ему, что в меня проник божественный свет, он рвет свои белые волосы и смотрит на меня с гневом и ревностью. Он говорит, что мною овладел демон, ибо боги не озаряют людей своим светом. Он раскаляет копье, чтобы изгнать демона из моих чресел. Моим братьям велят держать меня. Но я полон огня и света, я восстаю и убиваю моих братьев и убиваю Урмеша, который мне больше не отец. Мой отец – бог Шамеш. Я беру мой окровавленный нож, заворачиваюсь в волчью шкуру и иду вниз, в долины, чтобы жить среди населяющих мир людей.
Высказывались мнения о том, что это была ложная память. Возможно, так и есть – а возможно, великий мнемоник действительно пережил заново жизнь и смерть своих предков. Я лично полагал, что он воссоздал первобытный миф об Эльдрии и закодировал его как память. Но кто может знать в точности, так это или нет? Кто мог знать в те сумбурные, беспокойные времена, кто из нас настоящий искатель, а кто лишь дурачит себя самого?
Вскоре после этого, когда снег стал рыхлым, что обычно случается только средизимней весной, Хранитель Времени вызвал меня в свою башню. Жизнь состоит из перемен, но кое-что в моей жизни, похоже, оставалось неизменным. Никогда не меняющийся, не имеющий возраста человек велел мне сесть на знакомый стул у застекленного окна. Стул, выложенный черными и красными ромбиками из осколочника и дерева йау, был твердым, как всегда. Часы тикали, наполняя комнату пульсирующим, шипящим и гулким боем. Одни из них – в стеклянном футляре с механизмом из дерева – мелодично прозвонили. Хранитель, расхаживающий взад-вперед перед закругленными окнами, бросил на меня мрачный взгляд, словно желая сказать, что это пробил мой час.
– Что-то у тебя, Мэллори, вид сегодня особенно настороженный.
Он обошел мой стул и остановился, глядя на меня сбоку. От него пахло кофе. Я взглянул на его лицо с морщинами в уголках глаз, но он сказал:
– Не поворачивайся ко мне лицом. Сядь как полагается – у меня к тебе есть вопросы.
– У меня к вам тоже. Например, есть ли у меня причина быть настороже.
– Молодой пилот смеет задавать мне вопросы?
– Я уже не молод, Хранитель.
– Не прошло и четырех лет, как ты сидел на этом самом стуле и похвалялся, что проникнешь в Твердь. А теперь…
– Четыре года – долгий срок.
– Не перебивай меня! А теперь ты стал немногим старше и вдвое глупее. Пилоты! Я знаю, некоторые из вас составили заговор против меня. А твоя мать ведет разговоры с воинами-поэтами. Не пытайся этого отрицать. Я хочу знать – должен знать – вот что: кем тебя считать – сыном твоей матери или пилотом твоего Хранителя Времени? – Он постучал ногтями по металлическому футляру ближайших часов, и хромовое покрытие отозвалось звоном. – Скажи мне, Мэллори, – где она сейчас, твоя интриганка-мать, эта гнусная слеллерша?
– Не знаю. И не надо называть ее так, что бы она ни совершила.
– Я отлично знаю, что она совершила. И знаю, кто твой отец.
– У меня нет отца.
– Твой отец – Соли.
– Нет.
– Ты сын Соли – мне следовало догадаться об этом давным-давно. Но кто бы мог подумать, что у твоей матери хватит смелости стащить у него плазму? Как видишь, я знаю, что сделала твоя мать, и почти уверен, что она планирует убить Соли, а возможно, и меня – твоя хваленая мамочка!
Я стиснул закругленные подлокотники стула, отполированные руками тысяч потеющих пилотов, отчаянно стараясь удержать язык за зубами, а руки – на месте.
– Она предала меня, но ты-то меня не предашь, а, Мэллори?
– Вы считаете меня предателем?
– Разве я сказал, что считаю? Нет, я надеюсь, что ты не таков, но относится ли это к твоим друзьям?
– Бардо дал мне слово, что он не…
– Бардо! Эта бочка с салом, этот непослушный мул! Я закрываю глаза на его прелюбодейство, а он заражает твоих друзей своей трусливой болтовней. Я говорю о молодых пилотах: Джонатане Эде, Ричардессе и Деборе ли Тови. А также о тех, кто постарше – Нейте, Ноне и Кристобле. И о моих специалистах. И о моих академиках, таких как Бургос Харша и еще сотня других. Они толкуют о том, чтобы покинуть Город навсегда. Раскол! Они хотят раскола и гибели Ордена!
– Перемен хотят многие, – согласился я.
– Иногда перемена означает смерть. – Он прижался лбом к замерзшему окну и вздохнул. – Думаешь, я не знаю, о чем они говорят? Орден, мол, загнивает уже тысячу лет, специалисты закоснели в своих традициях, нам нужны новые мечты, новые проблемы и новые пути. А ты как думаешь – нужны они нам?
Я, как и многие в Ордене, думал, что пилоты слишком часто ссорятся со своими товарищами из ревности и соперничества, что одни профессии склочничают с другими и разные школы внутри одной профессии тоже враждуют, пытаясь навязать другим свое толкование задач Ордена. Первоначальная, объединившая всех идея о человечестве, осваивающем космос, ищущем свое место и роль во вселенной, распалась на сто философий, направлений и концепций.
– Но ведь эта судьба всех религий и орденов, разве нет? В конце концов они разваливаются и гибнут.
– Разваливаются и начинают воевать, если быть точным. Если я позволю своим пилотам делать, что им вздумается, мы получим войну – грязную и кровопролитную.
Я улыбнулся, полагая, что Хранитель слишком уж драматизирует, и сказал, повторяя высказывания историков:
– Война – это мертвое искусство, такое же мертвое, как Старая Земля. Есть же запреты, есть уроки истории. Не думаю, чтобы кто-то из нашего Ордена захотел изобрести войну заново.
– А как же война между Большим Сиэлем и Мио Люс?
– Это был просто конфликт – не настоящая война.
– Не настоящая! Да что ты можешь знать о войне? Тихисты забрасывали детерминистов термоядерными бомбами! Сколько у них там погибло – миллионов тридцать?
Я попытался вспомнить уроки истории.
– Да, тридцать с чем-то – не помню точно. – Но в этот самый момент мне вспомнилась точная цифра. – Тридцать миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи – в приближении.
– И это, по-твоему, «конфликт»? Называй, впрочем, как хочешь, но разве твой конфликт не перерос в «настоящую войну»? Запреты! Черта с два! Как ты думаешь, почему в Цивилизованных Мирах сохраняется мир? Потому что война вещь разорительная – вот тебе главная причина. Хотя Большой Сиэль и Мио Люс связаны единственным каналом, у некомпетентных пилотов-тихистов с их грязными термоядерными бомбами – у тех немногих, кто выжил в мультиплексе – ушло тридцать лет на дорогу до Мио Люс. Самые желторотые наши кадеты проделали бы тот же путь за тридцать дней.
– Время изменчиво, – сказал я, передразнивая одно из его знаменитых изречений, но улыбка погасла на моем лице, когда я понял, к чему он клонит. Если путешествовать по мультиплексу стало так просто, то и война может стать простым делом. А кому еще мультиплекс знаком так, как пилотам нашего Ордена? И возможна ли большая катастрофа, чем война между разными фракциями Ордена? – Но даже если бы воевать было легко, – возразил я, – это было бы слишком ужасно – ни одна сторона на это бы не пошла. Не знаю, конфликт там был или война, но жители Большого Сиэля и Мио Люс просто обезумели. Большинство наших народов и планет миролюбиво.
Хранитель неожиданно снова подошел и навис над моим стулом.
– Мэллори, Мэллори, – сказал он, нахмурясь, – тебя били по башке, резали, с тобой трахались, тебя любили, ненавидели и учили уму-разуму, но ты так и остался наивным. – Он откинул со лба белые волосы и вздохнул. – Святая простота! Что лежит в основе нашей истории? Стремление к миру? Ха! Война – вот расплата за приобретенную нами власть; война была проклятием человека двадцать тысяч лет. Природа вещей такова, что мир выбрать никто не может, зато всякий может навязать войну остальным. Почему, по-твоему, погибла Земля? Рассказать тебе одну притчу из ее истории?
Я поерзал на стуле, стараясь устроиться поудобнее. Выбора у меня не было, и я сказал:
– Расскажите.
Он улыбнулся, прочистил горло и начал:
– Когда-то давно на Земле обитало множество племен, воздух был чист, пищи хватало на всех, и мир был всеобщим законом. Но одно племя, любившее себя больше, чем родную планету, пренебрегло этим законом. С этого и началось их безумие. Они слишком разрослись и стали слишком могущественны. Они решили, что отнимать хлеб у других легче, чем печь его самим. Им захотелось создать империю, чтобы жить вольготно. И они послали свои войска на запад против четырех соседних племен, каждое из которых отличалось большим миролюбием. Но мир уже нельзя было сохранить. Первое племя выступило против пришельцев с оружием в руках, но оно было слишком малочисленным, и безумное племя перебило их всех до последнего человека. Женщин, разумеется, изнасиловали, а потом дали им мотыги и послали работать вместе с детьми на пшеничных полях. Второе племя, видя, какая участь постигла первое, сложило свои копья и склонилось к ногам короля безумного племени, моля сохранить им жизнь. Оставьте только нам наших жен и детей, говорили они – тогда мы покажем, какие мы хорошие воины, и будем делать все, что прикажет король. Таким образом второе племя вошло в число безумцев, и тех стало еще больше. Третье племя, любившее свободу не меньше, чем жизнь, бежало на юг, в пустыню, где жизнь была тяжкой, а источники воды и пищи – скудными. Четвертое племя не желало ни быть истребленным, ни входить в ряды врага, ни бежать. Их король, который был провидцем, велел им сделать копья длиннее, чем у вражеских воинов. И когда началась битва, длинные копья четвертого племени уравновесили превосходящую численность врага, и ни одно племя не смогло одержать победу. Тогда король-провидец, уже вошедший во вкус войны, рассудил, что к следующей битве безумцы сделают свои копья еще длиннее. «Нам нужны еще воины!» – сказал король-провидец и обратил свой взор еще дальше на запад, и его войско поработило западные племена и сделало свои копья еще более длинными. И четвертое племя стало еще безумнее, чем безумное племя. Привычка воевать стала распространяться, как болезнь, и охватила самые дальние племена Земли. Племена перерастали в империи, которые захватывали соседние империи и жаловались, что не могут завоевать дальние, поскольку до них войскам слишком далеко идти. Наконец один король, самый умный, прикрепил к древкам копий своих солдат ракеты, а к наконечникам – ядерные заряды. Когда короли всех империй Земли сделали то же самое, самый умный король заявил, что отныне война невозможна. Если какая-нибудь империя метнет свои копья в другую, это приведет к ее собственной гибели, ибо против града ядерных копий не устоят даже самые прочные и дорогие щиты. И на Земле настал мир… пока придворный дурак умного короля не напомнил ему об одной вещи, которую тот забыл.
Хранитель сделал паузу, вытер пот со лба и выжидательно посмотрел на меня. Мне, очевидно, полагалось задать вопрос, и я, хотя вовсе не жаждал услышать слова аллегорического дурака, спросил:
– И о чем же забыл умный король?
– Он забыл, – с усмешкой ответил Хранитель, – что он сам, и все жители его империи, и все империи мира безумны.
– И что же тогда? – затаив дыхание, спросил я.
– Конец этой притчи тебе известен.
Я подобающим образом задумался. В комнате, если не считать тиканья часов и нашего чередующегося дыхания, было тихо. За окном густо падал снег. Было холодно, но Хранитель вспотел, и крупные капли катились по его впалым щекам к твердо очерченному подбородку. Я, не сдержав улыбки, сказал:
– Сдается мне, Хранитель, вы тоже забыли об одной вещи.
– Да ну?
– Третье племя, которое бежало в пустыню, где жизнь была так тяжела – что с ним-то сталось?
Тогда он засмеялся густым, басовитым смехом, полным иронии и печали. Я сжал собственные локти – мне очень редко доводилось слышать, как он смеется.
– Третье племя – это мы. А наша пустыня – это космос. Все народы Цивилизованных Миров в свое время бежали от войны; мы все хибакуся. У нас в галактике царит мир, хрупкий, относительный мир, но очередное племя может обезуметь в любую минуту. Почему, ты думаешь, мы держим туннели в своих руках? Чтобы не дать подобным племенам размножиться. Наш Орден и орден воинов-поэтов – вот кто удерживает мир уже три тысячи лет.
– Воины-поэты? – воскликнул я. – Но ведь они убийцы.
– Вот именно. Об этом мало кто знает, но их цель состояла как раз в том, чтобы истреблять безумные племена и безумных королей. Их оружие – террор, и они умело им пользовались. Ни один король, вздумавший выступить против своего соседа, не мог не страшиться, что воин-поэт его убьет.
– Вы говорите в прошедшем времени, Хранитель.
– Да, верно. Это потому, что их орден последнюю тысячу лет испытывает упадок. Теперь их не столь уж заботит сохранение мира. Выращивая своих убийц – на что им потребовалось много веков, – они создали религию, помогающую им бестрепетно встречать неминуемую смерть. Они ведь часто шли на смерть добровольно, ибо королей, безумны те или нет, убить не так-то просто. И эта религия стала смыслом их существования. Мир им больше не нужен – им нужно обращать в свою веру других.
Снова принявшись кружить вокруг меня, точно акула, он стал разглагольствовать. Только наш Орден, говорил он, способен сохранить мир. Но если Орден расколется надвое, орден за сохранение мира давать будет некому. (Это мои слова, не его. Он презирал каламбуры почти так же, как каламбуристов.) После раскола наше бесценное знание пропадет втуне, как жемчуг, брошенный под ноги хариджану.
Я поразмыслил над его словами. Его фундаментальный элитизм вызывал у меня возражения, и в системе его взглядов чувствовалось некоторое противоречие, поэтому я сказал:
– Но мы не можем вечно держать свои знания под спудом. Информация как вирус – ей свойственно распространяться.
– Против вирусов существует карантин, – рявкнул он. И добавил зловеще: – И потом, их можно уничтожить.
– Но цель нашего Ордена – открывать, а не закрывать.
В ответ он проворчал тихо и свирепо, как волк:
– Знание следует беречь и распоряжаться им разумно, согласен? А не разбрасываться им, как это делает глупый пилот, сующий городские диски в ладонь шлюхи.
Я устал, у меня ныла спина, и я попробовал переменить позу. Хранитель, уловив мое движение, гаркнул:
– Не шевелись! Сиди как сидел.
Но мне не хотелось больше сидеть. Мне надоело, что он не сводит с меня глаз, а я на него даже взглянуть не могу. Я встал и повернул к нему голову, застав его врасплох. Его лицо удивило меня. Глаза у него были распахнуты, и он робко улыбался, как мальчик, впервые увидевший северное сияние. Он смотрел внутрь себя, вспоминая что-то – может быть даже мнемонируя. Поначалу я не понял, откуда мне это известно, черные колодцы его глаз были незрячими, как у скраера. Он видел несколько мест одновременно, рассматривал варианты будущего и грезил о чемто своем. Это выражение – выражение примиренности, грустной невинности и любования – длилось всего лишь миг. Потом оно исчезло, как облачко от дыхания в зимний день, сменившись резкими вертикальными складками вызова и давнего горя. В глазах вспыхнул темный огонь, углы губ опустились, и он прогремел:
– А ну сядь! Возьми себя в руки и сядь, паршивец!
Но я не сел, а зацепил стул ногой и сказал:
– Мне надоело сидеть.
Я смотрел на него и не мог себе представить причину его задумчивости. Но вдруг я понял – и это стало одним из самых потрясающих открытий моей жизни, – что это не просто уход в себя. Он был сложный человек, искатель, раздираемый бесконечной внутренней войной между своими мечтами и своим горьким опытом – это я знал всегда. Но теперь я понял его гораздо глубже. Я ощущал все его, как свое: напрягшиеся мускулы над глазами, архаические речевые обороты, суровые философские принципы, кислый запах и еще тысячу разных мелочей. Я, сам не знаю как, перерабатывал этот стремительный поток информации. Я был уверен, что разгадал Хранителя. В то время как большинство таких, как он, людей (Соли, мой нравный папаша, в том числе) вечно колеблются между светом и мраком, как перепуганный мальчуган, которого на катке швыряют туда-сюда два однокашника. Хранитель жил внутри этих конфликтующих реалий одновременно. Это поистине был человек, живущий на вершине своей замороженной внутренней горы высоко над другими. Для него добра и зла не существовало. Вернее, они существовали, но не как противоположности, а как разные оттенки реальности, как мед и горький черный кофе, каждый из которых можно в любой момент попробовать, проглотить, а по возможности и посмаковать. По терминологии Тверди он был многоплановым человеком: героем, негодяем, еретиком, тихистом, детерминистом, атеистом и верующим в одном лице – помимо бесчисленного множества других ипостасей. Лицо, которое он показывал Ордену и послам Цивилизованных Миров, суровое лицо справедливого тирана, было лишь маской, которую он для себя выбрал. Более того – именно таким он предпочитал быть. Меня потрясло сознание того, что он волен выбирать в этом вопросе. Я всегда думал о нем как о человеке, мучимом неизбежностью умирания и смерти. Теперь я понял, что заблуждался. Он, как все великие люди, был провидцем – ради этого он и жил. Эта-то его способность, крошечную часть которой мне удалось подглядеть, и ужасала меня.
– На что это ты так смотришь, юный Мэллори, и что ты видишь?
– Что я могу увидеть? Разве я цефик, чтобы читать ваши программы, как стихи в той вашей книге?
– Я тоже часто интересовался, что ты такое и что из тебя может выйти.
Я почесал нос и сказал:
– Я вижу человека, которого, как может показаться, раздирают противоречия. Но в основе своей он целостен, так ведь? Вы не выдаете пришельцам даже самых простых наших секретов, а к секрету Эльдрии относились и относитесь с подозрением. Я вижу…
– Со мной еще никто так не разговаривал! Никто!
– Я вижу вашу страсть защищать, и в то же время вы…
– Хватит! Я не могу позволить моим пилотам, как и всем остальным, читать меня. Ты чересчур много видишь.
– Я вижу то, что вижу.
– Слишком много видеть опасно. Скраеры это знают. Как это у них говорится? «Глаза, некогда ослепленные светом, теперь ослепли совсем».
Его глаза, когда он говорил это, горели как угли. Потом он склонил голову и потер свои белые как снег виски. Я всегда полагал, что он питает ко мне нечто вроде дедовской привязанности, но теперь увидел, что требования, которые ставит перед ним его вещий дар, для него превыше добрых чувств. Он дал мне книгу стихов и спас мне жизнь, чуть было не загубленную моим собственным взрывным характером, поскольку это не расходилось с его целью. Если бы моя смерть соответствовала его мечтам или планам – вирусы, как он сказал, могут быть уничтожены.
– Зачем вы меня вызывали? – спросил я.
– А почему ты всегда задаешь мне вопросы, паршивец? – Он сжал кулаки, и жилы у него на шее напряглись. Можно было подумать, что он стоит на пороге какого-то мучительно трудного решения, которое принимать не хочет. Но я был уверен, что он все-таки сделает этот тяжелый выбор, поскольку не привык щадить себя. Других он тем более не стал бы щадить, боясь, что подобная слабость может разъесть стальную спираль его натуры, как ржавчина разъедает часовой механизм.
– Зачем? – повторил я.
Он подошел к окну и провел ногтями по стеклу, как медведь по льдине. На замерзшем стекле остались четкие борозды. Хранитель помолчал и вдруг шумно выпустил из себя воздух.
– Было бы величайшей катастрофой, если бы один из моих пилотов решил Гипотезу Континуума только для того, чтобы распространить свое открытие, как вирус. Прямой проход от каждой звезды к любой другой – ты сам понимаешь, что этим знанием не должен владеть никто, кроме моих пилотов.
– Может оказаться, что Гипотеза вообще недоказуема.
– Хорошо бы.
– Я, во всяком случае, ее пока не доказал. Тихо, Дов Данлади, теперь Соли – они всю свою жизнь трудились над доказательством Великой Теоремы. Кто я такой, чтобы превзойти их?
– А ты здорово изменился! – усмехнулся он. – Кто ты такой, спрашиваешь? Я бы тоже хотел это знать. Всем нам желательно знать, что сделали с тобой твои проклятые боги. Ты, как призрак, возвращаешься с Агатанге, демонстрируя нам свою новообретенную скромность… и кое-что другое.
– Что вы имеет в виду?
– Сам знаешь, Мэллори. Десять дней назад твой Бардо повредил Монумент Тихо, верно? Расскажи мне о том, что случилось в тот день.
– Бардо напился до умопомрачения и отломил верхушку одного из кристаллов.
– Мои послушники говорят, что ты вошел в замедленное время – правда это?
– Как это может быть правдой? Разве возможно войти в замедленное время без помощи компьютера?
– Почему ты вечно отвечаешь вопросом на вопрос, паршивец? – рявкнул он, стукнув кулаком о подоконник. – Говори: вошел ты в замедленное время или нет?
– Очевидцы говорят, что да, – признался я. – Но вообще-то я его остановил.
– Остановил время? Не думал я, что такое возможно! Но ведь ты правдивый мальчик, правда? Ты не стал бы лгать своему Главному Горологу? Скажи, Мэллори, чем тебе так далась эта правда? Почему это понятие так священно для тебя?
– Сам не знаю.
– Пра-авда! Правда правде рознь. Она столь же изменчива, как и время.
– Я в это не верю.
Он потер глаза и посмотрел на меня.
– Ты должен пообещать мне кое-что, юный Мэллори. Если ты когда-нибудь докажешь Великую Теорему, не говори об этом ни цефикам, ни акашикам, ни канторам, ни своим собратьям-пилотам. Не говори никому, кроме меня.
Я стоял не шевелясь, но мысль моя работала очень быстро. Если я действительно докажу Теорему и признаюсь в этом Хранителю, мое открытие исчезнет, как свет в черной дыре.
– Я дал обет искать истину, – сказал я.
– Вот именно искать, а не разбрызгивать ее куда попало, как старик свою мочу.
– Четыре года назад я в Пилотском Зале в вашем присутствии дал обет стремиться к правде и мудрости, даже если это приведет меня к разрушению и гибели.
– К разрушению и гибели! К чьей гибели, будь ты проклят?! Разве это мудрость – дать правде погубить Орден?
– Я всю жизнь мечтал доказать Великую Теорему.
– Мечты! Что такое мечты? Почему ты так чертовски упрям? Почему ты?.. – И он простонал: – К чьей? К чьей гибели это приведет?
– Я мечтал, и по сей день мечтаю, о таком Ордене и о такой вселенной, где правда и мудрость – одно.
– Благородные речи, наивные речи – как я устал от всех этих слов! – В его голосе слышалось почти непереносимое напряжение. – Либо ты даешь мне слово, либо нет.
– Я не могу дать вам слова.
– Ну что ж…
Он произнес это скорбно и с сожалением, как будто его губам трудно было выговорить эти немногие простые звуки. Слова повисли в воздухе, как колокольный звон. Хранитель посмотрел на меня долгим взором. Любовь и ненависть в его глазах сочетались с еще одной страстью, которую я назвал бы волей – волей, направленной наперекор судьбе, то ли своей, то ли судьбе как таковой, самой страшной и одинокой из всех возможных, как он должен был знать. Затем он нахмурился, сделал отстраняющий жест ладонями и отвернулся к окну. Покидая башню, как я тогда думал, в последний раз, я тоже посмотрел в окно – внизу скользили на коньках послушники, ничего не зная о приговоре, только что вынесенном над их запорошенными снегом головами.
20 КОЛЬЦА КВАЛЛАРА
Если я когда-нибудь пронзал над собой мирные небеса и парил в этих своих небесах на собственных крыльях, если я резвился в глубоких световых пределах и познавал мудрость птиц, которая гласит:
«Смотри, здесь нет ни верха, ни низа! Кружись и пари как хочешь, ибо ты сам – свет! Пой! Не говори больше слов!» – как же не возлюбить мне Вечность и брачное кольцо колец – кольцо возращений?
Никогда не встретить мне женщины, от которой я захочу иметь детей, если она не будет той, возлюбленной мною: ибо я люблю тебя, о Вечность.
Ибо я люблю тебя, о Вечность!
Седьмая предсмертная медитация воинов-поэтовИсторики полагают, что к концу второго Века Роения воины-поэты усовершенствовали технику замены участков мозга деталями биокомпьютеров, но это в отличие от такой же техники агатангитов служило иной цели. Слельмим, это неописуемо гнусное преступление, когда хитрые программы поэта управляют мозгом жертвы, – только один из вариантов. Известно, что поэты также переделывают некоторые части собственного мозга, чтобы подчинить себе чувство времени и замедлять время без помощи внешнего компьютера. И по другим причинам. Говорят, что они меняют самые глубинные свои программы, чтобы искоренить страх смерти. Цефики действительно утверждают, что у воинов-поэтов чувство страха совершенно отсутствует. В этом отношении они существа противоестественные, ибо человеку так же свойственно испытывать страх, как дышать. Жить, смотреть на звезды, радоваться свету, быть – это все, что мы знаем. Не быть для нас непредставимо и потому ужасно. Птицы, подставляющие крылья солнцу, серебристые рыбешки, испытывающие свои безмолвные радости, даже наделенные разумом компьютеры, находящие экстаз в электрических разрядах и молниеносном движении потоков информации – все живое, хотя бы крохотной частицей своего естества, должно ощущать страх перед великой тайной.
Когда я начал искать воинов-поэтов в барах, хосписах, на катках и в кафе, Бардо обвинил меня именно в глупом бесстрашии и в том, что я сам напрашиваюсь на разгадку конечной тайны.
– Ты в своем уме? – спросил он меня через несколько дней после моей встречи с Хранителем Времени. – Конечно, не в своем – я всегда это знал. Эти поэты убивают просто потому, что им это нравится – не понимаешь, что ли?
– Это правда – они поклоняются смерти. Но я хочу найти мать – меня беспокоит ее исчезновение.
Меня и правда очень беспокоило то, что она связалась с воинами-поэтами, и я планировал найти того, с кем ее видели в эти последние дни. Но я не имел опыта в поисках такого рода, и в итоге он сам нашел меня.
На Продольной, там, где она спускается на юг к Старому Городу, рядом с Гиацинтовыми Садами, стоят двенадцать зданий, целиком выстроенных из редких пород дерева. В более просторных хранятся исторические артефакты и реликвии. В тех, что поменьше, обшитые полированным розовым деревом залы целиком предоставлены произведениям искусства – человеческого и инопланетного, древнего и современного. Хотя все двенадцать корпусов именуются Музеем Искусств, именно в этих маленьких зданиях помещаются фравашийские фрески и тональные поэмы, утрадесские ледяные скульптуры и прочие сокровища. Самый маленький дом, классический четырехугольник с портиком из осколочника, называется Домом Мнемоника. Четыре его секции насчитывают много комнат, но самая известная из них – это Галерея Хибакуся. Там выставлены древнейшие фрески, показывающие невероятные картины войны и хаоса. Тональные поэмы строятся, клубятся и плавятся, повествуя об эпических битвах Века Холокоста. Я пришел сюда посмотреть знаменитую фреску «Возвышение человечества», занимающую сто футов северной стены. Когда меня что-то беспокоит, когда я чувствую себя усталым и замерзшим после бега на коньках, я люблю посидеть на скамье в галерее, вдыхая запахи теплого дерева и цветов и глядя, как переливаются на стене живые краски. Это одно из самых излюбленных моих занятий.
Время шло к вечеру, и я был в галерее не один. Рядом со мной, ближе к центру длинного зала, сидела пара фабулистов, несомненно ищущих вдохновения для собственного творчества. На краю ковра у меня за спиной, у журчащего фонтана, разместилась группа самумских Друзей Бога – все очень высокие, тощие, благоухающие чесноком, козьим корнем и прочими экзотическими специями. Их привычка крутить серебряные цепочки, скрепляющие их длинные черные волосы, раздражала меня не меньше, чем их похожий на шипение шепот, который они исторгали из себя быстрыми приглушенными толчками.
– Видите? – говорил один из них. – Вот свидетельство того, что Роение началось еще в Век Холокоста, а не позже. Так мне и думалось.
Я смотрел на картину, где кипели синие, зеленые и белые краски, и видел серебристые ракеты, поднимающиеся из океанов Старой Земли, но трудно было сказать, что они собой представляют: корабли, летящие к звездам, или ядерные снаряды. Затем одна ракета разделилась на две, две на четыре и так далее. Внезапно вокруг вспыхнули яркие звезды туманности Эты Киля, и ракеты превратились в четыре тысячи световых лент. Несущийся через пространство свет заполнил всю туманность. На миг центральная часть картины вспыхнула ослепительной белизной, в которой там и сям стали возникать серые пятна. Белизна сменилась небесной синью, а пятна приняли форму черных грибовидных облаков, встающих из атмосферы Старой Земли. Я вовсе не был уверен, что в картине содержится «свидетельство», о котором говорили Друзья Бога; более вероятно, что для фраваши, создавших эту фреску. Роение и было Холокостом.
Вскоре я стал замечать некоторые перемены в звуках и запахах зала. Вонь козьего корня и чеснока стала слабее, шепот сменился взволнованными голосами и шорохом одежд. Вслед за этим настала тишина, и я уловил запах масла каны. Духами на его основе пользовались воины-поэты. Я повернул голову и увидел широкогрудого, среднего роста человека, который интересовался явно не картиной, а мной. Он изучал мое лицо, как гроссмейстер шахматную доску, с усиленной, почти фанатичной сосредоточенностью. Я сразу понял, что это воин-поэт: они все сделаны из одинаковых клеток. Признаками этой породы служили черные курчавые волосы, медная кожа и гибкая шея. Поэт был красив – красота часто присуща таким вот породистым расам. Какими пропорциональными выглядели его точеный нос, выпуклые скулы и лепная челюсть – какой огневой, соразмерный образ! Но самым притягательным в поэте были его глаза, цвета глубокого индиго, почти лиловые, живые, ясные, одухотворенные, все понимающие – и совершенно лишенные страха. На вид он был молод, но я подумал, что он, должно быть, очень стар – только у человека, которому много раз возвращали молодость, могли быть такие глаза. Впрочем, нет – я вспомнил, что воины-поэты не практикуют омоложение. Они обожествляют смерть и потому считают тягчайшим – практически единственным – грехом продлевать жизнь за черту «момента возможности». Этот воин-поэт, вероятно, мой ровесник.
Он прошел по ковру и встал почти вплотную ко мне. Двигался он быстро, с отточенной грацией.
– Мое имя Давуд, – сказал он голосом, льющимся, как жидкое серебро. – А ты Мэллори Рингесс? Я слышал о тебе странные вещи.
Зал опустел, только на стенах переливались и пульсировали фрески. Появление воина-поэта спугнуло всех. Я окинул взглядом его черный меховой плащ и броскую радужную камелайку. Одежда была богатой и красивой, хотя поэты, как известно, не придают значения богатству, а красоте и того меньше. Я перевел взгляд на его руки. Каждый воин-поэт носит два кольца, по одному на мизинце каждой руки. Кольца делаются из разных металлов и могут быть различного цвета: зеленого, желтого, индигового или голубого. Всего цветов семь, и каждый, согласно гамме спектра, указывает на степень мастерства. Фиолетовое кольцо – это седьмая, низшая, степень, красное дается тем немногим, которые достигают высшей. Кольцо на левой руке – кольцо поэта, на правой – кольцо воина. Говорят, что не бывало еще столь великого поэта и воина, который носил бы два красных кольца. У моего на левой руке было зеленое – выходит, он принадлежал к поэтам четвертой, не слишком выдающейся, степени. Зато его воинское кольцо, выкованное из какого-то квалларского искусственного металла, было красное и гармонировало с огненно-красными тонами фрески.
– Мне сказали, что ты меня ищешь, – произнес Давуд.
– Ты знаешь мою мать? Ты тот самый поэт, с которым… ты ее знаешь?
– Знаю. Хорошо знаю.
– Где она?
Он, не отвечая, учтиво склонил голову.
– Я бы все равно постарался встретиться с тобой, чтобы увидеть сына такой женщины. Я собрал много историй о тебе. Когда-нибудь, если буду жив, я сложу из них поэму. Я слышал, пятнадцать дней назад ты остановил время, спасая своего друга от смерти.
– Напрасно ты слушаешь всякие сплетни.
– Напрасно ты спас своего друга, когда пришел его момент. И это не сплетни, я знаю. И про Агатанге тоже знаю. Нам, поэтам, знакомо…
– Еще бы – вы ведь мастера слель-мима.
– Ты тоже пользуешься этим стандартным термином…
– Вы лишаете людей собственной воли.
– Ты хочешь сказать, что знаешь, что такое воля? – улыбнулся он.
– Вы убиваете людей ради удовольствия.
– Ты так думаешь?
Его красивая белозубая улыбка смущала меня, теплая манера общения убаюкивала.
– Но ведь вы же убиваете?
– Случается.
– И невинных тоже?
Он продолжал улыбаться, и в глазах его теплился огонек.
– Никогда еще не встречал невинного человека – ни мужчины, ни женщины, ни даже ребенка. А ты, Мэллори Рингесс? Уж ты-то знаешь, что невинности на самом деле не существует. Не протестуй – я вижу по складкам у тебя на лбу, что ты это знаешь.
Я потер лоб и перешел в атаку:
– Вы поклоняетесь смерти.
– Допустим. Но скажи, пожалуйста, что значит поклоняться? Или, может быть, лучше я скажу? Дарио Красное Кольцо как-то написал стихи об этом. Прочесть тебе?
– Не надо. Ненавижу стихи.
– Это свидетельствует о душевном уродстве – но я не верю, что ты ненавидишь стихи.
– Где моя мать?
– Она ждет меня.
– Где ждет?
Он опять не ответил и показал на фреску: в туманности Ориона вспыхивали звезды, у которых первые человеческие рои создавали свои поселения.
– Красиво. А как по-твоему, чем защищена эта красота?
– Не понимаю, о чем ты.
– Что произойдет, если кто-то захочет испортить или украсть эту картину?
– Зачем же ее портить? А если кому-то вздумается ее украсть, роботы не выпустят его из музея – так я думаю.
– А если и роботов тоже испортят, в каком преступлении будет повинен наш гипотетический вор? В краже? В кощунстве? В убийстве?
– Робота убить нельзя. – Я пожал плечами, не понимая хода его мысли.
– Я рад, что ты это понимаешь, Мэллори, – робота убить нельзя.
Я сжал кулак.
– Люди – не роботы. – Он молча, с улыбкой смотрел на меня. – Ты играешь словами ради собственной выгоды.
– Ну что ж, я как-никак поэт. А ты начинаешь смотреть на вещи глазами воина. Робота убить нельзя, потому что он неживой. Роботы не могут сами себя программировать и не обладают сознанием в настоящем смысле этого слова.
Я встал и застегнул свою камелайку.
– Мне не следовало разговаривать с тобой. Не понимаю, почему Хранитель Времени позволяет вам появляться на улицах.
– Потому что Невернес – свободный город, а свободу воина-поэта ограничивать нельзя.
– Свобода, – фыркнул я и покачал головой.
– Есть и другая причина. У твоего Хранителя Времени тоже есть свои роботические страхи, как и у всех. Почти у всех.
– Вы ему угрожаете?
– Я этого не говорил.
– Но подразумеваешь.
– Поэта надо слушать очень внимательно. – Он приложил к губам свое зеленое кольцо. – Мы говорим серебряными языками, и наши слова порой бывают многозначны.
– Я пришел сюда посмотреть картину, а не слушать кого-то.
Он с улыбкой поклонился картине и сказал:
– Тогда я буду слушать тебя, если хочешь. Расскажи мне о комнатах Соли. За приемной расположена другая, смежная – верно? Каков их размер? На сколько лестничных пролетов надо подняться?
Он задал мне еще несколько вопросов, на которые я не ответил. Он хотел знать, какую пищу Соли предпочитает, в какой позе он спит и прочие интимные вещи. Я сразу понял, что поэт вознамерился убить Соли.
– Уходи, – сказал я наконец. – Я не стану помогать тебе убивать Соли. Ни его, ни кого-либо другого.
Он поднес к своим красным губам красное воинское кольцо.
– О вашем путешествии к алалоям ходят разные истории – говорят, что тебе убивать не впервой.
– Что тебе рассказала моя мать?
– Что Соли твой отец и ты ненавидишь его, а он тебя.
Я смотрел на него, напружинив мускулы. Мне казалось, что мое чувство времени опять растягивается – успею ли я убить его до того, как он убьет меня? У него красное кольцо; пожалуй, не успею. Он разгадал мои мысли и сказал:
– Не бойся подойти слишком близко к смерти. Не бойся умереть.
– Все живое боится умереть.
– А вот тут ты ошибаешься, – улыбнулся он. – По-настоящему живут только те существа, которые умереть не боятся.
Мои руки снова сжались в кулаки.
– Ты хочешь сказать, что люди не живут по-настоящему. Это абсурд.
– Люди – это овцы.
– Что такое «овцы»?
– Что-то вроде шегшеев, только глупее. На Старой Земле их выращивали ради шерсти и мяса, как и до сих пор выращивают на многих планетах.
– Люди – не овцы.
– Ты так думаешь? Знаешь ли ты притчу о цефике и его овцах?
На фреске взрывались звезды, закладывая начало блестящего хаоса Экстра. Я слышал голоса за дверью в галерею, но внутрь войти никто не решался.
– Хранитель Времени тоже любит притчи, – сказал я. Давуд, видимо, воспринял это как согласие и стал рассказывать:
– Был когда-то на Утрадесе цефик, имевший большое стадо овец. Цефик был занят разработкой метапрограмм, которые, как он надеялся, должны были преодолеть его собственные, более низменные программы, и на овец у него почти не оставалось времени. Они часто уходили в лес, увязали в сугробах или просто разбегались, потому что знали, что цефику нужны их шерсть и мясо.
Я попытался измерить взглядом расстояние до двери, Давуд же продолжал:
– И однажды цефик придумал, как решить эту задачу. Он внушил своим овцам веру в бессмертие. Он убедил их, что нет ничего плохого в том, что с них сдирают шкуру – и овцы стали верить, что это хорошо, даже приятно. Тогда он написал программу, убеждающую овец в том, что он хороший хозяин, любящий свое стадо так, что готов сделать для них что угодно. Далее он внедрил в тупые овечьи мозги программу, заверяющую их, что если с ними что-нибудь и случится, то когда-нибудь потом, не сегодня. Поэтому они могут спокойно щипать траву, спариваться и греться на солнышке. Наконец – и это была самая хитрая из программ цефика, – он убедил овец в том, что они вовсе не овцы. Одним он внушил, что они волки, другим – что они талло, третьим – что они люди, а некоторым – что они хитроумные цефики.
После этого всем его заботам пришел конец, и он обратил свою изобретательность на создание более глубоких программ. Овцы больше не убегали и спокойно ждали, когда цефик придет к ним за шерстью и мясом. Цефик же…
– Цефик же жил долго и счастливо, – перебил я. – Мне не нравится твоя притча. Люди – не овцы.
Мне подумалось, что я протестую слишком яро и слишком громко. Мои слова отражались эхом от панелей розового дерева над фреской. Я пытался осмыслить заявление воинапоэта, подразумевающее, что человек, чтобы жить в полную силу, должен жить так, как если бы уже умер. Странная, безжалостная философия, но воины-поэты – порождение не менее странной системы, и милосердие им неведомо. Создатели этой расы стремятся к совершенству – говорят, их расщепители в свое время исключили из мужского и женского генома всю постороннюю и избыточную ДНК. На Квалларе каждый год оплодотворяется миллион яйцеклеток и рождается миллион одинаковых, безупречных младенцев. На самом деле они не столь уж безупречны. Некоторых убивают сразу после рождения – лишь для того, чтобы показать, что мы живем в безжалостной, управляемой случаем вселенной. Многих убивают за неспособность овладеть воинским или поэтическим мастерством. В двенадцатилетнем возрасте будущим воинам дают ножи и разбивают их на пары. Из каждой пары выживает только один, затем пары составляют заново – и так до тех пор, пока от первоначального миллиона не останется едва ли десятая часть. Таким же образом выявляются наиболее одаренные поэты. Проигравшим, не способным изобретать красивые и мудрые слова перед лицом смерти, предлагают совершить самоубийство. Тех, у кого недостало смелости совершить этот «благородный» поступок, замучивают до смерти их же товарищи. Пытки, как сказала мне однажды Колония Мор, задуманы не как наказание. Они должны-побудить злосчастного мальчугана перепрограммировать свой страх перед смертью, позволить ему полностью насладиться эфемерной, ускользающей от него жизнью. С возрастом воины-поэты подвергаются другим, еще более тяжким испытаниям. Их души формируются в процессе многочисленных изменений тела и мозга. Никто, даже эсхатологи, не знает в точности, в чем состоят эти испытания, но две вещи известны наверняка: что каждый миг жизни воина-поэта может плавно подвести его к смерти и что из каждого миллиона только сто человек доживает до получения колец Кваллара.
Давуд пристально, с улыбкой смотрел на меня, как будто был способен читать мои самые глубокие программы. Он слишком часто улыбался, но улыбка у него, надо признать, была красивая. По-своему он был самым живым человеком из всех, кого я знал.
– Жизнь цефика, основавшего орден воинов-поэтов, нельзя назвать счастливой, – сказал он. – Что такое счастье, в конце концов? Этот цефик, после многих тяжких трудов, все-таки расшифровал свою программу смерти – вернее сказать, программу страха смерти. Он изгнал ее из клеток своего мозга и тогда – об этом написано много стихов, – тогда он понял, что именно страх перед смертью делает нас рабами.
Можно сказать, что страх перед умиранием нашего «я» толкает нас слепо исполнять свои повседневные обязанности, точно мы роботы-лунатики, запрограммированные есть, пить и совокупляться. Страх – это наркотик, погружающий нас в сон. Но когда этот страх изгнан – нет, пилот, пожалуйста, не уходи еще, – когда страх побежден, тебя словно окунают в холодный пруд, и пробуждение твое чудесно. Видеть все в истинном свете, ощущать прелесть каждого мгновения жизни – вот чему учат воины-поэты; ради этого мы живем и ради этого умираем.
Я хотел уйти. Я не желал, чтобы убийца учил меня, как следует жить. Но он протянул ко мне свою большую руку и сказал:
– Прошу тебя, не уходи. То, что есть во мне от поэта, говорит сейчас с воином в тебе. Сколько же в тебе тайн! Скажи мне, пилот, – я проделал долгий путь, чтобы узнать это: что ты чувствуешь, когда умираешь?
– То, что я могу тебе сказать, ты и так знаешь. Разве я умирал? Кое-кто говорит, что да, но тогда что же такое смерть? Сейчас я жив, и это главное – мне надоело размышлять о жизни и смерти, опротивело искать смысл и страдать от его отсутствия. Ты, со своей потребностью встретить собственную смерть и жить активно, невзирая на боль, которую можешь причинить себе и другим, – ты думаешь, что боль пробуждает человека к активности, но слишком большая активность – это ад, разве нет?
И он ответил просто, цитируя своих наставников:
– Несущий свет должен терпеть боль от ожогов.
Я потер виски, глядя на блестящий пол, на ковер.
– Тогда я предпочитаю мрак.
– Каково это – жить сызнова?
Его вопросы раздражали меня, и я, преисполнившись озорства, словно юный кадет, брякнул:
– Чтобы жить, я умираю.
– Ты любишь высмеивать других, верно? Не надо: насмехаться надо мной не имеет смысла. Я хочу услышать от тебя об агатангитах, об их планах, об их программах, о тебе самом.
– Разве искусство Агатанге не сходно с искусством воинов-поэтов?
– Они похожи, но не одинаковы.
– Когда вы, поэты, перепрограммируете свои жертвы…
– Они не жертвы, пилот, – они новообращенные, ставшие на Путь Воина.
– Однако вы лишаете их собственной воли – так говорят.
Он откинул назад край плаща, обнажив мускулистую руку.
– Вопрос воли – слишком тонкая материя, и здесь мы его не решим. Люди получше нас с тобой порабощали свой мозг размышлениями о свободе воли. Условимся, что живое существо свободно – относительно свободно – постольку, поскольку оно не зависимо от окружающей среды. Чем больше оно зависит от других живых организмов, тем больше окружающая среда влияет на его деятельность. Степень независимости возрастает вместе со сложностью: чем больше сложность, тем сильнее выражена воля. Вирус, например, вынужден делать в основном то, на что запрограммирован. Человек сложнее.
– Значит, ты признаешь, что люди обладают волей.
– Люди – это роботы и овцы.
– Я в это не верю.
– Скажем так: некоторые люди иногда способны проявлять волю, – с улыбкой уступил он.
Я залез в ножной карман камелайки и достал конек.
– Я волен выбирать, бросить его на пол или нет.
– Свобода выбора – это иллюзия.
– Я не стану его бросать, – сказал я и снова убрал конек в карман. – Это свободный выбор, сделанный по собственной воле.
– Не такой уж свободный, пилот. Почему ты решил не бросать конек? Не потому ли, что пол здесь так красиво отполирован? Ты просто не захотел его портить, верно? Ты питаешь уважение к красивым вещам – я это вижу. Но откуда взялось это уважение? Кто запрограммировал его в тебе? Ты можешь этого не знать, зато я знаю: это сделала твоя мать, давно, в раннем детстве. Она учила тебя красоте без слов, языком рук и глаз. Она тоже любит красивые вещи, хотя сама о том не знает и стала бы отрицать, если бы ее спросили.
Я снова достал конек и направил его в поэта.
– Мне боязно даже спрашивать, откуда ты так много знаешь о моей матери.
– Твоя мать женщина сложная и кое в чем путается, но я помог ей, и она стала смотреть на вещи проще.
– Ну-ка, ну-ка – это любопытно.
– Она пришла ко мне сама и обратилась ко мне за помощью по собственной воле. Как и все, кому мы помогаем.
– Ты помог ей потерять себя, вот что. Вы, поэты…
– Мы, поэты, заменяем бесполезные программы новыми. Чтобы помочь людям…
– Моя мать не робот, будь ты проклят!
Он отступил на шаг и улыбнулся. Он, видимо, знал, что у меня руки чешутся его убить, но при этом был совершенно спокоен.
– Метапрограмма твоей матери была переписана, – почти небрежно сознался он. – Ее мастер-программа, управляющая программа – так мы поступаем со всеми обращенными, верующими и неверующими.
– И что же это за новая программа?
– А ты можешь назвать мне код своей новой программы, Мэллори Рингесс? Той, которую агатангиты вложили в свой вирус?
– Ты за этим сюда пришел?
– Программа, Мэллори, метапрограмма – расскажи мне о ней. Что заставляет тебя двигаться? Что движет тобой?
Я стиснул конек, и его края врезались в мою мозолистую ладонь.
– Если б я знал, если б знал – как я могу сказать тебе то, чего не знаю, будь ты проклят!
– Мы все должны знать коды своих программ – иначе мы никогда не будем свободны. – Сказав это, Давуд повернулся к картине и вздохнул. – Фраваши – большие мастера создавать свои живые картины. Красиво – я всегда любил смотреть, как движутся эти колонии бактерий. Их программы, казалось бы, столь изящны и контролируемы – однако непредсказуемы.
Можно было подумать, что фреска его услышала, а может быть, он просто рассчитал, когда это произнести – так или иначе, в ее центре вспыхнуло скопление звезд. Самой яркой из них была Слава Поэта, а возле этого адского голубого дублета виднелось пятнышко цвета охры, символизирующее планету Кваллар. Затем перспектива переместилась, и планета увеличилась до размера снежного яблока. Давуд с улыбкой посмотрел на меня и достал из складок плаща нож – обоюдоострый, блестящий и смертоносный.
– Итак, у меня есть свобода выбора? И я могу бросить этот нож или не бросать – как захочу?
Я вдруг с особенной остротой ощутил перечный аромат масла каны, с невероятной медлительностью сочащийся в мои легкие. Давуд стремительно перешел в замедленное время воина-поэта, и для меня время тоже замедлило ход – иначе я нипочем не уследил бы за Давудом. Держа нож между большим и указательным пальцами, он выбросил руку вперед, и нож, пробив прозрачное покрытие картины, вошел прямо в центр красной сферы Кваллара. Из раны хлынула густая красно-оранжевая эмульсия, окрасив нож жидкой ржавчиной. Затем бурлящий поток стал пульсировать медленнее и остановился совсем. Стынущая лава краски затянула нож вместе с рукоятью – на картине как будто вырос вулканический кратер.
– Смотри внимательно, пилот.
Я и без того смотрел во все глаза, в ужасе от подобного вандализма – и до меня стало доходить, что фреска успешно заживляет свою рану. Давуд, каким бы ни было его намерение, не мог причинить ей вреда. Буйные алые и оранжевые тона перестраивались, принимая самые поразительные очертания. Я видел эту фреску много раз, но драму, которая разыгрывалась сейчас перед нами, наблюдал впервые. Из поверхности Кваллара брызнула красная струя и потекла через всю картину. В пути она расплющилась, выросла и стала похожа на двадцатидневный человеческий зародыш. Пройдя через черное пространство, пятно добралось до маленькой желтой звезды, в которой я узнал Даррейн Люс. Рядом вдруг вспыхнуло много звезд, и красное пятно на миг исчезло в потоке света. Между белыми звездами за Даррейн Люс начали множиться круглые красные луны. Они внедрились в хорошо знакомую мне туманность Тверди. Там они начали пульсировать, и красные нити света потянулись из них, соединяя одну луну с другой. Я, конечно, понял, что эти луны изображают мозги – мозг – Тверди, но не мог понять, почему фравашийская фреска намекает (как будто картина способна намекать) на какую-то связь между планетой воинов-поэтов и таинственным происхождением Тверди. Возможно, нож Давуда нарушил что-то в организме картины и никакой связи на самом деле не существовало.
– Так что же управляет программами, пилот?
Я бросился к нему, надеясь его задержать, пока роботы не придут мне на подмогу и не выведут его вон. Но он, когда я смотрел на картину, успел достать из-под плаща дротик-иглу. Я сгреб его и попытался повалить на ковер, но он воткнул свою иглу мне в шею. Игла явно была отравлена, поскольку мускулы у меня тут же оцепенели и я не мог пошевелиться. Он разомкнул мои руки, а я застыл в параличе, не в силах даже глазом моргнуть.
Давуд с улыбкой надавил мне на веко – твердо и умело, но бережно.
– Это хорошее средство. Оно возьмет под контроль твои биопрограммы – на время. Твои мускулы по-прежнему будут подчиняться мозгу, но сигналами мозга ты не сможешь управлять. Ведь не можешь же ты управлять биением своего сердца? Нет – вот и собой несколько часов распоряжаться не сможешь. Где же твоя водя, пилот? Кто программирует программиста? Может быть, ты мне скажешь? Нет, не скажешь – ты неспособен пошевелить языком, хотя и чувствуешь, как он зажат у тебя за зубами. А теперь, пилот, мне пора на встречу с твоей матерью. До свидания.
Он оставил меня, безмолвно, но от души клянущего свою несвободу. Я невольно посмотрел на картину – ее краски не прекращали своего движения.
21 ГЛАЗА РЕБЕНКА
Первая и самая трудная заповедь нашей профессии – всегда смотреть на мир глазами ребенка.
Маринар Адам, двенадцатый Главный ЦефикМы видим вещи не такими, какие они есть, а такими, какие мы есть.
Поговорка цефиковДавудова снадобья хватило не на несколько часов, а на несколько минут. Вскоре я снова обрел волю двигаться и тут же испугался того, что за этим крылось. Уж не божественное ли семя у меня в голове нейтрализовало наркотик – таким же путем, как оно заменяло мертвые мозговые клетки? Или оно просто изменило кое-какие нейротрансмиттеры, сделав меня нечувствительным к ядам? На размышления у меня не было времени – я должен был последовать за воином-поэтом, идущим на свидание с моей матерью. Спотыкаясь, я вышел из зала и побежал через пустой холл у Галереи Ледяных Глифов, надеясь таким образом срезать кусок пути и перехватить поэта на улице. Но, пройдя между мерцающими входными колоннами, я обнаружил, что он уже спустился по всем пятидесяти четырем ступеням и скрылся в толпе скользящих по глиссаде прохожих – об этом мне сообщил остановленный мною горолог, указав длинным пальцем на запад. Я помчался вниз по лестнице, и горолог крикнул мне вслед:
– Да разве это возможно – догнать воина-поэта? С ума сошел!
Я и впрямь спятил – во всяком случае, очень обозлился – и беспардонно растолкал группу фабулистов. Одна из них, худая изящная женщина с бледной, пронизанной голубыми жилками кожей и испуганными глазами, сказала мне, что воин-поэт только что прошел за Ротонду Даргинни. Я обогнул это огромное цилиндрическое здание, и некий червячник информировал меня, что воин-поэт вошел в Гиацинтовые Сады.
– Только на что он тебе сдался, воин-поэт? – спросил, почесывая бороду, червячник, и я уловил в его голосе страх. – К чему связываться с этими умалишенными? – Вот так, будто бы наугад расспрашивая прохожих, я въехал по длинной ледяной аллее в Гиацинтовые Сады.
Почти сразу мне стало ясно, что тут от моей погони проку не будет. Дорожка была забита эталонами и хариджанами, пришедшими посмотреть на голубую снежную далию и прочие диковины Садов. Вся эта толпа в неверном предвечернем свете имела голодный вид – то ли им всем не терпелось полюбоваться горной огонь-травой, то ли срочно требовалось поужинать. Дул порывистый ветер, плотные облака то и дело закрывали солнце, и снежные завихрения сменялись моментами затишья и просветления. Из-за этой неустойчивой погоды люди то и дело тормозили без предупреждения, чтобы застегнуться или, наоборот, расстегнуться. Какой-нибудь Друг Бога то вытирал со лба едкий чесночный пот, то, не проехав и четверти мили, ежился, шептал молитву и кутался, созерцая при этом рощу деревьев. Многие входили погреться в павильоны и выходили обратно, внося сумятицу в общее движение. Мне приходилось усиленно работать локтями, чтобы хоть как-то продвигаться вперед. Справа от меня, за желтыми литлитамй и инопланетными деревьями, мерцала голубая Продольная, огибающая здесь Пилотский Квартал, слева радовали глаз причудливые формы зимних карликовых деревьев, воплощающие капризные замыслы расщепителей, прямо впереди стеной двигался народ – уйма народу.
На середине Садов, среди ледяных скульптур, где к запаху снежных далий примешивался сладкий, мятный инопланетный аромат, я заметил страх на лице одной астриерки и спросил ее, не видела ли она воина-поэта. Как показывали наблюдения, именно он, пролетая мимо, мог оставить за собой дуновение страха. Астриерка, красивая, статная женщина, как скала встала между мной и своими четырнадцатью детьми. Ее поза выражала одновременно страх и вызов. Она ответила, что никакого воина-поэта не видела. Я не поверил ей и потерял еще толику драгоценного времени, пока она, подбоченившись, пронзительно оповещала меня, что блюдущие целомудрие, ищущие смерти воины-поэты имеют столь же мало общего с астриерами, как ночь с днем. Если бы она увидела одного из них, то сразу опустила бы капюшоны на глаза своим детям, чтобы заслонить их от зла. Я подъехал поближе, чтобы лучше видеть ее лицо, а она выпятила подбородок, как бы желая меня отпугнуть. Я впитывал густой, женственный мускусный запах, идущий от ее шерстяной одежды, вслушивался в потаенную вибрацию ее голоса. В напряженности ее гласных улавливались страх и сомнение. Я прямотаки чуял, что ей страшно. Внезапно – сам не знаю как – я понял, что ее страх относится не к моему поэту и не к воинам-поэтам в целом; это был страх более общего свойства, испытываемый ко всему, что могло повредить ее детям. Она, без сомнений оставившая сотни своих младших отпрысков под опекой мужей на планете Тихая Гавань, подсознательно опасалась каждого человека на глиссаде. Если бы она действительно встретила воина-поэта, страх возрос бы многократно и просто бил бы из ее глаз. Этому, вероятно, сопутствовали бы сжатые кулаки и обильный пот, поскольку ее биопрограммы в таких случаях приказывали ей либо бежать, либо биться. Я с волнением открыл, что страх имеет много оттенков и полутонов. Требовалось повышенное внимание, чтобы отличить холодную голубизну настороженности от слепой бафовой паники – иначе мне ни за что не найти воина-поэта.
Я извинился за причиненное беспокойство и поехал прочь. Вскоре мне встретился аутист, который явно чего-то боялся, и я начал расспрашивать этого оборванного, грязного, босоногого субъекта, не видел ли он «смерть, пронесшуюся мимо на серебряных лезвиях». (Говоря с аутистами, приходится подстраиваться под их словарь, иначе они прикинутся, будто не понимают самых простых вещей.) И снова обнаружил, что мыслю и действую, как цефик. Мне с легкостью удалось прочесть программу страха этого аутиста, и оказалось, что он боится не боли и не смерти от руки воина-поэта. Он вообще не боялся страданий, да и смерть его почти не пугала. Он, как и все мы, боялся потерять то, что было для него дороже всего. Я с удивлением убедился, что аутисты – если этот несчастный, гниющий заживо, вонючий малый мог считаться типичным их представителем – живут исключительно ради удовольствия. Я видел это по его улыбающимся, непрестанно шевелящимся губам столь же ясно, как видел ледяные лица статуй вдоль аллеи. Но его удовольствие не имело ничего общего с сытостью после вкусного обеда или с сексуальным экстазом; не походило оно также на эйфорию курильщика тоалача или на цифровой шторм пилотов, слишком сильно влюбленных в математику. Аутисту для счастья требовалось только одно: жить в мире, созданном им самим. Это было фантастическое, бредовое счастье: его воображаемые ландшафты казались ему столь же прекрасными и реальными, как кажутся уграцесские ледяные замки ребенку. И боялся он только того, что посторонняя реальность – малая реальность, как выражаются аутисты – вторгнется в его прекрасный мир и нарушит реальную реальность. (С раздражением должен констатировать, что аутисты претендуют на духовное родство с пилотами. Что такое мультиплекс, спрашивают они, если не совместное создание корабельного компьютера и мозга пилота в состоянии фугирования? Бесполезно объяснять им, что пилотский математический транс – это проникновение в глубинные структуры вселенной. Они все так же смотрят тебе в глаза и бубнят: «Брат пилот, реально-реальное – это одна из красот мультиплекса, который помещается в голове доброго бога, когда тот находится в реальной голове».) Аутист скорее стерпит любое телесное поношение, чем упустит свою драгоценную реальную реальность.
Я изучил обмякшие черты аутиста и обнаружил, что смерть для него – абстрактное понятие, существующее где-то на периферии сознания; смерть с реальностью не совмещается. Он не верит в реальность собственного существования и потому не боится потерять себя, когда умрет. В его больных молочных глазах не было страха смерти – только намек на легкое сожаление и грусть о том, что его прекрасный придуманный мир уйдет в небытие вместе с ним. Но и эта финальная трагедия почти его не пугала – ведь он не будет реально присутствовать при ней. Кредо аутистов можно выразить так:
«В области реального почти-реальное становится иногда-реальным в соответствии с реальностью реальной головы. Иногда-реальное можно переродиться в реально-реальное. В области реально-реального есть много уровней реальности; реально-реальное можно создать, но нельзя уничтожить».
Подчеркиваю, что все это я понял сразу и в одно мгновение. По-моему, мне было доступно большинство его программ – возможно, я даже читал его мысли. Я не стал с ним разговаривать (если разговор с аутистом вообще возможен) и даже не задержался, чтобы насладиться своей новой властью, а покатил дальше, распознавая различные оттенки страха на сотнях лиц. Мы все боимся чего-то помимо воинов-поэтов, и какая-то часть нашего существа испытывает страх каждый миг нашей жизни. Я быстро приноровился читать чужие программы страха. Торговый магнат боялся потерять свои шелка и драгоценности. Хибакуся, маленькая, сморщенная темнокожая женщина в залатанной одежде, попросила у него милостыню – она собирала средства на дорогостоящую операцию, могущую вернуть ей здоровье. Но купец не увидел отчаяния (и страха) на лице нищенки, потому что не смотрел ей в глаза. Он не желал смотреть на ее страдальческое лицо, на облысевшую голову, где осталось всего несколько жидких прядок. Он громко прокашлялся и проехал мимо, стараясь не зацепить женщину своей одеждой. Афазичка боялась, что мысленное употребление слов или любых других символов свяжет ее ум и лишит ее свободы мысли; эсхатолог боялся собственного страха; несколько человек с Одинокого Джека боязливо сторонились всех пришельцев, даже ласковых Подруг Человека. Мне встретился трусливый пилот по имени Диксон Дар и безмятежная с виду архатка, запорошенная снежком и пахнущая духами сиху. Не нужно было обладать искусством цефика, чтобы понять, что она боится быть принятой за притворщицу, которой в сущности и была. Ни для кого не секрет, что сиху впитывается в кожу и вызывает искусственную нирвану, которой архаты непонятно почему гордятся. Мне встретился одинокий напуганный послушник, только что поступивший в Борху. Сотни мужчин, женщин и детей чего-нибудь да боялись. Пробираясь между полных страха, тяжело дышащих тел, я попал в зону теплого, почти тропического воздуха. Толпа здесь была так густа, что мне пришлось шагать по льду, а не скользить. Магиды, щипачи и эталоны сгрудились вместе, глазея на клумбы с гиацинтами по обе стороны дорожки. Аромат цветов вызывал легкую тошноту. Стало так тепло и влажно, что я расстегнул камелайку до пояса. Один магид заявил, что это настоящее чудо – вырастить тропические цветы на такой холодной планете. Я тоже посмотрел сквозь толпу на многотысячные белые, розовые и голубые завитки. Они были прекрасны. Я перехватил взгляд какого-то толстого историка и покачал головой, разделяя с ним страх, что расходы на поддержание жаркого микроклимата и тому подобные излишества когда-нибудь погубят Орден – если только грядущий раскол не сделает это еще раньше.
Выбравшись на более прохладное место в западной части Садов, я стал осматривать поредевшую толпу в поисках того особого страха, который указывал бы на встречу с воином-поэтом. Это можно было назвать страхом перед сумасшедшими, поскольку большинство людей смотрит на воинов-поэтов как на безумцев. В детстве я часто замечал, что взрослые испытывают непонятный страх перед бормочущими всякий вздор дурачками на улицах. Почти все эти сумасшедшие были – и есть – совершенно безобидны. Как же тогда объяснить, что их боятся даже мастер-пилоты, успешно преодолевающие страх перед мультиплексом? Я никогда не понимал этого явления, но сейчас ответ вдруг пришел сам собой. Резкие движения сумасшедшего, его бессмысленные слова, дикий блеск глаз – все это как будто бы исходит из каких-то неведомых глубин его существа. Он точно колодец, из которого бьют неконтролируемые действия. Отчего же сумасшедший кажется бесконтрольным? Да оттого, что в нем не видно страха – вернее, страха определенного рода. Он ничуть не стесняется своих животных воплей или бессвязного бормотания, чем и кажется крайне опасным типичному цивилизованному человеку: ведь тот какой-то частью сознания понимает, что только страх перед мнением других людей мешает ему самому кататься по улице голым или выть на луну, когда невзгоды жизни становятся совсем уж нестерпимыми. (Если, конечно, он живет на одной из восьмидесяти шести цивилизованных планет, имеющих луны.) Страх – это клей, скрепляющий цивилизацию. Без страха перед последствиями мужчина брал бы насильно всех женщин, которые ему приглянулись, элидийские дети отрывали крылья младшим братьям и сестрам, а женщины высказывали бы мужьям свои самые сокровенные мысли. И это был бы конец света, конец всех миров, где обитает человек. Без страха мы двигались бы беспорядочно, как миллиарды непредсказуемых атомов. Повторю еще раз: сумасшедшего боятся не потому, что он опасен, а потому, что в его поведении не видно страха; это делает его непредсказуемым и способным на что угодно. То же самое относится и к воинампоэтам. Их боятся не потому, что они опасны; солнце, в конце концов, тоже опасно. Но солнце предсказуемо (или было таковым, пока Экстр не начал взрываться), а воиныпоэты, эти бесстрашные фанатики с Кваллара, – нет. Они способны на все, что придет им в голову. Проходя сквозь толпу, они сеют за собой страх – страх перед бесстрашием, который, в сущности, является страхом перед случайностью. Основной наш страх – это боязнь жизни во вселенной, не внемлющей нашим мольбам о порядке и смысле; мы страшимся этого больше, чем смерти. Именно этот след хаотического страха, оставленный воином-поэтом Давудом, провел меня через Большой Круг около Хофгартена и направил по оранжевой ледянке в самую середину Квартала Пришельцев.
У Меррипенского сквера, где на узких улицах стоят красивые трехэтажные особняки из черного камня, принадлежащие наиболее состоятельным пришельцам, я завязал разговор с цефиком, только что прибывшим с Мельтина. У него был загнанный, немного озлобленный вид странствующего специалиста; видимо, ему пришлось преподавать туповатым послушникам в захолустных школах Ордена на планетах типа Орджи и Ясмина. От него пахло дальними странствиями и страхом. Я остановил его перед отелем, где он жил, и наскоро объяснил, кого ищу.
– Да, верно, – сказал он, вытирая лоб оранжевым рукавом. – Несколько минут назад поэт в радужной камелайке… но как вы узнали?
Желая удостовериться, что это именно Давуд, а не кто-то другой, я спросил:
– Воинское кольцо у него красное, а поэтическое – зеленое?
– Что-что?
– Ну, быстро – какого цвета у него кольца?
– Я не заметил – я смотрел на лицо, а не на кольца.
– Проклятие!
Я быстро, не переводя дыхания, рассказал, что я иду за поэтом по следу страха, который тот оставляет – я думал, что он как цефик оценит мою смекалку. Но он, как многие из специалистов низшего разряда, чересчур надменно и подозрительно относился ко всем – в том числе и пилотам, – кто мог поставить под сомнение его убогий авторитет.
– С программами страха следует быть осторожным, очень осторожным. Сколько видов страха вы можете назвать, пилот?
Сколько видов программ руководит мозгом и телом человека? Я свернул с улицы на мелкую ледянку, не переставая размышлять об этом. Ледянка проходила мимо Зимнего катка. Здесь стояли восьмиэтажные дома из черного обсидиана с вогнутыми стеклянными окнами – крошечные квартирки в них располагались одна над другой, как детские кубики. Я редко бывал в этой части Города и дивился, как это люди могут жить в такой тесноте. На краю катка отдыхали на обшарпанных скамейках конькобежцы. Между скамейками и оранжевой улицей, огибающей северную половину катка, через каждые сто ярдов стояли ледяные статуи знаменитых пилотов нашего Ордена. Всего их было пятнадцать. Ветер, солнце и ледяные туманы потрудились над их лицами так, что стало почти невозможно отличить рябой и властный лик Тисандера Недоверчивого от хмурой брыластой физиономии Тихо. Я въехал на каток, и на миг у меня возникла дурацкая мысль прочесть программы Тихо по деформированному лицу его изваяния. Но даже если скульптор в свое время сумел ухватить суть Тихо и выразить ее в глыбе льда, и даже – если учитывать, что лица каждый год подновлялись, время исказило всякую информацию, заложенную в исходном материале, и сделало программы нечитабельными.
Почти нечитабельными. Острота восприятия, работающего как снаружи, так и внутри, вызывала у меня головокружение. В глазах крутились концентрические круги: атласный белесый круг Зимнего катка, где мелькали, смеялись и царапали лед пришельцы; круг красных и синих скамеек; статуи в изгибе оранжевой улицы; чуть выше – стеклянные горы жилых домов и над всем этим – мраморная корона неба. Я искал глазами воина-поэта, но его нигде не было видно. Мне очень хотелось его найти, но при этом я чувствовал, что должен обратить внимание на это свое новое восприятие, на новый способ видеть мир.
Неподалеку от меня болтался на льду хариджан в слишком больших для него коньках – толстомордый дикарь в пурпурной парке и желтых штанах, таких тесных, что все его хозяйство обрисовывалось под грязным шелком. Ботинки не давали поддержки его щиколоткам, поэтому он не чувствовал коньков и спотыкался, хватаясь за кого попало. Чем-то он напомнил мне Бардо. Я присмотрелся получше и заметил печать решимости, даже жестокости на его тонких губах. Он напоминал также и Тихо – тот образ Тихо, с которым я встретился в Тверди. В них обоих, в Бардо и Тихо, присутствовала жилка жестокости, себялюбия и неприкрытой сексуальности. Я хорошо знал, как эти черты – эти программы – проявляются у Бардо, но что касалось Тихо и этого хариджана в клоунском наряде… Я посмотрел на ледяной, полурастаявший лик Тихо и вдруг понял: жестокость в нем, в хариджане и в Бардо была запрограммирована жестокостью их отцов. Я не хочу этим сказать, что все жестокие мужчины непременно имели жестоких отцов. Источник жестокости столь же глубок и мутен, как океан – но с хариджаном дело обстояло именно так. Я читал программу его жестокости так же легко, как и его страх.
Я глотал воздух, упершись руками в колени. Вокруг были мужчины, женщины, дети и статуи моих праотцов-пилотов – и в каждом я видел набор нервов и мускулов, выдающий мне свои программы. Женщина с длинными стройными ногами неуклюже приземлилась после пируэта, и я увидел – «с одного взгляда», как говорят цефики – долгие годы упражнений и незначительную ошибку в программировании, из-за которой она опустилась на внешний край конька. Хорошенький мальчик заплакал с досады, не сумев выписать восьмерку, а другой, которого постигла такая же неудача, рассмеялся – эту программу он, возможно, перенял от своего стоика-отца. Так сколько же программ управляет мышцами и мыслями человека? Миллион двести семьдесят шесть тысяч, вот сколько. (Это, разумеется, шутка. Я привожу это число только потому, что один печально знаменитый цефик, взявшийся подсчитать и классифицировать все программы, какие только возможны, назвал именно его. В потенциале число программ бесконечно, как бесконечен и сам человек.) Есть программы, определяющие плавность нашего конькобежного шага, и есть программы, заставляющие нас намыливаться одним и тем же манером каждый раз, когда мы моемся. Мы запрограммированы бояться темноты и громкого шума и сами себя программируем бояться тысячи других вещей – например, неудач и бедности, Я читал на лицах пришельцев их сексуальные программы. Мужчины хотели женщин – высоких и темных, тощих и пухлых; женщины своим телесным языком включали мужские программы и часто руководили ими, вводя новые оттенки и желания; детьми, еще не знающими своих программ, управляли могущественные дремлющие позывы. Я видел программы любви, гордости, стыда, сочувствия, горя, меланхолии, радости, ярости и ненависти; в глазах летнемирского буддиста читалась программа веры в цикличность вселенной и в переселение дущ, у других я находил еще более странные верования; наиболее обнаженные лица носили отпечаток веры, управляющей их программами. В блестящих глазах мудрой, поразительно красивой женщины в вышитом платье утрадесского нейрологика прочитывалось умение управлять собой самостоятельно. Видно было, что очень немногие способны управлять своей верой или выполнять собственные программы. Это просто захватывало меня! Программы веры, пишущие и редактирующие другие программы, иначе называются мастер– или метапрограммами. Меня интересовало происхождение программ, управляющих нашей жизнью. Почему один человек скор, а другой медлителен? Почему одна женщина со знающей улыбкой рассуждает о неотвратимости рока, а ее сестра отрицает всякий смысл существования и глушит себя тоалачем и сексом? Неужели, как утверждают расщепители, весь первоначальный набор программ целиком записан в наших хромосомах?
Я в это не верю. Однако откуда во мне это неверие, эта программа скептицизма – не из хромосом ли? И что запрограммировало мои хромосомы? Случайности эволюции? Бог? Кто же тогда составил божественную программу или программы вселенной? Кто программирует программиста? С ума можно сойти от этих бесконечных витков причины и следствия. Я не верю в существование какого-то простого объяснения. Некоторые программы – например, младенческие, такие как плач, дефекация, сосание и сон – и правда записаны в хромосомах. Другие копируют программы наших родителей; мир, в котором мы живем, вписывает в наши нервы свои программы – порой удовольствием, но чаще огнем и болью. Происхождение некоторых программ – это тайна, которая, возможно, навсегда останется неразгаданной. И разве не тайна то, как мозг формирует сам себя, приспосабливаясь к собственной крошечной нише во вселенной, как сплетаются воедино биллионы нервных клеток, создавая триллионы связей? Акашикам очень хотелось бы раскрыть эту тайну и составить подробную карту человеческой души, но им так до сих пор и не удалось реализовать свою мечту. То, что у каждого человека свой уникальный набор программ, стало уже общим местом. Все мы гордимся своей уникальностью и часто оправдываем свое существование, глядя на звезды и заявляя, что во всей вселенной нет другого такого же существа. Мы верим в свою особость и вытекающую из нее уникальную ценность. Каждый из нас некоторым образом представляет собой свою собственную уникальную вселенную, достойную существовать не менее, чем большая вселенная вокруг нас. Я всегда в это верил и всегда рассматривал свои программы самомнения, тщеславия и ярости как очаровательные недостатки, без которых яркий самоцвет, известный мне как Мэллори Рингесс, даст трещину и утратит свой блеск, как лишенный граней алмаз. Сейчас, вглядываясь в лица других людей на катке, я уже не был в этом так уверен. Я видел самомнение в эталоне, выписывающем сложную фигуру, и тщеславие в осанке красивой чернокожей матроны с Летнего Мира. Все программы, побуждавшие меня изменять форму своего тела, любить, шутить, убивать, искать секрет жизни – каждая частица меня имела свой дубликат в другом мужчине, женщине или ребенке. Мои программы не были уникальными; только кажущаяся случайность их подбора во мне была таковой. Можно ли гордиться программами, вышедшими из унаследованных мной хромосом или из щипков моей матери, учившей меня, что лгать нельзя? Можно ли вообще рассматривать себя, как отдельное от других существо?
Для меня проблема уникальности оказалась даже труднее, чем я здесь описываю. Убедившись в своем новом умении читать чужие программы, я заглянул в себя, чтобы прочесть свою, и увидел ужасную вещь: мои программы не только не были уникальными, но я во многом был не более способен управлять ими, чем собака – своим виляющим хвостом. Даже лучшие из людей – такие, как утрадесские нейрологики – способны управлять только частью своих программ. Что до остальных – хариджанов, проституток и червячников, снующих у меня перед глазами, то воин-поэт в конечном счете был прав. Мы овцы, ожидающие своей очереди на бойне времени; мы груды мускулов и мозговой ткани, мясные машины, реагирующие на наиболее сильные позывы наших страстей – именно реагирующие, а не действующие самостоятельно; мы пользуемся готовыми мыслями, а не мыслим сами. Мы попросту роботы – сознающие, что они роботы, но все-таки роботы.
И все же… и все же мы нечто большее. Я видел однажды, как любимая собака Юрия, Куоко, животное, чьи программы заключались большей частью в том, чтобы есть, нюхать и рычать, преодолела свою программу страха, побуждавшую ее бежать, и бросилась на большого белого медведя из одной лишь любви к своему хозяину. Даже в собаках теплится искра воли. Что же касается людей, то я верю, что в каждом из нас она горит ярким пламенем. У одних оно коптит, как огонек горючего камня, у других пылает светло и жарко. Но если наша воля действительно свободна, почему же тогда роботические программы управляют нашим телом и умом? Почему мы не выполняем собственные программы? Почему не пишем их? Могут ли люди освободиться и стать хозяевами самих себя?
Нет, не могут. Я смотрел на лица тихиста и жакарандийской проститутки, и их уродство поражало меня. Сколько горького опыта, сколько отметин времени! Как уродливы и трагикомичны взрослые люди, достигшие окончательной взрослости! Глазами, освобожденными на миг от искривляющих линз собственных программ – глазами ребенка, – я увидел нечто трагическое: все мы пленники своего мозга. В детстве мы растем, и на студенистое мозговое вещество наслаиваются новые программы. В юности мы пишем многие программы сами, чтобы приспособиться к странной и опасной окружающей среде. Потом мы мужаем и находим свое место в городе, в обществе, в себе самих. Мы формируем гипотезы о природе вещей, и эти гипотезы, в свою очередь, формируют нас; пишутся новые программы, и наконец мы достигаем некоторого уровня компетенции и мастерства, даже комфорта, по отношению к нашей вселенной. Поскольку наши программы позволили нам достигнуть этого, хотя и ограниченного, мастерства, мы испытываем комфорт и по отношению к себе. Нет больше необходимости в новых программах, как нет необходимости стирать или переписывать старые. Мы даже забываем о том, что когда-то были способны сами себя программировать. Наш мозг стекленеет и становится невосприимчивым к новым мыслям, и наши программы записываются, так сказать, на жесткий диск. Именно так мы устроены. Эволюция создала нас так, чтобы вырасти, завести детей, передать им свои программы и умереть. Это путь продолжения жизни, и пламя теплится в стеклянной сфере слабо, но свободно. Мы даем достаточно света, чтобы разглядеть коды наших программ, но и только. Мы боимся, мы испытываем ужас перед тем, чтобы разбить стекло. И даже если бы мы смогли преодолеть свой страх, что тогда?
Если бы я набрался смелости, что бы я увидел? Устыдился бы, поняв, что набор программ, в которых заключается самая моя суть, мне не подвластен? А если бы я сумел написать новые программы, контролирующие этот набор? Тогда я мог бы когда-нибудь обрести уникальность и ценность, которых, как я обнаружил, так недостает мне и всей моей расе; я, как художник, сочиняющий тональную поэму, создал бы сам себя и вызвал из небытия чудесные новые программы, которых не существовало до сих пор в зыблющихся волнах вселенной. Тогда я наконец стал бы свободен, и пламя вспыхнуло бы как звезда; тогда я стал бы чем-то новым, таким же новым для себя самого, как восходящее солнце для новорожденного ребенка.
Куда девается пламя, когда его источник взрывается? Там, на Зимнем катке, в окружении катающихся, смеющихся, скачущих, гримасничающих и кричащих людей, глядя на ледяное оплывшее лицо Тихо, и на лицо хариджана в желтых штанах, и на лица всех людей на катке и во всех мирах человека, и на свое собственное лицо, я возмечтал о том, чтобы стать чем-то новым. Но это была только мечта. На той стороне катка я увидел Давуда, едущего к женщине, похожей на мою мать. Мое головокружение сменилось гневом, и я снова стал роботом.
Я мчался по льду, стараясь, насколько возможно, избегать столкновений. Ветер свистел в ушах и жалил лицо. Я опустил плечо, чтобы не задеть полуголую куртизанку. Когда эта озябшая голубокожая женщина увидела, что я мчусь во весь опор к воину-поэту, ее татуированные губы сложились в испуганное «О». Она отскочила в сторону, и Давуд меня тоже увидел. Я был ярдах в тридцати от него, но видел, что он улыбается. Восхищенной и слегка удивленной улыбкой. Он учтиво склонил голову, мускулы у него на шее напряглись, и курчавые черные волосы заколыхались на ветру. Моя мать раскрыла свой меховой воротник, и поэт вогнал ей в шею одну из своих игл, а затем помчался к восточному краю катка. Мать, провожая его взглядом, увидела меня и устремилась в противоположном направлении.
Я мог преследовать только одного из них и потому пустился вдогонку за матерью. Я настиг ее на краю катка, под мерцающей молочным блеском статуей Тисандера Недоверчивого, ухватил за меховой капюшон и заставил остановиться. Она не сопротивлялась. Я оглянулся назад как раз вовремя, чтобы увидеть, как Давуд в своей радужной камелайке исчезает в одной из восьми улиц, начинающихся от огибающей каток ледянки.
– Мама, – выдохнул я, – почему ты от меня убегаешь?
Несколько боязливых архатов в одеждах мандаринового цвета держались на расстоянии от нас, поглядывая, однако, на меня с почтением, которое архаты часто питают к пилотам. (А что такое почтение, внезапно пришло мне в голову, как не смесь любви и страха?)
– Куда побежал поэт? Что он с тобой сделал?
– Мэллори. – Она прикрыла глаза, и веки ее затрепетали, как будто ей что-то снилось. Она тяжело дышала, и один глаз слегка подергивался. Это была старая программа. Я думал, что Мехтар убрал ее, когда переделывал матери лицо, но программа, видимо, была вписана глубоко. Мать открыла глаза, прищурилась, склонила голову набок и спросила: – Зачем ты пытался выследить меня?
– Где ты была?
– И почему ты всегда отвечаешь вопросом на вопрос? Сколько раз тебе говорить – это неуважительно!
Я рассказал ей, как встретился с Давудом в Галерее Хибакуся и что за этим последовало. При этом я ковырял коньком старое дерево ближней скамейки.
– Зачем ты встречаешься с воином-поэтом, мама?
– Это была случайная встреча.
– Ведь ты же не веришь в случай.
– По-твоему, я лгу? Твоя бабушка мне давным-давно внушила, что лгать нехорошо. – И она засмеялась принужденно, как будто над шуткой, понятной ей одной. В этом смехе чувствовалось затаенное напряжение. Я уловил легкие токи неправды и обнаружил, к своему удивлению, что легко могу прочесть эту специфическую программу моей матери. Она попросту и без затей лгала.
– Тогда скажи – что поэт вколол тебе в шею?
– Ничего. – Она потрогала некрасивую деревянную пряжку, скалывающую ее воротник. – Он просто вернул мне застежку. Она упала, а он ее поднял и отдал мне.
Я оглянулся на улицу, ведущую прочь от катка между стеклянными домами. Отправившись в погоню за Давудом, я рисковал снова упустить мать. Она, в свою очередь, явно понимала, что у меня на уме, и старалась отвлечь меня от поэта.
– Он мог убить тебя, – заметил я.
– Эти звери могут убить любого, кого захотят.
– И кого же хочет убить Давуд? Соли?
– Откуда мне знать?
Ложь, все ложь.
Ее глаз опять дернулся, и я понял то, что давно должен был понять: моя мать пристрастилась к тоалачу. Этот ее тик происходил от стараний скрыть свой позор от друзей и от себя самой. Открылись мне и другие ее программы. Слой жира у нее на бедрах, говорящий о неумеренности в еде и любви к шоколаду во всех его видах; высокомерная манера разговора, эти ее обрывочные фразы, намекающие на то, что собеседникам по их малоумию ее все равно не понять (и на ее скрытую застенчивость); то, как она запрограммировала себя щуриться вместо улыбки. Цефики называют эти красноречивые внешние знаки указателями. То, что я прочел на ее лице по хмурым морщинкам и движению глаз, меня просто шокировало. Я всегда знал – хотя и не отдавал себе отчета в этом знании, – что ее чувственность носит весьма неразборчивый характер. Теперь эта сторона ее натуры открылась мне во всей своей наготе, и я, к своему безмерному смущению, увидел, что она способна вступить в половые сношения с эталоном, с мальчиком, с женщиной, с инопланетянином, с животным – даже с лучом чистой энергии, если бы акт живого организма со светом был возможен. (Архаты, к слову, верят в такую возможность.) Свой целомудренный образ жизни она вела отнюдь не от недостатка желаний. Свою необузданность, пожалуй, я унаследовал от нее.
Я так вцепился в спинку скамьи, что у меня онемели руки. Я растер их. Вокруг катка уже зажигались светящиеся шары, отражаясь во льду сотнями огней. Началось массовое дезертирство – конькобежцы расходились по ближайшим кафе. Остались только немногочисленные хариджаны – в сумерках из-за их громких криков казалось, что они совсем близко.
– Мне кажется, существует какой-то заговор с целью убийства Соли, – полушепотом сказал я. – Что тебе известно об этом, мама?
– Ничего.
По ее сжатым губам я видел, что ей известно все.
– Если Соли убьют, Хранитель первым делом заподозрит тебя. Он отправит тебя к акашикам, и они оголят твой мозг.
– Есть способы, позволяющие надуть акашиков вместе с их примитивными компьютерами, – прищурилась она.
У меня имелись собственные причины интересоваться пределами возможности акашикских компьютеров, и я спросил:
– Какие способы?
– Они есть. Разве я не твердила тебе, что всегда найдется способ перехитрить своих соперников?
– Ты, помимо этого, учила меня, что убивать нехорошо.
Подумав, она кивнула.
– Ребенку необходимо внушить некоторые… простые истины, иначе вселенная поглотит его. Но если дитя – женщина, она быстро усваивает, что можно, а что нет.
– Ты смогла бы убить Соли? Как легко мы с тобой говорим об убийстве!
– Это ты говоришь. Я еще ни разу не убила ни единого живого существа.
– Но ты послала поэта совершить убийство за тебя. Это, выходит, можно?
– Тем, кому ясна необходимость того или другого, можно все. Есть избранные, к которым законы большинства не относятся.
– Кто же выбирает их, этих избранных, мама?
– Судьба. Она метит их, и они тоже должны оставить свою метку.
– Убийство Соли – это кровавая метка.
– Все великие события в истории пишутся кровью.
– Смерть Соли, по-твоему, – великое событие?
– Без него все разговоры о расколе прекратятся, и Орден будет сохранен.
– Ты думаешь?
Она улыбнулась своей беспокойной, самодовольной улыбкой. Подул ветер, предвестник ночных холодов, и мать плотнее запахнула воротник. Неказистое пальто плохо сидело на ней. Она всегда так одевалась – для камуфляжа, как я только что понял. Люди, глядя на ее бесформенную одежду, думают, что перед ними женщина, не придающая значения стилю и не стремящаяся произвести впечатление. На самом деле мать восторгалась собой так, как будто все еще была маленькой девочкой.
– Как я ненавижу этого Соли! – сказала она.
Я долбанул коньком лед.
– Однако ты выбрала его мне в отцы.
– Только его хромосомы.
Я снял перчатку и запустил пальцы в волосы, нащупывая рыжие прядки, которые были жестче черных. Но пальцы озябли, и я почти ничего не чувствовал.
– Почему, мама? – спросил я внезапно.
– Не спрашивай меня об этом.
– Ответь. Я хочу знать.
Она вздохнула, повернув язык во рту, словно шоколадную конфету.
– Мужчины – всего лишь орудия. И их хромосомы тоже. Я украла у Соли хромосомы, чтобы сделать тебя – Главного Пилота нашего Ордена.
Я почесал нос. Она смотрела на меня, прищурившись, закусив губу и теребя свой двойной подбородок. Мне казалось, что я понял костяк ее плана. Она пойдет на все, чтобы сделать меня Главным Пилотом, собираясь потом манипулировать мной, как будто я – кукла фантаста. Когда я обвинил ее в этом, она возразила:
– Разве я способна манипулировать собственным сыном? Ты сам собой манипулируешь. Не имею никакого желания манипулировать будущим Главным Пилотом.
Она засмеялась, и я подумал, что недооценил степени самомнения, на котором основывался ее план. Я смотрел в ее глаза, казавшиеся темно-синими под тенью капюшона, и видел в них безмерную гордость и честолюбие.
– Но Орденом правит Хранитель Времени, а не Главный Пилот, – заметил я.
– Верно, Хранитель Времени, – согласилась она.
Тогда ее грандиозный замысел открылся мне во всей полноте. Уж очень красноречиво произнесла она «Хранитель Времени». Честолюбие моей матери не знало границ. Она собиралась убить и Хранителя Времени тоже, а в правители Ордена прочила себя.
Тщеславие, тщеславие, суета сует.
– Нет, мама, – сказал я, читая указатели на ее лице, – ты никогда не будешь править Орденом.
Она с шумом выпустила воздух и прижала руки к животу, словно я ударил ее.
– У моего сына большая власть. Раз уж ты меня, свою мать, видишь насквозь…
– Просто я читаю некоторые твои программы.
– Что же это они с тобой сделали? – Она смотрела на меня так, словно видела впервые, и в ее прищуре сквозил ужас. (А что такое ужас, если не смесь ненависти и страха?)
– Что сделал с тобой воин-поэт, мама?
– Не смей отвечать вопросом на вопрос! Почему ты такой непослушный? Я думала, что давным-давно научила тебя слушаться.
Мне не понравился оборот, который приняла наша беседа, а еще больше не понравилось, как мать произнесла слово «слушаться». Это было гадкое слово, а в ее устах оно приобрело и вовсе ужасный смысл. Воины-поэты славились тем, что вселяли в свои жертвы абсолютное послушание. Какой же яд ввел Давуд в ее мозг? Генотоксины, которые хорошо сочетаются с ее хромосомами и постепенно меняют самые глубокие ее программы? Или слель-вирус, пожирающий ее мозг и мало-помалу заменяющий его запрограммированными нейросхемами? Послушными нейросхемами? Возможно, ее мозг слельмимирован? Мать смотрела на темный круг катка, а я прикидывал, в какой степени ее воля уже заменена волей воина-поэта.
– Этот поэт очень опасен, – сказал я. – Он убьет тебя как муху, если захочет.
– Все мы смертны.
– Он убьет твою душу.
– Я не боюсь умереть.
– Я всегда думал, что ты боишься, мама.
– Нет, не боюсь. Разве мы, принимая смерть как должное, не освобождаемся от страха? И разве свободному человеку не все доступно? Нет, я не боюсь.
Я смахнул лед с усов.
– Мне кажется, это слова поэта, а не твои.
Она потуже затянула капюшон и заговорила медленно и мерно, как будто объясняла послушнику теорию круга. При всем ее спокойствии я различал в ее голосе ритм новых программ. Подбор слов, произношение некоторых звуков (она слишком выделяла согласные, образующиеся при пресечении потока воздуха языком), рубленая краткость фраз и мыслей – все было таким же, как обычно, и всетаки немного другим. Я читал ее, но не мог сказать, откуда взялись эти новые программы – просто из идей и верований Давуда или он все-таки мимировал ее мозг. Я вздрогнул, когда она сказала:
– Ты думаешь, Давуд мной манипулирует? Ничего подобного – это я манипулирую им. Он думает, что нашел способ постепенно подчинить себе мои программы – называй это слель-мимом или как тебе угодно. Это он так думает, заметь. Но откуда у него эта мысль? От меня – это я ему внушила. Это самый тонкий вид манипуляций – уж я-то благодаря своей матери знаю толк в этом искусстве.
Что же все-таки сделал Давуд – переписал ее программы или переделал жесткий диск? Я дрожал при мысли об этом.
– Быть может, акашики смогли бы тебе помочь, – сказал я.
– Не думаю.
– Давай я отведу тебя к ним – только скажи мне, как тебя найти.
– Разве твои друзья не сказали тебе, что я беру уроки у воинов-поэтов?
– Скажи тогда, где найти твоего поэта.
– Зачем моему сыну может понадобиться воин-поэт?
– Может быть, я хочу его предупредить, что им манипулируют. – На самом деле я хотел захватить его врасплох до того, как он мимирует мозг моей матери – если он, конечно, до сих пор еще этого не сделал. Я хотел его убить.
– Суть моих манипуляций такова, что информация о том, что им манипулируют, только заставит его поверить, будто он сможет манипулировать моими манипуляциями, заставив меня поверить, будто я манипулирую им. Это довольно сложно – впрочем, поступай как знаешь. – Она с улыбкой кивнула и повернулась к свету. Ее тень вытянулась, как черное копье, и снова укоротилась на блестящем льду. – Тобой-то никто не манипулирует.
– Бог ты мой!
– Разве я учила тебя божиться?
– Где он, этот поэт?
– Разве я сторож господину моему?
– Где он, мама?
– Сам скажи, раз так хорошо читаешь меня.
– Ты послала его убить Соли.
– Соли, – повторила она и закрыла глаза, наконец-то убедившись, что я действительно ее читаю.
– Почему он согласился убить по твоей просьбе?
– Не даром, конечно. Воинам-поэтам нужны приверженцы, вот я и примкнула к ним, а взамен Давуд…
– Когда? О Боже, мама – теперь уже поздно, так?
– Как же я ненавижу Соли!
– Мама!
– Не ищи воина-поэта – неровен час, найдешь.
– Я убью его.
– Нет, Мэллори, не уходи. Пусть он сделает свое дело. Зачем тебе нужно спасать Соли? В это самое время поэт, наверно, уже поднимается к нему на башню. Или избавляется от его охраны. Или спрашивает у Соли стихи.
Я топнул коньком об лед, пытаясь вернуть кровообращение своим окоченевшим ногам.
– Какие стихи?
– Такова традиция воинов-поэтов. Они обездвиживают свою жертву, а потом читают ей начальные строчки каких-нибудь старых стихов. Если жертва сумеет их закончить, поэт ее пощадит. Но этих стихов, конечно, никто не знает.
Я оттолкнулся и поехал прочь. Я ей не верил. Она смеялась надо мной. Не может поэт рисковать провалом, теряя время на то, чтобы спрашивать у жертвы стихи.
– Куда ты? – крикнула она, не успел я проехать и десяти ярдов.
– Предупредить Соли об этом безумце!
– Не уходи от меня! Пожалуйста!
– До свидания, мама.
Тогда она прокричала мне вслед:
Не ждал я Смерти, но она Любезно дождалась меня. Теперь на башне мы втроем: Она, Бессмертие и я.– Вот эти стихи – на случай, если он и тебя спросит.
Я пригнулся, помахал ей и покатил по льду, делая глубокие вдохи и выдохи. Я не собирался позволять убийце, мастеру слель-мима, безумцу обездвижить меня. Я намеревался сам загнать его в угол.
22 ПАРАДОКС ХАНУМАНА-ОРЛАНДО
Быть полностью живым значит быть в полном сознании.
Быть в полном сознании значит бояться.
Бояться значит умереть.
Поговорка воинов-поэтовЯ мчался на восток по ночным улицам, срезав угол через середину Квартала Пришельцев. Поэт сильно меня опередил, но он не мог знать Город так, как я. Надеялся я также, что он не сможет так же долго и быстро бежать на коньках без отдыха. Приглушенные краски больших и малых ледянок как бы перетекали одна в другую: красная сменялась оранжевой, пурпурная зеленой. Красивые дома на чрезвычайно узкой улице Нейропевцов, с балконами и кружевными каменными карнизами, были унизаны сосульками. Падающая с них капель застывала внизу ледяными бугорками и вулканчиками. Опасаясь споткнуться, я свернул на улицу Миазмов. Здесь лед был поровнее, зато имелись опасности другого рода. Из полуоткрытых дверей мнемонических логовищ исходили мириады запахов. Пахло кипящей смолой, ароматическими маслами, новой шерстью и многим другим, в том числе и наркотиками. Я вспомнил, как бежал по этой улице в день пилотских состязаний. Не верилось, что с тех пор прошло целых три года. Я прямо-таки видел Соли, плавно катящегося в пятидесяти ярдах передо мной, слышал постукивание его длинных блестящих беговых коньков. Я проехал мимо какого-то притона, в дверях которого стояли две проститутки с яркокрасными накрашенными губами. От них пахло алкоголем. Они стояли, держась за руки, около светящегося шара, где переливалась разными цветами плазма. Увидев меня, они загородили мне дорогу, и та, что повыше, с волосами как красное вино, распахнула свои меха. Под ними ничего не было. Она предложила мне пойти с ней в переулок, лечь на снег и заняться любовью – бесплатно. Она была мертвецки пьяна, и ей, несомненно, вспоминались прошлые мимолетные удовольствия, испытанные под влиянием спиртных паров. Таковы свойства этой разновидности наркотика: он позволяет вспомнить, что было с тобой во время прошлых пьянок, но мало что помимо этого. Я, унюхав флюиды шотландского виски, вспомнил ночь в баре мастер-пилотов, где впервые встретился с Соли. Я вспомнил, что ненавижу его – зачем же я тогда отталкиваю этих женщин и мчусь через весь Город, чтобы его предупредить? Почему бы не остаться и не позабавиться с ними? (Высокая была очень красива и относилась к тем редким шлюхам, которые занимаются своим ремеслом из любви к мужчинам.) Почему бы не дать Соли умереть?
Хоть я двигался быстро и успел пересечь молочную ленту Поперечной еще до нашествия ночных толп, я опасался, что Давуд доберется до башни Соли раньше меня. Если честно, я не хотел, чтобы Соли погиб. Он был моим Главным Пилотом, моим дядей, моим отцом, и я просто не мог позволить воину-поэту убить его. Кроме того, мне – уже из чистого эгоизма – хотелось заслужить его благодарность; если его сердце смягчится, он, может быть, простит Бардо с Жюстиной, а заодно и меня, и я остановлю раскол еще в зародыше. Я подумывал, не вызвать ли сани, но на узких извилистых улицах Старого Города, через который я должен был проехать, от них было бы больше помехи, чем пользы. Это был один из немногих случаев моей жизни, когда я пожалел об отсутствии телефонной связи. Я мог бы попросту позвонить Соли и сообщить ему, что Смерть уже в пути. Но если разрешить телефоны, как сказал Хранитель Времени, люди только тем и будут заниматься, что названивать друг другу со всякой дребеденью. Они начнут уславливаться о встречах в определенных местах в определенное время, вследствие чего им понадобятся часы и личные сани, в которых они будут носиться по Городу. Улицы наполнятся шумным взрывоопасным транспортом и прочим шумом – ведь стоит только выпустить технический прогресс изклетки, чтобы люди начали требовать себе личные радио, личные сенсорные коробки и мало ли что еще. В послушниках я часто посмеивался над этой теорией домино, но позже, увидев Триа, Геенну и прочие планеты, где технический прогресс не ограничивался ничем, я решил, что в этом отношении указы Хранителя Времени вполне справедливы.
Однако, добравшись наконец до Данладийской башни, я успел многократно проклясть Хранителя вместе с его указами. Ветер, дующий с призрачных предгорий Уркеля, летел над пустым Залом Пилотов и Шахматным Павильоном, между общежитиями и другими зданиями на краю Ресы, наметая снежную пыль в открытую дверь башни. Слышался жуткий звук, как будто воздух засасывало в трубу. Деревянная дверь, такая же простая и строгая, каким был знаменитый лорд Данлади, скрипела, раскачиваясь туда-сюда, и на ней была кровь. Кровь была повсюду. За дверью в вестибюле валялись трупы шестерых человек. Перерезанное горло кадетки походило на второй рот, красный и зияющий. На ней лежало тело Тимона Словоплета, пилота, окончившего Ресу за год до нас с Бардо. Тела тянулись через холодный тихий холл до самой лестницы – кадеты и пилоты явно пытались остановить воина-поэта, который накинулся на них со своим разящим ножом, как сумасшедший на стайку детей. Дочиста отмытый послушник лежал, загораживая лестницу, прильнув розовым ртом к четвертой ступеньке. Мне пришлось перескочить через него. Белоснежную шерстяную ткань у него над сердцем пятнал красный круг, похожий на вывеску резчицкой мастерской. Пахло свежим мылом, кровью и страхом.
Я поднялся по винтовой лестнице тихо, как мог, и прошел по короткому коридору к комнатам Соли. Ботинки стучали по камню, дыхание вырывалось из легких, как ракетный выхлоп, и я боялся, что этот шум насторожит воина-поэта, если ему есть еще чего остерегаться. Белые шкуры на полу приемной были залиты кровью порученца Соли, кадета Маркомана ли Тови. Он, мертвый, скорчился на полу со свернутой и располосованной шеей. Руки у него казались вывихнутыми, голова запрокинулась назад, как у куклы, смертный оскал обнажил красивые белые зубы. Все прочее в комнате – ковры на стенах, низкие кушетки, столики, молитвенники, шахматы и кофейный сервиз – осталось нетронутым. Дверь в комнату Соли была приоткрыта – я вошел, и меня встретил хаос. Я еще ни разу не бывал в святилище Соли и удивился, увидев множество комнатных растений. Кадки и горшки стояли на полу, на полках, свисали с черного обсидианового потолка. (Данладийская башня, кажется, единственное здание в Городе, целиком построенное из этого стекловидного материала.) Все здесь было перевернуто вверх дном. Груда растений вперемешку с битыми горшками загромождала камин, и зелень поджаривалась на горящих поленьях. Черная земля и черепки хрустели у меня под ногами, пахло раздавленными цветами ширы. Сквозь листву покосившегося куста я увидел их обоих. Соли, словно кокон, был примотан к стволу спинакера липкими белково-стальными нитями, выращиваемыми в Квалларе. Он метался, как рыба, попавшая в сеть, и дергался из стороны в сторону, пытаясь опрокинуть дерево. Но оно было слишком велико и росло в огромной кадке, вмонтированной прямо в пол. Листья на ветках, протянувшихся к потолочному окну в двадцати футах над нами, тряслись, и треугольные желтые цветки, лениво кружась, падали на пол.
– Пожалуйста, Мэллори, ближе не подходи.
Это произнес воин-поэт, наполовину скрытый стволом дерева. Его радужная камелайка была испачкана кровью, и на сером стволе там, где поэт к нему прислонился, тоже виднелась кровь. Давуд приставил острие своего тонкого ножа к углу глаза Соли.
– Я как раз собирался перерезать ему зрительный нерв, но ты снова преподнес мне сюрприз.
Широко раскрытые, одурманенные глаза Соли подергивались. Почти все мускулы у него на лице оцепенели, со лба катился пот. Он него разило страхом.
– Отпусти его, – сказал я, подходя ближе. Давуд вытянул руку, останавливая меня.
– Твоя мать не должна была раскрывать тебе наших планов. Как ты заставил ее говорить?
– Отпусти его, – повторил я.
– Но момент еще не настал. И потом, моему ордену заплачено за его смерть.
– Я знаю. Расскажи, что ты сделал с моей матерью.
Он, не отвечая, положил руку на голову Соли.
– Твоя мать хорошо заплатила за эту возможность.
– Возможность? – Я не понимал, что он имеет в виду. Соли смотрел на меня пустыми глазами так, будто вовсе ничего не понимал. Лицо у него стало бессмысленным, как у аутиста – на нем ничего нельзя было прочесть, кроме боли и страха.
– Что это за яд, который отнимает у человека самосознание и делает его программы нечитабельными? – спросил я. Мне страшно хотелось броситься к Соли и лупить его по лицу, пока он не придет в себя. Я не хотел видеть его таким.
– Нет, пилот, не шевелись! Мы почти уже достигли момента возможного, – в порядке информации сообщил поэт – возможно, он прочел программу моего любопытства. – Соли почти жив: еще немного – и он возродится.
Соли внезапно издал вопль и прокусил себе губу. Кровь через подбородок потекла по шее. Кровавый лепесток нижней губы прилип к зубам, в рваном отверстии виднелись резцы. Все мускулы его тела напряглись разом, скрутившись в сотрясаемый спазмами узел. Судороги грозили поломать ему кости и порвать связки, но Мехтар не зря переделал его в алалоя – на совесть переделал.
– Ему больно! Он страдает!
– Пожалуйста, оставайся на месте, – улыбнулся Давуд, – не то Главный Пилот умрет до наступления момента.
– Ты нарочно его мучаешь!
– Конечно – как же иначе его пробудить? Боль – это молния, которая озарит его ум и заставит его проснуться. – Он запустил свои толстые пальцы в мокрые от пота волосы Соли и стиснул кулак. Его красное кольцо просвечивало сквозь черные пряди, как лужа крови. – Смотри, как полно живет сейчас Соли. Я дал ему наркотик, и звуковые волны моего голоса бьют в него, как кулаки. Чувствуешь ты запах масла каны от моих духов? Для Соли это кислота, разъедающая его ноздри и легкие. Ты не можешь себе представить, какую он терпит боль. Лучи светильников пронзают ему глаза, как ножи. Он жаждет закрыть глаза, он молится об этом. Еще чуть-чуть – и я воткну ему в глаз свой нож, вот сюда, где проходит нерв. Вот тогда-то молния и расщепит его голову! И настанет момент, пилот, единственный, ярче молнии – момент без страха. Я отниму у робота малую жизнь и дам ему большую. Уже скоро – ты сам видишь, что он почти готов.
– Но ведь он умрет!
– Нет, он обретет истинную жизнь – в свой последний момент – и в бесконечных витках вечности будет переживать его снова и снова.
– Это безумие!
– Он готов! Смотри – страх бушует в его глазах, как океан. Он слышит каждое мое слово, но ничего не понимает и знает одно: страх. Страх, кольцо вечности, боль.
– Нет!
Я не желал больше слышать проповедей поэта. Мне было все равно, победит ли Соли мастер-программу своего страха, чтобы прожить свой великолепный момент. Способ, которым поэт внедрял свой символ веры в его тело, вызывал у меня тошноту. Почему фанатикам всегда требуется заражать других вирусом своей религии? Почему большинство религий вторгаются в жертву силой, бросая ее в жар, и через нее заражают, как чума, еще больше жертв? К чему все это безумство? Я увидел, как нож приближается к раскрытому глазу Соли, и закричал:
– Нет!
Я двинулся через комнату. Я вступил в замедленное время и потому двигался с невероятной скоростью. Думаю, этот мой молниеносный бросок и спас Соли жизнь. (Малую жизнь. Обыкновенную жизнь пилота, наполненную математикой и странствиями.) У поэта не осталось больше времени для пыток. Он мог бы убить Соли сразу, но тогда пришлось бы отказаться от «момента возможного», и убийство, согласно его извращенной вере, совершилось бы без всякой пользы. Увидев, как я перемахнул через вырванный с корнем куст, он недовольно скривил свои полные красные губы. Видно было, что ему не хочется меня убивать. Его голос излился, как вино:
– Еще чуть-чуть, и ты мог бы стать одним из нас, Возлюбленным вечности.
Он тоже перешел в замедленное время. Его кольца, красное и зеленое, крутящийся плащ и сверкающая сталь слились в сплошное пятно. Я знал, что единственная моя надежда – избегать его пальцевых ножей и отравленных игл, спрятанных под плащом, уворачиваться от его кулака, а главное, не дать его большому ножу задеть себя. Я должен был подойти к нему вплотную, чтобы схватиться с ним. Тогда я смогу пустить в ход приемы Хранителя Времени, используя мощь своих алалойских костей и мускулов.
Но подойти к нему было не так-то просто. Он, должно быть, сразу разгадал мою стратегию и сначала попытался пырнуть меня в живот, а потом полоснуть по пальцам. Я почувствовал, как их кончики ожгло, словно молнией. Скосив глаза, я увидел, что он обрезал с мясом два моих ногтя. Там медленно-медленно – как все происходит в замедленном времени – скапливалась кровь. Мы кружились и метались по комнате, ломая оставшиеся растения. Я стукнулся головой о подвесной горшок с папоротником. Кровь из моего сжатого кулака брызнула на листья, медленно расплываясь по зеленому в прожилках кружеву. Я сделал выпад, целя поэту в горло, но он отскочил в сторону легко, как балерина. Хотя мы оба увязли в янтаре замедленного времени, мне казалось, что он движется быстрее меня. Либо это действительно было так, либо он читал мои программы и предвосхищал мои движения. Искусство воинов-поэтов проявлялось во всем своем смертоносном блеске.
Существовало, однако, одно искусство, недоступное им. Тем, кто каждый миг живет на грани смерти, не дано овладеть пассивным, меланхолическим, полным тайного страха мышлением скраеров. Да и кто способен понять таинственный танец снов о будущем, который разыгрывается перед внутренним взором скраера? Откуда приходят к нему эти образы и как обретают зримую форму? Предполагается, что скраерство и мнемоника – две стороны одного явления. Если верно, что вселенная вечно повторяется, как драма в стихах, в точности так же разыгрываемая теми же актерами во время каждого спектакля, то разве древняя память не равнозначна видениям далекого будущего? Все возможно. Едва избежав удара, направленного Давудом мне в глаза, и вдохнув запах масла каны, я начал вспоминать – так мне тогда подумалось. Образы, пришедшие ко мне, были похожи на недавние воспоминания. ВотДавуд порезал мне пальцы, вот направил нож мне в висок, вот достал из-под плаща дротик, покрытый пурпурным ядом бо. Но тут до меня дошло, что это не воспоминания, а нечто новое. На миг мне показалось, что я не вижу эти картинки по-настоящему; затем, в неизмеримо короткую частицу времени, я заключил, что просто читаю едва заметные движения мускулов, выдающие боевые программы Давуда. Я решил, что эти указатели позволяют мне реконструировать его последующие ходы. Он сделал выпад, выхватил пурпурный дротик, и кожа у меня на ладони раскрылась, как огнецвет – все происходило в точности так же, как мне привиделось. Внезапно я понял, что не читаю его программы – вернее, не просто читаю. Я видел все очень реалистично, в цвете и движении. Давуд метнул дротик мне в шею, но я почему-то успел увернуться, и дротик в меня не попал. Значит, я все-таки читал его программы? Нет, вряд ли. Воинов-поэтов с детства учат маскировать их. Для воина выдать свои намерения – это грех. И дело не только в этом.
Согласно теории игр, воин должен вводить в свои действия некоторое количество случайных элементов, иначе противник может вычислить его стратегию. Поэтому некоторые выпады и финты Давуда были случайны. Его мускулы и нервы были натренированы – запрограммированы – в определенные моменты сокращаться и реагировать самопроизвольно. Он мог запланировать пинок в пах, а его нога вместо этого била в горло противника. Я не мог прочесть эти случайные программы, поскольку они возникали внезапно, под влиянием импульса, и не мог прочесть другие программы, поскольку они были замаскированы. Но если я этого не мог, откуда приходили эти живые картины? И как мне до сих пор удавалось уворачиваться от его ножа?
Я скраировал – я понял это сразу же, как только попытался от этого отречься. Я вошел в этот особый, меланхолический мир, где жизнь (и смерть) представлена, как медленная, почти абстрактная картина, которая вот-вот осуществится. Передо мной сверкнула яркая вспышка, словно осветившая огромный темный зал. Мои глаза были открыты, но я на миг ослеп для реальных вещей и событий. Я видел только образы – яркую мозаику возможностей. Ветки спинакера, запятнанный красным ковер, зеленые, желтые и красные цвета растений, радужная камелайка Давуда, его острый, как лезвие, нос, его такие живые, спокойные и чуткие глаза – все это как бы колебалось, сливаясь в море красок, которые струились, перестраивались и складывались в тени, углы и линии, показывая мне воина-поэта в движении. Я «видел» его руки, ноги и плащ, как сплошной световой блик. Между этими образами, этими будущими нужно было сделать какой-то выбор. Он целил мне в глаза, в горло, он упирался ногой в пол, чтобы полоснуть меня по рукам. Все эти возможности ошеломляли меня. Я слеп, когда его нож попадал мне в радужку, немел, когда нож пересекал горло, я не мог схватить за горло его самого, потому что он обрубал мне пальцы. Но из всех этих будущих могло осуществиться только одно: его нож не мог быть в тысяче мест одновременно. Он двигался, продолжал двигаться, не мог не двигаться. Ковер событий, которые должны были вот-вот осуществиться, ткался непрерывно. Серебряная нить ножа Давуда, яркие декоративные пятна его колец, черные завитки его волос, черные с рыжиной пряди моих, золотые, пурпурные и оранжевые нити его камелайки – все нити моей жизни туго сплетались воедино. Но в конечном счете мы сами выбираем свое будущее, как сказала бы Катарина. Да, она говорила это и всегда будет говорить. Будущие формировались внутри и вне меня, и Давуд собирался сделать очередное движение. Я скраировал – это было чудесное и жуткое ощущение. Я смотрел в глаза Давуда и видел, как колеблются синие и лиловые волокна его радужки и расширяются зрачки. Это было видение.
Я видел в разрезе мускулы его глазного яблока и длинные лиловатые белковые волокна, а еще глубже вибрировали атомы углерода, водорода, кислорода и азота, из которых и строился белок. Глаза Давуда, драпировки на стенах, капли крови на его ноже – во всем этом присутствовали белки. И атомы этих белков складывались из еще более мелких частиц, обладающих собственным зарядом и массой, цветом и спином – все это тоже двигалось и излучало энергию. А еще глубже… Комната растворялась в сиянии, и мельчайшие частицы разворачивались, как шары пестрого шелка. Это была бесконечность переплетающихся, полихромных, шелковых нитей, состоящих из… нет, для столь глубоких структур реальности уже не существует слов. Нити пылали багрянцем и сияли золотом, они были стоячим волновым фронтом механиков, и теоремами канторов, и сознательным выбором пилота в замедленном времени. Я шел по нити сознания, слепо глядя на все окружающее, и вдруг понял, как понимают все скраеры, что наблюдаю, как ткется ковер вселенной. Я видел, как разворачиваются нити вселенской голограммы. В каком-то смысле я расшифровывал эту голограмму, заглядывая вперед, ибо что такое скраерство, как не прочтение мастер-программы вселенной? Но в конечном счете мы сами выбираем свое будущее. Один формирующийся узор, составленный из красивых (и жутких) радужных нитей, казался ярче других. Нити сплелись, и зелень вспыхнула изумрудом, а лиловые тона превратились в пылающее индиго. Проявилась пестрая камелайка, красное воинское кольцо, стальной нож. И выбор представился – выбор есть всегда. Давуд, сделав свой выбор, направил нож в мой незащищенный живот. Но я увидел это движение еще до того, как поэт его сделал, и вильнул в сторону. Давуд замахнулся, целясь мне в горло, но я перехватил его руку, и она хрустнула. Когда же он перекинул нож в другую руку, я отскочил и довольно неуклюже пнул его в пах.
Обыкновенного человека такой пинок изувечил бы. Но воины-поэты, как я узнал после, в период созревания подвергаются операции, позволяющей им произвольно втягивать мошонку в живот. (Сплетня о том, что у воинов-поэтов между ног гладко, разумеется, неверна. Неправда и то, что они не испытывают влечения к женщинам. Поэты не могут не поклоняться страсти, хотя и не допускают физических ее проявлений. Воздержание повышает активность, говорят они.) Давуд лишь пошатнулся и тут же метнул в меня дротик с оранжевым наконечником, который пролетел в дюйме от моей головы, задев несколько длинных волосков за ухом.
– Хорошо! – выдохнул поэт. – Просто отлично.
– Будь ты проклят!
– Помоги мне, пилот.
– Убери нож.
– Помоги мне с Соли.
– Ты спятил!
Мы продолжили свою смертельную игру, и он, видимо, стал понимать, что здесь что-то не так. Он должен был бы убить меня с первого удара. Что-то пошло наперекос, и он явно это понимал, потому что стал разговаривать со мной, стараясь меня отвлечь. В это время я захватил его здоровую руку, сломав и ее тоже. Нож вылетел и упал в гущу перемешанных с землей корней. Я схватил поэта за бицепсы и притянул к себе. Я думал, что он закричит или ужаснется, увидев острые края кости, прорвавшие камелайку, но ничего подобного не произошло. Он улыбался и водил языком по зубам, как будто старался извлечь застрявший в них кусочек ореха бальдо. Но во рту у него был не орех, а крошечный дротик, и он плюнул им в меня, едва я успел заслонить свое лицо его рукой. За миг до того, как его парализовало, поэт выдохнул:
– Скраер-пилот, воин-пилот – я должен был догадаться.
Судорога свела его тело, и оно оцепенело, как у Соли. Я порылся у него в карманах и нашел золотое веретенце, которое носят при себе все воины-поэты. Я потряс полую трубочку над ухом – внутри плескался жидкий белок. Сосудик был почти полон. Я приставил один конец к груди поэта, нажал на другой. Струйка брызнула, затвердевая и превращаясь в стальную нить. Вскоре я, приподняв поэта над полом, обмотал его с головы до ног липким коконом.
Я победил воина-поэта!
Скраерское зрение покинуло меня, и я вернулся в реальное время. Я сел, прислонившись к каучуковому дереву, обессиленный, ликующий и напуганный. Давуд постепенно восстанавливал власть над своими мускулами. Либо он получил гораздо меньшую дозу, чем Соли, либо его ускоренный обмен веществ уже удалил яд из организма. Соли оставался оцепеневшим и неподвижным, как робот.
– Как мне его освободить? – спросил я Давуда.
– Освободи сначала меня, – сказал он, с трудом ворочая челюстью. – Пожалуйста.
Шутит он, что ли? Я не видел ни малейшей причины его освобождать.
– Воин-пилот, скраер-пилот – ты меня слышишь? У нас на Квалларе свой кодекс чести. Освободи меня и верни мне нож или убей меня сам – я должен умереть.
В его голосе не было даже намека на обман. Воин-поэт не должен пережить позор, который несут с собой поражение и плен. Я был уверен, что, если освобожу его, он тут же вгонит нож себе в глаз, поразив мозг – именно так должен убить себя воин-поэт, когда приходит его время. Все существо Давуда выражало волнение. Будь он деваки, он прибег бы к времени узва, или взволнованного нетерпения, чтобы показать всю меру потребности исполнить этот свой долг.
Я нагнулся и подобрал его нож, облепленный влажной землей. На оливковой шее поэта пульсировала большая артерия. Я мог бы легко убить его, как деваки добивают раненого шегшея. Зачем отказывать ему в его наивысшее мгновение?
– Я мог бы убить тебя, – сказал я.
– Пожалуйста, пилот. Сделай это.
– Я прямо-таки должен тебя убить.
– Я слышал, тебе это не в новинку.
Я колебался, соскабливая ногтем грязь с ножа. В глазах воина-поэта был страх.
– Убей меня быстро, – сказал он.
– Выходит, убивать легко?
– Легко, пилот. Ты должен это знать. Скорее же, пока момент не прошел.
Я боялся убить его, а он боялся моего страха. Боялся, что я его не убью и он упустит свое наивысшее мгновение. Тогда он будет обречен на давящую серость повседневной жизни, а это единственное, чего страшатся все воины-поэты – теперь я это понимал. Ну а если я помогу ему перейти на ту сторону, как он просит? Тогда он будет мертв, как камень, и никакие возможности уже вовек не смогут осуществиться.
– Нет, – сказал я. – Не могу.
– Чтобы жить, я умираю – ты ведь знаешь эту нашу поговорку, пилот. Когда я умру, я буду жить снова – вечно.
– Будь ты проклят вместе со своими парадоксами!
– Да, это парадокс Ханумана-Орландо.
– Так у него и название есть? – поигрывая ножом, спросил я.
– Да. Воин Иван Хануман и великий поэт Нильс Орландо, основатели нашего ордена, понимали изначальный парадокс существования. И нашли выход.
Со стороны спинакера донесся стон. Кадык Соли ходил вверх и вниз, но говорить он не мог.
– Что же это за выход? – спросил я.
– Если вселенная постоянно повторяется, то никакой смерти нет. Бояться нечего. Момент возможного переживается вновь и вновь, вечно. Дай мне нож, и я покажу тебе. Мы будет переживать этот момент миллиард раз.
– Не верю я в вечное повторение.
– В это мало кто верит.
Я не стал ему говорить, что скраеры и мнемоники, все как один, верят, что вечное повторение – это ритм вселенной, и заявил:
– Это философия абсурда.
– Да, но это единственный способ разрешить парадокс, потому мы в нее и верим.
Глаза щипало. Я потер их и занес туда еще больше грязи, вызвав обильное слезотечение.
– Вы добровольно верите в философию, которую сами признаете абсурдной? Это еще абсурднее.
Соли застонал и пошевелил губами, силясь что-то сказать. Нас он скорее всего не видел, поскольку не мог повернуть голову.
– Да – когда страха больше нет, мы сами выбираем, во что нам верить.
– Но верить в абсурд? Как это возможно?
– Возможно, потому что парадокс решается только так. Потому что это дает нам силу жить и умирать. Потому что это успокаивает.
Я попробовал нож большим пальцем – он был очень острый.
– Не понимаю, как можно верить в невозможное, сознавая, что оно невозможно.
– И все же я верю, как верят все воины-поэты, что вот этот момент нашего спора будет повторяться бесконечное количество раз. А когда ты убьешь меня или доверишь эту честь мне, моя смерть тоже будет повторяться снова и снова – как уже было миллиард миллиардов раз.
– Миллиард миллиардов – это даже не приближение к бесконечности.
– Да? Ну что ж, я ведь поэт, а не математик.
Я рубанул ножом по одной из веток каучукового дерева, и она с тихим чмоканьем отвалилась. Я тут же почувствовал вину и зажал большим пальцем сочащуюся рану.
– Я не могу разделить с тобой твою веру. Дав тебе умереть, я дам умереть самому чудесному, по твоим же словам – полноте твоей жизни.
– Нет. Момент будет жить вечно.
– Нет. Когда свет гаснет, становится темно.
– Не бойся, пилот.
– Мы кружим около слов друг друга, как двойные звезды.
– Убей меня.
– Если я это сделаю, что будет с моей матерью? Ведь ты ее мимировал? Нет уж, ты будешь жить и скажешь мне, как ей помочь.
Я почесал нос. Я не хотел его убивать еще и по другой причине: я хотел узнать, что происходит с человеком, чей мозг заражен вирусом, хотел узнать об узком лезвии между жизнью и смертью.
– У Лао Цзы есть одна хайку, – сказал я. – «Физическое мужество дает человеку возможность умереть, моральное мужество дает возможность жить».
Он ответил мне улыбкой, полной юмора и иронии.
– Ты умный человек, пилот.
Я посмотрел на Соли, извивающегося в своем коконе, и сказал:
– Когда воин-поэт обездвиживает свою жертву, он, кажется, читает ей стихи? И если жертва способна закончить строфу, он обязан ее пощадить – это правда?
– Правда.
Я склонился над ним, лежащим, уловил идущий от него апельсиновый запах и сказал:
– Тогда слушай:
Не ждал я Смерти, но она Любезно дождалась меня.– Знаешь ты эти стихи, поэт? Закончи их!
– Ты глумишься над нашей традицией, – сказал он и неохотно прочел:
Не ждал я Смерти, но она Любезно дождалась меня. Теперь на башне мы втроем: Она, Бессмертие и я.Соли наконец обрел дар речи и стал кричать:
– Больно! Больно! Убейте меня! Я не могу больше!
Его лицо блестело от пота, он грыз губу, и в глазах его было безумие.
– Когда твой наркотик перестанет действовать? – спросил я Давуда.
– Ты не понимаешь, пилот. Этот наркотик не похож на тот, который парализовал меня или тебя. Он никогда не переработается полностью. Основной эффект ослабнет через час, если человек будет жив, но Соли навсегда сохранит особую чувствительность к своему… моменту возможного.
Я подошел к Соли и попытался помешать ему грызть свою губу. Я попробовал также перерезать его путы, но они были прочнее стали.
– Главный Пилот! Мой Главный Пилот! – Но он, казалось, не понимал, что я говорю.
– Он слышит каждое твое слово, но смысл до него не доходит, – пояснил Давуд. – Все, что он сознает – это боль.
С лестницы донесся шум, похожий на лязг металла о камень – как видно, Хранитель Времени послал в башню своих роботов.
– Все будет хорошо. Соли… роботы тебя освободят.
– Больно, – ответил он. – Больно.
Лязг стал громче – по обсидиановым ступенькам топало много ног. Похоже было, что целая армия роботов поднимается по лестнице. Поэт, как видно, покорился судьбе, но его покорность скрашивалась иронией.
– Ничего. Главное, что Соли скоро полегчает, – сказал я, и тут в приемную ввалились два огромных красных полицейских робота. Не останавливаясь, они прошли дальше, к нам. Два других робота шли за ними, еще двое замыкали шествие. На панели управления у них был выгравирован контур песочных часов. Этих роботов Хранителя Времени называли «длинной рукой Главного Горолога», и использовались они в тех редких случаях, когда в Городе требовалось навести порядок.
– Я взял в плен воина-поэта, – сказал я им. – Он пытался убить Главного Пилота.
Я ждал, что они скажут что-нибудь – даже, как это ни глупо, поздравят меня или сообщат, что Хранитель Времени благодарен мне за столь своевременное вмешательство. Но они действовали молча, и единственными звуками были скрип и лязг. Один робот схватил своими холодными пальцами меня, другой поднял поэта и бросил его в подставленные захваты третьего. Тот сжал свои клешни и замер в режиме ожидания. Два других сканировали помещение. Я боролся, но это было бесполезно. Я вкратце рассказал роботам, что здесь произошло, но это было все равно что объяснять основы шахматной игры радиоприемнику – они меня просто не слушали.
– Вы что, не можете отличить пилота от поэта-убийцы? – крикнул я.
Давуд, с лица которого не сходила улыбка, засмеялся.
– Это же роботы. Прости их за то, что они делают.
Роботы потащили нас прочь. Я злился на Хранителя за то, что он не присутствует здесь лично. Мне не терпелось пожаловаться ему на действия его роботов и рассказать, как я спас Соли от пыток и смерти. Я лупил робота кулаком, обдирая костяшки, я вырывался и ругался, а Соли все это время кричал:
– Мне больно, больно, больно, больно!
23 ПЛУТОНИЕВАЯ ПРУЖИНА
Добрый христианин должен остерегаться математиков так же, как и всех лжепророков. Есть опасность, что математики уже заключили договор с дьяволом, дабы затемнить дух человеческий и обречь человека на муки ада.
Блаженный АвгустинПочему человек ищет какой-то справедливости в откровенно несправедливой вселенной? Неужели мы настолько мелки и тщеславны, что не можем смотреть в неприкрытое лицо случая, не моля его улыбнуться нам только за то, что мы ведем себя хорошо и правильно? Если искать справедливости нас действительно побуждает тщеславие, то Хранитель Времени – самый тщеславный из людей. Он, как я уже говорил, знаменит своими приговорами. Не сомневаюсь, что когданибудь скульпторы снабдят его бюст надписью «Хорти Справедливый» – он вполне заслужил этот титул. Узнав о покушении на Соли, сей мрачный старец вынес самое мудрое из своих суждений. Его роботы притащили Давуда и меня в подвал его башни и заперли там в одинаковых смежных камерах. Камера представляла собой кубическое каменное помещение, каждая сторона которого насчитывала сто один дюйм. (В последней фаланге моего мизинца ровно дюйм длины, и я от нечего делать занялся измерением своей камеры.) Пол в ней выложен холодными плитами, а потолок, насколько я мог рассмотреть, состоит из цельного куска черного камня. Нас втолкнули внутрь и задвинули за нами двери. Меня поглотил мрак – абсолютный мрак. Я просунул пальцы в щель между косяком и дверью – без всякой пользы. Дверь, вырубленную из сплошной глыбы камня, сдвинуть было нельзя.
Я бросил вызов Хранителю Времени, и за это он обвинил меня в покушении на Соли – такой логический вывод напрашивался сам собой. Его роботы наверняка информировали его, что я взял в плен воина-поэта. Что же он сделает – отправит меня к акашикам, чтобы я смог доказать свою невиновность? Сомнительно. Самые разные вопросы осаждали меня во мраке камеры. Где моя мать? Где Соли? Неужели он поверил, что я тоже состоял в заговоре, имевшем целью его устранение? Мог поверить, если наркотик поэта повредил его разум. Рассказал ли Хранитель всем, что я пытался убить Соли, или никому не сказал? Может быть, Бардо и другие мои друзья в этот самый момент пришли к нему с просьбой о моем освобождении? Но как это возможно, если они не знают, где я? И еще: если Хранитель хочет моей смерти, почему я до сих пор жив?
Мы с поэтом ожидали решения Хранителя, разговаривая друг с другом. Под потолком проходил узкий воздуховод, соединяющий наши камеры. Я обнаружил, что, подпрыгнув и подтянувшись к нему на руках, можно говорить нормально, без крика. Но я мог висеть так всего несколько минут – потом руки немели и приходилось спрыгивать. Мы читали друг другу стихи, забавлялись каламбурами и спорили о том немногом, на что у наших двух орденов были общие взгляды. Я в этих спорах почти всегда проигрывал. Воины-поэты, должен сознаться, очень ловко играют словами – ловчее даже, чем неологики или семантологи. Давуд говорил вроде бы ясно, но слушать его надо было очень внимательно, иначе смысл ускользал, как живая верткая рыба из намыленных рук. Однажды я упомянул о невероятной странности того, что воины-поэты и Твердь имеют одинаковую привычку спрашивать у своих жертв стихи, и Давуд на это ответил:
– Ах да, Калинда Цветочная. Она всегда… интересовалась воинами-поэтами.
– Калинда?
– Так мы называем эту богиню.
– Агатангиты ее тоже так называют. Но почему Цветочная?
– Потому что ее считают женщиной, а женщины всегда ассоциируются с цветами. Кто знает, откуда они берутся, имена?
– И ты говоришь, она знает о вас, поэтах?
– Конечно. Когда-то мой орден пытался выращивать и поэтесс, но это закончилось катастрофически. Калинда – Твердь – положила этому конец.
– Вот не думал, что боги интересуются людскими делами.
– Много ты знаешь о богах, пилот.
– «Мы для богов то же, что мухи для мальчишек, – процитировал я. – Они убивают нас ради забавы».
– Как же, как же. Шекспир. Превосходно.
– Боги есть боги и делают, что им вздумается.
– Ты так думаешь?
Я вспомнил о своем путешествии на Агатанге и выдохнул, держась за край трубы:
– Боги делают и переделывают нас по своему подобию.
– Вот тут ты как раз и ошибаешься, – прогремел мне в ухо его голос.
– Не знал, что поэты так хорошо разбираются в эсхатологии.
– Откуда в тебе столько сарказма, пилот?
– А почему вы, поэты, всегда отвечаете вопросом на вопрос?
– Разве ты задал мне вопрос?
Так мы препирались, наверное, несколько суток – в полной темноте о времени судить трудно, – а потом поэт умолк и не отвечал мне, когда я его звал, что я проделывал каждые несколько часов. Я был уверен, что его казнили, обезглавили по приказу Хранителя Времени, но тут он отозвался. Я сам удивился облегчению, которое испытал, узнав, что он жив.
– Я побывал у вашего Хранителя Времени, – сказал он. – Вот у кого умная голова. Сказать тебе, какой приговор он мне вынес? Он казнит меня так, чтобы не нанести обиды моему ордену. Он справедлив.
– Нет, – буркнул я, пытаясь удержаться на трубе. Носки ботинок в поисках опоры скользили по гладкому камню. – Он такой же, как все люди.
– Он милосерден. Его приговор – плод высокой мысли.
– Он варвар.
– Пилоту, разумеется, этого не понять.
– Нормальный никогда не поймет безумца.
– Что такое, в сущности, безумие?
– Это только безумцу известно.
– Только упрямый пилот способен отрицать, что приговор Хранителя Времени гениален.
В некотором смысле этот приговор действительно был мудрым и даже утонченным, хотя гениальным я его никогда бы не назвал. Хранитель попросту вспомнил один древний и варварский способ казни. В пустой камере, примыкающей к темнице поэта (мы с ним были единственными узниками в башне, единственными за много-много лет), технари поместили механизм, который при поступлении определенного сигнала выделял облако ядовитого газа. В механизме находилось микроскопическое количество плутония, и сигналом был последовательный распад нескольких его атомов. Давуд мог прожить еще несколько лет или, что гораздо вероятнее, умереть в следующую минуту – он поймет, что миг настал, только когда услышит шипение газа и ощутит его едкий уксусный запах. Орден Давуда может обвинить в его смерти только случайность – для воина-поэта в такой смерти никакого позора нет.
– Хранитель уж наверняка положил в свою проклятую машину побольше плутония, – сказал я, – поэтому твоя возможность прожить больше нескольких дней приближается к нулю.
Я умолчал о том, как шокировало меня известие об имеющемся у Хранителя запасе плутония. Это было самым большим варварством в варварском замысле Главного Горолога.
– Плутония, разумеется, будет достаточно, – согласился Давуд. – Но ты упускаешь суть.
– Вот как? Тогда объясни мне.
– Представь на мгновение, что ты – глава моего ордена, Дарио Красное Кольцо. Когда Дарио прибудет в ваш город и спросит обо мне «Жив ли он?», ваш Хранитель Времени, не кривя душой, сможет ответить, что не знает. Жив ли я? Никто этого не может знать. Достоверно известно лишь то, что я нахожусь в запертой камере. В чистилище. Произошел ли распад плутония? Такая вероятность есть. Степень того, насколько я жив, представлена волновой функцией, сочетающей в себя вероятности жизни и смерти. Лишь когда мою камеру откроют и Дарио с вашим Хранителем Времени войдут туда, одна из вероятностей осуществится, а другие отпадут и волновая функция перестанет существовать. Только акт осмотра выявит, жив я или мертв. До тех пор никто за пределами моей камеры не может считать меня ни живым, ни мертвым. Точнее, я жив и мертв одновременно. Поэтому я не думаю, что Хранитель Времени когда-либо позволит открыть мою камеру. Ведь пока этого не произойдет, ваш орден нельзя будет обвинить в моей смерти.
– Но ведь это абсурд!
– Мой орден любит абсурдные ситуации и парадоксы, пилот.
– У меня создается впечатление, что в математике ты полный профан.
– Я говорю с философской точки зрения, а не с математической.
– Вероятность…
– Ну да, конечно – есть возможность, что плутоний никогда не распадется и я никогда не умру.
– Умрешь, будь спокоен. Хранитель Времени об этом позаботится.
– Еще бы! Но это будет высокая смерть. Я должен сложить стихи, чтобы ознаменовать это.
– Не знать, станет ли будущее мгновение для тебя последним или нет – ведь это же ад!
– Нет, пилот, не ад. Мы сами творцы своего рая.
– Сумасшедший! – Я отцепился от воздуховода и спрыгнул на пол.
Ответ Давуда едва внятно дошел до меня сквозь толстую стену:
– Ты просто боишься, что газ убьет заодно и тебя.
Давуд сообщил мне кое-какие новости, которые узнал во время своей аудиенции у Хранителя Времени. Ничего хорошего в них не было. Хранитель, по всей видимости, выпустил своих роботов в Город. Всех воинов-поэтов переловили и выслали. Роботы «случайно» оторвали головы трем пилотам – Факсону Ву, Такинии Бесстрашной и Розалинде ли Тови, собравшихся дезертировать на Триа. (Позже я узнал, что в это же время из Квартала Пришельцев таинственно исчезли сотни аутистов, которых Хранитель всегда ненавидел.) Пилоты, ведущие специалисты и академики, узнав о столь вопиющем нарушении канонов, стали поговаривать о том, чтобы сесть на корабли и отправиться на какую-нибудь новую планету, чтобы основать там совершенно новую Академию. Каким-то образом распространился слух о моем заточении, и Соли потребовал обезглавить меня, а Жюстина и Зондерваль – созвать Пилотскую Коллегию, где будто бы намеревались убедить других мастер-пилотов сместить Соли и выбрать нового Главного Пилота. Николос Старший, Главный Акашик, удивил всех просьбой о созыве Коллегии Главных Специалистов. Неужели этот робкий толстячок действительно хочет избрать нового Хранителя Времени, как предполагала Колония Мор? Никто в точности не знал, так ли это, и никто – в том числе и Хранитель Времени – не знал, где находится моя мать и чем она занимается. Бардо все это время осаждал Хранителя просьбами о моем освобождении – молил, надоедал, угрожал и предлагал взятки мастерам и главным специалистам, чтобы они подписались под прошением. Он требовал, чтобы мне позволили предстать перед акашиками, поскольку я невиновен и должен иметь возможность доказать свою невиновность. Но Соли, ненавидевший Бардо за то, что тот увел у него жену, выдвинул контраргумент. Акашики не могут судить меня, заявил он, поскольку их компьютеры рассчитаны на моделирование только человеческого мозга. Кто может знать, справятся ли они с моим, исковерканным агатангитами? (Кто мог подозревать, что Соли – мой отец и что он боится, как бы акашики не раскопали и не обнародовали этот факт? Кто мог знать, какие мотивы движут кем бы то ни было в те смутные для Города времена?)
Приговор Хранителя Времени, как ни странно, обрадовал Давуда. Поэт так разволновался, что не мог ни есть, ни спать. Он сутки напролет расхаживал по камере, сочиняя стихи и декламируя их вслух до хрипоты.
– «Грядущая смерть придает вкус жизни», – цитировал он. – Как это верно, пилот! Ты слышишь меня? Расскажи мне, о чем ты думаешь – о вариантах возможного?
Я по натуре не мыслитель. Меня страшило одиночное заключение в темной сырой камере, где ничто не может отвлечь от пугающих мыслей, мыслей о невеселых вариантах возможного. Почти все время я сидел, привалившись к холодной стене, смотрел во мрак перед собой и ждал. Я слушал, как ходит и завывает в поэтическом экстазе воин-поэт, а когда шаги затихали и он умолкал, я слушал, как падают капли с потолка и бьется мое сердце. Меня одолевал беспокойный сон, от которого я пробуждался скрюченный и окоченевший. Я ел орехи и хлеб, которые периодически просовывались через щель под дверью, и пил воду из большой чашки. В ту же чашку я испражнялся и мочился, уповая на то, что роботов запрограммировали мыть ее, прежде чем наливать в нее воду. (При этом я забывал о законе Турина, гласящем, что робот, достаточно умный, чтобы мыть посуду, слишком умен, чтобы ее мыть. Для человека этот закон, возможно, и верен, но бездушные полицейские роботы, охранявшие нас, были разумны ровно настолько, насколько этого требовали их специфические функции. Например, умерщвление врагов Хранителя Времени в случае попытки к бегству. Я не верил, что они обладают самосознанием.) Со стыдом должен сознаться, что я был подвержен длительным приступам жалости к себе. Я слишком много думал о собственной персоне. Я пытался сосредоточиться на чем-то другом, но уж слишком слабы и незначительны были мои внешние впечатления. Я слышал шаги роботов за дверью и приглушенный голос Давуда, читающего стихи – но, размышляя о самосознании роботов или обдумывая среднеталантливые строки поэта, я погружался еще глубже в самые затаенные свои тревоги и страхи.
Через некоторое время я обнаружил, что мой режим сна и бодрствования нарушился. Я стал спать долго, возможно, целыми сутками, чтобы уйти от себя самого. В промежутках на меня находило беспокойство, доходящее до маниакального состояния. Я ходил по камере, то напрягая, то расслабляя мускулы, ритмично и волнообразно. У меня возникали мысли. Я предпочитал не думать о том, откуда они берутся, я пытался вообще не думать. Я чесал свою грязную бороду и ощупью искал трещины на скользкой стене, но перестать думать не мог. Я размышлял над тем, во что я превращаюсь. Как я боялся этих превращений! Я чувствовал в себе нечто новое, но когда задумывался над формой и направлением этой новизны, волнение и ужас охватывали меня в равной мере. Я пытался уснуть, но сон не приходил. Теперь я, наоборот, целыми сутками бодрствовал. Эти приступы бессонницы перемежались периодами микросна, когда мой мозг отключался на пару мгновений. Я просыпался в холоде и мраке, где капала вода и пахло моим страхом. Временами я пытался проверить, не схожу ли с ума. Способен ли я еще проинтегрировать расходящийся ряд? Испытываю ли прежние ощущения, почесывая свою зудящую сальную голову? Могу ли сжать и разжать пальцы по собственной воле? Так и еще тысячью других способов я испытывал пещеру своего разума на скрытые трещины, а также искал в ней новые кристаллические образования, новые способности и мысли. Какие мысли, какие действия, какие сны предписал бы себе я, будь моя воля действительно свободна? Изменил бы я свой мозг как мне было желательно, или так и не смог бы преступить каких-то естественных законов? Я искал источник воли в самой глубокой части своего сознания, где вселенная струится, как холодный черный ручей. Был момент, когда я почти засек этот конечный импульс, управляющий моими действиями, почти что ощутил холодноватый восхитительный вкус чистой свободы. Этот момент повис, как капля воды в воздухе, а потом капля упала и растворилась в водовороте моих мыслей. В центре водоворота образовалась черная дыра, а внутри нее другая, еще чернее. Бесконечность все новых открывающихся дыр грозила поглотить рассудок всякого, что слишком долго копался в себе.
Тюрьма сделалась для меня адом. Я всегда боялся темноты, когда был послушником, и раздражал Бардо тем, что оставлял на ночь свет. А тишина – это темнота звука, смерть всех вибраций, ритмов и тонов, из которых складывается песня души. Мы сами творим свой рай, сказал поэт – но теперь он что-то совсем затих. Возможно, плутоний уже распался и отравляющий газ сжег его легкие и превратил в жижу его мозг. А может быть, поэт просто устал от экстаза, устал балансировать на лезвии ножа между жизнью и смертью и лежит, обессиленный, на полу своей камеры? У него было тихо, воздух струился бесшумно, и камень молчал. Даже вода перестала капать с потолка, и мое тело как будто утратило зловоние. Темнота перед глазами была мохнатой, как шерсть, а пальцы стали так нечувствительны, что стены на ощупь казались восковыми. Ни звуков, ни запахов, ни вкуса. Я галлюцинировал. Мне представилось, что я плаваю в кабине своего корабля и вижу звезды. Но когда я попытался мысленно сопрячься с корабельным компьютером, ничего не случилось. Не последовало ни бурного цифрового шторма, ни белого света сон-времени, ни намека на дивную музыку мультиплекса. Я снова был один в реальной каменной клетке, черной и пустой, как мертвое пространство, один в собственном мозгу, один в аду.
Шли дни, и галлюцинации становились все полнее и ярче. Мои сенсорные нервы ослабли, и мозг предлагал взамен собственные стимулы. Зрительный центр начал включаться самопроизвольно. Я видел краски. Мириады пурпурных искр мелькали в воздухе. Сам воздух искрился, словно струящийся голубовато-зеленый шелк. Я ввдел пульсирующие концентрические круги красного света, видел волнистые, оранжевые и желтые линии. Я обонял запахи специй и духов, курений, бальзама и мускуса. Слышал звон колоколов, хруст льда и волчий вой. Такие галлюцинации посещают всех, кто лишен контактов с внешним миром. Кадетам часто мерещатся разные вещи во время их первого погружения в Розовое Чрево. Алалойские охотники, застигнутые метелью, тоже теряют чувство верха и низа, правого и левого, и видят сквозь тучи снега яркие световые круги. Я знал, что звуки и краски, которые являются мне, нереальны, и знал, что если галлюцинации будут продолжаться слишком долго, мозг у меня будет поврежден сильнее, чем у жалкого афазика.
Довольно долго я занимал себя чистой математикой. Я вызывал перед собой ярко-фиолетовые идеопласты Аксиомы Выбора и уходил целиком в прекрасную Теорию Множеств. Я изобретал (а может, и открывал) теоремы, могущие пригодиться при доказательстве Гипотезы Континуума. Был момент, когда светящиеся объемные идеопласты возникали передо мной столь быстро и живо, что я решил, будто сейчас начнется цифровой шторм – сам по себе, без помощи корабельного компьютера. Какое это было бы чудо! Войти в мультиплекс по собственной воле, с помощью одной лишь математики и невооруженного мозга – сколько раз за эти проведенные в аду дни я молился, чтобы такое случилось! Но молитва – это признак беспомощности и неудачи. Мне не дано было уйти в просторы мультиплекса, и скоро я обнаружил, что в тюрьме и мраке даже математика кажется зыбкой и нереальной.
Я мог, в подражание аутистам, сотворить мир собственных фантазий и жить в нем, сколько захочу. Видеть яркие сны, сознавая в то же время, что это сны, и меняя их форму и содержание по своему усмотрению – это был вариант. Я мог бы представить себе прозрачную аквамариновую рябь нездешнего океана и крепкие объятия женщины, лежащей подо мной на горячем песке. Но это – что бы там ни говорили аутисты – не было бы реальностью. Я затерялся бы в нереальном мире, среди его картин и событий, которые никогда не происходили. И если бы Хранитель Времени наконец вернул мне свободу, я был бы безумен не меньше любого аутиста.
Не знаю, как долго бы я еще выдерживал эту тишину, если бы не вспомнил одну довольно претенциозную поговорку мнемоников. Как-то раз я, водя своими отросшими, загнутыми ногтями по камню, стал думать о мастер-мнемонике Томасе Ране и перебирать в уме его воспоминания о богочеловеке Келькемеше и повествующий о том же древний миф. Поговорка всплыла у меня в голове сама собой. «Память – душа реальности», – утверждала она. Где-то во мне хранятся залежи воспоминаний, целая прожитая жизнь. Память – вот что меня спасет. Я буду жить в прошлом, укроюсь в памяти, как раненый тюлень, ищущий убежища в своей аклии. Я переживу заново все критические моменты моей жизни, и даже если это вызовет у меня слишком сильные эмоции, то я по крайней мере не выйду за пределы реальности, действительно имевшей место.
Поначалу все шло хорошо. С течением времени я обнаружил, что все меньше и меньше нуждаюсь в физических стимулах. Я перестал петь, что было великим облегчением, поскольку я ни разу еще не повторил правильно ни единой мелодии. Отпала потребность лизать шершавую шерсть камелайки, жевать свою несчастную губу или нажимать пальцами на глаза, чтобы вызвать разноцветные мушки, появляющиеся порой под закрытыми веками. Память дарила мне гораздо больше стимулов, чем органы чувств; память сверкала, как драгоценные камни в ледяной воде, она была душой моего далекого и недавнего прошлого. Я вспомнил, как учился завязывать шнурки на конькобежных ботинках и как злился, когда узел не давался моим детским пальцам. А уж если мать пыталась мне помочь, ярость моя не знала границ. Вспоминались мне и более приятные вещи – например, как мы с Бардо впервые вывели буер под желтым парусом на замерзший Зунд. Бардо долго не соглашался брать его напрокат и твердил, что мы ничего не смыслим в управлении буером. Но я так приставал к нему, что наконец допек. (Кадеты, вернувшись живыми из мультиплекса, часто полагают, что теперь способны освоить любой вид транспорта.) Откуда ни возьмись сорвался ветер, чуть не разбивший нас о скалы Вааскеля, но все-таки та поездка по Зунду доставила нам истинное наслаждение. Воспоминания продолжали навещать меня во мраке камеры, одно живее другого. Я предавался им, как старик, и думал о том, какими бы они были, если бы я в разные моменты своей жизни сделал бы другой выбор, не тот, что в реальности. Почему я решил стать пилотом, а не кантором? Почему полюбил Катарину? Почему убил Лиама? И почему моя память становится все ярче и реальнее?
Говорят, что мнемоники в молодости сталкиваются с одной трудной проблемой. То, что слишком хорошо вспоминается, забывается очень тяжело. Воспоминания по мере возрастания их яркости задерживались в голове все дольше, вжигаясь в мой внутренний глаз. Мне вспоминалось, как я впервые увидел Подругу Человека, и ее голубой хобот долго еще извивался передо мной, заслоняя более важные воспоминания. Мне стало трудно забывать. Я вспоминал книгу Хранителя Времени, и целые страницы стихов неизгладимо отпечатывались на белой ткани мозга. Я видел в мельчайших подробностях каждую черную букву, словно читал по этой самой странице. Это была та самая идеальная зрительная память, о которой я столько наслушался от друзей детства, пошедших в скраеры или мнемоники. Я знал, что для забывания тоже есть свои приемы. Я построил в уме длинную стену и перенес на нее, строка за строкой, все страницы стихотворного текста. Юркие черные буковки, отпечатавшись на черной стене, стали невидимы – на время. От других картин, таких как улыбка Катарины, избавиться было сложнее. Пришлось раздробить бледные тона Катарининой кожи на миллион точек, несущих первичные цвета. Каждую такую точку, красную, зеленую или синюю, я довел до предела яркости, пока она не разбухла, не вспыхнула и не взорвалась, как маленькая звезда. Постепенно весь миллион взорвался во мне, слившись в ослепительно-яркую дымку, какая бывает ложной зимой над ледяными полями. Самыми трудными для забывания оказались звуки. Музыка держалась во мне, несмотря на все мои усилия заглушить ее ревом ракет или другими шумами. Меня удивляло, что я могу слышать целые симфонии с почти ирреальной ясностью. «Горестный мадригал» Такеко проигрывался в голове снова и снова, и округлые ноты адажио нанизывались, как золотые бусинки. Я прослушивал любовные песни, которые Бардо пел Жюстине, слышал стон шакухаши и переборы арфы, на которой когда-то играла мать. Сказать, что я слышал все это одновременно, было бы неправильно. Один звук уступал другому с большим трудом. Крики чаек и гул прибоя я смог забыть только тогда, когда провел синусоидные волны этих звуков через преобразование Фурье и превратил их в голограмму, которую потом «спрятал» в черный звуконепроницаемый ящик, чтобы достать, когда сам пожелаю. Таким же образом я сотворил еще миллион «черных ящиков» для преследовавших меня воспоминаний и тем освободил место для более глубоких, о существовании которых даже не подозревал.
Все записывается, и ничто не забывается. Не могу сказать точно, когда я понял, что мнемонирую. Многие люди прокляты или благословлены даром почти абсолютной памяти, однако они не мнемоники. Искра наследственной памяти для них едва-едва тлеет. Вспомнить жизни наших отцов, дедов, прадедов и многих других в развесистом древе нашего происхождения, извлечь память о далеком прошлом нашей расы, закодированную в наших хромосомах, «думать как ДНК», как сказала бы лорд Галина – вот в чем заключается наука мнемоники. Ее-то я сейчас и осваивал.
Передо мной с ошеломляющей скоростью мелькали картины жизни моих предков. Я видел, как разматывается скользкая от крови пуповина – это моя бабушка, дама Ориана Рингесс, разрешалась от бремени моей матерью. А как кричала мать, рожая меня! Я видел Соли – он действительно был моим отцом. Теперь я понял, что в Тверди ко мне пришли его детские воспоминания о том, как Александар Диего Соли учил сына математике. Поколение наслаивалось на поколение, лица лепились и менялись, как глина. В одних фигурировал длинный широкий нос Соли и льдисто-голубые глаза, в других полные губы Рингессов раздвигались, приоткрывая двадцать восемь крупных рингессовских зубов. Чуть дальше один из Соли подправлял свои хромосомы ради усиления математических способностей. (Именно от него, Махавиты Андрейви Соли, я унаследовал рыжину в волосах.) Все глубже и глубже уходили корни. Кого там только не было: поэты, скраеры, шлюхи, пилоты, католики, пастухи (сторожившие овец), рабы, короли, воины и даже одна астриерка по имени Клео Рейнесс, из чьих пятисот детей половина заселила луны Дуррикене, а половина, подправив свою ДНК, образовала инопланетный вид файоли.
Однажды, мнемонируя, я услышал, как зашевелился в своей камере Давуд. Он был живехонек, и ожидание момента распада плутония изнуряло его. Он прочел мне короткое стихотворение – первое за долгое время – и две строчки, прозвенев у меня в ушах, задели струны памяти:
Только костями мы помним боль,
Кость и боль – только в этом соль.
За этим, после долго молчания, начала раскручиваться длинная поэма, озаглавленная им «Плутониевая пружина». Я висел, упершись подбородком в воздуховод, и слушал:
Моя кровь отбивает танец слепой саранчи.
А потом:
– Ты жив еще, пилот? Ты слышишь меня?
– Да. Я тут… вспоминал разное.
Мне хотелось рассказать ему о своем открытии – о том, что Ева Рейнесс была прабабкой Нильса Орландо. Значит, воины-поэты несут в себе долю моих хромосом. Мы все равно что братья, хотел я сказать ему. Все люди братья.
– Веришь ты в случай? – донеслось до меня по черной трубе.
– Иногда я верю в случай, иногда в судьбу. Я сам не знаю, во что я верю.
– Как по-твоему, давно мы уже здесь? Какова вероятность того, что плутоний так и не распадется?
– Возможно, это была просто шутка. Возможно, никакого плутония вообще нет. Возможно, Хранитель пытается свести тебя с ума – если, конечно, воина-поэта есть с чего сводить.
За этим последовало молчание, и мне пришлось спрыгнуть. Чуть позже Давуд выдохнул:
– Судьба и случай – так и пляшут в падучей.
Для воина-поэта, верящего в вечное возвращение, это имело смысл.
– Ты слышишь меня, пилот? – Я снова подтянулся к воздуховоду и слышал его хорошо. – Эти последние дни были сплошным экстазом. Я обнаружил, что больше не хочу умирать. Я сочинял стихи, и у меня были такие мысли, такие сны… слышишь?
– Слышу, – ответил я во тьму.
– Газ поступит скоро. Плутоний вот-вот взорвется. Это горячий газ, испаряющийся водород… о, как нежны опадающие фиалки!
– Это стихи?
– Жизнь – вот поэма, которую мы складываем. Воины-поэты верят, что мы можем передать суть жизни, момент возможного, в словах.
Я промолчал, потому что верил, что человеческие слова бессильны передать суть вселенной.
– Скоро я, безусловно, умру. Я чую смертоносные пары в этих гранитных стенах.
– Ты что, скраер?
– Нет, я поэт. И я сложил мою предсмертную поэму. Можешь обещать мне одну вещь? Когда я умру, мое тело должны будут доставить на Кваллар в черном мраморном гробу. Если доживешь, найди пришельца, владеющего искусством письма, и пусть мою поэму вырежут на стенках гроба.
Пальцы у меня онемели, и мускулы пронизывала дрожь. Я дал ему обещание, сдерживать которое не намеревался, и, сам не зная почему, рассказал о своих мнемонических опытах. Чувствуя во рту привкус давно съеденной пищи и крови, я сказал:
– Нильс Орландо принадлежал к роду Рингессов.
– Я знаю, – тут же откликнулся Давуд. – Основатели обоих наших орденов были хибакуся, бежавшие из туманности Агни во время компьютерных войн. Когда водород…
– Мы все равно что братья, – сказал я.
– Все люди братья. И все хибакуся. Братоубийство – закон нашего вида. Ты чуешь запах газа, пилот?
И он прочел мне свою поэму. Вот ее последняя строфа:
Я вода под покровом плоти, Я золото под утренним небом. Я свят под моей улетающей плотью, Я наг под плутониевым небом.Я окликнул его, но ответа не было. Стараясь расслышать, не шипит ли газ, я попробовал просунуть в тесный туннель воздуховода голову и плечо. Может быть, сейчас до меня дойдет скрип закрывающейся заслонки или крик поэта, бьющегося в муках удушья? Я слушал, вывернув шею, но в камере поэта стояла тишина.
Через некоторое время я соскочил и стал ходить по камере. Безумец, убийца, словоблуд, все равно что мой брат – я звал его, но он так и не отозвался ни тогда, ни в последующие дни. Я повторял про себя его поэму «Плутониевая пружина» и запоминал ее. Это было легко.
Все записывается, и ничто не забывается.
Я снова погрузился в наследственную память. В ее глубинах я видел архетипические образы, вдыхал первобытные запахи, слышал ритмы древних стихов. Я мнемонировал о Старой Земле. Небо там было светлее, чем на Ледопаде, светло-голубое, как яйцо талло, планета была теплой, долины зелеными, в садах росли настоящие яблони, и на полях золотилась пшеница. Там, в городе у моря, в беленом домике жил мой далекий пращур, пилот и корабельный мастер. Руки у него – у меня – были в мозолях, пальцы в занозах. Он имел жену, которой наслаждался много тысяч раз, имел сына, и они были счастливы. Потом нагрянула армия роботов и сожгла его город и его корабли адским горючим веществом, от которого плавилось стекло, и все озарилось светом, невыносимым светом памяти.
Я слышал лязг этих роботов и скрежет разрезаемого металла. Пахло горелой сталью. Роботы дубасили в каменные стены, орали и ругались. К этому примешивался какой-то звон, источник которого я распознать не мог.
– Мэллори! – звал меня голос из прошлого. – Бог ты мой, да откройте же наконец эту дверь!
Вот такой же зычный голос был у Бардо. Выходит, это уже не воспоминание?
– Открывай! – Дверь откатилась в сторону, и я загородил глаза от света. – Что с тобой, паренек, ты ослеп?
Я двинулся на его голос.
– Нет… не ослеп. – Глаза жгло, словно мне в зрачки воткнули по раскаленному ножу и вертели их туда-сюда. Вскоре я понял, что ослепивший меня свет – это всего лишь тусклое пламя шаров, к которому глаза постепенно привыкали. – Как ты попал сюда? Который теперь день?
Рука Бардо обхватила мои плечи. От него пахло сладкими цветочными духами и страхом.
– Нам надо спешить, – сказал он. – Ты идти можешь? Бог мой, ну и воняет же от тебя! Тебе что, не давали мыться? А борода-то! Давай шевелись. Жюстина и остальные ждут нас. Ах, не надо было мне этого делать – что же я натворил!
– Это было необходимо, – сказал кто-то. – Не надо было вообще допускать, чтобы Хранитель держал у себя роботов.
Я заслонил глаза рукой и прищурился. Рядом с собой я увидел лицо Бардо, с которого капала кровь. На носу и около уха у него были порезы. Тут же стоял Николос Старший, Главный Акашик. Его сопровождали мастер-акашик и двое кадетов, несших компьютер. Потом я увидел роботов. Роботы заполняли весь длинный каменный коридор: большие красные служители Хранителя Времени с клещами и захватами и черные, которых я никогда прежде не видел. Все полицейские роботы – их было четверо – лежали на полу грудами сожженного, искореженного металла. Черные роботы, мельче, но явно боевитее их, имели по шесть ног, как муравьи, а из их брони торчали сверла, плазменные горелки, огнестрельные и лазерные стволы. Четверо черных выстроились вдоль коридора, а у дальней двери, в конце ряда камер, стояли еще четверо.
Мы пошли к выходу, и Бардо пожаловался:
– Погляди, как меня разукрасило! Это осколки камня – пуля, наверно, попала в стену. Что же я такое сделал? Это просто безумие!
– Это не безумие, а хорошо продуманный план, – возразил лорд Николос, обернув к нам свое круглое личико. – Уясни это наконец!
Главный Акашик наскоро ввел меня в курс последних событий. Коллегия Главных Специалистов, сказал он, пригрозила вынести вотум недоверия Хранителю за то, что он держал меня под стражей. А также за злоупотребление полицейскими роботами и по другим причинам. Они вынудили Хранителя разрешить Главному Акашику и его подчиненным обследовать меня, чтобы установить мою вину или невиновность. Это и легло в основу плана. Когда двери башни открылись перед лордом Николосом и его компьютером, роботы Бардо ворвались внутрь и освободили меня.
– Проклятущие роботы! – ругался Бардо. – Я ухлопал на них все мое состояние, пятьсот тридцать тысяч городских дисков – пришлось ведь заплатить технарям за их изготовление. Но что поделаешь…
– Сколько, сколько? Таких денег ни у кого нет.
– А что мне было делать? Хранитель казнил бы тебя, как Бог свят!
– А что с воином-поэтом?
– Он умер, а может, жив еще – почем я знаю? – Бардо схватил меня за руку и потащил вверх по лестнице. – Давай, паренек, нам надо убираться отсюда! Бегство – наш единственный выход.
Мы вышли на улицу. Было холодно, с Зунда дул сырой ветер. Стояла ночь, и ни души не было видно.
– Сюда! – Бардо направил меня к саням, ждущим у обочины. – На Поля – надо спешить!
– А как же лорд Николос?
– Я остаюсь в Городе, – ответил тот. – Думаю, что Коллегии Главных Специалистов придется все-таки выразить недоверие Хранителю Времени или даже сместить его. Либо это, либо раскол. Окончательный раскол.
– Что значит «окончательный»?
– Надо было сразу тебе сказать, – вмешался Бардо. – Ли Тош, Зондерваль и прочие наши однокашники – мы все покидаем Город. Из-за тебя, дружище, в знак протеста, и еще потому, что нам надоел Хранитель и другие старые хрычи, правящие Орденом.
Мы понеслись по улицам, и всю дорогу до Крышечных Полей на черном граните зажигались окна, сотни желтых квадратиков. Казалось, сам Город следит за нами. У меня было странное ощущение, что я это уже видел. Как видно, в тюрьме я не только мнемонировал, но и скраировал.
– Что с тобой, паренек? – прокричал Бардо, перекрывая рев двигателей и ветер. – Разве это не счастье – быть свободным?
Я смотрел на светящееся небо над Полями, на хвосты кораблей, покидающих Город. Я уже видел это небо и видел другое, еще ярче, которое скоро раскинется над нами. Но я промолчал, и мы спустились в Пещеры, где нашли сотню других пилотов, ожидающих своей очереди у легких кораблей. Один за другим мы поднялись в плутониевое небо.
24 DEUS EX MACHINA
И из пещер, где человек не мерил Ни призрачный объем, ни глубину, Рождались крики: вняв им, Кубла верил, Что возвещают праотцы войну. Самюэль Тэйлор Кольридж, скраер Века Революции. «Кубла Хан»По словам хибакуся, война – это ад; кому и знать, как не им. Пилотская Война, как ее называли потом, поначалу была сплошным удовольствием. Никакой войны, конечно, могло бы и вовсе не быть, но Хранитель Времени, узнав о нашем бегстве из Города (я узнал об этом позже), впал в ярость. Его пилоты, заявил он, не смеют покидать Орден, пока он не освободил их от присяги; а Бардо и меня следует вернуть в Город и примерно наказать. В случае, если это не удастся, нас нужно казнить прямо в космосе – и как можно скорее. Исполнить свой приговор он поручил Леопольду Соли, и Соли охотно повиновался, поскольку бесился еще пуще Хранителя. Он страдал от боли (остаточные эффекты наркотика, которым попотчевал его воин-поэт, продолжали терзать его нервы) и от ревности. Он поклялся либо взять Жюстину и Бардо в плен, либо убить их. Я уверен, что он и меня хотел убить. Он вылетел из Города на своем легком корабле «Ворпальский клинок». Его друзья – Томот, Сет и Нейт с Торскалле – и еще сто двадцать пять пилотов, сохранивших верность ему и Хранителю Времени, стартовали вслед за ним. Так оно и началось.
Мы, беглецы, воевать не собирались. Наш план, составленный лордом Николосом и Бардо, был прост и не содержал в себе никакого насилия. Мы, девяносто восемь пилотов-раскольников, должны были сопровождать большой корабль с представителями всех профессий нашего Ордена. Все мы, пилоты, эсхатологи, механики и технари, держали путь на Нинсан, звезду близ Аудского дублета, собираясь основать там новую академию. У Хранителя Времени было два пути: либо позволить нам это сделать, либо согласиться на перемены, которых требовала от него Коллегия Главных Специалистов, и призвать нас обратно в Город, гарантировав нам прощение и мир.
Но мир нам не дано было обрести. Как заметил однажды Хранитель, никто не может выбрать мир, если его враг выбирает войну. После нашего побега мы собрались возле фокусов одной звезды вблизи солнца Ледопада, носившей забавное название Молочная Малявка. Там мы связались друг с другом по радио, устроив нечто вроде совета, чтобы решить, что делать дальше. (В то время мы, разумеется, еще не знали, что Соли снарядил за нами целую карательную экспедицию.)
Помню, как в моей кабине появилось бородатое изображение Бардо, и его голос:
– Мы свободны. Богом клянусь! Неужели Бардо и правда перехитрил старого тирана, никогда не вылезающего из своей башни? И правда ли, что сперма от колтун-корня делается вонючей?
– Это было действительно необходимо? – спросил, в свою очередь, я. Трудно было представить, что Бардо слышит меня и видит мое лицо в кабине своего корабля, где он плавает голый вместе с Жюстиной, которая тоже слышит меня. – Другого выхода не было?
– Не было. Хранитель обезглавил бы тебя как пить дать.
– Бардо, а не кажется ли тебе, что наш побег прошел слишком гладко?
– Гладко?! Для тебя, может, и гладко – тебе не пришлось истратить целое состояние на роботов и не пришлось организовывать…
– Я не хочу сказать, что планировать было легко, – перебил я. – Я имею в виду сам побег. Почему Хранитель пустил в свою башню акашиков, если знал, что они объявят меня невиновным? Почему не попытался помешать пилотам стартовать из Пещер? Почему…
– Ты начинаешь меня беспокоить, паренек. Мне и самому, по правде сказать, все это не давало покоя. Могу только предположить. Хранитель сильно перетрухнул, что Коллегия Главных его снимет.
– У меня другая гипотеза.
– Какая? – Изображение Бардо вытерло пот со лба.
– Что, если Хранитель просто позволил нам, пилотам и специалистам, уйти?
– С чего бы? Нет, нет, молчи – не хочу слышать ничего неприятного. Я, кажется, догадываюсь, куда ты клонишь.
Нервы у меня еще были расстроены после долгого заключения, и я все-таки произнес вслух то, что и так было ясно:
– Думаю, Хранитель отпустил нас для того, чтобы перебить разом всех, кто открыто восстал против него. Здесь, в космосе, подальше от Города, чтобы и следов никаких не осталось.
– Перебить нас… Но как?
– Возможно, эту работу он поручит Соли.
– Как же Соли нас найдет? Он не знает, куда мы направляемся, не знает фокусов нашего маршрута. Да я и не думаю, что Соли согласится исполнить подобный приказ – нет, нет, это невозможно!
Помолчав немного, я спросил:
– Жюстина правда там, у тебя в кабине? Почему я тогда ее не вижу? Можно мне с ней поговорить?
Бардо, покраснев, исчез, а через некоторое время сообщил, уже невидимый:
– Жюстина поговорит с тобой, но она, э-э… не одета и поэтому не хочет, чтобы ты ее видел: она ведь, как-никак, тебе тетка!
Я не сказал ему, что мальчишкой постоянно подсматривал в щелочку, как Жюстина принимает утреннюю ванну. По крайней мере до тех пор, пока мать не поймала меня на этом и не нащипала мне нос до крови. У Жюстины красивое тело, соблазнительное, как у Катарины. Я не мог слишком упрекать Соли за то, что он ревнует к Бардо.
– Я так рада, что ты жив, – отозвалась наконец Жюстина.
– Ты, случайно, не знаешь, где сейчас мать?
– Мы пытались найти ее, но безуспешно. Когда ты оказался в тюрьме…
– Известно ли тебе, кстати, – вмешался Бардо, – что еще один воин-поэт пытался убить Хранителя?
– Ну ясно – этого роботы прикончили, даже не допустив его до комнат Главного Горолога.
– Твоя мать где-то скрывается, паренек, – возможно, в Квартале Пришельцев. Нам так и не удалось ее найти.
– Когда Хранитель узнал, что был на волосок от смерти, – продолжала Жюстина, – Мойре уже никак нельзя было объявиться, верно?
– Значит, она все еще в Городе.
– Разумеется.
– Она жива, я уверен.
– Надежда есть всегда.
Я снова отметил, как хорошо они спелись. Они говорили совершенно одинаково, если не считать интонаций и тембра голоса. Их программы были похожи – слишком похожи. Когда я поделился с ними своим беспокойством на этот счет, они тут же ответили:
– Мэллори у нас цефик.
– Цефики всегда о чем-то беспокоятся.
– Только за нас беспокоиться не надо.
– Это верно.
– У нас было бы все хорошо, если…
– Если бы только Соли оставил нас в покое!
– Если бы он не злился так!
– Соли – вот настоящий повод для беспокойства.
– Соли.
– Если он погонится за нами, то…
– Конечно, погонится.
– Это плохо.
– Хуже некуда.
Бардо и Жюстина были отнюдь не единственными, кого беспокоил Соли. Другие пилоты высказывали те же опасения. Ли Тош, Зондерваль, Джонатан Эде – я переговорил с каждым из моих старых друзей отдельно, наедине. Но к согласию мы так и не пришли, сколько ни переговаривались. В каждой кабине плавали светящиеся уменьшенные головы девяноста семи других пилотов. Держать совет таким способом было странно и непривычно. Я говорил со всеми одновременно, с лучшими молодыми пилотами Ордена – Делорой ви Тови, Ричардессом, Паломой, Запатой Кареком, Маттетом Джонсом, Аларком Утрадесским – и не столь уж молодыми друзьями Жюстины: Вероникой Меньшик, Еленой Чарбо, Аджей, Она Тетсу, Кристоблем Смелым, водителем знаменитого корабля «Серебряная талло». И еще с восемьюдесятью пятью спорящими до хрипоты пилотами.
– Эта дискуссия бесполезна, – заявил Зондерваль, обладатель самой узкой и длинной из голов, с длинной верхней губой и ямочкой на подбородке. – Мы должны выработать стратегию.
– Стратегия возможна только одна, клянусь Богом, – сказал Бардо. Я с удовольствием отметил, что голова Жюстины наконец-то появилась рядом с ним. Я улыбнулся ей, и она вернула улыбку. – Идем на Нинсан, как и планировали.
– А если будет война? – своим тонким визгливым голосом осведомился Запата Карек. – Как быть тогда – сдать противнику большой корабль? Бросить специалистов?
– И разве мы не должны предоставить право голоса также и специалистам? – подхватила Дебора ви Тови.
Все головы повернулись к ее круглому розовому лицу, обрамленному косами. Давать право голоса специалистам никто явно не хотел.
– Если Соли все-таки отправится за нами, – сказал Зондерваль, – это будет пилотская война. Решать должны мы, пилоты.
Кристобль Смелый, кивнув, добавил:
– Если война действительно будет, нужно попытаться взять Соли врасплох и навязать войну ему.
– Война? – вскричал Бардо. – Да на кой она нам сдалась?
Ричардесс поморгал больными красными глазами (он был альбиносом с белыми волосами и белой, безжизненной, лишенной всякой пигментации кожей, а по возрасту самым старым из нас) и сказал:
– Бардо прав – зачем нам война? Или мы забыли свой обет искать истину? Почему бы нам не рассеяться по всей галактике? К чему ждать начала войны?
Ли Тош все это время молчал, переводя взгляд с одного на другого со своей яркой доброй улыбкой. Дождавшись, когда Ричардесс закончил перечислять ужасы войны, он улучил момент и вставил:
– Что бы мы ни решили, мы должны держаться сообща, как братья и сестры, и выработать единый план. Зондерваль прав. – Он посмотрел на меня с всегдашней улыбкой в миндалевидных глазах. – Поэтому мы должны выбрать кого-то из нас Главным Пилотом, хотя бы временно.
– Это просто необходимо, – поддержал Зондерваль.
– Кого же нам выбрать? – спросил Бардо.
– Кого-нибудь из мастер-пилотов, – резонно заметила Жюстина. – Сколько их у нас?
– Ты, – начал перечислять Бардо, – потом Ли Тош, Ричардесс, Кристобль, Вероника Меньшик, Елена Чарбо и Аджа.
– Ты забыл Томаса Зондерваля, – без ложной скромности напомнил Зондерваль. – Меня произвели в мастера девятнадцатого числа прошлой средизимней весны.
Ли Тош, улыбнувшись нашему старому сопернику, сказал:
– Лично я Главным Пилотом быть не хочу.
– Я тоже, – заявил Бардо.
– И я, – сказала Жюстина.
– Кто же у нас еще мастер? Ах да, и Мэллори Рингесс…
Он посмотрел на меня, и головы всех пилотов и мастер-пилотов тоже повернулись ко мне.
– Да, Рингесс. Пожалуй, он лучший мастер-пилот из всех, кого я знаю.
– Так оно и есть, ей-богу!
– Рингесс сумел войти в Твердь и выйти из нее. Рингесс… – И Ли Тош перечислил длинный список моих достоинств, где упоминалось и то, что я скрытый цефик, мнемоник, а может быть, и скраер. А прежде всего, сказал он, я очень везучий человек, раз уж умудрился не умереть, будучи убитым. Кому же не хочется иметь столь везучего Главного Пилота?
Не стану записывать все, что говорилось после этого. Я подозревал, что Бардо, Жюстина и Ли Тош сговорились и подготовили свои речи заранее. Должно быть, они с самого начала планировали сделать меня Главным Пилотом раскольников и, возможно, еще в Городе подготовили своих друзей голосовать за меня. Пятьдесят четыре из девяноста семи пилотов склонили головы в знак того, что одобряют мою кандидатуру. Двенадцать человек по разным причинам воздержались. Тридцать один – я с сожалением отметил, что Ричардесс был в их числе – проголосовали против энергичным качанием головы. Все они отрицали мое право называться Главным Пилотом. Я слишком вспыльчив и бесшабашен, сказали они. (Некоторые люди, как ни парадоксально, опасаются смелых лидеров, в то время как большинство ценит смелость превыше всего остального.) Все эти пилоты, как один, ту же покинули нас. Кто-то из них отправился на Триа, кто-то вернулся в Город. Несколько человек решили исполнить обет искателей и последовали за Ричардессом в один из рукавов галактики.
Таким образом я стал предводителем шестидесяти шести мятежных пилотов и в случае войны должен был стать военачальником, ответственным за шестьдесят шесть жизней.
– Поздравляю, паренек! – сказал Бардо, оставшись со мной наедине. Теребя усы, он перечислил пилотов, которые остались верны Хранителю Времени и Соли. – Что думаешь делать? Если Соли выступит против нас, у него будет два корабля против одного нашего.
– Выдающееся математическое открытие! Отрадно видеть, что считать ты пока не разучился.
Я заверил его, что победа будет за нами, несмотря на меньшую численность. В случае нападения мы будем маневрировать – наносить удар и скрываться в мультиплексе; будем устраивать врагу хитроумные ловушки и предпринимать двойные атаки; вынудим врага рассредоточить свои силы, а потом начнем захватывать корабль за кораблем и выиграем войну.
Я ничего не смыслил в военном деле. Война, как я вскоре обнаружил, не походила на игру, хотя я думал о ней именно так. В настоящей войне веселого мало. Со временем я понял, что это занятие мне не по вкусу и я напрочь лишен военного гения. Я попал в полководцы неожиданно для себя и, сказать по правде, стыдился этого звания. Проштудировав библиотеку своего корабельного компьютера, я осознал, что мое понятие о военной стратегии базировалось в основном на играх типа шахмат и го, входивших в число моих детских увлечений. Настоящая война оказалась намного хаотичней, чем любая игра. И правил у нее не было. Я изучил анналы древних военачальников и стратегов, прочел труды всех прославленных военных авторов, таких как Сунь Цзы, Лидделл Гат, Толстой, Юлий Цезарь, Мусаси Священный Меч и Ричард Первый. Я ускорял свои мысли с помощью замедленного времени, и их слова, как фотоны, наполняли мой световой парус. Я усваивал аксиомы войны: никогда не дробить свои силы, самому выбирать время и место для битвы, не давать разгадывать свои планы – все эти основы, которыми столь часто пренебрегали принцы и генералы, ведшие на смерть миллионы солдат, я постиг довольно быстро. Я ознакомился с кампаниями Александра, с примерами классических сражений и со сравнительно новой историей трагических человеко-даргинийских войн. Я казался себе послушником средних способностей, которого заставили выучить правила шахматной игры и гроссмейстерские партии за одну ночь. Мой компьютер занимался историческим моделированием. Я воочию наблюдал геноцид, которому Цезарь подверг тенктеров, и видел, как конница Ганнибала смяла римские фланги при Каннах. Вслед за этим началась бойня: карфагенская пехота окружила и перебила шестьдесят тысяч легионеров, так стиснутых вместе, что они не могли ни поднять мечей, ни прикрыться щитами. Тема оказавшихся бесполезными щитов не теряла своей актуальности на протяжении двух тысяч лет. Как бы глядя в телескоп с изрытой кратерами поверхности луны Старой Земли, я видел исполненную жуткой красоты картину Первого Размена Холокоста. Космические щиты отказали, и на северных континентах вспыхнули десять тысяч шаров ослепительно-белого света. Из «Пути войны» Таддео Асторета я узнал, что исход любого сражения определяют четыре простых элемента: сила, место, время и ум. Пусть у Соли вдвое больше людей, чем у нас – Александр победил при Гавгамелах впятеро превосходящего его врага. Если я хочу победить Соли в реальной войне, я должен увести моих пилотов в знакомые, выбранные мной самим пространства и напасть на него, когда он будет к этому не готов. Главным же фактором в этой беспрецедентной математической войне должен стать расчет – ведь нам предстоит угадать маршруты пилотов Соли чуть ли не в самый момент их составления.
Все зависит от того, нападет ли Соли на нас и сумеет ли он выследить нас в мультиплексе.
Каждый корабль, открывая окно, вызывает в мультиплексе легкие возмущения. Если другой корабль далеко, обнаружить эти возмущения невозможно. Но если оба корабля находятся достаточно близко, радиус конвергенции сужается и появляется возможность проложить вероятностный маршрут. Любой корабль с определенной степенью вероятности способен проследить – «предсказать» – маршрут любого другого. Если мы убежим подальше и достаточно быстро, вероятность того, что Соли нас найдет, будет близка к нулю.
Мы помчались по туннелям в сторону Нинсана. Звезды мелькали мимо, как снежинки в метели. Мы бежали быстро и ушли далеко. В конце концов мы вышли из мультиплекса около Нинсана, маленькой белой звезды, имеющий единственную планету. Над этой-то планетой и поджидал нас Соли со своими пилотами. Я насчитал сто двадцать девять легких кораблей. «Ворпальский клинок» а с ним «Прошлое», «Настоящее» и «Будущее» Томота и его братьев висели над Нинсаном, как алмазные ножи, отражая свет этой слабой звезды и подернутые пылью огни Аудского Скопления. Я тут же связался со своими пилотами. (Как быстро я начал думать о них как о «моих»! Как быстро и необратимо становимся мы пленниками тщеславия!) Я назвал им последовательность из десяти звезд, начинавшуюся с Шима Люс. Мы проложили маршрут и ушли в туннели. Но, как это ни печально. Соли, находясь в пределах гравитационного поля Аудского Скопления, без труда вычислил нас по возмущениям мультиплекса.
– Ей-богу, нас предали! – проревел Бардо. – Откуда Соли мог знать, что из всех поганых звезд этой поганой галактики мы выберем именно Нинсан?
Мне тоже хотелось бы это знать. Я попробовал связаться с Соли по световому радио, и он, к моему удивлению, не стал уклоняться от разговора.
– Далеко ли летишь, пилот? Недостаточно далеко, я вижу – достаточно далеко вам никогда не улететь.
Голос Соли говорил со мной в кабине моего корабля. Мы вышли над звездой с номером, но без имени – одним из голубых сверхгигантов на краю Скопления. Это был наш первый разговор с тех пор, как я убил Лиама. Передо мной появилось его изображение. Он был худее, чем мне запомнилось, и щеки у него запали. Глаза он заслонял рукой, как будто оплакивал какую-то великую утрату и не желал смотреть на меня. Повсюду – на лице и в содроганиях изнуренного тела – я читал знаки гнева и боли.
– Кто нас выдал? – спросил я. – Откуда ты узнал, что мы пойдем на Нинсан?
– Хранитель знал план Бардо с самого начала. Шпионаж у него всегда был на высоте.
– Выходит, он послал тебя ликвидировать нас?
– В общем, да – но так ли уж это необходимо? Если вы сдадитесь и вернетесь в Город, нам не нужно будет больше никого убивать.
Думаю, он знал, что я не сдамся, потому что нисколько не удивился, когда я сказал:
– Нет, Леопольд, назад я не вернусь.
– Ты обращаешься ко мне по имени?
– А ты что, предпочитаешь – «отец»?
При этих словах он вогнал кулак себе в живот и сморщился так, словно желудочный сок разъел ему глотку.
– Нет. Тебе следовало сказать: «Хорошо, Главный Пилот, я вернусь и достойно приму наказание».
– Ты больше не мой Главный Пилот.
– Еще бы, теперь ты и сам лорд Рингесс – так ведь твои пилоты тебя зовут? Будем надеяться, что никто из них в тебе не разуверится и не попытается тебя убить.
Я прикусил костяшки пальцев и сказал:
– Я пытался не убить тебя, а спасти. Воин-поэт…
– Кто ты такой, чтобы кого-то спасать? – Он явно мне не поверил.
– Ты что, совсем ничего не помнишь?
Он отвел руку. Белки его глаз были пронизаны лопнувшими сосудами. Он выглядел так, будто давно уже не спал, и рука у него тряслась, как у старого паралитика.
– Хранитель сказал, что его роботы схватили тебя и поэта, когда вы собиралась меня убить. Что тут помнить? Они видели то, что видели.
– Неправда! Я гнался за поэтом по всему Городу и…
– Ты все лжешь, не так ли? И даже если ты говоришь правду, уже поздно. Пришла пора расплатиться за все твои преступления.
По-своему он был прав: мы опоздали. Наша личная вражда загнила и заразила Орден – теперь расплачиваться придется многим. Но никому из нас не хотелось быть свидетелем того, как пилот убивает пилота. (Мне по крайней мере кажется, что нам обоим хотелось ограничить смертоубийство, так сказать, недрами семейства. Когда я заявил ему – это была чистая жестокость с моей стороны, – что Бардо и Жюстина тоже не вернутся в Город, пока Хранитель не простит их и не разрешит им пожениться, он прошептал: «Жюстина, как мог я быть таким дураком, Жюстина?» – и в его словах была смерть.) Поэтому, по невысказанному соглашению, мы с ним начали маневренную войну. Поначалу это была скорее игра, чем настоящая война. Соли, как всякий разумный военачальник, старался выиграть как можно больше ценой возможно меньших потерь. Посредством маневров он хотел продемонстрировать, что наше положение безнадежно и нам все равно придется сдаться без боя. Следуя его примеру, его пилоты, те же Стивен Карагар и Сальмалин, перерезали наши каналы и наскакивали на наш большой, похожий на кита лайнер. Предугадывая таким образом наши маршруты, они как бы говорили: «Вот видите – мы, пилоты Ордена, можем найти вас где угодно и уничтожить».
Наша тактика вскоре приобрела более провокационный характер. Когда один из пилотов Соли вынырнул над большим кораблем, Делора ви Тови вышла из мультиплекса рядом с ними обоими. Оба легких корабля шмыгали то в мультиплекс, то обратно, как две серебристые молнии, старясь вычислить благоприятный вероятностный маршрут. В таком поединке «побеждал» тот, кто лучше угадывал маршрут противника. Такой пилот, выйдя в черноту реального пространства, готовил свои пространственно-временные двигатели и ждал. Если враг выныривал в предугаданной точке выхода, потенциальный победитель давал ему понять, что мог бы его уничтожить. Когда пространственно-временные двигатели настроены на точку входа рядом с кораблем противника, реальное пространство вокруг него начинает искривляться и вздуваться, как лист нагретого клария. Когда этот пузырь лопается, в мультиплексе на мгновение открывается окно. В таких случаях пилот-победитель совершал триумфальный оборот вокруг оси, как бы говоря: «Я мог бы проложить маршрут в самую середину звезды и швырнуть туда твой корабль. Будь это настоящая война, ты бы уже испарился».
Принимая во внимание кровожадную человеческую натуру, такая война, как справедливо указывал Бардо, не могла продолжаться долго. Однажды, когда мы вошли в Скопление Августа, Томот с Торскалле убил Джонатана Эде. Это могло, конечно, сойти за случайность – возможно, Томот, этот воинственный белокурый гигант с жуткими искусственными глазами «случайно» открыл окно в мультиплекс слишком близко от «Корабля кораблей» и послал Джонатана в сердце звезды. Но что такое, в сущности, случай? Было ли случайным то, что блестящий и обычно спокойный Ли Тош захотел отомстить за смерть своего лучшего друга? Случайно ли он победил в маневренном поединке брата Томота, Сета, и расправился с ним так же, как Томот с Джонатаном? Я в это не верю. И то, что пилоты начали нападать на пилотов с откровенно враждебными намерениями, тоже не было случайностью.
(Случайно ли я заехал Соли по носу? Случайна ли комбинация моих хромосом?)
Помню последние слова, которые сказал мне Соли перед тем, как мы прервали связь и начали сражаться по-настоящему:
– Почему, пилот? Почему ты довел до этого?
Сразу после гибели Джонатана у меня в кабине появилось изображение Бардо.
– Невероятно! – взревел он. – Какое злодейство! Гнусность! Кощунство! Ей-богу, даже слов не хватает! Варварство! Катастрофа! Трагедия! О, горе нам, горе!
Я скорбел о Джонатане и не мог вынести мысли о том, что другие тоже могут погибнуть – поэтому я впал в преувеличенную осторожность. Позвольте повторить еще раз: я, Мэллори Рингесс, стал осторожен. Я повел свои шестьдесят четыре корабля через звезды Трифидской туманности с опасливостью старого шахматиста, двигающего фигуры пр шестидесяти четырем квадратам. Я намеревался провести их от Веды Люс до Каранаты, а затем до Данладийской Пустоши на краю Трифиды. На немногочисленных тамошних каналах можно было устроить засаду для кораблей Соли. Когда они выйдут из мультиплекса и начнут лихорадочно подбирать маршруты от редких фокусов, мы окружим их (то есть, выражаясь топологическим языком, подберем замкнутую и в то же время сообщающуюся группу фокусов) и перебьем одного за другим.
Но мы так и не дошли до Данладийской Пустоши. Соли, должно быть, разгадал мою стратегию и захватил меня врасплох. Хорошо помню момент, заставивший меня усомниться в пользе осторожности. Я вместе со всеми нашими только что вышел из мультиплекса, и свет Веды Люс ослепил меня. Звездная пыль в туманности, отражая его, светилась мягкой голубизной. Сама Веда Люс, горячий голубой сверхгигант, пылала столь же ярко, как Альнилан или Спика, и обладала столь большой массой, что мультиплекс рядом с ней был попросту скручен. Я с трудом провел своих пилотов сквозь его окна. Был момент, когда шестерым пришлось ждать, чтобы остальные прошли к Февешему – следующей по очереди звезде на пути к Пустоши. В этот самый миг старый приятель Соли Лионел Киллиранд вынырнул на своем «Вечном шлюпе» прямо над Кристоблем Смелым и уничтожил его. Тридцать два мастера-пилота одновременно накинулись на Олафсона Джонса, Наширу, Али Алесара с Утрадеса, Николоса Корсо и неподражаемую Делору ви Тови. Быть может, как раз Лионел ее и убил. Тридцать семь серебряных дротиков то появлялись в реальном пространстве, то исчезали, выходя из мрака на звездный свет, как алалойские собаки, отвоевывающие себе место поближе к костру. Я узнал об этой битве по мгновенным точечным деформациям мультиплекса, бегущим, как сверкающая рябь по ночному морю. Я попытался повернуть нашу основную массу обратно, но когда мы вернулись к Веде Люс, бой уже закончился. Лионел и другие скрылись, а мы потеряли шестерых пилотов.
Точно побитые ездовые собаки, мы, поджав хвосты, отступили через звездную группу Ионы почти на край туманности Ориона. Плавая в кабине, я наскоро переговорил со своими пилотами. Бардо исход боя потряс особенно сильно. Мы с ним соприкоснулись кораблями, и его мысли поступали ко мне через корабельный компьютер. Его нейросхемы временно сопряглись с моими, и мы разделяли одно ментальное пространство. Пережив шок поражения И потерю товарищей, мы ненадолго позволили себе эту запретную электронную телепатию.
– Паренек, ты слышишь (чувствуешь), видишь меня?
Я видел его умные глаза, слышал его голос, чуял запах его страха и его газов. Для меня было загадкой, как Жюстина его выдерживает в такой тесноте.
– А где Жюстина? Почему я не слышу ее мыслей?
– Она спит тут, рядом со мной. Когда она увидела, что случилось с Деборой… короче, она временно отключилась.
– Я сделал большую ошибку, Бардо. Не надо было мне искать встречи с Соли тогда ночью, в баре. Ты помнишь. Оттуда и началась эта полоса неудач.
– Ты бы лучше подумал о пилотах, которых мы потеряли, а не о допущенных тобой ошибках.
– Я и так о них все время думаю. Почему Делора? Зачем кому-то вообще надо умирать?
Думая о миллиардах людей, погибших во время разных войн, я открыл для себя одно из многочисленных извращений войны: ужас потерь не усиливается при умножении – он усиливается в обратную сторону. Боль от утраты близкого тебе человека действует в тысячу раз сильнее, чем гибель тысячи незнакомых тебе людей.
– Я ведь любил ее когда-то, ей-богу – ты не знал, паренек? Делора была моей первой женщиной и проявляла большое терпение – тогда, в Борхе, я очень в нем нуждался.
– Она была блестящим пилотом.
– Ты не понимаешь. Она была женщиной! А теперь ее нет.
– Война – это ад, говорят хибакуся.
– Интересная мысль! «Война – это ад», – произносишь ты великолепным холодным тоном, но я-то знаю, что ты на самом деле это чувствуешь – поэтому не пытайся это скрыть, все равно не получится.
Я и правда пытался сохранить стоицизм перед лицом гибели Али Алесара, Кристобля и Делоры, но у меня ничего не получалось. Бардо, слушающий мои мысли чуть ли не по мере их формирования, напомнил мне, что я по всем статьям должен кипеть от ярости, сжимать кулаки и клясться отомстить Лионелу Киллиранду. Кроткая скорбь, шептал он у меня в мозгу, пристала разве что святому, а бесплодные сомнения – подростку.
– Ты не подросток и не святой.
– Кто же я, по-твоему?
– Мужчина, клянусь Богом! Ты гораздо больше нравишься мне, когда бесишься. Вспомни, как ты чуть не оторвал Кессе голову! Я-то этого никогда не забуду.
– Я тоже, Бардо. Я ничего не в силах забыть.
– Это худо.
– Я все время меняюсь… и очень быстро.
– Я знаю, паренек, я знаю. Временами я больше не понимаю тебя.
– Если бы я мог показать тебе эти возможности… эти возможности. Скоро будет бой – это начало конца. Я вижу его приближение, я…
– Что с тобой?
– Я боюсь. Боюсь потерять все. Иногда даже тебя боюсь потерять.
– Друзей потерять нельзя, паренек, – я ведь тебе уже говорил.
– Значит, мы по-прежнему останемся друзьями, когда все это кончится?
– Конечно, останемся – клянусь тебе!
Бардо остался моим другом, и мы, войдя в туманность Ориона, задумались о тактическом применении его печально знаменитой Теоремы Бумеранга. Мы вышли среди звезд Трапеции, утопавших в красивом зеленом тумане ионизированного кислорода. Эти молодые звезды родились, когда человек, наполовину еще обезьяна, уже бродил по травянистым равнинам Старой Земли. Возле Двойной Чу мы столкнулись с основными силами Соли. Бардо с Жюстиной, а также Карл Раппапорт и Ли Тош обнаружили, что могут мгновенно отступить по своим старым каналам к окну, что поставит в тупик любого пилота, который попытается следовать за ними. Таким способом они сожгли восемь пилотов Соли. Эту хитрую уловку, однако, нельзя было повторять до бесконечности. Чтобы победить Соли, который копировал нашу тактику и оборачивал ее против нас почти с той же быстротой, как РНК копирует и расщепляет наши белки, требовалось нечто большее, чем уловки.
В конце концов нам удалось проложить путь за Сгущение Тихо в Розетту. Нас снова окружила эта великолепная машина по производству звезд, через которую я прошел на своем пути в Твердь. Здешние звезды и маршруты я знал хорошо. Мы находились в опасной близости с Экстром, и я невольно думал, каково было бы оказаться среди пепла и взрывов этого звездного ада. Минуя пространства Скалы Ролло, Фарфары и Нварта, мы потеряли Дунканесса и его «Такелажного червяка». В отместку мы не преминули ухлопать Альгену Эде (могучую, известную своим сарказмом старшую сестру Джонатана Эде. Среди всех трагедий нашей трагической войны меня радует только то, что братья у нас ни разу не убивали сестер. Однако оба Эде погибли, а с ними кончился их прославленный род, и их талант ушел в небытие вместе с их телами, хромосомами и легкими кораблями). За каждого потерянного нами пилота мы убивали кого-то из людей Соли, но вечно продолжаться так не могло. Каждая наша потеря увеличивала их численный перевес – Соли мог себе позволить терять корабли, а мы нет. Когда трое наших пропали в Северо-Западном Сгущении, я понял, что должен сойтись с Соли в последнем и решающем поединке.
Я понял единоличное решение увести наш отряд в пространство Пердидо Люс. Извиняться за это вряд ли стоит. Не сумев повернуть в свою пользу факторы времени и ума, я мог противопоставить превосходящим силам Соли только выбор места. Мы прошли мимо Каарты и Новой Земли к звездам Файоли, потому что эти места и маршруты были мне знакомы. Я искал сгущение особого рода, чтобы подстеречь в нем Соли, и мы вошли в мультиплекс близ Даррейн Люс. Мелкие звезды там горят желтым и оранжевым светом, время ведет себя странно, и Твердь искривила мультиплекс сверх всякой вероятности. На наших звездных картах Пердидо Люс в Твердь не входит. Если бы она входила в нее, ни один пилот (кроме разве что Бардо, Жюстины и Ли Тоша) не последовал бы за мной сюда. Но звездные карты порой устаревают, а то и просто врут, и не дают представления о быстром росте мозга туманности. Я провел своих пилотов через сгущение, которое преодолел несколько лет назад, и мы вышли около Пердидо Люс. Никто из нас, даже я, не догадывался, что мы вторглись в самое что ни на есть внутреннее пространство Тверди.
Я, конечно, понимал, что иду на огромный риск, намереваясь дать бой в этом сгущении, но разве у меня был выбор? Много веков назад Ганнибал поразил римлян, проведя своих людей и безволосых мамонтов через горный хребет. Все его мамонты и множество людей замерзли на занесенных снегом перевалах, но армия сохранилась и разбила римлян у Тразименского озера. Я не Ганнибал, но место для боя пока еще мог выбрать. Соли ничего не должен был знать о сгущении Пердидо, и если бы он последовал за нами туда, я захватил бы его врасплох, как Ганнибал римлян.
В Городе кадеты и послушники шлепали по лужам, идя на обед. Твердь думала свои великие думы, смертельная радиация Меррипена и других звезд Экстра продолжала свой путь к Городу, а Леопольд Соли с сотней легких кораблей вышел, из мультиплекса. Они зависли над четвертой планетой Пердидо Люс, газовым гигантом, окруженным призрачными ледяными кольцами. Мы застукали их в точке выхода у серебристого центрального кольца. Мои пилоты использовали маршруты, которые я показал им заранее, и обрушились на Соли из сгущения, как стая голодных волков.
Теперь я понял, что подразумевали древние полководцы под словами «дурман войны». Я, конечно, не мог разместить своих пилотов, как камешки на доске для игры в го, но надеялся, что буду наблюдать за сражением и управлять его ходом. Вскоре выяснилось, что я не могу управлять ничем, включая собственные потные ладони и бешено бьющееся сердце. На долю мгновения я вышел в реальное пространство, и центральное кольцо четвертой планеты нависло надо мной, как ледник. Я мигом составил маршрут, и мои двигатели открыли мультиплекс рядом с «Земной розой» Грегорика Смита. За этим последовал еще один маршрут и еще одно окно. Чернота раздалась, как порванная пилотская камелайка, и оба мы исчезли: он – в пламени Пердидо Люс, я – в одном из каналов сгущения. На меня потоком хлынули теоремы, сверкающие идеопласты цифрового шторма. Мой корабль пробирался сквозь пространство, словно информационный вирус по багровым венам человеческого мозга. Туннели разветвились, слились, и мультиплекс опять открылся. Блеснул свет – слабый желтый свет Пердидо Люс. Один из пилотов Соли – не кто иной, как Нейт с Торскалле на своем приметном бескрылом корабле – поджидал меня. Но я заранее вычислил последовательность маршрутов и вновь скрылся в пульсирующих артериях мультиплекса, не дав Нейту вогнать меня в звезду. Некоторое время мы плясали, то выходя, то уходя, и наконец Нейт допустил ошибку. Он выбрал петлеобразный канал, пересекавшийся с единственным другим. Таким образом он оставил своему «будущему» только две точки выхода в реальное пространство близ Пердидо Люс. Я просчитал вероятности, и когда его корабль сверкнул серебром во мраке, я уже ждал его. Ждал, чтобы убить. У него не было ни единого шанса.
«Будь осторожен», – сказала мне Катарина.
Но разве состраданию есть место на войне? Там, как правило, существует только страдание – и вокруг меня, словно зимняя буря, бушевал бой. Корабли, как сверкающие льдинки, разрывали черноту реального пространства и скрывались в мультиплексе. Сложность этого боя ошеломляла меня. Все шло в ход: замедленное время, ускоренное время, теоремы, требующие доказательства, маршруты от звезды к звезде, и повсюду царил неприкрытый ужас. Желтая точка Пердидо Люс оказывалась то надо мной, то подо мной. (Говоря «надо мной», я подразумеваю, что она находилась между мной и галактическим скоплением в Гончих Псах. Звезды Гончих Псов, по старинному определению, располагаются выше всех звезд нашей галактики.) Проложив очередной маршрут и ускользнув от «Вечного шлюпа» Лионела, я вышел по ту сторону Пердидо Люс, напротив четвертой планеты, и оказался в каком-нибудь миллиарде миль от боя. Затем я снова вошел в сгущение под кольцами планеты и увидел светящуюся дымку, как будто солнце просвечивало сквозь ледяной туман Города. В ней плясала сотня легких кораблей. Я понятия не имел, кто выигрывает бой, и хотел связаться с моими пилотами, но не успел. Я ушел от одного из пилотов Соли, лишь проложив отчаянный маршрут сквозь конечное дерево решений, но не смог сразу вернуться обратно, поскольку дерево оказалось развесистым. Ему просто конца не было. Время текло медленно, как ледник. Меня тошнило от военного азарта и от себя самого. Как легко я снова сделался убийцей! С какой легкостью военный вирус заразил нас всех! Пока я здесь доказываю какое-то второстепенное следствие Теоремы Включения, пилоты убивают пилотов. В это невозможно было поверить. Вот, значит, что такое бой: организованное убийство. В темноте своего корабля я сжал кулаки и выругался. Я вспомнил то, что было на уме у всех нас до того, как мы окончательно решились на раскол и на военные действия против своих собратьев-пилотов: война – худшее, на что способен человек. А рассматривать ее абстрактно или относиться к ней как к ифе – хуже всякого варварства.
И все-таки убивать человеку столь же свойственно, как делать каменные топоры или рожать детей. Человек – это благородное, трагическое, великолепное существо с варварской начинкой. Вернувшись наконец в бой, я сумел разглядеть что-то в сумятице колошмативших друг друга кораблей. Могло показаться, что здесь царит полный хаос и пилотами обеих сторон овладело безумие, но это было не так. Быть может, убивать – действительно безумие, но пилоты делали это не наобум. Они, мои браться и сестры, страдали не зря, хотя сострадание их и покинуло. Некоторые из них специально искали друг друга. Бардо и Жюстина на своей толстобокой «Благословенной блуднице» последовали в мультиплекс за игольчатым «Вечным шлюпом» Лионела и убили его, отомстив за Делору ви Тови. Томот, также руководимый мщением, напал на Ли Тоша, и они оба затерялись в каналах, в которые я бы им не посоветовал уходить. Повсюду вокруг меня, под холодным светом Пердидо Люс, разыгрывались десятки вендетт. Мои пилоты забыли и мою стратегию, и разработанные нами маршруты. Людям Соли, как я узнал после, тоже ударили в голову застарелая вражда и ненависть, и они проигнорировали мастер-план своего командира. Сальмалин, всегда завидовавший превзошедшему его ученику, Зондервалю, напал на его «Первую добродетель». Безумие порождало убийства, убийства – безумие. Был один жуткий момент, когда два пилота Соли, потеряв разум, набросились друг на друга, и еще более жуткий, когда Томот вышел в реальное пространство и по чистой случайности застал меня врасплох. По сей день я представляю себе, как вспыхнули его красные искусственные глаза, когда он смекнул, что наконец-то может отомстить мне за ту драку в пилотском баре и, что еще важнее – в тысячу раз важнее, – за смерть своего брата Нейта. Но месть, как и наконечник девакийского копья, – вещь обоюдоострая. Ли Тош, Бардо и Жюстина обрушились на Томота за миг до моей вероятной гибели. Они открыли окно в мультиплекс и забросили его через темный туннель в огненный ад ближней звезды.
Я подхожу к самой, возможно, печальной части своего повествования. Соли, увидев, что Лионел и Томот убиты, впал в бешенство. Можно было бы надеяться, что он научился состраданию – но нет, он с яростью, без всякого милосердия бросился на Бардо и Жюстину. Какой-то миг их корабли, как две талло, парили под кольцами четвертой планеты – стройный «Ворпальский клинок» Соли и «Благословенная блудница». Эта картина, увиденная через телескопы, отпечаталась в нейросхемах моего корабля. Я находился достаточно близко от них – в сотой доле световой секунды, – чтобы подключить свой компьютер к компьютеру «Блудницы», и сделал это в отчаянном усилии помочь им с маршрутами. Но они оставили без внимания маршрут, который я им показал. Возможно, Жюстина не верила, что Соли в самом деле их убьет. Притом у них, как я теперь понимаю, был наготове собственный маршрут. Какую-то долю мгновения я еще «слышал» их заключительный диалог, из которого понял только часть. Вот он – привожу его для истории и хранительного искусства мнемоников:
– Видишь линию «Ворпальского клинка»? – Он всегда был романтиком, правда, и я… – Знаешь тот фокус в сгущении под кольцом – если дана альфа, существует решение класса… – Один кантор сказал мне, что Соли убьет тебя, потому что… – Следовательно, универсальный класс, как и всякий другой, является подклассом… – Я, конечно, готова дать определение, но не могу не думать о Соли и канторе. Жюстина, сказал он, твой муж в душе тихнет и пойдет на что угодно, чтобы доказать свою теорему, а между любовью и ненавистью, сказал он, нет ничего и…
И они исчезли. Окно в мультиплекс открылось, и они исчезли.
Я вспомнил, что уже видел это – когда скраировал у себя в камере. Я видел много будущих. В одном из них Жюстина и Бардо перед тем, как Соли убил их, сами открыли окно и ушли из боя. В другом Бардо с Жюстиной крепко обнялись и соединили свои мысли, когда Соли открыл свое окно и стал убийцей. Которое же из них осуществилось? Какое событие произошло здесь несколько микросекунд назад?
В конечном счете мы сами выбираем свое будущее, говорят скраеры. Я выбрал то, в котором Жюстина и Бардо остались живы. И стал ждать. Как долго я ждал, что сейчас они вернутся в бой! Так долго, как только способен ждать Главный Пилот, прежде чем переключить свое внимание на другое. Я ждал несколько бесконечных, огромных, тягучих секунд, ждал целую вечность. Но корабль Бардо так и не появился.
Тогда я напал на Соли – а может, это он напал на меня. По правде сказать, мы напали друг на друга одновременно. Два наших корабля, столь разных по конструкции – мой «Имманентный» со скошенными вперед крыльями и его «Ворпальский клинок», – пронзили ночь двумя вспышками молний. Мы маневрировали взад-вперед, открывая свои окна. Наконец-то, думал я, наконец. Я проложил простой маршрут и вошел в открытую петлю, частично связанную с Данладийской последовательностью. Я был уверен, что выйду из мультиплекса в сгущении и подкараулю Соли. Но он разгадал мою стратегию и сам подкараулил меня. В запасе у меня не было ни единого маршрута, и никого из наших не было поблизости, чтобы спасти меня. Он наверняка убил бы меня тогда, мой Главный Пилот, мой дядя, мой палач, мой отец.
А пилоты обеих сторон наверняка дрались бы и убивали до последнего корабля, если бы не голоса. Их услышали все, даже Соли – Соли прежде всего, – хотя это были вовсе не голоса, а словесные символы, толкуемые нами как голоса. Корабельный компьютер каждого пилота строил из идеопластов словесные и мысленные структуры. Мои нейросхемы начали пульсировать легким, не совсем своим ритмом. Я сразу почувствовал, что тут не обошлось без Тверди. Я пытался уйти от Соли (а может, убить его?), когда передо мной замельтешили, как снег, идеопласты, представляющие расколовшуюся на части Аксиому Переплетений. Моя математическая мысль была полностью парализована, и тогда компьютер выдал сложный оранжевый идеопласт, обозначающий «категорический императив, требующий доказательства». Этот знак совместился с красным цилиндром, обозначающим специфический порядок решения, и к ним прибавился черный тор, знак универсального отрицания. Вместе они составили словопласт, который я понял так: «Ты должен найти ответ к проблеме смерти». Таким же образом сформировались другие слова, присоединившись к первому. Появился второй черный тор и слился с первым. Копьевидный зеленый знак представлял особый тип автоморфизма, и из центральной концепции выросла мысль: «Смерть заключается во мне». Новые идеопласты формировались, кружились и становились на место. Затем этот маленький словесный шторм утих, и все остановилось. Почему Она не явилась нам в образе Тихо, как в тот раз, когда я впервые проник в нее? Возможно, Она хотела остановить бой, прервав цифровой шторм внутри каждого корабля. Если Ее намерение было действительно таково, то Она преуспела. Сто двенадцать кораблей повисли в реальном пространстве без движений, и каждый из нас услышал слова:
Далеко ли летишь, пилот? Как тебе нравится война? Ты все еще ищешь секрет жизни? Тогда ты должен узнать, что такое смерть. Смерть заключена внутри меня. Это звезда, которую я называю Геенна Люс. Если хочешь разгадать тайну Экстра, бросай воевать и отправляйся к Геенне Люс. Я помогу тебе. Но поторопись, ибо Геенна Люс скоро умрет. Путь далек, но не слишком, и секрет жизни близок к разгадке. Его раскроет пилот, который первым доберется до Геенны Люс.
Затрудняюсь объяснить, почему эти простые слова отбили у нас всякую охоту воевать. Я не могу – как не мог и тогда – заглянуть в головы Ли Тоша, Гармана Самумского и Леопольда Соли, чтобы сказать: «Вот здесь живительный поток веры погасил пламя безумия». Что вообще заставило нас поверить Ей, этой бесчеловечной, капризной богине? Должно быть, наша драка внутри Нее и надругательство над мультиплексом привели Ее в ярость, и Ей просто захотелось услать нас куда подальше. Могу сказать только одно: мы Ей поверили. Нам необходимо было поверить Ей. Мы, пилоты ста двенадцати кораблей, висящих над кольцами четвертой планеты, поверили, что секрет Экстра (а может быть, и тот, другой секрет) близок к разгадке. Думаю, что в тот момент мы все оглядели наш строй вкупе с угольночерными прогалами, где еще недавно находились «Вечный шлюп» и «Благослввенная блудница», и ощутили стыд. Мы не воины – мы пилоты Ордена Мистических Математиков и Других Искателей Несказанного Пламени; не могу объяснить, почему мы все внезапно вспомнили об этом.
Тут же, на месте, мы устроили совет. Включив связь, мы услышали голоса своих «врагов» и увидели лица, которые знали всю свою жизнь. Мы точно очнулись от кошмарного сна. Печальный Ли Тош, Зондерваль, оплакивающий Делору ви Тови, молчаливый Соли с тронутыми смертью глазами – почти все пилоты сошлись на том, что мы должны заключить перемирие.
– Зря мы все это затеяли, – сказал мне Соли, когда мы остались наедине. – Дурака сваляли.
– Бардо убит, – сказал я.
– Их много, убитых.
– И Жюстина тоже. Как ты мог?
– Не знаю.
Я почесал нос – слизистая пересохла, фильтруя постоянно перерабатываемый воздух.
– Ты и меня собрался убить, так ведь?
– Не знаю. – Он подумал и добавил: – Да.
– Теперь война окончена. Эта варварская бойня унизила нас, сделала мелкими людьми. Я не могу больше убивать и не стану.
– Да. Окончена. – Он надавил пальцами на глаза. – Но наше с тобой состязание продолжается, не так ли, пилот?
– Само собой. Как же иначе?
Будучи оба Главными Пилотами, мы вместе прочли реквием по всем пилотам, погибшим в тот день. Затем каждый из нас сопрягся со своим кораблем и проложил маршрут. Звезды исчезли, и корабли ушли в мультиплекс, каждый через свое окно. Так начались наши гонки к звезде Геенна Люс, находящейся на грани взрыва, в одинокое, обманчивое сердце Тверди.
25 ВЕЛИКИЙ ОКЕАН ИСТИНЫ
Бог создал целые числа; все остальное – дело рук человека.
Леопольд Кронекер, конструктивист Машинного ВекаПознание, к которому стремится геометрия, есть познание вечности.
ПлатонМатематика – это игра. Фигурами ей служат аксиомы, которые мы создаем, а правилами – логика. То, что математика иногда пригождается механикам и пилотам, – чистая случайность.
Махавира Лал, третий Главный КанторНе знаю, каким я представляюсь миру, но себе я кажусь мальчиком на морском берегу, который забавляется, подбирая то гладкий камешек, то красивую ракушку, в то время как великий океан истины лежит передо мной неразгаданный.
Исаак Ньютон, первый Главный МеханикСамое странное из всех явлений – это способность разума влиять на глубочайшие структуры вселенной. Как часто мне приходилось это признавать, и как часто пытался я осмыслить эту тайну. Следуя в сердце Тверди через Ее непостижимый мозг, я снова и снова гадал, каким образом могучие волны Ее разума создают эти дикие вложенные пространства, бесконечные петли (не говоря уже о бесконечных деревьях) и прочие опасности Ее внутреннего мультиплекса. Как ни странно, даже Она сама не смогла бы мне этого объяснить, потому что не знала. Она не осознавала всех происходящих в Ней топологических трансформаций. Я удивился, когда понял это – хотя чему тут, собственно, удивляться? Разве пилот в сон-времени может отчитаться за работу каждой клетки своего мозга? Сознает ли он, как течет кровь по его артериям, питая миллионы капилляров, и как проходят электрохимические реакции, вызывающие у него чувство удовольствия? Что представляет собой явление, именуемое нами разумом? Если разум – это результат, кумулятивный эффект миллиардов квантовых и электрических событий, происходящих в мозгу, как может он обращаться внутрь с целью понять себя? Эта старая задача решается просто: любой мозг, чтобы достигнуть полного самосознания, должен во много раз превышать собственную величину, а это в рамках обычной материи и энергии невозможно. (Впрочем, у наших эсхатологов есть теория, согласно которой Эльдрия и мифическая Старшая Эльдрия обладают бесконечным разумом. А поскольку бесконечные множества могут содержать в себе подмножества, бесконечные сами по себе, считается, что такие божественные умы полностью сами себя контролируют. Не знаю, так это или нет. Разум – это не множество, и применение теории множеств в данном случае неправильно. Эсхатологи, казалось, должны бы были понять этот простой факт.) И если мы действительно обладаем собственной волей, эта проблема обостряется еще более. Если я по собственной воле сосредоточиваюсь на определенном вопросе – например, почему Твердь предложила ста двенадцати пилотам войти в собственный мозг, – я добровольно становлюсь причиной страха и сомнений, одолевающих меня. Я становлюсь причиной срабатывания отдельных нейронов моей периферической системы. Если я попытаюсь как-то понять эти импульсы, самый факт моего понимания помешает им. В тот самый момент, когда мне покажется, что я понимаю свой страх, он исчезнет, испарится, как снежные кристаллы под полуденным солнцем.
Твердь, само собой, понимала все это не менее ясно, чем пилот понимает, что дважды два – четыре. Она явно хотела, чтобы мы нашли звезду Геенна Люс, но мало заботилась о том, что происходит в мультиплексе внутри Нее. Это была наша забота. Ей хотелось одного – по крайней мере я так думаю: мыслить и быть. Если это невероятно сконцентрированное мышление заставляло мультиплекс распадаться на серии бесконечных деревьев или образовывать данладийский пузырь – это, конечно, было интересно, но далеко не столь интересно, как открытость и закрытость реального пространства и другие загадки вселенной. Разумеется, Твердь, как человек, знающий, что его зрительный центр расположен под затылочной костью, знала, что отдельные карманы Ее мультиплекса определенным образом искажены. Это Ее знание спасло некоторых из нас от попадания в бесконечные деревья, что когда-то приключилось со мной. Она оберегала нас от опасностей худшего рода, снабжала нас маршрутами, когда могла, и показала нам фокусы Геенны Люс. Если бы Она нам не помогала, я думаю, немногие пилоты отважились бы продолжать путь.
Что до меня, то я, оказавшись снова в этой темной туманности, испытывал настоящий ужас. Скопления звездной пыли, светящиеся водородные облака и эти треклятые лунные мозги, как выразился бы Бардо – каждый раз, выходя в реальное пространство, я спрашивал себя, зачем я снова, вопреки себе самому, вернулся в этот причудливый ад. Память о войне еще не остыла, и образ исчезающего корабля Бардо преследовал меня. Где-то он теперь, думал я ежеминутно, как встретил он свою смерть? Я хотел бы также знать, где теперь наши пилоты. Я не мог проследить их путь через Твердь, поскольку мультиплекс здесь походил на пузырящуюся черную грязь. Я задумывался над целью, которую преследовала Твердь. Действительно ли Ей хотелось, чтобы мы присутствовали при гибели звезды? Или это была просто жестокая шутка, способ лишить души Орден, ставший застойным, злым и воинственным?
Если Ей, этой богине, которую воин-поэт назвал Калиндой Цветочной, так важно было, чтобы мы поскорее добрались до Геенны Люс, почему Она не помогла нам более усердно? Почему Она, в частности, не показала нам, как решить Гипотезу Континуума? Если бы мы смогли доказать Гипотезу, то прошли бы от Пердидо Люс до Геенны за один ход, почти не затратив на это времени. Зачем Она снабжала нас тщательно разработанными маршрутами через свое извилистое нутро, если задачу можно было решить гораздо проще? Да… Ну а если решения вообще нет? Или оно есть, но Она не знает и не хочет знать, в чем оно состоит? (В порядке исторической справки должен упомянуть, что существует еще одна старая, не имеющая отношения к нашей теорема, носящая то же название. Старая Гипотеза Континуума предполагает, что не существует бесконечного множества с мощностью, промежуточной между мощностью множества натуральных чисел и множества фокусов в космосе. Целый век ее не могли ни доказать, ни опровергнуть, пока один из первых – и последних – самопрограммирующихся компьютеров не открыл аксиомы Обобщенной Теории Множеств и не решил этот вопрос раз и навсегда.)
С моей стороны было, конечно, самонадеянно и глупо предполагать, будто я могу доказать то, что Тверди, возможно, не под силу. Но я, несмотря на все свои злоключения, самонадеянности так и не утратил. Я очень хотел доказать Гипотезу. Мне необходимо было доказать ее, пока этого не сделал другой пилот, например Соли. Всю свою жизнь я мечтал доказать ее, а теперь и подавно: великие тайны могли бы открыться мне, если бы чистый огонь вдохновения озарил эту знаменитейшую из теорем. Я плавал голый в своей кабине и думал, откуда бы взять это вдохновение. Из замедленного времени я переходил в белый свет сон-времени, и мультиплекс открывался моему уму. Странны были каналы мозга богини: я вошел в разреженное пространство Лави и стал пробираться сквозь какие-то складки, молясь, чтобы они оказались конечным множеством. Время замедлило ход, и казалось, что у меня есть целая вечность, чтобы думать свои думы. Мысли мои были тусклыми, как пламя горючего камня, и слабыми, как огонек светового шара в метель. Я не знал, где искать вдохновение. Мозг моего корабля опутывал меня электронной паутиной, но он был предназначен для того, чтобы вычислять, рассуждать по законам симметрии и эвристики, манипулировать логическими структурами, накапливать информацию и делать еще миллион разных штук, помогающих человеческому мозгу, не заменяя его. Я мог бы навечно подключиться к своему кораблю и навеки пропасть в экстазе цифрового шторма, но вдохновение так и не коснулось бы меня своим огненным перстом. Большой размер мозга еще не гарантирует ему математического таланта. Возможно, даже Твердь (думая так, я, конечно, был глуп) почти не интересуется чистой математикой и не имеет таланта к ней. Ко мне пришла еще одна мысль, ясная, как стекло Хранителя Времени: если мне суждено доказать Великую Теорему, вдохновение должно явиться изнутри.
Я по натуре математик и любопытный человек. Природа математики, как и моя собственная природа, всегда интересовала меня. Что такое математика? Почему она с такой точностью описывает законы вселенной? Почему столь эфемерные, казалось бы, создания и открытия нашего мозга так хорошо совмещаются с бешеной круговертью, которую мы именуем реальностью? Почему, например, притяжение между двумя телами (если пользоваться ньютоновской механикой) характеризуется величиной, обратной квадрату расстояния между ними? Почему не две целых и пять десятых, не две целых пять сотых? Почему все так точно и аккуратно? Возможно, конечно, что человеческий мозг по своей слабости способен открыть лишь простейшие, самые очевидные из законов мироздания. Возможно, существует бесчисленное множество других законов, столь безнадежно сложных, что установить их невозможно. Если бы тяготение действовало более сложным путем, Ньютон, возможно, никогда не вывел бы формулу своего закона. Кто знает, какие чудеса навсегда останутся скрытыми от математической мысли человека? Но эта теория, которую так любят эсхатологи, все-таки не объясняет, почему математика работает так точно и почему она работает вообще.
Что такое математика? Этот вопрос вертелся у меня в уме всю мою жизнь. Мы создаем математику, как создаем симфонию. Мы выстраиваем свои аксиомы согласно логике, как композитор выстраивает свои ноты, и рождаем священную музыку своих теорем. Можно также сказать, что мы открываем математику. Отношение окружности к диаметру остается одинаковым для человека и жителя галактического скопления Кита. Математика для всех одинакова, потому что так устроена вселенная. Открытие и созидание, думается мне, в конечном счете – одно и то же. Мы создаем (или открываем) не имеющие определений понятия наподобие точки, линии, множества и промежуточности. Мы не ищем для них определений, поскольку нет более основополагающих понятий, чем эти. (А если бы мы все-таки попытались дать им определение, то разделили бы ошибку Евклида, и у нас получилось бы нечто вроде: «Линия есть длина, лишенная ширины». А после этого нам пришлось бы искать слова для определения понятий «длина» и «ширина» – и так далее, и так далее, пока мы не использовали бы все слова в своем конечном языке и не вернулись к простой формуле: линия – это линия. Даже ребенок, в конце концов, знает, что такое линия.) Из этих базовых понятий мы составляем простые определения для математических объектов, которые кажутся нам интересными. Мы даем определение «кругу» и создаем «круг», потому что круг красив и интересен, но по-прежнему ничего не знаем о нем. И все-таки некоторые вещи оказываются верными (или нам доставляет удовольствие думать, что они верны), и мы создаем математические аксиомы. Все прямые углы конгруэнтны, параллельные линии никогда не пересекаются, параллельные линии пересекаются всегда, существует по крайней мере одно бесконечное множество – все это аксиомы. Итак, у нас есть линии, круги и аксиомы – значит, должны быть и правила, чтобы манипулировать всем этим. Эти правила называются логикой. С помощью логики мы доказываем свои теоремы. Мы можем выбрать либо обычную логику, где утверждение либо верно, либо нет, либо одну из квантовых логик, где утверждение имеет степень вероятностного правдоподобия. С помощью логики мы превращаем свои простые, очевидные аксиомы в золотые теоремы невероятной мощи и красоты. С помощью нескольких логических ступеней мы доказываем, что в гиперболической геометрии прямоугольников не существует, что количество простых чисел бесконечно или что… мы можем доказать массу чудесных вещей, совсем не очевидных; мы можем сделать это, если мы умны, и если мы любим великолепие захлестывающего нас цифрового шторма, и если в нас горит священный огонь вдохновения.
Что же такое вдохновение? Откуда оно берется? Пробираясь сквозь искривленное пространство, я любовался Теоремой Кривых Лави и Второй Теоремой Трансформации, как прекрасными бриллиантами. Откуда берется математика? Как она рождается? Ну да, у нас есть аксиомы, логика и такие понятия, как «линия», но откуда вся эта абстракция взялась? Почему даже ребенок знает, что такое линия? Почему даргинни, настолько чуждые нам, настолько это возможно для инопланетян, мыслят по законам той же логики, что и человек?
Почему все именно так, а не иначе?
Я преодолел последнюю складку искривленного пространства и выпал в реальное – как блоха из одежды хариджана, если ту потрясти. Глядя на туманные звезды Тверди, я вспомнил старый-престарый ответ канторов: математика – это особый язык, языки же рождаются в мозгу. Но мозг эволюционировал пятнадцать миллиардов лет от мозга человека-обезьяны, а если брать глубже – от мозга еще более простых млекопитающих, от нервных клеток существ, плававших в теплых соленых водах нашего далекого прошлого. Если взять еще глубже, мы дойдем до бактериальных спор, принесших жизнь на Старую Землю. А откуда взялись они? Их создала Эльдрия? Кто тогда создал Эльдрию? Что такое жизнь? Жизнь – это информация и разум, заключенные внутри ДНК; это взрывное воспроизводство белковых молекул; это углерод, кислород, водород и азот, зарождающиеся в звездных ядрах. Сами же звезды рождает вселенная, эта гигантская фабрика по производству звезд; вселенная породила Беллатрикс, Сириус и голубые гиганты скопления Эде; из таких звезд, как Антарес и Канопус, собственно, и произошла жизнь. Каждый атом наших тел создавался в далеком небесном огне. Мы – дети звезд, мы – создания вселенной. И если наш рожденный звездами мозг воспринимает как должное «линию» и прочие элементы языка, надо ли удивляться тому, что «линия» является естественным смысловым понятием нашей вселенной? И что удивительного в том, что логика вселенной является также и нашей логикой? Канторы любят говорить, что Бог у нас – математик, и верят, что мы, создавая особый язык математики, учимся языку вселенной. Мы все, пилоты и математики, произносим слова этого языка, пусть в самой инфантильной, примитивной форме. Раз или два, размышляя, как чудесно подходит математика к контурам пространства-времени и к изгибам мультиплекса, я чувствовал, что вселенная говорит со мной ее языком – надо только уметь слушать. Но как этому научиться? Как заставить чистые ноты математики звучать более бегло? Что такое вдохновение?
Я продолжал свой путь в корабле, похожем на темный затхлый гроб, гораздо темнее камеры Хранителя Времени. Как семя, пробивающееся из земли на свет дня, рвался я из пут старого мышления, связывающих мое вдохновение. Как мне хотелось доказать Великую Теорему! Но это желание не было свободно от страха. Я снова и снова задумывался над природой собственного разума. Откуда у меня умение скраировать и мнемонировать? И кто знает, какие еще способности я могу обрести? Если я все-таки докажу свою теорему, будет ли доказательство действительно моим – или оно будет принадлежать агатангийскому информационному вирусу? Осмелюсь ли я взрастить семя вдохновения внутри себя, взлелеять его и вкусить его горько-сладкий плод?
Я шел по маршрутам Тверди через серию сгущений. Однажды, выйдя из мультиплекса в месте темном и похожем на межгалактическую пустоту, я чуть не запаниковал, но тут же обнаружил, что на самом-то деле нахожусь в центре сгущения! Фокусы были спрессованы, как икринки в брюхе у рыбы. Я не понимал, как это возможно. Только звезды (или разум) способны деформировать космос так, чтобы создалось сгущение. Быстро открыв окно, я прыгнул в мультиплекс, ушел в сон-время и стал думать об этом странном сгущении. Если мозг Тверди содержит такие чудеса, как беззвездное сгущение, какие чудеса могут заключаться в моем мозгу? Может быть, мне опять попытаться – попытаться как следует, до жжения в глазах и бурного прилива крови к мозгу – попытаться в тысячный раз доказать Гипотезу Континуума?
Как только эта мысль окрепла во мне, цифровой шторм усилился. Идеопласты строились и текли, бушуя перед моим внутренним взором. От волнения я почти утратил контроль над собой. В тысячный раз я обдумывал обманчиво простые условия Гипотезы, говорящие, что между любой парой фокусов дискретных множеств Лави существует прямой маршрут. Я разобрал это утверждение на части и исследовал каждую из них. Что такое множество Лави? Что такое фокус? Уверен ли я, что понимаю разницу между множеством Лави и дискретным множеством Лави? Как показать, что маршрут прямой, и, что еще важнее, как его составить? Сначала я пошел по проторенной дороге и вспомнил все мои старые попытки найти решение. Часто я обнаруживал, что мысль моя движется по кругу. Мелкость собственного мышления обескуражила меня. Как доказать то? Как доказать это? Как порвать ржавые цепи привычных, лишенных вдохновения мыслей?
Я попробовал представить задачу в иной форме, надеясь, что свежий взгляд на нее поможет мне увидеть очевидное. Мне удалось найти эквивалентную формулировку, но она оказалась еще более заумной, чем первоначальная. Я раскладывал Гипотезу на составные элементы, перестраивая их так и этак – все напрасно. Я представлял части Гипотезы в виде картин, чтобы «увидеть» связи, которые мог проглядеть. Я обобщал Гипотезу, включая в нее все множества Лави, и играл с маршрутами специфических множеств Лави, хорошо изученных. Я пытался построить доказательство от противного и анатомировал родственные теоремы (Теорема Бумеранга Бардо входит в их число, хотя доказать ее гораздо проще). Я шел по длинным темным коридорам рассуждений, спускаясь на тысячи ступеней вниз; я ругался, тер глаза и виски – и наконец, когда мои волосы и борода слиплись от пота и я почти утратил надежду, в голову мне полезли какие-то дикие догадки.
Не знаю, сколько времени я пытался доказать Гипотезу. Дни, секунды, годы – разве время имеет какое-то значение? Да, в определенном смысле. Соли в любое время мог приблизиться к своему моменту вдохновения. Гонки продолжались, безмерные моменты складывались в нескончаемые дни, и я начинал думать, что Гипотеза недоказуема. Довольно долго я пытался показать, что она недоказуема, хотя по-настоящему в это не верил. Интуиция – а математически мыслящий человек никогда не должен пренебрегать интуицией, – какой-то внутренний голос шептал мне, что Гипотеза на самом деле доказуема и более того – что это доказательство покажется мне до смешного очевидным, когда я найду его. Если найду. Если его вообще можно найти. Если… Если маршрут между парой фокусов дискретных множеств Лави существует, маршрутов должно быть бесконечно много; если заполнить п-мерный куб конечным числом достаточно малых замкнутых множеств, некоторые точки, безусловно, будут относиться по меньшей мере к п+1 этих множеств; если размешать миску с кровяным чаем в тысячный раз, по меньшей мере одна точка – одна частица крови – останется на прежнем месте, не затронутая размешиванием; если/то. Если я исследую идеопласты правила Тихо, Черепичной Теоремы и Теоремы Фокусов, если я раздроблю их сверкающие кристаллические структуры на отдельные ступени доказательства, вместо того чтобы цепляться за целое, то, может быть, и пойму, что вдохновляло их создателей. Если я получше вникну в их доказательство, то смогу лучше использовать эти теоремы для доказательства Гипотезы.
И если пилот слишком долго задерживается в сон-времени, то он должен выйти из ментального пространства и поспать. Я внезапно устал от игры идеопластов, захлестывающих мозг, и мне страшно стало думать о чем-либо, связанном с математикой. Я кусал губы, ругался, отчаивался и наконец уснул. Закрыв глаза и ум перед цифровым штормом, я плавал в кабине, как труп. Я спал долго, а когда наконец проснулся, веки у меня склеились и во рту стоял вкус крови – наверное, я прикусил язык во время сна. Мысли застыли, как черный лед. Я был пуст, как покинутая снежная хижина на отмели глубокого зимнего моря. Но холод не был абсолютным. Внутри что-то теплилось, словно я, выбравшись из-под перевернутых карт, влил в себя миску горячего чая. Во мне слабо светилась какая-то мысль – я не знал, откуда она взялась. Без видимой причины я вспомнил одну второстепенную теорему – Маршрутную Теорему Джустерини. Огонек стал ярче, как будто я раздул тлеющие угли. Я с волнением подумал о том, как изящно Олаф Джустерини применил свертку омега-функции, чтобы доказать свою не получившую признания теорему. Как красиво!
Думая в общих чертах о структуре Гипотезы Континуума, я увидел, как в тумане, что свертку омега-функции, примененную Джустерини, можно использовать для опровержения схемы соответствия Лави. Я дрожал от возбуждения и от страха тоже, потому что меня посещала уже тысяча таких туманных идей об опровержении схемы соответствия. Но эта идея была другой – я прямо-таки видел разницу. Я почему-то чувствовал, что она верная – очень уж хорошо она заполняла дыры в моих рассуждениях. Я подключился к нейросхемам моего корабля, и вспыхнул свет. Идеопласты закружились вокруг неподвижной точки в моем уме, и мультиплекс открылся. Я снова вошел в сон-время. С тем же. ощущением верности я перевел мою идею в сверкающий кристалл нового идеопласта. Пламя мысли разгорелось еще ярче. Я выстроил свое доказательство. Схема соответствия Лави может быть опровергнута только в том случае, если подпространство Джустерини вложено в простое пространство Лави. Могу ли я показать, что оно входит туда? Оно должно входить; должна существовать простая серия рассуждений, показывающая, что оно туда входит; даже послушник мог бы это показать. Мысли текли, словно горячая лава, а мозг наэлектризовался, став гораздо более объемным, и вмещал целый океан этой расплавленной материи. Я чувствовал, что мыслю так, как никогда не мыслил раньше, даже при сопряжении с компьютером, когда ускорял мозг посредством замедленного времени. Теперь мои мысли двигались намного быстрее. Новые концепции возникали, становились на место, и я в мгновение ока понимал то или другое. Как описать восхитительную боль и удовольствие этого понимания, этого чудесного видения упорядоченности? Мои мысли жгли меня, как раскаленные докрасна, пылающие капли света. Подпространство входило в простое пространство Лави! И схема соответствия рушилась, как рушится вокруг ядра звезда, превращаясь в сверхновую, и можно было выбрать маршрут. Можно было выбрать маршрут! В нем были изящество, красота и звездный свет. Я проложил этот маршрут. Белый свет сонвремени хлынул сверкающим потоком и сжался в точку звездного пламени, которая стала расти и шириться, пока не заполнила весь мой ум.
Да, Соли, подумал я – гонки продолжаются, но этот забег окончен.
Я вышел в реальное пространство у горячей белой звезды, которую Твердь назвала Геенной Люс. Я доказал Великую Теорему, добрался до цели за один ход, и все звезды на небе наконец-то стали моими.
26 КАЛИНДА ЦВЕТОЧНАЯ
Брак с Вычислительной Машиной принес Человеку великую радость, но и великий страх, ибо их дети были почти как боги. Галактоиды населили галактику по собственному усмотрению, изменив самый ее облик. Кремниевый Бог, Твердь, Аль Квадрат, Энное Поколение – их имена можно долго перечислять. Были также Исправленные и Симбионты, от которых произошли Нейропевцы, Воины-поэты, Нейрологики и Пилоты Ордена Мистических Математиков. Так прекрасны были эти дети, что Человек жаждал коснуться их, но не мог. Отсюда явился Второй Закон Цивилизованных Миров, гласящий, что Человек не может слишком долго смотреть в лики Вычислительной Машины или ее детей, если хочет остаться Человеком.
Хорти Хостхох, «Реквием по хомо сапиенс»Геенна Люс была красивой звездой с большой массой, белой, яркой и горячей. Я упивался ее красотой. Почему звезды? Почему все так, а не иначе? Почему мы дышим, почему впитываем горе, радость, жалость и боль? Почему…
Ты доказал свою теорему, мой пилот, но по-прежнему задаешь эти вопросы.
Божественный голос Тверди звучал у меня в голове – а я-то наделся, что никогда больше его не услышу. Она напророчила, что я вернусь к Ней – и я вернулся.
Звезды есть для того, чтобы мы любовались их красотой. А мы существуем для того, чтобы поклоняться свету.
Я вспомнил, как Твердь любит игры и загадки, и передал Ей мысленно:
– Ты на любой вопрос можешь ответить столь же просто?
Именно для этого я здесь.
– Ну что ж, в вопросах у меня недостатка нет. Где Бардо? Если Ты могла остановить бой, когда хотела, почему Ты позволила ему умереть? Умер ли он? Известно ли Тебе об этом? Нет! Не отвечай мне… так. Я не хочу слышать Твой голос внутри. Хочу сохранить неприкосновенность моих мыслей.
На самом деле человек вовсе не стремится к неприкосновенности.
После паузы у меня в кабине появилось изображение Тихо с его моржовыми брылями и свирепой ухмылкой. Он был так близко, что я мог погрузить руку в когерентные световые волны, образующие его заросшее щетиной лицо. Он заговорил, и моего слуха коснулись настоящие звуковые волны:
– Предпочитаешь говорить с человеком? Ладно, поговорим так.
– Где Соли и все остальные пилоты? Чем закончился бой?
Тихо провел языком по желтым зубам и сказал:
– Ты залетел далеко – ни один пилот не залетал дальше. Остальные еще прокладывают ходы через мультиплекс. Только ты доказал свою теорему, и только тебе будет открыт секрет. Направь свои телескопы на скопление астероидов в двенадцати градусах над плоскостью эклиптики.
Я навел телескопы согласно его (Ее) указаниям. В миллиарде миль от Геенны Люс плавало большое облако астероидов, камней и пыли. Некоторые из камней были огромны, изрыты кратерами и красны от железа и силикатов; другие имели более темную, бурую окраску и были, видимо, богаты углеродом и водой. Поначалу я не понял, зачем Твердь велела мне обратить внимание на это кладбище распыленной материи. Затем корабельный компьютер проанализировал содержание углерода, водорода, кислорода и азота в одном из мелких астероидов, и у меня свело желудок. У меня возникло крайне нехорошее предчувствие – впрочем, это не то слово; я понял, что в космологическом смысле здесь что-то очень неправильно.
– Когда-то это была единственная планета Геенны, – сказал Тихо, – чья масса была вдвое больше, чем у Ледопада. Теперь она сопровождает Геенну в раздробленном виде. Это сделали люди. Человеческий рой разнес планету на куски.
Мне не верилось, что Она могла пустить людей в свой мозг и позволить им разрушать планеты. Потом я вспомнил о деградировавших представителях человечества, которых встретил во время первого путешествия в Твердь, и уверенности у меня поубавилось.
– Сколько их, этих людей? – спросил я. – И где они?
– Наведи телескоп на длинный, в форме полумесяца астероид. Видишь? Видишь, как они блестят? Корабли у них из алмазного волокна, как и твой.
Я посмотрел в телескоп и с ужасом увидел множество искусственных миров. Каждый из них представлял собой цилиндр около тридцати миль в длину и десяти в ширину. Сколько же человек обитает в таком поселении? Я насчитал десять тысяч четыреста восемь цилиндров. Они кишели в черной крови космоса, словно какие-то бактерии. Первой моей мыслью было, что эти люди, вероятно, колонизировали Геенну Люс еще до того, как Твердь заняла эту часть туманности. Возможно даже, они прилетели со Старой Земли. Их корабль вышел из мультиплекса в этом месте, они основали свой мир и стали размножаться. Они добывали руды, плавили металлы, они осваивали планету, строя себе жилища и добывая пропитание, и их численность выросла в десятки тысяч раз. Если это так, то они относятся к старейшим народам галактики. (Я имею в виду человеческие народы.) Должно быть, они живут здесь уже несколько тысячелетий.
Я поделился этими мыслями с Тихо, и он так заржал, что слюна побежала изо рта, а потом сказал:
– Ты сам знаешь, что твоя первая гипотеза ошибочна. Почему же ты не хочешь рассмотреть вторую? Ты должен знать, откуда взялись эти люди.
– Я не знаю. Скажи мне.
– Подумай, Мэллори.
Я почесал бороду.
– Сколько времени им понадобилось, чтобы разрушить планету?
Тихо улыбнулся – насмешливо, снисходительно.
– Ты можешь вычислить, когда они здесь появились, по времени, за которое население одного из их миров удваивается. Рост происходит по экспоненте – математик должен уметь вычислять такие вещи.
У меня разболелась голова, и я надавил кулаком на глаз и крыло носа. Я не понимал, почему Тихо меня дразнит.
– И каково же время воспроизводства? Сколько лет на это уходит?
– Сколько дней, ты хочешь сказать?
– Дней?!
– Человеческий рой размножается быстро, пилот. Первый мир пришел сюда из Экстра десять лет назад.
– Десять лет!
– Они заблудились и испытывали нужду.
– Десять лет!
– Показать тебе, на что способен человек, когда он испытывает нужду в размножении? Ты в самом деле хочешь увидеть, как взорвется звезда?
– Зачем? – прошептал я. – Зачем им взрывать свое солнце? Возможно ли это?
Я ненадолго закрыл глаза, чтобы увидеть внутренним зрением образ, переданный мне телескопом: пыль, камни и десять тысяч искусственных миров. Так сколько же человек живет в каждом из них?
– Мэллори, – позвал голос. – Послушай, Мэллори.
Я зажал руками уши и крикнул:
– Нет! У мертвых нет языка, и говорить они не могут.
Я не хотел слушать, не хотел открывать глаза. Не хотел слышать этот сладостный голос и смотреть на прекрасное безглазое лицо, которое Твердь достала из моей памяти.
– Ах, Мэллори, Мэллори!
Не в силах больше терпеть, я открыл глаза и посмотрел на Катарину. Она парила передо мной в своем белом скраерском платье, сама белая, как мрамор, с кромешно-черными дырами на месте глаз, и улыбалась.
– Это предначертано давным-давно. Что есть, то было.
Мне хотелось сжать ее в объятиях и поцеловать в полные красные губы, но я сказал себе, что это всего лишь свет, память и бесстрастные слова. Я пообещал себе не касаться ее. Что бы ни случилось, я не отниму руки от лица.
– Зачем ты мучаешь меня? Неужели мои преступления столь велики? – Я выругался и крикнул, обращаясь к Тверди: – Верни сюда Тихо, проклятая! Я с ним хочу говорить!
Но Тихо не вернулся, а изображение Катарины – я напомнил себе, что это только изображение – ответило мне:
– Давным-давно первые скраеры увидели мрачное будущее этой… Понимаешь ли ты теперь боль этих видений? Милый мой Мэллори с таким чудесным мозгом и такой чудесной жизнью, это больнее, чем человек способен вынести, и поэтому я покажу тебе, что человек может… Видишь ли ты то, что видела я? Увидишь ли, если я покажу? Смотри! Что было, то будет снова и снова, пока все звезды… Видишь?
Перед моим мысленным взором возникла горячая белая звезда с безжизненной, покрытой льдом планетой. Внезапно из сгущения близ звезды, где фотоны изливались в космос белым световым водопадом, появился туманный предобраз объекта, выходящего из мультиплекса. Изображение обрело четкость. Алмазный цилиндрический корабль тридцатимильной длины распустил свои световые паруса на тысячу миль, улавливая обильную радиацию Геенны.
Постепенно световое давление миллиардов квантов на серебристую паутинку парусов придало кораблю ускорение, и он за время, примерно равное долгой глубокой зиме в Городе, дошел до планеты. Цилиндр раскрылся, и тучи крошечных разрушителей (возможно, правильнее будет назвать их запрограммированными бактериями) хлынули в вакуум, как метеоритный ливень, и покрыли всю планету сверкающей пылью. Работа началась. Бактерии вырывали свободные атомы кислорода из водных молекул, накапливали углерод и прочие элементы. Они пожирали самую почву планеты и накапливали водород, собирая его в огромные резервуары, вмонтированные в грунт. Цилиндр раскрылся снова и высадил армию новых роботов. Оптические кристаллы их лазеров преобразовывали инфракрасное излучение в жесткий ультрафиолет, и роботы направили их на резервуары с водородом. Водород нагрелся до ста миллионов градусов и взорвался. Огромные огненные шары поднялись над поверхностью планеты. Ее кора превратилась в раскаленную пыль, камни и глыбы спекшегося песка хлынули в космос, лед выкипел. Когда пыль осела, цилиндр снова раскрылся и выпустил на изглоданную планету новых разрушителей. Планету разобрали слой за слоем – кору, мантию и ядро, раздробили, словно снежный ком, а потом, словно совок с мусором, вышвырнули в космос.
Во мне сформировались новые картины. Завороженный этим зрелищем, я смотрел, как разрушители добывают из фрагментов разбитой планеты кремний, ртуть, гелий и прочие элементы. Тучи микроскопических роботов на вновь созданных астероидах лепили атомы углерода один к одному, собирая сверкающие корпуса новых цилиндров и многое другое: телескопы, нейросхемы, световые шары, шакухачи, крылья для летания, жевательные палочки, шелк, деревья, дома, таблетки глюкозы, травяные газоны и прочее, и прочее. Сборщики создавали новых сборщиков, поэтому процесс превращения планеты в десять тысяч цилиндров занял не слишком много времени. Сборщики, запрограммированные связывать углерод с водородом, кислородом и азотом, строили аминокислоты и низали белки.
Они могли создавать даже человека – целый рой людей, миллионы и миллиарды.
Сколько же их?
– Видишь, милый Мэллори? Их много – кто бы мог подумать, что жизнь способна столько создать?
– Эта история, эти картины, которые ты показала мне, – они реальны?
– Посмотри в телескоп – разве эти десять тысяч миров не реальны?
Я почесал нос.
– Как я могу знать, что реально, а что нет, когда я нахожусь в твоем мозгу, а ты – в моем? Ты можешь заставить меня видеть все, что захочешь.
Катарина, улыбнувшись, сунула руку в потайной кармашек, – обмакнула палец в зачерняющее масло и потерла свои глазницы.
– Ты достаточно ясно видишь эти красивые… Ты должен знать, что они реальны.
Я поскреб бороду и спросил:
– Сколько человек обитает в каждом цилиндре?
– В разных цилиндрах по-разному… Мне понадобится немного времени, чтобы назвать точные числа. Притом они ежесекундно меняются. Как забавно, что ты никогда не перестаешь считать – точность для тебя просто фетиш какой-то.
– Ну хотя бы приблизительно – сколько?
– Десять миллионов человек в каждом из миров. Человек – какое это чудо! Наполовину животное, наполовину…
Я сжал губы, невольно подумав, что сейчас, наверное, очень похож на Соли, и сказал:
– Невозможно, чтобы десять миллионов человек так размножились всего за десять лет.
Но не успев еще договорить, я понял, что ничего невозможного в этом нет. Сборщики могут сделать младенца взрослым за несколько лет. Только что это будут за люди? Не может человеческий мозг за пару лет созреть полностью. Я произвел быстрый расчет. Если количество миров удваивается каждые три четверти года, большинства миров и живущих в них людей три года назад еще не было. (Сборщики могут создать взрослого человека всего за несколько дней. Во время вторых темных веков генетики часто занимались такими запретными экспериментами. Это правда: человека можно вырастить, как кусок искусственного мяса. У него будут пригодные для работы руки, волосы, и по его жилам будет течь горячая красная кровь. У него будет даже мозг – только голый, как верхние склоны горы Аттакель. Сборщики могут создать и мужчину, и женщину, но не могут создать человеческий разум.)
– Ты все еще не видишь. – Катарина отвела волосы со лба. Будь у нее глаза, я подумал бы, что она читает по моему лицу. – Что мне сделать, чтобы ты увидел?
Во мне снова возникли картины, звуки и запахи. Мое внутреннее зрение, слух и обоняние, словно талло, парящая в тепловом потоке над горой, повисли над одним из цилиндров и проникли сквозь его корпус. В теплом влажном воздухе стояли густые запахи жизни. Надо мной, подо мной и по бокам тянулся на много миль сплошной зеленый ковер – деревья, пруды, лужайки и яблоневые сады, увешанные восхитительно пахнущими красными плодами. И повсюду, от носа до кормы, справа и слева, я видел младенцев. Голые, мягкие и сморщенные, как моллюски, они ползали в высокой зеленой траве. Небольшой отряд домашних роботов присматривал за ними. Пахло отрыгнутым молоком, горчичными детскими фекалиями и младенческой кожицей. Несколько ребят постарше лазали по раскидистой яблоне, рвали спелые красные яблоки и бросали их в траву. Лужайка была усеяна надкусанными яблоками. Меня поражало подобное расточительство – оно напоминало мне мясную оргию деваки. Может быть, эти яблоки червивые – почему бы иначе дети бросали их, едва надкусив? Один мальчуган устроился в развилке дерева, выбирая яблоко внимательно, как послушник, изучающий голограмму галактики. Он выбрал плод, улыбнулся и вонзил в него свои белые зубки. В яблоке было полно червей – они так и кишели. Мальчик, снова улыбнувшись, высосал пару червяков и проглотил их. Я не понимал, зачем он это делает. Другие дети тоже старательно выискивали червивые яблоки. Катарина прошептала мне на ухо ответ: человеческим детям – как и всем людям – для роста нужен белок, а черви как раз и состоят из воды, жиров и белка.
Я закрыл глаза, потом открыл и снова оказался в своей кабине вместе с Катариной.
– Их так много – все миры полны новых… Есть там, конечно, и взрослые, по тысяче на каждый мир. Они астриеры крайнего толка, понимаешь? Но малыши не знают реальную… Они так милы и так хотят жить – и такие голодные!
– Червей едят. – Мне вспомнилась жуткая улыбка Шанидара и та гадость, которую он поглощал. – Это напоминает мне о вещах, которые я не хотел бы вспоминать.
– Не бойся своих воспоминаний, Мэллори. Память – это все.
– Что за варварство – это неограниченное деторождение!
– Будь сострадателен, Мэллори.
– Они просто варвары.
– Это проблема всего человечества, тебе не кажется? Этих бедных людей, конечно, нельзя назвать цивилизованными. Их голод не знает пределов. Они пожрали все элементы этой планеты, но один из самых важных у них на исходе. Планета бедна азотом, понятно? Это ограничивает их рост. Как им вырабатывать белки без азота? Поэтому им требуется новая пища, планеты других звезд: нужно же им кормить своих детей.
– Уж лучше бы я ослеп, чем такое видеть.
Катарина, подняв палец с невидимым от черного масла кончиком, заговорила медленно и серьезно:
– Эти десять тысяч миров похожи на огромные космические корабли – но не до конца похожи. Как, по-твоему, можно открыть окно для такого массивного объекта, как искусственный мир? Деформация должна быть просто колоссальной. Так вот, когда Геенна станет сверхновой, пространство-время вокруг нее разогнется, как лист резины – кажется, пилоты пользуются именно такой аналогией? И пилоты искусственных миров, как и вы, проложат свои маршруты. За миг до того, как взрыв мог бы испепелить их, все миры уйдут в мультиплекс, как камни, брошенные в открытое окно. Это единственный способ.
– Варвары!
Она покачала головой, мотая длинными черными волосами.
– Они такие же мужчины и женщины, как и мы. Не совсем такие, конечно, поскольку им недостает мастерства наших пилотов. Их маршрутные теоремы очень примитивны. Они редко находят прямой маршрут и в большинстве случаев блуждают по открытым множествам… Разлетаются наугад по всей галактике. Со временем они выйдут в реальное пространство около других звезд, и никто из них не может сказать, что это будут за звезды.
– Варвары!
– Экстр – это не что иное, как звезды, убитые людьми.
Я понял. Мне показалось, я понял все, что касалось человечества и страшной судьбы, уготованной ему в нашей огромной, но все же конечной галактике. От стыда кровь бросилась мне в лицо. Что же мы наделали! Почему именно человек? Наконец-то он порвал все свои путы. Он уничтожает звезду, потому что потребность в новой жизни и новых жизненных нишах в нем сильнее уважения к жизни звезды – сильнее самой жизни. Как это ни парадоксально. Десять тысяч населенных человеком миров пройдут сквозь окна мультиплекса к отдаленным звездам. Одни из них упадут на эти звезды, другие надолго застрянут в мультиплексе, и у них кончится провизия, несколько штук пропадут в бесконечных деревьях и прочих топологических ловушках. Из общего количества выживет разве что половина или треть – кто может вычислить их шансы? Но и того будет достаточно. Мирысеменники окажутся у ярких новых звезд и создадут там миллиарды новых человеческих существ. Ничто не остановит гибели целых планет и преобразования химических элементов в человеческие организмы. Миллиарды станут триллионами триллионов, и звезды будут умирать одна за другой и тысяча за тысячей, и Экстр будет расти, пока все звезды, планеты и космическая пыль не будут использованы и галактика от мертвого Южного Креста до погасшего Антареса не превратится в спираль алмазных цилиндров, полных голодных человеческих ртов.
– Как же ты должна ненавидеть нас, – сказал я светящемуся образу Катарины.
– Нет, милый Мэллори, я не питаю к тебе никакой ненависти.
– Как они могут размножаться и путешествовать таким образом, зная, что в конце концов уничтожат все?
– Но они ничего не знают – не понимаешь разве? Люди в этих десяти тысячах миров верят, что они, пожертвовав несколькими звездами, обеспечат своим детям благополучие. Они не умеют путешествовать так, как наши пилоты, поэтому им недостает перспективы. До большей части галактики свет взорванных звезд еще не успел дойти, и они его просто не видят. Они не имеют понятия о существовании Экстра, хотя сами создали его.
– Но должны же они знать, что рано или поздно все звезды умрут!
– Они надеются, что это случится скорее поздно, чем рано, – улыбнулась Катарина. – Если все звезды станут сверхновыми, галактика вспыхнет пожаром, и дети их детей получат массу новых элементов, хотя и опасность для жизни возрастет.
Я, вопреки себе самому, тоже не сдержал улыбки. Мне было ужасно стыдно за то, что мои сородичи уничтожают звезды, но к этому примешивалась некая извращенная гордость за то, что мы достаточно умны и сильны для таких дел. Даже богиня, видимо, бессильна перед уничтожающим галактику человеческим роем.
Затем моя гордость уступила место вине, и я повторил:
– Ты должна ненавидеть нас.
– Милый Мэллори, это не так, нет… Не понимаешь? Мы все, владеющие скраерским искусством… эта новая экология была известна уже очень давно. Даже агатангиты видели, что этот момент приближается.
– Почему же они мне не сказали? Если бы я знал…
– Не понимаешь? Если бы ты узнал, то впал бы в отчаяние, потому что одно дело знать, а другое… Что мог бы сделать ты или кто-либо другой из вашего Ордена, чтобы остановить рост Экстра?
– Разве я настолько изменился? Что я могу сделать… теперь?
– Ты остановишь боль, потому что такова твоя судьба. Экстр истязает галактику. Милый мой Мэллори, ты пришел сюда, чтобы исцелить боль… и по другим причинам.
Я боялся услышать, что это за причины, но все-таки сказал:
– Расскажи мне о них.
Катарина оправила струящиеся складки своего платья.
– Не могу. Мне не положено… Теперь я должна оставить тебя, Мэллори. На время, на очень долгое время, пока меня не вспомнят. Калинда скажет тебе все, что нужно знать. Калинда Цветочная.
– Катарина, я так и не сказал тебе самого главного…
– До свидания, милый Мэллори, до свидания.
– Нет!
Катарина замерцала, растворяясь. Зная, что это смешно, я потянулся к ней и встретил только воздух. Я плавал во внезапно обступивший меня темноте.
– Я слишком хорошо тебя помню, – сказал я вслух. – Будь проклята моя память!
Миг спустя у меня над головой появилось новое изображение, которое я видел впервые. Это была красивая девочка, с коричневой, как орех бальдо, кожей и в красном платье до колен. Глаза, почти такие же черные, как у Хранителя Времени, имели миндалевидную форму и казались слишком большими для ее лица. Такой мудрости и глубины мне еще не доводилось видеть в человеческом взоре. На обоих мизинцах своих проворных маленьких рук она носила по красному кольцу, а темные волосы были убраны множеством мелких белых цветочков. Калинда Цветочная.
А вот я бы благословила твою память и помогла бы тебе вспомнить, если б могла.
Невозможно описать ее голос. Высокий и звонкий, как у гагары, он был в то же время глубок, ровен и спокоен. Каждое слово она произносила звучно и четко – не как ребенок, но как богиня. Это был божественный голос, и в такт ему во мне зазвучали низкие ноты, гармонировавшие с музыкой, льющейся из ее юного горла. В этих звуках сквозил каприз и звенела поэзия. Глядя на меня понимающим взглядом, она прочла:
О прекрасная смерть! Драгоценный алмаз, Что сияет лишь только в ночи; Сколько тайн ты скрываешь под прахом от нас, Кто найдет к этим тайнам ключи?За этим последовали другие стихи, старые и новые, фравашийские и сочиненные, как мне показалось, ею самой. Мне давали понять, что это премудрое дитя тоже входит в Твердь, но совсем не так, как Тихо или Катарина. Быть может, она жила когда-то на одной из планет, вошедших затем в темные недра Тверди? Быть может, она была убита и вошла в одно из наиболее древних пространств памяти богини? Почему воины-поэты и агатангины называют Твердь Калиндой? Я смотрел на ее кольца, кольца воина-поэта. Возможно ли? Неужели это та самая девочка, о которой говорил Давуд? Результат эксперимента по выведению воинов-поэтесс? И оба кольца у нее красные! Во мне зародилось страшное подозрение. Я догадывался – и богиню, очевидно, вполне удовлетворяла моя догадка, – что это поэтическое дитя обитает в самом сердце Тверди. Возможно, Твердь сжалилась над юной поэтессой, а возможно, оказала честь единственному человеку, когда-либо носившему два красных кольца. Я представил себе луковицу, и на глазах у меня выступили слезы. Должно быть, Твердь очень похожа на луковицу: Ее мозг слой за слоем обволакивает сокровенное «я», любящее цветы и поэзию. Не бойся смерти, мой пилот.
– Но ведь каждая звезда в галактике и все когда-либо написанные стихи – все погибнет, – сказал я.
Калинда, вынув цветок из волос, положила его на ладонь и дунула. Цветок поплыл по воздуху ко мне.
Ты все еще не понимаешь. Никто не погибнет. Я сорвала этот гиацинт много лет назад, но понюхай – он до сих пор свеж!
– Я пытаюсь понять, всю жизнь об этом думаю. Распад, энтропия…
Энтропия – это недостаток информации, мера неуверенности. Когда энтропия максимальна, все сообщения одинаково вероятны. Чем выше неуверенность, тем больше информации содержится в сообщении.
– Значит, послание Эльдрии…
С момента своего создания вселенная стремится уйти от хаоса первичного взрыва. Макроскопическая информация создается непрерывно.
– Но я…
Боги пытаются собрать полную информацию о вселенной, но информация никогда не бывает полной. Взять хотя бы один-единственный твой выдох, сообщение, содержащееся в теплом воздухе. Если сместить всего один грамм далекой массы Шива Люс на один сантиметр, это в микроскопической степени повлияет на твое дыхание. Даже сама вселенная не может создать достаточно информации, чтобы узнать собственное будущее.
– «Что было, то будет», – говорила всегда Катарина. Ты даже представить себе не можешь, что будет с этой галактикой.
– Мы все обречены и прокляты, верно?
Напротив, мой пилот, напротив. Возможности бесконечны.
Она сорвала еще один гиацинт с венка у себя на голове, воткнула мне в волосы и наговорила мне еще много чудесных вещей. Большей части я не понял или понял плохо – как послушник, которому дали поиграть цифрами, получает лишь самое смутное представление о трансфинитной арифметике. Когда я спросил Калинду, почему она позволяет искусственным мирам уничтожать Геенну Люс – ведь богиня, конечно же, обладает властью ликвидировать любой объект внутри себя, если пожелает, – она сослалась на некие не подлежащие изменению экологические законы. (Я путаю в своей повести Калинду с богиней потому, что сам в них путаюсь – даже и теперь, в некотором смысле.) Ее слова показались мне полной тарабарщиной. В них было что-то о решениях каждой сущности во вселенной, определяющих то, что Калинда назвала «экологией выбора». Было бы тяжким преступлением прерывать без нужды естественный поток выбора, сказала она, и еще более тяжким – не восстановить этот поток, если бы он прервался. Насколько я понял, существовали и другие экологии – экология идей, экология пророчеств и экология информации. Калинда сообщила мне об экологии детерминированных действий и экологии фундаментальных парадоксов. Их было много, этих экологии, – целая иерархия. Калинда сказала, что обеспечение связи между ними – ее работа. Когда я признался, что эта ее работа доступна моему пониманию примерно так же, как вероятностная топология – червяку, она ответила:
Червяки достаточно понимают в превращениях, чтобы становиться бабочками.
Она рассказывала мне еще кое-что. Все ее манипуляции с мультиплексом, вызывавшие у меня такие затруднения, все необъяснимые явления внутри Тверди, все, что я до сих пор наблюдал, – все это она совершала на бессознательном уровне. Ни одно живое существо, сказала она, не может себе позволить сознательно вести процессы, которые могут идти автоматически. Разве человек имеет возможность сознательно регулировать свое сердцебиение согласно бесчисленным требованиям окружающей среды? Или ускорять свой обмен веществ и повышать температуру тела при борьбе с бактериальной инфекцией? Или сознавать существование каждого отдельного человека и даже десяти тысяч населенных человеком миров. Заботы богини, судя по всему, намного превосходили мою заботу о судьбе человека в галактике.
Пока мы разговаривали, вокруг звезды скопились миллионы черных точек. Калинда сказала, что это разновидность искусственной материи, плотной, как черные дыры. Черные тела – их можно называть гамма-фагами – запасают энергию; эти гамма-фаги предназначены для того, чтобы впитывать и задерживать свет суперновой. Зачем ей такое громадное количество энергии, Калинда так и не сказала. Намекнула лишь, что я должен ей довериться и что для гибели звезд есть веская причина. Но как мог я довериться этому ребенку со сверхъестественно мудрыми глазами? Калинда, так мило улыбающаяся мне, поглотила мозг Тихо, умы Рикардо Лави и других пилотов – кто мог знать, чего ей еще захочется отведать?
Не поддавайся мрачным думам, мой пилот. Было бы непоэтично, если бы все звезды погибли. Ты не дашь им умереть.
Она была одинока, и она читала страх и предчувствие беды в моих глазах – вот почему эта сострадательная в душе богиня, эта девочка с цветами в волосах пообещала помочь мне, если и я, в свою очередь, пообещаю ей одну простую вещь. И я, хотя это было опрометчиво с моей стороны, дал ей обещание, о котором будет сказано в свое время.
Вот оно, начинается.
Если бы я обладал хотя бы миллионной долей могущества Тверди, то наверное, остановил бы убиение Геенны Люс. Но я всего лишь человек и мало что мог сделать. Калинда, вертя кольцо на пальце, велела мне внимательно наблюдать за мирами в телескоп. Я повиновался и сосредоточился на ближайшем к солнцу цилиндре. Он раскрылся, как две половинки гигантской раковины, и изнутри, как жемчужина, показался пространственно-временной двигатель.
Красиво, правда? Смотри, как сверкает. Сопрягись со своим кораблем, мой пилот, и пусть твой компьютер смоделирует то, что будет дальше.
Я стал смотреть, как люди ускоряют естественный жизненный цикл звезды. Правители роя – были то люди или компьютеры – сфокусировали двигатель на точке выхода в плазменном ядре Геенны Люс. Понадобилось тысяча четыреста пятьдесят четыре секунды, чтобы вероятностные волны достигли звезды. Близ ядра, где температура равна миллиону градусов, энергия вакуума преобразовалась в тепловую энергию. Водородная плазма стала сгорать в ускоренном темпе. Четыре атома водорода, сталкиваясь один с другим, образовывали атомы гелия и высвобождали энергию – бурлящий поток энергии, бегущий по раскаленному морю водорода.
Тебе не терпится вернуться домой, мой пилот? Возвращения происходят всегда. Я открою тебе часть твоего будущего: ты вернешься ко мне еще один, последний раз.
Энергия пространства-времени в ускоренном темпе превращалась в тепло. При ста пятидесяти миллионах градусов гелий превратился в углерод, элемент жизни, и стало еще жарче. Миллион лет звездной эволюции уместился примерно в одну десятую года. Когда ядро раскалилось до шестисот миллионов градусов, углерод превратился в неон. И время стало сжиматься вместе со звездным ядром, которое уплотнилось, доведя свою температуру до миллиарда градусов. Там рождались атомы кислорода, который, сгорая, превращался в кремний и железо, и нагрев ядра стал еще более сильным. Звезда, какой я видел ее через мысленное пространство моего корабля, напоминала луковицу с сердцевиной из железной плазмы. Ядро окружала кремниевая оболочка, окруженная горящей серой, а дальше шли слои кислорода, углерода и гелия. Звезда теперь достаточно разогрелась, чтобы завершить собственную эволюцию за несколько дней; пространственно-временной двигатель прекратил работу, и человеческий рой в искусственных мирах приготовился к прокладке маршрутов.
Жизнь и смерть, смертежизнь.
Железо не способно спонтанно превращаться в более тяжелые элементы, и поэтому ядро скоро выгорело дотла. Оно стало слишком массивным, слишком плотным. Без давления потока энергии, уравновешивавшего его гравитацию – на пределе Чандрасекара, – ядро обрушилось в себя. Меньше чем за секунду оно провалилось внутрь, как пустая яичная скорлупа. Жара была адова – восемь миллиардов градусов. Материя ядра, расщепляясь на протоны и нейтроны, достигла такой плотности, что обратила взрыв вспять. Колоссальная ударная волна прошла сквозь слои луковицы на поверхность, сокрушив оболочку звезды. На месте Геенны Люс клубилось облако водородной плазмы, гаммалучей и обжигающего света.
Секрет жизни.
Я так и не увидел, как ушли в свои окна десять тысяч миров, но мой корабль смоделировал мультиплекс, и стало видно, как тот корчится, словно поджаренный червяк, как разеваются пасти громадных окон поблизости от человекомиров. И миры исчезли, рассыпались по галактике, где ждали новые, девственные звезды.
Ты спрашивал про секрет Эльдрии, но я не могу тебе его раскрыть, потому что я – то, от чего предостерегают вас высшие боги. Когда вернешься в Город, спроси своего Хранителя Времени, почему это так. Он очень стар и на свой лад мудрее, чем ты можешь себе представить. А пока до свидания, мой пилот.
Я не стал ждать, когда световой ураган Геенны достигнет моего корабля. Я видел достаточно, и мне не терпелось отыскать моих братьев и сестер-пилотов, где бы они ни были, и не терпелось сделать многое другое, поэтому я нашел окно и проложил маршрут. Когда я ушел в мультиплекс, где времени нет, а единственный свет – это свет математики и сон-времени, Калинда, захлопав в ладоши, воскликнула: «А все-таки это очень красиво!» Потом она тоже исчезла, но я по-прежнему чувствовал запах ее цветов, и в воздухе звенели последние прочитанные ею стихи:
Звезда упадет и другая, Но сколько б ни пало их впредь, На пологе неба, я знаю, Не станет их меньше гореть.27 КЕЛЬКЕМЕШ
Напрашивается вопрос, отчего твари, живущие по закону когтя, клюва и самых неотложных своих нужд, не пожирают одна другую вплоть до последнего червяка? Почему боги, даже преисполнившись священного гнева, не разбивают вдребезги миры? Почему проклятие войны лежит только на человеке? Ответ носит одновременно исторический и эволюционный характер: мы оказались на грани видового самоубийства потому, что достаточно умны, чтобы делать атомные бомбы, и достаточно глупы, чтобы ими пользоваться.
Хорти Хостхох, «Реквием по хомо сапиенс»Глубоко в Тверди есть беспланетная звезда, известная ныне как Пилотская. Маленькая, желтая, она ничем не примечательна, кроме того, что топологически расположена ближе всех к Геенне Люс. Выйдя около нее, я обнаружил, что из всех участников гонки через мультиплекс сюда добрался только один. «Ворпальский клинок» Соли сверкал в звездном свете, как шпиль Старого Города зимней ночью.
Я послал свое изображение в теплую, темную сферу его кабины, очень похожей на мою собственную.
– Далеко ли летишь, пилот? – приветственно произнес он. – Помнишь состязания на следующий день после твоего посвящения в пилоты? Тогда я тоже всю дорогу лидировал. Но теперь уже никто из нас не пересечет финишную черту, верно? Звезда твоей богини слишком скоро стала сверхновой – деформация метрики превысила единицу, так что сомнений в этом нет. К той звезде уже никто не проложит маршрута, так ведь?
– Только домой.
– Наши гонки…
– Гонки окончены, Соли. – Я рассказал ему, как присутствовал при смерти звезды, и рассказал о ста миллиардах бездомных людей, способствующих росту Экстра.
Пот выступил у него на лбу. Ему не хотелось верить, что я добрался до Геенны Люс раньше его.
– Это невозможно, – сказал он. – Мои маршруты были легки и изящны. Твои никак не могли быть точнее.
– Возможно, мне просто не понадобилось столько маршрутов.
– Как так, пилот?
Мне хотелось прокричать ему свое доказательство Гипотезы Континуума. Что, если известие о том, что я доказал теорему, над которой он тщетно бился три жизненных срока, убьет его? Очень хорошо – пусть убивает.
– Что тебе сказать? Причина очень проста: между любыми двумя фокусами дискретных множеств Лави существует…
– Ты доказал это!
– …прямой…
– Ты доказал это, верно?
– …маршрут.
– Да-да… Безумные мечты бастарда Рингесса на поверку оказались не такими уж безумными. – Он гордо выпятил подбородок. – Как ты доказал это, пилот? Познакомь меня со своим доказательством.
Но я ничего не сказал. Мне не терпелось похвастаться, как я опроверг схему соответствия Лави, но я ничего не сказал. Впервые в жизни я начал понимать Хранителя Времени и его склонность к секретам.
Соли, видя, что я не отвечаю, постучал пальцами по своему длинному носу.
– Ты что, стыдишься своего доказательства? Возможно ли это? Да полностью ли оно твое? Что ж, пожалуй, тебе есть чего стыдиться – своего свихнутого подправленного мозга и всего, что ты делаешь. Тебе не позавидуешь, нет – скорее тебя следует пожалеть.
– Твоя жалость мне без надобности.
– А еще мне жаль этих заблудших людей из Экстра, – неожиданно сказал он. – По твоим словам, они потеряли чувство того, что хорошо и что плохо. Есть ли участь хуже этой? Потерять то, без чего невозможно жить счастливо в пределах…
Он не закончил и закрыл глаза. Мне показалось, что он хочет сказать мне что-то о Жюстине, о жалости и о прощении, но он словно голоса лишился. Кадык у него ходил вверх-вниз – он пытался что-то вымолвить, но только впустую глотал воздух.
Наконец он растер себе горло и сказал:
– Твоя богиня действительно открыла тебе важные секреты. Когда вернемся в Город, надо будет объявить новый поиск. Поговорим с Хранителем и отправим миссию в Экстр, чтобы преподать этим бедным людям начала математики и правила цивилизации.
– Хранитель Времени не станет больше объявлять поиск.
– Ты говоришь это как скраер или как преступник, боящийся ответственности за свои преступления?
– Соли, я должен рассказать тебе кое-что о Хранителе.
– То, что сообщила тебе твоя богиня?
– Правду.
– Ну что ж, говори, если это правда.
– Я расскажу то, что знаю, к чему пришел логическим путем. И то, что видел.
Он открыл глаза, влажные и голубые, как ледяное море.
– Расскажи мне, как продлить любовь. Не это ли главная тайна вселенной?
Вскоре после этого – впрочем, в реальном времени прошло порядочно дней – около нас стали появляться другие легкие корабли. Ли Тош, Зондерваль, Аларк Утрадесский – хорошо, что хоть кто-то из моих старых друзей остался жив. Появились и пилоты Соли – Сальмалин и Чанок Чен Цицерон на своем «Прядильщике». Из ста двенадцати пилотов, которые отправились к Геенне Люс, у Пилотской звезды вышел сорок один. Остальные, как мы предполагали, погибли в бою или затерялись в мультиплексе. (Тогда никто еще не мог знать, что не все эти пилоты пытались дойти до Геенны. Пятеро – Керри Блэкстон, Гэйлорд Ной, Тоня Сэм, Катя и Сабри Дур ли Кадир – по каким-то своим безумным причинам вернулись к Пердидо Люс и продолжали биться, пока в живых не остался только Сабри Дур. Еще двадцать восемь пилотов, к стыду своему, убоялись причудливых пространств Тверди и бежали назад в Город.)
Мы снова устроили совет, и Соли удивил меня, сообщив всем, что Великая Теорема доказана. Пилотов, помоему, это взволновало больше, чем открытие, касающееся Экстра.
– Это все меняет, – сказал Ли Тош остальным. Он откинул каштановые волосы со лба, и я прочел на его лице нечто вроде почтения. – Мы должны воздать честь Рингессу за его блестящие открытия.
– Да, вот только как? – отозвался Соли и снова удивил меня, сказав: – Никогда больше пилот не должен выступать против пилота. Война умаляет нас, не так ли? И если, чтобы закончить эту войну, я должен буду сложить с себя полномочия Главного Пилота, то да будет так. – Он посмотрел на своего старого друга Сальмалина – тот пощипывал бородавки на подбородке, переводя взгляд с Соли на меня, и в его глазах тоже сквозило почтение. – Если таково будет ваше решение, пусть Главным Пилотом станет Рингесс.
Сальмалин надул свои старые сморщенные щеки, изумленный благородным жестом Соли, и на всех лицах отразился тот же почтительный трепет, отнимающий у людей здравый смысл. Никогда я не понимал природы этого вируса раболепия. Почти все пилоты преклонялись передо мной, и меня это злило. Они проецировали на меня собственные мечты и желания. Непонятным для меня образом я должен был стать носителем их коллективной воли. Я вдруг понял – и от этого сознания мне стало тошно, – что отныне я для них не просто человек, а нечто большее, вернее, многое сразу. Вдохновитель, первопроходец, вождь. Они склонили передо мной головы, и тридцать пять из них, в том числе и Соли, проголосовали за избрание меня Главным Пилотом. Я смотрел на их полные почтения лица с той противоречивой смесью эмоций, которую, должно быть, все лидеры испытывают по отношению к ведомым: с любовью, презрением, иронией и гордостью.
Позже, когда мы с Соли остались наедине, он сказал мне:
– Поздравляю… Главный Пилот. Ты всегда хотел этого, правда?
– Зачем, Соли? Я тебя не понимаю. К чему это внезапное смирение?
В его глазах почтения не наблюдалось – только печаль и изнеможение.
– Забег окончен, но гонки продолжаются. Да, ты теперь Главный Пилот. Хочешь знать почему? Сказать тебе? Да, это должно быть сказано, потому что вскоре ты узнаешь сам: нет никакой доблести в том, чтобы возвышаться, подобно богу, над другими пилотами. Это только раздувает твое самомнение. И нужно же было всю жизнь обманывать себя, чтобы под конец испытать некое… трудно произнести это слово… просветление. Да, самомнение – худший из грехов. Вот почему я голосовал за тебя. Это моя месть.
Вот таким-то образом, над желтым водородным факелом Пилотской звезды, я и стал Главным Пилотом нашего Ордена. Этому событию надлежало бы стать величайшим моментом моей жизни, мне следовало бы испытать счастье, гордость и ликование. Но этот момент был горек, как плод дерева йау. Я наконец-то сделался Главным Пилотом по праву, но Бардо погиб, и мне предстояло сдержать данное мной обещание.
Я вернулся в Город на второй день глубокой зимы 2934 года. Прошел почти год после моего бегства из тюрьмы Хранителя Времени, а по личному времени я, должно быть, состарился лет на десять. Я чувствовал себя старым, запятнанным преступлениями, изменившимся. В своем Городе я тоже подсознательно ожидал найти перемены, но меня встретил все тот же вечный холодный его лик, который я знал всегда. Каменный лик, припорошенный снегом, пронизанный красными и пурпурными жилами улиц. Год выдался на редкость студеный – даже историки это признавали. Некоторые из них именовали его Жестоким, будто бы потому, что жестокие морозы глубокой зимы начались раньше обычного. Но мы все знали истинную причину: на шестой день Пилотская Коллегия вынесла решение выбить имена всех погибших и пропавших пилотов на Памятнике Пилоту, что стоит у подножия Аттакеля под красивым природным изваянием из гранита, известным как Горная Мадонна.
Одна перемена в Городе все-таки произошла: Хранитель Времени больше не правил единовластно. Когда мы, пилоты, бились при Пердидо Люс, главные специалисты Ордена вели в холодных башнях и залах Академии битву иного рода. Николос Старший наконец-то убедил Коллегию ограничить власть Хранителя. Со временем академики изменили некоторые из старейших канонов Ордена. Седьмой канон упразднили дней за тридцать до моего возвращения, и Хранитель, должно быть, догадался, что его самого тоже скоро упразднят. Академики, нарушив тысячелетнюю традицию, решили, что правитель Ордена может уйти в отставку при жизни. Более того: отныне любой главный специалист, даже скромный Главный Фантаст, мог быть избран правителем. Произошли и другие перемены. Так, Хранитель Времени не мог больше возвращать пилотов из космоса, лишать кого-либо из мастеров его степени, и было объявлено, что ни ему, ни кому-либо из Главных не позволят больше держать личную армию роботов.
Когда мы, оставшиеся в живых пилоты, посадили свои корабли в Пещерах, нас встречала вся Академия (а также множество пришельцев и инопланетян). Состоялся парад, словно в праздник; трубили рога, айсвайн и пиво лились рекой, и шелковые флаги развевались на ветру. Раскольники-специалисты на большом корабле вернулись вместе с нами и тут же покатили залечивать раны Ордена. Различные коллегии провели в заседаниях несколько бурных, тревожных дней. В недрах некоторых профессий еще продолжали бушевать старые страсти, особенно у эсхатологов и академиков. Но когда специалисты и академики узнали, чем окончился бой у Пердидо Люс, на них нашла оторопь, сменившаяся при известии о происхождении Экстра откровенным ужасом. Старые соперники примирились и решили предоставить Коллегии Главных Специалистов выработать, как выразился историк Бургос Харша, «новый порядок». Хранитель Времени сделал очень рискованный ход, послав Соли взять в плен или убить мятежных пилотов, – и проиграл. Вместо того чтобы выиграть время, за которое он мог бы победить академиков, он оттолкнул их от себя. Николос Старший назначил следствие по делу о покушении на Соли, а также о причинах Пилотской войны и потребовал низложения Хранителя Времени.
Ясным морозным утром десятого числа даже наиболее вздорные и замшелые мастера и академики поняли, что грядут великие перемены. Мы, главные специалисты (мне было странно причислять себя к ним), собрались у себя в Коллегии, величественном здании из зернистого гранита. На расстоянии оно казалось сверкающей белой коробкой, аккуратно поставленной среди голубовато-белых складок почвы под Садами Эльфов, и напоминало огромную квадратную снежную хижину. Нас, облаченных в парадные одежды, сотрясала дрожь в этом пронизанном сквозняками святилище. Луннолицая Колония, Главный Акашик, Главный Цефик – здесь присутствовали все, за исключением Главного Горолога. Мы заняли места за холодным, ничем не украшенным столом. Любопытно, какую большую роль климат и дискомфорт играют в делах человека. Попивая горячий кофе и потирая руки, мы приняли решение быстро и на холодную голову. Хранитель Времени больше не будет Хранителем Времени, решили мы. Некоторое время у Ордена вообще не будет правителя. Затем мы встали и вышли на улицу, чтобы объявить эту весть собравшимся там мастерам, кадетам и послушникам.
Лорд Харша, подойдя ко мне на скользких ступенях Коллегии, учтиво склонил голову и сказал:
– Поздравляю, Мэллори. Я всегда ожидал от тебя великих свершений. – И он задал мне вопрос, волновавший, видимо, всех: – Но кто сообщит об этом Хранителю? Не хотелось бы мне быть там, когда он это услышит.
– Я скажу. И лучше, если главные специалисты будут при этом присутствовать.
– Полно, Мэллори, – сказал лорд Харша, выковыривая лед из носа (тот самый Бургос Харша, который распоряжался знаменитыми пилотскими гонками пять лет назад, друг моей матери. Он стал Главным Историком, когда старая Туту Ли, всегда бывшая в числе самых преданных поклонников Хранителя Времени, поскользнулась на льду, разбила себе голову и умерла). – Это ты из-за того, что он посадил тебя в тюрьму? Знаю, знаю, это неприятно, но в то скверное время у него просто не было иного…
– Должен же кто-то сказать ему.
На следующий день академики явились в башню Хранителя Времени. На церемонию, которой мы собирались «почтить» Хранителя за долгие годы службы, приглашены были также выдающиеся пилоты и специалисты. По моей просьбе пришли Зондерваль и Ли Тош. Я не думал, что Соли захочет подвергнуться этому финальному унижению, но он, к моему удивлению, объявил, что тоже придет. Около башни меня ждал еще один сюрприз. Когда я остановил свои сани у ее арочного входа, из толпы любопытных специалистов, курсирующих вокруг башни, вышла моя мать.
– Главный Пилот, – сказала она и потрогала мою голову в том месте, где ее пробил камень Сейва. – Вот ты и стал им, сын.
– Мама! Ты жива!
Двери башни раскрылись. В них показались Ли Тош и Родриго Диас, Главный Механик. Были сумерки, и братья и сестры Ордена выстроились вдоль дорожки между световыми шарами. Их меха – цвета различать становилось трудно – колыхались на ветру. Мне казалось, что все они смотрят на меня.
– Я беспокоился, что тебя убили.
– Разве я не учила тебя беспокоиться только о том, что достойно беспокойства? Никакой причины для беспокойства нет.
Но я все-таки беспокоился, ужасно беспокоился. Я искал на лице матери признаки страха, но их не было. В определенном смысле эта женщина, которая, держась за мое плечо, снимала коньки, не была моей матерью; мою мать в определенном смысле убили, как только она встретилась с воином-поэтом.
– Поднимешься со мной в башню? – спросил я.
– Конечно. – Она спокойно улыбалась. Нервный тик, которым она всегда страдала, прошел. – Разве я не готовилась к этому моменту всю свою жизнь?
Это верно – она готовилась, и даже усиленно. Чуть позже до меня дошли слухи, что мать весь последний год активно убеждала отдельных специалистов сместить Хранителя Времени. Средством убеждения ей служили угрозы смерти. Многие думали, что старая Туту Ли поскользнулась не случайно. Ведь Главным Историком после нее стал Бургос Харша, друг матери. Но как я мог обвинить ее в убийстве? Я же знал, что часть ее мозга – а может быть, и весь мозг от мозжечка до коры – подвергли мимированию. Поэтому она мне больше не мать, твердил я снова и снова. Она мне не мать.
Подкатил Соли, одетый легко, в одном форменном черном балахоне. Когда Сальмилин спросил его, не забыл ли он надеть шубу. Соли, сбив лед с коньков, ответил:
– Мне нужно привыкать к холоду. – Ни на меня, ни на мать он старался не смотреть, а потом вовсе отвернулся, чтобы поздороваться с Главным Механиком и другими своими друзьями.
Мороз был слишком сильный, чтобы задерживаться снаружи, и мы поднялись в башню. Хранитель приветствовал нас благосклонным кивком и пригласил разместиться у закругленных стеклянных переплетов южных окон. Я протиснулся между матерью и Кнутом Озеном Эмансипированным, Главным Экологом. Нас было двенадцать главных специалистов и мастеров, и все мы смотрели на Хранителя, который расхаживал по белому ковру в центре комнаты.
– Итак?
Хранитель в своих просторных одеждах выглядел беспокойным и отощавшим, как голодный волк. Его белая грива стала реже, чем мне помнилось. Натянутые жилы на шее вибрировали, как струны арфы. Хмурое, составленное из острых углов лицо стало немного другим. Возможно, причиной этому были глаза, черные мраморные шарики, которые он, глядя на нас, переводил то вправо, то влево. Глаза были холодные, бездушные и мирные. Одно это должно было вызвать у меня подозрение. Я не мог ничего прочесть ни по глазам его, ни по лицу. Были, конечно, определенные знаки в том, как он пробурчал свое приветствие, и в быстрых взглядах, которые он бросал в окно на поблескивающие вдали Крышечные Поля. Но я неверно истолковал эти знаки. Он конченый человек, сказал я себе, а конченые люди начинают руководствоваться новыми, отчаянными программами. Возможно, в крови у него сейчас бродит непентес или какой-нибудь другой эйфоретик. Я наблюдал за ним, как деваки за тюленьей аклией, и мысленно клялся, что не спущу с него глаз, пока нахожусь у него в башне.
Он остановился рядом с одними из своих древних часов, то поглядывая на трясущееся брюшко Николоса Старшего, то угрюмо улыбаясь Соли. Медный маятник часов раскачивался туда-сюда, и я слышал, как они тикают. Комнату, как всегда, наполняло тиканье. Вертелись колесики, качались маятники, звучали электронные сигналы. У меня самого сердце забилось как часы, когда Хранитель встретился со мной взглядом и спросил:
– Слышишь, как они тикают, Мэллори, мой храбрый глупый Главный Пилот?
Не дожидаясь ответа, он подошел к фравашийскому пульсатору, помигивающему в своем футляре, и резко обернулся, обращаясь ко всем нам:
– Итак, мои академики и мастера, – он подчеркнул слово «мои», как будто мы по-прежнему подчинялись его воле, как будто он по-прежнему был правителем Ордена, – время пришло, не так ли? Вы пришли сказать, что мое время истекло?
Николос скривил свое доброе умное лицо так, словно ему оцарапали подбородок чем-то острым, и посмотрел на меня с молчаливой мольбой сказать наконец что-нибудь. Я вышел вперед и набрал воздуха.
– Коллегия Главных Специалистов постановила простить ваши преступления. Вы не будете изгнаны. Отдайте нам Печать Ордена, и вам будет позволено остаться в вашей башне.
– Вы прощаете меня?!
Я хотел сказать, что простил бы ему что угодно, потому что он спас мне жизнь и определил мою судьбу, дав мне книгу стихов. Часть меня – тот мальчишка-послушник, которого он когда-то учил бороться – все еще питала к нему некоторое почтение.
– Вы забываете, что Бардо и еще восемьдесят пилотов погибли по вашей вине.
– Как это помпезно, юный пилот! Что ты можешь знать о моих преступлениях? Что ты вообще знаешь?
– Отдайте Печать, – сказал я.
Бургос Харша и лорд Парсонс промямлили, поддерживая меня, что он должен сдать Печать в официальном порядке и без промедления. Я посмотрел туда, где она тикала на своей полированной подставке. Даже за тридцать футов чувствовался горьковатый запах полировочного масла.
– Рингесс требует у меня Печать Ордена. Допустим, я отдам ее – что дальше? Вы полагаете, что сможете изменить Орден? Каким же это образом? – Его голос звучал низко, как гонг. – Я в жизни видел много перемен, но человек всегда остается тем же.
Я подумал о божественном семени в моей голове, о Великой Теореме и сказал:
– Не всегда.
– И он, и его преступления.
Я прочувствовал эти слова: в том, как он произнес «преступления», был какой-то знак. Память заработала, и у меня возникло досадное ощущение, будто я должен знать, на какие преступления он ссылается.
Взгляд Хранителя, блуждающий по нашим лицам, задержался на Соли.
– А кто же будет делать трудную работу, Мэллори, если я перестану быть Хранителем?
– Убивать имеется в виду?
– Разве это я пытался убить Соли?
В интонациях этого «убить» проявились новые знаки, и я вдруг понял.
– Да – в первый раз, когда Соли чуть не убили, это, думаю, было дело ваших рук. – Я перехватил взгляд Соли, который смотрел в окно на городские огни, и пояснил: – Это Хранитель пытался убить тебя в день пилотских гонок.
– Это правда? – Соли, сохраняя неподвижную позу охотника, посмотрел с высоты своего роста на Хранителя. Он старался сохранять холодную отчужденность, но даже кадет-цефик увидел бы, что он взбешен. – Зачем вы это сделали?
Моя мать схватила Соли за локоть.
– Вот я и дожила до того, что ты убедился в моей невиновности. Но теперь уже поздно.
Соли вырвал у нее руку и бросил:
– Да, в этом преступлении ты невиновна.
– Она права, – сказал Хранитель. – Поздно.
– Почему вы хотели убить меня?
Я почесал нос и сказал:
– Расскажите-ка нам о Тверди. Почему боги остерегают людей против нее?
– Это правда? – снова спросил Соли.
Хранитель резко повернулся, и его слова хлестнули Соли, как кнут.
– Конечно, правда! Я уже говорил и теперь повторяю: насратъ мне на Эльдрию и ее проклятые секреты! Вернувшись из ядра галактики, ты своей трепотней насчет Старшей Эдды вынудил меня объявить поиск. Есть вещи, которые нам знать не положено, но ты меня не послушался. – Хранитель, сжав кулаки, подступил к Соли. – Почему ты не послушался меня, Леопольд? Все твоя проклятая гордость. Ты всюду говорил о своем хваленом открытии, говорил и пил свое поганое виски. В каждого городского послушника ты вселил мечту о своей Эльдрии с ее Старшей Эдцой. Я просил тебя помолчать, я предупреждал тебя, но ты не слушал. Еще и спорил со мной. Истина, говорил, есть истина. Провались ты со своей истиной! Почему ты не слушал меня, Леопольд?
– Значит, вы хотели убить меня за то, что я вас не слушал, – саркастически ответил Соли.
– А что же это, чего человеку знать не положено? – вмешался я. – Скажите – я должен знать.
Соли, хлопнув кулаком в черной перчатке по ладони, поклонился Хранителю.
– Кто станет судить вас? Разве судей судят? Мы с вами проделали вместе долгий рейс, но он окончен. Пора сдать Печать, вы не находите?
Хранитель, взглянув на одни из часов, ответил с угрюмой улыбкой:
– И верно, пора. – Он подошел к Печати и взялся за ее стальной футляр.
Николос позади меня пробормотал: «Осторожно!», а Бургос Харша затаил дыхание. Академики перешептывались.
Хранитель с Печатью в руках подошел к нам. Печать ритмично тикала. За стеклом циферблата виднелось голубое с белым изображение Старой Земли, совершающей путь вокруг Солнца. Хранитель остановился передо мной, и тиканье стало громче. У меня зародилось подозрение, что эта Печать – подделка, замаскированное под часы взрывное устройство.
– Кому же сдать ее? – спросил Хранитель. – Главному Пилоту?
Я не сразу вспомнил, что Главный Пилот теперь я. Я протянул руки. Тиканье сделалось еще громче, и я вдруг стал различать, как тикают каждые часы в башне.
– Печать Ордена, – промолвил Хранитель и прижал часы к груди, как девакийская мать младенца. Казалось, он чего-то ждет – я прямо-таки слышал, как он про себя отсчитывает секунды. – Мои лорды-академики! Вы сказали, что я должен сдать Печать Ордена. Ну что ж, вот она.
– Мэллори! – вскрикнула мать.
Все взоры обратились на Хранителя. Он передал Печать мне. Она была тяжелее, чем мне представлялось – я чуть не уронил ее.
– «Не спрашивай никогда, по ком звонит колокол, – произнес Хранитель, цитируя одно из своих пресловутых стихотворений. – Он звонит по тебе»[13].
Печать прозвонила один-единственный раз и умолкла. В приступе дурацкого, иррационального страха я подумал, что сделал что-то не так: быть может, сжал ее слишком сильно и повредил механизм. Я потряс Печать над ухом – ничего. Внезапно я заметил, что в башне воцарилась тревожная тишина: помимо биения собственного сердца, я слышал только дыхание собравшихся – и только. Все часы в комнате умолкли в один и тот же момент. Тиканье прекратилось, маятники остановились, биочасы умерли, и в песочных больше не текли кобальтовые струйки.
– Время пришло. – Хранитель указал скрюченным пальцем на южное окно позади нас и вскричал: – Смотрите!
Я не стал смотреть – это, помимо всего прочего, меня и спасло. Но Николос Старший, Джонат Парсонс, Бургос Харша и многие другие обернулись к окну. Бургос потом говорил, что увидел ослепительную вспышку и поднявшееся над Крышечными Полями светящееся облако – не знаю, может быть. Зато все мы почувствовали, как затряслась башня и снизу докатился рокот, какой бывает при землетрясении. Хрупкие окна башни разлетелись вдребезги, и стекло градом посыпалось внутрь. Два осколка впились мне в затылок. Бургос и еще несколько человек завопили: «Мои глаза!», а Хранитель прикрыл глаза согнутой в локте рукой. Горячий ветер нес стеклянную метель по всей комнате. Когда ударная волна прошла. Хранитель убрал руку от лица, и в ней оказался нож, длинный и серебристый, как осколок стекла. Сначала я подумал, что это и есть стекло – так быстро сверкающее лезвие метнулось к моему лицу.
– Слишком старая, – загадочно молвил Хранитель и напал на меня со скоростью, достойной воина-поэта. Я бросил Печать и повысил собственную скорость. Когда мои внутренние часы затикали как бешеные, а время замедлило ход, я начал скраировать.
– Мэллори! – снова вскрикнула мать.
Я увидел, как будет действовать Хранитель, еще до того, как он опустил нож на уровень моего живота, и увидел еще, как мать бросилась между нами. Я увидел, как нож Хранителя пронзил шерстяную ткань у нее под грудью и вошел по самую рукоять. Увидев это будущее, я метнулся вперед, чтобы помешать ему осуществиться. Но я все-таки был не настоящим скраером, и моему зрению недоставало совершенства. По сей день недостает. Я попытался оттолкнуть мать в сторону, но не все при этом предусмотрел. Я едва не споткнулся о Печать, косо лежавшую на ковре, и поэтому толкнул мать не вбок, а немного вперед. Прямо на нож Хранителя. Когда клинок вошел ей в грудь, она улыбнулась – возможно, это была гримаса боли – и воткнула Хранителю в шею блестящую иглу воина-поэта. Повсюду слышались крики, в выбитые окна лился морозный воздух. Соли, из окровавленного, изрезанного рта которого вырывались клубы пара, бросился к Хранителю. Мать повалилась на меня, и я уложил ее на мягкий ковер. Хранитель чуть не придавил нас. Отравленная игла парализовала его, и он, как ледяная статуя, рухнул среди битого стекла.
– Смотрите! – крикнул кто-то, но я не мог ни на что смотреть: мать истекала кровью у меня на коленях. Ее горячая кровь промочила шерсть моей длинной туники. Широко раскрытыми глазами она смотрела на меня. Я видел, что в ней нет страха смерти. Возможно, программы воинапоэта так овладели ею, что она даже приветствовала смерть. Я говорил себе, что она спасла меня не из любви, а потому, что была запрограммирована стеречь свой момент возможного, и я должен благодарить ее не больше, чем послушного робота. И все же я испытывал великую благодарность, а жизнь все уходила из нее, и ее мучительный кашель надрывал мне сердце. Наверное, все сыновья запрограммированы так. Яркая артериальная кровь хлынула у нее изо рта, и мне хотелось верить, что она умирает моей матерью, а не воином-поэтом. Я искал искры человечности, которая, как я верил, горит в каждом из нас, вечного пламени, точки чистого света.
– Хранитель мертв, – сказал Соли. Стоя над нами и держась за окровавленную руку – стекло порезало ему пальцы. – Нервно-паралитический яд воинов-поэтов, не так ли? Твоя мать знала в этом толк. – И он добавил: – Если мы поторопимся, то, может быть, еще успеем доставить ее к криологу, пока мозг не умер.
Его слова потрясли меня. Я не думал, что он способен на прощение или сострадание, и понял, что совсем не знаю его. Я приложил руку к сердцу матери и закрыл ей глаза.
– Нет, – сказал я, – не надо криологов. Она умерла – умерла в свое время.
Встав и повернувшись к окну, я увидел страшное зрелище. Почти все академики корчились на полу, покрытые ранами. Николос Старший тер глаза, безрассудно втирая стекло еще глубже. Бургосу Харше осколки утыкали все лицо. Он с криками извивался на полу, а Махавита Нетис, чье твердое смуглое лицо тоже сильно кровоточило, склонился над ним, пытаясь извлечь наиболее крупные. Да, это было страшно, но до определенной степени.
– Смотрите! – крикнул кто-то, указывая за окно. – Смотрите! – Я посмотрел, и вот тогда меня обуял ужас. Над Крышечными Полями поднималось грибовидное облако. Я никогда не видел настоящих грибов, но, как и каждый человек, очень хорошо знал, что означает такое облако.
Оно было почти черным на синем вечернем небе и продолжало расти – грибовидная гора в кругу настоящих гор по краям Города.
– Атомная бомба, не так ли? – сказал, подойдя ко мне, Соли. Он видел то же, что и я: все башни Полей и многие здания в южной части Города были разрушены, снесены до основания. – Почему же мы остались живы? Почему не рухнул весь Город? Не может быть – кто поверит, что это атомный взрыв?
Но это был действительно атомный взрыв. Я почему-то знал это, и Соли тоже должен был знать. На это указывала сила взрыва и светящееся облако. Точнее, бомба была водородная, как сообщили мне позднее технари и механики, исследовавшие воронку на том месте, где прежде были Пещеры Легких Кораблей. Небольшая водородная бомба с лазерным взрывателем, очень старая, из которой за тысячи лет хранения вытекло больше половины дейтерия. Силы взрыва едва хватило на уничтожение Пещер. Мы, как и Город, остались живы только потому, что это была стараяпрестарая бомба, да и взорвалась она глубоко под землей. Но я еще не знал этого, глядя на грибовидное облако, встающее над южной частью Города. Я вспоминал слова Хранителя «слишком старая» и знал одно: он хотел уничтожить нас всех с помощью атомной бомбы.
– Зачем? – произнес Соли. – Неужели он так ожесточился?
Я стал помогать Махавите извлекать осколки из лица Бургоса, но мало преуспел и перешел к Хранителю Времени. Академики – к счастью, тяжелые ранения получили немногие – собрались вокруг меня. Я потрогал лицо Хранителя, сведенное гримасой от яда, и передал им то, что сказала мне Калинда:
– Он стар, и Хорти Хостхох – не настоящее его имя. Он был Хранителем Времени очень, очень долго.
– Несколько сот лет, – вставил Соли.
– Тысяч лет. По словам Тверди, он – тот самый Хранитель Времени, который основал Орден. Он был Хранителем в течение 2934 лет.
– Ровен Мадеус? – ахнул Соли. – Ты говоришь, это он? Главных Горологов было всего восемнадцать – их имена все знают наизусть. Ты хочешь сказать, все это – ложь?
– Вот именно. Хранитель сам состряпал историю нашего Ордена. Для этого ему были необходимы клоны. Семнадцать раз он подстраивал так, что его клон умирал вместо него. Семнадцать раз он обращался к резчику, чтобы восстановить молодой облик, и начинал свою карьеру сызнова. Но восемнадцатого раза не будет. – Ледяной ветер, ворвавшись в комнату, принес траурный звон колоколов Старого Города. Я не слышал, как они звонят с детства, когда Город засыпало бураном и погибло более тысячи человек, большей частью бедные хариджаны. Я вспомнил торжественные слова Тверди и сказал: – Он сам писал историю. Я думаю, он даже старше, чем Орден. Ровен Мадеус – лишь одно из его имен.
– Это невозможно, – сказал Соли.
Я набрал побольше воздуха, исполненный ужаса и надежды, взволнованный до предела.
– Соли, я думаю, что он происходит из рода Томаса Рана, мнемоника. Он бессмертен – был бессмертен. И звали его Келькемеш. – Я выпрямился и крикнул почти в голос: – Вы что, не понимаете? Поиск, наша экспедиция – все это было напрасно. Хранитель Времени, Келькемеш – вот кто самый старый из людей. Мы прочесали полгалактики с нашими вопросами, а ответ был у нас под боком.
Но оказалось, что ответ – секрет жизни, который я искал так долго – находится не совсем под боком. В последующие кошмарные дни, когда из-под развалин выкапывали тысячи трупов, готовя их к погребению, Главный Генетик Нассар ви Джонс занимался телом Хранителя. Нассар в прошлом страдал такой тяжелой формой лучевой болезни, что резчикам и расщепителям пришлось пустить в ход все свое мастерство, чтобы сохранить ему жизнь, превратив его при этом в скрюченного – но очень талантливого – уродца.
– Ищите в его ДНК печать Эльдрии, – сказал я ему, – как раньше искали в алалойской плазме.
На одиннадцатый день он выступил со своим ошеломляющим заявлением:
– ДНК Хранителя Времени ничем не отличается от моей – как и от ДНК любого человека. – (Он подразумевал человека, не болевшего лучевой болезнью.) – И этот Хранитель – не настоящий Хранитель.
– Он был клоном, – объяснил Нассар Коллегии Главных Специалистов, когда мы собрались на внеочередную сессию. Он посмотрел на меня своими разными глазами – голубой был больше полузакрытого карего – и покачал бесформенной головой. – Двойник, подделка… робот, если хотите. Его каналы – извините, Главный Пилот, нейроканалы – носят отпечаток новых, искусственных программ.
Еще один клон! Двойник, чьи слишком мирные глаза не могли быть глазами Хранителя – как я сразу не сообразил?. Он, конечно, довел этот клон до нужного возраста и вложил в него достаточно своих привычек, манеры говорить и памяти, чтобы нас провести. Запрограммировал его на убийство. Выходит, не все роботы Хранителя были уничтожены. Этот последний – эта хмурая, дышащая пародия на человека – прожил достаточно долго, чтобы убить мою мать, и почти что осуществил задуманное Хранителем мщение.
– Где же тогда настоящий?
– Кто знает!
Я стукнул кулаком по столу.
– Если это клон, его ДНК должна быть идентична ДНК Хранителя.
– Нет, Главный Пилот, – сказал Нассар, подтверждая мои опасения, – если послание Эльдрии действительно отпечатано в его хромосомах и если он знал об этом и хотел сохранить секрет, он мог обратиться к мастер-расщепителю и убрать из ДНК клона всякое упоминание об Эдде.
– Будь он проклят!
– Вам следует знать еще кое-что – и кому, как не Главному Генетику, сообщить вам об этом. Я не верю в вашу Старшую Эдду. Мало кто верит. Хранитель сделал этот клон, чтобы скрыть несуществующий секрет. Забудьте о Хранителе, лорд Рингесс, Вы никогда больше его не увидите.
Но я не мог забыть о Хранителе. Пока Коллегия решала вопрос о строительстве новых Пещер для новых кораблей (взрыв уничтожил все легкие корабли, челноки и ветрорезы Города), я думал о нем. Не может быть, чтобы Твердь солгала мне. Зачем ей было лгать? Послание Эльдрии скрыто внутри Хранителя, где был он ни был. Если он бежал в космос на легком корабле, секрет отправился к звездам вместе с ним. Если он прячется в Городе, в каком-нибудь приюте для хибакуся, секрет прячется там же.
В тот же день мы похоронили шесть тысяч двести шесть человек на Холме Скорби у подножия Уркеля. Казалось, почти весь Город, не убоявшись мороза, пришел на церемонию. С южной стороны могилы теснились хариджаны, инопланетяне и пришельцы, пришедшие почтить своих мертвых. (Но большинство погибших, конечно, составляли горологи, цефики, технари и кадеты разных профессий, обслуживавшие легкие корабли. Было и несколько пилотов.) Наискосок от них, на узкой платформе, сооруженной роботами на склоне Холма, стояли мужчины и женщины Ордена. Мы выстроились по профессиям, ряд за рядом, на мерзлой черной земле. Немногочисленные пилоты стояли ближе всех к могиле. Мы – Зонцерваль, Сальмалин, Ли Тош и другие, пережившие битву при Пердидо Люс – представляли собой тонкую черную линию, к которой примыкали сзади эсхатологи в своих голубых мехах, а за ними шли ряды механиков. Я, как Главный Пилот, и Соли, как бывший Главный, стояли у самого края. Именно там, когда ледяная вода хлынула в яму, заливая плотно уложенные тела, я узнал о судьбе Хранителя Времени.
– Он бежал из Города, – сказал Соли, откинув капюшон своей черной шубы, чтобы я лучше мог его слышать – дул сильный ветер. Ястребиный нос, массивные брови и горящие глаза придавали ему крайне грозный, гневный и мстительный вид. – В ночь перед взрывом он украл собачью упряжку и нарты – об этом мне рассказал владелец. И умчался по морю, словно вор. Зачем, пилот? Смерти он ищет, что ли? Или надеется, что будет жить у деваки или другого племени?
Или просто хочет одиночества и забвения? Пока не пройдет сто или тысяча лет – тогда он вернется и снова станет Главным Горологом.
Я, потупив голову, смотрел в кубическую яму, ища мать – мне сказали, что она находится где-то в верхнем слое тел. Но вода замерзала быстро, и я не мог ее найти.
– Если он вернется через сто лет, – сказал я, – то Город, вполне вероятно, будет мертв. – Я указал на небо в направлении Абелианского звездного скопления, где недавно взорвалась Меррипен. – Сверхновая скоро завершит то, что не сумела сделать бомба Хранителя.
Соли, кивнув, промолвил:
– Твою мать следовало бы похоронить в канторском мавзолее. Ведь она была кантором.
– Нет, она была хибакуся, неспособная помочь сама себе. Пусть покоится среди таких же, как и она, жертв.
– Но ведь ее убил Хранитель? Ты, должно быть, хочешь его смерти.
– Надеюсь, что он жив, – сказал я, впервые в жизни проявив сострадание. – Пока он живет, живет и секрет.
Соли склонил голову и неожиданно сказал:
– Это Хранитель убил наше радио. Теперь это ясно. Он ведь хотел, чтобы наша экспедиция провалилась, так? И поэтому убил Катарину. Если бы мы связались с Городом до того, как… Но мы лишились радио, и Катарина погибла.
– Я любил ее, Соли. Бог мой, как я ее любил!
– Умершие, – прошептал он. Я никогда еще не видел такой горечи на лице человека. – Как их много.
Тогда я заплакал по матери открыто, прикрывая лицо рукой из стыда перед Соли.
– В Городе меня больше ничто не держит, – сказал он, – и потому я слагаю с себя присягу. Настала для меня пора покинуть Орден.
– Куда же ты направишься? – Мне, помимо воли, было любопытно узнать его планы.
– Звезды мне надоели, а Город этот стал ненавистен. На набережной меня ждет собачья упряжка. Поеду по льду куда-нибудь за Квейткель. Выслежу Хранителя – думаю, это будет нетрудно. А когда найду его, проткну копьем, как рыбу, за то, то он сделал с Орденом. – Комок мерзлой земли упал из-под его ног в могилу, ударился об лед и рассыпался. – Больше я сюда не вернусь.
– Но тело Хранителя должно вернуться.
– Нет. Я уйду к деваки. Может быть, Юрий сдержит свое слово и примет меня.
– У деваки не будет резчиков и цефиков, чтобы вернуть тебе молодость. В конце концов ты умрешь.
– Да.
Все его тело напряглось, он пошевелил губами и наконец выговорил:
– Ты мог бы поехать со мной. – Ни одни слова, должно быть, еще не давались ему так тяжело. – Мы возьмем двое нарт, и ты привезешь тело назад Главному Генетику. Ты получишь свой секрет, а я… я получу свое.
Я увидел, что он смотрит на запад, за пределы Города. На его длинном лице, темном в тени Холма Скорби, я безошибочно прочел тайное благоговение. Он не питал ненависти к Городу, он любил его. Злая судьба гнала его из Города и Ордена, но, уходя – я прочел это в его глазах, а после он сам мне сказал, – он хотел послать Городу свой дар. Возможно, Главный Генетик все-таки прочтет секрет жизни в замороженном трупе Хранителя Времени. Возможно, этот секрет спасет человека от Экстра и других напастей. Он любил Орден, да и его любовь к жизни перевешивала ненависть ко мне – поэтому он обуздал свои злые чувства и сказал:
– Хранитель нас опережает, зато мы сохранили свои алалойские тела. Притом двое едут быстрее, чем один, как говорят деваки. Мы догоним его, ведь верно? Вон там… – Он указал на запад, где под ледниками Аттакеля сверкал край замерзшего моря.
Мне потребовалось всего несколько мгновений, чтобы принять решение. Когда пилоты и специалисты склонили головы в заупокойной молитве, я поднял свою. На западе под бескрайним небом тянулись безбрежные льды.
– Я поеду с тобой, – сказал я в наполненное ветром пространство между нами. – И мы найдем Хранителя.
Воспоминание о последнем и самом священном из пилотских обетов леденило меня сильнее, чем ветер, уже сковавший тело моей матери матовым, голубовато-белым саркофагом. Я слушал, как он несется по Городу и через пустынные просторы моря. Когда-то давно я присягнул искать мудрость и истину, даже если это приведет меня к смерти и будет стоить мне самого дорогого. Где-то там в море затерялся старец, в чьем теле заключена мудрость – и там я наконец обрету истину.
28 АНАНКЕ[14]
Не в нашей власти ненавидеть иль любить — Судьба сама решит, как должно быть. Кристофер Марло, поэт Века МореплавателейИтак, мы пустились в путь. Рано утром на следующий день я спустился вниз через Квартал Пришельцев и встретил Соли на набережной, где восточный край Города упирается в лед. Иным способом путешествовать мы не могли. Все городские ветрорезы, даже те, что принадлежали червячникам, погибли, лишив нас возможности преследовать Хранителя по воздуху. В темноте и тишине предрассветных часов мы нагрузили нарты. Мы работали быстро, укладывая мешки с орехами бальдо, спальные шкуры, пешни, гарпуны, медвежьи копья, скребки, горючие камни и прочее, необходимое нам для выживания на холоде, от которого дрожал даже воздух. Почти все снаряжение было нам знакомо, поскольку осталось от первой экспедиции. В своих старых сапогах из тюленьей кожи я сновал туда-сюда по проложенной в снегу деревянной дорожке. С Зунда дул холодный сухой соленый ветер. Я взял в руки свой старый гарпун, и это оживило мою память. Застывшая на морозе упряжь, поземка, летящая по темному льду – все это было знакомым, естественным, до боли реальным. Собаки, которых вывел на поводках из псарни хозяин упряжки, нетерпеливо поскуливали. Я запряг своих семерых псов в нарты, сам одержимый нетерпеливым желанием скорее уехать. Собачник, коренастый пришелец с Ярконы, вовсю работал бритой челюстью – жевал горячий корень, чтобы согреться. Сплевывая временами огненную жижу на снег, он проинструктировал нас, как обращаться с собаками.
– Твой вожак – Кури, – сказал он мне, – второй – Арне, дальше идут Хису, Дела, Бела, Нена и Матсу. – Соли, поглаживавшему морду своего вожака, он тоже назвал имена его упряжки. – Будьте с ними помягче. Они не привыкли к долгим перегонам. И остерегайтесь буеров – собаки любят за ними гоняться.
Я улыбнулся, глядя в темноте на причал, где гудели на ветру оголенные мачты буеров. Было слишком рано для того, чтобы кто-то поднял свой ярко раскрашенный парус и вышел на Зунд. (Да и кто позволил бы себе увеселительную прогулку, когда часть Города лежала в руинах.) Мои собаки покусывали постромки, обнюхивая друг друга, и я подумал, не лучше ли было бы нам с Соли отправиться в путь на буере. Впрочем, это не довело бы нас до добра. В открытом море лед испещрен трещинами и торосами. Собаки, даже такие кроткие и игривые, как эти, – наша единственная надежда. Жаль, конечно, что у нас не было времени натренировать их по-настоящему, как Лико и других наших старых собак – но Хранитель и так уже опередил нас на несколько дней.
С первым светом мы выехали на море. Штарнбергерзее перед нами светилось оранжевым блеском. Мы стали искать следы Хранителя на плотном снегу и нашли их. Поземка уже частично замела отпечатки лап и желобки от полозьев, но снегопада последние десять дней не было, и следы просматривались легко. Мы доехали по ним до Аттакеля, где все, что открывается глазу, – это лед и небо над ним, а краски – та же льдистая белизна и отраженный ею свет, расширяющиеся пурпурные круги снежных сполохов, молочная бирюза пирамидальных айсбергов и желтоватый отсвет льдов в кобальтовом небе.
Весь день мы ехали быстро. Во второй половине дня горы Невернеса позади превратились в голубовато-белую дымку, которая дрожала вдали, еще менее материальная, чем сам воздух. С каждой пройденной милей, когда я, дыша сквозь заиндевелые усы, вслушивался в скрип полозьев и частое дыхание собак, мои воспоминания о Городе тоже утрачивали материальность. Меня окружал иной мир и связанные с ним ощущения. Я любил шелковистый мускусный запах шегшеевого меха, соленый воздух, покалывающий мое смазанное жиром лицо, даже боль стынущих пальцев в холодных рукавицах. Тихий ровный западный ветер звучал музыкой в моих ушах, страх и судьба снова переполняли меня. Если быть честным, они мной управляли – так же, как я управлял своими собаками, визжавшими, когда я щелкал кнутом. Мной правило нечто, столь же отдельное от меня, как звездный свет. Об этом нечто я думал как о судьбе, не моей личной судьбе, но судьбе в высшем смысле, которой подчиняется все во вселенной. Я чувствовал эту судьбу, которая была также судьбой Соли, и Хранителя, и моего Города, и кремневого наконечника копья Соли – чувствовал настойчивый зов ананке, гудевший в моей крови. Мой взгляд был прикован к дрожащей линии западного горизонта. Мне хотелось продолжать путь, даже когда стемнело. Первый день нашего путешествия наполнил меня ликованием. Я мог ехать и ночью, все дальше и дальше, читая следы Хранителя при свете звезд, но собаки устали и проголодались, а их стертые лапы покрылись льдом. Вдали от Города и все еще вдали от своей судьбы мы остановились, чтобы построить снежную хижину. В сумерках мы нарезали кирпичей из снега и воздвигли себе убежище, внеся туда еду, горючие камни и постели. Покормили собак жирным искусственным мясом, поели сами, выпили кофе и залезли в свои шкуры, чтобы думать и грезить каждый о своем.
Всю эту ночь я не спал. Режим моего сна и бодрствования давно уже менялся вместе со мной. Я лежал и слушал, как дышат собаки во входном туннеле и свищет ветер в щелях между снежными блоками. Хижину освещали горючие камни, в которых я поддерживал огонь до утра. Соли рядом со мной смотрел на пляшущие на потолке тени. Он лежал тихо, и можно было подумать, что он спит с открытыми глазами. Но он не спал. Не глядя на меня, он заговорил о мелких проблемах сегодняшнего перегона.
– Этот человек ничего не понимает в собаках. Впрочем, он ведь ярконец, что с него взять? Поставь завтра Арне на место Нены, между двумя суками – тогда он оставит Кури в покое, и Хису не будет на него огрызаться. – Он помолчал и добавил: – Надо сшить сапожки для Белы и Матсу. Ты видел их лапы? Придется нам сшить сапоги для обеих упряжек – пригодится, когда мы доберемся до Внешних Островов. Червячники говорят, что лед там рваный, как лохмотья аутиста.
Как ни печально, мы с Соли понимали друг друга только тогда, когда совместно решали какую-нибудь задачу: либо математическую, либо куда более неотложную задачу выживания на холоде, который мог заморозить даже углекислоту в нашем дыхании. Мы поговорили об охоте на тюленя, которой неизбежно должны будем заняться, когда у нас кончится провизия, и обсудили отменное качество саффеля, крепкого снега. К утру наш разговор перешел на математические темы. Ему хотелось услышать мое доказательство Великой Теоремы, но он был слишком горд, чтобы просить об этом. Его горькая обида стояла между нами, как морозная пелена.
– Вся моя жизнь была посвящена математике, а что это мне дало? – произнес он, непонятно к кому обращаясь. И тогда я открыл ему свое доказательство. Мы были лишены визуального пространства наших кораблей, где можно было выстраивать идеопласты, и поэтому я затратил довольно много времени, чтобы представить ему все наглядно. Когда я начал объяснять ход моих рассуждений, показывающих, что подмножество Джустерини входит в простое множество Лави, он рывком сел, чуть не стукнувшись головой о снежный потолок, и крикнул:
– Стой! Теперь я вижу! Не знаю, как это я раньше не понял. Ловко! Теперь схема соответствия Лави рушится, не так ли? Красивое, изящное доказательство. – И он добавил так тихо, что я едва расслышал: – Я был так близко!
– Главное, оно конструктивно. – Я подрезал ножом фитиль горючего камня. Да, конструктивно: благодаря ему стало возможно не только попасть от одной звезды к любой другой, но и составить соответствующий маршрут.
– Красивое доказательство, – повторил Соли. – Теперь перед тобой стоит дилемма. Твоими стараниями любой пилот – даже торговый – сможет путешествовать где угодно.
– Возможно.
– И между пилотами может вспыхнуть война – настоящая война.
– Хранитель тоже придерживался такой теории.
– Орден никогда уже не будет прежним, верно? Как и все Цивилизованные Миры.
Затянув потуже капюшон парки, я сказал:
– Этого Хранитель и боялся. Он пытался убить меня – нас обоих, – потому что боялся.
– Да. Мы с ним все время беседовали об этом. Он предостерегал меня против перемен и много раз наказывал за то, что я его не слушал. Перемены… Если бы не тот твой первый бесшабашный рейс в Твердь, мы могли бы добиться перемен без… – его голос дрогнул, – без стольких несчастий.
Я понял, что он думает о Жюстине, и сказал:
– Мне очень жаль.
– Так что же ты решишь насчет Гипотезы? Как поступишь?
– Не знаю.
Он умолк и много позже забылся беспокойным сном. Я смотрел, как он ворочается в своих мехах, и думал, следует ли мне открыть доказательство Гипотезы другим пилотам. Я снова проиграл его в уме и пожалел о своем корабле, когда дошел до сложного построения первой леммы Данлади. Рефлекторно, почти инстинктивно, я сделал умственное движение, которым пользовался при сопряжении с нейросхемами компьютера. Теперь я сопрягся с самим собой. Плотно зажмурив глаза, я как бы плавал в темноте под меховыми одеялами. За стенами хижины царили мрак и холод, но у меня в голове было светло. Алмазные идеопласты леммы казались четкими, как никогда. За ними последовал вихрь других символов, и доказательство начало выстраиваться. Я не знал, откуда эти идеопласты берутся в моем зрительном центре. Здесь не было корабельного компьютера, не было нейросхем, чтобы создавать визуальные пространства сон-времени и другие пространства, которыми пользуется пилот в мультиплексе. Был только мой мозг и мое изменчивое «я», что бы они ни представляли собой в действительности. И маршруты, целая последовательность маршрутов. Я увидел сгущение над Городом, извилистое и непроходимое. Внезапно оно размоталось, как клубок шелка, и я увидел тысячи новых маршрутов, новых путей к звездам. К Весперу, к Даргину и дальше – к двойной звезде Такеко и к Абрат Люс – голубой, горячей и яркой, и еще дальше – к безымянным звездам, к обреченным звездам Экстра. Количество путей между звездами вселенной было бесконечно: каждая звезда была связана с любой другой. Я увидел это в один миг и представил себе мультиплекс лучше, чем когда-либо. Подумав об источнике этого видения, я ощутил страх, но он прошел так же быстро, как появился. Мультиплекс окружил меня, как зимнее море, и настала тьма. Я открыл глаза в полумраке хижины. Соли храпел, скрипя зубами. Я был от него так близко, что ледяная влага его дыхания оседала на моих мехах, но чувствовал себя очень одиноким.
Страх не оставлял меня всю ночь – более интенсивный, чем когда-либо после возвращения с Агатанге. Я снова задумался об эволюции агатангийского божественного семени. Завершило ли оно свою работу? Возможно, мой мозг умирает, заменяемый постепенно запрограммированными нейросхемами? Я ничего не знал, но чувствовал, что со мной происходит что-то ужасное и чудесное одновременно. Я представил себе свой мозг и увидел миллионы толстых, неправильной формы нервных клеток. Они вздувались и лопались, миелиновая оболочка длинных аксонов растворялась и впитывалась куда-то. В каждой точке безмерно сложного сплетения нейронов создавались и росли нейросхемы. Возникали новые связи, соединяющие кристаллические платы белковых компьютеров. И все это, по крайней мере в моем воображении, творилось в моей коре, в этом удивительном красном студне позади моих глаз. В этом и заключался мой страх. Если фронтальные доли отсоединятся от периферийных или будут связаны с ними каким-то новым способом, я уже не смогу контролировать себя так, как прежде. Возникнут новые программы, возможно глубокие и скрытые. Это уже сделано или почти сделано. Я не мог сказать, откуда я это знаю. Ясно было одно: когда я закрываю глаза и овладеваю программой своего страха, мультиплекс открывается передо мной столь же полно, как из кабины моего корабля. В этом и заключалось чудо: я носил в себе безбрежное, кристаллическое, сверкающее море. «Все возможно», – шептала мне бесконечность. Я лежал, глядя, как рассвет проникает в щели между снежными кирпичами. Собаки начали скулить и тявкать. Соли проснулся и стряхнул иней с одеял. Я протер глаза и бросил несколько пригоршней снега в котелок над горючими камнями, чтобы вскипятить кофе.
Десять дней мы ехали на запад по следам Хранителя Времени. Дважды мы теряли след там, где поземка намела сверкающие белые дюны в полмили длиной, но легко находили его, следуя по синусоиде вдоль оси нашего пути. Сначала мы отклонялись к северу, потом возвращались к югу, пересекая воображаемую прямую, ведущую на запад. Затем снова поворачивали на север, елозя по снегу, как гладыши, пока не обнаруживали след. Пока Хранитель ехал на запад – а куда еще ему было деваться? – эта немудреная техника не могла нас подвести. Если только снега не будет. После снегопада лед на целые мили обретет нетронутую белизну, и мы потерям слишком много времени на свои волнообразные отклонения. Однако для снега было слишком холодно. Мы надеялись на этот холод, хотя он проникал сквозь наши меха и пробирал нас до костей. По правде сказать, мы с трудом его выдерживали. Снег от мороза стал сухим и шершавым, как песок, в воздухе не было влаги, и небо отливало густой синевой, как складки одежд эсхатолога. От сухого холодного воздуха из носа начинала идти кровь и в теплых туннелях ноздрей нарастали колючие кристаллики инея. Соли мучился от этого больше, чем я. Кровь застывала сосульками на его усах, бороде и воротнике его белой парки. Он смахивал на белого медведя после пиршества над тушей тюленя, только кровь была его собственная. Он ослабел от мороза и постоянной кровопотери. Однажды во время сильного ветра, когда мы укрылись за наспех поставленной снежной стеной, он имел глупость снять рукавицу, чтобы погреть рукой нос, и тут же отморозил себе кончики трех пальцев – тех самых, которые порезал стеклом в башне Хранителя Времени. Видя, как его трясет, я по девакийскому способу распахнул свою парку и стал греть его пальцы у себя на животе. Странно было ощущать его твердые ледяные ногти на коже – странно и тревожно. Как только пальцы немного отошли, я убрал его руку и велел ему:
– Сожми в рукавице кулак и старайся не выставлять руку на ветер.
Он посмотрел на меня сквозь смерзшиеся от слез ресницы (на морозе глаза у нас все время слезились) и сказал:
– Не тебе одному известно, как надо обращаться с отмороженными пальцами. – Он спрятал кулак под мышку и добавил: – Спасибо.
В пути мы почти не разговаривали – разве что о самых насущных вещах, да и тогда большей частью ограничивались жестами: указывали на след Хранителя, слегка отклонившийся к северу, или благодарно улыбались, когда один из нас заваривал утренний кофе. Наша трудная походная жизнь скоро вошла в колею. В конце дня мы строили хижину и заделывали снегом трещины. Потом вносили внутрь кухонную посуду, провизию и шкуры, которые расстилали на снежных лежанках. Пока Соли разжигал горючие камни, я таскал снег для кофе и последним блоком загораживал туннель от ветра. Покормив собак и обив снег с шуб, мы принимались за летнемирский кофе, разогретые орехи бальдо и вареное мясо. Можно было наконец отогреться и подумать о том о сем. А когда мы, развесив парки на распялках, забирались в постели с последней кружкой кофе, Соли читал мне из Книги Молчания.
Большинство людей относится к молчанию как к понятию отрицательному, выражающему отсутствие звука, но это не так. Молчание – вещь реальная, почти столь же осязаемая и твердая, как камень. Ночами в хижине, когда ветер утихомиривался и собаки засыпали. Соли сидел, закутавшись в меха, и молча смотрел в свою синюю кружку. Однажды, когда чуть-чуть потеплело и ледяные кристаллы в воздухе затянули солнце желтой дымкой, мы поспорили о том, что будем делать, если пройдет снеговой фронт. Уютно (я употребляю это слов в чисто условном смысле) устроившись на ночь в хижине, я настаивал, что Хранитель будет продолжать путь на Квейткель. Я был очень уверен в себе. Соли, стиснув пальцами кофейную кружку, метнул на меня взгляд, который мог означать: «Ты совсем как я, такой же упрямый и самонадеянный!» Потом он застыл как каменный, и Книга Молчания открылась. Ключом к ней служили его лицо и глаза, и первая ее страница повествовала о ненависти.
Он ненавидел сам себя. Само собой разумеется, что все мужчины и женщины, будучи людьми, находят в своем человеческом естестве хоть какую-нибудь причину для ненависти. Но Соли пошел дальше, превратив ненависть к себе в настоящее искусство. Свою гордыню, гневливость, безразличие к страданиям других он ненавидел точно так же, как недостаток воображения и неспособность доказать Гипотезу. Более того – он ненавидел себя за наличие недостатков как таковых. Я смотрел, как он прикладывает ободок кружки к своим белым растрескавшимся губам и дует на кофе, и мне казалось, что он ненавидит себя за то, что он человек. Этот мрачный, погруженный в себя человек, столь часто путешествовавший по темным ледянкам собственной души, открыл, что наша человечность, самое сокровенное наше «я», определяется не столько силой, сколько слабостью. В этом и заключалась ловушка, державшая его в плену, как смерзающаяся прорубь: он любил в себе человека и одновременно ненавидел его, потому что никем другим быть не умел. Самый большой страх (а потому и ненависть) вызывал в нем высший Соли, который мог бы выйти из старого, слабого, разочарованного Соли, если бы тотразбил ледяные края полыньи. Все это он сознавал – он видел себя более ясно, чем было доступно моему наивному взору цефика. Это-то самопостижение и запечатывало гробницу его ненависти к себе. Но если он действительно видел сковывающую его спираль ненависти и страха, разве не мог он ее сломать? Нет, не мог. В конце концов, он был только человеком во всем чудесном и трагическом смысле этого слова: А человек, как пытался он себе внушить на протяжении трех жизненных сроков, должен принимать свою человечность как должное.
К тому времени, как мы достигли первого из Внешних Островов, ему пришлось смириться также и со слабостью человеческого тела. Тридцатый день глубокой зимы обещал стать еще холоднее всех предыдущих. В десяти милях к югу от хижины – в ясном утреннем воздухе казалось, что еще ближе – бело-зеленым холмом поднималась из моря обитель семьи Еленалина. Мы с Соли, одолеваемые кашлем, все время украдкой посматривали на юг, пока запрягали нарты. Его неловкость в работе я сначала приписал задумчивости: возможно, он прикидывал, что произошло с Еленалиной за эти годы. Лейлани, упершись лапами в снег, облаял стайку гагар, летящих к острову. Кожаные постромки, натянувшись, сдавили пальцы Соли, и он поморщился.
– Опять отморозил? – Я подошел к нему по скрипучему снегу и помог распутать Лейлани и вторую собаку, Гиту, которая подскакивала, пытаясь достать до птиц. – Дай-ка взглянуть на твои пальцы.
– Они в порядке, – ответил он, дыша паром из кровоточащего носа. – Замерзли только, а так ничего.
– Надо их согреть. Когда еще мы доберемся до Квейткеля… Сейчас мы, думаю, милях в сорока от Фарлейской отмели. Давай погрею.
– Нет.
– Ты их отморозил, так ведь? Говорил ведь я – держи их в тепле!
– Ничего я не отморозил.
– Дай посмотреть.
– Отстань, пилот.
Я дрожал в слабом утреннем свете, и ветер швырял снег мне за шиворот. Мне хотелось скорее отправиться в дорогу, чтобы восходящее солнце и мышечные усилия согрели меня. Я посмотрел на запад, стараясь различить в дымчатой белизне складки и трещины ледяного рельефа, и предложил:
– Зайдем в хижину. Я согрею воды, и мы обмакнем туда твои пальцы.
Лоб Соли, несмотря на мороз, блестел от пота.
– Так ведь времени нет.
Я повалил Арне на бок и натянул кожаный сапожок на его стертую лапу.
– Если ты упустишь поводья и твои нарты провалятся в трещину, мы потеряем кое-что побольше времени.
– Да, времени, – пнув ногой снег, сказал он и неожиданно вернулся в хижину.
Я пролез вслед за ним. Он снял рукавицы, и я увидел, что он не лгал. Пальцы не были обморожены. Дело обстояло еще хуже. Их концы почернели, и от них шел гангренозный запах. Даже протухшие рыбьи головы годичной давности пахнут лучше. Я попятился от этой вони, стукнувшись головой о стенку хижины.
Он отвел пальцы подальше от себя, как что-то нечистое, и сказал:
– Как видно, первая помощь не подействовала.
– Мы можем вернуться в Город. Даже если гангрена захватит всю руку, расщепители отрастят тебе новую дней за пятьдесят. – Честно говоря, возвращаться мне не хотелось.
– Тогда мы упустим Хранителя.
– Предпочитаешь потерять пальцы?
– Лучше уж это, чем вернуться в Город, как побитая собака.
Глядя на его пальцы, раздувшиеся от гнилостных газов, я сказал:
– Я не резчик.
– Но ведь нож-то у тебя есть – стало быть, и резать ты можешь.
Я почесал нос.
– Не так это просто.
– Боишься?
– Трудно тебе придется у деваки без пальцев.
– Трудно.
Я взял его руку в свою, чтобы рассмотреть получше. Мне не хотелось ее трогать, а уж тем более резать, но больше нам ничего не оставалось. Я разостлал нерпичью шкурку и положил на нее иголку с ниткой из своего швейного мешочка. Вынув из чехла тюлений нож, я подержал его над горючим камнем, пока он не раскалился и не почернел от копоти. И отрезал Соли пальцы. Он скрипел зубами и пытался блокировать боль. Я отсек его указательный и средний пальцы по второй сустав, а безымянный под самый корень, быстро прижег обрубки горячим ножом и зашил. Во время этого я не мог не заметить, как похожа его рука на мою. (Несмотря на все свое ожесточение против Ордена, он продолжал носить на мизинце пилотское кольцо. Я не думал, что Соли когда-нибудь его снимет – разве что мне придется ампутировать и этот палец тоже.)
Закончив бинтовать пальцы, я заварил ему чай ша, помогающий против инфекции. Он посмотрел на свою руку с гримасой отвращения. Боль ударила ему в голову и сделала необычайно разговорчивым.
– Какой-то осколок стекла ранит мне пальцы, нарушив кровообращение, и вот вам результат. Одна случайность цепляется за другую – так оно и идет, как говаривал Хранитель. Вот логическая цепь, неопровержимая, как доказательство: если бы Жюстина не вынудила меня… если бы я ее не ударил, как сложилась бы наша жизнь? Не могу не думать об этом, пилот, – мыслям не прикажешь. Она умерла по моей вине, и вот теперь, почти у цели… но ведь алалои не умирают, если им отрезать пальцы, правда?
Следующие несколько дней мы продвигались медленно: он учился управлять нартами одной рукой. Пальцы у него заживали быстро, и к сороковому числу он приладился держать повод между большим пальцем и обрубками, почти не испытывая боли. Однажды ночью, когда я делил остаток наших орехов, он признался, что иногда чувствует фантомные боли в несуществующих кончиках пальцев.
– Жаль, что мы виски с собой не взяли, – сказал он. – Не смотри на меня так, пилот, – я не хочу сказать, что эти боли настолько уж невыносимы: они просто напоминают о штучках, которые играют с нами нервы и мозг. Все это так ненадежно, правда ведь?
Я понимал толк в этих штучках – они мучили и меня, пока мы пробирались через трещины ледяного шельфа. Почему мы видим то, что видим, слышим то, что слышим? Каким образом нервы черпают информацию из окружающего мира? Как мозг придает ей смысл? Верно ли утверждение древнего акашика Хаксли, сказавшего, что наш мозг – всего лишь редукционный клапан, дозирующий информацию о вселенной, чтобы мы не обезумели от бесконечного потока ощущений, сведений, картин, красок, запахов, звуков, мыслей, чувств, жары, холода, битов и байтов – от захлестывающего душу океана информации?
Однажды – кажется, на сорок второй день, – когда я пробовал снег своим щупом из дерева йау, полагая, что впереди трещина, внезапная перемена в ощущениях ошеломила меня. Я понял, что божественное семя затронуло не только мозг. Оно, точно сверлящий червь, проникло через зрительный нерв в глаза, заменив нервные узлы новыми нейросхемами. Я стал видеть по-другому – сперва эта разница едва ощущалась, потом стала очень заметной. Щурясь на металлическое зарево ледяных сполохов, я начал различать в былой зелени, красноте и голубизне новые цвета и оттенки. Я видел ультрафиолетовую часть спектра, где светились невыразимым огнем цвета, которые я назвал бриллиг, мимси и ультрапурпур. В ту ночь, когда солнце сбросило свои золотые одежды и с небосвода ушли алые и розовые краски, я увидел жар и свечение инфракрасного спектра. Зубчатые вершины Урасалии на юге светились каменным багрянцем холоднее пылающего льда вокруг. В воздухе плясала рубиновая рябь, излучаемая теплыми телами собак, которых распрягал Соли. Мои глаза (и уши) воспринимали теперь излучения всякого рода. Я опасался смотреть на небо, боясь уловить гамма– и радиошепот далеких галактик. Всю эту новую информацию я осмысливал с трудом. Нормальный глаз – человеческий глаз – реагирует на один-единственный фотон, на единственно «чпок» о сетчатку, на самое крохотное квантовое событие. Но мозг игнорирует эти реакции, теряющиеся в шуме его собственных нервных клеток; ему требуется по крайней мере семь фотонов, чтобы увидеть свет. Мой новый мозг воспринимал даже единичные фотоны – и еще многое помимо этого. Когда ветер утих, я услышал, как шуршат, то склеиваясь, то расцепляясь, отдельные молекулы. Шум был везде – я воспринимал его глазами, ушами и носом. Мне потребовалось много дней, чтобы интегрировать этот шум, много дней, пока шлюзы моего нового мозга не приспособились отсекать его, позволив мне снова лежать в своих шкурах и спокойно думать.
Несмотря на все эти помехи, мы приближались к Хранителю с каждой проделанной нами милей. Каждый день мы натыкались на его покинутые ночные стоянки, где находили обглоданные кости талло (видимо, ему удалось убить одну из этих больших, трудных для охоты птиц), собачий помет, развалины снежных хижин и по этом следам определяли срок его ночевки. Преимущество Хранителя, составлявшее четыре дня перед нашим отъездом, теперь насчитывало от силы сутки. Учитывая нашу среднюю скорость, он опережал нас примерно на двадцать две мили, скрываясь где-то за выпуклой линией горизонта.
На сорок седьмой день мы остановились, чтобы поохотиться на тюленя. Мне, как когда-то прежде, повезло – мы убили трех мелких животных, быстро разделали их и уложили мясо на мои нарты.
– А вот Хранителю такая удача не привалила, – заметил Соли. – И почему тебе везет всякий раз, как ты охотишься на своего доффеля? Сколько аклий вскрыл Хранитель – шесть? И хоть бы один тюлень. Он только время теряет – ослаб, должно быть, от голода. Скоро мы его догоним, как думаешь?
Но мы догнали его не так скоро, как было бы желательно. На следующий день сильно потеплело – будь оно проклято, это потепление. С юга пришли теплые массы воздуха, и сплошная белая пелена облаков нависла над серовато-белым льдом; хижина, серые шкуры собак и парка Соли, намораживающего полозья, – все слилось с окружающей белизной. Я стоял футах в десяти от Соли, а казалось, что между нами добрых полмили. Когда все кругом бело, расстояниям свойственно растягиваться или укорачиваться. Лед вокруг изобиловал трещинами и складками, как фравашийский ковер, по которому прошелся на коньках пилот-кадет. Отдельные черты разглядеть было трудно при отсутствии теней, выделяющих неровности и впадины. В дополнение к обычным утренним запахам тюленьей крови, собачьего помета и кофе я чувствовал в воздухе покалывающую влагу. Соли запряг свою последнюю собаку, Зорро, подошел ко мне и указал на небо.
– Снег будет. Прямо с утра.
– Мы сможем проехать еще пять миль, пока он не начнется.
– Слишком опасно. Что нам дадут пять миль?
– Пять миль – уже кое-что.
– От этих проклятых туч даже на пять миль вперед не видно.
– Будем ехать потихоньку, миля за милей.
– Мы и мили не проедем, как повалит снег.
– Тогда будет продвигаться фут за футом.
– Вот упрямый ублюдок!
– Кому и знать, как не тебе.
Мы проехали как раз около мили, когда в воздухе закружились большие ватные хлопья. Соли ехал прямо передо мной, и его игривые собаки дергали нарты туда-сюда, тявкая и ловя зубами снежинки. Мне следовало бы уделить им больше внимания и сразу предложить остановиться, но меня отвлекли краски шестигранных кристалликов, щекочущих мне нос и глаза. Сквозь снег донесся какой-то рев, будто белый медведь поранил лапу об острый край трещины, Лейлани и прочие собаки Соли тут же подняли лай и потащили нарты вместе с сыплющим руганью погонщиком куда-то в метель. У меня не было сомнений, что эти городские собаки никогда еще не видели медведя – иначе они поджали бы хвосты и рванули в другую сторону.
Мои собаки, не нуждаясь в понукании, устремились за упряжкой Соли. Кури, Нена и остальные налегли на постромки так, что снег и ветер били мне в лицо. Мы неслись сквозь метель почти что со скоростью буера. Я ухватился за борта и зарылся унтами в снег – это немного притормозило парты. На мой свист собаки не обращали никакого внимания. Мы скорее всего налетели бы на нарты Соли, если бы Лейлани не испустила тонкий жалобный визг. Другие собаки тоже заскулили, охваченные паникой: снежный мост над трещиной рушился. Лейлани, Зорро, Финнеган, Хучу, Самса, Пакко и нарты Соли – все они, связанные друг с другом, один за другим проваливались под лед. Мой вожак Кури осадил на самом краю и лег брюхом на снег, взлаивая и втягивая носом воздух.
Я спрыгнул с нарт и посмотрел вниз. В двенадцати футах подо мной, на дне трещины, пенилась черная вода. Тяжелые нарты сразу пошли ко дну, утянув за собой отчаянно бьющихся собак. Я подумал, что перевернутые нарты потопили и Соли и великий пилот нашел наконец свою смерть. Я искал его тело в плавающих на воде обломках снежного моста, но ничего не видел. Потом я услышал его крик:
– Мэллори, помоги мне!
Он цеплялась за неровную стенку трещины прямо подо мной. Каким-то образом уже при падении он успел выхватить из поклажи медвежье копье, вогнать его в рыхлый лед и с его помощью вылезти из воды.
– Холодно – ног не чую.
Я бросил ему веревку и вытащил его. Это было потруднее, чем тащить из полыньи рассчитанного на двух охотников тюленя. Он искупался по грудь в ледяной воде, и ноги так окоченели, что он не мог упереться ими в стенку, чтобы помочь мне. Руки у меня чуть не вывернулись из суставов, но наконец я ухватил его за ворот и вытянул на лед. Он чуть не рухнул на меня и лег, хватая ртом воздух. Я стал срывать с него промокшие меха, а снег между тем валил вовсю.
– Ох как холодно – дай мне умереть.
Я развязал свою поклажу и закутал его в спальные шкуры. Снег был густ, как медвежья шерсть; я развернул собак и погнал их обратно к хижине. Мы ползли сквозь метель, как слепые вши, и нам посчастливилось найти нашу хижину, наполовину засыпанную снегом. (Повезло нам и в том, что мы так и не встретились с невидимым медведем. Возможно, Тотунья провалился в трещину вместе с несчастными собаками Соли.)
Как хрупка человеческая жизнь! Стоит температуре подняться на несколько градусов, как человека начинает трясти. Стоит ей на те же пару градусов упасть, и человек начинает умирать. Я втащил умирающего Соли в хижину, разостлал меха, зажег горючие камни и поставил кипятиться воду. Я надеялся влить в него немного горячего кофе, чтобы прогреть как следует. Но не успел я всыпать порошок, как дрожь, сотрясающая Соли, прекратилась и он впал в гипотермическую кому. Кожа у него посинела, дыхание стало мелким и прерывистым. Я пощупал его лоб – он был холодный как лед.
Он, как-никак, доводился мне отцом – поэтому я разделся догола и залез к нему под шкуры. Больше мне ничего не оставалось. Затылком я чувствовал мягкий шегшеевый мех, а грудью прижимался к его волосатой спине. Его холодные оцепеневшие ноги приникли к моим. Я боялся открыть рот, чтобы туда не попали его длинные волосы. Я обхватил его руками. Деваки, когда им нужно отогреть замерзшего охотника, принимают именно такую, до омерзения интимную, позу. Мне невыносимо было даже прикасаться к нему, и все-таки я обнимал его, прижимая к себе, переливая в него тепло своего тела. Так мы пролежали довольно долго. Шкуры хранили тепло, и Соли начал дрожать. Видя, что он ожил достаточно, чтобы оставить его одного, я приготовил кофе и поднес кружку к его губам. Так я отогревал его весь день, а под конец нажарил тюленины, и мы поели, макая мясо в растопленный жир. Подкрепленный Соли посмотрел на меня и спросил:
– Это ведь не ты пытался убить меня, нет?
– Нет, Соли, не я.
– Значит, смерть Жюстины и мое участие в Пилотской Войне, все это безумие – глупая ошибка?
– Это трагедия.
– Скорее ирония. – Он провел пальцами по своим массивным бровям. – Когда Жюстина ушла, когда я ее ударил – для нас, для меня уже не было пути назад. Это был худший момент в моей жизни. Это мое алалойское тело – я мог бы переделать его заново, но оставил как напоминание. Чтобы наказать себя. А ведь если бы не это тело и не твоя помощь – мне бы конец.
Мы постарались лечь как можно дальше друг от друга, но все-таки оставались под одним одеялом. Его дыхание пахло кофе и кетонами, порождаемыми нашей сугубо мясной диетой: организм перерабатывал белки в глюкозу. От Соли пахло и другим – в основном гневом, страхом и возмущением.
– Напрасно ты мне помог – ты просто не мог по-другому, да? Ты это сделал, чтобы отомстить мне.
– Нет.
– Тебе ведь нравится чувствовать себя святым, верно?
– О чем это ты? – спросил я, хотя прекрасно знал, что он имеет в виду.
– Еще до того, как у тебя появилась хотя бы малейшая причина… Помнишь ту ночь в баре? Когда Томот назвал тебя бастардом? Ты сразу вышел из себя, так?
– Тогда я не умел себя сдерживать.
– «Наследственность – это судьба», – процитировал он.
– Я в это не верю, – сказал я, поджаривая над огнем селезенку.
– Во что же ты веришь?
– Я думаю, мы способны изменить себя, переписать свои программы. В конечном счете мы свободны.
– Ошибаешься. Жизнь – это ловушка, и выхода из нее нет.
Соли помолчал, пережевывая селезенку. Его волосатый живот поднимался и опадал в сравнительно теплом воздухе хижины. Прожевав, он сказал:
– Поговорим о фраваши, столь любимых нами инопланетянах. Хранитель их всех изгнал бы из Города, если б мог. Это их учение об абсолютной судьбе – об ананке, как ты ее называешь. Ты прислушивался к ним больше, чем подобает человеку, так ведь?
Я никогда не слышал прежде, чтобы Соли так философствовал, поэтому позволил ему продолжать.
– Свобода воли! Ты когда-нибудь задумывался над этим термином, в том смысле, в каком употребляют его фраваши? Это же оксюморон, столь же противоречивый, как «жизнерадостный пессимист» или «счастливая судьба». Если вселенная жива и обладает сознанием, как веришь ты, если она движется… если у нее есть какая-то цель, то мы все рабы, ибо она двигает нас к этой цели, как шахматные фигуры. И нам неведомо, в чем заключается игра. Так где же тут свобода? Хорошо толковать об ананке, о слиянии наших индивидуальных воль с высшей волей – ты ведь в это веришь? – но для человека ананке означает ненависть, несчастную любовь, отчаяние и смерть.
– Нет. Ты все не так понимаешь.
Он выплюнул мелкий хрящик на утоптанный снежный пол.
– Так просвети меня.
– Мы свободны лишь как часть целого, а не абсолют. Свободны в известных пределах. В конечном счете наши индивидуальные воли действительно составляют часть воли вселенной.
– И ты в это веришь?
– Так учат фраваши.
– В чем же она, воля вселенной? – спросил он, бросая пригоршню снега в кофейник.
Метель забрасывала хижину снегом, в щели единственной незаметенной, северной стены сочился серый свет.
– Не знаю, – ответил я.
– Но думаешь, что это когда-нибудь откроется тебе?
– Не знаю.
– Весьма самонадеянная мысль, тебе не кажется?
– Зачем же еще мы здесь? Открытие или созидание – в конечном счете это одно и то же.
– Действительно, зачем мы здесь? Вот кардинальный, хотя и банальный вопрос. Мы здесь для того, чтобы страдать и умирать. Мы здесь потому, что мы здесь.
– А вот это уже чистой воды нигилизм.
– Как ты самонадеян. – Он закрыл глаза и скрипнул зубами, как будто во сне. – Полагаешь, для тебя есть какой-то выход?
– Не знаю.
– Так вот, никакого выхода нет. Жизнь – это ловушка, каким бы ни был твой жизненный уровень. Серия все более хитрых ловушек. Хранитель прав: жизнь – это ад.
– Мы сами творим свой ад.
Он соскочил с лежанки. Он стоял голый на снегу. Под кожей выделялись длинные плоские мускулы, точно намотанные на деревянный каркас ремни. Тонкая тень легла на закругленные белые стены.
– Половину своего ада создал я, а другую половину создал для меня ты.
Я, разрумянившись в тепле хижины, ответил насмешливо:
– Наследственность – это судьба.
– Будь ты проклят!
– Свой рай мы тоже творим сами. Мы сами себя творим.
– Нет уж. Поздно.
– Поздно никогда не бывает.
– А для меня вот поздно. – Он втер немного жира в обрубки своих пальцев. – Самоуверенность, везде самоуверенность – вот от чего мне тошно. Но ничего, скоро этому придет конец. – Он бросил на меня взгляд, где к обиде и ненависти примешивалось уважение. – Во всем племени деваки нет никого, кто устал или стыдится быть человеком, кто хочет быть выше того, что он есть. Вот почему я никогда не вернусь в Город.
В ту ночь мне приснилось будущее – Соли и мое. Скраерский сон длился до рассвета, потом я выпил кофе и скраировал еще половину вьюжного дня. Мне хотелось показать Соли то, что я видел, объяснить, что жизнь не ловушка – во всяком случае, не больше, чем та, которую мы строим из своих заостренных костей и тугих жил своих сердец. Мне хотелось объяснить ему простейшую из вещей. Вместо этого я встал и начал одеваться, сказав:
– Метель скоро утихнет. Еще до ночи.
Соли сидел, закутавшись в меха, и приделывал к своему копью новый наконечник (старый обломился, застряв в стенке трещины). Он посмотрел на меня с отвращением, которое всегда питал к скраерам, и промолчал.
– Хранитель близко, – продолжал я. – В пятнадцати милях к северо-западу. Три его собаки больны и лежат в хижине, и аклия, которую он вскроет сегодня, окажется пуста.
– Скраерский треп.
– Если ехать всю ночь, утром мы застанем его врасплох.
– Если мы поедем ночью, то провалимся в первую же трещину.
Я стал кроить из нерпичьей шкуры сапожки для собак.
– Нет. Я знаю, где расположены трещины.
– В темноте мы будем ездить по кругу.
– Нет. Ночь будет звездная. Найдем дорогу по звездам.
Он улыбнулся при упоминании этого старинного способа и кивнул.
– Ладно, пилот, – будем держать путь по звездам, если они выглянут.
Когда стемнело, ветер дул с севера, унося остатки теплого воздуха и снежные клубы. Стало очень холодно, и на небо, черное, как одежда пилота, высыпали звезды. На севере горела Шонаблинка, на западе высоко над горизонтом мигал шестиугольник Фравашийского Кольца. Мы погнали нарты на северо-запад по шелковистому новому снегу. Собаки, наверное, думали, что мы рехнулись, заставляя их тащиться ночью по грудь в снегу и огибать опасные трещины. Среди ночи ударил жестокий мороз. Воздух стал как замороженный кислород, и губы у меня так застыли, что я не мог ни свистеть, ни говорить. Мы молча ехали по льду, каждую складку и впадину которого я видел в своем скраерском сне. Трещины нам не попадались. Остановились мы только однажды – вскипятить воду для кофе. Я не сводил глаз со звездного неба и с горизонта. В предутреннем сумраке я увидел крошечный снежный бугорок на огромном белом бугре планеты.
– Вон она, хижина Хранителя, – показал я. – Видишь?
– Вижу. Ты был прав.
Он свистнул Кури – я снова подивился его мелодичному свисту, его умению обращаться с собаками – и мы двинулись против ветра по занесенному снегом морю.
29 СЕКРЕТ ЖИЗНИ
Когда фраваши стали мыслящим народом, Темный Бог спустился со звезд и спросил Первого Наименьшего Отца Алмазного Клана Мозгопевцов:
– Скажи, Первый Наименьший Отец, – если я пообещаю через десять миллионов лет открыть тебе секрет вселенной, ты согласишься послушать мою песню?
Первый Наименьший Отец, жаждавший вкусить новой музыки, ответил:
– Наполни мои слуховые каналы; пропой мне свою песню.
И Темный Бог запел, и прошло десять миллионов лет; Алмазный Клан Мозгопевцов воевал с Кланом Верных Мыслеигроков и с другими кланами, и все это время во всей Фравашии звучала только эта одна страшная песня.
В конце срока Темный Бог открыл Первому Наименьшему Отцу секрет вселенной, и Первый Наименьший отец сказал:
– Я ничего не понял.
Тогда Темный Бог засмеялся и сказал:
– Как же ты надеялся это понять? Ведь твой мозг за эти десять миллионов лет совсем не изменился.
Первый Наименьший Отец поразмыслил над этими словами и пропел:
– Мой Бог! Я не подумал об этом, когда мы заключали договор.
Фравашийская притчаМы подъехали к Хранителю с юга ранним-ранним утром. Его хижина стояла в пятидесяти футах от недавно открывшейся трещины, а в пятидесяти милях на рассветном небе стал виден Квейткель, священная гора, подпирающая, словно голубовато-белый столп, западный край небосклона. Увидев на юге наши нарты, Хранитель, должно быть, принял нас за охотников-деваки, едущих домой. Мы рассчитывали именно на это, потому и свернули к югу. Но даже если бы он догадался, кто мы такие, у него уже не оставалось времени наморозить полозья, уложить шкуры и припасы (как бы мало их ни осталось), запрячь собак и бежать. Мы въехали в его лагерь с первым светом, и он учтиво ожидал нас на пороге, держа по девакийскому обычаю кружки с горячим кровяным чаем.
– Ни лурия ля! – воскликнул он. – Ни лурия ля! – В белой шубе, капюшон которой скрывал почти все лицо, кроме черных глаз, вид у него был сторожкий, как у волка.
– Ни лурия ля! – ответил я.
Его голодные собаки выскочили из туннеля хижины и с лаем бросились к нашим, обнюхивая их и облизывая их черные носы. Хранитель, должно быть, сразу узнал мой голос и понял, что упряжка у нас городская: уж очень радушно наши собаки виляли хвостами и высовывали красные языки, отвечая на приветствие чужих. Он поставил кружки с чаем в снег, не обращая внимания на самого крупного своего пса, который тут же принялся лакать приготовленный для нашей встречи напиток. Капюшон он откинул назад. На гладком, коричневом, блестящем от жира лице виднелась печать мрачного юмора и покорности судьбе.
– Итак, бастард Рингесс выследил меня. Или мне следует называть тебя «лорд Рингесс»? Ха!
Не успели мы остановиться, как Соли соскочил с нарт, занеся копье и целя им в живот Хранителю.
– Леопольд, так ты помирился со своим сыном? – сказал тот. – И Город еще стоит? Как это вам удалось спастись от моей старой бомбочки?
Соли скрипнул зубами так, что кровь хлынула из носа. Я видел, что он не решается пронзить Хранителя копьем, и поэтому сказал:
– Погоди!
– Вот это верно сказано: погоди, – отозвался Хранитель.
Я вкратце рассказал ему, что часть Города разрушена, что моя мать и еще шесть тысяч погибших заморожены в братской могиле. Рассказал, как мать заслонила меня от ножа в руке его клона.
– Так я и знал, что эта бомба старая, – сказал он. – Слишком старая.
– Ты убийца, – сказал Соли и уперся отставленной назад ногой в снег.
– Хорошо, вот он я – убийца, настигнутый и окруженный убийцами.
Соли покрепче стиснул копье. Я был уверен, что он вот-вот убьет Хранителя. Программы убийства уже работали в нем. Но он удивил меня. Он смерил Хранителя взглядом и спросил просто:
– При чем тут Город? Город, который ты основал три тысячи лет назад – это правда?
Хранитель, выдохнув облачко пара, повернулся ко мне.
– Значит, ты побывал в богине, и она говорила с тобой. Что она тебе сказала про меня, а, Мэллори?
– Что ты самый старый из людей и прожил много тысяч лет.
– Так сколько же мне лет? Что она сказала?
– Сказала, что в Век Холокоста ты по крайней мере уже жил.
– Я стар, это правда.
Я слез с нарт и встал рядом с Соли. Он шагнул поближе к Хранителю, и тот отступил назад, к трещине.
– Сколько же тебе лет? – спросил я.
– Много. Очень много. Я старше, чем этот снег, старше, чем лед на море.
– Придется тебе, однако, расплатиться за твои злодеяния, – сказал Соли.
Хранитель без видимой причины бросил взгляд на небо. Былой ад кипел в его черных глазах, и я понял, что он уже расплатился за свои злодеяния кровоточащими кусками своей души, продолжает платить и никогда не перестанет.
– Все так быстро, – сказал он. – Человеческая жизнь – это несколько тяжких мгновений, ничего более, разве это зло – милосердно прекратить чью-то жизнь за несколько секунд до того, как тиканье остановится само по себе и человек умрет естественной смертью? Скажите честно!
Но мы с Соли, на себе испытавшие, что значит убивать, промолчали.
– Город прожил свой срок, – продолжал Хранитель. – И Орден тоже. Вы хорошо знаете, почему я сделал то, что сделал.
– А мать мою обязательно было убивать?
– Ее убил мой двойник, не я.
– Ее убил ты.
Он поднял кулак и прорычал:
– Твоя мать и ты, бастард Рингесс, со своим навороченными мозгом и сумасбродными новыми идеями – вот кто погубит род человеческий.
Я смахнул иней с ресниц и сказал:
– Ты и меня бы убил.
– Однажды я сделал все, чтобы тебя спасти – помнишь? – и спас, потому что любил тебя как сына. – Он быстро взглянул на Соли. – Та книга стихов еще у тебя? Я хотел спасти тебя от богини и перестарался, будь я проклят!
Я подошел поближе к нему. Он чесал Тусу за ухом, демонстративно не обращая внимания на поднятое копье Соли. Пар вырывался из его ноздрей медленными ровными струйками. Пахло кислым потом, дыханием хищного существа. Он чего-то боялся. Его лицо было тверже любого известного мне человеческого лица, но на нем был страх. Я стал между ним и Соли. Соли выругался и отошел, ища новую позицию для удара.
Я растер лицо, чтобы четче выговаривать слова, и сказал:
– Главный Генетик исследовал ДНК твоего клона, но ничего там не нашел.
– Ну да – а что там было искать-то?
– Старшую Эдду. Секрет Эльдрии.
– Чушь собачья!
– Твердь сказала мне, что ее секрет заключен в твоих хромосомах.
– Чушь собачья.
– Что тебе известно об Эльдрии?
– Наклал я на них!
– Почему Эльдрия предостерегает человека против богини?
– Почему это? – рявкнул он, передразнивая меня. – Почему это? Почему, почему, почему?
– Сколько тебе лет?
– Я стар, как камень.
– Что тебе сделала Эльдрия? Мне нужно знать.
– Да пошел ты!
Я подошел еще ближе. Он отступил.
– Скажи, Келькемеш. Не даром же я проделал весь этот путь.
Он закрыл глаза, запрокинул голову и разинул рот в беззвучном крике. Я впервые видел его с закрытыми глазами.
– Ты знаешь мое имя – стало быть, знаешь все. Что я еще могу тебе рассказать?
– Секрет.
– Сколько же ему? – спросил Соли.
– Я родился тридцать тысяч лет назад, – открыв глаза, сказал Хранитель, – по летосчислению Старой Земли. Хотите знать в точности, сколько мне лет? Тридцать тысяч сто сорок два плюс восемнадцать дней и пять часов. – Он достал из-под шубы плоские золотые часы, раскрыл их и добавил: – Плюс пятнадцать минуть и двенадцать секунд, тринадцать, четырнадцать… сколько еще секунд мне осталось? Если бы все шло так, как хотела Эльдрия, я жил бы вечно. Они создали меня для вечной жизни, провалиться бы им! Таковая моя цель, говорили они. Их цель.
– Это невозможно, – сказал Соли. Он зашел с другой стороны, и Хранитель снова оказался между ним и трещиной. – Никто не может прожить так долго.
– Ошибаешься, Леопольд! В давние времена, когда зеленые леса Старой Земли не имели ни единого шва, как одежда механика, они спустились с небес и сказали, что выбрали меня своим посланцем. Проклятые боги! Я никогда их в глаза не видал и не знаю, есть ли у них тела. Может, они, боги, вообще бестелесные? Мне они явились как огненные шары, ярко-голубые – таким бывает очень жаркое пламя костра. Они сказали, что на Земле – даже на той Земле, тридцать тысяч лет назад – расплодилось слишком много людей. Еще они сказали, что огни на небе – это звезды. Скоро люди покинут Землю и будут странствовать среди звезд. Я подумал, что схожу с ума, но они сказали – нет, просто я вошел в число ста двадцати пяти бессмертных, избранных, чтобы нести послание Эльдрии сквозь время. Чтобы доставить это их треклятое послание людям, когда мы научимся пользоваться звездным огнем и внимать голосу мудрости, не сходя при этом с ума и не изничтожая друг друга этим самым звездным огнем и огнями иного рода. Эльдрия – пропади они пропадом, эти бестелесные твари! – сказали, что их души готовы удалиться в область небес, столь черную, что даже звездный свет туда не проникает. В черную дыру. Я, конечно, не понял ни слова из этой тарабарщины. Они сказали, что им грустно оставлять человеческий род во всей наготе его невежества. «Нагота! – повторил я. – Невежество!» Я, как-никак, был одет в шкуру волка, которого убил своими руками, и мог назвать каждое растение и каждое животное в лесу! Эльдрия не рассмеялись только потому, что им было нечем, но я слышал, как они шушукаются и смеются внутри меня. Потом они вскрыли меня, паскудные боги, и вышили каждую мою клетку до последней нитки ДНК. Даже в семя мое пролезли, даже душу – и ту исковеркали! Я не понимал, что они делают, и так струхнул, что сам себе выбил зубы. Меня жгло изнутри, точно я наглотался горячего свечного сала, точно наелся волшебных грибов и теперь сгорал от лихорадки. А потом они бросили меня на произвол судьбы. Сами залезли в ядро черной дыры, а я по их милости чуть ли не все тридцать тысяч лет болтался по Старой Земле. Зубы у меня, само собой, отросли снова и отрастали каждый раз, как стирались. Они наделили меня этими красивыми белыми зубами, чтобы я мог вкусить горький корень бессмертия, и я жевал его, пока он не опротивел мне до смерти. Но умереть-то я как раз и не мог – вот в чем загвоздка. Теперь вы все знаете.
Я опустил глаза, размышляя о богах и бессмертии. Снег доходил мне до колен, такой сухой, что я видел каждый кристаллик, скатывающийся в ямы от моих следов.
– А ты, – спросил я Хранителя, – разве ты не хочешь узнать, что за послание заключено внутри тебя?
– Нет.
– Что вшито в твоей ДНК?
Он снова скорчил гримасу, оскалив длинные белые зубы.
– Ничего там нет, кроме дезинформации и шума.
– Они ведь боги! Почему ты сомневаешься в них?
– Потому что они лгут, как все боги.
Соли отклонялся то вправо, то влево, сжимая кожаный захват копья одной рукой и вытирая другой кровь, сочащуюся из носа. Он теснил Хранителя к трещине.
Я поднес голую руку к растрескавшимся губам и спросил:
– А что же сталось с другими бессмертными? Где они теперь?
– Мертвы. Эльдрия сделала нас бессмертными, но убить нас все-таки можно. Камнем по лбу, ножом… – он покосился на Соли, – копьем в сердце – да мало ли как.
– И все они умерли вот так, от несчастного случая?
– Старая Земля была очень опасным местом.
Я видел, что он лжет или, во всяком случае, говорит не всю правду. Он смотрел на кружащего около него Соли, на острие копья, позолотевшее в лучах восходящего солнца.
– Это ты их убил, верно? – спросил я.
Он вздернул подбородок и впился в меня глазами.
– Шустрый ты, Мэллори. Всегда быстро соображал. Ну да, я выследил их и перебил как овец, одного за другим, даже тех пятерых – назвать тебе их имена – даже тех пятерых бессмертных, которые спаслись от Холокоста и бежали в мультиплекс.
– Худо, – сказал я.
– Они и так долго прожили, а секрет надо было сохранить.
– Значит, его хранитель – ты?
– Я Хранитель Времени – все время его и храню.
– Ты расшифровал Эдду – я прав? Скажи мне, что там сказано?
– Сам разбирайся.
– Ты не имеешь права хранить это в тайне.
– Право? – вскричал он с горящими, как угли, глазами. – И ты еще толкуешь о правах? Проклятая Эльдрия загубила мою душу! Даже у богов нет такого права.
Я показал ему мое пилотское кольцо.
– В день, когда я получил вот это, ты объявил поиск Старшей Эдды. Теперь он окончен.
– Нет, Мэллори, не окончен.
– Генетики расшифруют Эдду по твоим клеткам, если…
– Там нечего расшифровывать.
– …если мы привезем тебя обратно в Город.
– Мертвым, ты хочешь сказать. Неужели благородный Рингесс и его благородный отец зарежут меня, как овцу? Ха!
Соли мог бы убить его, подумал я; ведь мы пересекли море как раз для того, чтобы его убить. Я знал, что Соли винит Хранителя в смерти Катарины, и мне показалось, что сейчас Хранителю настанет конец. Соли очень хотелось убить его, но он сдерживался. Слизнув кровь с усов, Соли сказал мне:
– Если ты хочешь, чтобы этот старый убийца остался жив, то все его тело нам не требуется. Просто отрежь у него несколько пальцев и заморозь их. Генетики и по ним раскодируют Эдду.
Затем раскрылась Книга Молчания, и я прочел из нее целую главу. Он, гордый Соли, был очень доволен тем, что гуманность в нем возобладала и он не убил Хранителя. Его ласкала мысль, что в последний миг он сумел сохранить милосердие.
Хранитель ощерился в подобии улыбки.
– И это все, что вам надо? – Он выбросил вперед руку, и в ладонь из рукава скользнул длинный стальной нож. Стряхнув рукавицу с другой руки, он с той же легкостью, с которой я мог бы обрезать фитиль горючего камня, отрубил себе мизинец. Палец упал в пушистый снег, проделав в нем ямку, окаймленную кровью, которая тут же застыла рубиновыми кристалликами. Хранитель ткнул четырехпалой рукой в сторону Соли. В красной ране белела кость, но крови, как ни странно, пролилось мало. – Забирайте. – Он нагнулся и достал свой палец из снега, а после швырнул его Соли в лицо. Соли отклонил голову, и палец, пролетев мимо него и меня, снова хлопнулся в снег.
Казалось бы, мелочь – но Хранитель тоже умел читать Книгу Молчания и должен был знать, как подействует на Соли столь пренебрежительный жест. Соли обезумел, и все его милосердие и гуманность как рукой сняло. Он скрежетнул зубами, зарычал, и кровь хлынула у него из носа. Рука с копьем снова отлетела назад – ее указательный палец, вытянутый вдоль древка, указывал назад, на меня.
– Прочти книгу, Мэллори, – крикнул вдруг Хранитель. Я не понял, какую книгу он имеет в виду – мне хотелось вмешаться, остановить эту волну насилия, но я уже начал вспоминать и не в силах был двинуться с места. – Она предназначена для тебя.
Я думаю, он сам очень хотел умереть, но жизнь уже вошла у него в привычку, и так просто расстаться с ней он не мог. Поэтому он кинулся на Соли и попытался всадить в него свой нож. Соли метнул копье. Этим копьем он однажды убил большого белого медведя, а теперь ему суждено было убить старого-престарого волка. Хранитель хотел увернуться, но копье пробило ему грудь.
– Вот как! – выдохнул Хранитель и упал на снег, в десяти футах от края трещины.
Соли обрушился на него, пиная его в лицо и дергая копье туда-сюда, стремясь нанести как можно больший урон и вогнать острие прямо в сердце.
Я двинулся вперед, но Соли крикнул:
– Прочь!
Я сделал еще шаг, последний, роковой шаг, тот, который видел на тысячу разных ладов, когда скраировал недавно в нашей хижине. Я знал одно: если я подойду чуть ближе к Соли, секрет, который я так долго искал, наконец откроется мне. Моя нога точно завязла в снегу, мускулы оцепенели, холодный воздух резал глаза. Мое видение будущего – будущего, которое есть сейчас, всегда было и всегда будет – простиралось до этого предела, не дальше. За ним не было ничего. Я был столь же слеп к дальнейшему, как младенец, выходящий из чрева матери на свет.
– Ты, ублюдок! – крикнул Соли. – Прочь!
Он вырвал копье из груди Хранителя. В парке старика зияла дыра с мой кулак величиной, и из нее хлестала кровь. С силой алалоя – или сумасшедшего – Соли нагнулся, вскинул тело Хранителя высоко над головой и побрел с ним к трещине.
– Соли, нет! – Я метнулся к нему по снегу быстро, как мог, но воспоминания мешали мне перейти в замедленное время, и я бежал слишком медленно. – Не надо, Соли!
Я вцепился в него в тот самый миг, когда он бросил Хранителя в трещину. Мы оба упали и чуть не последовали за Хранителем вниз. Раздался хруст и плеск – тело проломило тонкий ледок в двенадцати футах под нами. Хранитель камнем ушел в черную воду, а с ним и секрет жизни.
– Будь ты проклят, Соли!
Теперь Хранителя сожрут тюлени и рыбы; секрет жизни перейдет в них и навеки затеряется в ледяной пучине моря. Вцепившись в парку Соли, я ждал, что тело всплывет, но этого так и не случилось.
– Ублюдок! – снова выдохнул Соли, схватив меня за волосы и пытаясь заломить мою голову назад.
Тут уж и я обезумел. Как тонкая линия между любовью и ненавистью, рассудком и слепой яростью! Мы с Соли, катаясь по снегу, рвали друг друга, как бешеные псы. Я нашарил его горло и двинул его в нос. Он своей двухпалой рукой, должно быть, нащупал копье, потому что кровавый обледенелый наконечник ткнулся мне в лицо. Я уверен, что он метил мне в горло, вот только не мог взяться за древко как следует. Я прижал подбородок к груди, чтобы прикрыть глотку, и сильно дернулся. Наконечник с противным скребущим звуком проехал по лбу, и выступила кровь. Кровь Хранителя, застывшая на острие, смешалась с моей. У меня возникло странное ощущение, будто моя кровь признает родство с кровью Хранителя, и его кровь во мне шепчет что-то, оживляя самые глубокие мои воспоминания. А возможно, это шок от пореза или блеск солнца, отраженный восточными льдами, побудили меня начать мнемонировать. Я стиснул двупалую руку Соли своей, и холодный прилив памяти (и ярости) похоронил меня под собой.
Я вспомнил один простой генетический факт: предки у всех людей общие. Между ними кровное родство. Соли, навалившись на меня, вдавливал меня грудью в снег. Я открыл рот для крика, и в него тут же попала кровь, текущая у Соли из носа. Я глотал его кровь, мою Кровь, кровь его отца и деда, и Хранителя Времени, кровь пращура Бардо, Ли Тоша, а может быть, даже и Шанидара, пращура всего человеческого рода. Тридцать тысяч лет Хранитель бродил по континентам Старой Земли, начиняя женщин своим семенем. Божественным семенем. Я не мог даже представить себе, сколько детей он зачал за этот период. Десятки тысяч, должно быть. И в каждом из них, в мальчиках и девочках, таился секрет Эльдрии, переходя потом к их детям и детям их детей, от отца к сыну, от матери к дочери, год за годом, пока на всех континентах и во всех океанах населенных человеком планет (а также искусственных миров) не осталось мужчины или женщины, в ком не дремал бы до времени великий секрет Эльдрии. Включая и меня.
Мы продолжали кататься по снегу, и Соли норовил воткнуть мне в шею копье. Но я захватил его руку – этому захвату научил меня в детстве Хранитель, – и он зарычал от боли и гнева. Однако он тоже когда-то брал уроки борьбы и сломал мой замок, подняв колено и крутнувшись. В рот и за шиворот мне набился снег – я прямо плавал в снегу. Острые льдинки жалили мне плечи и леденили шею, ручейки талой воды стекали на грудь. Мы обменивались тычками и боролись на чистом снегу, стараясь убить друг друга.
– Убить мне его или нет? – вскричал вдруг Соли. Но нет – он кричал это мысленно, а не вслух. Я читал его лицо, а может, и мысли. Крик звучал внутри меня.
«Мозг – всего лишь орудие…»
Во мне звучало еще что-то. Я закрыл глаза, отгородившись от крючковатых пальцев Соли, повернул голову в сторону и стал слушать голос памяти. Это была своего рода песня. В ней была гармония, микроскопические переходы и ритм. Я смотрел в свою кровь, в темные закорючки хромосом, где скрывалась Старшая Эдда. Я смотрел туда, куда так часто заглядывали генетики, в это собрание «мусорных генов», занимающих больше половины генетического материала каждой клетки. Моя кровь говорила мне, что мусорные гены имеют определенную цель. Они кодируют и производят белки химической памяти. Они и есть память – ничего более. Эльдрия не стала бы пользоваться для шифровки своего послания чем-то столь грубым, как человеческий язык. Их секрет, секрет жизни, нужно было просто запомнить.
«Мозг – это инструмент для прогонки и чтения программ вселенной».
Каждый из нас носит в себе ключ к памяти. Моя кровь отбивала ритм танца, который вели аденин, гуанин, тимин и цитозин, и нити памяти, закодированной в моих хромосомах, расплетались. Где-то глубоко внутри меня ДНК кодировала аланин, триптофан и другие аминокислоты, из которых строились белки химической памяти, доступной мозгу для прочтения. А возможно, память ДНК была уже закодирована в нейросхемах моего нового мозга, и я мнемонировал под действием потока электронов, а не вследствие синтеза белков. Белки, электроны – какое, в конце концов, значение имеет способ хранения информации? Главным был голос Эльдрии, шепчущий мне ту немногую часть Старшей Эдды, которую я мог понять. Память богов. Секрет жизни, говорили они, прост: это…
– Убить мне его или нет? Решай же!
«Человек – это мост», – говорили они.
Самые простые вещи понять бывает труднее всего. Я сгреб Соли за бороду и стал дергать его голову туда-сюда. Мое сознание распространялось кругами от наших сцепившихся тел, по скованному льдом миру. Я воспринимал одновременно множество вещей: свист и шорох утреннего ветра, белую вершину Квейткеля, воткнутую в синее брюхо неба, горячее дыхание Соли над самым ухом. И помнил я многое. Я помнил себя таким, каким был в действительности. Обычно наше сознание шмыгает изнутри наружу и обратно, как талло, вертящая головой из стороны в сторону. В течение своей жизни мы осознаем объекты и события, а иногда и самих себя, но одновременное осознание того и другого – очень редкое явление. Я помнил, что я – человек, ненавидящий Соли; я помнил эту ненависть так, точно наблюдал со стороны, как его ненавижу. Я поступал глупо, ненавидя его. Программы ярости и ненависти разрушали меня, порабощали, отнимали у меня свободу думать, чувствовать и быть. Мне было ненавистно видеть, как моя ненависть губит меня, и все-таки я не мог перестать ненавидеть.
«Человек должен освободиться, – шептала Эдда в мое внутреннее ухо. – Он должен быть свободен».
– Решай же!
Соли воткнул ноготь мне в щеку, и кожа лопалась слой за слоем. Я зашипел от боли и вспомнил, что выход есть: это путь, открывшийся мне однажды на льду Зимнего катка, путь созидания. Многие до меня уже перешли этот мост. Мне вспомнилась первая воин-поэтесса, Калинда, которая так любила цветы и жизнь, что бежала от поклонников смерти к целительному океану Агатанге. Там человекобоги переделали ей мозг так же, как и мне, и она ушла от человеческих миров в глубину мультиплекса. Она обнажила свой мозг, раскрыв его гроб из костей и кожи. Поглощая природные элементы астероидов и планет, она создала для него новые нейросхемы. Она созидала свой мозг и наблюдала за собственным ростом много веков, не переставая творить, пока ее мозг не стал большим, как луна, а потом как много-много лун. Так называемая Твердь, вспомнил я, ерзая в изрытом снегу, была некогда таким же человеком, как и я – девочкой, любившей вплетать цветы себе в волосы.
«Боги хитры, – сказал мне как-то старый умирающий человек, – и когда они переделывают человека, то всегда оставляют что-то недоделанным».
Соли шарил рукой, ища копье, зарывшееся в снег. Это была его ошибка. Его программы, пульсируя под заснеженной паркой, бежали вдоль напрягшихся мускулов рук. Я прокашлялся и заломил ему руку за шею. «Первым делом я научу тебя полунельсону, – шепнул мне на ухо Хранитель Времени, и я снова стал послушником, пыхтящим на белом ковре его башни, нет – мальчиком Келькемешем, борющимся со своим отцом Шамешем на горной поляне Старой Земли. – Это хороший прием, а полный нельсон – и вовсе смерть». Я просунул другую руку под мышку Соли.
– Ублюдок! – завопил он, и я вспомнил, чего не доделали агатангиты: они не предначертали мне судьбу заранее. Я мог выбирать. Я мог редактировать и переписывать свои программы, мог творить себя здесь, в этот самый миг ярости и холода, катаясь по снегу.
«Но цена рождения – это смерть», – шепнула Эльдрия. Да, я мог творить себя – но созиданию должно предшествовать разрушение. Умереть – значит жить; чтобы жить, я умираю. Способен ли я стать убийцей? Способен ли уничтожить свою жизнь, себя самого? Ведь возврата к прежнему не будет – будет только великое путешествие, все дальше и дальше, в бесконечность, путь без конца и предела. Я вспомнил свое обещание Тверди. Где же мне взять силы, чтобы принести в жертву свой страх? «Возможности безграничны. И опасности тоже».
– Убить его или нет? Решай быстрее!
Обе мои руки соединились в густых мокрых волосах у Соли на затылке. Чувствуя, как стынет на морозе его пот, я сомкнул пальцы и стал пригибать его голову к груди. В моих пальцах была великая сила – ее вложили туда Соли и мать, а после них Мехгар Ваятель. Я должен сломать ему шею, шептал я себе, переломить, как кусок осколочника, потому что он убил Бардо и убивает меня, потому что вселенная холодна и несправедлива, потому, в конце концов, что человеком быть мне милее всего. Я должен выбрать смерть. Не имеет значения, что к этой схватке в снегу меня привела цепочка глупых случайностей. Разве случай и судьба – не две стороны одного лика? Я смотрел в лик судьбы и видел собственное лицо. Есть ли у человека воля? Способен ли он читать программы вселенной, чьи возможности безграничны? В это холодное ветреное утро глубокой зимы я вспомнил себя, и грустное, обветренное, сострадающее в конечном счете лицо улыбнулось мне в ответ. Да, я могу, прошептал я, и сделаю – сделаю свой выбор свободно под глубоким вольным небом.
И тут, в миг разжатия рук, раскрепощения и свободы, я услышал звук, которого ждал всю жизнь. Соли, скрючившись в нескольких футах от меня, переломил копье о колено и швырнул обе половинки далеко в снег. Он потер себе затылок и сказал:
– А ведь мы чуть не убили друг друга! Что это с нами, пилот?
Я зажал рукой порез на лбу и сказал, отдуваясь:
– Слушай, Соли, – это тавтология, но тем не менее: секрет жизни – это жизнь.
Соли встал и заглянул в трещину.
– Хранитель пошел на дно, – буркнул он, словно не расслышав, что я ему сказал, – а с ним и твой секрет. Зачем ты связался со мной? Почему этот цикл повторяется снова и снова? Но нет, теперь все – больше он не повторится, клянусь.
Я смотрел на запад, где высился Квейткель, и память гремела во мне. Я слушал и следил, как переливаются краски на сверкающем снегу. Все это – розовый гранит на северном склоне горы, белая пороша, голубоватый воздух – казалось только что созданным. Я стоял, опьяненный, как виски, красотой мира. Не было больше ни ярости, ни страха. Я повернулся на восток, где бескрайние льды горели на утреннем солнце. Где-то там, за красным шаром, висящим низко над горизонтом, был Город. «Возможности безграничны», – шептал он мне.
Соли внезапно хлопнулся на четвереньки и принялся ощупывать снег вокруг себя. Я вспомнил, что туда упал палец Хранителя.
– Не утруждай себя, Соли. Теперь это уже ни к чему.
– Что ты говоришь, пилот?
Не успел еще растаять снег, набившийся мне под парку, как я уже рассказал ему обо всем, что вспомнил.
– Но ведь это бессмысленно, ты не находишь? Почему Эдда закодирована у нас в памяти? Если Эльдрия хотела, чтобы ее послание дошло до нас, почему она не выбрала способ попроще?
Один из тощих псов Хранителя подошел ко мне, и я его погладил. Он понюхал воздух над трещиной и заскулил.
– Куда уж проще, Соли? Эльдрия поделилась своей мудростью с каждым из нас. Вся ирония в том, что они положились на наш разум. Они, должно быть, думали, что мнемоникой-то человек овладеет в первую очередь. И нам действительно следовало это сделать еще несколько тысячелетий назад. Им и в голову не пришло, что мы окажемся такими глупыми.
Опасности безграничны. Я смотрел на север, на густосинее небо, нависшее над вершинами айсбергов, и слушал шепот Эдды.
Соли подозвал свистом остальных собак Хранителя. Осмотрев и оглядев их всех, он сказал:
– Выходит, вот и конец нашему поиску? – И тоже посмотрел вдаль, щурясь против крепкого ветра.
Я повернул голову. На юге лед был бел и гладок, как кожа алалойского младенца. Им не было конца, южным льдам Штарнбергерзее.
– Поиск продолжается, – сказал я.
Мы зашли в хижину Хранителя, и Соли вскипятил воду для кофе, промыл рану у меня на лбу и зашил ее тюленьими жилами. Выпив кофе, мы покормили и обиходили больных собак, а потом я обследовал хижину. Я рылся в вещах Хранителя, пока не нашел книгу. Она вместе с несколькими стальными перьями и флаконом, полным чернил, была завернута в клеенку и спрятана в мехах у изголовья лежанки. Толстый, переплетенный в кожу том очень походил на книгу стихов, которую подарил мне Хранитель. Я открыл его, вдохнув запах старой кожи. Ледяной сквознячок, проникнув в щель стены, шевельнул белые страницы. Это были не стихи. Хранитель старательно, скрупулезно, страница за страницей и строка за строкой, заполнял книгу чернильными рукописными буквами. Это был уникальный каллиграфический труд, труд человека, не жалевшего времени на выведение каждого слова. Труд всей жизни. Я раскрыл титульный лист – там, черными буквами толщиной с собачий коготь, значилось:
ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ
Я перевернул страницу – книга начиналась следующими словами: «Это моя Эдда». Я стал листать дальше. Последняя страница осталась незаконченной – фраза обрывалась на середине, и за ней следовало не меньше ста чистых страниц.
Соли, который так и не научился читать, спросил:
– Зачем Хранителю было нужно, чтобы эту книгу взял ты?
Я закрыл ее, постучал по обложке своим пилотским кольцом и сказал:
– Это его Эдда.
– Расскажи мне об Эдде. Не об Эдде Хранителя – это слишком грустно. О своей Эдде, о послании богов.
Я рассказал ему все, что знал сам. Эдда, сказал я, – это инструкция Эльдрии, помогающая человеку стать богом. Человек – это мост между обезьяной и богом, а Эдда – чертеж этого моста, не дающий ему рассыпаться в снежную пыль. Люди должны стать богами, потому что мы так устроены. Божественная программа заложена в нас глубоко, так же глубоко, как первобытная ДНК, из которой мы произошли миллиарды лет назад. Мы должны научиться управлять этой программой, потому что это наша судьба. Вот какую простую вещь рассказал я Соли, сжимая в руках кружку с горячим кофе. Но опасности безграничны, добавил я. Если человек обращает к богу безумный взор, даже звезды начинают взрываться и падать с небес. Безумные богочеловеки, безумные боги – во вселенной полно безумия; оно караулит повсюду, словно свихнувшаяся таллоканнибал, чтобы склевать любое божественное начало, приобретающее слишком большой разум и власть. Чем сложнее программы существа, тем сильнее для него опасность безумия. Быть богом очень, очень трудно. Я вдохнул густой аромат кофе и объяснил, что дар Эльдрии в том и состоит, чтобы помочь человеку перейти мост. Они помогают нам из сострадания, но еще и потому, что это входит в их программу спасения вселенной от безумия.
– Отчасти человек и так уже бог, но и безумие в нас тоже присутствует – вот почему у нас хватает наглости вмешиваться в естественный жизненный цикл звезд. Отсюда Экстр. Это плод нашего невежества, Соли, нашего незнания. Мы ничего не видим. Эдда – это свод правил, позволяющих нам найти свое место в экологии.
«Вселенная на самом глубоком уровне – это чистое сознание».
Соли, кивнув, глотнул кофе. Пока я говорил, день успел перейти в ночь.
– Прежде всего, – продолжал я, – нам нужно перепрограммировать наш мозг. Даже стародавний человеческий мозг можно перепрограммировать. Мы способны составлять свои мастер-программы – такая техника есть, и она описана в Эдде. В конце концов мы можем добиться переустройства своего мозга – мы просто обязаны сделать это, если хотим выйти на более высокий уровень сознания; ибо что такое мозг, если не комок материи, концентрирующий сознание? Материя-энергия, пространство-время, информация-сознание – вот основные понятия, которыми оперирует простая и прекрасная математика Эльдрии. В определенном смысле материя – это всего лишь энергия, замороженная в ледяном поле пространства-времени. А сознание – это способ самоорганизации материи; оно присутствует в каждой снежинке, в атоме, в капле крови, в фотоне и песчинке, во всем пространстве-времени от Облака Девы до Пердидо Люс. Сознание неотъемлемо; сознание распоряжается всем. Есть правила для исчисления вовлечения-работы-опознавания для всех живых организмов и всей неорганической материи во вселенной. Тат Твам Аси, Ты Есть То, и чем я тогда обязан существу иного вида? Моему отцу? Червяку-паразиту? Далекой звезде? Каково место человека в схеме вселенной? Величайшая опасность, сказал я, – это неправильное понимание чуждости всего окружающего. Из-за него мы обрываем крылья мухам, убиваем тюленей и других людей, из-за него уничтожаем звезды.
– Экстру можно помочь, Соли. Существует единство… сознания. Материя по-своему не что иное, как стоячая волна сознания, а энергия, каждая гамма-частица и каждый фотон излучения Экстра – это движущаяся волна, которая создана человеком и потому может быть рассоздана. Вернее, пересоздана. Переведена в другую форму, понимаешь? Это тоже часть экологии.
– Вот ты все говоришь – экология, – хлебнув кофе, сказал он. – Какую экологию ты имеешь в виду?
«Существует экология информации. Умрут звезды, люди и боги, но информация сохранится. Макроскопическая информация распадается на микроскопическую, а та постепенно сконцентрируется. Ничто не пропадает. Смысл существования богов – поглощение информации. Интеллекты низшего порядка сортируют, фильтруют, концентрируют и организуют ее – боги ею питаются».
– Пилот?
– Извини, я… вспоминаю. – Я провел языком по губам. – Существуют естественные законы, определяющие наше место в экологии. Если мы раскодируем эту вселенскую программу, поймем намерение вселенной, то…
– Ты не ответил на мой вопрос.
– Я пытаюсь. Экстр, к примеру, не входит в намерения вселенной. Что может человек знать об ананке? Всегда есть какие-то несовершенства, моменты безумия. Касатки…
– Что-что?
– Касатки на Агатанге, безумны они или нет, играют ключевую роль в экологии планеты. Подумай теперь об Экстре: это же океан энергии, ждущей своего применения.
Твердь создала десятки тысяч черных тел для сохранения энергии Геенны Люс, а мы используем энергию Экстра. Информацию при наличии нужной энергии можно передавать куда угодно. Мы сможем связаться с мыслящими туманностями нашей галактики, сможем расширить галактическую информационную экологию. Мы – каждый человек, фраваши, устрица, бактерия, вирус или тюлень – сможем послать свое коллективное сознание через два миллиона световых лет межгалактической пустоты информационным экологиям других галактик – из Андромеды, Волос Вероники и Льва; все галактики местного скопления наделены разумом и трепещут от мыслей организмов, таких же, как наша. Настанет время, и мы вступим в контакт с экологиями других галактических скоплений – их много в пределах десяти миллионов световых лет от сверхгалакгической плоскости местного сверхскопления. Гончие Псы, Павлин, обе Медведицы и другие – эти сверкающие облака разума охватывают нашу маленькую галактику сферой диаметром четыреста миллионов световых лет. Чтобы разговаривать со столь дальними галактиками, потребуется энергия сверхновой, если не многих десятков тысяч сверхновых.
– Ля илляха иль Алла, – сказал я. – Все мы – часть целого.
– Послушай, пилот, я тебя не понимаю.
Я слушал шепот ночного ветра за стеной и еще более тихий шепот внутри меня. По правде сказать, я сам не понимал больше половины Эдды. Эта ее часть казалась мне настоящей тарабарщиной. Мой мозг еще просто не дозрел до ее восприятия. На миг все сложнейшее здание грядущей информационной экологии раскрылось передо мной. Прослойки идей, биологических систем и информационных структур разворачивались, как страницы книги. Это было чудесно и ошеломительно, а я, как червь, все еще полз по первой странице, ощупывая брюхом букву за буквой и пытаясь таким образом прочесть текст. Из миллиона страниц Эдды я понимал разве что одну. А сама Эдда, коллективная мудрость богов, была лишь крохотной частицей секретов вселенной, снежинкой в метели.
Я попытался объяснить это Соли, но не думаю, что ему действительно хотелось понять.
– Ты говоришь, эта память заложена в каждом из нас? Вся Эдда? – Он стоял на коленях и поджаривал над горючим камнем орех, глядя прямо перед собой.
– Да, она передается от отца к сыну. Вот почему Хранитель убил других бессмертных. Он не хотел, чтобы кто-то сказал людям о том, что в них заключено. Ибо он знал.
– Что знал?
– Что по мосту можно перейти только в одну сторону. И что если память станет нам доступна, мы все захотим перейти.
– До этой памяти не так-то легко добраться.
– Ты мог бы вспомнить Эдду, если б захотел.
– Правда?
Пламя отражалось в его глазах. Ему, наверное, трудно было смотреть вот так, не мигая.
– Я бы показал тебе, как вспомнить.
Он долго жевал свой орех и наконец ответил:
– Нет. Довольно с меня воспоминаний. Да и поздно уже.
– Поздно никогда не бывает.
– Бывает.
Я допил кофе и вытер рот.
– И что же ты собираешься делать дальше?
Подержав во рту пальцы, чтобы согреть их, он сказал:
– Всю свою жизнь – а жизнь у меня была длинная, согласен? – каждый ее миг я пытался понять, зачем я живу. Мой персональный поиск, пилот. Теперь ты говоришь, что Эдда находится во мне: стоит только вспомнить, и… и что? Ты говоришь, что тогда я научусь жить на более высоком уровне. Но жизнь есть жизнь, не так ли? Страдание всегда присуще ей – чем выше уровень, тем сильнее страдаешь. С меня довольно – понимаешь? Я, Леопольд Соли, – как и Хранитель Времени – не хочу больше. Разве ответ возможен? – Он почесал нос, глядя на меня. – Всю жизнь я думал, что учусь жить, но так ничего и не понял. А вот Жюстина знала все. Я поеду на Квейткель и буду жить у деваки, если они меня примут. Мы с Жюстиной были счастливы там – помнишь?
Позже мы услышали, как где-то далеко ревет медведь. Соли полагал, что это тот самый, который завлек его собак в трещину. Он пошел поискать свое сломанное копье и принес ту половину, что с наконечником.
– Я поступил неразумно, сломав его. Хорошо хоть наконечник уцелел – добрый кремень.
Я потрогал пальцем порез на лбу и согласился:
– Кремень что надо. Чуть было меня не прикончил.
– Да. – Он заехал кулаком в потолок и прошиб крышу. Постояв немного и посмотрев, как в дыру заметает поземка, он заделал пробоину. – С самой первой нашей встречи я спрашиваю себя: почему так?
Он сел напротив меня на лежанку Хранителя, стараясь заглянуть мне в глаза, но я отводил их. Его лицо отражало работу двух противоречивых программ. Он хотел сказать мне, как я ему ненавистен, как бесит его самый факт моего существования. Эти слова плясали у него на языке, придавая голубым глазам яркость моря. Он открыл рот, желая сказать: «Да, я хотел убить тебя; был готов убить тебя». Потом по прошествии долгого мгновения его лицо смягчилось, он потер глаза и сказал совсем другое, то, что, как ему казалось, не хотел говорить:
– Нет, я не смог бы убить тебя. Разве может человек убить родного сына?
Я смотрел на огонь. Тишина наполняла хижину. Он прикрыл глаза рукой и потер виски.
– Почему ты, пилот? – спросил он наконец. – Что теперь с тобой будет?
Жуя орехи бальдо, я открыл ему последний секрет. Я слышал биение своего сердца, его сердца, биение молекул воздуха по замерзшему снегу. Звезды Экстра тоже отбивали ритм, призывая меня, когда я со всем доступным мне состраданием сказал Соли, что сыну его суждено стать богом.
30 НЕВЕРНЕС
День, который был шесть или семь лет назад, и тот день, что был более шести тысяч лет назад, столь же близок к настоящему, как вчерашний. Почему? Потому что все время заключено в настоящем мгновении.
Говорить, что мир создается Богом завтра или вчера, бессмысленно. Бог создает мир и все вещи мира в настоящем мгновении. Время, прошедшее тысячу лет назад, такое же настоящее и столь же близко Богу, как этот самый миг.
Иоганн Экхарт, горолог Века МонголовНа другой день Соли, протерев покрасневшие глаза, объявил, что возьмет упряжку Хранителя и поедет на Квейткель. Мне он предложил сразу же поворачивать домой и всю обратную дорогу охотиться на тюленя. Но собаки Хранителя были не в состоянии тащить нарты. Три были обморожены, и вся упряжка сильно оголодала.
– Я довезу тебя до Квейткеля, – сказал я. Надев снежные очки, я смотрел на гору. В чистом воздухе ее сверкающий конус казался гораздо ближе, чем в действительности. – Нарты Хранителя оставим здесь, больных собак возьмем на свои, а остальные пусть бегут за нами.
По правде сказать, ни один из нас не был уверен, что деваки окажут Соли радушный прием, и я не хотел бросать его одного с упряжкой больных собак. На дорогу до острова у нас ушло два дня. Мы поставили хижину в тридцати ярдах от его утесистого берега. Юрий три года назад – а казалось, будто три жизни – сказал, что мне на Квейткель лучше не возвращаться. Прекрасно – я даже ногой не ступлю на остров. (Если, конечно, медведь не разломает мою хижину и не загонит меня в рощу йау на берегу.) Соли пошел дальше на лыжах, собираясь поведать деваки трагическую историю о том, как Жюстина, Бардо и моя мать ушли на ту сторону. Он сказал, что вернется на следующий день с орехами мне на дорогу и мясом для собак, если у деваки был хороший год и они готовы проявить великодушие.
Я ждал три дня и три ночи, за которые ветер чуть не снес мою хижину, и начал уже сильно беспокоиться, когда, к полудню четвертого дня, на опушке леса показалось несколько нарт. Одни из них съехали на лед. Я стоял, заслонив глаза от полуденного солнца. Соли, правивший нартами, был на них не один.
– Ни лурия ля! – крикнул я, не зная, что еще сказать. Сначала мне показалось, что Соли везет на мешках с орехами медвежонка. Потом я разглядел, что это маленький деваки в шегшеевой шубке. Мне было невдомек, зачем Соли взял с собой ребенка.
Люди на опушке леса не ответили на мое приветствие. Они стояли у своих нарт, наполовину скрытые деревьями йау, и смотрели на море. Из-за солнца я не различал их лиц.
– Ни лурия ля, – сказал Соли, подъехав поближе. Ребенок оказался мальчиком лет трех. На коленях он держал деревянную куклу. Когда нарты остановились, он застенчиво потупился, разглядывая ее с преувеличенным интересом. Соли, оставив его на нартах, подошел ко мне и сказал на языке деваки: – Нехорошо, что тебе пришлось столько ждать.
– Кто этот мальчик? – Но не успев задать свой вопрос, я уже понял, кто он.
– Названый сын Хайдара и Чандры.
Услышав имена своих родителей, мальчик с улыбкой поднял глазки.
– Хайдар ми падца мору риль Тува, – сказал он и без дальнейших понуканий рассказал мне, как его отец убил мамонта прошлой зимой. – Лос пела мансе, ми Хайдар, ми Хайдар ло ли вое.
Мальчик был красивый, крепкий, улыбчивый, с темносиними, цвета вечернего неба, глазами, мало похожий на других алалойских детей. Когда я улыбнулся ему в ответ, он сразу перестал дичиться и стал вести себя храбро, словно знал меня всю жизнь.
Катаринины глаза, сказал я себе, и спросил срывающимся голосом:
– Как его зовут?
Мальчик улыбнулся, показав ровные белые зубы, и сказал:
– Падца, ни лурия ля; ти лос ми лот-падда? (Здравствуй; отец; ты правда мой родной отец?)
– Это невозможно, – сказал я, хотя и знал в странном мире, где мы живем, мало что невозможно.
Соли подошел, хрустя по снегу, и я зашептал ему на ухо:
– Не может он быть моим сыном, Анала вырезала ребенка из чрева Катарины за добрых сорок дней до срока – помнишь? Он ни за что бы не выжил.
– Не выжил бы, говоришь? Да он крепок, как алмаз. Он мой внук, а нас, Соли, убить не так просто. Ты посмотри на него! Резчик сделал тебе другое лицо, но хромосом твоих не тронул. И ты еще можешь сомневаться?
Отряхнув снег с парки, он стал рассказывать:
– Деваки, увидев, как я приближаюсь к пещере, очень удивились и удивили меня, устроив пир в мою честь. Нажарили мяса мамонта – охота эти последние годы была удачной, хотя пару лет назад большой самец растоптал Юрия, проломив ему череп. Но все помнили, что Юрий сказал тогда, и приняли меня радушно. Они меня простили – представляешь, пилот?
– Тува ви лалунье, – сказал, облизнувшись, мальчик. Наверное, он думал, что Соли рассказывает мне про пир. Соли потер затылок и продолжил:
– Это Анала сказала мне насчет мальчика. Никто из женщин не думал, что он выживет, даже Чандра, которая нянчила его, когда Катарина… когда мы вернулись в Город. Но он выжил. Чудо, правда?
Я смотрел, как мальчик играет крошечным костяным копьецом в кулаке своей куклы. Подбородок у него был длинный, как у меня, до того как я переделался в алалоя, а в густых черных волосах сверкали рыжие нити.
– Но они же убили Катарину! Объявили ее сатинкой. Почему же они не придушили ее ребенка и не зарыли его в снег?
– Это у них не в обычае.
– Мне даже в голову не приходило, что он выживет. Никогда этого не видел. Не догадывался.
Соли соскреб засохшую под носом кровь и кашлянул.
– Говорят, он крутой парень. Чандра сказала, он почти никогда не плачет – не плакал даже, когда обжег руку о горючий камень.
Я поморгал и сказал:
– Катарина перед смертью должна была видеть, что он выживет. Почему же она мне не сказала?
– Такие уж они, скраеры.
– Как его зовут? – снова спросил я, забыв, что деваки не дают своим детям имен, пока тем не исполнится хотя бы четыре года.
– У него еще нет имени, но Хайдар хочет назвать его Данло Младший в честь своего деда.
Я зажмурился и потряс головой.
– Ну нет – он будет пилотом, и люди назовут его Данло Миротворец, потому что он возглавит миссию в Экстр. Он выучится цифрам и геометрии, он будет знать названия звезд…
– Нет, – мягко возразил Соли. Мальчик тем временем выковырнул орех из мешка, разгрыз его своими крепкими белыми зубками и улыбнулся мне.
– Он мой сын! – крикнул я.
– Нет, теперь он сын Хайдара. Названый, да, но Хайдар любит его так же, как родных сыновей. Хайдар единственный отец, которого он знает. Он будет хорошим…
– Нет! – Я сделал шаг к нартам. – Он мой сын, и когда он впервые увидит Город, он закричит: «Вот мы и дома, отец!»
Соли, покачав головой, показал мне на торосы у берега. Хайдар, Вемило, Сейв, Джонат и Чокло стояли среди голубых льдин и смотрели на нас. На них были охотничьи парки, и каждый держал в руке копье для охоты на шегшея. Я поднял руку с раскрытой ладонью, но только маленький Чокло – уже подросший – улыбнулся в ответ. Мне всегда нравился Чокло.
– Когда Анала показала мне мальчика, – заговорил Соли, – она сказала, что Хайдар с Вемило и Чокло ушел охотиться на шегшея. Вот почему я так долго не возвращался – нужно было спросить разрешения у Хайдара. Придя с охоты, он сказал, что я могу свозить к тебе мальчика на нартах. Попрощаться – понимаешь? Он сказал, что мальчик должен повидать своего родного отца, прежде чем распрощаться с ним навсегда.
Я стоял, опустив глаза. Я знал заранее, что скажет Соли, и все-таки его слова ошеломили меня. Я подошел к нартам и взял мальчика на руки – он был тяжелее, чем могло показаться.
– Падда. – Глядя на меня с любопытством, он запустил свои длинные пальчики мне в бороду, разглядывая рыжие волоски в ней. – Падда. – В его голосе не было эмоций. Он произносил девакийское слово «отец» как нечто абстрактное, как имя невиданного прежде зверя.
– Данло. – Я поцеловал его в лоб, такой же формы, как мой прежний. – Сынок.
Я поставил его, и он тут же побежал к хижине, чтобы посмотреть, что там внутри. Глядя в тихое синее небо, я несколько раз сглотнул. Глаза жгло, и меня удивило, что они остались такими же сухими, как застывший воздух вокруг. Быть может, моя проклятая исковерканная душа уже утратила способность плакать.
– Мне нельзя будет взять его с собой, – сказал я Соли.
– Нет.
– Мой сын вырастет, считая себя уродом, неполноценным алалоем.
Соли молча почесал нос.
Из хижины донесся восторженный смешок. Я пролез внутрь. Данло нашел книгу Хранителя и листал ее, ковыряя пальцем похожие на черных козявок буквы.
Глядя сквозь полумрак и холод хижины на безграничные возможности, я острожно взял у мальчика книгу, сказав:
– Ли лос книга.
Он рассердился, потому что я забрал у него новую игрушку, и злобно посмотрел на меня. Я испугался ярости в его глазах – она кольнула меня, как копье. Но тут любопытство вернулось к нему, он улыбнулся и спросил:
– Ки лос кника?
– Книга – это просто куча листов, скрепленных вместе. Ничего интересного.
Чуть позже я нагрузил нарты и сказал на ухо Соли, который стоял, держа Данло за руку:
– Не позволяй моему сыну расти в невежестве. Расскажи ему, что небесные огни – это не просто глаза умерших. Расскажи ему о звездах, ладно?
Я развернул нарты к востоку, и Соли сказал:
– Хорошо.
– До свидания, Данло. – Я поднял мальчика вверх. Его длинные волосы так хорошо пахли, что я поцеловал его еще раз. Потом пожал вынутую из рукавицы руку Соли и ему тоже сказал «до свидания».
– До свидания, – сказал он и сделал нечто поразившее меня. Он притянул меня к себе так резко, что я чуть не упал, и крепко поцеловал в лоб. Его шероховатые губы обожгли мою холодную кожу – она горит и по сей день. – Лети далеко, пилот, и удачи тебе.
Я крикнул собакам и погнал нарты под ветер по сверкающей снежной равнине. Я не стал оглядываться назад, но в своих мыслях и мечтах оглядываюсь то и дело. Я не верил, что увижу кого-то из них снова. «Не увидишь, – сказал мне шепот, – никогда не увидишь». Воздух был так жесток, что глаза мои наполнились слезами.
Я подхожу к концу своей повести. О пути домой осталось рассказать не так уж много. Когда мы с собаками доели орехи и мамонтовое мясо, нам пришлось поголодать. Я вскрывал много аклий, но тюлени больше не выходили мне на копье. Почти все время стояли сильные морозы. Дважды я отмораживал себе пальцы ног – они и до сих пор ноют в холодные дни. Когда Город стал уже почти виден вдали, налетела метель. Пятнадцать дней я лежал вместе с полузамерзшими собаками в наспех построенной хижине, читая книгу Хранителя и слушая бурю. Арне и Бела умерли от холода и голода, и я похоронил их в снегу.
Где-то записано, что на девяносто первый день глубокой зимы 2934 года Мэллори ви Соли Рингесс, потерпев неудачу в исканиях Старшей Эдды, вернулся в свой родной город. (Мне сказали, что так заканчивается знаменитая фантазия Сароджина «Нейропевцы».) По возвращении меня встретила одна из самых горьких иронии моей жизни: академики, мастера и большинство других не захотели поверить, что я «вспомнил» Старшую Эдду. А некоторые, в частности Главный Генетик, еще и высмеяли меня. Они смеялись до последнего дня года, когда величайший наш мнемоник, Томас Ран, снял свои одежды, закрыл глаза и погрузился в один из бассейнов Обители Розового Чрева. Он ушел в сумрак далекого прошлого, вызвал память, заложенную в каждом из нас, и услышал, как слышал и я, шепот Старшей Эдды. С радостью (и преувеличенной гордостью) он обучил этой технике других специалистов своей профессии. Известие об этом великом мнемоническом открытии быстро распространилось по Академии. Много дней я не мог выйти на самую уединенную ледянку без того, чтобы какой-нибудь послушник, дернув за рукав своего соученика, не указал с благоговением на меня. Даже некоторые эталоны, не питавшие почтения ни к кому из людей, избегали моего взгляда, говоря со мной. Меня это очень смущало – уж лучше было терпеть насмешки, чем преклонение.
Вскоре после этого Коллегия Главных Специалистов сделала меня правителем Ордена. Я тут же занялся восстановлением Пещер Легких Кораблей и примыкающих к ним разрушенных кварталов Города. Я послал роботов в горы за Уркелем добывать камень, и в двадцатый день средизимней весны мы заложили фундамент большого (грандиозного, как говорили некоторые) шпиля. С течением серых метельных дней игла из розового гранита поднималась над вновь отстроенными Крышечными Полями, над зданиями и башнями района, называвшегося теперь Новым Городом. Через год, по завершении строительства, шпиль должен был стать самым высоким во всем Городе. Я назвал его Шпилем Соли, к удивлению и испугу всех, кто полагал, что я питаю к своему отцу лютую ненависть.
За это время я предпринял маленькую экспедицию в опечатанную башню Хранителя Времени. Я взобрался на самый верх. Снег, налетевший в выбитые окна, засыпал все многочисленные часы Хранителя. Я откопал их и приказал убрать снег и снова застеклить окна, решив устроить в башне музей.
В ее подвале я обнаружил множество старинных книг, целую библиотеку замшелых томов в кожаных переплетах. По сей день я продолжаю читать их. По длинным каменным коридорам я спустился в самую глубину башни, заглянул в мою старую камеру и отворил тяжелую дверь смежной, где слагал свою предсмертную поэму воин-поэт. Там пахло пылью, пометом и смертью. Кости поэта дочиста обглодали гладыши, норами которых изобиловало подземелье. Красное кольцо воина и кольцо поэта блестели среди длинных пальцевых фаланг. Итак, воин-поэт все-таки умер. Я вспомнил, что пообещал отправить его останки на его родную планету. В сумятице войны я совсем о нем позабыл. Я приказал завернуть кости в его воинский плащ. Роботы выдолбили гроб из черного мрамора и отполировали его так, что камень стал как зеркало. Я сам вырезал на нем слова предсмертной поэмы Давуда. Послушники, видевшие, как я работаю в этом темном подземелье – а с ними, вероятно, и все остальные, – сочли, должно быть, что я спятил. Они смеялись надо мной, когда думали, что я их не слышу. Они еще не понимали, как это важно, чтобы умершим – всем умершим – воздавали почести и, что еще важнее, чтобы о них помнили.
Теперь я должен рассказать о слове, которое дал богине Калинде, и о чуде, которое побудило меня это слово сдержать. Вот оно, то чудо: на пятьдесят шестой день ложной зимы «Благословенная блудница» Бардо вышла из мультиплекса и совершила посадку в новых Пещерах Легких Кораблей. Крышечные Поля уже много дней как открылись для потока челноков с больших космических кораблей, что имело для Города жизненно важное значение. И для легких кораблей, странствовавших по галактике с тех самых пор, как объявили поиск. (Многие пилоты оставались верны поиску и не появлялись в Городе с того дня, как Хранитель его объявил. Их имена мы чтим превыше всех остальных.) «Благословенную блудницу» сперва приняли как раз за один из таких, вернувшихся из странствий, кораблей. Но один кадет-технарь, узнав ее большие вислые крылья и тупой нос, послал за мной послушника. Я встретил Бардо в Пещерах, но он пока отказывался объяснить чудо своего воскрешения.
– Бардо! – крикнул я, когда он вышел из кабины. – Как это возможно?
– Паренек! – Мы обнялись, и он, как обычно, принялся молотить меня по спине, такой же большой, плотный и реальный, как был всегда. Он плакал, не стесняясь, и большие слезы катились у него по щекам. – Паренек! Ей-богу, это здорово – вернуться домой!
– Рассказывай, что с тобой случилось. Ты один? Куда же подевалась Жюстина, позволь тебя спросить?
Он грустно улыбнулся, поддерживая толстый живот, и покачал головой. На висках и в бороде у него появилась легкая проседь – в остальном он остался таким же, как мне запомнилось.
– Позволю, все позволю, только не здесь. Умираю, как хочу пива. Пошли в Хофгартен.
И мы в ясный солнечный день, овеваемый теплым горным бризом, отправились пить пиво и виски. Мы сели за полированный стол в нашем любимом зале с видом на морские утесы. Внешние окна были открыты воздуху и солнечным лучам. Сидя на нашем месте у окна, мы пили и разговаривали.
– Ух, хорошо. – Бардо слизнул пену с усов и выпил еще. – Так вот, о Жюстине. Она в порядке. Отправилась на Лешуа навестить мать и заняться преподаванием в их элитной школе. В Город, как ни горестно, она больше не вернется.
Я пригубил виски, почти не находя в этом удовольствия. Оно отвлекало меня от одного важного вопроса, который я должен был задать Бардо.
– Давай-ка с самого начала. Как вам удалось выжить в том бою, упав на звезду?
– Хочешь знать, почему я еще жив? Все объясняется просто, дружище. Нас спасли. Это сделала Твердь – не знаю только, как. Только что мы падали на звезду, поджариваясь, как червяки – и вдруг освободились.
Он допил свое пиво и заказал еще. Его толстые щеки раскраснелись – не знаю уж, от пива или от смущения.
– А потом? – спросил я.
– А потом мы бросились наутек, клянусь Богом! Я знаю, что ты сейчас думаешь. Бардо – трус, вот что. Мы нашли маршрут обратно в туннели, а оттуда на Лешуа. Мы не могли больше оставаться вместе так, как раньше. Когданибудь я опишу, какой это ад – потерять себя в ком-то другом. Хранитель был прав. Нельзя двум пилотам летать на одном корабле. Ты, наверно, ненавидишь меня, паренек, за то, что я оказался таким трусом?
Все было как раз наоборот: я любил его за это.
– Я рад, что ты жив, вот и все, – сказал я.
Он не хотел больше рассказывать о Жюстине, и я сам рассказал ему о том, что случилось после боя. Он обрадовался, узнав о смерти Хранителя, и еще больше обрадовался тому, что Орденом теперь управляю я. Открытие, касающееся Старшей Эдцы, порадовало его уже меньше. Бардо, мой ни во что не верящий друг, проникся сильным недоверием к богам.
– Почему ты не пьешь свое виски? – спросил он, пристукнув рукой по столу. – Пей, паренек, а я расскажу тебе про Твердь и про то, что она со мной сделала. Она говорила со мной! Я, Бардо, принц Летнего Мира и будущий мастер-пилот, если, конечно. Главный Пилот сочтет меня достойным – я говорил с богиней и вернулся, чтобы рассказать об этом тебе!
Я взял мой стакан с виски и понюхал, но пить не стал – помешали воспоминания.
– Что же ты хочешь рассказать мне, Бардо?
Он рыгнул, и его лицо приняло кислое выражение. Он уже порядком набрался.
– Я сказал тебе не всю правду – прости. Богиня не говорила, что она меня спасла – она сказала, что создала меня. Вспомнила меня, клянусь Богом! Мы с Жюстиной были мертвы, сказала она, и наш красивый корабль погиб. Ох, горе! Вот что она сказала мне, паренек. Сказала, что вспомнила каждый атом, каждый синапс наших растреклятых тел и мозгов. И воссоздала меня из водорода, углеродных молекул и звездной пыли. Спасла меня от смерти. Это Воскресение, второй шанс, сказал она. Разве такое возможно?
– Не знаю.
– Возможно или нет? Бога ради, скажи, паренек!
Я отпил глоток виски и подержал янтарную жидкость на языке, прислушиваясь к разговору между ощущением и памятью, заключенной в каждой молекуле виски. Алкоголь и эфиры прожигали путь сквозь розовые бугорки в мою кровь. Вкус эфирных масел и будущих жгучих альдегидов напомнили мне планету Утрадес, где сорок лет назад произвели это виски. Я вдохнул запах ячменя, который поджаривается на торфяном огне, и запах бродящего ячменного сусла, дистиллируемого в золотой напиток памяти. Я глотнул и увидел человека, жнущего ячмень, его стальной серп, отражающий жесткий голубой свет утрадесского солнца. В зерне содержались атомы углерода, бесчисленные выдохи колонизировавших Утрадес людей. Частицы Старой Земли и ее желтого солнца, звездного водорода и кислорода, родившегося в далеком звездном пожаре, имени которого я не знал – древо памяти и бытия было бесконечным, и от мыслей о переплетении его ветвей кружилась голова. «Память обо всем заложена во всех вещах». Я закашлялся и выплюнул виски на стол. Капли покатились по навощенному дереву – осколочнику, нелегально вывезенному из лесов Алисалии давно умершим червячником. Да. Она, богиня, создала человека столь легко, как человек мог бы выстрогать деревянную куклу, памятную ему с детства.
«Боги творят благодаря сознанию; созидание – это все».
– Это возможно, – сказал я наконец.
– Вот горе-то. Хуже уже некуда. Информация не может быть безупречной – значит, Бардо уже не тот, что был. Кто же я в таком случае? И как я об этом узнаю?
Это была старая проблема и старый страх. Но передо мной, воплощенная в душе и теле моего друга, сидела возможность нового решения.
– Ты тот, кто ты есть. Ты Бардо, мой лучший друг – этого довольно.
Капли пота выступили на его выпуклом лбу.
– А Мэллори Рингесс кто?
– Я тот, кто я есть.
Бардо облизнул свои красные губы, грохнул кружкой по столу, постучал по окну своим пилотским кольцом и сказал:
– Твердь сказала, что я должен доставить тебе весть, что я буду сразу и посланником, и посланием, чтоб ему лопнуть. Что это напомнит тебе о твоем обещании. Что она имела в виду?
– Я обещал вернуться к ней, Бардо.
– Зачем?
Я отодвинул от себя стакан – он почти без трения заскользил по мокрому столу.
– Это трудно объяснить, но я попытаюсь. Калинда была воином-поэтессой до того, как сделалась богиней. Поэты, ведя собственный поиск совершенного человека, давно уже исправили свои хромосомы. Хуже того – они выбросили все, что казалось им бесполезным, и в невежестве своем лишились самого главного. В этом их трагедия. Ни один воин-поэт, даже Калинда – особенно Калинда – не может вспомнить Эдду. Шепот, звучащий в нас, в них молчит.
– Вот горе-то.
– Калинда – Твердь – представляет собой нежелательное для Эльдрии явление: богиню, ставшую таковой, не прибегая к их мудрости.
Бардо высунулся в окно, чтобы глотнуть свежего воздуха, рыгнул и сказал:
– Но Твердь должна была знать, как раскодировать Эдау. Подумай обо всех этих пилотах, пропавших в ней. Обо мне, наконец. Если она сумела… если она действительно создала меня, она должна была прочесть мою ДНК от и до.
– Да, я думаю, что теперь она знает об Эдде все. Да только поздно уже, понимаешь? При всей своей мощи и великолепии она все-таки немного безумна.
– Не понимаю, хоть убей.
Я встал и отодвинул стул.
– Смотри, какой день хороший. Давай пройдемся по берегу.
Подвыпивший Бардо обхватил меня за плечи и так вывалился наружу. По ледяной тропинке между утесов мы спустились к берегу. Я рассказал ему о моих планах послать миссию в Экстр. Ее должны возглавить лучшие пилоты нашего Ордена. В ней будет участвовать много легких кораблей и один базовый с историками, программистами, механиками, эсхатологами и мнемониками – прежде всего мнемониками – на борту, с полным набором мастеров, представляющих каждую профессию Ордена. Мы цивилизуем Экстр, вернее, его дикое население, и отучим этих людей уничтожать звезды. Я покажу пилотам доказательство Гипотезы, и они обучат варваров всем тонкостям математики. А мастера с базового корабля заложат где-нибудь там, в руинах Экстра, новую Академию или даже много Академий для подготовки новых пилотов. Учить, странствовать, просвещать, закладывать начало – вот девиз нашего Ордена, и он всегда останется таким, как бы далеко ни залетали наши пилоты.
– Но ведь радиация Экстра продолжает распространяться, так или нет? Как быть со звездой Меррипен и всеми остальными? Их свет постепенно сожжет всю галактику.
– Нет, мы не позволим этому будущему осуществиться. – Я закрыл глаза и продолжил: – Мы создадим новые формы жизни, питающиеся светом – частично бактерии, частично компьютеры, частично фотоэлементы. Эти новые организмы, расселившись по всей галактике, будут поглощать фотоны и экранировать. Они станут частью экологии. Ты не можешь себе представить размеров этого интеллекта.
– А потом?
Стоя на берегу, мы смотрели на Зунд. Пахло солью и старым снегом, пахло густыми, вечными ферментами моря. Лед почти полностью растаял, и волны накатывали на скалистый берег. Над нами с криками вились две полярных чайки. Они то устремлялись вниз, то скользили, едва касаясь крылом пенных гребней на отмелях.
– Когда-нибудь, даже очень скоро, я покину Город. Отправлюсь к ней, как обещал. И буду расти. Это будет союз своего рода. Брак, если хочешь. Если я захочу. Она одинока, слегка помешана – отсюда необходимость в новой информационной экологии. Мы создадим нечто новое, нечто такое, чего еще не было в этой вселенной. Будет и еще кое-что помимо этого. Будет – это трудно объяснить – то становление, которого я так долго боялся, а теперь уже не боюсь. Я понял это благодаря тебе. Мы то, что мы есть. Каждый мужчина, каждая женщина, ребенок, тюлень, камень, мысль, теорема, комок грязи – все создается и все сохраняется. Именно этим занимаются боги, Бардо.
Мы пробирались по скалам и песку, стараясь не наступать на красивые камешки и ракушки, вынесенные на берег приливом. Бардо, пыхтя и отдуваясь, уперся руками в колени. Он сделался бледным, как аутист, и я подумал, что его сейчас стошнит.
– Ох, мой бедный желудок, – простонал он. – Слишком много пива я выхлебал. – Затем он вспомнил о своем достоинстве, выпрямился и оперся мне на плечо. Знакомая тяжесть действовала успокаивающе.
Бросив скорбный взгляд на море, Бардо повернулся и уставился на меня.
– Ну надо же! Снаружи – пещерный человек, внутри – на две трети бог.
«Будь щедр, будь сострадателен», – говорила мне Катарина.
– Нет бога кроме Бога, и все мы часть целого, – сказал я. Помолчав немного, Бардо подобрал камень и пустил его по воде. Мальчишками мы часто этим занимались.
– Три раза, – сказал он и сунул мне в руку мокрый, вывалянный в песке голыш. – Может, у тебя больше выйдет?
– Нет, Бардо. Я пришел сюда не затем, чтобы бросать камни.
Сердито вспыхнув, он подобрал розовую витую ракушку, швырнул ее о скалу и разбил.
– Ну почему ты всегда делаешь то, что делать не полагается? Есть у тебя ум или нет? Ох ты, горе!
– Мне очень жаль.
– Где уж там: ты бог, а боги не знают сожаления.
– Я твой друг.
Он окинул взглядом берег: двух послушников, стоящих, держась за руки, у воды, и тюленей на камне. Их было девять, серых тюленей, и они грелись на солнышке, задрав черные носы к небу. Бардо понизил голос, как бы собираясь сообщить мне какой-то секрет, и сказал, дыша на меня кисло-сладким пивным запахом:
– Ну уж нет, паренек. Разве может человек дружить с богом, будь он неладен?
Я посмотрел на волны, плещущие о берег. В воде играли краски, недоступные Бардо.
– Чтобы жить, я умираю, – прошептал я.
Мне показалось, что Бардо меня не расслышал: он подкидывал ногой мокрый песок, опустив подбородок к груди, и не смотрел на меня. Потом он сказал:
– Ты никогда не умрешь – разве не это напророчила тебе Катарина? – Он разгладил камелайку у себя на животе. – Но я, Бардо, только человек, и если я не подкреплю сейчас свое бренное тело, то высохну и умру. Забудем на время об этой горестной эсхатологии и поедим, как люди, пока не растаяли вконец. Я собираюсь вернуться в Хофгартен и заказать еду, а потом не просто выпить, но напиться вусмерть. Идешь со мной, паренек?
«В конечном счете мы сами выбираем свое будущее», – говорят скраеры.
– Может быть, позже. Я еще не успел проголодаться.
Он пожал плечами, отвесил мне легкий формальный поклон и пошел обратно к Хофгартену. Я смотрел, как мой лучший друг – посланец богов, чудо творения – карабкается по черным, изваянным морем скалам.
Созидание – это все; теперь я знаю, что это правда. Калинда послала Бардо, чтобы напомнить мне об этом, она создала его по памяти, и я когда-нибудь тоже этому научусь. Когда-нибудь я вспомню Катарину и верну ее к жизни, ибо дело богов – творить. Это дело всех нас. Все мы – боги, люди и черви в желудке у птицы – каждый своей мыслью, чувством и действием, какими бы обыденными и низменными они ни были, творим ту странную вселенную, в которой живем. В конце времен, когда вселенная пробудится и осознает себя, прошлое будет вспомнено, и каждый, испытывавший муку жизни, будет спасен. Это моя надежда, моя мечта, мой план.
Я стоял на берегу холодного океана и мечтал. Сжав в руке гладкий камешек, который дал мне Бардо, я пустил его по воде. Он подпрыгнул четыре раза, чуть-чуть задержавшись между третьим и четвертым, и за этот промежуток времени вращающаяся линза галактики пронесла меня по космосу на тысячу миль. Галактика продолжала свой путь от точки создания, и я летел сквозь вселенную. Летел и продолжаю лететь – не в бездну отчаяния, а в пространство, где нет числа ярким звездам и поиск жизни, если не ее секрета, продолжается.
Я верю, что каждый свой миг мы умираем и одновременно возрождаемся для безграничных возможностей. В тот прекрасный день ложной зимы я заплатил окончательную цену и повернулся лицом к ветру. Соленый душ, как всегда, вызвал у меня голод. Я пошел по берегу к своему мерцающему Городу, чтобы пообедать с Бардо и насладиться напоследок своим чудесным человеческим бытием.
СЛОМАННЫЙ БОГ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ДАНЛО ДИКИЙ
Глава I ШАЙДА
Все, что не халла, то шайда. Шайда для человека убивать то, что он есть не может. Убить животное имакла – тоже шайда. Шайда, когда человек умирает раньше срока, И шайда, когда он не умирает вовремя. Шайда – путь человека, убивающего других людей. Шайда – крик мира, потерявшего душу. Из девакийской «Песни Жизни»Это история моего сына, Данло ви Соли Рингесса. Со временем я узнал его очень близко, хотя его (и моя) судьба распорядилась так, что вырос он дикарем, оторванным от своих истинных сородичей. До своего появления в Городе он почти ничего не знал о своем происхождении и о цивилизованном образе жизни – не знал даже, что он хомо сапиенс. Он считал себя алалоем, представителем искусственно выведенной расы, живущей на покрытых льдом островах к западу от Города. Его соплеменники носили на себе следы давних генетических исправлений: у них были выступающие надбровные дуги и глубоко посаженные глаза. Алалои – мощные, волосатые, крепкие и жизнеспособные, одевались в шкуры убитых животных и во многом были мудрее современного человека. Долгое время Данло жил в одном мире с ними – в мире, где поутру отправляются на охоту в морозный лес, где снег и ветер чисты, а в небе кружат белые стаи морских птиц, в разнообразном и обильном мире. Прежде всего это был мир халла – этим словом алалои обозначают гармонию и красоту жизни. Трагедия Данло состояла в том, что ему рано пришлось узнать, насколько хрупка она, халла. Не будь этого, он, возможно, никогда не вернулся бы в свой родной город, к своему отцу. И если бы он не совершил путешествия, которое должен проделать каждый человек, судьба его маленького холодного мира и вселенной, куда этот мир входит, могла бы обернуться совсем по-иному.
Данло рос и мужал в алалойском племени деваки, жившем на гористом острове Квейткель. Этот остров служил деваки домом несчетное число поколений, и никто уже не помнил, что их предки несколько тысячелетий назад бежали из руин цивилизации Старой Земли. Никто не помнил долгого путешествия сквозь холодную мерцающую линзу галактики и не помнил, что огни на небе называются звездами. Никто не знал, что на Языке цивилизованных людей их планета именуется Ледопад. Никто из деваки или из других племен не помнил этого потому, что их предки стремились забыть шайду вселенной, обезумевшей от болезней и войн. Они хотели жить, как велит природа – в естественной гармонии с жизнью. Поэтому они изменили тело и впечатали в мозг знания и навыки древнейших обитателей Старой Земли, а после этого уничтожили свой серебристый космический корабль. Теперь, много тысяч лет спустя, женщины деваки собирали орехи бальдо и жарили их на кострах, а Мужчины охотились на мамонта, на шегшея и даже на Тотунью, белого медведя. Иногда, если море замерзало крепко-накрепко, Тотунья выходил на острова и сам охотился на них. Деваки, как все живые существа, знали холод и боль, рождение, радость и смерть. Не их ли пословица, старая, как пещера, в которой они жили, гласила, что смерть – левая рука жизни? Они хорошо знали почти все, что связано со смертью: крик Нунки-тюленя, пробитого копьем, погребальные причитания старух, жуткое молчание умершего ночью ребенка. Они знали естественную смерть, освобождающую место для новой жизни, но о напасти, которая приходит неведомо откуда и убивает даже самых сильных мужчин, об истинной сути шайды они не знали ничего.
Когда Данло было около четырнадцати лет, деваки поразила страшная болезнь, названная ими «медленным злом». В один из дней глубокой зимы все они, и мужчины и женщины, разом занемогли от загадочной горячки. Изо рта у больных шла пена, из ушей кровь, а затем их сковывал паралич. Во всем племени болезнь не тронула только Данло и еще одного человека по имени Трехпалый Соли. Им вдвоем пришлось охотиться, чтобы хоть как-то согреть больных в их снежных хижинах.
Данло и Трехпалый Соли любили своих братьев и сестер, как себя, и шесть дней трудились как одержимые, чтобы не дать своему племени уйти на ту сторону слишком скоро. Но заболевших было восемьдесят восемь человек, а их только двое, и эта задача оказалась непосильной для них. Медленно, малопомалу – ибо алалои народ выносливый и упорный – племя деваки начало вымирать. Одна из женщин, Килейе, первая отправилась в далекий путь, за ней последовали мужчины, Вемило и Чокло, старая Лилуйе и много других. Скоро пещера наполнилась гниющими, ожидающими погребения телами.
Данло старался не обращать на них внимания, хотя для деваки забота о мертвых долг не менее важный, чем забота о живых. Все свои силы он отдавал уходу за своим приемным отцом Хайдаром и за Чандрой, единственной женщиной, которую знал как свою мать. Он заваривал кровяной чай и вливал эту густую теплую жидкость им в горло, втирал горячий тюлений жир в их лбы, молился за их души – он делал все, чтобы не дать им уйти, но безуспешно. Медленное зло в конце концов отняло жизнь и у них. Данло помолился, поплакал и вышел из пещеры, чтобы нарвать огнецветов им на могилу. Но он так обессилел, что свалился в сугроб и тут же уснул. Трехпалый Соли нашел его там чуть позже, занесенного свежим снегом.
– Данло, – сказал он, стряхивая сверкающий сореш с парки мальчика, – во лания-ти? Что с тобой?
– Я просто уснул, отец, – сказал Даняо. – Ми тулу лос ваморащу. Я очень устал. – Он протер глаза заснеженными рукавицами. Данло в свои тринадцать лет был выше, тоньше, изящнее всех своих соплеменников и, по правде сказать, совсем не походил на алалоя. Длинный нос и дерзкие скулы он взял у отца, а глаза у матери. Темно-синие, как жидкие сапфиры, они сияли даже теперь, когда он так устал. Почти в каждом городе Цивилизованных Миров его сочли бы красавцем, но Данло еще не доводилось видеть ни одного хомо сапиенс, а о себе он думал, что он не такой, как его собратья. Не то чтобы урод, просто не такой – как талло, подброшенная в ястребиное гнездо.
– Ты не должен спать в снегу, – сказал Соли, кряжистый и мускулистый, как большинство алалойских мужчин. Он тоже устал до предела. Его плечи ссутулились и взгляд стал отрешенным, но видно было, что он очень встревожен. – Только собаки спят в сугробе.
– Я хотел только нарвать цветов, отец. Не знаю, что такое со иной случилось.
– Ты мог бы уснуть надолго и больше не проснуться.
Соли поднял его на ноги. Они стояли около входа в пещеру.
В тридцати футах от них ездовые собаки двенадцати девакийских семей, привязанные к своим кольям, натягивали поводки и скулили, прося, чтобы им дали поесть. Данло уже не помнил, когда кормил их в последний раз. День близился к вечеру, и солнце на небе стояло низко. Холодный голубой воздух был чист, как силка – новый лед. Данло посмотрел на занесенную снегом долину. Лес уже заволокло зеленовато-серым сумраком – завтра можно будет поохотиться на шегшея, но сегодня собакам придется поголодать.
– Хайдар и Чандра ушли, – сказал Данло.
– Да. Они были последними.
– Хайдар и Чандра. – Данло вытер со лба талый снег и помолился за души своих приемных родителей: – Хайдар эт Чандра, ми ал аш ар и я ля шанти деваки…
– Шанти, шанти, – заверил Соли, почесав нос трехпалой рукой.
– Сания и Магира тоже ушли.
– Шанти.
– Ириша, Юкио и Джемму – все алашару.
– Шанти.
– И Рафаэль, и Чокло, и Аневай, и Ментина – все они отправились в великий путь.
– Да. Шанти.
– Все умерли.
– Да.
– Еще десять дней назад они были живы и цвели, даже старая Анала, а теперь…
– Не говори об этом. Слова только слова – от них нет пользы.
Данло снял рукавицы и надавил на глаза – горячая влага обожгла его холодные пальцы.
– Как же я устал. Благословенные деваки – целое племя, отец. Как это возможно?
Соли, не отвечая, обернулся лицом к северу.
Данло обратил взгляд вверх, на заостренную вершину Квейткеля. Огромная гора, сверкающий бог, одетый гранитом и льдом, смотрела на них сверху. Четыре тысячи лет назад первые деваки назвали этот остров в честь горы, стоящей посередине. Многие поколения предков Данло были похоронены здесь. Налетевший ветер закрутил волосы вокруг его головы, и он прикрыл глаза. От ветра пахло льдом, сосновой хвоей, солью и смертью.
– Квейткель, шанти, – прошептал Данло. Скоро ему придется похоронить свой народ на кладбище выше пещеры, и после этого на Квейткеле больше не будут хоронить деваки.
– Нас постигло несчастье, – сказал Соли, потирая свои широкие брови. – Да, несчастье.
– Я думаю, это была шайда. Шайда, когда столько людей умирает слишком скоро, да?
– Нет, это просто несчастье.
Данло убрал со лба волосы, хлещущие по глазам, – густые и черные, с рыжими нитями.
– В тех историях, что рассказывал Хайдар при горючих камнях, ни разу не говорилось, чтобы все племя уходило вот так, сразу. Я никогда не думал, что такое возможно. Никогда не думал. Откуда она пришла к нам, эта шайда? Что случилось с миром, если люди могут так умирать? «Шайда – крик мира, потерявшего душу». Почему мир кричит от шайды, отец?
Соли обнял его за плечи, погладил по голове, и Данло заплакал, зарывшись лицом в его холодные меха. Он плакал, пока внезапная мысль не отрезвила его. Ему было всего тринадцать лет, но у деваки тринадцатилетний мальчик – почти мужчина. Он посмотрел на Соли, в чьих льдисто-голубых глазах тоже стояли слезы.
– Почему мы, Соли? Почему медленное зло не поразило и нас тоже?
Соли потупился.
– Просто удача. Воля случая.
Жалость и боль в голосе Соли поставили Данло на грань отчаяния. Соли тоже приготовился к смерти – это и ребенку было ясно. Безумие и смерть стояли в его глазах, в его изможденном, сером лице. Ветер, дующий от леса над обледенелыми валунами, веял смертельным холодом, и Данло казалось, что сам он тоже умирает. Но он не мог позволить себе умереть, потому что слишком любил жизнь. Разве не шайда – умереть слишком рано? Разве шайда, которую он видел, не превысила меру его сил? Он подышал на замерзшие багровые пальцы и снова натянул рукавицы. Да, он должен жить, потому что ему еще не пора уходить, потому что он молод и полон жизни, потому что в этот самый миг он понял, что должен постичь тайну шайды.
Он посмотрел на пещеру, на черный проем в горе, где лежали его собратья.
– Странно, что медленное зло меня не тронуло, да? Может быть, оно испугалось моей дикости. Хайдар всегда говорил, что я дикий и шальной, потому что хочу запрячь нарты и поехать на восход. Говорил, что я наслушался твоих рассказов. Когда я был маленький…
– Ш-ш-ш. Не надо говорить так много.
– Но я должен спросить тебя, отец, спросить об одной вещи.
– О чем?
– Когда я был маленький, я хотел найти место, где спит Савель, откуда он встает утром, чтобы осветить мир. Хайдар говорил, что это шальные мысли. Скажи, отец, я должен знать: я и родился таким? Лицо у меня не такое, как у моих братьев, и все они были намного крепче и сильнее меня – мне кажется, они никогда не чувствовали холода. Почему на ту сторону ушли они, а не я?
– Это судьба. Слепая судьба.
Данло встревожили эти слова Соли. Он знал, что существует галия, мировая душа, и никто не может с уверенностью предугадать вила галия, намерения мировой души, но разве может мировая душа быть слепой? Нет, подумал он, слепыми могут быть только люди и животные (и даже сам Бог). Данло опять закрыл глаза, как учил его Хайдар, и вдохнул морозный воздух, чтобы прояснить свое внутреннее зрение. Он хотел увидеть вила галия, намерение мировой души, но не мог.
Перед ним была только тьма, черная, как неосвещенная пещера. Он открыл глаза и заморгал от холодных игл ветра. Может ли быть, чтобы Хайдар рассказывал ему и другим детям неправду обо всем – о зверях, и о зарождении мира, и о жизни? Может ли быть, что все его, Данло, знания оказались неверными? Возможно, только взрослым мужчинам дано увидеть, что намерения мировой души – шайда; возможно, именно это подразумевал Соли, говоря о слепой судьбе.
– Холодно, – сказал Соли, притоптывая ногами. – Очень холодно, и я устал.
Он вернулся в пещеру, и Данло последовал за ним. Он сам устал так, что все связки ныли и живот скручивало, будто он наелся плохого мяса. Всю его жизнь, сколько он себя помнил, вхождение в пещеру с холода означало тепло, уверенность и тихую радость. Но теперь ничто уже не будет прежним, и даже священные камни у входа – круглые глыбы белого гранита, положенные здесь предками, – больше не приносили утешения, Сама пещера осталась такой же, как тысячи лет назад, – пузырь в застывшей лаве сбоку горы, природный храм со стенами из блестящего обсидиана, с каменными подвесками на потолке, полный глубокой тишины.
Но теперь она показалась Данло слишком уж тихой и слишком светлой. Пока он спал в сугробе, Соли собрал факелы из костяного дерева и разместил их через каждые пятьдесят футов на стенах пещеры. Они заливали светом все скальное помещение; оранжевые и рубиновые блики, освещая изображения зверей на стенах, проникали в самую глубину темного чрева пещеры, где пол сходился с потолком. Пахло сладким дымом, и свет был так ярок, что, казалось, источал собственный аромат. Но позади запахов дерева, меха и снега Данло стал различать нечто другое. Все вокруг него, каждый камень и каждая щель, разили смертью. Даже дыша ртом и временами сдерживая дыхание, он не мог избавиться от этого смрада. Мертвые тела были повсюду. На утоптанном снеговом полу лежали в беспорядке его братья и сестры – груда скрюченных рук, волос, мехов, гниющего мяса, густых черных бород и мертвых глаз. Они напоминали Данло загнанное, свалившееся с утеса стадо шегшеев. До погребения их можно было, бы оставить в снежных хижинах, но Соли решил перенести их сюда. В хижинах, пятнадцати куполах из снеговых кирпичей, разбросанных по всей пещере, было слишком тепло. Собаки снаружи выли, обезумев от голода и запаха мертвечины. Соли вытаскивал трупы, один за другим, на середину пещеры, чтобы они замерзли, и Данло боялся, как бы он не забыл случайно когонибудь. Он поделился с Соли своей тревогой, и тот быстро пересчитал тела: их было восемьдесят восемь, все племя деваки. Данло казалось неправильным считать их, применяя бездушные цифры к людям, которые еще совсем недавно дышали этим воздухом и ходили по сверкающим ледяным полям этого мира. Каждый из них обладал именем (кроме, конечно, младенцев и совсем маленьких детей, известных просто как «сын Чокло» или «вторая дочь Ментины»). Данло знал их всех, поэтому он стал над умершими и начал перечислять их имена.
– Сания, – говорил он, – Юкио, Чокло, Джемму… – Под конец его голос пресекся, и он перешел на шепот, а потом совсем замолчал, как Соли, стоящий с ним рядом. Он не мог видеть лица всех, кого называл по именам. Некоторые лежали лицом вниз, младенцев прикрывали тела матерей. Данло обошел всех, он искал человека, которого звал своим отцом. Хайдар лежал рядом с Чандрой, усыновившей Данло сразу же после рождения. Тут же лежали Килейе, Чокло, старая Лилуйе и другие члены семьи. Хайдар при своем небольшом росте был очень крепок и мускулист. Вспоминая его, всегда терпеливого, изобретательного и доброго, Данло не мог понять, почему такой человек должен был умереть. Теперь, когда анима покинула его тело, Хайдар стал как-то меньше, будто съежился. Данло стал на колени между ним и Чандрой. Вытянутая рука Хайдара покоилась на лбу жены. Данло взял ее в свои. В этой огромной руке не было больше ни силы, ни жизни. Холодное мясо, которое скоро застынет, как лед. Лицо Чандры тоже было холодным, и на волосах за ушами засохла бледная кровь. Самая свежая, вытекшая из Чандры в час ее смерти, только начинала замерзать. Данло убрал густые пряди со лба и заглянул в ее красивые карие глаза, открытые и затвердевшие, как камни. В них не осталось ничего – ни радости, ни света, ни боли. В смерти Данло больше всего поражало то, как быстро боль уходит из тела вместе с анимой. Он потрогал холодный лоб Хайдара и зажмурился от накипающих заново слез. Ему хотелось задать Хайдару один простой вопрос: почему, если смерть приносит покой и уносит боль, все живое предпочитает жизнь смерти?
– Данло, надо подморозить нарты, – мягко сказал стоящий над ним Соли.
– Не сейчас. Еще немного.
– Пожалуйста, помоги мне – у нас впереди много дел.
– Нет. – Сидя на полу, Данло закрыл глаза Хайдару и Чандре. – Хайдар, алашария ля шанти, – сказал он. – Чандра, матерь моя, ступай с миром.
– Успокойся. – Соли взъерошил волосы Данло. – У нас еще будет время, чтобы помолиться.
– Нет.
– Данло!
– Нет!
Соли вздохнул, глядя в глубину пещеры, где свет отражался от блестящих черных стен.
– Нарты надо подморозить, – тихим, измученным голосом сказал он. – Выходи ко мне, когда закончишь, и будем хоронить деваки.
Они начали похоронный обряд в тот же вечер. Быстро, как могли, они раздевали мертвых донага и натирали их тюленьим жиром с головы до пят. Холоден путь на ту сторону дня, и жир нужен, чтобы предохранить умерших от холода. Потом тела грузили на нарты и везли в, гору, на кладбище. Это был тяжкий и горестный труд. Некоторые женщины, умершие несколько дней назад, потемнели и стали мягкими, как гнилой кровоплод. Было бы легче вытащить все трупы наружу и уложить в снег, они бы там быстро замерзли. Но Данло и Соли и без того приходилось постоянно подкладывать хворост в костры у входа, чтобы отогнать медведей и волков, которые водились в лесу. Ездовые собаки знали, что такое огонь, и почти не боялись его. Через некоторое время Данло и Соли решили посвятить пару дней охоте на щегшея, а потом уж похоронить остальных покойников. Большим, белым, мохнатым животным предстояло умереть и быть разделанными на мясо, иначе голодные собаки могли перегрызть поводки и потревожить мертвых в пещере. Добыв мясо, Соли и Данло продолжили свою работу. Они носили покойников, одного за другим, на ледяное, безлесое кладбище и укладывали их головой на северТела заваливали камнями. Они воздвигали много каменных пирамид для защиты мертвых от диких зверей, ибо все живое должно вернуться в землю, из которой вышло. На это у них ушло десять дней. У пещеры большие камни попадались редко, поэтому приходилось запрягать собак и ездить в лес, к ручью, где было много гладких, круглых валунов. Они "делали много таких ездок туда и обратно, а закончив свой труд, нарвали на кустах анды рыжие и красные-огнецветы, чтобы украсить могилы. Пришло время молитвы. Они молились, пока не охрипли, и слезы замерзали у них на щеках. Они молились далеко за полночь, пока холод, идущий с моря, не пробрал их до костей.
– Ми алашария, – сказал Данло в последний раз и повернулся к Соли. – Теперь все, да?
Они направились вниз мимо темных могил, через сугробы и деревья. На небе светили звезды, и лес стоял весь в снегу.
Двое спустились к ручью и поставили там себе маленькую снежную хижину. Никогда больше не будут они ночевать в пещере.
– Что будем делать теперь? – спросил Данло.
– Завтра снова пойдем на охоту. Будем охотиться, есть и молиться.
Данло помолчал, глядя на хижину, которой, возможно, предстояло стать их пристанищем на много ночей, и спросил:
– А что же потом, отец?
Они проползли в хижину по туннелю, темному и холодному, едва позволявшему Соли протиснуться внутрь. Сама хижина была попросторнее, но ни один из них не мог встать в ней во весь рост, не проломив головой ледяной потолок. Данло двигался в полутьме осторожно, чтобы не порушить хрупкие стенки. Он разложил свои спальные меха на лежанке из плотно утоптанного снега. Соли подложил тюленьей ворвани в горючий камень, выдолбленную из камня чашу, где всегда, хотя и слабо, теплился огонек. Ворвань растаяла и разгорелась, и жемчужное пламя поплыло по темному маслу. Скоро круглые стены хижины озарились теплым желтым светом.
– Что потом, говоришь? – проговорил Соли и поставил на огонь воду в глиняном горшочке, чтобы попить перед сном кровяного чаю, как он привык.
Данло думал, что Соли странный человек, такой же шальной в душе, как он сам – вернее, каким он, Данло, будет, когда станет мужчиной. Это роднило их. Разве прапрадед Соли не покинул их племя несколько поколений назад, чтобы отправиться в южные льды? Разве Соли и его семья, из которой все давно уже умерли, не вернулись со сказочных Благословенных Островов, чтобы рассказать о теплых краях, где с небес вместо снега падает вода? Говорили, что Соли ездил также на восток и добрался до Небывалого Города, где люди-тени живут в высоких, как горы, каменных хижинах. Вопрос о том, насколько правдивы эти истории, занимал Данло не менее, чем те странные цифры и фигуры, которым учил его Соли. Да, Соли – загадочный, шальной человек, и Данло вдруг пришла в голову поразительная мысль: а не потому ли медленное зло пощадило его?
Данло зачерпнул из кожаного меха замерзшую тюленью кровь, положил в горшок ее темные слипшиеся кристаллы и сказал:
– Нам придется поехать на запад, к Савельсалии или Рильрило, верно? У нас много родичей среди патвинов, как я слыШал. Или к блорунам – какое из племен, по-твоему, примет нас лучше, отец?
Он чувствовал себя неловко оттого, что говорил так много, ведь мальчику не подобает распускать язык в присутствии мужчины. Но он боялся будущего и притом, если быть честным, всегда любил поговорить. Особенно с Соли – но если Данло не заговаривал первый, тот всегда молчал, будто каменный.
Он и теперь молчал долго и наконец ответил:
– Ехать на запад было бы неразумно. – Соли хлебнул кровяного чая. Пар из чашки застилал ему глаза, и они казались еще более загадочными, чем обычно.
– Как же нам тогда быть?
– Мы могли бы остаться здесь, на Квейткеле. Это наш дом.
Данло поднес руку к глазам и проглотил комок, застрявший в горле, словно кусок мяса.
– Как же мы можем остаться, отец? У нас нет больше женщин, чтобы шить нам одежду, и девочек, на которых со временем мы могли бы жениться. Здесь больше нет жизни – как же мы можем остаться?
Соли молча пил свой чай, и Данло заговорил снова:
– Ведь нехорошо было бы позволить жизни угаснуть, да? Состариться, никого не родив? Позволить, чтобы все совсем кончилось – ведь это шайда?
– Да, жизнь – шайда, – произнес Соли.
От того, как Соли смотрел в свою чашку, Данло стало больно внутри, там, где печень. Может быть, Соли втайне винит его за то, что он, Данло, навлек шайду на их племя? Возможно ли такое? Не навлечет ли он, со своим странным лицом и своей чуждостью, медленное зло также и на патвинов? Данло устыдился своих мыслей, и ему стало горячо в груди и за глазами. Он попытался продолжить разговор, но голос изменил ему.
Соли помешал теплый чай указательным пальцем. Два соседних у него были отрезаны по белые, блестящие костяшки.
– На востоке, – сказал он наконец, – стоит Небывалый Город. Его еще называют Город Света… или Невернес. Мы можем поехать туда.
Данло сидел сгорбившись в своих мехах, уставший, что называется, до смерти, но сразу встрепенулся, услышав о сказочном Небывалом Городе. Сердце у него забилось, точно он вышел с копьем против бегущего на него шегшея.
– Небывалый Город? – выпрямившись, повторил он. – Так ты правда там был? Правда, что там живут люди-тени? Люди, которые никогда не рождались и никогда не умирают?
– Все когда-нибудь умирают, – тихо промолвил Соли. – Но в Небывалом Городе есть люди, которые живут почти вечно.
По правде говоря, Соли знал о Небывалом Городе все, поскольку провел в нем немалую часть своей жизни. И о Данло он тоже все знал. Он знал, что настоящие родители Данло – это Катарина-скраер и Мэллори Рингесс, тоже когда-то жившие в Городе. Он знал это, потому что приходился Данло родным дедом. Но он не стал рассказывать Данло об этом, а хлебнул еще чаю и сказал:
– Есть кое-что, что тебе нужно знать. Хайдар собирался сказать тебе об этом на будущий год, когда ты станешь мужчиной, но Хайдар ушел, и. сказать больше некому, кроме меня.
Данло слушал, как воет ветер за стенами хижины. Хайдар учил его терпению, и он мог быть терпеливым, когда надо, даже когда ветер выл тонко и отчаянно и терпение сохранять было трудно. Данло смотрел, как Соли пьет свой чай, и чувствовал уверенность, что сейчас ему откроется нечто бесконечно важное.
– Хайдар и Чандра, – выговорил наконец Соли, – не твои родные отец и мать. Твои настоящие родители были из Небывалого Города и пришли в племя пятнадцать лет назад. Твоя мать умерла, рожая тебя, и Хайдар с Чандрой тебя усыновили.
Вот почему ты не такой, как твои братья и сестры. В Небывалом Городе живет очень много людей, похожих на тебя.
У Данло в горле так саднило, что он почти не мог говорить.
Он потер глаза и повторил:
– Похожих на меня?
– Да. Это не шайда – иметь такое лицо, как у тебя, и ты не навлекал шайды на наш народ.
Объяснение Соли умерило стыд Данло, который он испытывал из-за того, что остался жив, но вызвало сотню новых вопросов.
– Но почему мои родители приехали на Квейткель? И почему я не родился деваки, как все? Почему?
– Ты ничего не помнишь?
Данло закрыл слезящиеся от ветра глаза. Да, он помнил. У него была превосходная, замечательная в своем роде память.
Он унаследовал образную память своей матери: закрыв глаза, он мог представить себе четко и в красках почти все события своей жизни. Однажды, две зимы назад, он вопреки предостережениям Хайдара отправился один охотиться на шелкобрюха, и кабан, углядев его в роще молодых осколочных деревьев, напал на него и распорол ногу – Данло даже не успел поднять копье. Ему посчастливилось остаться в живых, но чаще всего он вспоминал не эту свою удачу, а то, как искусно Чандра работала иглой, зашивая его рану. Он видел костяную иглу, пронзающую окровавленную, туго натянутую кожу, видел каждый стежок и каждый узел. В нем жила целая вселенная таких ярких воспоминаний, но первые четыре года своей жизни он почему-то помнил очень плохо. От них остался только смутный образ человека с пронзительными голубыми глазами и печальным лицом. Данло никак не удавалось увидеть его ясно, как все прочие картинки.
Он открыл глаза, поймал на себе взгляд Соли; и закутал в мех свои голые плечи.
– Какой он был, мой отец? Ты знал его? И мать тоже? Мою родную мать?
Соли допил остаток чая и налил себе еще.
– Твой отец был похож на тебя. – Лицо Соли стало таким, как будто он прислушивался к какому-то далекому звуку. – Такой же длинный нос, и волосы он никогда не причесывал. И такой же шальной. Но глаза у тебя материнские. Она видела все очень ясно, твоя мать.
– Ты должен был хорошо их знать, раз они жили в племени. И Хайдар тоже.
Данло снова закрыл глаза и попытался отвлечься от ветра, свистящего тут же за снежной стенкой у его головы. Внутри у него жили другие звуки, другие шепоты. Он помнил, как странно Чокло и другие мужчины порой посматривали на него, как понижали голоса, когда он заставал их в каком-нибудь темном углу пещеры. Ему казалось, что в его отсутствие все только и говорят, что о нем. Помнил он и другое, страшное: однажды он подслушал разговор Чандры и Айаме о сатинке, ведьме, которая творила зло и несла шайду своему народу. Тогда он подумал, что этот рассказ относится к сон-времени, времени предков, вечному, незыблемому времени, заменяющему деваки историю и состояние транса. Возможно, он заблуждался. Возможно, у них в племени была настоящая сатинка, и это она околдовала его родных отца и мать.
– Да, Хайдар знал твоих родителей, – признал Соли.
– Как же их звали? И почему он не рассказывал мне о них?
– Он рассказал бы все при посвящении тебя в мужчины. В этой истории есть вещи, которых мальчик не должен знать.
– Я уже почти взрослый. – Лицо Данло было одновременно открытым и страдающим, невинным и твердым. – Теперь, когда Хайдар умер, ты должен все рассказать мне.
– Но ты еще не мужчина.
Данло провел своими длинными ногтями по меховому одеялу, соскабливая иней. Он старался разглядеть свое отражение в подернутой влагой стене, но видел только тень, очертания лица я буйной гривы черных волос.
– Почти мужчина.
– Ты станешь им будущей глубокой зимой, когда пройдешь посвящение. А теперь пора спать. Завтра пойдем на охоту, не то мы умрем с голоду и последуем за нашим племенем на ту сторону дня.
Данло задумался. Ум его, острый от природы, стал еще острее благодаря тайной науке Соли. Сколько Данло себя помнил, Соли всегда уводил его в лес и там чертил на снегу разные фигуры. Он учил Данло геометрии и рассказывал ему о диковинах, которые называл сферами, и странными аттракторами, и бесконечностью. Учил, как доказывать теоремы, учил топологии, а главное – той четкой логике, которой подчиняется вся вселенная чисел. Данло находил этот способ мышления странным и диким, однако любил вести с Соли логические споры.
Прикрыв рот рукой, чтобы скрыть улыбку, он спросил:
– Путешествие в Небывалый Город будет долгим и тяжелым, верно?
– Да. Очень тяжелым.
– Даже взрослый мужчина может не выдержать его – что, если его задерет Тотунья, или поразит холодное Дыхание Змея, или…
– Да, путешествие будет опасным, – прервал его Соли.
– Что, если мне придется искать Город одному? Вдруг медленное зло настигнет тебя там, на льду? Или люди-тени из Небывалого Города, не знающие, что такое халла, убьют тебя, чтобы съесть? Как я стану мужчиной, отец, если ты умрешь до моего посвящения?
Для Данло, как и для всякого алалойского мальчика, посвящение в мужчины было третьим по значению жизненным преображением и таинством, из которых два первых – это рождение и смерть.
Соли со вздохом потер виски. Он очень устал, но не мог не признать, что Данло рассуждает логично и что придется посвятить его в мужчины на год раньше срока. Он улыбнулся и спросил:
– Ты полагаешь, что уже готов, Данло? Ты совсем еще юн.
– Мне скоро будет четырнадцать.
– Совсем еще юн. Даже пятнадцатилетний может оказаться неготовым. Многие мальчики старше тебя не смогли стерпеть боль от ножа. А потом, после обрезания…
– Потом я должен узнать тайную мудрость, да? Песнь Предков?
– Потом начинается самое ужасное.
Данло понял, что Соли хочет напугать его, и улыбнулся, чтобы скрыть свой страх. В хижине, наполненной паром от чая и их слитного дыхания, стоял селура, влажный холод – не такой сильный, как белый, но все же лижущий кожу, как испытывающий жажду тюлень, и вызывающий легкую дрожь.
Данло зарылся в шкуры, стараясь согреться. Всю свою жизнь от старших мальчиков и молодых мужчин он слышал туманные рассказы о посвящении. Это все равно что умереть, уралашара, сказал однажды Чокло; это тоже переход, но не на ту сторону дня, а в новый таинственный мир, который ты открываешь внутри себя. Данло старался представить себе, как протекает такой переход, и в то же время пытался уснуть, но он был слишком полон жизнью и смертью, слишком полон собой. Он больше не мог унять одолевавшую его дрожь. Он не мог отделаться от чувства, что отныне его жизнь станет крайне опасной, как у человека, идущего над пропастью по снеговому мосту. Предвкушение этой опасности наполняло его мистическим трепетом, и он осознал вдруг, что любит темную, дикую часть самого себя так же, как любит жизнь. Ти-миура халла – следуй за своей любовью, следуй за своей судьбой, – не этим ли учением руководствовался его народ на протяжении ста поколений? Если он умрет во время своего перехода – умрет для себя самого или настоящей, кровавой и мучительной смертью, то это произойдет на пути к новой жизни, а большей халлы человек не может себе пожелать.
Дрожь прошла, и Данло поймал себя на том, что улыбается.
– Разве ужас – не левая рука судьбы? – сказал он. – Посвяти меня в мужчины завтра же, отец.
– Нет, завтра мы будем охотиться на шегшея. Будем охотиться, есть и спать, чтобы восстановить свои силы.
– А потом?
Соли почесал нос, глядя на него исподлобья.
– А потом, если у тебя достанет сил и отваги, ты станешь мужчиной.
На четвертый день в сумерки они надели лыжи и отправились к Зимней Оспине, холму, где мужчины деваки устраивали свои тайные обряды. Данло не позволялось говорить, и он шел за Соли молча. Скользя по снегу, он слушал лесные звуки: воркование гагар, досыта наевшихся ягод йау, цоканье гладышей, которые в своих норах предупреждали друг друга об опасности, посвист ветра в отяжелевших от снега ветвях. Странно было слышать ветер задолго до того, как тот обжигал щеки.
Данло слышал в нем хриплый голос Хайдара и голоса других предков. Но ветер – это только ветер, холодное и чистое дыхание мира. Данло не вошел еще в сон-время, где вой ветра и жалобы умирающей матери сливаются воедино. Ветер нес запахи морского льда и сосновой хвои, а вокруг смеркалось, и деревья теряли свои зеленые и красные цвета, и лес полнился силой морозной ночи и жизни.
Все так же молча они поднялись на отлогий склон Оспины.
Холм был безлесый и на верхушке совсем голый, словно облысевший старик. В снегу широким кругом торчали деревянные колья, увенчанные черепами разных зверей и птиц. Черепов было около сотни: огромная, с бивнями, голова Тувы-мамонта, и голова Нунки, и длинные вытянутые черепа снежной лисицы и волка. Они чередовались с множеством мелких, птичьих. Данло гузнавал Айей, талло, и Гунду, и Ракри, и Агиру, снежную сову. Он ни разу еще не видел такого дива, поскольку мальчики на Оспину не допускались. В сумерках круг серовато-белых черепов выглядел зловеще и устрашающе. Данло знал, что каждый мужчина после обрезания'Должен выбрать среди них своего доффеля, свое второе «я», животное, на которое он впредь не должен охотиться. Доффель будет руководить им и в сон-времени, и наяву, до конца его дней. Кроме этой общеизвестной истины, Данло почти ничего не знал о том, что ему предстоит.
Соли сбросил лыжи и ввел его в круг черепов. В середине возвышался помост из утоптанного снега.
– Когда мы начнем, ты должен будешь лечь лицом к звездам, – сказал Соли. Он пояснил, что обычно мальчик лежит на спинах четырех коленопреклоненных мужчин, но поскольку мужчин не осталось, придется лечь прямо на помост. Соли поджег тлеющей головней 'многочисленные кучи хвороста, и вокруг помоста вспыхнули десятки огней. Они были необходимы, чтобы не дать Данло замерзнуть насмерть.
– Начнем, – сказал Соля. Он разостлал на помосте белую шкуру шегшея и велел Данло раздеться. Настала ночь, и мириады звезд усеяли черноту неба. Данло лег навзничь, головой на восток, как требуется при всяком священном обряде, и устремил взор к звездам. Мускулы бедер, живота и груди напряглись под белой, как снег, кожей. Ему сразу стало холодно, несмотря на костры.
– Ты не должен шевелиться, и поворачивать голову, что бы ты ни услышал, – сказал ему Соли. – Ты не должен закрывать глаза, а прежде всего не должен кричать. Под страхом смерти, Данло.
Сказав это, Соли ушел, и Данло остался один под куполом звездного неба. Земля и небо, думал он, – это две половины халлы, вмещающей все живое. Он знал, что огни на небе – это глаза его предков, Древних Людей, которые этой ночью вышли посмотреть, как он становится мужчиной. Огней было много, очень много. Соли научил его считать, но Данло не хотел применять эту науку к Древним, ибо не подобает считать души умерших, словно камешки или ракушки на берегу.
Он смотрел на звезды и видел глаза своего отца и своих праотцов, и молился о том, чтобы не разорвать этот великий круг криками боли.
Через некоторое время он услышал звук, как будто кто-то постукивал одним камнем о другой. Правая сторона Данло знала, что этот пугающий звук, должно быть, производит Соли, нолевая начала сомневаться. Он не мог повернуть головы, и взоры Древних, казалось, лились на него, слепя его своим светом. Стук теперь слышался совсем близко и резал уши. Он не мог повернуть головы и боялся, что это Древние пришли испытать его страхом: Стук внезапно оборвался, и настала тишина. Данло ждал, не слыша ничего, кроме своего глубокого дыхания и грохота собственного сердца. Затем поднялся жуткий шорох и свист, которого он никогда прежде не слышал, словно самый воздух вокруг него рвался на куски. Это Древние пришли за тобой, шептала левая, сторона. Он не смел шевельнуться – иначе они поймут, что он просто испуганный мальчик. А правая сторона недоумевала, как может Соли производить такой звук. И Данло не смел шевельнуться, иначе Соли пришлось бы совершить страшное.
– Данло! – прогремел голос из мрака. – Данло-ми! – Это кричал не Соли, – это вообще не был голос человека. – Данло, дорона ти-лот! Мы требуем твоей крови!
Это был голос страшного зверя, неизвестного Данло. Он верещал, как талло, и ревел, как медведь. Данло трясло – то ли от страха, то ли от холода. На лбу у него, несмотря на мороз, каплями проступил пот, грудь и живот тоже вспотели. Зверь взревел снова, и Данло, лежа неподвижно, ждал, что тот сейчас разорвет его трепещущее горло. Голову он держал прямо, вжимая затылок в мех. Ему хотелось зажмурить глаза и закричать, но он не мог. Слепящие его огни вдруг исчезли – это зверь склонился над ним, загородив ночное небо. Не просто зверь, а Зверь, о котором рассказывали молодые мужчины: рогатый и с громадными зубами, заостренными, как у кита-касатки. Его загнутый клюв целил в лицо Данло, когти, как у снежного тигра, тянулись к животу и паху. Данло никогда еще не видел людей в масках, а если бы и видел, то левая сторона все равно вопила бы, что Зверь сейчас его разорвет. Данло лежал, не шевеля ни единым мускулом.
– Данло, мы требуем твоей крови! – снова проревел Зверь.
Чтобы жить, я умираю, произнес про себя Данло девакийскую молитву посвящения.
Как только он стал что-то понимать и смотреть со страхом и любопытством на то, что помещается между ног у голых взрослых мужчин, он знал, что этот миг настанет. Зверь нагнулся и схватил его за член холодными, острыми когтями.
Яички в мошонке съежились от страха и холода. Данло было очень страшно. Никогда еще он не знал такого скручивающего нутро страха, даже когда Хайдар заболел медленным злом и из ушей у него потекла кровь. Страх падал с неба, как холодный мертвый воздух, душил, забивал легкие. Данло боялся, что Зверь начнет терзать его, боялся боли, но еще больше боялся, что вскинется, как испуганный заяц, и попытается убежать. И если он сделает это, он умрет. Зверь убьет его за то, что он поддался страху. Эта мысль усилила страх до такой степени, что пот заструился у Данло по ребрам, впитываясь в мех. Задул ветер, пробирая его до костей, и Данло совсем отчаялся, чувствуя, что падает в черную бездонную ночь, откуда нет возврата. «Страх заменяет ребенку разум», – сказал Хайдар однажды, когда они заблудились на льду моря. Ожидая, когда Зверь начнет терзать его, Данло вдруг понял, что находится здесь именно для того, чтобы пережить этот страх – вернее, чтобы изжить какую-то часть себя, изжить детское представление о себе как об отдельном существе, испытывающем ужас перед миром. Все мужчины должны пройти через это, иначе они никогда не станут настоящими мужчинами. Зверь взревел так, что черепа на шестах задребезжали. Данло почувствовал, что тот срывает крайнюю плоть с его члена, и горячая боль обожгла его. Он стиснул челюсти так, что зубы едва не раскрошились, напряг мускулы до хруста в костях и на время лишился зрения. Но слух остался при нем, хотя лучше бы и от отказал: тогда Данло не слышал бы, как рвется его кожа. «Больно! – вопил он мысленно. – О Бог мой, как больно!» Огненная боль стреляла в живот и позвоночник; она пожирала Данло заживо, заполняя собой весь мир. Был миг, когда его тело превратилось в один больной нерв, входящий в переплетающуюся сеть всего живого: деревьев, звезд и волков, воющих в нижних долинах. Предсмертные вопли чуро, йаги и всех животных, которых он когда-либо убивал, рвались из его горла; Данло вспомнил историю о патвинском мальчике, умершем во время посвящения, и что-то кольнуло его ниже ребер, как будто ему пронзили печень копьем или когтем. В одно ослепительное мгновение перед ним пронеслись лица всех его соплеменников, молящих об избавлении от медленного зла.
Страдания людей, и животных, и всего сущего захлестывали его потоком раскаленной лавы. Его одолевало желание заорать, вскочить и убежать прочь. Но страх прошел – его вытеснила боль, через которую человек сознает, что он жив. Помимо боли существовала только смерть. Смерть – левая рука жизни, и Данло вдруг с изумительной ясностью увидел ее длинные холодные пальцы и морщинистое лицо. С одной стороны, смерть казалась жестокой и ужасной, как рука убийцы над колыбелью ребенка, с другой – знакомой и совсем не страшной, как линии на ладони отца. Когда-нибудь он непременно умрет, сейчас или десять тысяч ночей спустя – Данло почти чувствовал тот миг, когда свет уйдет из его глаз и присоединится к другим небесным огням. Он умирал уже теперь, под когтями Зверя, но, как ни странно, никогда еще не ощущал себя таким живым. Оставаясь неподвижным, он слышал, как свищет ветер в деревьях и над вершинами гор. Красная головка его члена, должно быть, теперь обнажилась – вот так и мужчина в нем должен сбросить кожицу счастливой детской уверенности и увидеть мир таким, как есть. Таков путь всякой жизни, шептал ему внутренний голос. Жизнь всегда существует бок о бок со смертью и постоянно сбрасывает с себя ее шелуху, чтобы возродиться заново.
Чтобы жить, я умираю, сказал он себе.
И в самой глубине его существа, несмотря на боль, пробился ключ чистой радости быть живым. В каком-то смысле он всегда будет жив вопреки убийственному холоду ветра, смертельным болезням и еще тысяче напастей, подстерегающих его.
– Данло! – рыкнул Зверь. – Кровь твоя красна, как у мужчины!
Данло продолжал лежать, глубоко дыша, пока Зверь делал насечки по всей длине его члена. Теперь он уже понимал, что это Соли делает надрезы и втирает в них красящие порошки. Надрезы сначала воспалятся, потом заживут, и член Данло станет таким же, как у всех алалойских мужчин: толстым и длинным, украшенным десятками зеленых и охристых шрамов.
– Готов ли ты, Данло?
Член обернули чем-то мягким, вроде перистого мха, и забинтовали нерпичьей кожей.
– Ты должен собраться с силами для путешествия, Данло. – Зверь стал над ним, держа что-то в своих окровавленных когтях. – Этот кусок мяса подкрепит тебя. Открой рот и проглоти его, не жуя.
Данло послушно разинул рот, как птенец, и Зверь положил ему на язык его крайнюю плоть. Данло конвульсивно глотнул, ощутив вкус свежей теплой крови.
– Данло, этот кусочек твоего детства оплодотворит тебя, как семя. Из ребенка вырастет мужчина. Готов ли ты стать им?
Данло глотнул еще раз, стараясь избавиться от тошнотворной солености собственной крови.
– Данло, ви Эльдрия сена! Ти ур-алашарет. Предки ждут! Настало время совершить переход.
Данло смотрел теперь спокойными, прояснившимися глазами и видел мириады огней, льющих свой свет на него.
– Ты можешь повернуть голову, Данло.
Данло моргнул, повернул ее и увидел над собой Соли, одетого, как обычно, в свою зимнюю парку. Страшный Зверь исчез.
– Молодцом, – сказал Соли.
Он помог Данло сесть и накинул на него чистую шкуру шегшея. Темная кровь пропитала белый мех внизу. Сквозь мерцающее пламя костров Данло смотрел на круг черепов.
Теперь ему предстояло выбрать своего доффеля. Соли мог помочь ему в этом, но свою вторую половину лучше было найти без посторонней помощи, одному.
– Ты хорошо видишь, Данло?
– Да.
Он парил на высоте шести тысяч футов над людьми и временем. Поворачивая голову в обе стороны, он видел множество вещей. Под ним простирались темные леса и освещенные звездами холмы его детства, а дальше, там, где изрезанный берег острова вдавался в океан, мерцали серебром уходящие в бесконечность морские льды. Ближе к себе он видел лицо Соли, изнуренное и бледное, как у смертельно больного. Через боль человек сознает жизнь, думал Данло. Его тело еще горело от боли, но дух уже начал свое путешествие в глубинный мир.
Данло понемногу начинал видеть себя таким, как есть. Все действа обряда посвящения должны были приготовить его к этому мгновению. Его ребяческое представление о себе самом, его старый образ мыслей – все разбилось вдребезги, как льдина под ударом каменного молота. Их сменила внезапная ясность, меткость красок, очертаний и смысла. Высоко над ним, в небе, бледно'гояубым огнем пылали звезды, бедра и живот покрывала густая красная кровь. Он снова посмотрел на круг черепов, белеющих во мраке. Каждый из этих черепов был его черепом: он только начинал постигать пути, связующие одну жизнь с другой. Но один череп словно мерцал под бдительными очами Древних, маня к себе его, Данло. Череп Агиры, снежной совы, самой мудрой и свирепой из всего животного царства.
Она превосходила всех своей дикостью и свободой, и не было существа, столь опасного для человеческого духа. По правде говоря, Данло боялся признать, что Агира его доффель, его второе «я» – ведь человек, духовно связанный с Агирой, рождается раз на десять поколений. Он смотрел, надеясь, что эта великолепная птица перестанет манить его, но под конец убедился, что Агира и правда его доффель. Это ей предстоит перевести его в неизведанный мир, где живет его глубинная суть.
Соли перехватил взгляд Данло, устремленный на маленький круглый череп Агиры. То, что Деваки удалось когда-то добьвдгэту птицу, само по еебе было чудом – ведь Агира самая редкая из всех птиц и не часто попадается на глаза охотникам.
– Ты уверен, Данло? – спросил Соли.
– Да. Агира, снежная сова.
– Взрослые мужчины называют эту птицу белой талло. И ты тоже должен звать ее так.
Всем, разумеется, было известно, что совы принадлежат к семейству талло, как и то, что Бог – это огромная талло, чье тело представляет собой всю вселенную. Но старейшины алалойских племен всегда спорили о том, какая это талло: серебристая, голубая или белая, которую дети называют снежной совой.
– Мой доффель – Агира, – сказал Данло.
– Хорошо. – И Соли, как по волшебству, извлек откудато заплесневелую кожаную сумку, набитую разными предметами. Порывшись в ней, он достал белое перо. – Это маховое перо белой талло, твоего доффеля.
Перо было белое, как снег, и распушенное по краям, чтобы глушить хлопанье крыльев Агиры. Она великолепная охотница и падает на добычу почти бесшумно. Маленькой костяной заколкой, которую дал ему Соли, Данло закрепил перо в своих длинных волосах. Соли запел, и перед Данло открылся мир нехоженых снежных полей. Данло вошел в сон-время, в альтйиранга митьина своего народа, ведомый болью, ужасом и своей новообретенной способностью побеждать этот ужас. Древние говорили с ним под пение Соли. Ему открывались новые знания и тайны, доступные только мужчине. Песнь Жизни, звучащая из уст Соли, представляла реальность в новом свете.
Это была символическая и смысловая система, объединяющая все сущее в мире в великом кругу халлы. Песнь насчитывала четыре тысячи девяносто шесть строк. Соли пел ее быстро, искажая мотив своим низким голосом. Он пел о том, как младший бог, Квейткель, сотворил мир из кусочков камня и льда, о свадьбе Квейткеля с Деваки и об их детях Елене, Рейне и Манве. Данло узнал, что в третье утро мира мудрая Агира подружилась с Манве и научила его летать, охотиться, совокупляться и делать многое другое. Манве и Агира – это Два Друга, древнейшие из всех Древних, и Данло, слушая Песнь Жизни, встретился с ними в сон-времени. Сон-время объединяло то, что есть теперь, будет потом и было всегда, но существовало только Теперь, в истинном времени, вечно создающем мир заново.
– Али вое Айей, – пел Соли. – Бог – это великая серебристая талло, чьи крылья простираются до самых концов вселенной.
Песнь Жизни дошла до шестьдесят четвертой строки. За три последующих дня Данло должен был заучить ее точно так, как пел Соли, чтобы когда-нибудь повторить ее своему сыну или молодому соплеменнику. Боль, лучшее из всех мнемонических средств, помогала ему запоминать каждую ноту и каждый протяжный звук – боль как нельзя лучше;лодготовила его разум и дух для запоминания.
– Все животные помнят… – пропел Соли, и его голос начал дрожать. – Все животные помнят первое утро мира. – Он умолк и стал тереть свой затылок, а лицо его стало серым, как старый тюлений жир. Облизнув губы, он запел дальше, уже с трудом.
Вскоре он перешел к первой из Двенадцати Загадок:
– Как поймать красивую птицу, не убив ее дух?
Данло ждал, что сейчас последует разгадка, но Соли застонал и схватился за живот.
– Что с тобой, отец? – спросил Данло. Он не хотел говорить, чувствуя, что слова могут вывести его из сон-времени.
Но Соли стал задыхаться, и надо было выяснить, что с ним такое. Теперь Данло знал дорогу и мог вернуться в сон-время всякий раз, когда понадобится.
– Дай я развяжу тебе капюшон – он слишком туго затянут.
Видно было, что Соли серьезно болен. На лбу у него выступил пот, из носа шла кровь, а глаза были как у вмерзшего в лед кита. Данло встал, и кровь, прихлынувшая к его израненному члену, причинила ему мучительную боль. Он помог Соли лечь на окровавленный помост, где только что расстался со своим детством, Алалоям ирония несвойственна, но Данло полностью ощутил мрачный юмор, заложенный в этой перемене ролей.
– Здоров ли ты, отец?
– Нет, – выдохнул Соли, – и не буду больше. – Он перевел дух и медленно произнес: – Слушай, Данло, ты должен знать. При посвящении один из мужчин должен изображать Зверя. Вот… маска. – Он с трудом перегнулся и достал из своей сумки маску, склеенную из костей, меха, зубов и перьев. Ею он потряс перед Данло. – Но Зверем быть тяжело. Если мальчик шевельнется или закричит, его нужно убить. Одной маски мало, чтобы стать Зверем. Для этого нужна помощь. Тот, кто будет Зверем, должен накануне посвящения съесть печень морского окуня. Она дает нездешнее зрение и страшную силу. Но есть ее опасно. Если сила слишком велика, она поглощает тебя.
Данло взял Соли за руку. Голый, в одной шегшеевой шкуре на плечах, он сильно замерз, но рука Соли была еще холоднее.
– Что я могу сделать? Неужели нет никакого средства? Заварить кровяной чай, чтобы придать тебе сил?
– Нет. Это не поможет.
– Тебе больно? Что мне сделать для тебя, отец?
– Я думаю… думаю, что Хайдар знал средство, но он ушел. Все мужчины ушли… и женщины тоже.
Данло моргнул, прогоняя боль из глаз, и увидел все очень ясно. На лице Соли, в его усталых, страдающих глазах, была только смерть. Скоро Соли уйдет на ту сторону, и помочь ему нельзя. Шайда для человека умереть слишком рано, но смерть Соли не могла быть шайдой – ясно было, что он умирает в свой срок.
– Ти-алашария, отец… и ты тоже. Почему, почему?
– Да. – Соли поднял руку к небу. – Звезды… надо сказать тебе о звездах.
Данло, глядя в морозное небо, закутался в шегшеевый мех, выдохнул длинную струю пара и сказал:
– Звезды – глаза Древних. Это даже ребенок знает.
– Нет, звезды… нечто иное.
– В Песни Жизни говорится о звездах?
Соли закашлялся – казалось, что он вот-вот снова начнет задыхаться.
– Да, Песнь Жизни… но есть и другие, кроме песни нашего народа. Звезды светят, как глаза, верно, но это всего лишь метафора. Символ вроде тех цифр, что мы с тобой чертили на снегу. Есть в звездах другое… о чем я должен сказать тебе.
– Говори, отец.
– Это трудно объяснить.
– Говори, прошу тебя.
Соли вздохнул и сказал:
– Каждая звезда – она как Савель, солнце. Горящий водород, дающий свет. Пятьсот миллиардов таких костров только в нашей галактике… а галактик много. Кто бы мог подумать, что во вселенной столько всего?
Данло прижал костяшки пальцев ко лбу. Он был сбит с толку, и его мутило. Однажды, когда ему было восемь, их с Хайдаром в море захватил моратет. Белое небо смешалось с белизной льда. Десять дней спустя он перестал понимать, где право и где лево, где верх и где низ. Теперь его кружил и путал духовный моратет.
– Я не понимаю.
– Звезды – это огни, горящие в космосе. В черном стылом море. Люди могут путешествовать от звезды к звезде в лодках, называемых легкими кораблями. Такие люди, мужчины и женщины, называются пилотами. Твой отец тоже был пилотом, Данло.
– Мой отец? Родной отец? Как его звали? Кто он, мой благословенный отец?
Но Соли, будто не слыша его, заговорил о вещах, недоступных пониманию Данло. Он говорил о чудесах галактики, о громадной черной дыре в ее середине и о ее гибнущей, пылающей части, именуемой Экстр. Люди, говорил он, научились взрывать звезды, превращая их в сверхновые, и в этот самый миг, когда они ведут свой разговор под этим гибнущим небом, десять тысяч световых сфер шлют свои лучи во все концы вселенной.
– Столько звезд. Столько света.
Данло не мог, конечно, знать, что когда-нибудь этот гибельный свет дойдет до его мира и убьет все растения и всех животных на поверхности Ледопада. Он знал только, что Соли умирает, и думал, что тот бредит,
– Скажи, кто мой отец? – повторил он.
Но Соли уже досматривал свои последние видения, и слова его утратили всякий смысл.
– Кольца. Кольца света. Кольца вечности. О… как больно, как больно.
Вполне возможно, он пытался сказать Данло, что он его дед, но не смог; губы его перестали шевелиться, посинели, и больше он не промолвил ни слова.
– Соли, Соли!
Соли снова начал задыхаться, а потом вовсе перестал дышать. Он лежал, устремив глаза к звездам, и Данло дивился тому, как быстро он умер.
– Соли, ми алашария ля шанти деваки.
Сколько уже раз читал он эту молитву? Сколько еще ему придется ее повторить?
Он закрыл Соли глаза и поцеловал их.
– Шанти, Соли, и пусть твой дух найдет путь на ту сторону.
Затем все, что случилось за последние дни, нахлынуло на него во всей своей огромности. Данло сбросил с себя мех и закричал, стоя голый под звездами:
– Нет! Нет! – Но некому было его услышать. Костры догорали, тускло мерцая в черноте ночи. Было очень холодно. Глядя на угасающие огни, Данло задрожал. – Нет, – прошептал он, и ветер унес шепот с его губ. Его раны болели так, что холод даже приносил облегчение, но по сравнению с душевной болью это было ничто. Как ему жить теперь, что делать дальше? Он обрезан, и часть его умерла, поэтому он не относится больше к онабара – детям, рожденным лишь однажды.
Однако он не завершил свой переход, остался неполным, словно копье без наконечника, и не может считаться диабара – дважды рожденным мужчиной. Зная, что лишь дважды рожденный, выслушавший всю Песнь Жизни, может быть полностью живым, Данло едва удерживался, чтобы не впасть в отчаяние.
В ту же ночь он похоронил Соли над пещерой вместе с остальными. Водрузив последний мерзлый камень на его могилу, Данло помолился:
– Соли, пела ур-падца, ми алашария, шанти. – А потом закрыл глаза руками и закричал: – О Агира, что же мне делать?
Он впал в сон-время, и ветер донес до него уханье снежной совы. Агира, его вторая половина, сидя высоко на серебристой ветке дерева йау за чертой заснеженного кладбища, искала его взглядом во тьме.
– Агира, Агира.
Сова повернула к нему круглую белую голову с черными, в оранжевом ободе глазами, шальными и бесконечно мудрыми.
– Данло, Данло. – Сова вновь отвела от него сверкнувшие звездным светом глаза, и Данло вдруг узрел часть круга халлы: мировая душа не хотела, чтобы он искал прибежища в племени патвинов или каком-то другом племени западных островов.
Нельзя, чтобы он принес шайду своим родичам и навлек на свой народ невыразимое горе. Как бы велика ни была его нужда узнать Песнь Жизни до конца, судьба его и будущность лежат не в той стороне.
Он должен отправиться на восток, в Небывалый Город – один.
Так или иначе он должен совершить это немыслимое путешествие в город, именуемый Невернес – а впоследствии и к звездам. Если звезды и вправду огни, горящие в ночи, то они тоже часть бескрайнего мира, которому присущая своя халла.
Он склонил голову перед Агирой и сказал:
– Ми алашарета. Шанти. – Так он помолился за ту часть себя, которая умерла этой ночью, а потом повернулся спиной к ветру и долго плакал.
Глава II ДАНЛО ДИКИЙ
Организм есть суть своей окружающей Среды.
Уолтер Винер, эколог Века ХолокостаК путешествию Данло готовился девять дней. Пять из них он провел в своей снежной хижине, оправляясь после обрезания и сетуя на каждый потраченный впустую час – он знал, что переезд через восточные льды будет трудным, долгим и опасным. Судя по рассказам Соли, Небывалый Город лежал в сорока днях пути от Квейткеля, если не больше. А поскольку шел уже 82-й день глубокой зимы, Данло не мог надеяться, что доберется туда раньше середины средизимней весны. Средизимняя же весна – наихудшее время для путешествия. Кто может знать, когда задует с севера свирепая сарсара, Дыхание Змея, предвещая многодневную метель? Если бури задержат его в пути, он может оказаться на Штарнбергерзее, когда горячее солнце ложной зимы начнет растапливать лед. Тогда и он, и его собаки погибнут. Нет, он должен попасть в Город задолго до этого.
И Данло, как только счел, что уже поправился, отправился охотиться на шегшея. Ходьба на лыжах стала теперь очень болезненной, поскольку член на каждом шагу терся о штаны, а мочиться было сущим мучением: мороз обжигал обнажившуюся красную головку. Но Данло продолжал охотиться, потому что мяса требовалось много. Ловить рыбу в проруби было бы легче, но оказалось, что палтус в этом году плохо берет.
Мясо и скудный запас ворвани Данло разделил на порции, кровь закупорил в водонепроницаемые кожаные мехи, забрал из пещеры заготовленные на зиму орехи бальдо. Все это он погрузил на нарты. В поклажу входили также горючий камень, спальные меха, мешочек с кремнями, медвежье копье и, само собой, длинный зазубренный гарпун из китовой кости. Больше собаки увезти не могли. В море, когда у них кончится еда, он сможет поохотиться на тюленя.
В утро отъезда ему пришлось принять первое из трудных решений: как быть с собаками? Для упряжки ему понадобится только семь: Води, Луйю, Коно, Зигфрид, Ной, Аталь и закадычный друг Джиро. Остальных – собак Висента, Джайве и других семей племени, придется либо отпустить на волю, либо убить. Загрузив нарты, Данло посмотрел на собак, привязанных к кольям около своих снежных нор перед пещерой. Их было пятьдесят девять, и они тоже смотрели на него своими голубыми глазами, виляя хвостами и поскуливая. По правде говоря, его долгом было убить их – иначе как они будут жить без людей, которые кормили их и утешали в часы болезни и одиночества? Они собьются в стаю и будут охотиться, но волки, живущие в лесу, умеют это делать гораздо лучше: они возьмут собак в кольцо и перебьют их одну за другой. Либо такая смерть, либо голод, когда обвисшая шкура отстает от костей. Собаки умрут так или иначе, но кто он такой, чтобы убивать их? Лучше подарить им хотя бы один лишний день жизни, даже если этот день будет наполнен болью и ужасом.
Небо над верхушками деревьев было шарда – густо-синее.
Синее неба, белые с зеленью холмы, запахи жизни – даже собака способна любить этот мир л радоваться ему на свой лад.
Радость – правая рука ужаса, подумал Данло и понял, что не станет отнимать у собак жизнь. Он решительно тряхнул головой, улыбнулся и пошел по сыпучему снегу отвязывать их.
Перед отъездом он напоследок прижался лбом к скалам у входа в пещеру. Манве в двенадцатое утро мира поступил так же, прежде чем отправиться на только что сотворенные Богом острова.
– Наруланда, Квейткель. Прощай.
Он свистнул запряженным в нарты собакам и двинулся в путь, как это делают все алалои: медленно и осторожно спускаясь через лес к замерзшему морю. Там, за краем его благословенного острова, начинались ледяные поля. Сверкающий белый лед простирался во все стороны великим кругом, сливаясь на горизонте с небом. Путник должен жить только настоящим, от мгновения к мгновению, но Данло, будучи еще мальчиком, одержимым шальными мечтами, не мог не думать о конце своего путешествия и о Небывалом Городе. Данло чувствовал уверенность, что доберется до него, хотя, по совести, только очень сильный мужчина мог надеяться проделать такой путь в одиночку. Он был полон бодрости, несмотря на все недавние события, и невольно улыбался восходящему солнцу, чей красный лик только что показался над ободом мира.
Взволнованный и разгоряченный, Данло не стал надевать снежные очки и откинул назад капюшон парки. Ветер взвихрил его волосы, чуть не сорвав белое перо Агиры. Лицо Данло в белой оторочке капюшона казалось коричневым – юное, безбородое, лучащееся надеждой и в то же время сильное, дикое, вылепленное солнцем, ветром и горем. В длинном носе, выдыхающем пар, и высоких скулах, отражающих блеск льда, была жесткость, смягчаемая только глазами. Глаза у него были необыкновенные – большие и темно-синие, как вечернее небо. Юйена ойю, как говоря алалои – глаза, которые смотрят слишком глубоко и видят слишком много.
Пробираясь через прибрежные торосы, Данло правил нартами ловко и умело. Они с Хайдаром много раз вот так выезжали в море, хотя никогда не удалялись на большое расстояние от острова. Сейчас перед ним лежало шестьсот миль замерзшего моря, но это мало о чем говорило ему. Для него и его пыхтящих собак путь измерялся днями, а вехами дня служили езда, кормежка и резка снеговых кирпичей для ночлега. А потом, когда он поставит хижину, накормит собак, поест сам и заберется в шелковистое тепло спальных мехов, – сон. Данло любил эти минуты, хотя не привык спать один. Во время пути ему часто снились страшные сны; он просыпался с криком, весь в поту и видел, что горючий камень выгорел почти дотла.
Утро всегда его радовало. Утрами бывало очень холодно, но воздух был чист, небо на востоке полнилось светом, и священная гора Квейткель позади с каждым днем становилась все меньше.
Двадцать девять дней он ехал прямо на восток без всяких происшествий. Цивилизованного человека в таком путешествии утомляла бы монотонность льда и безоблачного синего неба.
Но Данло цивилизация еще не коснулась, и он был настоящим алалоем, живущим заодно с природой. Он замечал множество разных вещей помимо неба и льда. Например, сореш, свежий снег, выпадавший каждые четыре-пять дней. Когда ветер дул с запада, уплотняя снег и делая его удобным для езды, сореш превращался в сафель. У алалоев имеется сто слов для обозначения разных видов снега. Иметь название для предмета, идеи или чувства значит выделить этот предмет среди всех остальных, признав за ним какие-то уникальные качества. Алалои, как и все прочие народы, словами буквально творили мир – вернее, творили способы, которыми наше сознание дробит неделимую цельность мира на отдельные предметы. Слишком часто слова решают, что нам видеть и чего не видеть.
Лед и небо, небо и лед. На тридцатое утро Данло увидел, что лед вокруг его хижины застыл красивыми волнами, называемыми илка-со. Дальше шли кольца илка-рада, больших аквамариновых глыб, созданных колыханием замерзающего моря.
Небо тоже не было таким уж безупречно голубым: в разное время дня оно отливало желтизной света, отраженного от снежных ножей. Снег тоже не всегда был белым: порой его окрашивали в фиолетовые и голубые цвета колониальные водоросли и другие живые организмы, обитающие в его верхних слоях.
Эта растительность называлась ледяными соцветиями, урашин, и ее пурпурные пятна тянулись до самого горизонта, где лед сливался с небом. Птицы китикеша висели над ними белыми облаками. В это время года они кормились снегом, черпая его своими желтыми клювами и поедая снежных червей, кормящихся, в свою очередь, водорослями. Мохнатые же гладыши, которых можно встретить близ любого кусочка суши, ели все; водоросли, червей и даже оставляемый червями помет. Данло любил, заслонив глаза рукой, смотреть на ледяные соцветия.
Там он мог встретить Агиру. Иногда снежные совы следовали за стаями китикеша и охотились на них. Агира всегда радовалась случаю запустить когти в упитанную молодую птицу, но утром тридцатого дня Данло напрасно ждал своего доффеля.
Агира мудра и не станет вылетать, если буря близко. «Агира, Агира», – позвал Данло, но не получил ответа. Вернее, прямого ответа вроде уханья или хлопанья крыльев – Агира ответила ему молчанием. У алалоев есть пять слов для обозначения тишины, и нона, тишина, предвещающая опасность, полна смысла не меньше, чем целая куча слов. В стоящей вокруг нона Данло повернулся лицом к ветру и стал слушать то, что недоступно слуху цивилизованного человека.
В тот день он не стал трогаться в путь. Вместо этого он нарезал снеговых кирпичей и построил хижину побольше и покрепче, чем обычно ставил на ночь. Туда он перенес всю еду с нарт, а собак устроил в длинном туннеле, ведущем к его жилью. Заготовив снег для питья и проверив запас ворвани для горючего камня, Данло стал ждать.
Начало буре положил ветер, задувший с севера. Высокие перистые облака, отета, заволокли небо белизной. Ветер дул долго, и его свист все время усиливался. Это было Дыхание Змея, сарсара, которого боится каждый путешественник. Данло слушал ветер, сидя в хижине, слушал, как тот ищет щели между снежными кирпичами, нащупывая теплую, мягкую человеческую ллоть. Ветер нес с собой холод, смертельный холод, убивший немало алалоев, и задувал в хижину поземкой.
Спальные меха скоро покрыла холодная белая пыль. Собаки были выносливее Данло и не имели ничего против сна под снежным покрывалом, но Данло пробирала дрожь, и он торопливо заделывал каждую найденную трещину пригоршнями малки, рыхлого снега, натаявшего от тепла его рук. Когда малка застывала, что происходило почти мгновенно, ему становилось легче дышать, и он снова начинал ждать, «затаив в душе мщение», как говорят алалои.
Так он ждал десять дней. В тот же вечер пошел снег. Мороз был слишком силен для обильного снегопада, и ветер носил скудную дань неба туда-сюда, сметая ее в сугробы.
– Снег – это застывшие слезы Нашары, неба, – объяснял Данло, обращаясь к Джиро, с которым-играл в «кто перетянет». Данло тянул за один конец плетеной кожаной веревки, а Джиро зубами – за другой, рыча и мотая головой. Это было, конечно, ребячество – играть с ездовой собакой, но Данло извинял себя тем, что мужчине, даже не совсем мужчине, плохо быть одному. – Нынче небо печально, потому что все деваки ушли на ту сторону. Завтра, я думаю, оно тоже будет горевать, и послезавтра тоже. Джиро, Джиро, почему так грустно жить на свете?
Пес бросил веревку, заскулил и ткнулся мокрым носом в лицо Данло, слизывая соль с его щек. Данло засмеялся и почесал Джиро за ушами. Вот собаки почти никогда не грустят.
Они счастливы тем, что уминают свою долю мяса, и нюхают воздух, и соревнуются друг с другом, кто выше задерет ногу и сильнее оросит стенку хижины. Собаки не знают, что такое шайда, и она не беспокоит их, как людей.
Пока буря крепчала и выла, как росомаха, попавшая в капкан, Данло почти все время лежал в своих спальных мехах и думал. Он пытался найти источник шайды. Почти все алалойские племена верят, что шайда может затронуть только человека или, вернее, что только человек способен принести ее в мир. Но затрагивает она только внешнюю сторону человека: его лицо, что у алалоев обозначает личность и характер, его чувства и его мысли. Глубинная суть человека, пураша, чиста, как ледник в горах, и ее нельзя изменить, или загрязнить, или причинить ей какой-то вред. Данло думал о самых священных верованиях своего племени и задавался еретическим вопросом: что если Хайдар и другие старейшины племени ошибались? Возможно, шайда проникает в самую сокровенную глубину каждого – и взрослого, и ребенка. А поскольку люди (думая «люди», Данло пользовался словом «деваки») – это часть мира, ему придется проникнуть в самое сердце этого мира, чтобы найти истинный источник шайды. Шайда – это крик мира, потерявшего душу. Вот только как моягет мир потерять свою душу? И что, если мировая душа не потеряна, но изначально поражена шайдой?
Почти сутки, словно талло, описывающая круги над добычей, Данло возвращался все к той же ужасающей мысли. Если, как его учили, мир создается постоянно, каждый миг выходя с криком из кровавого чрева Времени, то и шайда создается каждый миг и растет; раскалывая мир и все, что в нем обитает.
Если так, то не может быть никакого стремления к гармонии, никакого равновесия между жизнью и смертью, никакого средства от боли. Все, что не халла, то шайда – но если шайда присутствует во всем, истинной халлы быть не может.
Несмотря на свою молодость, Данло чувствовал, что подобная логика тоже изначально порочна, ибо ведет к отчаянию – а он, вопреки всему, ощущал, как хороша жизнь, бьющая в нем жарким ключом. Возможно, его предпосылки ошибочны; возможно, он не понимает истинной природы халлы и шайды; возможно, логика – не столь острое орудие, как говорил ему Соли. Если бы только Соли не умер так внезапно, Данло узнал бы Песнь Жизни целиком и научился бы мыслить как-нибудь иначе, без помощи логики.
Когда отвлеченные мысли разочаровали его, он занялся другим. Почти три дня он вырезал из кусочка моржовой кости снежную сову и рассказывал собакам сказки о животных. Он рассказывал, как Манве в долгое десятое утро мира превращался в волка, в снежного червя, в гладыша, в белого медведя и в разных других зверей. Он делал это, чтобы по-настоящему понять животных, на которых когда-нибудь будет охотиться.
И еще потому, что человек должен понимать, что его дух изменчив, как моржовая кость или глина. Данло нравилось изображать эту сказку в лицах. Он то становился на четвереньки и рычал, как волк, то поднимался на дыбы, как загнанный мед, ведь, ревел и молотил руками воздух. Собаки пугались, потому что Данло мало было разыгрывать снежного тигра, талло или медведя – он должен был стать ими во всем, включая их кровожадность. Пару раз он и сам испугался – будь у него зеркало или лужица воды, он не удивился бы, увидев у себя клыки или покрывшую все лицо белую шерсть.
Но самым любимым его развлечением была, пожалуй, математика. Он часто забавлялся, чертя круги на плотном снегу своей лежанки. Он обожал геометрию за поразительную гармонию и красоту, которые находил в ее простейших аксиомах, Ветер, выл, перемещаясь к северо-западу, а Данло лежал, наполовину высунувшись из мехов, и рисовал своим длинным ногтем геометрические фигуры. Джиро нравилось смотреть, как он царапает снег: сунув свой черный нос в накопившуюся кучку белого порошка, пес лаял и осыпал снегом грудь Данло. (Как все алалои, Данло спал голым, но в отличие от них находил снежную хижину слишком холодной, чтобы расхаживать по ней без одежды, и даже вставая, кутался в свои меха.) Таким манером Джиро давал хозяину понять, что проголодался. Данло кормил собак неохотно не только потому, что для этого приходилось вылезать из теплой постели, но и потому, что их припасы неотвратимо близились к концу. Он страдал, разворачивая очередной трескучий пакет с мороженым мясом. Жаль, что ему не повезло набить побольше палтуса, думал он, – рыба для собак питательнее постного шегшеевого мяса, и ее дольше хватает. Хотя если бы собаки питались одной рыбой, ему трудновато было бы жить в одной с ними хижине. Его жилье и так уже провоняло тухлым мясом, мочой и дерьмом.
Каждый день ему приходилось выгребать наружу из туннеля семь собачьих куч, но они по крайней мере не смердели так, как у собак-рыбоедов – такое даже самим собакам нюхать противно. Ничто в мире не смердит так, как помет собакрыбоедов.
На восьмое утро бури Данло скормил им последние порции. Его собственной еды – орехов бальдо, шелкобрюшьего мяса и кровяного чая – должно было хватить еще дней на десть, если не делиться с собаками. Но делиться придется, иначе у собак не будет сил тащить нарты. Он, конечно, мог бы забить одну и скормить ее остальным, но Данло, по правде сказать, всегда любил своих собак больше, чем положено алалою, и страшился столкнуться с необходимостью убивать их. Он свистел, выманивая солнце из его облачной постели, и молился: «О Савель, апария-ля!» Но ответом ему были только снег и ветер, злой, ревущий ветер, способный пожрать даже солнце.
Но однажды ночью настала тишина. Данло проснулся в вонооне, белой тишине нового мира, еще не сделавшего своего первого вздоха. Он сел к прислушался, решая, одеваться ему или нет. Потом натянул через голову легкий мягкий нижний мех, надел шегшеевые штаны и парку, заботливо упрятав еще не совсем заживший член в левый кармашек, пришитый к штанам его приемной матерью. Обувшись в непромокаемые тюленьи унты, плотно облегающие икры, он прополз по туннелю, где спали собаки, отодвинул загораживающую вход снежную глыбу и вышел наружу.
Небо сияло звездами – никогда еще Данло не видел столько звезд сразу. Там, где небо загибалось, делаясь особенно глубоким и черным, они стояли плотно, как ледяной туман. От этого зрелища Данло сразу стало холодно, грустно и как-то по-нездешнему тоскливо. Да и кто бы, глядя в эти космические бездны, не испытал легкого трепета? Кто бы, стоя один под звездами, не ощутил жуткой близости к бесконечному?
Каждый мужчина и каждая женщина – это звезда, вспомнил Данло. Многие звезды, такие как Бехира, Алаула и Калинда, он знал по именам. На севере светились созвездия Медведицы, Рыб и Талло, на западе скалил блестящие зубы Одинокий Белый Волк. На востоке горели два странных огня – белые шары величиной с луны. (Соли говорил Данло, что луны – это целые миры, ледяные зеркала, отражающие свет солнца, но возможно ли это?) Эти огни, Нонаблинка и Шураблинка, были сверхновыми, вспыхнувшими несколько лет назад в одном из спиральных рукавов галактики. Данло, само собой, не знал, что звезды способы взрываться, и называл сверхновые просто «блинками» – такие огни вдруг появляются неведомо откуда, ярко горят некоторое время, а потом исчезают во мраке, из которого вышли. Там же, на востоке, наблюдалось еще одно чрезвычайно странное явление. Данло не знал, что это такое, и про себя называл его Золотым Цветком. Янтарно-золотистые кольца света переливались над самым краем темного мира. Пять лет назад на том месте загорелась золотая искорка, которая за эти годы расцвела, будто огнецвет. Кольца меняли цвет, мерцая разными оттенками золота, и казались Данло живыми, имеющими какую-то свою цель. В голову ему пришла одна поразительная мысль – поразительная потому, что была правдивой: возможно, Золотой Цветок и правда живой. Если люди способны путешествовать по звездам, на это должны быть способны и другие живые существа, такие как цветы, бабочки или птицы. Когда-нибудь, став пилотом, он сможет спросить у этих странных созданий, как их зовут, и назвать им свое имя; он спросит их, не больно ли им, когда дует холодный звездный ветер, и не хотят ли они влиться в великий поток жизни, что течет от края до края вселенной – если, конечно, у вселенной есть края и она не длится бесконечно.
О благословенный Бог, мысленно взмолился Данло, далеко ли еще до Небывалого Города? Что, если я миновал его, отклонившись слишком далеко к северу или к югу? Хайдар учил Данло находить путь по звездам, а Небывалый Город, судя по рассказам, лежал прямо на восток от Квейткеля. Данло смотрел на восток – там тянулись холмы и долины нового снега, наполовину серебристо-белые, наполовину тонущие в тени. Они блистали холодной, печальной, недолговечной красой шона-лара – красотой, напоминающей о смерти. Теперь весенние бури начнут бушевать одна за другой, и ледяные соцветия, занесенные снегом, погибнут. Снежные черви начнут голодать, а за ними и гладыши – те, что не успеют добежать до ближних островов. Птицы улетят на Мьюрасалию и другие северные острова, ибо после бурь начнет припекать солнце, на море не останется ни снега, ни льда, и голод тоже кончится – некому будет голодать.
Как только рассвело, Данло отправился охотиться на тюленя. Каждый тюлень, хохлатый, кольчатый, или серый, держит во ладу много дыхательных отверстий. Все море истыкано ими, но расположены они через редкие и неравные промежутки, а снег, заметающий их, еще больше затрудняет поиски. Данло взял на поводок лучшего своего следопыта, Зигфрида, и они вместе стали петлять по жемчужно-серому снегу. Зигфрид с его острым нюхом мог бы найти хотя бы пару тюленьих дыр, но им не повезло, и они не нашли ни одной. Не нашли и назавтра, и на третий день. Когда настал сорок третий день пути, Данло решил ехать дальше, хотя из еды у него остались только орехи бальдо, а у собак и вовсе ничего. Это было трудное решение. Он. мог бы остаться и поискать тюленей подальше к северу, но он потерял слишком много дней, и если охота окажется неудачной, буря нагрянет снова и убьет его.
– Агира, Агира, – сказал Данло вслух, обратив лицо к небу, – где мне найти пропитание? – Но на этот раз его доффель не ответил ему – даже молчанием. Глаза у Агиры зорче, чем у всех остальных птиц и зверей, но чутье слабое, и она ничего не могла ему подсказать.
Теперь Данло и собаки начали голодать всерьез. Данло в своей жизни еще не сталкивался с голодом, но слышал много рассказов о нем и инстинктивно знал, что это такое, как знают все люди и животные. Когда настает голод, ты начинаешь таять, и твоя плоть сгорает, как ворвань, в мешке из обвисшей кожи – сгорает ради того, чтобы как-то поддержать мозг и сердце. Все звери стараются спастись от голода, и Данло тоже спасался бегством, пока его не настигла новая буря – не такая долгая, как первая, но все же достаточно долгая. Боди умер первым – возможно, причиной этого послужила его драка с Зигфридом из-за мерзлых окровавленных кожаных оберток от мяса, которые Данло давал собакам жевать. Данло разделал Боди, поджарил его над горючим камнем и подивился тому, каким вкусным оказалось его мясо. В исхудавшем псе сохранилось не так уж много жизни, но ее хватило, чтобы Данло с оставшимися собаками двинулся на восток навстречу новым бурям. Средизимняя весна сделала снег тяжелым и рыхлым – он назывался малеш и прилипал к полозьям нарт. Кроме того, он набивался между пальцами собачьих лап и замерзал там.
Данло надевал собакам кожаные сапожки, но они, изголодавшись, съедали и сапоги, и струпья на своих ранах. Луйю, Ной и Аталь умерли из-за того, что стерли себе лапы – вернее, из-за черной гнили, всегда нападающей на поврежденную, ослабевшую плоть. Данло сам помог им умереть, пробив каждому горло копьем, потому что они мучились, выли и скулили. Их мясо не было таким вкусным, как у Боди, и осталось его на костях куда меньше. Коно и Зигфрид не стали есть это плохое мясо – возможно, потому, что им стало уже все равно, будут они жить или умрут. А может быть, они и сами уже хворали и не могли переваривать пищу. Несколько дней они пролежали в снежной хижине, безжизненно глядя перед собой, а потом у них даже смотреть не стало сил. В голод так бывает всегда: когда половина тела сгорает, вторая начинает желать только одного – соединиться с ушедшей половиной по ту сторону дня
– Ми Коно эт ми Зигфрид, – помолился за них Данло, – алашария-ля хузиги анима. – Снова он достал свой тюлений нож и разделал умерших собак на мясо. На этот раз очи с Джиро наелись до отвала, потому что сильно оголодали и по алалойскому обычаю наедаться свежим мясом впрок. После пиршества Данло разделил оставшееся мясо на порции и спрятал.
– Джиро, Джиро, – поманил он к себе свою последнюю собаку. Для них двоих хижина казалась слишком большой.
Джиро подошел к нему с туго набитым брюхом, положил голову Данло на колени и позволил почесать себя за ушами.
– Мы проехали уже сорок шесть дней, дружище, и двадцать два дня отсиживались. Где же он, Небывалый Город?
Джиро, поскуливая, стал вылизывать свои стертые лапы, а Данло, кашляя, нагнулся над горючим камнем, чтобы зачерпнуть растопленного собачьего жира. Всякое движение давалось ему с трудом, так он устал и ослабел. Жир он втер себе в грудь. Ему противно было дотрагиваться до себя, противно чувствовать под рукой выпирающие ребра и хилые мускулы, но всем известно, как хорошо горячий жир помогает от кашля.
Еще он защищает от обморожения, поэтому Данло намазал и лицо, там" где уже шелушилась мертвая белая кожа. Это еще одно из последствий голода: тело дает слишком мало тепла, чтобы защитить себя от мороза.
– Может, Небывалый Город – всего лишь выдумка Соли; может, его и вовсе нет.
На другой день он впрягся в нарты вместе с Джиро. Нарты стали легче, потому что Данло оставил на них только двенадцать свертков с едой, ледорез, спальные меха, скребок для шкур и горючий камень, но тащить их все равно было тяжело.
Данло отдувался и потел несколько миль, а потом решил выбросить заодно скребок, дерево и кость для резьбы и рыболовную снасть. Рыбачить у него не было времени, а если он доберется до Небывалого Города, то заново сделает себе снасть и другие орудия, нужные для жизни. Он тащил полегчавшие нарты, вкладывая в это все силы, и Джиро тоже тянул, вывалив розовый язык и налегая грудью в постромки, но ехать быстро и долго они все равно не могли. Юному мужчине и голодной собаке не под силу было выполнять работу целой упряжки, и тяжкий труд на морозе убивал их. Джиро скулил от досады, а Данло хотелось плакать. Но он сдерживался, потому что слезы на морозе замерзали и потому что взрослые мужчины "и женщины тоже) не должны плакать, когда им трудно. Плакать дозволяется, только когда кто-то из племени уходит на ту сторону – тогда мужчина даже обязан пролить целое море слез.
Я тоже скоро умру, думал Данло. Смерть казалась ему такой же неминуемой, как следующая буря, и его огорчало лишь то, что некому будет его оплакать, похоронить его и помолиться за его душу. (Разве что Джиро повоет немного, прежде чем обгрызть скудное мясо с хозяйских костей. У алалоев животным не дают поедать умерших, но после всего случившегося Данло не рассердился бы на Джиро, если бы тот отведал человечины.) – Небывалый Город, – твердил он, вглядываясь в ослепительные снега на востоке, – небывалый, небывалый…
Но в замысел мировой души не входило, чтобы Джиро съел его труп. Тащить нарты день ото дня становилось все тяжелее, а потом сделалось невозможным. Был самый конец сезона, и днем солнце жарко пригревало. Снег превратился в фареш, круглые гранулы, которые днем таяли, а ночью замерзали. Лед во многих местах покрывали толстые слои малки. На восемьдесят пятый день путешествия Джиро, все утро тащивший нарты по этой мерзлой каше, пал мертвым прямо в упряжи. Данло выпряг его, положил к себе на колени и в последний раз напоил его талой водой из своего рта. А потом дал волю слезам, потому что душа собаки мало чем отличается от человеческой.
– Джиро, Джиро, прощай.
Он поморгал, чтобы убрать слезы с глаз, и взглянул через снега на восток. Смотреть было трудно: солнце, отражаясь ото льда, слепило его. Но сквозь слезы и блеск он все-таки разглядел вдалеке гору. Ее смутные очертания колебались, как вода.
Быть может, это была вовсе и не гора, а митраль-ландия, снежный мираж путешественника. Данло посмотрел, поморгал и опять посмотрел. Нет, это точно была гора – белый ледяной зуб, вонзившийся в небо. Данло знал, что это наверняка остров, где живут люди-тени – ведь в этой стороне другой земли нет. Еще пять или шесть дней пути на восток, и он придет к Небывалому Городу.
Он погладил острые серые уши Джиро, лежащего на снегу.
Пахло солнцем и мокрой псиной.
– Зачем ты поторопился умереть? – спросил Данло. Он знал, что теперь собаку надо будет съесть, но не хотел этого делать. Ведь Джиро был его другом.
Он прижал кулак к животу, от которого осталась только впадина, где бурлила кислота и гнездилась боль. Поднялся ветер, и ему послышалось, что Агира зовет его с острова, напоминая, что он должен жить дальше, как бы страшно это ни было «Данло, Данло, – взывало к нему его второе «я», – если ты уйдешь на ту сторону теперь, то никогда не узнаешь, что такое халла».
Поэтому Данло, поразмыслив, достал свой нож и сделал то, что должен был сделать. От собаки остались только кости, шкура да немного жилистого мяса. В тот день Данло съел большую часть Джиро, а остальное разделил еще на несколько дней. Печень, нос и лапы он есть не стал. Собачья печень ядовита, а если съесть нос и лапы, тебя постигнет несчастье. Все прочее, включая язык, пошло в дело (Многие алалои, особенно из дальних западных племен, ни за что, бы не стали есть язык, боясь, что начнут лаять.) Из спальных шкур Данло сделал котомку и взял с нарт только самое необходимое: горючий камень, снегорез, мешочек с кремнями и медвежье копье. Потом он надел лыжи и пошел на восток, бросив свои нарты без сожаления. На острове, где живут люди-тени, он наверняка сможет набрать китовой кости и плавника, чтобы сделать другие.
Зти дни, пока он шел по льду на лыжах, плохо запомнились ему. Память – самое загадочное из всех явлений. Чтобы подросток хорошо запомнил что-то, все его органы чувств должны работать в полную силу, Данло же был слаб, в глазах у него все плыло и мысли путались.
Каждое утро он начинал передвигать лыжи одну за другой, приминая снеговую кашу, каждую ночь строил хижину и спал в ней один. Он шел к сверкающей горе на востоке, которая из зуба преобразилась в огромный, усыпанный снегом рог, торчащий из моря. Он вспомнил, что люди-тени зовут эту гору Вааскель, Подойдя поближе, он увидел, что рядом с Вааскеяем стоят еще две горы, чьих имен Соли ему не назвал – это полукольцо гор высилось над всем островом. Сам остров он видел плохо из-за серой гряды туч, скрывающей леса и нижние склоны гор. В конце девяностого дня пути тучи стали рассеиваться и Данло впервые увидел Город. Он только что закончил строить хижину на ночь (хотя ему и жалко было это делать, когда остров был так близко и до него оставалось каких-нибудь полдня ходу) и тут увидел вдалеке свет. Морозные сумерки сгущались быстро, и звезды выходили на небо, но что-то с ними было не так. Временами, когда тучи перемещались, Данло видел звезды ниже темных очертаний гор.
Он присмотрелся получше. Слева от него стоял призрачносерый рог Вааскеля, справа же за серебристым языком замерзшей воды – должно быть, бухтой или заливом – творилось что-то странное. Поднявшийся ветер развеял последние тучи, и на узком полуострове, вдающемся в океан, открылся Небывалый Город. По правде сказать, он совсем не казался ненастоящим, В нем были мириады огней и тысячи каменных игл, и огни горели внутри этих игл, будто в горючих камнях, да так ярко, что каждая игла отражала свет другой, заставляя сиять весь Город.
– О благословенный Бог! – промолвил Данло навстречу ветру. Он в жизни не видел ничего красивее этого Города Света, столь поразительного и великолепного на ночном небе. Да, Город был прекрасен, но эта красота была не халла, ибо строй каменных зданий говорил о гордыне, разладе и великой тоске, совершенно несовместимых с халлой. – Лозас шона, – подумав, сказал Данло. Шона – это красота света, радующая глаз.
Он смотрел на Город, а ветер между тем все крепчал и свистал вокруг него. Данло дивился разнообразию и величине городских зданий, которые представлялись ему каменными хижинами, возведенными с невиданным мастерством и соразмерностью. Там были мраморные башни, белые, как молочный лед, были резные шпили из гранита, базальта и другого темного камня, а на краю залива, где море вдавалось в город, блестел огромный кристальный купол в сто раз больше самой большой снежной хижины. Кто мог построить такие дива? Кто нарезал мириады каменных кубов и сложил их вместе?
Данло долго стоял так, словно зачарованный, и пытался сосчитать огни Города, то и дело потирая глаза и шелушащийся нос. Ветер резал ему лицо, свистел в ушах и холодил горло. Ветер дул с севера, неся с собой темные полотнища поземки и отчаяние. Данло прикрыл глаза заснеженной рукавицей и наклонил голову, со страхом вслушиваясь в его вой. Это был сарсара, предвещавший бурю, которая могла продлиться дней десять. Данло думал, что время сарсар уже прошло, но здесь не могло быть ошибки: он слишком хорошо изучил этот пронизывающий ветер, вселяющий в душу страх и ненависть. Нужно скорее укрыться в хижине, зажечь горючий камень, молиться и ждать, когда буря уляжется.
Но у него совсем не осталось еды – ни единого заплесневелого ореха. Если он спрячется в хижине, она станет его ледяной гробницей.
И Данло, видя перед собой остров людей-теней, пошел к нему, отдавшись на волю бури. Это был отчаянный шаг, и вынужденное путешествие во мраке вызывало у Данло дурноту. Ветер превратился в колючую стену из тьмы и льда, не пропускающую никакого света. Данло не видел собственных ног, не чувствовал рыхлого снега, по которому пробирался на лыжах. Ветер слепил глаза, и Данло, жмурярь, пригибал голову. От голода мысли путались, но он понимал, что должен идти прямо вперед, намертво определив свой азимут (именно намертво: ведь если он собьется с пути, ему конец). Он держал на залив, отделявший гору Вааскель от Города. Если таково намерение мировой души, он дойдет до острова. Там он поставит себе хижину под деревьями йау, убьет пару гладышей, заберет орехи бальдо из их нор и авось выживет.
Так он шел всю ночь. Поначалу его тревожили белые медведи, выходящие на лед с наступлением темноты. Но даже самый старый и беззубый медведь не мог оголодать до такой степени, чтобы охотиться на человека в такую пургу. Чем дальше Данло брел, отталкиваясь палками, тем меньше он думал о медведях, и скоро в голове не осталось вообще ничего, кроме необходимости двигаться сквозь бесконечный снег. Вьюга теперь бушевала вовсю, и дышать было трудно. Хлопья снега жалили нос и рот. С каждым глотком воздуха, вырванным у ветра, Данло слабел, и снедавший его жар усиливался. В ветре ему слышался крик Агиры. Она звала его откуда-то спереди, из моря тьмы, показывая ему дорогу к новому дому. «Агира, Агира!» – хотел откликнуться он, но не мог шевельнуть губами. Вьюга мела снегом и смертью, но Данло, устрашенный ее свирепостью, знал, что должен идти дальше, каким бы мучительным ни был для него каждый шаг. Руки и ноги у него отяжелели, кости стали плотными и холодными, как камень.
«Только костями мы помним боль», – любил говорить Хайдар. Что ж, думал Данло, – если я выживу, моим костям будет что вспомнить. Глаза болели, и каждый вдох обжигал нос и зубы. Данло боролся с холодом изо всех сил, но холод пробирал его насквозь, делая самою кровь густой и тяжелой. Пальцы ног онемели, и Данло не чувствовал их, Дважды он садился на снег, разувался и поочередно совал в рот ледяные пальцы обеих ног, не имея возможности отогреть их как следует. Но как только он вставал и начинал пробиваться сквозь метель, пальцы снова застывали. Он знал, что скоро его ступни до самых лодыжек заледенеют, но ничего не мог с этим поделать. Через несколько дней, отогревшись, они скорее всего почернеют и начнут гнить. Тогда ему – или кому-нибудь из людей-теней – придется их отрезать.
Таким-то манером, всегда держа путь навстречу убийственному ветру – вернее, всегда поворачивая к нему закоченевшую левую щеку – Данло, благодаря невероятной игре случая, вышел на сушу у северной окраины Города. Перед ним возник заснеженный берег, называемый Песками Даргинни, но Данло с трудом различал его. Уже давно настало серое утро, но клубящийся снег почти не пропускал света. Данло не видел Города, что начинался сразу за взгорьем берега, не знал, как близко от него находятся городские больницы и гостиницы.
Он тащился, едва передвигая лыжи, по занесенному снегом песку. Одна лыжа зацепилась за другую, и он чуть не упал. Он удержался, воткнув в снег медвежье копье, но от резкого движения боль прострелила плечо. (Ночью, отогревая пальцы на ногах в третий раз, он потерял брошенные на снег палки. Это была постыдная оплошность, недостойная взрослого мужчины.) Закоченевшие суставы хрустели. Данло пробирался по твердым ребрам буриши, покрывавшим берег. Свежий снег почти не задерживался на острове – ветер уносил его прочь.
Буриша, если соблюдать точность, на самом деле была бурелдрой – ребристым старым снегом, трудным для лыжной ходьбы. Данло следовало бы снять лыжи, но он боялся потерять заодно и их. В белой поземке, бушующей вокруг, он видел не дальше чем на пятьдесят футов в любую сторону. Впереди должен был расти лес. Если ему повезет, он найдет на деревьях йау спелые красные ягоды. Там должны быть сосны, и костяные деревья, и птицы, и гладыши, и орехи бальдо. Агира звала его из-за облака слепящего снега, и Данло чудилось, будто отец, родной отец, тоже зовет его. Он ковылял вперед в диком порыве духа, побеждающем холод, боль и страх смерти. Наконец он рухнул наземь и закричал:
– Отец, я пришел, я вернулся домой!
Он пролежал так долго, отдыхая. У него не было сил двигаться дальше, но он должен был встать, чтобы не остаться здесь навсегда.
– Данло, Данло. – Агира по-прежнему звала его – ветер нес к Данло ее тихий скорбный крик. Медленно встав, он пошел вверх по берегу на голос Агиры, который, все время усиливаясь, пронизывал его до костей. Его чувства вдруг прояснились, и он понял, что это не крик снежной совы, а чтото другое, похожее на музыку. Он не мог бы себе представить музыки прекраснее этой. Он хотел бы, чтобы она продолжалась вечно, но музыка внезапно умолкла.
Тогда сквозь метущий снег Данло увидел на берегу невероятное зрелище: шестеро человек стояли полукругом около неизвестного Данло зверя. В Небывалом Городе творятся небывалые вещи, напомнил себе Данло. Зверь был выше всех шестерых человек, выше даже, чем Трехпалый Соли, самый высокий из виденных Данло людей. Этот зверь – самец, как сразу понял Данло по странного вида мужским органам под его брюхом – стоял на задних лапах, как медведь. Данло не мог взять в толк, почему люди стоят так близко к нему. Разве они не понимают, что зверь может броситься на них в любое мгновение? И почему у них нет копий? Лыж у них тоже не было, хотя одеты они были почти как Данло, в белые меховые парки. Как эти люди-тени охотятся на снегу без копий и без лыж?
Данло приближался к ним как можно тише – он умел двигаться очень тихо, когда хотел. Никто из мужчин не смотрел в его сторону, и это было странно. В их лицах и позах тоже чтото было неправильное. Они не держались настороже, не прислушивались к звукам и колебаниям мира. Зверь заметил Данло первым. Он был тонок, как выдра, с мехом белым и плотным, как у самца шегшея. Он стоял на двух ногах слишком легко и уверенно, неподобающим для зверя образом, а в передней лапе держал палку. Данло не мог догадаться, зачем зверю палка – разве что он строил себе берлогу и люди застали его за этим.
Он смотрел на Данло странными, понимающими глазами – красивыми, круглыми и золотистыми, как солнце. Даже у Агиры нет таких глаз – Данло не видел подобных ни у одного живого существа.
Он подошел поближе и поднял копье, не веря в свою удачу. Найти крупного зверя сразу после выхода на сушу – это поистине большое счастье. Чувствуя сильный голод, он молился, чтобы у него достало сил нанести верный удар.
– Данло, Данло.
Зверь, как ни странно, стоял на месте и смотрел на него, не крича и не пытаясь убежать, но кто-то, однако, все же закричал. Должно быть, это Агира напоминала ему, чтобы Данло помолился про себя за дух зверя, прежде чем убивать его. Но Данло не знал имени этого зверя – как же он мог за него молиться? Возможно, в Песне Жизни перечисляются имена невиданных зверей Небывалого Города. Данло в тысячный раз пожалел о том, что смерть Соли помешала ему выслушать Песнь Жизни до конца.
В этот миг один из мужчин обернулся посмотреть, на что смотрит зверь, и тоже закричал:
– О-о!
Другие тоже увидели Данло, занесшего назад руку с копьем, и глаза у них изумленно округлились.
Потрясенный Данло убедился, что Соли говорил правду.
Люди-тени походили на него гораздо больше, чем его кряжистые соплеменники. Вслед за этой мыслью пришла другая, ошеломившая и пристыдившая его: что, если этот зверь – имакла? Что, если эти безбородые знают, что он имакла и на него нельзя охотиться ни при каких обстоятельствах? Ведь они должны знать, которые из их странных животных волшебные, а которые нет?
– Нет! – крикнул один из мужчин, – нет, нет, нет!
Данло, голодный и обессиленный, растерялся. Ветер и поземка, метущая в глаза, затрудняли ему зрение. Он стоял с поднятым копьем, весь дрожа, и наконечник копья ходил вверх и вниз.
Вслед за этим случилось сразу много всего. Зверь медленно раскрыл свой большой подвижный рот и стал издавать какие-то звуки. Человек, крикнувший «О-р!», закричал снова и бросился на зверя – вернее, попытался прикрыть его собой. Трое других побежали к Данло, тоже крича и размахивая руками.
Они схватили Данло и отняли у него копье. По силе они даже сравниться не могли с алалоями, но все-таки были взрослыми мужчинами и без труда справились с истощенным напуганным мальчишкой.
Один из мужчин, державших Данло – кожа у него, к слову сказать, была черная, как обугленное дерево, – сказал что-то зверю, другой что-то крикнул, но Данло не понял ни слова. А питом зверь вдруг тоже заговорил, но Данло опять-таки ничего нет понял. До сих пор он даже не подозревал, что на свете есть другие языки, кроме его родного, но как-то догадался, что зверь и эти люди говорят на незнакомом ему языке. Чувствовалось, что зверь этот очень умный – его пуруша сияла, как прозрачный алмаз. Теперь Данло получше рассмотрел его золотые глаза и лапы, очень похожие на руки. Кто же он – зверь с человеческой душой или человек с телом зверя? Шайда тот человек, который убивает других людей. Благословенный Бог! Он, Данло, чуть было не убил то, что убивать не подобает.
– Ло ни юиенса! – сказал он вслух. – Я не знал!
Зверь подошел к нему и коснулся его лба, сопроводив это новыми непонятными словами. От него пахло чем-то знакомым, вроде мятых сосновых игл.
– Данло лос ми набра, – сказал Данло, официально представляясь зверю и людям. Так принято – первым делом назвать незнакомцам свое имя и сказать, из какой ты семьи. – Я Данло, сын Хайдара.
Черный человек, державший его, кивнул и ткнул его пальцем в грудь.
– Данло – это твое имя? На каком языке ты говоришь? Откуда ты вообще взялся, если не знаешь языка Цивилизованных Миров? Данло Дикий. Неведомо откуда взявшийся дикий мальчик с копьем.
Данло, конечно, ничего из этого не понял, кроме своего имени. Он не знал, что ношение оружия в Городе считается преступлением, и не догадывался, что его обветренное лицо и дикие глаза внушают страх цивилизованным жителям Города.
По правде говоря, он их тоже очень боялся. Они так крепко держали его, что он еле дышал.
А вот зверь как будто совсем не испугался. Он смотрел на Данло добрым взглядом, сложив большой рот в саркастическую ухмылку.
– Данло, – повторил он и потрогал веки мальчика. Его длиннее кисти, если не считать черных загнутых ногтей, были почти человеческими. – Данло.
"Я чуть не убил то, что убивать не подобает, – думал Данло.
– Ох-хо, Данло, если тебя так зовут, меня в этом городе зовут Старым Отцом. – Человек-зверь приложил ладонь к груди и повторил: – Старый Отец.
Опять слова, подумал Данло. К чему они, если он не понимает их смысла? Он замотал головой и попытался вырваться.
Ему захотелось уйти из этого странного места, где ничто не имеет смысла. У людей-теней лица, как у него, человек-зверь произносит непонятные слова, а сам он чуть не убил то, что нельзя убивать, и чуть не погубил из-за этого свою душу.
Шайда – крик мира, потерявшего душу.
Человек-зверь продолжал ему что-то говорить, хотя было ясно, что Данло не понимает его слов. Старый Отец объяснил, что он фраваши, представитель одной из инопланетных рас, живущих в Городе. Он говорил это единственно для того, чтобы успокоить Данло. Мелодичные голоса и золотые глаза фраваши всегда успокаивают человека и вызывают наружу лучшее, что в нем есть. Честно говоря, они владеют и другими способами воздействия, и у них есть другие причины селиться в человеческих городах. (Фраваши – самые человечные из всех инопланетян и хорошо приживаются в человеческих домах, квартирах и хосписах, лишь бы эти помещения не отапливались. Они настолько человечны и телом, и духом, что многие считают их одной из заблудших, генетически исковерканных человеческих рас.) Люди же, окружающие Старого Отца, были вовсе не охотники, а его ученики. Когда Данло выскочил на них со своим копьем, Старый Отец учил их мыслительному искусству. В это метельное утро он, по иронии судьбы, показывал им способ «остраннения» – способ заставить знакомое казаться странным с целью раскрыть его суть, скрытые связи с другими вещами и прежде всего истину. Данло, само собой, этого понять не мог. Если бы он даже знал язык Цивилизованных Миров, культурные тонкости ускользнули бы от него. Он чувствовал только, что Старый Отец очень добр и очень мудр.
Он чувствовал это своим больным горлом, знал тем глубоким инстинктивным знанием, которое Старый Отец назвал бы «буддхи». Старый Отец, о чем Данло предстояло узнать в последующие дни, придавал буддхи большую ценность.
– Ло лос сибару, – сказал Данло и, не сдержавшись, застонал. Его ноги до самого паха были холодны, как лед. – Я очень голоден – нет ли у вас какой-нибудь еды? – Он вздохнул и повалился на руки держащих его мужчин. Спрашивай не спрашивай, толку не будет. «Старый Отец» – что бы ни означали бессмысленные звуки этого имени – явно неспособен понять самый простой из его вопросов.
Данло уже начал впадать в ступор от голода и потери сил, но тут Старый Отец поднес к своему мохнатому рту палочку, которую держал в руке. На самом деле это была длинная бамбуковая флейта под названием шакухачи. Он подул в ее костяной мундштук, и над берегом полилась прекрасная, проникновенная музыка. Это была та же самая музыка, на звуки которой шел Данло, – возвышенная, бесконечно печальная и в то же время полная бесконечных возможностей. Музыка ошеломила Данло, и внезапно все – и она, и странные новые слова, и закоченевшие ноги – переполнило меру его сил. Он потерял сознание и некоторое время спустя начал пробиваться вверх через снежные слои беспамятства, где все чувства размыты, как в ледяном тумане. Он слишком обессилел, чтобы понимать что-либо ясно, но одно запомнил навсегда: Старый Отец с бесконечной осторожностью разжал его кулак и вложил туда длинную холодную шакухачи. Это был подарок.
«А я чуть не убил то, что убивать нельзя, – подумал Данло, – почему?»
Целую вечность он размышлял обо всем, что знал, о шайде и о странностях этого мира. Потом он зажал шакухачи в руке, закрыл глаза, и темный прилив неизвестного похоронил его под собой.
Глава III ШАВЕРИНГ
Темный Бог боялся, что фраваши когда-нибудь увидят вселенную такой, как она есть, и смогут бросить ему вызов. Поэтому он поместил в каждого из них орган, называемый главер, искажающий восприятие и заставляющий принимать иллюзию за реальность.
– Насколько действенен этот главер? – спрашивает Неосуществленный Отец.
– Ступай и посмотрись в зеркало, – отвечает ему Первый Наименьший Отец, – и ты увидишь, насколько он действенен.
Фравашийская притчаДанло по-своему очень повезло, что первые, кого он встретил, это были Старый Отец и его ученики. Небывалый Город, чье настоящее имя Невернес, может быть холоден, суров и негостеприимен для многих странников, ищущих в нем свою судьбу. Невернес условно делится на четыре района, и Зоосад, где Данло выбрался на сушу, самый негостеприимный из всех, по крайней мере для человека. Участки даргинни, файоли и элиди – в которых из этих инопланетных, не по-людски пахнущих поселений мог бы он найти приют? То, что скутари убивают и едят людей, конечно, неправда, но дружелюбием сострадательностью эти червеобразные каннибалы тоже не отличаются. Если бы Данло добрел через Даргиннийские Пески до поселка скутари, он увидел бы там многочисленные, собранные в грозди ячейки, а в каждой прозрачной восковой ячейке высотой в человеческий рост – глаза скутарийских личинок, следящие за каждым прохожим. Данло нипочем не нашел бы дорогу в лабиринте их улиц. Там он, вероятно, и замерз бы, а если бы голод помутил его разум и он дерзнул бы проткнуть стенку ячейки своим копьем, он задохнулся бы в облаке угарного газа. Вот тогда бы скутари уж точно его съели целиком, с костями и ногтями. Эти своеобразные существа убеждены, что мясо не должно пропадать – более того, полагают своим священным долгом принять дар, который посылает им судьба.
Старый Отец доставил Данло к себе домой – вернее сказать, велел своим ученикам принести его туда. Фравашийские Отцы – Наименьшие, Неосуществленные и Старые – избегают каких бы то ни было физических усилий, считая, что подобный труд ниже их достоинства, и в этом Старый Отец был типичным представителем своего вида. Он любил думать, любил учить, а больше всего любил учить людей, как надо думать. Это было смыслом его существования – по крайней мере в ту последнюю, зимнюю фазу его жизни. В учительстве он находил радость. Как все Старые Отцы, он жил вместе со своими учениками в одном из просторных круглых домов в самом сердце Квартала Пришельцев. (Фраваши – единственные инопланетяне, живущие вне Зоосада, и это уникальное явление. Только они живут с человеком бок о бок – фактически людей в этом районе гораздо больше, чем фраваши.) Дом Старого Отца стоял на самом краю Городской Пущи, самого большого в Городе лесопарка. Дом был каменный, одноэтажный, расходящийся концентрическими кругами от центрального помещения, которое Старый Отец называл своей думной комнатой. В городе тесно сбившихся вместе шпилей и башен, где место ценится дорого, такие дома – большая роскошь, но эта роскошь необходима. Фраваши никогда не войдут в жилище, "Где другие ходят у них над головой. Одни говорят, что это единственное фравашийское суеверие, другие же указывают, что все фравашийские дома венчает прозрачный купол и что вид неба, дневного и ночного, – неотъемлемая часть их образа жизни.
Почти никто не сомневается в том, что и сами фраваши составляют неотъемлемую часть жизни Города – а значит, и Ордена. Три тысячи лет назад пилоты Ордена Мистических Математиков и Других Искателей Несказанного Пламени пересекли яркий галактический рукав Стрельца и основали город Невернес, а двести лет спустя в Город Света явились первые фраваши, чтобы преподать людям ментальную технику холлинга, ши и остраннение. Их учение позволило Ордену достигнуть больших высот, руководствуясь девизом: познавать, странствовать, просвещать, начинать. Но вот вопрос: многое бы познали пилоты – а также цефики, экологи и другие специалисты, – если бы не уроки фраваши? Никто не отрицает, что фраваши снабдили Орден великолепнейшими умственными орудиями, но многие полагают, что их учение высохло и устарело, словно выжатый кровоплод. Эпоха фраваши кончилась два тысячелетия назад, утверждают скептики, а фравашийская деревня с ее приземистыми домами – всего лишь анахронизм, который следует сровнять с землей. К счастью для фраваши (и для всего прочего населения Города, включая мальчика, которого прозвали Данло Диким), правители Ордена, решающие все городские дела, дорожили анахронизмами.
Данло поместили в комнату рядом с думной палатой Старого Отца. Она, как и комнаты всех учеников, была обставлена очень скромно. Полированный деревянный пол не застилали ни ковры, ни шкуры, неоштукатуренные стены были сложены из гладко обтесанных гранитных кубов. В закругленной нише под потолочным окном стоял низкий спальный помост. Данло пролежал там много дней, поправляясь после своего путешествия. Пока он был еще без сознания, Старый Отец пригласил криолога и резчика, которые отогрели обмороженные ноги Дйнло и слой за слоем восстановили поврежденную ткань. Когда содержащаяся в организме влага превращается в кристаллики льда, она расширяется и разрывает клетки, особенно тонкую сеть капилляров, необходимых для кровообращения, из чего следовало, что помощь Данло оказали как нельзя более вовремя. Резчик, меланхолический уроженец одного из искусственных миров Камиллы Люс, отвел Старого Отца в сторону и сказал ему: – У мальчика дистрофия непонятного происхождения. Вы сказали, что он говорит на каком-то неизвестном языке – значит, в Городе он явно чужой. Возможно, его родители умерли и он не знал, что здесь кормят бесплатно. Или же он аутист – эти бедолаги нередко умирают от голода. Я введу ему в кровь питательные вещества, а когда он очнется, начинайте его кормить – сначала соками, затем фруктами, крахмалами и всем, что он захочет. Думаю, он поправится быстро, хотя…
Старый Отец стоял в ногах у Данло и слушал резчика со свойственным фраваши вниманием. Не дождавшись продолжения, он спросил:
– Ах-х, есть какие-то проблемы?
– Я должен показать вам кое-что. – Резчик откинул одеяло и продемонстрировал Старому Отцу обрезанный член Данло с разноцветными шрамами, покрывающими его сверху донизу. – Это сделано недавно, не более полугода назад. Возможно, мальчик повредился рассудком и сам себя искромсал, или же… в этом городе полным-полно сект разного толка, не так ли? Я ни разу не видел ничего подобного, но это еще не показатель. Я слышал, что мальчик пытался убить вас каким-то архаическим оружием – копьем, кажется? Нет, не говорите ничего – будем считать, что это только слухи. Однако будьте осторожны, почтенный. Я не цефик, но всякому видно, какой у этого мальчика дикий облик. Его, кажется, так и зовут – Данло Дикий?
Данло очнулся в тот же день, но всю следующую десятидневку только и делал, что отлеживался, ел и спал. Ученики приносили ему миски с наваристым мясным супом, фрукты и хлеб на мозаичных блюдах, привезенных Старым Отцом из его родного мира. Сказать Данло ничего не мог, но хлопот с ним хватало – мало кто способен съесть больше, чем голодный алалой, и Данло, не будучи алалоем генетически, тоже привык наедаться впрок. Он поглощал ягоды йау со сливками, поджаренные снежные яблоки и кровоплоды. Он впервые попробовал пшеничные хлопья и другую диковинную пищу Цивилизованных Миров. Ему нравилось все, что он ел, даже тошнотворно-сладкий фрукт в желтой кожуре, называемый бананом. Он ел и думал о случившемся, и вновь зарывался с туго набитым животом в восхитительно теплую постель, казавшуюся ему самым чудесным из всех чудес цивилизации.
Матрас был мягкий, но упругий, и от него хорошо пахло, а застилали его не привычные Данло меха, а нечто, сплетенное из многих тысяч волокон шегшеевой шерсти в изделие, которое один ученик Старого Отца назвал простыней. Данло не мог представить себе женщину, способную сплести такую вещь. На это, должно быть, ушла уйма времени. Коричневое с белым одеяло, тоже сплетенное из шегшеевой шерсти, было не такое мягкое, как простыня, но и к нему хорошо было прижиматься лицом, свернувшись и засыпая в сладко убаюкивающем тепле.
Но время шло, и довольство Данло стало сменяться множеством сомнений и тревог. В голове у него прояснилось, и неестественность его новой жизни беспокоила его. Поведение посещающих его учеников казалось необъяснимым. Где они готовят еду, которую приносят ему? И чье мясо он ест? Ему нужно было знать имена животных, поделившихся с ним своей жизнью, чтобы помолиться за них. Неужели эти люди не понимают таких простых вещей? И сколько, собственно, человек живет в этой чудовищной каменной хижине? Он насчитал еще шесть учеников, кроме тех, кого встретил на берегу, – четверо из них были женщины. Неужели все они – одно племя? У одних жильцов дома лица белые, точно брюхо палтуса, другие вроде того черного, что был на берегу, должно быть, сильно обгорели. Всем им на вид столько же лет, сколько его приемным родителям, хотя по этим бледным городским лицам трудно определить возраст. Где у этого странного племени старики? Где дети? Почему в глубине этой хижины не слышно плача грудных младенцев?
Старый Отец навещал его трижды, и каждый раз Данло удручала собственная неспособность определить, человек это или зверь. У человека никак не могло быть такого маленького черного носа, таких длинных и гибких конечностей, такого строения лица и губ. У зверя не могло быть таких солнечных, горящих умом глаз. И ни человек, ни зверь не могли иметьтаких здоровенных органов, которые болтались у Старого Отца: между ног. Мошонки не было видно (должно быть, ее скрывал длинный белый мех на животе), зато член был громадный и притом двойной. Как у всех фраваши мужского пола, он представлял собой две трубки, одна поверх другой. Старый Отецне пользовался одеждой и не старался стать так, чтобы скрыть от других это примечательное зрелище. Прикрытый только своим блестящим мехом, он демонстрировал презрение к человеческой стыдливости.
– Данло, – говорил он своим мелодичным голосом, – Данло Дикий, давай поиграем на шакухачи.
Без лишних слов он показывал Данло, чтобы тот достал бамбуковую флейту из-под подушки, где она хранилась, и учил его зажимать пальцами отверстия вдоль ее ствола и дуть в костяной мундштук. Данло выучился играть очень быстро, и Старый Отец перестал приходить к нему, чтобы посмотреть, что Данло будет делать дальше. (Фраваши не любят учить чему-то. Вся их культура развивалась так, чтобы найти способ обучения, а не предметы. Непереводимое фравашийское слово, обозначающее процесс обучения, значит примерно «путь».) Чистые ноты и коротенькие мелодии, которые Данло извлекал из этой флейты, при всей своей простоте и безыскусностм имели над ним необъяснимую власть. Музыка будоражила и в то же время успокаивала его. После множества длинных вечеров, в которые он смотрел на звезды через окно в потолке и играл на флейте, он решил, что музыка успокаивает его именно потому, что будоражит. Она, как одинокий крик Агиры, взывала к его дикой душе и пробуждала в нем бурную радость жизни.
Играя, он сознавал, как велики его возможности. Лишь в этом приподнятом состоянии он мог отрешаться от своих повседневных тревог и внимать священной музыке Песни Жизни, поющей в его крови. Чистые тона флейты напоминали ему об альтйиранга митьина, сон-времени, и часто уводили его туда.
Как подраненная птица, ищущая убежища на горном выступе, он оставался в сон-времени, пока снова не обретал самого себя. Это было опасно, ибо развивало в нем вкус к бесконечному – каково после этого было возвращаться в будничный Мир снега, слякоти и боли? Нужно уделять какое-то время этому, чтобы просто жить. Где-то в конце ноты, когда она переходит в жидкий свет, должны быть равновесие и гармония, должна быть халла. Да, играть на шакухачи было опасно, а искать халлу еще опаснее, но ему нравилась опасность такого. Мало кому доводится так хорошо узнать себя в ранней юности. Но Данло это удалось, и понемногу он стал наслаждаться не только музыкой, но и ошеломляющими открытиями своего нового мира. Одна из женщин – с золотистыми волосами, которую, кажется, звали Файет – учила его есть при помощи палочек. Его неуклюжесть в обращении с ними не смущала Данло. В присутствии любопытных учеников, которые часто навещали его, он откладывал палочки в сторону и черпал хлопья прямо руками, а после вытирал руки о лицо.
Видно, с цивилизованными людьми что-то не так, раз они боятся прикасаться к еде руками, словно им необходимо отделить себя от того, что прежде было живым. Притом они не знают самых простых вещей. К его комнате примыкала другая, совсем маленькая. Каждое утро он заходил в эту клетушку, присаживался на корточки и испражнялся через дырку в полу посредством диковинной чаши, называемой унитазом. Он и мочился туда, и это было очень досадно. Унитаз почти что примыкал к северной стене, и очень трудно было справлять нужду, втиснувшись в промежуток между ними, но ему приходилось стоять именно так, чтобы мочиться на юг. Неужели строители этой комнатушки не знали, что мужчина всегда должен мочиться на юг? Как видно, нет. И что происходит с нечистотами, когда они падают в дыру? Как они возвращаются в мир? Может, там в глубине живут какие-то животные, поедающие их?
Несмотря на сотню таких же сомнений, он быстро прибавлял в весе и скоро уже смог ходить без труда. Это удивляло его – ведь он ожидал, что пальцы у него на ногах почернеют.
Ему дали понять, что из комнаты выходить нежелательно, и он мерил ее шагами вдоль и поперек, а то и бегал, чтобы сжечь избыток сытной еды, поскольку еще во многом оставался мальчишкой. Кто-то дал ему пару меховых шлепанцев, и он обнаружил, что в них можно скользить по гладкому полу, как по мокрому льду. Этим он занимал себя, когда не играл на шаку-хачи, но наконец одиночество и любопытство совсем одолели его. Он понимал, что поступит неприлично, выйдя из своей комнаты вопреки желанию старших, но разве Старый Отец и его семья не поступали еще более неприлично, оставляя гостя одного?
Однажды вечером, когда все другие, как он полагал, улеглись спать, Данло отправился исследовать дом. Шлепанцы и наброшенное на плечи одеяло составляли весь его наряд. Его грязные меха, разумеется, сожгли, а новой одежды ему не дали. Ему не приходило в голову, что из комнаты его не выпускают именно потому, что стесняются его наготы. Никаких других препятствий, мешающих его выходу, не было. Фраваши не признают дверей в своих жилищах, и Данло без препон вышел в узкий полукруглый коридор. С одного конца доносились ритмичные звуки, похожие на пение, в другом стояла тишина и пахло раздавленными сосновыми иглами. Данло пошел на этот сосновый запах, который с каждым шагом становился все сильнее. Стены коридора были сложены из шестиугольных гранитных блоков, ледяных на ощупь и усиливающих слабый шорох его шлепанцев по полу. Холодные светящиеся шары, расположенные через каждые двадцать футов, горели разноцветными огнями. Данло дивился их красным и голубым переливам – чего доброго, он мог бы сунуть руку в один из шаров и поплатиться за это жизнью, но они висели высоко, и ему не удавалось достать до них даже концом шакухачи. Следуя за световыми шарами, он шел по спирали коридора к центру дома.
Этот маршрут привел его к думной комнате Старого Отца.
Тот сидел на фравашийском ковре точно посередине, но Данло не сразу заметил его, пораженный разнообразием многочисленных диковин. Никогда еще он не видел столько вещей разом: вдоль круглых стен располагались деревянные сундуки, арфы, старинные книги, компьютерные шлемы, динамики и горки с образцами скульптуры пятидесяти различных рас. На полках лежало сто шесть музыкальных инструментов, большей частью инопланетных. Ковры устилали весь пол, кое-где заходя один на другой и создавая путаницу узоров. В огромных глиняных горшках стояли растения иных миров. У Данло глаза разбежались от этого изобилия, столь не соответствующего остальной обстановке дома (как ни мало он был с ней знаком). Многие придерживаются мнения, что фраваши следует жить с той же скромностью, которой они требуют от своих учеников, но сами фраваши его не разделяют. Они вещисты специфического рода и собирают вещи не ради престижа или накопления, а скорее в помощь мышлению.
– Данло, – мелодично прозвучало из глубины комнаты, – ни лурия ля, ни лурия мансе ви алалои, Данло Дикий, сын Хайдара.
Данло, дернув головой, изумленно уставился на Старого Отца, который как будто нисколько не удивился, увидев его здесь.
Впрочем, фраваши, даже когда их что-то удивляет, стараются сохранять состояние заншина, или расслабленной собранности.
Так они встречают всякую неожиданность или опасность.
– Шанти, – машинально ответил ему Данло традиционным приветствием своего народа. И потряс головой, не понимая, откуда человек-зверь знает эти слова. – Шанти, почтенный. Мир тебе. Я думал, что ты не знаешь человеческой речи.
Старый Отец знаком пригласил Данло сесть на ковер напротив него. Данло сел, поджав под себя ноги, и провел пальцами по толстому ворсу: мозаичный узор из черных и белых птиц – или крылатых зверей – завораживал его.
– Ох-хо. За эти десять дней, пока ты выздоравливал, я выучил твой язык.
Сам Данло не слишком успешно усваивал язык цивилизованных людей – да и как он мог понять все эти странные слова и сложить их в нечто осмысленное?
– Разве это возможно? – спросил он.
– Для человека нет, по крайней мере без импринтинга. Но фравашийским Отцам языки и манипуляция даются легко, ахха! А в лингвистических архивах Академии хранятся записи многих архаических и утерянных языков.
Данло захлопал глазами. Старый Отец, хоть и говорил на человеческом языке, языке Песни Жизни, пользовался странными и непонятными словами. Данло стало тошно от этого мира, потерявшего всякий смысл.
– Что такое импринтинг? И Академия? И где все остальные – тот черный человек, что держал меня на берегу, женщина с золотистыми волосами? Где моя одежда? Мое копье? В каждой ли хижине Небывалого Города есть ванная? Что заставляет воду течь по трубе и выливаться в чан? Откуда она бежит? Как нагревается? И что такое «фраваши»? Ты человек или зверь? И где…
Старый Отец тихо засвистел, прерывая его. Фраваши – самые терпеливые создания во вселенной, но они любят, чтобы беседа шла своим чередом.
– Ах-х, я знаю, что у тебя много вопросов. Как и у меня. Давай же ответим по порядку на самые главные, не отвлекаясь на мелкие. Умение переключаться – не самая сильная сторона человеческого разума. Начнем с того, что я – фраваши из клана Верных Мысливцев, с планеты Фравашия, как называют ее люди. Фактически я животное, как и ты. Правда, человек на всех своих языках всегда отделяет себя от прочего животного мира.
Данло кивнул, хотя и подумал, что Старый Отец недостаточно хорошо усвоил единственный язык, на котором подобает говорить человеку. Конечно же, человек – это животное, и суть Песни Жизни как раз в том, что она связывает его со всем живым в мире. Но на человека нельзя охотиться, и только он один предвидит великое путешествие по ту сторону дня.
Он молится за души зверей, которых убивает, а звери за него не молятся.
– Ты фраваши? Из другого мира? С другой звезды? Так это правда, что на небе горят огни и среди них тоже есть жизнь?
– Все так. Жизнь есть на многих планетах. Как так вышло, что ты этого не знаешь?
Данло вспыхнул от стыда и стал ковырять ковер, поняв вдруг, как мало он знает по сравнению с другими.
– Откуда ты, Данло?
Тихим, прерывающимся от горестных воспоминаний голосом Данло рассказал старому фраваши о своем путешествии по морскому льду. Он не упомянул, однако, о медленном зле и о гибели своего народа, боясь, что Старый Отец узнает, что деваки коснулась шайда.
Старый Отец выслушал его с закрытыми глазами, а после возвел их к потолку. Данло подумалось, что мысли у фраваши работают как-то странно – они мечутся, как стая китикеша, преследуемых снежной совой, слетаясь и разлетаясь без предупреждения.
– Ах-х. Замечательная история, – помолчав, сказал Старый Отец.
– Прости, что я поднял на тебя копье, почтенный. Я чуть не убил тебя, и это было бы очень дурно, потому что ты разумен, как человек.
– Спасибо. Разумен, как человек! Ничего себе комплимент.
– Не за что, – ответил Данло совершенно серьезно. Он еще не умел понимать фравашийский сарказм и в наивности своей принимал все слова за чистую монету. – Мне правда кажется, что ты столь же разумен, но на берегу ты даже не попытался защитить себя. И даже не испугался как будто.
– Ты в самом деле убил бы меня?
– Я был очень голоден.
– Ох-хо! Есть одно старое-старое правило: даже если ты хочешь убить меня, мне тебя убивать нельзя. Правило ахимсы[15]. Лучше умереть самому, чем убить кого-то. Так, все так: никогда не убивай и не причиняй вреда другому, даже в мыслях.
– Но, почтенный, ведь животные и созданы для того, чтобы на них охотиться. Если ты голоден, убивать можно – даже животные это знают.
– Правда?
Данло серьезно кивнул.
– Если никого не убивать, в мире разведется слишком много зверей, а потом их совсем не станет, потому что все умрут от голода.
Старый Отец, ненадолго закрыв глаза, посмотрел на полку с деревянными флейтами, похожими на шакухачи Данло, и сказал:
– Данло Дикий. Если ты действительно жил у алалоев, это имя хорошо тебе подходит.
– Я родился в племени деваки.
– Я слышал о деваки. Они алалои, как и все живущие на западе племена, верно?
– Зачем бы я стал тебе лгать?
Старый Отец улыбнулся.
– Известно, что предки алалоев, прибыв в этот мир, изменили свои тела по образу очень древней ветви первобытного человека – неандертальцев.
– Неандертальцев?
– Алалои такие же волосатые, мускулы и кости у них крепкие, как дерево йау, а лица – как гранитные утесы. Извини, если я позволю себе заметить, что ты на неандертальца не слишком похож.
Данло не понял, как это возможно – изменить свое тело. И разве деваки рождены не в этом мире? Разве не вышли они из Великого Чрева Времени в первое утро мира? Но он не мог отрицать, что деваки выглядят именно так, как говорит Старый Отец.
– Мои отец и мать были из Небывалого Города, – сказал он. – Они приехали на Квейткель, и я там родился. Потом они умерли, а меня усыновили Хайдар и Чандра.
Старый Отец кивнул и вежливо улыбнулся. Улыбаться для фраваши столь же естественно, как и дышать, но человеческая привычка кивать в знак согласия далась им с большим трудом.
– Сколько тебе лет, Данло?
Данло сказал, что тринадцать, но потом вспомнил, что глубокой зимой, где-то в пути, ему уже исполнилось четырнадцать, и поправился.
– Разве может четырнадцатилетний деваки вот так уехать от своих родителей?
Данло снова покраснел от стыда. Он не хотел говорить, как умерли его родители. Он распахнул наброшенное на плечи одеяло и сказал:
– Я обрезан, видишь? Значит, я мужчина. А мужчина может путешествовать везде, когда приходит нужда.
– Мужчина, говоришь? Каково же это – быть мужчиной в столь юном возрасте?
– Это только мужчине известно, – пошутил Данло, а потом подумал и добавил: – Тяжело, очень тяжело.
Он улыбнулся Старому Отцу, который молча и с пониманием улыбнулся ему в ответ. Данло не мог представить себе улыбки добрее этой. Сидеть со Старым Отцом было почти так же хорошо, как у мигающих горючих камней в холодную ночь.
Однако было в нем и нечто другое, не поддающееся определению и, может быть, вовсе не утешительное. Понимание Старого Отца порой причиняло Данло беспокойство, словно палящее солнце ложной зимы. Но потом оно ослабевало, включая Данло в свой круг лишь как один из предметов обстановки комнаты, и ум Старого Отца отдавал холодом, как ледник.
– Ох-хо, Данло Дикий, я должен сказать тебе кое-что. – Старый Отец сплел свои длинные пальцы и оперся на них подбородком. – Твоя история вызовет много сомнений. Будь осторожен, рассказывая о себе.
– Почему я должен быть осторожен? Ты думаешь, я солгал тебе, но это не так. Правда есть правда. Разве я сатинка, чтобы лгать просто так, для удовольствия? Нет, я не лжец. Теперь мне пора поблагодарить тебя за гостеприимство и продолжить свое путешествие.
Он хотел встать, но Старый Отец надавил рукой ему на плечо.
– Посиди еще. Хо, хо! Я слышу, что ты говоришь правду, но другие такой способностью не обладают. И даже слышать правду не то же самое, что знать ее.
– Что ты говоришь?
Старый Отец протяжно свистнул и сказал:
– Тебе трудно будет понять. Скажем так: настоящую память человека можно выбросить и вставить ему другую, ложную.
– Память есть память – как ее можно выбросить?
– Ах-х. Способы есть, Данло.
– И зачем вставлять новую? Кому это нужно – помнить то, чего не было?
– Ох-хо, многие люди хотят новой реальности. Их влечет прелесть новизны, и они меняют свой ум так же, как тело. Одни переделывают себя под какой-нибудь модный инопланетный вид, другие хотят стать инопланетянами по-настоящему, пережить совершенно новый опыт. Многие сочтут, что ты, Данло Дикий, просто впечатал себе алалойскую реальность.
– Но зачем?
– Чтобы стать тем, кем хочется – разве не в этом вся суть человека?
– Не знаю, – искренне ответил Данло.
Старый Отец улыбнулся и склонил голову из уважения к серьезности, с которой Данло воспринимал его слова. С трудом, бесконечно медленно и осторожно, он встал и принялся заваривать чай.
– Ах-х, ох-х! – Он страдал артритом, и его суставы немилосердно скрипели. Он мог бы обратиться к любому резчику в Квартале Пришельцев и сделать себе новые, но презирал телесное омоложение всякого рода. Он открыл деревянный шкафчик и очень скоро налил две чашки чая из блестящего голубого чайника. Данло, не видя ни костра, ни горючих камней, не мог догадаться, как он вскипятил этот чай. – Это мятный чай – думаю, тебе понравится. Здесь, пожалуй, холодновато для тебя.
Данло и вправду пробирала дрожь. Остальная часть дома – во всяком случае, его комната и коридор – обогревалась горячим воздухом, чудесным образом исходящим из щелей в полу, но в думной комнате было холодно почти как в снежной хижине. Данло подтянул колени к груди и закутался в одеяло.
Чай показался ему восхитительным – горячим и прохладным, терпким и сладким. Прихлебывая его, он думал о том, что сказал ему Старый Отец. Через каменную спираль коридора до них доносился отдаленный гул голосов. Старый Отец объяснил, что это ученики в своих комнатах повторяют вечерние мантры, слова, успокаивающие ум. Данло, слушая музыку этих слов, запустил палец в нос и вытащил то, что у алалоев зовется «носовым льдом». Следуя единственным правилам поведения, которые знал, он съел это вещество и запил его чаем. Алалои не дают добру пропадать и съедают почти все, что можно переварить.
Старый Отец, глядя на него с улыбкой, сказал:
– Ты должен усвоить кое-что относительно жизни в Городе, ах-ха.
– А что?
– Каждое общество, даже инопланетное, предписывает своим членам, как можно вести себя и как нельзя. Понимаешь?
Данло полагал, что достаточно хорошо знает, что можно делать мужчине, а что нет. Но, может быть, в Песне Жизни говорится о других правилах, которые мужчины соблюдают, когда рядом нет женщин и детей? О правилах, которых он не знает? А может, у мужчин Города есть своя Песнь? Они точно не знают, что правильно, а что нет, – иначе как бы они могли, давая ему еду, не назвать имена убитых животных.
– Кажется, понимаю, – сказал он, скатав и отправив в рот еще один шарик «носового льда».
Старый Отец, помолчав, издал краем рта особый тихий свист. Один глаз у него был закрыт, другой смотрел на Данло, как золотое сияющее солнце. Странная трель, производимая им, притягивала внимание и оживляла память. Продолжая свистеть одной стороной своих исключительно подвижных губ, он стал говорить другой: – Надо тебе знать, что в Цивилизованных Мирах почти повсеместно существует иерархия брезгливости по отношению к отверстиям тела. – Он продолжал насвистывать, сопровождая этой причудливой мелодией свою речь. – В присутствии других и даже наедине с собой сунуть палец в ухо менее прилично, чем в рот. А в носу ковырять более допустимо, чем в уретре или анусе. Обрезки ногтей, остриженные волосы, мозоли и тому подобное не съедается.
– И носовой лед тоже, да? – Так Данло и знал: эти городские люди безумны, как стадо мамонтов, объевшихся забродившими снежными яблоками. Безумно вставлять себе ложную память, если это правда возможно. Безумно, поедая животных, не молиться за их души. Безумцы не знают халлы – быть может, вообще не ведают о ее существовании. Данло покивал головой. Теперь все нелепости, которые он наблюдал за последние дни, обрели какой-то смысл.
– А женская йони? – спросил он, хлебнув чаю. – Какую степень брезгливости вызывает она?
Старый Отец, раскрыв один глаз и зажмурив другой, ответил с улыбкой:
– Ах-х, это не так просто определить. В некоторых группах человечества к йони никогда нельзя прикасаться, даже если женщина совсем одна. Особенно если одна. Другие культуры практикуют оргии и допускают многочисленные публичные прикосновения, даже и ртом.
Данло скорчил гримасу. Уже с одиннадцати лет он предавался любовным играм с девочками и молодыми женщинами своего племени, но даже свободные нравы деваки допускали далеко не все. Мужчин, лижущих женские щели, высмеивали и называли «рыбоедами», хотя ничего им не запрещали. И никому, конечно, не пришло бы в голову касаться женщины во время кровотечения или после родов. Женщине в такое время даже в глаза нельзя смотреть – неужели люди Цивилизованных Миров настолько безумны, что и этого не знают?
– Данло, что с тобой? – спросил Старый Отец. – Тебе нехорошо?
Данло и правда почувствовал себя не совсем хорошо. Он вдруг испугался, что Файет и другие женщины в доме Старого Отца не знают, что должны смотреть в сторону во время своих месячных кровотечений. Что, если они уже коснулись его взглядом и замутили своей кровью и своими женскими таинствами его зрение? Вслед за этой мыслью явилась другая, еще более жуткая: разве может человек в здравом уме выжить в безумном мире?
– Ты, кажется, понимаешь этих… людей, – начал Данло, но тут его взгляд упал на живот Старого Отца – вернее, чуть ниже, на мохнатый двойной член. – А у ваших женщин йони тоже двойные? И вы, фраваши, тоже испытываете брезгливость к отверстиям тела?
– На оба твоих вопроса я отвечу тебе одним словом: нет. – Старый Отец допил свой чай и поставил чашку на ковер.
– Почему у тебя тогда член двойной?
– Ишь не терпится! Верхний член, – он отвел крайнюю кожицу, обнажив красную головку, – служит только для совокупления, а нижний для мочеиспускания.
– А-а.
– У нас нет иерархии брезгливости, – все так же насвистывая, продолжал Старый Отец, – но некоторым молодым фраваши противно, что люди-мужчины пользуются тем же органом и для секса, и для мочеиспускания, – так же как всем остальным противно то, что у скутари одно отверстие служит и для еды, и для выделения.
Данло задумался о том, как может Старый Отец считаться мужчиной и даже старейшиной своего племени, не будучи обрезанным. Он помолчал, слушая красивую, волнующую мелодию, которую насвистывал Старый Отец, а потом спросил его об этом.
– Разные народы. – Старый Отец перестал свистеть и раскрыл оба глаза. – Разные народы, разные мозги, разное отношение к себе, разный образ жизни, ох-хо! Мужчина есть мужчина есть фраваши – все так. Это зеркало, Данло, отражает все, что ты, по-твоему, знаешь, отражает то, как ты думаешь. Зеркало обеспечивает тебе главеринг.
– Я не понимаю тебя, почтенный.
– Ты еще не задумывался над тем, почему цивилизованная жизнь так отличается от жизни твоих алалоев?
Данло сейчас думал как раз об этом, и ему стало страшно, что этот не то человек, не то зверь способен проникать в его голову и вытаскивать оттуда мысли одну за другой. Набравшись храбрости, он посмотрел прямо в солнечные глаза Старого Отца.
– Ты можешь входить в мою голову, как в пещеру? И видеть мои мысли?
– Ах-ха, конечно, нет. Но я вижу тени твоих мыслей.
– Тени?
Старый Отец посмотрел на световой шар, переливающийся всеми цветами радуги от красного, оранжевого и желтого до фиолетового, и загородил его свет чайной чашкой.
– Все предметы отбрасывают тени, позволяющие догадаться об их очертаниях. Так же и с мыслями. Твои мысли бросают такие же четкие тени, как эта чашка. Ты думаешь, что жители этого Города – как люди, так и фраваши, – должно быть, безумны.
– Ты видишь их – мои мысли!
Старый Отец улыбнулся ободряюще и жалеючи, но в этой улыбке сквозили также насмешка и боль.
– А ты главеруешь, ах-хо! Люди – мастера главеринга. Главеровать – значит проявлять пагубную доброту к самому себе, восхищаться стройностью собственного мировоззрения. Ты, Данло, считаешь свои взгляды единственно верными, потому что исходишь из условий своего существования. Необычные условия, необычная среда, необычный образ жизни. Стоит взглянуть на твой покрытый шрамами член. Ты говоришь, что деревья и скалы живые и всякая жизнь священна? Наверное, это мать говорила тебе об этом? Откуда ты знаешь то, что знаешь? Откуда знала твоя мать и ее мать до нее? Я знаю теперь, что у алалоев есть двести слов для обозначения льда. Что ты видел бы, если бы знал только одно такое слово? Что ты мог бы увидеть? В Городе есть много слов для обозначения того, что для тебя просто «мысль». Разве тебе не хочется выучить эти слова? Глядя на снежное поле, ты надеваешь очки, чтобы не ослепнуть, а глядя на мир, ты надеваешь очки из привычек, обычаев и мудрости своего племени, чтобы правда жизни не свела тебя с ума. Ах-х, это правда. Кому не хочется видеть мир, как он есть? Но вместо этого ты видишь мир отраженным в себе, а себя – отраженным в твоем образе мира. Зеркало всегда присутствует. Главеринг, главеринг. Он помещает наш ум в уголок, обставленный традиционными знаниями и образом мыслей, и ограничивает наш взгляд на самих себя узкими рамками. Таким образом он связывает нас с самими собой. А если мы крепко-накрепко связаны с самими собой, как можем мы увидеть правду, существующую вне нас? Как мы вообще можем видеть?
Данло смотрел на Старого Отца так пристально, что глаза стало жечь. Он потер их, но надавил слишком сильно, и все в комнате на время утратило свой цвет и форму. Диковинные пурпурные растения подернулись серебром и заколебались, как митраль-ландия, мираж ослепленного снегом путника.
Когда в глазах Данло прояснилось, он сказал:
– В Песне Жизни сказано, что когда Агира на второе утро открыла глаза, она увидела священную гору Квейткель и воды океана, вечные и неизменные – всю правду мира.
– Ах-ха. Я подарил тебе свою любимую флейту, а теперь подарю еще одно простое слово: эпистан. Это означает потребность знать абсолютную правду о чем-нибудь.
– Но правда есть правда, почтенный, – ведь так?
– Услышь от меня еще оно слово: эпистнор.
– А оно что означает?
– Невозможность знать абсолютную правду.
– Если это верно, – улыбнулся Данло, – откуда мы тогда знаем, что можно делать, а что нельзя?
– Ах-ха, это очень хороший вопрос! – Старый Отец начал что-то напевать с полузакрытыми глазами.
– Каков же ответ на него?
– Хотел бы я знать, ох-хо. Мы, фраваши, как это ни грустно, гораздо лучше умеем задавать вопросы, чем отвечать на них. Однако: может ли быть так, что правда одного – для другого безумие?
Данло задумался под напев Старого Отца. Эта мелодия волновала его и затрагивала что-то внутри, как будто звуковые волны шли прямо к сердцу и заставляли его биться быстрее.
Он потер горло, глотнул и сказал:
– Когда я хотел убить тебя там, на берегу, чернокожий человек смотрел на меня, как на безумца.
– Как неучтиво с его стороны. Впрочем, Люйстер – так его зовут – добрейший человек. Он предан ахимсе и не может ни видеть насилия, ни слышать о нем.
– Он зовет меня Данло Дикий.
– Что ж, ты и правда еще очень дик.
– Потому что охочусь, чтобы есть? Посмотрел бы я, как Люйстер выжил за пределами Небывалого Города без охоты.
– А как ты сам думаешь выжить в Городе, не научившись жить цивилизованно?
– Но ведь если я научусь жить, как живут безумцы… то и сам стану безумным?
– Ах-ха, но у людей Невернеса есть своя правда, Данло, как ты увидишь и услышишь весьма скоро.
Пение Старого Отца стало громче и пробирало Данло до самого нутра. В нем жила пугающая новая гармония, полная тоски и неуверенности. Фравашийские Отцы мастерски используют музыку, чтобы манипулировать эмоциями тела и духа.
Два миллиона лет назад боязливые, раздробленные стада первобытных фраваши пользовались звуком для защиты от хищников, но по прошествии тысячелетий эти примитивные звуки развились в обладающую большой силой музыку. Лобные доли мозга любого фравашийского Отца целиком посвящены воспроизводству звуков, в частности слов и музыки. Они пользуются музыкой, чтобы посрамить соперника, успокоить больного ребенка и привлечь внимание незамужних женщин своего клана.
Фраваши и реальность воспринимают в музыкальном ключе или, вернее, «слышат» музыку везде и во всем. Для них каждый разум имеет свой ритм, свою тональность и свои определяющие темы, которые растут, варьируются и повторяются, как в сонате; в каждом разуме есть глубинные гармонии и дисгармонии, и фраваши всегда рады петь для тех душ, что готовы их слушать. Данло, само собой, ничего не смыслил в эволюции, но каким-то внутренним слухом знал, что музыка Старого Отца переворачивает ему все внутренности. Его затошнило, и он схватился за живот. Из живота тошнота поднялась в голову, и Данло забеспокоился, что получил о Небывалом Городе ложное, искаженное представление. Меся живот кулаком, он сказал:
– С тех пор как я очнулся, я все время думаю… о разных вещах. А больше всего о том, почему здесь никто не молится за души убитых животных.
– Да, верно, никто не молится.
– Потому что никто не знает, что надо молиться?
– Молиться за животных – это твоя правда, Данло.
– Ты хочешь сказать, что правда поминальной молитвы – не совсем правда?
– Ах-х, правда – ты уже почти готов к ней. – Старый Отец продолжал петь. – Разные люди, разные правды.
– Какая же правда может быть у сумасшедших, которые не хотят знать имен животных и молиться за них, чтобы помочь им перейти на ту сторону дня?
Голос Данло дрожал, он то и дело сглатывал, чтобы унять тошноту, и его внутренний мир понемногу рушился, как малка под тяжестью унтов. Он приготовился услышать нечто невообразимое, некую страшную новую правду, но даже представить себе не мог, какой она будет.
– Данло, мясо, которое ты ел в моем доме, – это не мясо животных.
– Что?
– Оно растет в питательном растворе, его клетки запрограммированы на деление, и…
– Что?
– Ах-х, это трудно объяснить.
Оба глаза Старого Отца теперь широко раскрылись и горели от удовольствия. Он наслаждался духовными муками Данло.
Фраваши не зря слывут «святыми садистами», ведь любимая их поговорка – «правда через боль». Старый Отец ничего так не любил, как причинять эту священную боль – боль, проистекающую от нового понимания.
– Мясо в Цивилизованных Мирах выращивается как кристаллы, слой за слоем, в чанах с соленой водой.
– Я не понимаю.
– Представь себе эту плавающую в воде плоть, огромные розовые глыбы мяса, которые все время растут. Ах-хо, это скорее растения, чем животная ткань. Все так: ни костей, ни нервов, ни связи с мозгом живого существа. Просто мясо. Ни одно животное не отдает из-за него свою жизнь.
От мысли, что он ел ненастоящее мясо, Данло затошнило еще пуще, он закашлялся и с трудом сдержал рвоту. В самом деле, как тут молиться за убитых животных, если мясо взято не у них? Да и есть ли в нем какая-то душа, какая-то жизнь? Он застонал, держась за живот. Возможно, его ум действительно связан старыми понятиями, возможно, он главерует, как сказал бы Старый Отец, и слишком ослеплен знакомым образом мыслей, чтобы видеть ясно. Но если так, как он может вообще что-то знать? Словно путник, заблудившийся в крутящейся белизне моратета, Данло искал что-то знакомое, какое-нибудь воспоминание, за которое мог бы уцепиться. Ему вспомнилось, что женшины его племени после родов варили и съедали свой послед.
(По правде говоря, он не должен был ничего знать об этой женской тайне, но однажды, в девять лет, он пробрался в глубину пещеры, куда мужчинам ходить запрещалось, и там, пораженный, наблюдал за родами своей соплеменницы Сании.) Съедение этого куска человеческой ткани не сопровождалось молитвами – всем ясно, что послед не имеет души, за которую надо молиться. Данло пытался думать о городском мясе, как о последе, но у него ничего не получалось. Оно никогда не было частью живого существа! Как же можно отречься от охоты, чтобы есть такое мясо? Он оскорбил бы животных, перестав охотиться на них и питаться их жизнью. Не годится это, чтобы люди выращивали мясо, уподобляясь солнцу, под которым зреют ягоды и снежные яблоки. Совсем не годится. Это определенно шайда – есть мясо, которое никогда не было живым.
– Ты должен помнить, Данло, что многие мужчины и женщины Города живут по закону ахимсы: никогда не убивать и не причинять вреда ни одному живому существу. Лучше умереть самому, чем убить.
Все вместе – мятный чай, незнакомые предметы вокруг, хвойный запах Старого Отца и его переворачивающее душу пение – переполнило меру выносливости Данло. Он побелел, упал на четвереньки, и его вырвало прямо на ковер.
– О нет! – Данло искал глазами какой-нибудь кусок старой кожи, чтобы прибрать за собой. В соответствии с тем, чему его учили, ему следовало бы устыдиться, что он перевел впустую столько хорошей еды, – но при мысли о том, что это была за еда, его вырвало снова.
– Ах-хо, я должен сказать тебе спасибо за то, что ты украсил этот ковер воплощением своей боли. И моя матушка тоже поблагодарила бы тебя – она выткала ковер из своего меха.
Данло посмотрел на красивых черно-белых птиц, теперь плавающих в его блевотине. Птицы не созданы для плавания, и ему не терпелось исправить содеянное.
– Не беспокойся, – мягко сказал Старый Отец. – Я ведь уже говорил, что фраваши не питают отвращения ни к отверстиям тела, ни к тому, что случайно исходит из них. Пусть это высохнет и останется здесь на память.
Снова безумие, подумал Данло, и ему вдруг отчаянно захотелось убежать от всего этого, вернуться домой на Квейткель, где названая мать заварит ему кровяного чая и будет петь ему, ища насекомых у него в волосах. Покинуть эту безумную страну, чтобы мир снова стал уютным и осмысленным. Он понимал, что должен бежать отсюда немедленно, но почемуто продолжал стоять на коленях, вглядываясь в красивое лицо Старого Отца.
– Вот оно, начинается, – улыбнулся Старый Отец. Он был святейшим из святых садистов, но его личность не исчерпывалась этим. – Кто покажет человека таким, как он есть? Ох-хо, главеринг, главеринг – постарайся смотреть на себя, не главеруя.
Данло потрогал белое перо в своих взлохмаченных черных с рыжиной волосах. В его синих глазах светились любопытство и воля, противостоящие грозящему ему безумию. Он чувствовал себя заблудившимся в бесшумном духовном моратете, всегда вызывавшем у него страх и отчаяние. Его обожгла холодом внезапная мысль: возможно, все, что он знал до сих пор, было ложью или, хуже того, чудачеством – или, что еще хуже, небывальщиной. Все, что он знал о природе и о мире, – ненастоящее. В этом безумном Городе Света, вполне возможно, настоящее от вымышленного отличить нельзя. Во всяком случае, такому дикому и невежественному мальчику, как он, это не по силам. Он, однако, все еще верил, что есть какой-то способ узнать правду, даже если этот путь пролегает через самую дикую и свирепую из всех бурь. Где-то должна быть высшая правда, выше всех правд, которым учил его приемный отец, и, уж конечно, выше тех, которые известны Старому Отцу и обитателям Города. Возможно, даже выше Песни Жизни. Он не знал, где эту правду искать, – знал только, что должен когданибудь увидеть правду этого мира и всех миров вселенной – увидеть такой, как она есть. Он пообещал себе, что будет жить ради этого. Найдя эту правду, он наконец познает халлу и заживет в мире со всем сущим.
Это внезапное прозрение своего жизненного пути само по себе было частью высшей правды, о которой он думал как о судьбе, и столь нежданная связь цели с возможностью восхищала его. Хаос внутри него въедался в самую сердцевину жизни, уживаясь с восторгом перед возможностями, открываемыми этой самой жизнью. Данло опьянел от них, и голова у него стала легкой. Он больше не боялся сойти с ума, и его разбирал смех, вызванный облегчением и реакцией на все странности этого вечера. На глазах у него выступили слезы, преломляясь тысячью радужных лучей, и он, как ни давился и ни зажимал себе рот, не мог перестать смеяться.
Старый Отец заглянул ему в глаза, потрогал лоб и сказал нараспев:
– Только безумец или святой способен смеяться перед лицом уничтожения, грозящего его личности.
– Но, почтенный… – выговорил Данло между двумя взрывами смеха, – ты сам сказал, чтобы я смотрел на себя, не главеруя, так?
– Ах-хо, но я не думал, что это получится у тебя так успешно. Почему ты не боишься себя, как другие? Того себя, с которым ты связан?
– Не знаю.
– А знаешь ли ты, что смех над собой – это ключ к избавлению от главеринга?
Данло улыбнулся и решил поделиться со Старым Отцом тем, что рассказывала Чандра о его рождении. Хотя Трехпалый Соли и сказал, что Чандра ему не родная мать, Данло по-прежнему хотелось верить этому рассказу, многое объяснявшему в нем.
Возможно, Чандра присутствовала при его рождении, а потом слегка подправила свою историю.
– Мне говорили, что я родился, смеясь. При первом своем вздохе, встречая холод и свет, я не заплакал, а засмеялся. Тогда я был еще не собой, а новорожденным младенцем, но если смех – естественное состояние для того меня, тогда я, смеясь, возвращаюсь к нему и все делается возможным, правда?
Старый Отец зажмурил один глаз, с явным трудом кивнул и спросил:
– Зачем ты отправился в Невернес?
– Чтобы стать пилотом, – просто ответил Данло. – Чтобы построить лодку и плавать на ней по студеному морю, где сияют звезды. Чтобы познать халлу. Только в середине Великого Круга смогу я найти… правду мира.
На черном лакированном столике рядом со Старым Отцом стояла чаша с семенами шраддхи, красно-коричневыми и крупными, величиной с костяшки пальцев. Старый Отец поставил чашу себе на колени, взял горсть семечек и принялся грызть их.
– Ах, – сказал он, раскалывая одно своими крепкими челюстями. – Ты хочешь совершить еще одно путешествие – и очень опасное к тому же. Рассказать тебе притчу о путешествии Неосуществленного Отца? Она должна тебе понравиться, ох-хо! Тебе удобно сидеть? Дать тебе подушку?
– Нет, спасибо.
– Так вот: давным-давно, на одном острове среди самого большого океана Фравашии, Неосуществленный Отец собрался покинуть свой родной дом. Всем Неосуществленным Отцам приходится когда-нибудь покидать свой клан и искать пристанища в другом, на другом острове – иначе в кланах произойдет кровосмешение и фравашийские Отцы не смогут больше нести свою мудрость в далекие места вселенной. Готовясь к путешествию, Неосуществленный Отец собрал все семена шраддхи, что были на острове. «Зачем тебе так много семян? – спросил его Первый Наименьший Отец. – Разве ты не знаешь, что фраваши изобретут лодки только через пять миллионов лет и тебе придется добираться до острова твоей новой жизни вплавь? Как же ты поплывешь с десятью тысячами фунтов семян?» И Неосуществленный Отец ответил ему: «Эти семена шраддхи – единственная пища, которую я знаю, и они все понадобятся мне на новом острове». На это Первый Наименьший Отец засвистел и сказал: «Разве ты не надеешься найти пищу там?» И Неосуществленный Отец возразил ему: «Но шраддха растет только на этом острове, и без ее семян я умру голодной смертью». Тогда Первый Наименьший Отец рассмеялся и сказал: «Но что, если все это – притча и твои семена вовсе не семена, а то, во что ты веришь?» «Я не понимаю тебя», – сказал Неосуществленный Отец и пустился вплавь со всем своим грузом. Так он и утонул, даже издали, как ни печально, не увидев своего нового острова.
Закончив свой рассказ, Старый Отец опять запустил руку в чашу и сунул в рот семечко шраддхи, за ним еще одно и еще.
Он грыз их медленно, но почти без остановки, и от разгрызаемых ядрышек шел горьковатый мыльный запах, который Данло находил неприятным. Старый Отец сказал, что для человека эти семена опасны, потому он и не предлагает их Данло. А потом осторожно, выбирая слова, стал посвящать Данло в начала трудной фравашийской философии. Его задачей, как фравашийского Старого Отца, был поиск новых учеников и освобождение их от давящего груза прежних верований. Слушая Данло, он усваивал ритм его речи, ударения и ключевые слова, выдающие его главные предрассудки. Фраваши давно уже открыли, что каждая личность обладает уникальным набором привычек, убеждений, претензий и верований; все это образует концептуальную тюрьму, в которой сознание застывает так же крепко, как бабочка во льду. Талант и призвание Старого Отца состояли в том, чтобы подбирать словесные ключи, отмыкающие духовные тюрьмы его учеников. «То, что создано из слов, словами и разрушается», – гласит старая фравашийская пословица, почти столь же старая, как их сложный и могущественный язык, действительно очень древний.
– Верования – это веки разума, – сказал Старый Отец Данло. – То, как мы удерживаем разные вещи у себя в уме, бесконечно важнее того, что там содержится.
– Как мне тогда следует держать там истины Песни Жизни?
– Ты сам должен решить.
– Ты хочешь сказать, что Айей, Гаури и Нунки, все звери и птицы сон-времени – только символы, да? Символы того, что сознание присуще всему живому?
– Все так: их можно рассматривать как архетипы или символы.
– Но Агира – моя вторая половина. Это правда. Когда я закрываю глаза, я слышу, как она зовет меня.
Данло сказал это с улыбкой. Он, хотя и сомневался во всем, чему его раньше учили, по-прежнему находил много правды в мудрости своих предков. Не будучи готов встретить вселенский хаос с невооруженным разумом (и обладая слишком сильной волей, чтобы так просто заменить алалойскую тотемную систему чуждой философией Старого Отца), он решил не отдавать ни крупицы этой мудрости, не подумав сначала как следует.
Агира все еще оставалась для него вторым «я», а не просто символом; Агира все еще звала его, когда он прислушивался, звала к звездам, где он мог наконец найти халлу.
– Так много странных слов и странных мыслей, – сказал он. – Все, что случилось этим вечером, очень странно.
– Ах-ха.
– Но я благодарю тебя за все эти странности.
– Всегда к твоим услугам.
– И за то, что ты взял меня к себе и кормил, хотя ты давал мне шайда-мясо.
– Ох-хо! Не за что, не за что. Алалои – очень вежливый народ.
Данло откинул густые волосы с глаз и спросил:
– Не знаешь ли ты, как мне стать пилотом, чтобы плавать от звезды к звезде?
Старый Отец взял пустую чашку, вертя ее в мохнатых руках.
– Чтобы стать пилотом, надо вступить в Орден. Все так: Невернес, твой Небывалый Город, для того и существует, чтобы обучать отборные умы человечества и принимать их в Орден.
– Нужно пройти посвящение, да?
– Именно посвящение. Мальчики и девочки из многих-многих миров стекаются сюда, чтобы стать пилотами. А также цефиками, программистами, холистами и скраерами – ты даже представить себе не можешь, сколько тут премудростей. Оххо, но в Орден вступить трудно, Данло. Легче налить чаю в чашку одним желанием, без помощи рук.
Фраваши не любят говорить, что то или иное невозможно, поэтому он только улыбнулся и печально свистнул.
– Я должен продолжить свое путешествие, – сказал Данло.
– Путей много, и все они ведут в одно и то же место, как говорят Старые Отцы. Если хочешь, можешь остаться здесь и учиться вместе с другими.
В комнате воцарилась тишина – только семечки пощелкивали. Пока они говорили, пение в доме затихло.
– Спасибо тебе. – Данло потрогал белое перо у себя в волосах. – Кариска – да будет с тобой благодать. Ты был очень добр, но я должен продолжать свой путь. Не можешь ли ты как-то помочь мне?
Старый Отец посвистел задумчиво и сказал:
– В другое время я сам ввел бы тебя в Орден. Но теперь фраваши не имеют никаких официальных отношений со специалистами, которые решают, кому быть пилотом, а кому нет. Однако у меня в Ордене есть друзья, и шанс, хотя и ничтожный, тоже есть.
– Правда?
– Каждый год в конце ложной зимы устраивается состязание своего рода. Экзамены, ох-хо! Пятьдесят тысяч человек прибывают в Невернес, надеясь войти в Орден, и около шестидесяти из них принимают в послушники. Ничтожный шанс, Данло, совсем крошечный.
– Но ты поможешь мне пройти эти испытания?
– Помогу, только… – Глаза Старого Отца теперь превратились в зеркала, отражающие мужество Данло перед лицом слепой судьбы, его пыл и оптимизм, его редкий талант к жизни. Но фраваши никогда не довольствуются отражением лучшего, что есть в другом. Всегда должно остаться место для ангслана, священной боли. – Я помогу, но ты всегда должен помнить одну вещь.
Данло потер глаза и спросил:
– Какую?
– Недостаточно просто искать правду, какой бы благородной ни была эта цель. Ох-хо, правда; этого мало, мало! Если ты станешь пилотом, и отправишься к центру вселенной в поисках тайных истин, и каким-то чудом увидишь вселенную такой, как есть, этого все равно будет мало. Ты должен быть способен сказать «да» всему, что увидишь. Всем правдам, которые тебе откроются. Сказать «да», несмотря на страх и на муки. Что же это за человек, способный сказать «да» перед лицом правды? Такой человек есть, и это асария. Лишь он способен смотреть на зло, болезни и страдания, на все худшие воплощения Вечного Нет, и не обезуметь при этом. Это человек великой души, могущий принять правду вселенной. Но какой науки, какого таланта, какой чистоты взора это требует? Данло, Данло, у кого есть воля, чтобы стать асарией?
И Старый Отец запел порывистую восторженную песню, заставившую Данло задуматься о страхе и о судьбе. Пожелав фраваши спокойной ночи, Данло вернулся к себе, вернулся по длинному каменному коридору в тепло и уют своей постели, но уснуть не смог. Он просто лежал, играл на шакухачи и думал обо всем, что случилось с ним в комнате Старого Отца.
Быть асарией, говорить «да» шайде, и халле, и другим правдам жизни – ни одна мысль еще не волновала его так сильно.
Агира, Агира, взывал он мысленно, есть ли у меня, Данло Дикого, воля, чтобы стать асарией? Всю ночь он играл на шакухачи, и в придыхающей странности музыки ему слышалось «да».
Глава IV ШИ
Метафизики Тлена смотрят на время как на самое иллюзорное из умственных построений. Одна из их школ учит, что настоящее бесформенно и неопределенно, будущее – всего лишь надежда настоящего, а прошлое – память настоящего, живущая в умах людей. Другая школа считает, что вселенная была создана не далее как несколько мгновений назад (или же продолжает создаваться вечно), а память всех разумных существ отражает прошлое, которого не было. Фундаментальная доктрина третьей школы состоит в том, что время уже осуществилось целиком и наша жизнь – это лишь смутные воспоминания Бога[16].
Вторая Энциклопедия Тлена, т. MXXVI, с. 33Данло не мог знать, насколько это действительно трудно – вступить в Орден. На планетах Цивилизованных Миров существуют тысячи элитных орденских школ. Ученики обычных школ стремятся попасть в них, в элитных же идет борьба за право оказаться среди немногих избранных, которые станут послушниками Невернесской Академии. Эти избранные прибывают в Город Света, где человек всегда чувствует себя в центре событий, в том числе космического масштаба, и ему кажется, что самые великие открытия еще впереди. Невернес и в самом деле представляет собой духовный центр самой блестящей цивилизации, известной человечеству. Кто не хотел бы посвятить свою жизнь поиску знаний и истины под сенью ее серебристых шпилей? Кто не хотел бы приобщиться к радостям творчества, к содружеству умов, а прежде всего – к власти, став пилотом или специалистом Ордена? Такая жизнь (а поскольку мастерам различных дисциплин возвращают молодость многократно, она может быть очень-очень долгой) кажется столь притягательной, что многие не блещущие талантами люди пытаются пробиться в Орден хитростью или подкупом. Этим корыстным душам надеяться, разумеется, не на что, но для других, для тысяч неудачливых мальчишек и девчонок с захолустных планет, где элитных школ не имеется, надежда, хотя и слабая, все же есть. Как сообщил Данло Старый Отец, мастера Ордена каждый год устраивают конкурс. Впрочем, получить право на участие в нем не так-то просто – не говоря уже о поступлении в Борху, начальную школу Академии. Прежде всего подается прошение. Каждый претендент – мальчик, девочка или гермафродит, что тоже случается – должен найти себе поручителя, который и обращается с прошением к Мастеру Наставнику Борхи. Поручитель гарантирует одаренность и целеустремленность своего протеже, а прежде всего – его желание поступить в послушники. Каждый год подается более пятидесяти тысяч прошений, но принимается лишь одно из семи. В конце ложной зимы, когда солнце светит ярко и лед на море тает, около семи тысяч наиболее удачливых допускаются к участию в чрезвычайно строгих испытаниях.
– Ох-хо, я поручился за тебя, – сказал Старый Отец Данло несколько дней спустя. – Подал прошение от твоего имени. Поживем – увидим.
В ожидании ответа – который вызывал большие сомнения оттого, что Бардо Справедливый, Мастер Наставник, по слухам, был противником учения фраваши, как и всех прочих учений, существующих за пределами Ордена – Данло усваивал тысячи навыков, необходимых для выживания на странных улицах и среди еще более странных обычаев Города. Файет взяла на себя труд обучать его языку Цивилизованных Миров, чем они занимались вечерами. По утрам же, когда воздух чист и свеж, чернокожий Люйстер Отта, первым нарекший мальчика Данло Дикий, учил его кататься на коньках. Черный и быстрый, как ворон, он выводил Данло на покрытые льдом улицы и показывал ему шаги и хоккейное торможение, при котором надо сделать четверть оборота и зарыться коньками в лед. Данло сразу пристрастился к этому захватывающему спорту.
Ему казалось вполне естественным, что улицы вымощены льдом, хотя других приезжих глиссады и ледянки, как они называются, частенько ошарашивают. Целыми днями он раскатывал по Кварталу Пришельцев, впитывая впечатления своей новой жизни. Жаркое желтое солнце, прохладный ветер, каскад ледяных брызг при внезапной остановке – все это доставляло ему удовольствие. Ему нравились мягкие прикосновения сореша, свежего снега, который шел через два дня на третий, и воробьи под стрехами домов – их чириканье, их яркие оранжевые клювы, даже меловой запах их помета. Все это было реальным, и он цеплялся за реалии нового мира, как ребенок за длинные волосы матери.
Другие вещи казались ему менее реальными. Экология Города была для него загадкой. Кто сшил его парку, снабдив ее замечательным устройством под названием «молния»? Откуда берется еда? Старый Отец сказал ему, что злаки и орехи выращиваются в теплицах к югу от Невернеса, и сани, груженные продуктами, ездят по улицам каждое утро. Данло видел эти сани, ярко раскрашенные прозрачные раковины на стальных полозьях, совсем не похожие на запряженные собаками нарты. Они двигались, ритмично выталкивая из себя струи пламени. На первых порах он сильно пугался этих быстрых огненных чудищ. Большое недоумение вызывали у него хариджаны[17], возившие в таких санях ношеную одежду, поломанную мебель и пищевые отбросы. Он не понимал, как люди могут заниматься такой работой. Старый Отец со своим типичным фравашийским юмором объяснил ему, что люди изобрели цивилизацию именно для того, чтобы создать низшие классы, убирающие за другими мусор. Со временем ужас Данло сменился любопытством, а любопытство – сомнениями: а что, если сани взбунтуются против своих хозяев и откажутся возить грузы? Или вдруг буря, свирепая сарсара, разрушит теплицы, что бы это слово ни означало, – что тогда горожане будут есть? В мире не хватит животных, чтобы прокормить столько народу, – значит, им придется питаться друг другом? Неужели они не знают, что это шайда, когда один человек охотится на другого?
Искусственное мясо Данло теперь есть отказывался, но скучал по вкусу шегшея, шелкобрюха или рыбы. Поэтому иногда он украдкой ходил в Городскую Пущу и охотился. Там, среди ручьев и деревьев йау, он обнаружил маленькое стадо шегшеев. Олени с ложнозимними пушистыми пантами и темными доверчивыми глазами не были ни полностью ручными, ни полностью дикими, и убивать их было легко, даже слишком.
Данло обстругал длинную черную ветку осколочного дерева и приделал к ней кремневый наконечник, спрятанный им под паркой. (Старое копье пришлось оставить в доме Старого Отца, поскольку ходить по Горду с оружием не разрешалось.) В два разных дня он убил двух молодых шегшеев и десять гладышей, но потом решил, что в Городской Пуще животных недостаточно много, чтобы охотиться на них. Часть мяса он заморозил, а нежные части съел сырыми. Костер разводить он остерегался. Через лес проходило слишком много тропинок, и окрестные жители ходили сюда кататься на коньках. Данло не знал, что в Городе нет закона, запрещающего охоту или вырубку деревьев, – просто потому, что никому даже в голову не пришло ввести такой закон. Он чувствовал, однако, что здешним безумным людям не понравится употребление животных в пищу – так же как ему не нравилось их неживое шайда-мясо. В конце концов, после своих многочисленных тайных пиршеств под деревьями йау, Данло решил, что не будет есть никакого мяса – ни искусственного, ни живого, а последует примеру Старого Отца. Злаки, орехи, бобы и фрукты – отныне это станет единственной его пищей.
Самым нереальным в его новой жизни были, пожалуй, сами жители Города. С кожей разных цветов и самыми разнообразными носами, губами и бровями, они походили скорее на демонов из кошмарного сна, и Данло порой спрашивал себя, есть ли у них души, как у настоящих людей. Каждый день встречаясь с ними на улице, он дивился скованности и слабости их тел. Они вечно спешили куда-то, чужие и отстраненные, точно в головах у них вместо мыслей клубился дым. Может быть, их вообще не было здесь в этот миг и они вообще не жили? Их лица, искаженные неотложными нуждами, страхами и спешкой, казались Данло уродливыми и трудными для прочтения. Что они думают о нем, с его белым пером в разлохмаченных ветром волосах? По правде сказать, они его вовсе не замечали, как будто не видели – не видели его любопытства, его одиночества, его не тронутого цивилизацией духа. Он был одет почти как алалой, в новую белую парку, подаренную ему Старым Отцом, но так одевались многие.
Были, однако, и другие, одетые намного ярче: аутисты, мозгопевцы, цефики, хариджаны и проститутки – представители множества сект и профессий. Мимо Данло проносились красные плащи, изумрудные свитера и шубы всех цветов и оттенков. Кадеты-холисты носили кобальтовые камелайки, другие щеголяли в атласных камзолах с драгоценностями, в одежде из хлопка, из шерсти и в кимоно из ткани под названием шелк.
Почти вся эта одежда была красива на свой пестрый, ошеломляющий лад, и эта красота воспринималась уже с трудом. Через некоторое время Данло начинало тошнить от избытка красок и форм, как от слишком большого количества переспелых ягод йау. Для красот Города он изобрел выражение «шона-мансе», то есть красота, созданная руками человека.
Она не отличалась глубиной, да и разнообразием тоже, несмотря на разные цвета и материи. Какой-нибудь кусок гранита с розовыми и черными вкраплениями кварца, слюды и силикатов был сложнее и разнообразнее самого красивого кимоно. Многие здания – слава Невернеса! – были облицованы как раз гранитом, базальтом и другими природными материалами. Когда Данло смотрел на восток, шпили Старого Города отливали серебром и чернью. Да, это было красиво, но подобная красота чересчур ослепляла своим совершенством. Ни один из этих шпилей не мог сравниться с горой, предстающей во всей неправильности своих складок, деревьев, камней и снегов, как и сам Город казался плохо уравновешенным и неживым по сравнению с красотой мира. Разве мог Данло надеяться найти халлу в этом месте, где все ненастоящее? Ночами он иногда потихоньку выходил из дома, чтобы посмотреть на звезды, но в небе, куда ни глянь, торчали черные городские шпили. Он видел только сверхновые, Нонаблинку и Шураблинку, да загадочный Золотой Цветок – остальные звезды закрывало зарево миллионных городских огней. О благословенный Бог, думал Данло, зачем люди Города ставят столько разных вещей между собой и миром?
Однажды он спросил об этом Старого Отца, и тот, поглаживая белый мех у себя на лице в подражание задумавшемуся человеку, ответил:
– Ох-хо, скоро ты узнаешь о Пятой Ментальности и Веке Имитации, но пока тебе достаточно понять одно: каждая раса, у которой есть язык, сталкивается с проклятием – и благословением – фильтрования реальности. Ты говоришь, что люди в Городе отрезаны от жизни, но ты еще не бывал на Триа, где тубисты и богатые купцы почти всю жизнь проводят в пластиковых коробках, дыша кондиционированным воздухом и глядя в сенсорные ящики. А искусственные миры вокруг Киприаны Люс? И алалои тоже – разве они не отгораживаются от холода шкурами животных? Ох-хо! Может, ты скажешь, что у твоих алалоев нет языка?
Данло, пообщавшись с почтенным фраваши, уже начинал понимать, как из слов создается реальность.
– У них есть язык, – сказал он. – На второе утро мира бог Квейткель поцеловал замерзшие губы Елены, Манве и других детей Деваки. Сделав это, он даровал им Песнь. Она сложена, чтобы сыновья и дочери мира знали, каков он, этот мир. Слова ее чисты, как новый снег сореш, – не то что путаные слова цивилизованного языка, которому меня учит Файет.
– Ох-хо! Ты опять главеруешь, хотя должен остерегаться главеринга, как оленуха шегшея – волка. Со временем ты оценишь красоту и тонкости этого языка. Ох-ах, концепций и точек зрения много. Очень много реальностей помимо холодной конкретности сореша и сарсары и даже помимо того, что ты называешь альтйиранга митьина.
– Ты знаешь о сон-времени моего народа?
– Я не был бы фраваши, если бы не знал, что такое сон-время. Оно занимает особое пространство, подобное пространству самадхи. Таких пространств много, очень много. Хочешь узнать слова, которыми они обозначаются?
– Я и так уже весь переполнен словами. Вчера я узнал от Файет три новых – это названия трех способов восприятия истины.
– Что же это за слова?
Данло закрыл глаза, вспоминая.
– Ханура, норнура, инура.
– Что такое инура?
– Файет определяет это как наложение друг на друга двух или нескольких конфликтующих теорий, идей или систем знания, чтобы при их пересечении образовалась так называемая сравнительная истина.
– Ох-хо! Даже противоположные, казалось бы, истины могут иметь нечто общее. Итак, инура: держи это слово поблизости, Данло.
Данло запустил пальцы в волосы.
– Столько слов для правды, но ведь правда есть правда, не так ли? Зачем резать правду на тонкие ломтики, как женщина режет печенку шегшея? А пространство есть пространство – почему ты говоришь, что их много?
– Все так: мыслительное пространство и сон-пространство, реальное пространство и множество виртуальных; пространство памяти и область чистой математики, и то, самое странное из всех, которое пилоты именуют мультиплексом. Много пространств и много реальностей.
Данло не мог отрицать, что люди Города живут в иной, отличной от его, реальности, и умы их работают в иных, бесконечно странных пространствах. Сможет ли он когданибудь выучить язык этого странного народа? По правде говоря, он тянул с этим, боясь, что слова безумцев заразят безумием и его.
– Да, все так. Очень жаль, что ты не можешь выучить язык фраваши – тогда ты понял бы, что такое здравый ум, а что безумие.
Данло, как любой другой человек, действительно не мог выучить непостижимый язык фраваши, но мог усвоить их систему, ведущую к здравомыслию и освобождению. Как-никак, фраваши преподавали эту свою систему в Цивилизованных Мирах уже три тысячи лет. Фравизм, как его иногда называют, некоторые определяют как философию или даже религию, хотя он задумывался как антифилософия и антирелигия.
Фравизм в отличие от буддизма, заншина или Звездного Пути, фравизм сам по себе не пытается вести своих последователей к просвещению, пробуждению или слиянию с Богом. То, что искали первые Старые Отцы – а некоторые и до сих пор ищут, – это свобода. Они стремятся, в частности, освободить человека от различных культур, языков, мировоззрений, культов и религий, порабощавших человечество несчетное число лет. Фравашийская система, помимо всего прочего, показывает, как закладываются индивидуальные взгляды и убеждения в детском возрасте, а в целом представляет собой совокупность способов, помогающих человеку разучиться искаженному и несовершенному взгляду на мир, где эволюционировало человечество. Многие религии, стремясь расширить круг своей паствы, перепрограммируют новообращенных. Для этого используются разные средства: изоляция, парадоксы, психический шок, даже наркотики и секс – а затем старые доктрины и верования заменяются новыми. Но фравашийские Старые Отцы не пытаются вселить в своих учеников новый набор верований и ограничиться этим. Их цель – полная трансформация мировосприятия, то есть способов, которыми зрение, слух и мозг упорядочивают хаос и реальность мира. Если быть точным, они стремятся эволюционизировать новые чувства.
– Все так, – сказал Старый Отец, – через миллион лет человек так и остался человеком: он слушает, но не слышит, имеет глаза, но не видит. А хуже всего, ох-хо; что у него есть мозг, которым он думает, и думает, и думает, но по-прежнему ничего не знает.
В беседах с учениками Старый Отец часто предостерегал их против того, что считал фундаментальной философской ошибкой человечества: против восприятия мира как чего-то разбитого на отдельные объекты. Он говорил, что реальность на любом уровне, от фотонов до философских бредней и сознания живых организмов, – это жидкая субстанция, обтекающая все, как большая сверкающая река. Дробить эту реальность на отдельные категории, созданные разумом, занятие глупое и бесполезное, все равно что пытаться заключить луч света в темный ящик. Эта страсть к разложению на части оказалась роковой для человека, ибо как только этот процесс начался, легкого и естественного возврата к здравомыслию уже не стало. Бесконечное неизбежно сделалось конечным, добро – противоположностью зла, мысли закостенели и превратились в верования, чьи-то радости и открытия – в железные догмы, и человек, отчужденный от всего, что воспринимал как постороннее, в конце концов поделил себя самого на тело и душу. Согласно учению фраваши, такое неправильное восприятие мира – источник всех страданий; оно подчиняет человека иллюзиям и заставляет его цепляться за жизнь – не такую, как она есть, а такую, какой он хочет ее видеть. Человек во всем ищет смысла, все время стремится сделать свою жизнь безопасной и понятной и потому не живет по-настоящему. И фраваши хотят облегчить его мучения.
Фраваши с помощью своих ключевых слов, своего пения и своей логики возвращают человека к самому себе, и первая часть этой программы освобождения – это изучение языка под названием мокша. Данло, познакомившись получше с порядками в доме Старого Отца, нырнул во фравашийскую систему с восторгом тюленя, плавающего в океане, и тут же опять столкнулся со словами и правилами чужого языка.
– Почтенный, я и с основным-то языком запутался, – сказал он Старому Отцу. – А теперь ты говоришь, что мне и мокшу учить надо, притом одновременно.
– Ха-ха, вот именно запутался, но Старые Отцы для того и придумали мокшу, чтобы помочь человеку распутаться. Учись, а там увидим.
Если фравашийская система в целом предназначена для освобождения человека от каких бы то ни было систем, то мокша была сконструирована как щит против нытья и лепета всех человеческих языков. Это язык синтетический: слова, специально изобретенные для непривычных концепций, сочетаются в нем с тысячами других, заимствованных из санскрита, английского, старояпонского и, само собой, из различных языков Тлена. Фравашийские отцы считают тлёнскую языковую семью самым совершенным из всех языков Старой Земли; из тлёнской грамматики они позаимствовали синтаксис, послуживший оправой для кристального фравашийского мировоззрения. Кое-кто утверждает, что мокша не менее трудна, чем сам фравашийский язык, но умный ученик обычно овладевает ею без проблем, как только избавляется он нескольких привычных понятий. Так, в мокше нет глагола «быть» в том смысле, что какая-то вещь может быть чем-то еще. Как говорят фраваши, «все есть, но ничто не есть что-то». Нельзя сказать на мокше: «Я – пилот». Можно сказать, например, так: «Я работаю пилотом», или «Я учился профессии пилота», или даже «Я пользуюсь привилегиями пилота», но заявить «я то-то и то-то» столь же немыслимо, как поведать: «Я – тарелка супа».
Сначала этот аспект мокши смущал Данло, поскольку он думал, что путь к здравомыслию заключается в том, чтобы видеть взаимосвязанность всех вещей. Он был знаком с санскритским уравнением «тат твам аси» – ты есть то. В каком-то смысле он действительно был тарелкой супа (и снегом, и камнем, и птицей с белыми перьями), был одним и тем же. Считая, что в санскритском изречении заключена глубочайшая мудрость, он спросил Старого Отца, почему мокша такого выражения не допускает.
– Ах-ха, – ответил тот, – дело тут не в мокше, а в естественных человеческих языках. Взять тот же санскрит. Есть ли в нем слово «ты»? Есть. А слово «я»? Есть, как ни печально. И вот язык, имея столь ядовитые понятия, вынужден прибегать к парадоксам, чтобы убрать из них яд. Ты есть то – мудро, не так ли? Красиво, сжато и глубоко – но это негодный способ для выражения вселенской истины. Есть ли способ лучше? Оххо, я учу тебя мокше. Если ты выучишь этот великолепный язык, правда будет звучать не в каком-то одном бессмертном изречении, но в каждой твоей фразе.
Данло тогда приналег на мокшу и вскоре обнаружил еще одну причину, по которой нельзя сказать «я – пилот». Мокша, похоже, целиком освободилась от владычества местоимений, в том числе и от самого ядовитого из них.
– Почему, ты думаешь, мокша подвергла изгнанию слово «я»? – спросил как-то Старый Отец. – Что это за «я», к которому человек так привязан? Вымысел чистой воды, величайшая фантасмагория. Можно ли подержать «я» в руках или попробовать на вкус? Можно ли дать ему определение или хотя бы увидеть его? «Что я такое?» – спрашивает человек. Гораздо уместнее было бы спросить: «Чем я не являюсь?» Сколько раз ты слышал: «Я сегодня не в себе» или: «Я не хотел этого говорить»? Ха-ха, вот я танцую – что же я такое? Движение и грация всего моего организма или просто ощущение себя, жмущееся в теле, словно нищий в холле роскошного отеля? Или «я» – это благородная, добрая, умная и сильная часть меня? Не одобряющая похотливую, эгоистичную и шальную часть? Кто я? «Я то-то и то-то», – говорит человек. Я в отчаянии, я буйствую, я не принимаю собственного отчаяния и буйства. Кто их не принимает? Я мальчик, я мужчина, я отец, охотник, герой, любовник, трус, пилот, асария и дурак. Которое из этих «я» ты – Данло Дикий? Где твое «я», которое меняется от настроения к настроению, с детства до самой старости? Есть ли в нем что-то, помимо памяти и любви к кушанью, которое ты называешь «носовым льдом»? Исчезает ли оно, когда ты спишь? Умножается ли вдвое в момент сексуального экстаза? Умирает ли вместе с тобой – или продолжает умножаться бесконечно? И как ты можешь об этом узнать? Все так: ты должен наблюдать за собой, чтобы не утратить свое «я». «Каким образом?» – спросишь ты. Ага! Если я наблюдаю за собой, которое «я» наблюдает за наблюдателем? Может ли глаз видеть сам себя? Как же тогда «я» может себя видеть? Сними кожицу с луковицы, и ты увидишь под ней другие слои. Поищи свое «я». Кто будет искать? Ты. О Данло, но кто будет искать тебя?
Постепенно Данло открыл, что мокша разделалась не только с местоимениями, но и со всем классом существительных.
Фраваши существительные ненавистны, как людям – болезни. Старый Отец говорил, что существительные – это лингвистические морозильники, превращающие в лед текучую жидкую реальность. Используя существительные для обозначения и ограничения всех аспектов мира, легко принять символ за реальность, которую он представляет. В этом состоит вторая великая философская ошибка, которую фраваши обозначают как «малая майя». Говоря на мокше, эту ошибку трудно совершить, так как функцию существительных там большей частью замещают глаголы, а также прихотливые вязанки прилагательных. Звезду, например, можно описать как «ярко-белая-продолжающая гореть», а сверхновую как «лучистая-великолепная-умирающая». Правила, ограничивающего выбор или количество определений, не существует, и можно создавать бесконечно длинные, точные (и красивые) концепции, нанизывая слова, как бусины на нить.
Фанатов мокши в их описании мира ограничивают только собственное восприятие и поэтическая одаренность. Говорят, что один из первых невернесских Старых Отцов изобрел в виде упражнения десять тысяч слов для обыкновенного снежного яблока. Но для того, чтобы хорошо говорить на мокше, не обязательно обладать фравашийским словесным мастерством.
В начале зимы, когда первый легкий снег припорошил улицы, Данло достаточно овладел языком, чтобы строить простые конструкции типа «Чена бокагеладесанга фарас», что значит примерно «эти честолюбивые-яркие-дикие-становящиеся пилотами».
Если бы Данло при его феноменальной памяти подольше задержался в доме Старого Отца, он мог бы стать специалистом по мокше, а не пилотом. Но пока он сочинял стихи о животных и развлекал Старого Отца, пытаясь описать алалойское сон-время, его яркая судьба уже приближалась к нему быстро и неотвратимо, как свет взорвавшейся звезды.
На девяносто третий день зимы, когда Данло стал думать на мокше, нарастил себе мускулы и загорел под теплым городским солнцем, Старый Отец позвал его к себе и сообщил, что его прошение в конце концов приняли.
– У меня для тебя хорошие новости. Бардо Справедливый не любит фраваши, но другие мастера и специалисты его чувств не разделяют. Николос Петросян, Главный Акашик, просто обожает фраваши, ох-хо. Он мой друг, и он уговорил мастера Бардо принять мое прошение. Это большое одолжение и мне, и тебе.
Данло, ничего не знавший о системе взаимных одолжений, сказал:
– Я хотел бы познакомиться с лордом Николосом – должно быть, он добрый человек.
– Да, но когда-нибудь, если ты выдержишь конкурс, тебе, возможно, придется отблагодарить его более существенным образом. Но пока что тебе достаточно просто принять участие в конкурсе. А чтобы участвовать в нем хоть с какой-то надеждой на победу, тебе нужно выучить основной язык.
– Но я учу его, почтенный.
– Да-да. Ты по десять часов в день распеваешь песни на мокше, а основному едва ли уделяешь полчаса.
– Но основной – такой некрасивый язык. Такой… корявый.
– Ах-ха, но в Ордене мало кто теперь говорит на мокше. Это почти мертвый язык. В колледжах и башнях Академии царит основной.
Данло потрогал перо у себя в волосах.
– Файет думает, что через год я буду бегло владеть им.
– Но у тебя нет года. Конкурс начинается 20-го числа ложной зимы.
– Все равно остается больше полугода.
– Это верно. Но для поступления в Академию тебе потребуется не только язык. Основной – это лишь дверь к другим знаниям, Данло.
– И ты думаешь, что эту дверь надо открыть прямо сейчас?
– Ох-хо, решать тебе, конечно. Если хочешь, мы можем взять прошение назад и подождать до будущего года.
– Нет. – Данло почти ко всему относился к твердокаменным алалойским терпением, но при мысли о путешествии, которое он должен был завершить, оно ему изменяло. – Я не могу ждать так долго.
– Есть еще один способ.
– Да?
– Любой язык – человеческий язык – можно выучить за одну ночь. Впечатать его себе в мозг.
Данло знал, что источник разума помещается у него в голове, в шишковидной железе, которую он называл третьим глазом. Но мозг – это всего лишь розовый студень, защищающий эту шишку от холода. Мозги животных очень вкусны, а перемешанные с золой, служат для выделки свежих шкур.
– Как может удержаться язык в складках этого студня?
Старый Отец, тихо посвистев, прочел Данло краткую лекцию о строении человеческого мозга. Прижимая свои длинные пальцы к черепу Данло, он показывал примерное расположение гаппокампуса и мозжечковой миндалины, заведующих памятью и другими мозговыми функциями.
– Твой мозг, как орех бальдо, поделен на два полушария, правое и левое. Ох-хо, эти две половинки – как два разных мозга. Потому-то человек так и страдает от раздвоения: одна половина говорит ему «да», а другая – «нет».
Данло потер глаза. Снисходительный тон Старого Отца порой надоедал ему. Он достаточно долго прожил у него в доме, чтобы научиться сарказму, и поэтому спросил:
– А у фраваши мозг цельный? Не потому ли он вечно дрыгается, как проткнутая острогой рыба, и никогда не знает покоя?
– Ты смотришь в корень, – ласково улыбнулся Старый Отец. – Мозг фраваши, ага! Все так: он у нас поделен на четвертушки. Фронтальные доли, – он с тихим свистом потрогал свою голову над золотистыми глазами, – почти целиком предоставлены языкам и сочинению песен. Другие части исполняют другие функции. Надо тебе знать, что фраваши и спят по четвертям. Мы больше думаем, чем вы, лучше умеем сочинять и исполнять музыку, поэтому и спим больше, много больше. И видим сны. В любой момент одна, две или три четверти нашего мозга находятся в состоянии сна. Мы редко бодрствуем полностью. И никогда, никогда, никогда не должны спать на все четыре четверти.
Данло трудно было представить себе такой разум – он потряс головой и улыбнулся Старому Отцу.
– А что говорят тебе твои четыре четверти? «Да», «нет», «возможно, да» и «возможно, нет»?
– Ох-хо! Человек шутит над мозгом фраваши!
Данло посмеялся вместе со Старым Отцом, потом посерьезнел и спросил:
– В твоем мозгу язык помещается так же, как в моем?
– Ах-ох, лучше сказать, что мозг фраваши впитывает язык, как полотно – воду. Существуют глубокие структуры, универсальные грамматики для слов, музыки и других звуков – услышав что-то один раз, мы уже не можем это забыть.
– Но я человек и могу забывать, да?
– Ох-хо, потому тебе и нужен импринтинг, если хочешь выучить язык быстро и во всей полноте.
Данло вспомнил то, что усвоил быстро и во всей полноте в ночь своего посвящения, и спросил:
– А это очень больно?
Старый Отец улыбнулся своей садистской улыбкой, и его глаза превратились в золотые зеркала.
– Больно ли? Ах-хо. Во время твоих прогулок с Оттой тебе встречались жакарандийские проститутки?
Данло был бы шокирован, узнав, что есть женщины, продающие секс за деньги – если бы знал к тому же, что такое деньги.
– Не помню, – сказал он.
– Женщины, которые ходят с голыми животами, показывая всем свои татуировки. Это красные и пурпурные рисунки обнаженных женщин, сопровождаемые зеленой и синей рекламой их ремесла.
– А, эти женщины. – Данло уже проникся красотой и изяществом горожанок. – Они очень красивые, да? Я не знал, как они называются.
Старый Отец просвистел мотивчик, выражавший неодобрение проституткам, но до Данло это не дошло.
– Импринтинг – все равно что татуировка мозга. Неизгладимые звуки и картины закрепляются в синапсах, а сами синапсы напоминают застывшие во льду шелковые нити. Физической боли ты не испытываешь, поскольку в мозгу нервов нет. Но боль иного рода – ах! Прилив новых концепций, точек отсчета, связей между словами – ты не можешь себе представить всех возможных ассоциаций. Ох-хо, еще какая боль, ангслан! Оттого что ты внезапно становишься больше, чем был. Боль узнавания. Ох, больно, больно.
На следующий день Старый Отец повел Данло в импринтинговую мастерскую. Их путь проходил по знаменитой ледянке Фраваши, длинной оранжевой улице, ведущей мимо улиц Путан и Контрабандистов в самое сердце Квартала Пришельцев. Старый Отец держался на коньках неуклюже – его тазобедренные суставы, не столь гибкие, как у человека, к тому же похрустывали от артрита. Описывая кривую, он часто опирался на Данло, чтобы не упасть, и постоянно останавливался отдышаться. Странная это была пара: Данло со своим открытым лицом и любопытными глазами и добродушный, непроницаемый фраваши, высящийся над ним, как мохнатая гора.
Ввиду теплой погоды Данло оделся легко, в белую полотняную рубашку, шерстяные брюки и черную шерстяную куртку (это наряд, само собой, дополняло белое перо в волосах). Это был один из чудесных зимних дней – небо синело, как яйцо талло, и свежий соленый ветер дул с океана. В уличных ресторанах и кафе по обе стороны дороги многочисленные посетители смотрели на текущий мимо людской поток. Здесь было на что посмотреть. По мере углубления в Квартал толпа становилась все гуще, ярче, колоритнее и опаснее. Прибавилось проституток и мастер-куртизанок в бриллиантах и натуральных шелках. Были тут хибакуся в лохмотьях, босоногие аутисты, хариджаны, тубисты, купцы, червячники и даже несколько нищенствующих воинов-поэтов, покинувших свой орден ради удовольствий Невернеса. Звуки и запахи человеческих толп наполняли воздух. Пахло свежим хлебом, колбасами, жареным кофе, озоном, дымом, тоалачем, мокрой шерстью и намеком на секс. Эти запахи волновали Данло, хотя их трудно было отделить один от другого или определить их источник. В давке на углу улицы Печатников одна пухлая потаскушка прижалась к нему и запустила пальцы в его волосы.
– Какие они у тебя густые и красивые. Черные с рыжиной – они настоящие? Никогда еще не видала таких волос. – Старый Отец свирепо засвистел, прогоняя ее, а Данло втянул в себя аромат роз, оставленный ее потными пальцами на его волосах. Запах этого незнакомого цветка доставлял ему наслаждение, хотя эта девушка могла бы заметить, что он мужчина, а не мальчик.
Мастерская Дризаны Лиан была одной из самых маленьких среди многочисленных заведений улицы Печатников. Помещалась она между шумным кафе и богато разукрашенной мастерской Багхейма. Багхейм ослеплял витражами, к Дризане вела неприметная гранитная арка; Багхейма осаждали богато и модно одетые клиенты, мастерская Дризаны частенько пустовала.
– Дризана не пользуется популярностью, – объяснил Старый Отец, постучавшись в железную дверь. – Это потому, что она отказывается от большинства заказов. Но лучшего мастера в Городе нет.
Дверь открылась, и Дризана с учтивым, хотя и стоившим ей труда поклоном пригласила их войти. Оказывая внимание им обоим, она дала понять, что особенно рада видеть Старого Отца, которого знала с самого его появления в Городе. Она говорила с ним на основном языке, из которого Данло улавливал лишь каждое десятое слово.
– Дризана, – сказал Старый Отец, – позволь представить тебе Данло.
– Просто Данло?
– Его зовут Данло Дикий.
Они шли через пустой вестибюль очень медленно, потому что Дризана была очень стара. Одетая в коричнево-серое платье, она едва тащилась. Как и Старый Отец, она не признавала омоложений. Данло еще ни разу за все свое пребывание в Городе не видел такой старой женщины. Ее длинные седые волосы были стянуты в узел, и глубокие морщины покрывали желтовато-белое, как старая кость, лицо. Очень многие сочли бы ее безобразной, но Данло так не думал. Ему она казалась красивой. У нее было свое лицо, как говорят деваки. Ему нравился ее крохотный круглый нос, красный, как ягода йау, нравились ровные белые зубы, хотя он и дивился, как это она их сохранила. У всех женщин его племени задолго до возраста Дризаны зубы превращались в бурые пеньки от жевания кож, из которых они шили одежду. Но больше всего ему нравились ее глаза – темно-карие, твердые и мягкие одновременно, говорящие о сильной воле и любви к жизни. Что-то в ее лице и глазах вселило в Данло покой, которого он не знал с тех пор, как покинул свой дом.
Она привела их в комнату без окон и усадила на твердые деревянные стулья у голого деревянного стола.
– Мятного чаю для почтенного фраваши? – спросила она, открывая лакированный чайный шкафчик у темной стены. – А мальчику что налить? До вина, пожалуй, он еще не дорос.
Она подала мятный чай обоим, а потом достала хрустальный графин и налила себе полбокала вина.
– Говорят, алкоголь лишает фраваши разума. Интересно было бы посмотреть на сумасшедшего фраваши!
– Ох-хо! Да, интересное было бы зрелище.
Дризана, опустившись на стул, спросила:
– Полагаю, Данло пришел, чтобы что-то впечатать? Наверняка язык. Старый Отец постоянно приводит ко мне своих учеников для обучения языкам. Который на этот раз? Английский? Суахили? Новояпонский? Санскрит или язык жестов, который нейрологики применяют на Сильваплане? Я уверена, что ты и чудовищно трудный фравашийский хотел бы выучить, но это невозможно. Его впечатать нельзя. Я билась над ним восемьдесят лет и освоила только несколько вариаций свиста.
Данло, ничего не поняв, постучал себя по лбу и улыбнулся.
Дризана, омочив губы вином, просвистела что-то Старому Отцу. На самом деле она знала достаточно фравашийских нот, чтобы смысл ее фразы был понятен: «Что такое с этим мальчиком?»
Старый Отец, любивший поговорить на родном языке, с улыбкой просвистел ей в ответ: «Все так: ему нужно выучить основной язык».
– Что? Да ведь основной знает каждый житель Цивилизованных Миров.
– Все так.
– Так он не из Цивилизованного Мира? Потому ты и зовешь его Данло Дикий? Не имя, а прозвище какое-то – бедный мальчик. Но он точно не из Японских Миров, и не похоже, чтобы он подвергался генной инженерии.
По правде сказать, один из предков Данло подправил-таки нелегально свои гены – отсюда и черные с рыжиной волосы.
Но в комнате было темно, а зрение Дризаны ослабело от старости, и она не разглядела рыжих нитей в его волосах. Зато она видела, что у него нет признаков полностью переделанных рас: ни голубой кожи, ни лишних пальцев на руках, ни перьев, ни меха, ни жабр.
– Ах-ох, не могу тебе сказать, откуда он взялся, – просвистел Старый Отец.
– Так это секрет? Ты же знаешь, я обожаю секреты.
– Это не мой секрет.
– Ну, фраваши известны своей таинственностью. – Дризана допила вино и встала, чтобы налить себе еще. – Впечатать основной язык – ничего не может быть проще. Даже о цене неудобно говорить.
Старый Отец зажмурил один глаз и медленно просвистел:
– Я надеялся, что ты возьмешь обычную плату.
– Хорошо, договорились.
Обычной платой была наркотическая песня, которую Старый Отец пел Дризане по окончании сеанса. У фраваши самые сладостные голоса во вселенной, и их пение одурманивает человека, как наркотик. Деньги как средство расчета и тот, и другая презирали. Старый Отец, как фраваши, не принимал их всерьез, а Дризана, хотя и вышла из Ордена много лет назад, еще держалась за старые ценности. Она верила, что деньги – это зло, а юные умы надо развивать, чего бы это ни стоило. Она охотно впечатывала молодежи новые языки, но никогда не стала бы прививать человеку волчье сознание, или переделывать застенчивую девушку в распутницу, или проделывать еще тысячу изменений личности, столь популярных среди скучающих или отчаявшихся людей. Потому-то ее мастерская, как правило, и пустовала.
Она налила себе третий бокал, уже из другого графина. Данло с улыбкой наблюдал за ней.
– Мы поступаем очень грубо, – просвистела она Старому Отцу, – говоря при нем на языке, которого он не понимает. И никто другой тоже не понимает. Мне нужно будет говорить с ним, когда начнется сеанс, а тебе придется переводить. Ведь ты говоришь на его языке, верно?
Старый Отец, которому лгать запрещалось, ответил:
– Все так, говорю. Ох-хо, но ведь если я буду переводить, ты узнаешь язык и поймешь, откуда Данло родом.
Дризана подошла к Данло и положила руку ему на плечо.
Под ее обвисшей кожей змеились тонкие голубые вены.
– Как ты его засекретил! Хочешь хранить свои тайны – храни, но я ничего не смогу сделать, если не смогу говорить с ним.
– Пожалуй, ты могла бы поговорить с ним на мокше.
– Вот как? Он хорошо ею владеет?
– Да, прилично.
– Боюсь, что этого мало.
Старый Отец закрыл оба глаза на непривычно долгое время, перестал свистеть и начал мурлыкать. Потом посмотрел на Данло и сказал:
– Ло ти дираса, ах-ха. Я буду передавать тебе слова Дризаны.
– Он говорит по-алалойски?
– Так ты узнала язык?
– Как я могла его не узнать? – Дризана, говорившая на ста двадцати трех языках, так разволновалась, что перешла на основной, забыв, что Данло его не понимает, и стала рассказывать о самом важном, что произошло в Ордене со времен основания Невернеса. – Вот уже четыре года, как Мэллори Рингесс вознесся на небо – так по крайней мере утверждают его последователи. Я лично думаю, что Главный Пилот отправился в другое путешествие – вселенная огромна, не так ли? Кто знает, вернется ли он назад. Все говорят, что он теперь бог и никогда не вернется. Известно, однако, что Рингесс впечатал себе алалойский – он был знатоком редких и древних языков. Теперь, похоже, все ему подражают – вот и молодой Данло, как видно, сделал то же самое. Это настоящий культ, апофеоз Рингесса. Как будто обучение одному из языков может приблизить кого-то к божественному состоянию.
Старому Отцу пришлось все это перевести, что далось ему почему-то с большим трудом. Попеременно открывая и закрывая каждый глаз, он вздыхал, мямлил и запинался. Данло подумал, что фраваши на три четверти спит, так много времени затратил тот на эту речь.
– Мэллори Рингесс был пилотом, да?
– О да. Знаменитым пилотом. Он стал Главным Пилотом, а потом и главой Ордена. Одни ненавидели его, другие, немногие, любили. Было в нем что-то, вызывавшее в людях либо любовь, либо ненависть. Двенадцать лет назад в Ордене произошел раскол и вспыхнула война. Рингесс, помимо прочего, был и воином. Все так: он был подвержен гневу и насилию. Скрытный человек, жестокий и тщеславный. Но его характер этим не исчерпывается, ох-хо. Чрезвычайно сложная натура. Добрый, и благородный, и сострадательный. Отмеченный судьбой. Правдолюбец – даже его враги это признают. Он посвятил свою жизнь поиску Старшей Эдды, тайны богов. Одни говорят, что он нашел ее и стал-таки богом, другие – что он потерпел неудачу и с позором покинул Город.
Данло подумал немного. Чайная комната Дризаны хорошо подходила для размышлений. Чистая, голая и освещенная естественным огнем, она чем-то напоминала ему снежную хижину. (Высоко по стенам комнаты, на маленьких деревянных полках, стояло десять серебряных подсвечников, и свечи горели знакомым желтым пламенем.) Запах горячего воска и угля смешивался со сладковатым сосновым душком, который исходил от людей, готовых перейти на ту сторону. Данло провел пальцем по лбу и произнес вслух:
– Возможно ли, чтобы человек стал богом? Цивилизованный человек? Как это так? Люди есть люди – зачем человеку делаться богом?
Возможно, Старый Отец лгал или говорил метафорами. А может, в таком шайда-месте, как Город, человеку и правда приходит желание сделаться богом. Данло не понимал по-настоящему цивилизованных людей и не представлял себе, в какого рода богов они могут превратиться. Но тут ему в голову пришла поразительная мысль: ему и не надо понимать всего, чтобы поверить в рассказ Старого Отца и Дризаны. Свой первый сознательный шаг в качестве асарии он сделает, сказав «да» этой фантастической идее о превращении человека в божество – по крайней мере пока не поймет все это более ясно.
– Что такое Старшая Эдда? – спросил он Старого Отца.
– Ох-хо, Старшая Эдда! Никто не знает этого в точности. Была когда-то раса богов, Эльдрия – давным-давно, три миллиона лет назад. Когда люди еще жили на деревьях, а фравашийские кланы воевали между собой, Эльдрия будто бы раскрыли тайну вселенной. Философский Камень, Священное Древо, Неопалимая Купина, Чистая Информация, Бесценная Жемчужина, Река Света, Скутарийское Кольцо, Универсальная Программа, Эсхатон. И Золотой Ключ, и Слово, и даже Колесо Жизни. Это и есть Старшая Эдда. Или Бог. Эльдрия в некотором роде стали Богом – или слились с ним. Говорят, они поместили свое сознание – свои индивидуальности – в черную дыру посередине галактики. Но перед этим финальным этапом своей эволюции они сделали дар. Своим избранникам. Не фраваши, не даргинни, не скутари, не фарахимам, не Подругам Человека. Свою тайну Эльдрия, как говорят, доверили только человеку, закодировав Старшую Эдду в его генах. Мудрость, безумие, бесконечное знание, наследственная память – все это и еще больше. Считается, что отдельные участки человеческой ДНК хранят Старшую Эдду в виде чистой памяти. Поэтому в каждом человеке заложена информация о том, как стать богом.
Данло, глядя на тени от свечей на полу, улыбался с юмором и любопытством.
– Что такое ДНК? – спросил он.
– Ах, много тебе предстоит узнать, но не обязательно сейчас. Суть в том, что Рингесс показал людям, как можно вспомнить Старшую Эдду, и они его за это возненавидели. Почему, спросишь ты, – ведь мы все входим в единство вселенной, почему же человек не может стать равным богам? Созидание и память – Бог есть память! Все так: каждый может вспомнить Эдду, но в этом и заложена самая горькая из всех иронии: многие могут услышать Эдду в себе, но немногие способны ее понять.
Данло закрыл глаза и прислушался, но ничего не нашел в себе, кроме стука собственного сердца, и заявил:
– Я ничего не слышу.
Старый Отец улыбнулся и закрыл оба глаза, как Данло.
Дризана, смакуя четвертый бокал вина, наконец обратилась к Данло на его родном языке.
– Кариска, Данло, – да будет с тобой благодать. Я давно не говорила по-алалойски, так что прости, если буду ошибаться. – Сделав большой глоток вина, она продолжала: – Есть особые способы, чтобы вспомнить что-то и услышать. Ты хорошо выбрал время для поступления в Орден. Теперь все стараются научиться мнемонике. Может быть, и ты ею займешься, если тебя примут в Борху.
Вино и обида делали ее речь невнятной. В начале Великого Раскола, уверовав в коррупцию и обреченность Ордена, она отказалась от звания мастера. Теперь, двенадцать лет спустя, среди башен Академии повеяло духом обновления, и Орден казался более жизнеспособным, чем когда-либо за последнее тысячелетие. Будь у Дризаны шанс, она вернулась бы в Орден, но у тех, кто отрекается от своих обетов, второго шанса не бывает.
Данло, который ничуть не боялся прикасаться к старикам, взял Дризану за руку, как будто она была его бабушкой. Его грело тепло ее красивых грустных глаз, хотя он не понимал, отчего она так печальна.
– Боги впечатали Старшую Эдды в людей, да?
– Нет, конечно, нет! – Дризана не стала говорить, что это она впечатывала алалойский Мэллори Рингессу, а значит, несет частичную ответственность за то, каким он стал, и за весь последующий хаос. – Старшая Эдда помещается не в мозгу, а гораздо глубже. Импринтинг – это всего лишь изменение метаболических каналов и нейронов, преобразование мозговых синапсов.
– Синапсы закрепляются, как шелковые нити во льду?
Дризана поднесла бокал к губам, пристально глядя на Данло, потом рассмеялась, и грусть внезапно покинула ее.
– Милый Данло, ты ничегошеньки не понимаешь в том, что мы собираемся сделать, правда?
– Правда. Я всегда думал, что мозг – просто розовый студень.
Дризана, все еще смеясь, потянула его за руку.
– Пойдем. И ты тоже, почтенный фраваши – будешь мне помогать, потому что я слишком много выпила.
Она провела их в свою мастерскую. В центре комнаты на фравашийском ковре, подаренном когда-то Дризане Старым Отцом, стоял мягкий, крытый зеленым бархатом стул, единственный здесь предмет меблировки, если не считать пары голографических стендов позади него. Каждую из шести стен от пола до потолка занимали полированные полки с рядами предметов, похожих на блестящие металлические черепа. Всего черепов было шестьсот двадцать два.
– Это шлемы, – объяснила Дризана, усадив Данло на стул. – Ты, конечно, уже видел их раньше.
Данло вертел головой, оглядывая полки. Агира, Агира, зачем нужно было собирать все эти черепа?
Дризана, пошатываясь, повернула его голову к себе. Голова у него была большая для четырнадцатилетнего мальчика, и Дризана выбрала ему шлем на третьей полке сверху.
– Сначала мы сделаем модель твоего мозга, – сказала она.
– Модель?
– Да, вроде картинки.
Старый Отец уселся на ковре по-фравашийски, а она приладила Данло шлем. Данло задержал дыхание, а потом медленно выдохнул. Шлем холодил голову даже через шапку волос. Твердый и холодный, он туго сжимал череп. Данло знал, что сейчас с ним произойдет что-то важное, хотя и не совсем понимал, что В темном доме Дризаны он не терял ориентировки и был уверен, что сидит лицом к востоку. Мочиться следует на юг, спать головой на север, а торжественные обряды исполнять, глядя на восток. Интересно, откуда Дризана это знает?
– Картинка твоего мозга, – пробормотала Дризана, дыша на него вином. – Мы нарисуем ее с помощью света.
За стулом зажегся один из стендов, показав модель мозга Данло. В воздухе появились складки коры, мозжечок, миндалина и четкая граница между двумя полушариями. Данло ничего не почувствовал, кроме того, что сзади зажегся свет, и оглянулся посмотреть.
– Стой! – крикнула Дризана, но было уже поздно. Данло слепо повиновался чужой воле только раз в жизни, при своем посвящении в мужчины, да и то под страхом смерти – разве мог он удержаться, чтобы не посмотреть на картинку своего мозга? Он посмотрел, и соответствующие нейроны его мозга сработали, заставив зрительный участок коры на модели вспыхнуть оранжево-красным светом. Красный огонь, как копье, ударил Данло в глаза и проник в мозг. Старый Отец сказал неправду: больно было, и еще как. Данло зажмурил глаза и отвернулся. Боль жгла его белым пламенем.
Дризана зажала его голову морщинистыми руками и осторожно повернула лицом к себе.
– Нельзя смотреть на модель собственного мозга! Сейчас мы пойдем в глубину – а это нейропередаточный поток, электричество. Ты мог бы увидеть собственные мысли, а это очень опасно. Зрелище зарождения мыслей само по себе порождает новую мысль, и возникает обратная связь. Этот процесс мог бы длиться до бесконечности, но ты лишишься рассудка или умрешь задолго до этого.
Данло застыл, глядя прямо перед собой. Между лбом и стенками шлема проступили крупные капли пота.
– Агира, Агира, – шептал он. – О благословенная Агира.
– Сиди смирно. Прежде чем приступить к импринтинг нужно посмотреть, в каком месте мы будем это делать.
Дризана, даже будучи под хмельком, вскрыла его мозг так же легко и умело, как он сам бы выпотрошил зайца. Прежде чем стать мастером импринтинга, она была акашиком и сняла не одну тысячу мозговых карт. Все мастера импринтинга являют ся также и акашиками, хотя мало кто из акашиков владее искусством импринтинга. Снять и прочесть карту мозга легче чем что-то впечатать в него, однако акашики, вопреки всякоГ справедливости, почему-то имеют гораздо более высокий статус в Ордене.
– Закрой глаза, – велела Дризана.
Данло закрыл. Модель мозга позади него переливалась волнами света. Языковые участки в левом полушарии приобрели повышенную яркость. Их нейронная сеть отличалась высокой плотностью и сложностью. Миллионы нейронов, словно светящиеся красные паучки, кишели в трехмерной паутине. От каждого из них тянулись тысячи дендритов, тысячи красных шелковых нитей, которые пересекались, образуя синапсы.
– Данло, ни лурия ля шанти, – сказала Дризана, и его ассоциативная кора ярко вспыхнула. – Ти асто юйена ойю – твои глаза смотрят слишком глубоко и видят слишком много
– Ох-хо, это правда! – вставил Старый Отец. – Юйена ойю – все так.
Дризана знаком велела ему замолчать и стала произносить слова на других языках, которые уже не действовали на ассоциативную кору Данло. Очень скоро Дризана определила, что алалойский – его родной язык и что никаких других Данло не знает, кроме мокши и самых начал основного. Это было потрясающее открытие, которое Дризана не замедлила бы разнести по многочисленным кафе и барам, если бы не была обязана, как печатник, хранить тайны своих клиентов.
– Ну что ж, с моделью мы определились – приступим к импринтингу.
Она сняла с Данло шлем. Пока он расчесывал пятерней мокрые от пота волосы, она прошла к дальней стене, чтобы взять другой. При этом она пыталась объяснить Данло основы своего искусства, хотя ей трудно было подбирать нужные слова на алалойском. Данло быстро запутался. Суть процесса импринтинга проста и сложна одновременно. Каждый ребенок рождается с определенным набором синапсов, связывающих нейрон с нейроном. Этот набор, называемый первичным репертуаром, определяется частично генетическими программами, частично самоорганизующими свойствами растущего мозга.
Обучение, попросту говоря, происходит, когда определенные синапсы отбираются и укрепляются за счет других. Голубое небо, жгучее прикосновение льда – каждый цвет, каждая хрустнувшая ветка, запах, мысль или страх вжигают в синапсы свою метку. Постепенно, от события к событию, первичный репертуар заменяется вторичным. И это преображение – расцвет человеческого «я», человеческой души – осуществляется эволюционным путем. Группы нейронов и синапсов соперничают одна с другой из-за ощущений и мыслей – точнее, за то, чтобы мыслить. Мозг представляет собой собственную вселенную, где мысли – это живые существа, переживающие расцвет и умирающие согласно законам природы.
Дризана надела на голову Данло новый шлем, толще и тяжелее первого. Над вторым голографическим стендом зажглась, рядом с первой, вторая модель мозга Данло. В процессе импринтинга Дризана должна была постоянно сравнивать обе модели вплоть до молекулярного уровня, чтобы определить по ним – и по синим глазам Данло, – когда закончить этот первый сеанс.
– Синапсов много, очень много, – сказала она. – Десять триллионов в одной только коре.
Данло сжал кулак и спросил:
– А как они выглядят?
– На модели они изображаются как точки света. Десять триллионов точек. – Дризана не стала объяснять, как нейротрансмиттеры, проходя через синапсы, возбуждают отдельные нейроны, поскольку Данло ничего не смыслил ни в химии, ни в электричестве. Вместо этого она попыталась рассказать, каким образом шлемовый компьютер впечатывает в мозг язык. – Компьютер запоминает конфигурацию синапсов другого мозга, которому определенный язык известен. Такая память служит имитацией языка. А затем уже в твоем мозгу, Данло, выбираются и укрепляются нужные синапсы. Компьютер как бы ускоряет их естественную эволюцию.
Данло потер переносицу. Его потемневшие глаза отражали усиленную работу мысли.
– Синапсам не разрешается расти естественным путем, да?
– Конечно – иначе импринтинг был бы невозможен.
– И то, как они расположены – это как бы картина чьегото ума, правильно?
– Правильно, Данло.
– И из чужого ума в мой можно перенести не только знания, но и все остальное?
– Почти все.
– А сны? Их тоже можно впечатать?
– Разумеется.
– Страшные тоже?
Дризана успокаивающе стиснула его руку.
– Никто не станет впечатывать человеку чужие кошмары.
– Но это возможно, да?
Дризана кивнула.
– А чувства… страх, одиночество, ярость?
– И это тоже. Некоторые печатники, отребье нашего Города, занимаются этим.
Данло медленно выдохнул.
– Откуда тогда мне знать, что настоящее, а что нет? Ведь ложную память тоже можно впечатать – воспоминания о том, чего не было? Или сделать так, чтобы я обезумел и думал, что лед горячий, а синее – это красное? И если кто-то смотрит на мир глазами-шайда, ко мне это тоже перейдет?
Дризана со вздохом заломила руки, беспомощно глядя на Старого Отца.
– Ох-хо, это трудный мальчик, и его вопросы пробирают насквозь, как сарсара! – Фраваши встал и заковылял к Данло. Оба его глаза были открыты, и речь звучала четко. – Все мысли заразительны, Данло. Большинство вещей мы усваиваем в раннем возрасте, не выбирая, чему обучаться, а чему нет. Но многое приходит и после. Все так, и вот тебе две мудрости. Первая: мы должны по мере возможностей отбирать то, что помещаем себе в мозг. И вторая: здоровый мозг сам создает свою экологию, и здравые мысли постепенно изгоняют злые, глупые и паразитические.
Данло попытался просунуть под шлем палец, чтобы почесать взмокший лоб, но не сумел.
– Значит, ты не боишься, что слова этого языка отравят меня?
– Ох-хо, все языки ядовиты. – Яркие глаза Старого Отца показывали, что он как нельзя лучше понимает тревогу Данло. – Но поскольку ты уже усвоил мокшу и фравашийский образ мыслей, у тебя есть противоядие.
Данло сторонился всего противоестественного, но Старому Отцу он доверял, и Дризане тоже. Решив доказать это доверие на деле, он сказал себе «следуй за своей судьбой» и постучал по шлему.
– И я выучу основной прямо сейчас?
Импринтинг продолжался почти весь день. Это совершалось безболезненно, без происшествий и без всяких ощущений. Данло сидел смирно, а Дризана общалась с компьютером на искусственном языке, которого ни Старый Отец, ни Данло не понимали. Выбрав порядок импринтинга, она через компьютер руководила химией мозга, регулируя нейротрансмиттеры, синапсин, киназу и тысячи других мозговых белков. Снимая с коры один светящийся слой за другим, она впечатывала в нее нужные сведения.
– А где же новые слова? – спросил ее Данло. – Почему я не чувствую, как язык входит в меня? Почему я его не слышу и не думаю на нем? – Тут ему в голову пришла ужасающая мысль: если шлем может добавить ему новую память, то и старую может убрать с такой же легкостью. И как он узнает, если это случится?
Дризана принесла себе стул из чайной комнаты и тяжело уселась на него (попутно она приняла еще стаканчик); возраст не позволял ей оставаться на ногах в течение всего сеанса.
– Шлем отгораживает новые языковые участки от остального мозга, – ответила она, – до окончания импринтинга. Зачем тебе думать на новом языке, пока он не установится как следует, правда? Ты пока что подумай о чем-нибудь приятном или помечтай, чтобы скоротать время.
Обычно для впечатывания требуется три сеанса, но Дризана видела, что Данло усваивает язык быстро и хорошо. Его глаза оставались ясными и не теряли фокусировки. Она впечатала ему девять десятых словарного запаса и лишь тогда решила, что хватит. Сняв с Данло шлем, она сделала глоток вина и вздохнула.
– Спасибо тебе. – Старый Отец встал и положил мохнатую руку на голову Данло. Нажимая своими черными ногтями ему на виски, он спросил на основном языке: – Дризана очень добра и очень красива, правда?
Данло, не задумываясь, ответил:
– О да, она излучает шибуи. Она… ой, что это я говорю? – Данло, взволнованный и растерянный, вдруг осознал, что говорит на основном языке, употребляя слова, которых раньше не знал. Понял ли он сам, что сказал? Да, он понял. Шибуи – это красота, которая раскрывается только со временем. Это бурый мох на скале и вкус старого вина, несущего в себе идеальный баланс солнца, дождя и ветра. Лицо Дризаны не то чтобы излучало что-то – это было не совсем верное слово, – оно открывало ее характер и жизненный опыт, словно обработанная самим временем моржовая кость.
Данло медленно потер висок.
– Я хочу сказать, что у нее есть свое лицо. – Он понял, что снова вернулся к алалойскому, и задумался о том, сколько слов и понятий существует для обозначения красоты. Теперь он узнал еще несколько: саби, авареи и хожик. И красота с изъяном, как у надтреснутой чашки, – ваби; красота единственного в своем роде изъяна, момент возникновения которого отличается от всех прочих моментов вечности. И всегда и неизменно – халла. Если халла – это красота гармонии и равновесия жизни, все другие виды красоты как бы подчиняются ей, хотя многим связаны с нею. В сущности, все новые слова открывали Данло скрытые аспекты халлы и позволяли ему видеть ее яснее.
– О благословенная красота! Я и не знал, что на нее можно смотреть столь по-разному.
Втроем они поговорили на эту тему. Данло запинался, не будучи уверен в себе. От внезапного обретения нового языка он испытывал чрезвычайно странное чувство. Это было все равно что войти в темную пещеру, все равно что лезть по скале на слабый шум водопада. При этом он чувствовал, что вокруг лежит много красивых камешков, но не очень-то знал, где их искать. Он долго подбирал нужные слова и с трудом складывал их вместе.
– Так много надо… охватить. В этом благословенном языке столько страсти. Столько могучих идей.
– Ох-хо! Основной прямо-таки болен идеями.
Данло оглядел ряды многочисленных шлемов и постучал по тому, который Дризана еще держала в руках.
– Весь язык находится здесь, внутри, да?
– Само собой.
– Ты говоришь, есть другие? Сколько же их?
Дризана, плохо запоминавшая цифры, сказала:
– Больше десяти тысяч, но определенно меньше пятидесяти.
– Так много! – Его взгляд устремился вдаль, как будто синее море подернулось льдом. – Как может человек выучить столько?
– Он начинает прозревать, – сказал Старый Отец.
Дризана положила шлем на выключенный голографический стенд и улыбнулась Данло с теплом и добротой.
– Думаю, на сегодня разговоров достаточно. Теперь тебе надо пойти домой и поспать. Ты увидишь во сне то, что выучил, и завтра твоя речь станет более беглой.
– Нет, – резко молвил Старый Отец. Он просвистел что-то Дризане и сказал: – Впечатать – это все равно что дать новорожденному способность ходить, не укрепив мышцы его ног. Пусть поупражняется в языке еще немного, иначе он споткнется в самый неудобный момент.
– Но он слишком устал для этого.
– Нет. Посмотри ему в глаза, посмотри, как он видит. Это пороговый эффект, ох-хо!
Данло и правда чувствовал, что стоит на пороге: сердце у него колотилось, и глаза болели оттого, что он начинал видеть слишком много. Он встал, прошелся по комнате и сказал Дризане:
– Кроме языков, есть еще много… отраслей знания, да? История, и то, что Файет называет эсхатологией, и многие другие. Их тоже можно впечатывать?
– Большей частью.
– Как много?
Дризана взглянула на Старого Отца. Тот испустил долгий тихий свист и сказал:
– Если даже ты выучишь все сорок тысяч языков, то все равно будешь похож на человека, стоящего на берегу с пригоршней воды в руке перед ревущим океаном.
– Довольно! – вскричала Дризана. – Экий ты садист.
– Ох-хо!
Данло потер глаза и уставился в потолок. Он действительно видел перед собой великий океан знания и истины, неисчерпаемый и бездонный, как космос. Данло тонул в его глубинах, и комната казалась ему такой душной, что он с трудом глотал воздух. Если он должен познать все правды вселенной, он никогда не познает халлы.
– Никогда, – сказал он и выругался впервые в жизни: – Разве эту чертову уйму выучишь!
Дризана усадила его обратно на стул и втиснула ему в руку бокал с вином.
– Вот, выпей глоточек. Это тебя успокоит. Всего знать, конечно, никто не может – да и зачем это тебе?
Старый Отец с мычанием, на две трети состоящим из смеха, сказал:
– Есть одно слово, которое тебе поможет. Ты должен знать, какое.
– Слово?
Старый Отец просвистел маленькую фугу.
– Да. Отборочное слово, если хочешь. Все так: постигающий смысл этого слова становится избранником и может свободно плавать в море знания, где все прочие тонут. Поройся в памяти, и ты найдешь это слово.
Данло закрыл глаза, и во тьме, словно падучая звезда, сверкнуло слово.
– Ты имел в виду ши, почтенный? Я должен научиться ши?
Ши – это противоположность фактам и голой информации, ши – это изящество познания, умение организовывать знания в осмысленные конструкции. Как художник подбирает краски или оттенки цвета для своих картин, так мастер ши отбирает разновидности знания – идеи, мифы, абстрактные понятия и теории, – чтобы видеть мир по-своему. Эстетика и красота знания – вот что такое ши.
– Совершенно верно, ши, – сказал Старый Отец. – Старое название древнего мастерства.
Он объяснил, что ши – это старокитайское слово. Фраваши, влюбившись в него, взяли его на вооружение и включили в изобретенную ими мокшу. Из мокши это слово вместе с тысячами других слов и концепций перешло в основной язык.
Те, кто испытывает страх перед фраваши, рассматривают это вторжение чужих (и древних) слов в общепринятый язык как наиболее тонкую стратагему по завоеванию человечества.
Данло слушал его, не переставая тереть глаза.
– Значит, ши – это из мокши?
– Все так, только в мокше «ши» глагол, а в основном опустилось до существительного.
– Почему же ты не научил меня этому слову раньше?
– Ах-ха, я приберегал его для более подходящего времени. В основном ши означает изящную организацию знаний, но в мокше его значение шире. Там «ши» значит распознавать разные виды знаний и придавать им смысл. Это умение взвешивать красоты и слабости разных мировоззрений есть высшее из всех искусств. Теперь, с основным языком в голове, ты отчаянно в нем нуждаешься. Если не хочешь, чтобы цивилизованное мировоззрение захлестнуло тебя, стань человеком ши.
Данло залпом проглотил остатки вина, чей терпко-сладкий вкус пришелся ему по душе. Оно и правда успокоило его, как обещала Дризана. Они еще немного поговорили о ши – вернее, говорили в основном Дризана и Старый Отец, а Данло слушал. Вино нагнало на него сонливость, и он задремал, положив голову на один бархатный подлокотник и перекинув ноги через другой. Постепенно слова утратили всякий смысл, и все звуки в комнате – насвистывание Старого Отца, вздохи Дризаны, гомон соседнего кафе – слились в хаотический гул.
– Смотри, он спит, – сказала Дризана. – Право же, хватит на сегодня. Приведешь его завтра, чтобы закончить импринтинг?
– Завтра или послезавтра.
Старый Отец разбудил Данло, и они попрощались. Дризана взъерошила мальчику волосы и предупредила, что вина в больших количествах пить не следует. Всю дорогу домой, катясь по шумным вечерним улицам, Данло ловил обрывки разговоров, в основном глупых и бессмысленных. Интересно, многие ли из этих болтунов понимают, что такое ши?
Старый Отец, разгадав мысли Данло, пожурил его:
– Ох-хо, ты не должен судить других на основе того, что ты будто бы знаешь. Не главеруй, Данло, – ни сегодня, ни когда-либо в будущем.
К тому времени, когда они добрались до дому, Данло очень устал и буквально рухнул в постель. Он заснул прямо в одежде и видел странные сны, хаотические, на основном языке, бессвязные и без малейшего признака ши.
Глава V ВОЗВРАЩЕНЦЫ
Как только любая система – наука, феминизм, буддизм, холизм – начинает приобретать черты космологии, ее следует отбросить. То, как вещи располагаются в сознании, бесконечно более важно, чем то, что там содержится, не исключая и данного заявления.
Моррис Берман, историк Века ХолокостаКогда люди перестают верить в Бога, проблема состоит не в том, что они ни во что не будут верить, а в том, что они будут верить во что угодно.
Г. К. ЧестертонВ последующие дни Данло часто навещал мастерскую Дризаны. Он впечатал себе еще многое помимо основного языка – ведь, хотя Орден и не намеревался проверять объем и качество его знаний, ему нужно было заложить какие-то основы истории, механики, экологии и прочих наук для создания сети ассоциаций, необходимой для понимания сложностей цивилизации. Поразительные вещи открылись ему. Оказывается, все люди заражены крохотными существами, слишком мелкими, чтобы чувствовать их или видеть. Эти существа называются бактериями и порой составляют до десяти процентов человеческого веса. Бактерии, а также простейшие и вирусы плавают в его, Данло, глазной жидкости, наполняют его кишечник гнилостными газами и гнездятся глубоко в тканях его тела. Некоторые из этих организмов вредны и могут вызывать заболевания, поэтому жители Невернеса, опасаясь инфекций, стараются не прикасаться друг к другу. Большинство из них носят кожаные перчатки, даже в помещении, и чужого дыхания они избегают. Эта их сдержанность порядком досаждала Данло. Он, по алалойскому обычаю, любил прижиматься к Файет или Люйстеру, здороваясь с ними. Вдыхая запах их волос или трогая своими мозолистыми руками их гладкие лица, он убеждался в их реальности и человеческой сущности. Сдерживать себя стоило ему великого труда, особенно на узких улицах Квартала Пришельцев, где приходилось двигаться с большой осторожностью, чтобы не задеть чьи-нибудь надушенные шелка или пропотевшую шерсть. Его раздражало, что столкновение, даже самое легкое, требует немедленных извинений. Даже смотреть кому-то в глаза считалось провокационным и невежливым.
Он не успел еще ничего узнать о слеллинге и не догадывался, что есть такие слеллеры, которые крадут чужую ДНК, чтобы создавать специфические вирусы и убивать людей чрезвычайно жуткими способами. Не знал он и о так называемом слельмиме, когда мозговые клетки жертвы одна за другой заменяются запрограммированными нейросхемами и человек становится рабом. Впрочем, он сообразил, что деваки, должно быть, тоже поразил вирус – как иначе объяснить гибель целого племени? Данло дивился обширности мировой экологии, выключающей и таких вот крошечных паразитов. Ведь вирусы – всего лишь еще одна разновидность животных, которые кормятся человеком, вроде снежных тигров, медведей или вшей. Но как вирусы могли убить все племя сразу? Медведь, к примеру, подкарауливает и убивает одинокого охотника, но никогда не нападет на нескольких вооруженных копьями мужчин. Такое событие было бы шайдой, вопиющим нарушением мирового равновесия. Должно быть, произошло что-то, нарушившее халла-отношения племени деваки с миром. Возможно, кто-то из мужчин забыл помолиться за душу убитого им зверя или одна из женщин неправильно приготовила кровяной чай, и это ослабило всех деваки. Данло не подозревал, что в тело Хайдара, Чандры и других его соплеменников мог проникнуть какой-нибудь вирус цивилизованного мира, и не имел понятия о бактериологическом оружии – подобные вещи все еще оставались для него непредставимыми.
С приходом глубокой зимы и наступлением холодов он обнаружил, что начинает понемногу привыкать к странностям Города. Каждый день он проводил много времени на улице, исследуя запутанные пурпурные ледянки Колокола и других частей Квартала Пришельцев. Основной язык словно открыл ему дверь в дом с множеством роскошно убранных комнат – теперь он мог общаться с червячниками, аутистами, магидами и другими людьми, которых встречал на улицах. Данло, несмотря на свою природную застенчивость, любил поговорить, особенно с пилотами и учеными Ордена, которых он часто встречал – они ели изысканные блюда в Хофгартене или пили шоколад в многочисленных кафе Старого Города.
Постепенно разнообразные замечания, которые эти люди делали по поводу фраваши, а также медитации, словесные игры и прочие ритуалы в доме Старого Отца заставили его взглянуть на фравашийскую систему с новой точки зрения. Его стали посещать сомнения относительно того, действительно ли путь фраваши ведет к истинному освобождению. Каждый вечер, перед традиционным состязанием по мокшанскому словотворчеству, он садился вместе с другими учениками в кружок около Старого Отца и повторял Символ Цели: «Наша система – не просто система, как все остальные; это метасистема, призванная освободить нас от всех других систем. Мы не можем надеяться на избавление от всех верований и мировоззрений, но можем избавиться от рабства какого-нибудь одного верования или мировоззрения». Данло слушал, как Старый Отец обсуждает Три Парадокса Жизни, или теорию Нейратмии, или стихи Джина Дзенимуры, одного из первых людей, овладевших мокшей в совершенстве. Все это вызывало у него легкую улыбку, хотя некий голос шептал ему, что фравашийская система может стать для него такой же западней, как чашечка огнецвета с ее одурманивающим нектаром для мотылька.
В сущности, он противился восприятию самих основ фравашийского учения. С самого начала, как бы дерзко и самонадеянно с его стороны это ни было, он не соглашался со Старым Отцом в том, что касалось теории и практики ментарности.
Суть этой дисциплины, называемой также ментированием, заключается в проведении ученика через четыре стадии освобождения. На первой стадии, симплементарной, человек скован узами одного-единственного мировоззрения. Это уровень ребенка или алалойского охотника, не сознающих даже, что реальность можно воспринимать и по-другому. Но большинство людей в Цивилизованных Мирах знает о существовании множества других религий, философий и мировоззрений. Они чувствуют, что их приверженность определенной вере – явление временное и что если бы они родились, скажем, аутистами или Архитекторами Бесконечной Жизни, то поклонялись бы мечте как высшей форме реальности или считали искусственную жизнь конечной целью эволюции. Фактически они могли бы верить во что угодно, но симплементарные люди верят только в одно, в реальность, впечатанную в них родителями и определенной культурой. Как говорят фраваши, люди – это довольные собой существа, которые глядятся в зеркало с целью удостовериться, что они умнее или красивее, чем есть на самом деле. Роковое человеческое тщеславие убеждает их в том, что их взгляд на мир, каким бы причудливым он ни был, здоровее, естественнее, прагматичнее, священнее и правдивее, чем все остальные. Большинство людей – по собственной воле или из трусости – так и не выходят из симплементарной стадии. Они смотрят на мир через одно-единственное окно, и в этом их проклятие.
Ученики Старого Отца, приняв систему фраваши, тем самым уже перешли в следующую стадию, комплементарную. Быть комплементарным значит вмещать в себя не менее двух реальностей, что может происходить поочередно в различные периоды жизни. Комплементарный человек отбрасывает верования как старую одежду, если они изнашиваются или становятся не впору ему. С помощью фравашийской техники можно следовать от одной веры к другой, постоянно вырастая, делаясь все более гибким и освобождаясь от очередной веры, как змея от старой кожи. Истинно комплементарная личность свободно движется между разными системами, когда это необходимо. Путешествуя на нартах по замерзшему морю, такой человек пользуется девятнадцатью словами для разных оттенков белизны; изучая ньютонов спектр, он соединяет красные, зеленые и синие волны в чисто-белый цвет; посещая Совершенных на Геенне, он одевается так, чтобы на нем не было ничего белого, поскольку белое вообще не цвет, а отсутствие цвета – следовательно, отсутствие света и жизни. Идеал комплементарности, как любил напоминать своим ученикам Старый Отец – это способность переходить от системы к системе, от мировоззрения к мировоззрению со скоростью мысли.
– Ах-ха, – сказал он однажды вечером, – все вы комплементарны, а некоторые могут стать сверхкомплементарными, но у кого из вас достанет сил стать полиментарными?
Полиментарность – это третья стадия ментарности. Если комплементарность состоит в умении поочередно принимать устраивающие тебя системы взглядов, то полиментарность – это способность вмещать больше одной реальности одновременно. Эти реальности могут быть столь же различны и даже противоречивы, как старая наука и магическое мышление ребенка. «Истина полиментарна», – говорят Старые Отцы. Не может стать полиментарным человек, боящийся парадоксов или одержимый духом постоянства. Полиментарное зрение – парадоксальное зрение, новая логика, внезапное завершение поразительно сложных узоров. Переход к полиментарности дает возможность видеть мир во многих измерениях, как будто сквозь кристалл с тысячью граней. Мир представляется тебе созданием бога, огненным шаром, вышедшим из первобытного ничто, всеобщим сном и вечной кристаллизацией реальности из блистающей и неопосредствованной сущности бытия – и все это одновременно. Полиментарный человек (или представитель иного вида) видит все истины как переплетающиеся части высшей правды. Фраваши учат, что в каждом цикле времени рождается кто-то один, способный перейти из полиментарности в омниментарность, четвертую и финальную стадию освобождения. Такой совершенно свободный индивидуум и есть асария.
Только асария может вместить все реальности разом. Только асария способен сказать «да» всему сущему, ибо перед этим финальным подтверждением он видит все таким, как оно есть.
Этот идеал – вершина всей фравашийской мысли, и как раз с ним Данло не соглашался в первую очередь. В спорах со Старым Отцом он утверждал, что вмещать все реальности и видеть вселенную как единое целое – шаг благородный и необходимый, однако асария обязан пойти еще дальше. Вся логика фравашийской системы нацелена на освобождение от всяческих вер и верований – отчего же тогда не стремиться к полному неверию? Отчего не созерцать реальность совершенно чистыми глазами, не замутненными ничем, как у новорожденного? Разве возрождение в себе невинности – не главная добродетель асарии?
– Ох-хо, – отвечал ему Старый Отец, – каждый хоть во что-нибудь, да должен верить, даже если эту веру ты изобретаешь сам. Просто поразительно, что ты, проведя полгода в моем доме, в это не веришь.
Старый Отец часто применял свой священный садизм в отношениях с учениками, особенно столь волевыми, как Данло. Данло, в свою очередь, находил искреннее наслаждение в умственном фехтовании, которое так любят фраваши. Он никогда не обижался на шутки и шпильки Старого Отца и не обманывал себя тем, что готов освободиться от веры. Совсем напротив. Сознательно и с осторожностью охотника, подкрадывающегося к логову снежного тигра, он входил во фравашийскую систему, поистине странное и прекрасное место. Замечая мелкие недостатки этой реальности, грозящие разрастись в широкие трещины, он тем не менее дорожил основой основ фравашийского учения, гласящей, что человек создан, чтобы быть свободным. В это он верил страстно и беззаветно и носил дух фравизма с собой, словно невидимый талисман. Пусть фраваши не совсем правильно понимают, что значит быть асарией, – это не беда. Их систему все равно можно использовать для борьбы с иллюзиями и образами мыслей, порабощающими людей. Освобожденный же человек может лететь, куда пожелает.
Да, фравашийская система основывалась на благородной идее, но не все ее концепции, как обнаружил Данло, воплощались в жизнь. Фраваши появились в Городе три тысячи лет назад, и со временем теория и практика их учения превратилась в слишком уж закостеневшую систему. Мыслительные эксперименты выродились в упражнения, идеи выстроились в идеологию, интуиция сформировалась в доктрину, а знаки внимания, которые ученики выказывали Старым Отцам, и их привязанность к наставникам переросли в безумное подчинение.
Ученики зачастую забывали, что мокша – всего лишь инструмент познания. Они начинали поклоняться этому языку и воображали, что освободятся от самих себя, выучив как можно больше мокшанских слов, стихов и коанов. Ничто не пугало Данло так, как эта тенденция к поклонению, но то, как Люйстер, Эдуарде и другие лебезили перед Старым Отцом, подчиняя ему свою волю, было еще страшнее.
Таков камень преткновения всех культов и учений, где во главе стоит гуру, пророк или мессия. Порабощение происходит по древней испытанной схеме. Юноша или девушка слышит зов мира более глубокого, чем повседневная реальность, включающая в себя образование, брак, развлечения, борьбу за достаток и социальные блага. Допустим, такой девушке кажется, что жизнь ей не удалась, что она, несмотря на все свои усилия обрести аутентичность и смысл существования, не живет по-настоящему. Как ребенок, пробующий запретные сладости, она переходит от религии к религии, от учения к учению в поисках того, что утолит ее голод. В случае удачи она со временем открывает путь намного приятнее всех остальных, систему с чистой, живой сердцевиной. Если удача продолжает ей сопутствовать, она становится ученицей одного из Старых Отцов – ведь фравашийская система, при всех своих недостатках, все-таки остается лучшей из всех систем, древнейшей, самой правдивой и наименее прогнившей. Вхождение в нее начинается с периода поста, медитаций, танцевальных упражнений, электронных имитаций, молитв и мантр – все это направлено к тому, чтобы сосредоточить внимание ученицы на мнимых пределах ее личности. Цель же, разумеется, состоит в том, чтобы прорвать эти границы, как птенец талло разбивает скорлупу, выклевываясь из яйца. Это первое достижение, к которому приходит каждый искатель: его мировоззрение начинает трещать и распадаться, обнаруживая свою неустойчивость. Наша ученица начинает понимать, что сама построила свою реальность, а при наличии проницательности ей становится ясно, что и собственную личность она построила сама У нее неизбежно возникает вопрос, а что же такое личность и что такое мировоззрение. Ей становятся видны предрассудки, заблуждения, воспоминания, психические заграждения и мелкие обманы, заслоняющие «я» от внешнего мира. На этом этапе она может совершенно утратить чувство реальности. Это опасный момент, исполненный сердечного трепета, когда кажется, будто ты заперт в темной комнате без единого просвета. Человек барахтается в волнах страха или, что еще хуже, начинает тонуть в холодном внутреннем океане. Ученице кажется, что она умирает, что все составляющие ее личности тают и уходят в никуда. Слабую натуру ужас перед такого рода смертью парализует и даже лишает рассудка, но при наличии мужества ученица поймет, что она не одинока – ведь Старый Отец всегда рядом. Его улыбка и золотые глаза напоминают ей, что он некогда проделал такой же путь. Все его существо, как зеркало, отражает единственную истину: в то самое время, когда ученица теряет себя, нечто великое и прекрасное все равно остается. Он помогает ученице найти эту высшую часть самой себя – это его призвание и его наслаждение. Он помогает ей окончательно сокрушить стены своей темницы. И когда она очищается от последних клейких кусочков своей личности и своей уверенности, перед ней открывается несравненно более широкий мир. Этот мир лучится светом и кажется бесконечно реальнее, чем она себе представляла. Сама она тоже становится свободнее, шире и чувствует, что живет полной жизнью. Это момент вечности, пробуждение, которое должно наставить ученика на путь полного освобождения, но тут большинство как раз и попадается в изощренную и крайне опасную ловушку. Радость быть свободными преобразуется в благодарность к Старому Отцу, освободившему их; любовь к реальному переходит на того, кто подарил им новую реальность. Они не верят, что могли бы совершить этот путь снова, самостоятельно и ради самих себя, и их естественная любовь к Старому Отцу приобретает оттенок болезненной зависимости.
Они начинают почитать его не просто как руководителя и наставника, но как посредника между ними и открывшимся им новым миром. Отсюда остается лишь очень маленький шаг до поклонения Старому Отцу как воплощению бесконечного.
Познание реальной реальности становится возможным лишь через посредство Старого Отца (как всякого жреца, священника или бодхисатвы). Каждое его слово – сладкий плод, источающий истину, а его учение – единственный путь к познанию этой истины. И вот ученица, взлетевшая так высоко, приходит к новым границам, далеко не столь четко очерченным и хрупким, как те, прежние. Она смотрит в глаза Старого Отца и видит себя там великой и священной – но это он, как ни печально, создал это ее новое самоощущение и привил его ей. Ее реальность становится целиком фравашийской. Если она сознает это и обладает нужной отвагой, она попытается еще раз пробить себе выход. Но фравашийская мудрость – штука тонкая; преодолеть ее – все равно что птице пробить небесный свод. Мало кому из учеников это удается – а большинство, надо сказать, даже и не покушается на столь неблагодарный и бунтарский поступок. Но, даже потерпев неудачу, они гордо парят над прикованными к земле людишками, замкнутыми в знакомые, ими же созданные горизонты.
Надо воздать фраваши должное: Старые Отцы давно уже осознали все опасности гуруизма и сделали все возможное, чтобы расстроить рабскую привязанность своих учеников. Но правда состоит в том, что им нравится быть гуру. А ученики, несмотря на все предостережения, все так же охотно вверяют свои судьбы белым мохнатым пришельцам. В доме Старого Отца это относилось к Салиму, к Мишелю, к Эль Элени и к большинству других, а в особенности к Люйстеру Отте. Люйстер, как верно сказал Старый Отец, был добрым и мягким человеком, бриллиантом среди людей, но он не умел отвечать на сарказмы и шутки Старого Отца в сообразном духе. Люйстер сочинял коаны и непочтительные стишки на мокше лишь по обязанности, поскольку от него требовалось выработать в себе определенный уровень остроумия. Но ему куда больше нравилось просто пить чай у ног Старого Отца, внимая ему, а потом попугайски повторяя его мудрые речи. По поводу изреченных учителем слов с Люйстером нельзя было спорить. Данло, любивший Люйстера чуть ли не больше всех, кого встречал в Городе, этой глубокой зимой стал находить его утомительным. Люйстер, помимо катания на коньках, учил его шахматной игре, этикету и мокше, и Данло проводил с ним много времени. Люйстер, будучи человеком разносторонним, охотно рассуждал обо всем, будь то лавическая архитектура, квантовый детерминизм, путешествия Тихо, свобода воли или информационные вирусы. Жаль только, что все его мнения ему не принадлежали. Он имел раздражающую привычку предварять свои замечания фразой: «Старый Отец говорит, что…» Он, по всей видимости, хранил в памяти каждое слово, произнесенное Старым Отцом. «Старый Отец говорит, что здания из органического камня чересчур помпезны и им нет места в человеческих городах», – сообщал он Данло в одно темное снежное утро, а вечером говорил: «Старый Отец говорит, что главный фокус всех религий в том, чтобы спасти верующих от бесконечной регрессии. Возьмем вопрос «как создалась вселенная?» Напрашивается ответ, что ее создал Бог. Но тогда верующего подмывает спросить: «А кто создал Бога?» И так далее, и так далее – понимаешь? Религия кладет конец этой регрессии.
Вселенную создал Бог, говорит она, и Бога тоже создал Бог, и это все, что тебе нужно знать».
Чем глубже Данло проникал во фравашийскую систему, тем лучше он, как ни странно, сознавал, что в городе Невернес существует множество других систем. Он никогда не оставлял надежды стать пилотом, чтобы отправиться к Камилле Люс, к Нонаблинке и еще дальше, к центру вселенной, но до вступительных испытаний у него оставалось еще полгода. Его, разумеется, вполне могли не принять, и тогда ему пришлось бы остаться в учениках у Старого Отца (или вернуться в одно из алалойских племен к западу от Квейткеля). Данло не мог представить себя в роли Люйстера Отты и был жаден до впечатлений, как волчонок, втягивающий ноздрями свежий пушистый снег, – поэтому оставшиеся двести дней он решил посвятить изучению мировоззрений, которые либо вызывали в нем жгучий интерес, либо ошарашивали своей странностью. Старый Отец подобных исследований никому не запрещал. Он даже поощрял примерку разных реальностей, но лишь как игру, идущую под аккомпанемент его домашних песнопений. Данло подозревал, что его метод познавания иных миров не встретит одобрения других учеников, и потому стал посещать разные части Города тайно, во время своих ежедневных прогулок.
Когда в морозах глубокой зимы настала нежданная передышка и ясное небо приобрело теплый голубой цвет «фалу», Данло зачастил на улицу Контрабандистов в том месте, где она сужается под фравашийской деревней. Так он подружился с мужчинами и женщинами из секты аутистов. Он сидел с ними на их вшивых мехах и целые сутки проводил в глубоких массовых грезах, которые, как утверждают духовные вожди аутистов, и есть реальная реальность, куда более реальная, чем материальный мир снега, камня и ветхих лохмотьев, которыми аутисты прикрывают свои истощенные тела. Кроме того, он вступил в группу грибопоедателей, называвших себя Детьми Бога. В глубине Квартала Пришельцев, на тайных церемониях в одной из заброшенных кибернетических церквей, он склонялся перед золотой урной, наполненной волшебными грибами, и произносил торжественную молитву, прежде чем причаститься «телом Божьим». А потом он молился сияющим изумрудным существам, которые являлись ему в ярких, вызванных этими грибами видениях. Он почитал этих прелестных созданий, как посланцев Единственного Бога, пока ему не надоело почитать кого бы то ни было и он не начал искать более трезвых впечатлений.
С приходом средизимней весны, отметив свой пятнадцатый день рождения лишь несколькими молитвами в память покойной матери, Данло вступил в контакт с людьми, называвшими себя Орденом Истинных Ученых. Существовало, конечно, немало претендентов на звание истинных ученых, интеллектуальных наследников Галилея, Ньютона и других зачинателей великого путешествия через вселенную чисел и разума. Существовали холисты и логики, комплиментарии, механики и грамматики. Существовали последователи Старой Науки и приверженцы Новой Божественной. Наук было много, очень много – почти как сект Вселенской Кибернетической Церкви. Как узнал Данло, вторым по значению событием в интеллектуальной истории человечества было разделение науки на разные школы, каждая со своей эпистемологией, своим набором верований, своей методологией и своим определением того, что такое наука. Одни школы тяготели к метафизическому и эпистемологическому реализму, другие рассматривали науку как замечательную, но абсолютно бессмысленную игру.
Одни течения по-прежнему полагались на физические эксперименты для подтверждения своих теорий, другие исследовали реальность посредством компьютеров или чисто математических методов. Все эти течения порой походили друг на друга не больше, чем человек на даргинни, однако имели по крайней мере одну общую черту: все они претендовали на привилегированный статус и отрицали другие течения как ложные или незначительные.
Особенно этим отличался Орден Истинных Ученых. Из всех культов, с которыми Данло сталкивался в Городе, этот оказался самым трудным для понимания и самым причудливым. От него, как от потенциального Ученого – лидеры этого движения стремились завербовать как можно больше новых членов и принимали к себе каждого встречного и поперечного, – требовалось принять доктрину Сциентизма. Для начала он в присутствии семерых мастеров-Ученых в традиционных белых одеждах произнес Символ Веры, гласивший, что Наука есть не только инструмент познания и моделирования реальности, но единственный путь к истине. Было еще Кредо Случая, провозглашающее, что все события во вселенной суть движение частиц материи, сталкивающихся бесконечно, случайно и бессмысленно. Затем Данло узнал тесно связанную с Кредо Механистическую Доктрину, утверждавшую, что все вещи можно объяснить, сведя их до уровня частей механизма, заставляющих двигаться другие части. Данло, как воспитанник алалоев, всегда считал мир и все, что в нем находится, священным – поначалу ему стоило немало труда смотреть на камни, деревья и воду как на нечто, состоящее из каких-то атомов или кварков, взаимозаменяемых частиц материи, не имеющих ни цели, ни собственной жизни. Подобная логика вела к определенному выводу: если материя по сути своей мертва, вполне допустимо теребить ее и подвергать всяческим испытаниям, пока она не выдаст свои секреты. Ученые поклонялись логике, и первым долгом каждого из них считалось проведение экспериментов, касающихся природы вещей. Данло узнал, что в старину Ученые строили машины размером с гору (а после – с целую планету), чтобы раздробить материю на еще более мелкие частицы; они всегда пытались найти мельчайшую из них и тем самым обнаружить конечную причину сознания и всего сущего. Поскольку новых вопросов обнаруживалось всегда больше, чем ответов, содержанием их экспериментов было «как» вместо «почему». В одном из первых таких экспериментов Ученые, преобразовав материю в чистую энергию и взорвав первую атомную бомбу, едва не воспламенили атмосферу Старой Земли. Впрочем, их расчеты показывали, что этого не случится, и они полагались на свои расчеты, поэтому жизнь на Земле продлилась еще некоторое время.
Чтобы принять эксперимент как действенный метод познания реальности, а заодно согласиться с тем, что только доступное измерению реально, Данло пришлось обратить свои мысли наружу согласно фравашийской технике велве.
Ему пришлось научиться смотреть на мир как на нечто объективное, что можно понять лишь в качестве наблюдателя, извне, путем наблюдения за событиями и явлениями – так вуайерист подглядывает в окно, надеясь застать какую-нибудь парочку за любовной игрой. Много позже Данло, вернувшись после очередного велвирования к старому образу мыслей, сказал Старому Отцу:
– Ученые, изучая воздействие холода на организм с помощью термопар и теорий, полагают, что знают о холоде все, что возможно знать. Но они не знают по-настоящему, что такое холод, потому что не испытали его на себе. А почему, собственно? Ведь это несложный эксперимент, правда? Все, что для него нужно, – это раздеться и выйти на снег.
Сам он проводил требуемые от него эксперименты с большим трудом. Он наотрез отказался использовать для этого животных и сам, например, садился в ванну со льдом, делая опыты по выживанию на холоде. Некоторые классические эксперименты вроде препарирования нервной системы снежного червя с целью исследования его уникального сознания он так и не произвел. Он не считал такие методы анализа правомерными. Во время своего посвящения он дал кое-какие обещания в качестве взрослого алалоя, алалои же любят природу до такой степени, что, пнув нечаянно камешек, кладут его на прежнее место, дабы не нарушить мировой халлы. Хорошего Ученого из него явно не получалось, и мастера этого культа, по-видимому, не доверяли ему с самого начала. Впрочем, Ученые никому не доверяли. Большинство посторонних рассматривали их методы как устаревшие и варварские и делали все возможное, чтобы запретить их деятельность. Поэтому Ученые автоматически подозревали каждого новичка как шпиона, подосланного следить за ними, и подвергали его многочисленным проверкам, прежде чем допустить к секретной информации и секретным экспериментам. Данло ни разу не присутствовал на этих нелегальных опытах, но от других слышал об одном из них.
В даргиннийской деревне был один дом, где Ученые в глубоком, без окон, подвале занимались, по слухам, экспериментами над эмбрионами различных инопланетных видов. Один из мастеров будто бы пытался придать скутарийской зародышевой бластуле форму, которая лично его устраивала больше.
У большинства животных, земных или инопланетных, критической точкой развития зародыша является не оплодотворение, а скорее гаструляция. Именно во время гаструляции, когда яйцеклетка путем многократного деления превращается в полый клеточный шар, называемый бластулой, начинается формирование внутренних органов, конечностей и других частей тела. Внешние клетки бластулы постепенно превращаются в глаза, крылья или нервные волокна, а кишечник у большинства видов формируется следующим образом: группа клеток на поверхности бластулы начинает вдавливаться внутрь, по направлению к противоположной стороне шара. Бластула деформируется, как воздушный шарик, если просунуть в него палец: проходящая сквозь нее группа клеток превращает сферу в полую трубку. Один конец этой трубки впоследствии становится ртом, другой анусом. Большинство организмов формируется вокруг этой пищеварительной системы – клетки нарастают, сокращаются и разветвляются, образуя остальные ткани. Но у скутари все происходит иначе. У этого вида группа кишечных клеток так и не доходит до противоположной стенки, поэтому скутари устроены скорее как чаши, чем как трубки. Целью экспериментов ученых было вмешательство в гаструляцию скутари, чтобы заставить бластулу развиваться наподобие эмбриона морского ежа, даргинни или даже человека.
В ходе этих экспериментов было выведено множество нежизнеспособных разновидностей скутарийских нимф. Некоторые из них поначалу переваривали пищу почти столь же успешно, как голодный хариджан, но затем начинали извергать фекалии через рот, отчего теряли рассудок или умирали. МастераУченые объявили этот опыт великим достижением – можно было подумать, что им удалось объяснить скутарийское право, устрашающий облик скутари или непостижимое мышление взрослых особей этого вида. Данло это представлялось в совершенно ином свете. Услышав, что некоторые мастера анатомируют живых нимф, чтобы установить причину их безумия, он официально отрекся от Символа Веры и вышел из Ордена Ученых. От самой Науки он никогда не отрекался – он всегда взирал с почтением на холодный устрашающий блеск ее линз и пользовался ими с осторожностью, как поляризованным стеклом, через которое смотрят на солнце. Но общение с Учеными помогало ему положить предел идеалу комплементарности и вмещению разных реальностей.
Войти в новую реальность целиком значит не только дорожить этой реальностью или воспринимать вещи по-новому – это значит переделать себя и действовать согласно новым правилам. Но не все мировоззрения одинаково истинны и не все действия дозволены. Вопрос о том, которое мировоззрение наиболее истинно, не удалось решить ни многим поколениям философов, ни тысячелетиям войн. Фраваши учат, что истинность каждого мировоззрения относительна. Наука рисует лучшую картину механистических аспектов вселенной, чем индуизм, но мало что может сказать о природе Бога. Многие почитатели этого учения попадают в ловушку релятивизма: если все мировоззрения по-своему истинны, значит, истины нет вообще. Данло в то время, как многие другие до него, мог с легкостью скатиться в нигилизм, отрицающий, что у истины есть хоть какая-нибудь реальная почва. Он мог бы прийти к выводу, что дозволено все – даже действия преступника или безумца. Но он не впал в такого рода отчаяние. Он всегда верил, что человек, заглянув поглубже в себя, обязательно найдет чистый огонь знания, отличающего правду от неправды.
Как бы ни критиковал он Истинную Науку (а также другие научные течения, с которыми сталкивался), попытки Ученых управлять тем, что они определяли как материю и энергию, вызывали в нем живейший интерес. Любопытство по этому поводу не оставило его и после ухода от них. От одного из друзей, оставшихся в Ордене Ученых, он узнал о Доктрине Энтропии, говорящей, что порядок во вселенной рушится, что все формы материи во множестве галактик расползаются, как жиринки в миске теплого супа, все виды энергии истощаются и стремятся к одному уровню, все воды вливаются в мертвое озеро, исхода из которого нет. Ученые проповедовали абсолютный контроль над всей материальной реальностью и в то же время признавали свое бессилие перед конечной гибелью вселенной. Для Данло на том этапе его жизни это явилось великим откровением: он понял, что эта катастрофа, возможно, не просто слова или какое-то невероятно далекое событие.
Власть над материей и энергией, умение освобождать заключенную в материи энергию были очень современными, очень серьезными, очень реальными понятиями.
Однажды в сумерки, перед ужином, Данло вернулся домой в состоянии сильного возбуждения. Он только что узнал от одного из Ученых невероятную вещь. Почти весь день он кружил поблизости от опасной улицы, Контрабандистов, вдыхая запах натуральных шегшеевых шкур, доставляемых в Город браконьерами, и мыслил в космических масштабах. Он ввалился к Старому Отцу, даже не сбив снег с ботинок (а коньки снял только в доме, когда они начали скрежетать по голубым плиткам холла).
– Ня лурия ля! – воскликнул он, перейдя на родной язык. – Почтенный, я узнал о великой шайде, если только это правда… О благословенный Бог! Но как это может быть правдой? Неужели благословенные…
– Тихо, тихо! Не лей воду на ковер моей матери. – Старый Отец, глядя в оба глаза на воду, струящуюся с ботинок Данло, сокрушенно покачал головой. Он, как и все фраваши, чтил чистую воду и считал кощунством расплескивание этой священной субстанции по меху своей матери. В этот момент он занимался мыслительными упражнениями с одной из своих учениц. На ковре напротив него (очень близко от того места, где Данло однажды вырвало) сидела Файет, симпатичная улыбчивая девушка с острым, скорым на шутку язычком.
Она появилась у Старого Отца после долгих поисков, посвятив долгие годы заншину и Пути Розы. Она была лучшей из всех двенадцати учеников Старого Отца, самой доброй и наименее раболепной, и Данло был в нее немного влюблен.
Будучи вдвое старше его и дав обет строгого целомудрия, Файет, впрочем, никогда не отвергала его внимания и как будто ничуть не возражала против того, что он прервал ее занятия со Старым Отцом.
– Данло, – сказала она, – садись с нами, и мы поговорим о благословенных вещах.
– Ты сегодня рано, – сказал Старый Отец половинкой рта. – Ну да ладно, садись, только ботинки сними. – Левой стороной рта он продолжал беседовать с Файет: – На этот раз надо попробовать что-нибудь потруднее – что-нибудь такое, что люди ясно себе представляют, а вот объяснить не могут.
Они играли в реальности. В этой игре под названием спелад Файет должна была выбрать какой-нибудь предмет, персонаж, идею, историческое событие или явление. Затем Старый Отец называл мировоззрение, в которое Файет требовалось войти, и она рассматривала названный предмет с точки зрения тихиста, буддиста или даже инопланетянки. Очки засчитывались за знания, за чувство ши и прежде всего за ментарность.
– На этот раз я назову концепцию, – сказала Файет, улыбнувшись Данло. – А именно: будущее.
– Но это недостаточно точно, – замети Старый Отец. – Знакома ли тебе доктрина сарвам асти?
– Индуистская или скраерская?
– Выбирай сама.
– Тогда скраерская.
– Прекрасно. Позволь мне выбрать мировоззрение. Сейчас, сейчас. – Старый Отец многозначительно посмотрел на Данло и сказал Файет: – Я выбираю позицию ученых. Древних ученых, чтобы затруднить тебе задачу – еще до того, как механики и холисты откололись от них.
Данло никогда еще не слышал о доктрине сарвам асти, гласящей, что и прошлое, и будущее существует одновременно, иначе разум в текущий момент не мог бы воспринять их. Сейчас его не занимали никакие игры или доктрины – недавнее открытие не помещалось у него в голове. Он терпел, сколько мог, а потом выпалил:
– Почтенный, благословенные звезды взрываются! Почему ты мне об этом не рассказывал?
– Ах-ха, звезды. Да, о них стоит подумать. Но позволь мне сначала закончить игру. Файет почти набрала достаточно очков, чтобы избавиться от дежурств по кухне на весь будущий сезон.
И Старый Отец стал продолжать свою двойную беседу, говоря двумя разными голосами одновременно. Один, правый, был его обычный звучный баритон, другой – высокий и скрипучий, точно пила, режущая лед. Данло пытался уследить за двойным потоком слов, исходящим из гибкого рта Старого Отца. Такой способ вести беседу требовал большой концентрации внимания.
– Ох-хо, Файет, для начала ты должна исследовать пересечение объективной реальности и Платонова пространства. Так ты говоришь, что звезды взрываются, Данло? Аргументы в пользу существования и все такое. Об этом известно уже некоторое время. Звездам в космосе нет конца, только…
– Это правда, что их убивают люди? – прервал его Данло.
– Ах-ох-ох. – Старый Отец с улыбкой указал пальцем на Файет. – Можешь начинать.
Файет помедлила немного и заговорила:
– Сарвам асти утверждает, что будущее, каждое будущее, осуществляется посредством акта воли…
– О-ох, Данло, тебе рассказали об Экстре. Все так. Экстр – это отдаленная часть галактики, где гибель угрожает миллиону или десяти миллионам звезд – а почему?
– …потому что существование может быть представлено исключительно как количество материи, распределенное в однородном пространстве…
– Потому что люди считают необходимым деформировать космос, – сказал Старый Отец. – И по другим причинам.
Пока Старый Отец говорил с Данло, Файет преобразилась в нечто вроде ученого (или Ученого) и продолжала рассуждать о будущем:
– …может быть пересечением этих двух пространств только математически…
– Это шайда-причины, – заявил Данло.
– …сознание способно воспринимать то, что не существует в пространстве-времени…
– Ох-хо – но что такое сознание?
– В детстве я думал, что звезды – это глаза моих предков.
– …выполняет параллельные программы, и реальность, представленная в символах…
– Звезды… они смотрят на нас.
– …не отражается в материальном мире, так же как сам мир не отражается реально в сознании…
В этом месте Старый Отец прикрыл глаза и сказал:
– Поосторожнее со словом «отражение».
– Но звезды – это только водородная плазма и гелий, чье горение преобразуется в свет.
– …обработка информации, но макроскопическая информация разлагается до микроскопического уровня, и поэтому будущее…
– Для понимания Экстра, – сказал Данло Старый Отец, – нам нужно будет поговорить об Архитекторах и их доктрине будущего.
– …будущее детерминировано, но непознаваемо, поскольку…
– Это Архитекторы создали Экстр, да?
– …создание информации есть хаотический процесс…
– Шайда-Экстр.
– …и никакой процесс не может идти быстрее самого времени.
Данло и Старый Отец прервали свой разговор, пока Файет подвергала критике гипотезу механиков о многих мирах, заявив затем, что может быть только одна линия времени, одна реальность и одно будущее. Доктрину скраеров она объявила ложной от начала до конца. Если скраеры и предсказывают будущее, то лишь чисто случайно. Скраеры – великие иллюзионисты; хуже того – они зажигают в человечестве ложные надежды и заставляют людей поверить в невозможное. Деятельность скраеров следовало бы запретить за их надругательство над истиной.
– Они подлежат бойкоту или изгнанию, – важно изрекла Файет. – Или же им нужно промыть мозги, как делали на Арсите до вмешательства Ордена. Все скраеры, которые…
– Хо-хо, хватит, довольно! Настоящий ученый.
Файет глубоко вздохнула и расслабилась, возвращаясь к своему обычному добродушию. Сложив руки на коленях, она ждала похвалы Старого Отца.
– Молодец – сорок очков по меньшей мере. До ложной зимы на кухне можешь не появляться.
– Спасибо.
– А теперь поговорим об Экстре. И лучше всего нам будет начать с Доктрины Всеобщности. Ах-хо, Файет, тебе тоже интересно будет послушать.
В комнате было холодно, и Данло застегнул воротник. Сидя рядом с Файет, он слушал, как Старый Отец рассказывает о Николосе Дару Эде, первом человеке, который стал богом, поместив свое сознание в компьютер. То, что человек способен перенести в машину слепок со своего мозга – свою личность, свою память, самую свою душу, – поразило Данло. Он, как ни старался, не мог до конца поверить, что чье-то «я» можно закодировать в компьютерную программу. Что за охота воплощаться в машину – хотя бы и в умную, которая думает в миллиард раз быстрее человека. Кто знает, что произошло с Николосом Дару Эде на самом деле, когда он расширил себя столь невозможным образом? Миллиарды людей, впрочем, полагали, что знают это как нельзя лучше. По словам Старого Отца, это событие послужило началом самого крупного религиозного движения в истории человечества. Последователи Эде поклонялись ему как единственному Богу, а себя называли Божьими Архитекторами. Две тысячи лет назад между Архитекторами вспыхнула гражданская война, но мало кому известно, что побежденная секта, Архитекторы Бесконечного Разума или Вселенская Кибернетическая Церковь, нашла себе приют в неисследованной части галактики, известной ныне как Экстр. Старый Отец сказал, что у этих Архитекторов имелся план перестройки вселенной по проекту Бога Эде.
Следуя этому плану, они начали уничтожать планеты и звезды одну за другой.
– Одиннадцать лет назад Мэллори Рингесс снарядил в Экстр экспедицию, но она закончилась неудачей, ох-хо. Теперь в Городе обсуждают причины ее провала и поговаривают о том, чтобы снарядить еще одну.
Старый Отец рассказал затем о Доктрине Всеобщности и других доктринах эдеизма, постаравшись как можно яснее представить взгляды Архитекторов на свободу воли и судьбу вселенной. Этот рассказ так захватил Данло, что он почти позабыл, что сидит рядом с Файет. Одолеваемый глубокими тревожными мыслями, он смотрел в прозрачный купол. Два дня назад прошел снег, и западный квадрант покрыли красивые морозные узоры, но в северной и восточной части светили звезды. С сильно бьющимся сердцем Данло смотрел на молочное сияние Нонаблинки и Шураблинки.
– Я часто думал об этих странных звездах – это сверхновые, да?
– Да, сверхновые.
– Но раньше они были такими же, как другие звезды.
– Верно.
– Такими же, как наше солнце.
– Да.
– Но как это возможно – убить звезду?
Старый Отец стал рассказывать о технике Архитекторов, о машинах, которые генерируют потоки невидимых гравифотонов, направляя их на звезду. Он сказал, что есть способы деформировать черную ткань пространства-времени и сжать ядро звезды в плазменный шар такой плотности и температуры, что за этим немедленно следует космический взрыв. Данло жадно слушал, стиснув руки у подбородка, а потом вдруг вскочил и вскинул их к ночному небу.
– Я знаю теперь, что свет движется быстрее, чем падающий вниз ястреб. Быстрее ветра. Свет этих сверхновых, созданных Архитекторами, этот шайда-свет несется сейчас через галактику, да? Убийственный свет. Он несется со скоростью миллион миль в минуту, но в то же время ползет, как снежный червь через бескрайние льды. Потому что благословенная галактика очень велика. Я знаю, что недавно образовалась еще одна сверхновая – Меррипен. Скоро ее свет дойдет до этой планеты, и мы все сгорим. Все уйдем на ту сторону – и я, и вы, и все остальные.
Медленно, осторожно, с большим трудом Старый Отец встал и положил тяжелую руку на плечо Данло, клацнув черными когтями. Другой рукой он указал на небо к востоку от Шураблинки, где переливались мандариново-золотистые кольца света.
– Видишь?
– Фара Геластеи, – сказал Данло, – Золотой Цветок. Он тоже распустился недавно, да?
– Мы называем это Золотым Кольцом. Да, оно появилось недавно. Все так: шесть лет назад Мэллори Рингесс становится богом, а в небесах таинственным образом возникает Золотое Кольцо. И не только над нашим холодным миром – над многими планетами по всей галактике зажигаются такие же кольца. Это новая форма жизни, расширение биосферы. Новая жизнь плывет, несомая космическими течениями, и питается светом, выдыхая светоотражающие газы. Сто миллиардов колец жизни, как семена, прорастают повсюду. Есть надежда, что эти кольца заслонят Невернес от света сверхновых. Они прикроют нас, как золотой зонтик, чтобы такие, как ты, попрежнему могли спрашивать, когда же их сожжет гибельный космический свет.
Файет испустила тихий неодобрительный свист – так свистят фраваши, обнаружив, что кто-то из их учеников попался на удочку веры. Радуясь, что поймала на этом самого Старого Отца, она сказала:
– Никто не знает наверняка, защитит нас Золотое Кольцо или нет.
– Ах-ха, это правда. Даже биологи не сумели определить законы его роста.
– Многие поговаривают о том, чтобы покинуть планету, – заметила Файет.
– Ах-ха, но свет сверхновой дойдет до Невернеса только через тринадцать лет. Время еще есть.
Зазвонил колокольчик, приглашая их на традиционно простой ужин из хлеба, сыра и фруктов – снежных яблок или холодных, прямо со льда, ярконских слив. Старый Отец и Файет собрались идти, но Данло так и остался стоять посередине комнаты, глядя на небо.
– Что ты там видишь? – спросил Старый Отец.
– Благословенные звезды… шайда-звезды. Никогда не думал, что можно убить звезду.
Вскоре после этого Данло стал посещать секту, члены которой называли себя возвращенцами. Это был новейший из городских культов, основанный ренегатом-скраером по имени Элианора Вен. Эта выдающаяся женщина родилась в одном из ярконских музыкальных кланов. В десять лет родители привезли ее в Город, где она вызывала восторг любителей музыки Золотого века своей игрой на арфе, флейте и других инструментах. Она могла бы сделать блестящую карьеру в качестве виртуоза, но вместо этого огорошила своих родителей, отказавшись от музыки ради вступления в Орден. Умная, волевая, озорная, своенравная и необыкновенно восприимчивая, она сумела завоевать себе место послушницы. Со временем она лишила себя зрения и стала скраером, одним из лучших, однако покинула Орден во время Пилотской Войны. В течение тринадцати лет она обходила лучшие отели и кафе близ Посольской улицы, где пила летнемирский кофе, ела курмаш и заводила себе друзей. Когда Данло появился в Городе, она уже знала десять тысяч человек по имени и еще двадцать – по голосам. Она стала весьма популярной предсказательницей будущего, хотя и шокировала приверженцев традиции тем, что брала деньги за услуги. Говорили, что эти деньги она жертвует на приюты для хибакуся, но ее слава и влияние основывались не на щедрости, а на ряде видений, явившихся ей в 99-ю ночь глубокой зимы предыдущего года. В момент прочтения собственного будущего она имела откровение и поняла, что ее призвание – оповестить людей о божественности Мэллори Рингесса. Этим она и занялась со всей своей недюжинной энергией. Возвращенцы, чье число скоро возросло до нескольких сотен, верили – и проповедовали, – что Мэллори Рингесс вернется в Невернес. Он спасет Орден от коррупции и распада, а Город – от страха перед излучением сверхновой.
Это Рингесс создал Золотое Кольцо и следит за его ростом, спасая планету от ярости Экстра. Когда-нибудь, утверждали возвращенцы, Рингесс покончит со взрывами звезд и спасет от гибели всю вселенную.
В долгие солнечные дни ложной зимы Данло ходил в кафе Старогородской глиссады и пил чай из тоалача с возвращенцами, которые собирались там ежедневно. Это были в основном молодые члены Ордена, но встречались среди них и богатые пришельцы в пышных одеждах, с золотыми обручами на головах – знаком их религии. Они говорили о жизни Рингесса и обсуждали, какие перемены совершит бог в этом Городе. Их надежда заключалась в том, что Рингесс признает в них истинных искателей и откроет им тайну Старшей Эдцы, а также другие тайны, доступные только божеству. Из беседы с женщиной по имени Сара Туркманян и ее друзьями Данло узнал, что Мэллори Рингесс побывал когда-то в алалойском племени деваки. Он предпринял это путешествие около семнадцати лет назад в надежде расшифровать Старшую Эдду, якобы закодированную в первобытных генах алалоев. Пораженный услышанным, Данло сразу догадался, что он – сын Мэллори Рингесса.
Трехпалый Соли сказал, что его отец был пилотом из Города, но Данло не подозревал, что тот в придачу окажется еще и богом. А его мать – определенно одна из женщин, сопровождавших Мэллори Рингесса в его злополучной экспедиции, возможно, даже Катарина-скраер. Данло очень хотелось поделиться этой поразительной гипотезой с другими возвращенцами, но он не был до конца уверен в ее правдивости. Возможно, Трехпалый Соли из благих побуждений солгал ему относительно его родителей. Возможно, его отец и мать – червячники, обыкновенные преступники, промышлявшие шегшея в лесах Квейткеля. Возможно, мать, родив Данло вдалеке от Города, оставила его умирать на какомнибудь заснеженном карнизе близ пещеры деваки, а Хайдар и Чандра нашли его и усыновили. И очень возможно, что Соли придумал свою историю, желая избавить его от стыда за таких родителей. Обуреваемый стремлением узнать правду о себе, а также все, что касается таинственного Мэллори Рингесса, Данло зачастил на возвращенские чаепития.
Трудно сказать, какая судьба постигла бы этот культ, если бы Элианора Вен в 11-й день ложной зимы не изрекла свое знаменитое пророчество. Встав посреди большого хофгартенского круга в своих белоснежных одеждах, она возвестила Городу, что Мэллори Рингесс вернется ровно через девять дней, в ночь на 20-е. Пусть возрадуются хибакуся в своих жилищах, ибо Рингесс вернет им здоровье. Пусть червячники и другие преступники бегут из Города, ибо Рингесс учинит над ними суд и возмездие. А главные специалисты и мастера Ордена пусть смирятся, ибо Рингесс вернется как Главный над Главными и преобразит Орден в армию духовных воинов, которые вернут галактике ее великолепие.
Учитывая всеобщее недоверие к скраерам и их тайному искусству, пророчество Элианоры произвело ошеломляющий эффект. Некоторые червячники действительно сбежали из Города, купцы раздавали все свое имущество хибакуся и селились в качестве возвращенцев в пустующих общежитиях Старого Города. Самым же поразительным было то, что шестеро главных специалистов Академии отреклись от своих постов в знак протеста против ослабивших Орден политических махинаций. Вечером 19-го дня девятьсот возвращенцев во главе с Элианорой отправились на склон Уркеля, чтобы встретить Мэллори Рингесса там.
– Он явится нам этой ночью, – говорила всем Элианора, и много народу помимо возвращенцев пришло посмотреть, осуществится ли ее пророчество. Данло, сидевшему вместе с возвращенцами на лугу, казалось, что здесь собралось полГорода. До того как совсем стемнело и загорелись звезды, он насчитал на склоне около восьмидесяти тысяч человек. От восточного края Академии вплоть до Крышечных Полей, на плоских холмах чуть южнее горы, расстилались на заснеженных камнях шкуры, и по рукам ходили бутылки с вином и тоалачем. Возвращенцы, естественно, заняли место в центре, чуть выше всех остальных. Под ними сиял миллионом огней Невернес, над ними снежные поля и темные выступы горы переходили в черноту космоса, усеянную звездами. Элианора не сказала, каким образом Мэллори Рингесс вернется со звезд, и некоторые надеялись, что он упадет на землю, как метеорит, или материализуется прямо в воздухе и пойдет им навстречу. Но большинство ожидало, что в небесах сверкнет серебром его знаменитый легкий корабль «Имманентный» и опустится на одну из дорожек Крышечных Полей. Затем из корабля выйдет Мэллори Рингесс и поднимется на гору как обычный человек – хотя никто не знал, похож ли он еще на человека. Никто не знал, как полагается выглядеть богу; собравшиеся пили свой тоалач, рассуждали о целях эволюции и ждали.
Ждал и Данло, волнуясь не меньше, чем любой возвращенец. У него, как и у других, блестел на голове золотой обруч, он надел свою лучшую конькобежную камелайку, и лицо его носило одухотворенное выражение человека, ожидающего встречи с бесконечным. Он сидел не в первом ряду и даже не во втором, а с краю группы, у быстрого ручейка с талой водой.
Ночь стояла теплая, ясная, наполненная горным ветром и вековыми снами, короткая, как все ночи ложной зимы. Но толпам, пришедшим, чтобы увидеть чудо, она казалась очень длинной. Данло лег навзничь на холодную землю, считая удары своего сердца и звезды на небе. Он любил эту игру, хотя никогда в ней не выигрывал – звезд было слишком много, и небо никогда не стояло на месте. Планета вращалась с запада на восток, поворачивая свой холодный лик к глубинам галактики и вселенной за ее пределами. Над линией восточного горизонта все время появлялись новые огни – блинки-сверхновые, созвездия и одинокие голубые звезды-гиганты. Данло лежал, погруженный в грезы, и ловил обрывки разговоров вокруг себя. Всю ночь из Города подходили новые люди, и толпа становилась все гуще. Около полуночи отдельные горожане, устав, начали сворачивать свои меха и уходить. С течением времени приподнятое ожидание последовательно сменялось упорной верой, растерянностью, а там и подозрением в надувательстве. Когда над темным гребнем Уркеля взошло большое созвездие Лебедя, Данло понял, что до рассвета осталось недолго. Он тоже начинал сомневаться в пророчестве Элианоры – по крайней мере в том, что ее слова следует понимать буквально. Его товарищи-возвращенцы один за другим умолкали и не сводили глаз с узкой скалистой тропы, вьющейся вверх по горе. И вот среди мертвой, действующей на нервы тишины кто-то вдруг крикнул:
– Смотрите, вот он!
По темной тропе среди снега и чахлого ельника действительно двигалась какая-то фигура. Данло, как и все, надеялся, что это Мэллори Рингесс, но он привык высматривать зверя в темном лесу и видел то, что другие не видели. Он сразу узнал в этом позднем пришельце фраваши, а миг спустя по клокам меха за ушами и характерной походке понял, что это Старый Отец. По мере того как тот поднимался, этот расхолаживающий факт стал ясен и всем остальным. Стон разочарования вырвался из тысячи уст с внезапностью отколовшейся от ледника и сползающей в море глыбы. Люди, словно поняв что-то, начали вставать и уходить. Они протискивались мимо Старого Отца, не глядя на него и не удостаивая вниманием его странную улыбку и горящие в темноте голубые глаза. Старый фраваши шел сквозь толпу прямо к Данло. Вежливо поздоровавшись, он игриво осведомился:
– Хо, я случайно не опоздал?
Данло, глядя на льющийся с горы людской поток, сказал:
– Возможно.
– Ах-ох, уже почти рассвело. Я слышал, что Мэллори Рингесс должен появиться этой ночью.
– Об этом весь город слышал.
– Включая нас, фраваши. Но я хотел посмотреть сам.
– Как же ты меня нашел, почтенный? Здесь столько народу.
Старый Отец указал черным когтем на возвращенцев, еще сидящих вокруг Элианоры Вен. Их обручи, такие же как у Данло, светились золотом в темноте.
– Я шел на свет – его видно издали. А когда подошел поближе, почуял твой запах. Он у тебя особенный и очень сильный.
Данло понюхал свою одежду.
– Я не знал, что у фраваши такой острый нюх.
– Ха-ха, ты пахнешь как волк, который валялся в мускусной траве. Ты не думаешь, что тебе следует почаще мыться?
– Но я и так моюсь. Я люблю воду.
– Однако не делал этого с тех самых пор, как начал мечтать с аутистами, верно?
– Так ты знаешь об этом, почтенный? О Мечтателях?
Старый Отец молча улыбнулся в ответ.
– Тогда ты должен знать и об Ученых?
– Ох-хо, и о них знаю.
– Этих благословенных мировоззрений так много. Все смотрят по-своему.
– Ах-ох-ох. Это город множества культов.
– Но я ушел от Мечтателей. И от Ученых тоже.
– Все так.
– Это ты научил меня, почтенный, освобождаться от любых мировоззрений.
– Но теперь ты носишь золотой обруч и сидишь с возвращенцами?
– Ты беспокоишься, что я свяжу себя с ними… потому что они так много обещают?
Старый Отец указал на мужчин и женщин, в последней надежде глядящих на небо.
– Они-то? Ох, нет, нет. Когда рассвет настанет, а Мэллори Рингесс так и не появится, возвращенцы перестанут существовать. Если я кажусь обеспокоенным – хотя, должен сказать, фраваши беспокойство почти неведомо, – то это потому, что тебе, похоже, слишком уж нравятся все эти культы.
Данло потрогал мизинцем тугой обруч на лбу и спросил:
– Но разве есть лучший способ узнать чужие взгляды?
– Существует спелад. Когда-нибудь ты будешь играть не хуже Файет. И вся фравашийская система, ох-хо.
– Спелад – умная игра, но все-таки только игра.
– Ах-ха?
Данло вытянул руку – блеск обруча делал ногти желтовато-оранжевым. Сжав пальцы в кулак, он сказал:
– Фраваши учат держать каждое мировоззрение легко, как бабочку, да?
– Если держать реальность легко, то ее легко и сменить. Как иначе перейти от симплементарной стадии к высшим формам ментарности?
– Но твои ученики, почтенный, – Файет, Люйстер и остальные – держат многие реальности слишком уж легко. Они не знают по-настоящему реальности, которые держат.
– Хо, хо – ты думаешь, что понимаешь взгляды сциентистов более комплементарно, чем Файет? И другие системы тоже?
– Нет, почтенный, не думаю.
– Боюсь, что теперь я тебя не понимаю.
На лице Старого Отца играла легкая улыбка, и Данло подумал, что тот лишь наполовину откровенен с ним.
– Есть разница между знанием и верой.
– Ах-хо.
Данло стал лицом к востоку, где брезжили первые голубые проблески дня. До восхода еще оставалось время, но горизонт уже окрасился охрой и багрянцем. Многие возвращенцы тоже смотрели в ту сторону. Элианора встала и тоже, как-то сориентировавшись, повернулась на восток. Она, как все скраеры, была слепой, а на лице ее вместо глаз зияли черные, как космос, ямы. Возможно, она хотела ощутить на щеках солнечные лучи. Если ее не осуществившееся пророчество причиняло ей горе или стыд, по ней этого не было заметно.
– Видишь эту прекрасную женщину-скраера? – спросил Данло шепотом, став поближе к Старому Отцу. – До того, как она себя ослепила, у нее были глаза, как у меня и у всех нас.
Она могла видеть все краски мира. Но что, если бы она так и родилась безглазой? Если бы она была слепой от рождения, как дети хибакуся? Откуда бы она тогда знала, что кровь краснее всех оттенков красного? Откуда знала бы цвета зари? Разве ты, глядя на небо, говоришь: «Я верю в голубизну»? Нет, не говоришь, если ты только не слеп. Ты видишь благословенную голубизну и знаешь ее. Понимаешь? Нам нет нужды верить в то, что мы знаем.
– Ах-хо, знаем. Все так.
– Очень возможно, что Файет понимает сциентизм лучше, чем я. Но она не может знать, что это такое, пока не увидит еще живого снежного червяка, разрезанного на сто кусков.
– Уж не хочешь ли ты, чтобы я заставлял всех своих учеников присутствовать при подобных ужасах?
– Чтобы стать по-настоящему комплементарным – да. Они играют в спелад и думают, что знают, как переходить от одной реальности к другой. Но для них это не совсем… реально. Входя в новое мировоззрение, они напоминают стариков в горячем источнике – половина в воде, половина снаружи, не то чтобы сухие и не то чтобы мокрые.
Небо теперь пылало багровым огнем. Стало светлее, и деревья с камнями обретали свои утренние краски. Из всех, кто был на Уркеле в эту ночь, остались только возвращенцы, да и они понемногу расходились, ибо их вера в возвращение Мэллори Рингесса рухнула. Вот она, суть разницы между верой и знанием, подумал Данло. Знание может только укрепиться и стать глубже, вера же хрупка, как стекло. Сотни людей с покрасневшими глазами бросали на Элианору взгляды, полные горькой обиды, и поворачивались к ней спиной, не прощаясь.
На склоне осталось всего сорок восемь мужчин и женщин, знавших то, чего не знали другие. Данло тоже это знал, но ему трудно было объяснить свое знание Старому Отцу. Он знал, что Мэллори Рингесс в некотором смысле все-таки вернулся в Невернес этой ночью. На горе в самом деле побывал бог – стоило только вспомнить восемьдесят тысяч опечаленных лиц, чтобы убедиться в этом. Пророчество Элианоры произвело в Городе какую-то необратимую перемену, и родилось что-то новое. Старый Отец ошибался, полагая, что начатое ею движение просто так возьмет и испарится, как роса под солнцем.
Старый Отец, хорошо читавший тени человеческих мыслей, всмотрелся в лицо Данло и спросил:
– Ты никогда не верил по-настоящему, что Мэллори Рингесс вернется, правда?
– Я ни во что не хочу верить. Я хочу знать… знать все.
– Хо-хо, недурные у тебя запросы. Ты не такой, как другие мои ученики – они хотят только освобождения.
– И при этом так… несвободны.
– Как так? – широко раскрыл глаза Старый Отец.
– Они думают, что нашли систему, которая освободит их.
– А разве это не так?
– Фравашийская система – единственная реальность, которую они держат крепко. А она их еще крепче.
– Значит, ты питаешь мало уважения к нашему пути?
– Нет, почтенный, раньше я очень дорожил им, но только…
Старый Отец подождал немного и попросил:
– Продолжай.
Данло посмотрел на журчащий между деревьев ручеек и спросил:
– Достоинство фравашийской системы состоит в том, чтобы освобождать нас от других систем, да?
– Верно.
– Так не стоит ли нам воспользоваться этой самой системой, чтобы освободиться и от нее заодно?
– Ах-ах. – Старый Отец зажмурился. – Ох-ох-ох.
– Я должен от нее освободиться.
– Ох-х!
– Я должен уйти из твоего дома, пока еще не поздно.
– Ну что ж – все так.
– Прости, почтенный. Ты, наверное, считаешь меня неблагодарным.
Старый Отец открыл глаза, и его рот сложился в улыбку.
– Вовсе нет. Плохая награда учителю, если ученик навсегда остается учеником. Я давно уже знал, что ты уйдешь.
– Чтобы вступить в Орден, да?
– Хо-хо, даже если в Орден тебя не примут, уйти все равно придется. Все мои ученики уходят, узнав то, что узнал ты.
– Я сожалею.
– Ох-хо, а я вот нет. Ты хорошо учился и доставил мне столько радости, что мне даже выразить это трудно – разве что по-фравашийски.
Данло посмотрел, как его собратья-возвращенцы сворачивают меховые подстилки и забирают корзинки с едой. Один, молодой горолог из Лара-Сига, сказал ему, что пора возвращаться в Город.
– Давай-ка попрощаемся здесь, – сказал Старый Отец.
Элианора молча стояла на снегу, обратив лицо к рассветному небу. Другие толпились вокруг нее, тихо говоря что-то. Наконец кто-то один предложил ей руку, чтобы спуститься с горы.
– Через пять дней начнется конкурс, – сказал Данло. – Если меня примут, можно мне будет приходить к тебе, почтенный?
– Нет, нельзя.
Данло опешил и не заметил даже, что все возвращенцы уже ушли.
– Это не мое правило, Данло, а Ордена. Послушникам и кадетам запрещено общаться с фраваши. Нам больше не доверяют, к сожалению.
– Значит…
– Значит, ты сможешь приходить ко мне, только когда станешь пилотом.
– Но ведь на это уйдут годы?
– Значит, мы должны набраться терпения.
– Я ведь могу и провалиться.
– Все возможно. Но настоящая опасность не в том, что ты провалишься, а в том, что ты выдержишь. Большинство членов Ордена отдаются ему душой и телом.
– Они не учились у фравашийского Старого Отца, почтенный.
– Это верно.
– Я должен знать, что это такое – быть пилотом. Благословенным пилотом.
– Хо-хо, говорят, что пилотам доступна самая странная из всех реальностей.
Данло улыбнулся и поклонился Старому Отцу.
– Спасибо тебе за все, что ты дал мне, почтенный. За мокшу, за идеалы ахимсы и ши. И за твою доброту. И за мою шакухачи. Это замечательные дары.
– На здоровье. – Старый Отец посмотрел, как исчезают в лесу последние возвращенцы. – Ты пойдешь в Город со мной?
– Нет. Я, пожалуй, останусь и посмотрю, как восходит солнце.
– Ну а я пойду домой спать, ох-хо.
– До свидания, почтенный.
– До свидания, Данло Дикий. Увидимся.
Старый Отец коснулся головы Данло и пошел обратно. С горы он спускался долго, – и Данло смотрел на него, пока было можно.
Наконец, оставшись наедине с ветром и гагарами, поющими утреннюю песню, он снова повернулся к востоку и стал ждать солнце. Не сознавшись в этом никому, Данло все еще ждал Мэллори Рингесса. Быть может, бог просто задержался – должен же кто-то остаться и встретить его, если он вернется.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ БОРХА
Глава VI ОТБОР
Чтобы понять Архитектора или эдеиста, прежде всего следует признать, что Бог сотворен по образу человека. Эта идея связывает человека и Бога некими таинственными узами. Человек в гордыне своей пожелал представить себя в образе совершенного и потенциального бесконечного Бога. Таким образом человек отражается в Боге, то есть делает себя участником этой самореализации.
Можно сказать, что человек и Бог предназначены друг для друга, столь тесно они связаны. Человек находит свое осуществление в Боге.
Британская Энциклопедия, 1754-е издание, 10-я исправленная стандартная версияВ двадцать пятый день ложной зимы 2947 года от основания Города в колледже Борха состоялся ежегодный День Злосчастного Абитуриента. Борха, начальный колледж Ордена, занимает больше половины Академии, которая сама по себе – город в Городе. На восточном краю Невернеса, вплотную к горам, лежит целая квадратная миля, занятая общежитиями, башнями, учебными корпусами и пересеченная крест-накрест красными ледянками. Гранитная стена (прозванная Расколотой с тех пор, как кусок ее южной части разрушился от взрыва водородной бомбы) окружает Академию с трех сторон, ограждая ее от тесно стоящих зданий и шпилей Старого Города. На восточной стороне Академии ограды нет – вернее, там оградой, естественной и прекрасной, созданной из камня и льда, служат горы Уркель и Аттакель. Некоторые ученики сетуют на эту вынужденную изоляцию от грязной, но более органичной городской жизни, но большинство других общество единомышленников устраивает больше, чем одиночество, отчуждение и отчаяние.
В это свежее ясное утро, на рассвете, Данло проехал на коньках по городским улицам до Стены. Там, у Западных ворот, на узкой красной ледянке, он стал ждать вместе с другими абитуриентами. Он явился одним из первых, но довольно скоро за ним выстроились тысячи мальчиков и девочек (а также немало родителей) со всех Цивилизованных Миров. Все улицы, выходящие на Раненую Стену, на несколько кварталов заполнились молодежью в парках, кимоно, пончо, шубах, замшевых сапогах, свитерах, шерстяных куртках и камелайках самого разного покроя. Многие ворчали и ругались, ожидая, когда отроются большие чугунные ворота.
– Рано мы собрались, – сказал кто-то позади Данло. – Похоже, они решили подержать нас на холоде.
Данло рассматривал стену. Высотой в три человеческих роста, она сильно потрескалась и вся обросла зеленым лишайником. Он всегда любил лазать по скалам и прикидывал, можно ли забраться наверх и тут. И кому только понадобилось строить стену внутри города?
– Какой, однако, холодный этот проклятый мир – учителя не говорили мне, что здесь так холодно.
Наконец ворота открылись, и собравшиеся медленно двинулись по одной из главных ледяных аллей Академии. За спиной у Данло ворчали, орали и пихались, особенно на перекрестках, когда ряды путались. Несколько раз доходило и до драки – задиры награждали друг дружку тумаками и торопливо извинялись, когда их растаскивали. Но порядок восстановили быстро.
Послушники из Борхи в белой парадной форме отделяли мальчиков от девочек и разводили группами по разным зданиям.
Данло вместе с двумя тысячами мальчиков провели мимо колледжа высшей ступени Лара-Сиг к большому полукруглому сооружению под названием Ледовый Купол. Внутри были санные дорожки и площадки для фигурного катания и для убийственно быстрой игры – хоккея. Сегодня на льду спортсменов не было, зато по всему полю под закругленными треугольными стеклами купола лежали груды поношенной белой одежды, перемежаясь кучами сандалий разного размера. Правые сандалии были привязаны к левым продетой сквозь передние ремешки белой лентой. Пахло старой шерстью и пропитанной потом кожей. Один из старших послушников – как выяснилось впоследствии, староста, Сагаль Физерстон, высокий мальчик с бритой головой и серьезным лицом, предложил новичкам выбрать себе по хитону и паре сандалий.
– Слушайте меня внимательно, – объявил он. – Вы должны снять с себя всю одежду и надеть хитоны абитуриентов.
– Но ведь здесь холод собачий! – запротестовал мальчик рядом с Данло. – Мы что, босиком на льду должны стоять, пока роемся в этой куче вонючих опорок? Да мы ноги себе отморозим!
Староста не обратил на него внимания, и другие мальчики тоже старались его игнорировать. Никто не горел желанием раздеваться догола на таком холоде, но и нытиком прослыть никому не хотелось. Под гул двух тысяч голосов «молнии» начали расстегиваться, заклацали коньки, зашуршала ткань. Всюду, куда ни посмотри, срывались с посиневших губ облака пара. Послушники забирали у голых мальчишек одежду и коньки.
– Твой номер 729, – сказал Данло прыщавый парень, заворачивая его коньки в куртку. – Запомни его, чтобы получить одежду после конкурса.
Он не стал добавлять, что немногие принятые в Борху получат новую одежду, – он явно не считал, что Данло попадет в число избранных.
Вскоре все новички разделись. Многих била дрожь, и их коричневые, белые и черные тела покрылись мурашками. Толпясь вокруг куч одежды, мальчики все-таки старались не задевать и не касаться друг друга. Дожидаясь своей очереди, они поглядывали один на другого, сравнивая и оценивая.
– Скорее, пожалуйста, я замерз до смерти! – проскулил толстый мальчик, обхвативший себя руками. Кожа у него была кофейного цвета, а в глазах стоял страх. Он переступал с ноги на ногу, чтобы его нежные подошвы как можно меньше соприкасались со льдом. Вид у него был глупый и жалкий, словно у насекомого, пляшущего на горячей сковородке. – Скорее!
Мальчики впереди Данло рылись в одежде и примеряли сандалии. Повсюду валялись брошенные белые ленты. Данло обнаружил, что если сгрести их вместе и стать на них, можно защитить ноги от илка-хара, голого льда. Он стоял, зажав в руке свою бамбуковую флейту, и терпеливо ждал своей очереди, глядя на других и чувствуя, что другие тоже смотрят на него. Особенно на его член, который Трехпалый Соли украсил цветными насечками. Эта особая примета, естественно, притягивала к себе все взгляды. Данло, в свою очередь, оглядывал гладкие цивилизованные тела вокруг. Обрезанных среди них не было – это показывало, что они в самом деле мальчики, а не мужчины. Некоторые вообще еще не выросли, грудь у них была узкая, а члены величиной в мизинец Данло.
Но даже те, кто постарше, с полностью сформировавшимися членами, оставались необрезанными. Данло, несмотря на все предупреждения об опасности главеринга, не мог считать их равными себе. (Собственная взрослость тоже вызывала у него сомнения. Может ли он считаться мужчиной, пока не выслушает Песнь Жизни до конца?) Он резко отличался от других мальчиков, и эта разница вызывала в нем одновременно и гордость, и стыд. Никто здесь не мог соперничать с ним ни ростом, ни крепостью сложения. Он стоял спокойно и ждал, почти нечувствительный к холоду. Он еще не полностью набрал вес после прошлогодней голодовки – под его обветренной кожей выступали кости и сухожилия, а длинные плоские мускулы вздрагивали при каждом вдохе и выдохе. Но почти все прочие мальчики выглядели намного слабее – тощие и белые, как снежные черви, либо жирные, как тюлени. Даже у нескольких атлетов мускулы казались мягкими и накачанными искусственно. Мальчики разглядывали различные части тела Данло со смесью ужаса, зависти и почтения.
Был здесь, однако, еще один, кто отличался от других, хотя и по другим причинам. Данло, напяливая колючий шерстяной хитон и надевая сандалии, слышал, как он говорит о Боге Эде и Вселенской Кибернетической Церкви – о том, что чрезвычайно интересовало самого Данло. Пройдя немного по льду, он увидел невысокого худого паренька, которого внимательно слушали собравшиеся вокруг.
– Разумеется, все кибернетические церкви поклоняются Эде, – говорил мальчик. – Но Экстр создали Архитекторы самой первой церкви.
Данло вполголоса помолился и сказал:
– Шанти, шанти.
Мальчик – его звали Хануман ли Тош, – должно быть, услышал это, потому что повернулся к Данло и вежливо склонил голову. Лицо у него было гладкое, как новый лед, без единой морщинки, что даже у пятнадцатилетнего казалось странным, и в то же время какое-то старое, словно он прожил уже тысячу жизней, в каждой из которых присутствовали разочарование, скука, страдание, безумие и несчастная любовь. Его полные чувственные губы сложились в улыбку, застенчивую и притягательную одновременно. Это был красивый мальчик. В тонких чертах его лица сквозила почти потусторонняя прелесть. Данло он представлялся не то полуангелом, не то полудемоном. Его белокурые с желтизной волосы напоминали отражаемый льдом свет, а белая, почти прозрачная кожа вряд ли могла служить защитой от холода и жестокости этого мира. Глаза у него были бледно-голубые, живые и ясные, как у ездовой собаки – у человека Данло таких глаз ни разу не встречал. Повышенная чувствительность и страдание в них сочетались со страстностью и яростью. Данло, по правде сказать, очень не понравились эти шайда-глаза. Про себя он прозвал странного мальчика «Адский Глаз» – бледная ярость этого взгляда склоняла то ли к немедленному бегству, то ли к убийству.
Но мальчики вокруг уже втянули Данло в разговор – и он, как и они, не устоял против обаяния и серебряного языка Ханумана.
– Я Хануман ли Тош с Катавы. Что значит «шанти»? Очень красивое слово и проникновенное, особенно в твоих устах.
Как мог Данло объяснить, что такое благодать, цивилизованному мальчику с глазами, точно из кошмарного сна? Хануман, дрожа в своих сандалиях и хитоне, выжидательно смотрел на него. Несмотря на кажущуюся хрупкость длинной шеи и худых голых рук, холод он переносил стойко. Было в нем что-то, чего недоставало другим, – какая-то целеустремленность, какой-то внутренний огонь. Он кашлял и прижимал ко рту кулак, но выглядел очень решительно и посвящал Данло все свое внимание.
– Этому слову научил меня отец, – сказал Данло. – Вообще-то это завершение молитвы.
– А что это за язык? Что за религия?
Данло, предупрежденный, что о своем прошлом лучше не рассказывать, ответил уклончиво.
– Я еще не представился – меня зовут Данло.
– Просто Данло?
Не говорить же им, что он Данло, сын Хайдара, сына Висента, сына Нури Медвежатника. Но мальчики стали перешептываться, и он выпалил:
– Меня называют Данло Дикий.
Конрад, толстый, но мускулистый парень позади Ханумана, с ломающимся голосом и задиристым лицом, засмеялся.
– Данло Дикий! Что это за имя такое?
– Данло Дикий Безымянный, – ввернул кто-то.
Шею у Данло заломило, и в глазах защипало от стыда. Он дышал глубоко и ровно, как учил его Хайдар, чтобы холодный воздух, наполняя легкие, остудил его гнев. Несколько мальчишек смеялись и отпускали шуточки, но большинство молчало, опасаясь, видимо, дразнить такого сильного на вид парня. Данло со своими синими глазами и пером в волосах и впрямь казался весьма диким.
Ханумана снова сотряс хриплый кашель, рвущий грудь и вызывающий слезы.
Справившись, он спросил:
– Ты с какой планеты?
– Я родился здесь.
– Здесь? В Невернесе? Тогда ты, наверно, привык к холоду.
Данло потер руки и подышал на них. Мужчине не пристало жаловаться на то, чего он изменить не может, поэтому он сказал просто:
– Разве к холоду можно привыкнуть?
– Я уж точно не могу. – Хануман опять закашлялся. – И как только ты терпишь?
– Ты болен, да? – чуть погодя спросил Данло.
– Я? Нет – просто легкие щиплет от холода.
Но Данло понимал, что этот мальчик болен, причем серьезно. В детстве он видел, как парень из их племени, Башам, умер от легочной горячки. У Ханумана было такое же бледное затравленное лицо – лицо человека, готового перейти на ту сторону. Возможно, в легких у него завелся вирус – что-то сжигает его изнутри. Глаза у него ввалились и кажутся еще более дьявольскими из-за контраста голубой радужки с темными ямами глазниц. И в глазах этих страх, словно он видит, как приближается его судьба, будто черная буря, которая заледенит его сердце и отнимет дыхание. Кашель, мучивший его, отдавался в груди у Данло. Мужчине не зазорно бояться за другого, но за себя бояться нельзя. Страх Ханумана вызывал у Данло тошноту. Данло подмечал своим острым глазом, как тот старается скрыть этот страх от других и даже от себя самого. Этого мальчика надо бы напоить чаем из волчьего корня и вымыть ему голову холодной водой? Где его мать? Данло хотелось потрогать Хануману лоб, но он понимал, что в цивилизованном обществе нельзя прикасаться к людям, особенно к незнакомым, особенно в присутствии всех этих насмешников-мальчишек.
Хануман придвинулся поближе к Данло и тихим измученным голосом сказал:
– Пожалуйста, не говори послушникам и мастерам, что я болен.
Кашель снова одолел его, да так, что он скорчился, потерял равновесие и упал бы, если бы Данло не подхватил его под мышки. Руки Ханумана, пылавшие жаром, как горючий камень, оказались неожиданно сильными. После Данло узнал, что Хануман занимался боевыми искусствами, чтобы закалить себя, и был гораздо крепче, чем казался. Сжав твердую маленькую кисть Ханумана, Данло поставил его на ноги, и они вдруг перестали быть чужими друг другу. Между ними произошло что-то, и у Данло появилось ощущение, что ему следует быть начеку – сила духа, отличающая Ханумана, одновременно притягивала его и отталкивала. Он чувствовал, как воля Ханумана молчаливо борется со страхом, полная решимости победить любой ценой. Чувствовал он и другое. От Ханумана пахло потом, болезнью и кофе – он, должно быть, вливал в себя кофе кружками, чтобы не упасть. Усталые лихорадочные глаза Ханумана смотрели на Данло так, будто у них появилась общая тайна. Он гордо высвободил свою руку и отодвинулся, а Данло подумал, что он сгорает быстро, как заправленный сверх меры горючий камень. Кто способен выдерживать такой огонь долго, не переходя на ту сторону дня?
– Тебе надо лежать в мягких шкурах и пить горячий чай, – сказал Данло, – иначе ты уйдешь на ту сторону.
– На ту сторону? Ты хочешь сказать – умру? – Хануман произнес это слово с величайшим страхом и отвращением. – Пожалуйста, не говори так. Я надеюсь, что этого не случится.
Он закашлялся, и мокрота заклокотала у него в горле.
– Где твои родители? – Данло откинул назад свои длинные волосы. – Ты прибыл сюда один?
Хануман сплюнул в ладонь и вытер проступившую на губах кровь.
– У меня нет родителей.
– Ни отца, ни матери? О благословенный Бог, как это можно – не иметь матери?
– Они у меня были, конечно. Я не слельник, хотя некоторые и полагают, что я на него похож.
Данло еще не слышал о противоестественной генной стратегии, практикуемой в некоторых Цивилизованных Мирах, ничего не знал об эталонах или слельниках, вынашиваемых искусственным путем. Часть боли и одиночества Ханумана передалась ему, но Данло неправильно его понял.
– Твои родители ушли на ту сторону, да?
Хануман, потупившись, покачал головой.
– Какая разница? Для них я все равно что умер.
И он рассказал Данло кое-что о своем путешествии в Город. Мальчишки в Ледовом Куполе топали сандалиями по льду, дышали паром и жаловались на такое обращение, а Хануман рассказывал. Он родился в семье видных катавских Архитекторов, Павла и Мории ли Тош, чтецов Реформированной Кибернетической Церкви. (За несколько тысячелетий Вселенская Кибернетическая Церковь раскололась на множество течений. Эволюционная Церковь Эде, Кибернетическая Ортодоксальная Церковь, Союз Фосторских Сепаратистов – лишь немногие из сотен религий, отпочковавшихся от первоначальной. Началось все с Янтианской ереси и Первого Раскола в 331 году от П.Э., то есть от Преображения Эде. Архитекторы отсчитывают время с того момента, как Николос Дару Эде поместил свое сознание в один их своих компьютеров и стал таким образом первым человекобогом.) Хануман, как и его родители, прошел в церковной школе традиционную подготовку чтеца, но в отличие от всех знакомых ему уважаемых Архитекторов еще в детстве взбунтовался и вымолил у родителей позволение посещать школу Ордена в Олоранинге, единственном крупном городе Катавы.
– Отец разрешил мне это только потому, что орденская школа была лучшей на Катаве. Но после выпуска я должен был закончить положенное чтецу образование, отказавшись от попытки поступить в невернесскую Академию. Я согласился, хотя мне не следовало давать такое обещание. Все мои друзья из элитной школы собирались поступать в Академию. Я и сам всегда надеялся туда поступить. Я никогда по-настоящему не хотел становиться чтецом, как мои родители, деды и бабки. Ох, извини… опять этот кашель. Ты знаешь что-нибудь о чтецах моей церкви… то есть церкви моих родителей? Нет? Я вообще-то не должен говорить об этом, но скажу. Вторая по значению церемония нашей церкви – это подключение. Уж о ней-то ты, наверно, слышал – почти все слышали. Нет? Да где же ты был до сих пор? При этом обряде любому Достойному Архитектору разрешается подключиться к одному из церковных компьютеров. Интерфейс, вхождение в машинное сознание, поток информации, заряд энергии. Ты как будто в раю – это единственное, что есть хорошего в жизни Архитектора. Но каждому подключению предшествует очищение. От грехов. Мы, Архитекторы… Архитекторы называют грех «негативным программированием». Очищение проводится каждый раз, потому что было бы кощунством подключаться к священному компьютеру, когда ты осквернен негативными программами. Большинство кибернетических церквей придерживается этого правила. Об очищении я тебе не стану рассказывать.
Это более чем мерзко – это насилие над душой. Ладно, расскажу, только обещай держать это в секрете. Чтецы обнажают твой ум с помощью акашикских компьютеров. Все твои негативные мысли и намерения, особенно тщеславие, потому что это самый тяжкий грех, смертный – быть о себе слишком высокого мнения или стремиться стать выше, чем положено тебе от рождения. Кое-что, конечно, скрыть можно: ты вынужден учиться прятать свои мысли, иначе чтецы надругаются над твоей душой. Они вычистят тебя так, что ничего не останется. Тебе что-нибудь впечатывали в мозг? Так вот, очищение – это импринтинг наоборот. Чтецы удаляют дурную память и перепрограммируют мозг… убивая некоторые его части. В это не все верят – иначе люди впадали бы в панику, подвергаясь очищению. Но чтецы убивают – если и не сами мозговые клетки, то что-то другое, когда уничтожают старые синапсические каналы и создают новые. Почему бы не назвать это «что-то» душой? Я знаю, не изящно пользоваться этим словом для столь тонкого и невыразимого понятия… но душу надо хранить при себе, понимаешь? Душу, свет. Я потому и расстался со своей церковью – уж лучше умереть, чем стать чтецом.
Данло молча слушал этот странный, прерываемый кашлем рассказ. Плавность и свобода речи Ханумана удивляла его. Данло открывал в себе талант слушать других и завоевывать их доверие. Он слушал Ханумана, как слушал бы западный ветер, шлифующий морской лед. Ему нравились богатство языка и ясность мысли этого мальчика. Это редкость, чтобы мальчик говорил, как обученный красноречию взрослый мужчина.
– Интересно, что ты чувствуешь, соприкасаясь умом с компьютером, – сказал Данло.
– Ты никогда этого не делал?
– Нет.
– Это настоящий экстаз.
Данло потрогал перо в волосах, потом лоб.
– Ты разбираешься в компьютерах – скажи, они правда живые? Жизнь, сознание… даже самые мелкие букашки, даже снежные черви обладают сознанием.
– Снежные черви? Неужели?
– Да. Я не шаман и потому никогда не входил в сознание снежного червя. Но Юрий Премудрый и другие… другие люди, которых я знал, входили в сознание животных и знают, что такое быть снежным червем.
– И что же это такое?
– Это нечто. Это как быть снежинкой в метели. Как вдыхать свежий воздух. Как… я не знаю как. Может, когда-нибудь я стану снежным червем и тогда скажу тебе.
Хануман улыбнулся, закашлялся и сказал:
– А ты очень странный, знаешь?
– Спасибо, – улыбнулся в ответ Данло. – Ты тоже странный.
– Да уж – мне кажется, я и родился таким.
– А твоим родителям эта странность не нравилась?
Хануман помолчал, глядя на дымящийся лед, и кивнул, словно принял какое-то важное решение. Подняв глаза, он досказал Данло свою историю. Реформированная Кибернетическая Церковь не верит в свободу души, сказал он. Поэтому Хануман, возненавидев противную жизни этику и практику своей церкви, строил тайные планы отправиться в Невернес после окончания школы. Он был уверен, что будет принят в Академию, потому что отдавал учению всего себя и стал первым среди избранных. Но не зря говорят, что чем выше поднимешься, тем дальше падать: один из приятелей Ханумана из зависти выдал его отцу перед самым выпуском. Отец немедленно забрал сына из школы, так что аттестата тот так и не получил. Ханумана заперли в читальне их семейной церкви, где он должен был ознакомиться со шлемами акашикских компьютеров, с эдическими огнями на алтаре, с курениями и мозгомузыкой. Отец велел ему медитировать над «Книгой Бога», обращая особое внимание на ее разделы: «Жизнь Эде», «Сопряжения» и «Повторения». В «Сопряжениях», содержащих мудрость, будто бы открывшуюся Костосу Олоруну, когда Эде давно уже стал богом, Хануман наткнулся на следующий примечательный пассаж: «И Эде сопрягся со вселенной, и преобразился, и увидел, что лик Бога есть его лик. Тогда лжебоги, дьяволы-хакра из самых темных глубин космоса и самых дальних пределов времени, увидели, что сделал Эде, и возревновали. И обратили они взоры свои к Богу, возжелав бесконечного света, но Бог, узрев их спесь, поразил их слепотой. Ибо вот древнейшее учение, и вот мудрость. Нет бога кроме Бога; Бог един, и другого быть не может».
За этим следовало много глав, трактующих, как обнаружить хакра и подвергнуть их очищению. Хануман в тысячный раз осознал, что его церковь ко всем людям относится как к потенциальным хакра, то есть потенциальным лжебогам. Насколько же мрачна эта религия, отрицающая божественное начало в человеческом существе! Хануман решил, что Костос Олорун три тысячи лет назад, стремясь утвердить авторитет зарождающейся церкви, а себя объявить пророком, солгал, что получил откровение от Эде, и все свои ложные доктрины выдумал сам. В ожидании, когда отец очистит его от грехов, у Ханумана явилась опасная мысль. Истинный смысл преображения Эде в том, что каждый человек, мужчина, женщина и ребенок, должен обрести бога внутри себя. «Каждый мужчина и каждая женщина – это звезда», – написал сам Эде в своих «Универсалиях». Но церковь извратила эти прекрасные слова, представив их так, что каждый человек – это звезда, которую периодически надо гасить, чтобы она не затмила собой звезду Бога Эде. Возможно, думал Хануман, люди – это на самом деле ангелы или, вернее, божества, которые растут в бесконечность и когда-нибудь, в конце времен, соединятся с Эде и другими богами вселенной.
Сам того не ведая, Хануман сформулировал для себя одну из старейших и самых тайных ересей своей церкви: Ересь Хакра.
И однажды, перед алтарем читальни, где переливались от красного к фиолетовому священные огни, он поделился этой ересью со своим отцом. Отец, суровый и красивый человек, был шокирован идеями сына и приказал ему немедленно готовиться к глубокому очищению. В голосе отца звучали ненависть, ревность и отвращение. Ханумана очищали уже много раз, но глубокому очищению он никогда не подвергался. Против священных компьютеров, работающих в глубоком режиме, те фокусы, которым он научился, помочь не могли, и предстоящая процедура обещала изуродовать его душу, как теплый ветер – ледяную статую. Хануман, закрыв глаза, вгляделся в знакомый и отнюдь не бессмертный облик своей души и ужаснулся. Он молил отца сжалиться над ним и ограничиться обычным, рядовым очищением. Но отец остался тверд. Этот непоколебимый князь церкви заклеймил сына именем хакра и велел ему преклонить колени под священным очистительным шлемом. Но Хануман, обуреваемый ужасом и гордыней, в приступе слепой паники схватил золотую курильницу и ударил отца по лбу. От этого мощного, рожденного отчаянием удара отец повалился на алтарь мертвым. Радужные эдические огни посыпались на его раскроенный череп. Хануман, сотрясаемый рыданиями, собрал драгоценные лампы и ушел, оставив отца в луже крови. В Олорунинге он продал гирлянду огней червячнику и купил себе место на корабле паломников-хариджанов. От одного из пилигримов он заразился легочной болезнью и прибыл в Невернес с сжигаемым лихорадкой телом и пылающей, как факел, душой. Он вступил в Город Боли, надеясь поступить в Академию и забыть свое греховное прошлое.
Ту часть истории, которая касалась убийства, Данло узнал лишь много лет спустя. Хануман имел вескую причину скрытничать и остался скрытным, когда вырос. То, что он вообще рассказал о себе так много, служило мерилом его необычайного доверия к Данло.
– Я от всего отказался, чтобы поступить в Академию, – сказал он. – Всю мою жизнь перечеркнул.
Его снова одолел хриплый, разрывающий кашель. Купол был полон звуков: ветер налегал снаружи на клариевые панели, стучали зубы, и две тысячи мальчиков гадали вслух, сколько их еще будут держать в этом холодильнике. Затем раздался возглас:
– Тихо! Время пришло! – Староста послушников с властным выражением на узком лице быстро прошел в центр Купола. – Тихо! Пришло время первого испытания. Выходите все по очереди в ближайшую дверь и следуйте за послушником. Тишина! Как только испытание начнется, каждый, кто заговорит, будет отчислен.
– Удачи тебе, – шепнул Данло Хануману.
– И тебе удачи, Данло Дикий.
Мальчики и девочки в тонких белых хитонах выходили из разных зданий, двигаясь длинной процессией через Борху. В этом году к конкурсу было допущено около семи тысяч абитуриентов. Солнце теперь поднялось высоко – и шпили купались в этом горячем солнце ложной зимы. Снаружи было гораздо теплее, чем в Куполе. Красный лед более мелких дорожек подернулся водяной пленкой. Одни новички шли опасливо, взявшись за руки, Другие смело скользили по льду в своих кожаных сандалиях. Данло держался рядом с Хануманом, боясь, как бы тот не упал. Но Хануман, пока они шли к Шпилю Тихо, не терял равновесия. Эта гигантская игла, торчащая над общежитиями и учебными корпусами, отмечала центр Борхи. Данло нравилось в колледже послушников: здесь жила красота, расцветавшая на протяжении многих веков. Почти на всех зданиях пылали охряные, рыжие и красные пятна лишайника, и старые деревья высотой почти равнялись шпилям. На каждой из лужаек Академии слышалось «чик-чирик» птичек маули, клюющих кору.
Безупречно гладкие дорожки, огнецветы, гагары, выискивающие в снегу ягоды – это место, созданное руками человека, носило на себе, по мнению Данло, не поддающуюся словам печать халлы.
Под башней Тихо, в окружении восьми компьютерных корпусов, помещалась знаменитая площадь Лави. Послушники любили собираться здесь, чтобы посплетничать, встретиться с друзьями и насладиться считанными минутами (или часами) на свежем воздухе. Абитуриенты площадь Лави полюбить не успевали, поскольку именно здесь каждый год проводился Тест на Терпение, первый тест конкурса, и каждый год он был другим. Мастер Наставник обожал придумывать все новые и новые способы для отбора наиболее терпеливых новичков. Иногда несчастных детей заставляли читать стихи до хрипоты, пока наиболее слабые не начинали молить о пощаде; десять лет назад от них потребовалось внимательно, не засыпая, слушать лекцию об ужасах Пятой Ментальности и Вторых Темных Веков, и лишь тех немногих, кто не уснул после трех суток этой пытки, допустили к следующему тесту. На этот раз по всей площади, каждая сторона которой насчитывала сто пятьдесят ярдов, были аккуратно разложены семь тысяч соломенных матов три фута в ширину и четыре в длину. Маты лежали тесно, разделенные всего несколькими дюймами белого льда. Послушник распорядился, чтобы каждый из абитуриентов стал коленями на свой мат. Данло занял место рядом с Хануманом.
Истрепанный дырявый мат кололся соломой и пропускал снизу холод льда.
– Тихо! Время пришло! – снова провозгласил староста.
Абитуриенты умолкли, ожидая, когда им объявят условия испытания этого года. Всю площадь, не считая немногих деревьев йау с красными ягодами, ледяных скульптур и двенадцати редких деревьев ши с Самума, заполняли ряды коленопреклоненных мальчиков и девочек. Пахло чистым ребячьим потом и переспелыми ягодами. С ближних крыш звонко падала капель.
Тревожное ожидание висело в воздухе.
– Тишина! Всем слушать Мастера Наставника, Пешевала Лала!
Из дома позади старосты вышел и спустился по ступеням безобразный бородач. Послушники и кадеты называла его «мастер Лал», но всем остальным он был известен как Бардо, или Бардо Справедливый. Форменная черная сутана туго обтягивала громадные грудь и живот. Цвет Борхи – белый, и все послушники носят белое, но Бардо до того, как занять пост Мастера Наставника, был пилотом и носил форму своей профессии.
– Тихо! – прогремел он, повторяя призыв старосты. Голос у него был под стать фигуре. Он обвел суровым взглядом ряды абитуриентов – видно было, что он очень неплохо разбирается в людях. Тяжело прохаживаясь взад-вперед, он одаривал кого-то улыбкой или легким кивком, но в целом вид у него был такой, будто ему смертельно надоели и собственная персона, и суд, который ему предстояло вершить. – Тихо! – Его голос прокатился по всей площади, от дома к дому. – Ни слова, пока я не объясню правила нынешнего испытания. Эти правила очень просты. Вставать разрешается только по нужде. Ни еды, ни питья не полагается. Тот, кто заговорит, будет сразу отчислен. Все, что не запрещено, – разрешено. Проще некуда, клянусь Богом! Ждите – и больше ничего.
И они стали ждать. Семь тысяч подростков, все не старше пятнадцати лет, ждали на теплом ложнозимнем солнце, почти в полной тишине. Хануман, разумеется, не мог сдержать кашля, но послушники, патрулирующие между рядами, не делали ему замечаний. Данло беспокоило, как Хануман выдержит вечерний холод, и он решил отвлечь его от собственных страданий и поднять его дух с помощью музыки. Данло достал из-под хитона шакухачи и начал играть. Тихая, придыхающая мелодия привлекла внимание всех, кто был рядом. Абитуриентам музыка нравилась, но послушники проявляли недовольство. Они бросали на Данло уничтожающие взгляды, как будто он оскорбил их, найдя хитрый способ обойти приказ Бардо.
Он, конечно, не произнес ни слова, но его музыка успешно заменяла всякий разговор.
Так, дуя в свою длинную бамбуковую флейту, Данло коротал этот бесконечный день – день, прекрасный во всех прочих отношениях, теплый и наполненный ароматным горным воздухом. Деревья ши покрылись белыми цветами, и тучи только что народившихся бабочек-нимфалид пили нектар, трепеща лиловыми крылышками. Под жарким солнцем на ясном небе ждать было нетрудно. Бесчисленные иглы света покалывали лицо и шею. Данло продолжал играть, закрыв глаза и не замечая, как солнце, став большим и багровым, клонится к западу. Сумерки принесли с собой первый холодок, но Данло продолжала греть изнутри музыка сон-времени. Появились звезды, и стало по-настоящему холодно. Данло, почувствовав это на себе, открыл глаза и увидел, что настала ночь. Небо здесь, на восточной окраине, почти не затронутое городскими огнями, было черным-черно и полно звезд. Тепло невидимыми волнами покидало Город, уходя туда, вверх, и не было облаков, чтобы удержать его.
– Как холодно! Не могу я терпеть этот холод! – Мальчик по имени Конрад в десяти ярдах перед Данло ругался и лупил ногами по мату. Послушник подошел к нему и ухватил за шиворот. – Ты, морда поганая! – заорал Конрад, но послушники, не обращая внимания на его дурные манеры, мигом вывели его с площади.
Он был первым, кто потерял терпение и надежду, но далеко не последним. Абитуриенты, словно получив сигнал, начали вставать по одному и по двое и уходить с площади. Вскоре число отказчиков возросло до десятков и даже до сотен. Когда ночь пришла окончательно, на площади осталось около трех тысяч человек.
Около полуночи Данло встревожил особенно злостный приступ кашля, напавший на Ханумана. Настоящего мороза не было – температура на площади стояла примерно такая же, как в снежной хижине, – но Хануман весь трясся, согнувшись и прижимаясь лицом к мату. Если он не сдастся и не уйдет в укрытие, он наверняка скоро умрет. Но Хануман, по всей видимости, не собирался сдаваться. С красными рубцами от соломы на лбу и Щеках, он смотрел широко раскрытыми глазами на световые шары по краям площади. Эти бледноголубые глаза, словно зловещие блинки-сверхновые на небе, горели странным неодолимым светом. Нечто ужасное и прекрасное внутри Ханумана удерживало его на мате вопреки кашлю и холоду. Данло почти видел это нечто – этот чистый пламень воли, побеждающий даже инстинкт выживания. «Каждый мужчина и каждая женщина – это звезда», – вспомнил Данло. Сила и красота духа Ханумана притягивала его, как притягивает мотылька роковое пламя костра.
– Хануман! – шепнул он, не удержавшись. Стремление поговорить с этим несгибаемым человеком, прежде чем тот умрет, было сильнее страха быть обнаруженным. Данло казалось почему-то, что если он увидит самую суть Ханумана, то поймет все о шайде и халле. Дождавшись, когда послушников поблизости не будет, он прошептал снова: – Хануман, не надо прислоняться головой ко льду. Лед, он даже сквозь мат холодный, холоднее воздуха.
Хануман, стуча зубами, проговорил:
– Мне… никогда еще… не было так холодно.
Данло огляделся. Почти все маты вокруг опустели, а те немногие ребята, которые могли их слышать, свернулись клубком, как собаки, и вроде бы спали.
– Я слишком много раз видел, как люди уходят, – чуть слышно произнес он. – И ты тоже уйдешь, если не…
– Нет! Я не уступлю!
– Но твоя жизнь – она стынет и угасает…
– Моя жизнь ничего не стоит, если я не проживу ее так, как должно!
– Но ты не умеешь выживать… на таком холоде.
– Значит, придется научиться.
Данло улыбнулся в темноте, сжимая холодный бамбуковый ствол флейты.
– Тогда продержись еще немного. Скоро настанет утро. Ночи ложной зимы короткие.
– Почему ты разговариваешь со мной? А вдруг тебя поймают?
– Я знаю, что разговаривать нельзя.
– Ты не такой, как все. – Хануман обвел рукой скрюченные фигуры других абитуриентов. – Посмотри только на них – спят в самую важную ночь своей жизни! Никто из них не стал бы так рисковать – ты не такой, как они.
Данло потрогал перо Агиры, вспомнив ночь своего посвящения.
– Трудно быть не таким, как все, правда?
– Сознавать себя, вот что трудно. Большинство людей не знают, кто они.
– Они точно блуждают в сарсаре, – согласился Данло. – Да, это трудно – видеть правду о себе. Кто я, если вдуматься? Или любой другой человек?
Хануман прокашлялся и засмеялся.
– Раз ты задаешь такой вопрос, значит, уже знаешь.
– Ничего я не знаю, если по правде.
– Это самое глубокое из всех знаний.
Тихо посмеиваясь, они обменялись понимающими взглядами, но затихли, услышав шаги послушника в десяти рядах позади себя. Дождавшись, когда он пройдет, Хануман подышал на руки и опять затрясся.
– Ты рискуешь жизнью ради того, чтобы поступить в Академию? – спросил Данло.
– Жизнью? Ну нет, я не столь близок к смерти, как тебе кажется.
– Ты проделал путешествие сюда, чтобы стать пилотом?
– Мне думается, что быть пилотом – моя судьба.
– Судьба?
– Я мечтал… – Данло помолчал и закончил: – Я всегда хотел стать пилотом.
– Я тоже. Постоянный контакт с компьютером, разрешенный пилотам, – это начало всего.
– Я не думал об этом в таком свете. – И Данло, глядя на созвездия Волка и Талло, добавил: – Я хочу стать пилотом, чтобы отправиться к центру Великого Круга и увидеть, халла вселенная или шайда.
Он закрыл глаза и нажал на веки холодными пальцами.
Как объяснить другому свою мечту увидеть вселенную, как она есть, и сказать «да» этой правде, как мужчина и как асария? Алалоям вообще запрещено делиться с другими людьми своими мечтами, снами или видениями – как же он может поведать Хануману, что мечтает стать асарией?
– Что такое «халла»? Ты все время повторяешь это слово.
Ветер, шуршащий между домами, пронял Данло, и он задрожал. Несмотря на испытываемое неудобство, ему нравился этот веющий в лицо холодок, пахнущий морем и свободой.
Как хорошо говорить глухой ночью с таким чутким новым другом! Как это волнует – обманывать бдительных послушников, не имея иного прикрытия, кроме ветра. Странность этого стояния коленями на колючем мате в обществе трех тысяч других полузамерзших мальчиков и девочек вдруг переполнила Данло, и он стал рассказывать Хануману о смерти своих родителей и о своем путешествии в Невернес. Данло пытался поведать ему о гармонии и красоте жизни, но простые алалойские понятия, переведенные на цивилизованный язык, казались наивными даже для его собственного слуха.
– Халла – это крик волка, зовущего своих братьев и сестер. И звезды, светящие ночью, когда солнце закатывается за горы, тоже халла. Халла, когда ветер ложной зимы прогоняет холод, и халла, когда холода приходят снова, чтобы животные не размножались чрезмерно. Халла… о благословенная халла! Она так хрупка, когда пытаешься дать ей определение – это все равно что идти по морилке, мертвому льду. Чем больше в тебе веса, тем вернее, что он проломится. Халла есть, вот и все. Последнее время я думаю о ней, как о чем-то, что просто есть.
Хануман отвернулся от ветра, сдерживая кашель.
– Я никогда еще не встречал таких, как ты. Проделать тысячу миль по льду в поисках того, что ты называешь халлой – да еще в одиночку!
– Старый Отец предупреждал, что мне могут не поверить, если я расскажу об этом. Ты никому больше не скажешь?
– Конечно, нет. Но ты знай, что я тебе верю.
– Правда?
Хануман взглянул на белое перо у него в волосах.
– Вид у тебя в самом деле дикий. И взгляды тоже. Мне надо обдумать то, что ты сказал. Особенно насчет того, чтобы просто быть. Достаточно ли этого? Я всегда мечтал не быть, а стать.
– Стать… чем?
– Стать больше, чем я есть.
И Хануман скорчился в очередном припадке кашля, а Данло поднес к губам костяной мундштук флейты.
– Но, Хану, – сказал он, импульсивно изобретая это уменьшительное имя и трогая пылающий лоб товарища, – ты не становишься никем. Ты умираешь.
– Глупости, – прохрипел Хануман. – Пожалуйста, не говори так.
Потом голос изменил ему, а кашель стал накатывать волна за волной. Почему послушники или Бардо Справедливый, время от времени появлявшийся на площади, не заберут отсюда этого несчастного умирающего мальчика и не полечат его? Данло решил, что вступление в Орден сродни посвящению и, как всякий переход в новую жизнь, сопряжено с опасностью и возможностью смерти.
– Не поиграешь ли опять на флейте? – прошептал Хануман. – Я не могу больше говорить.
Данло облизнул губы и улыбнулся.
– Это успокаивает, да?
– Успокаивает? Наоборот – не дает покоя. Есть в твоей музыке что-то невыносимое для меня, но я почему-то должен ее слушать. Понимаешь?
И Данло заиграл, хотя из-за пересохшего рта делать это было трудно. Он уже в сотый раз облизывал губы, страдая от жажды. После утреннего кофе он ничего не пил, и язык превратился в кусок старой тюленьей кожи. Есть ему, конечно, тоже хотелось, даже живот сводило от голода, но жажда мучила его куда больше, а холод, сказать по правде, донимал еще больше, чем жажда. Жажда вскоре обещала перебороть все остальное. Но теперь, пока он играл, холод был особенно силен, словно промерзший мех, окутывающий все тело. Ветер холодил шею, мат леденил ноги. Пальцы шевелились с трудом, особенно безымянный и мизинец на правой руке: в детстве Данло обжег их о горючий камень, на них остались шрамы, и теперь они почти совсем онемели. Данло кое-как перебирал ими, а Хануман смотрел на него и слушал. На тонком лице Ханумана, в его глазах отражалось страдание, причиняемое то ли музыкой, то ли холодом. Данло играл этому страданию, все время думая о Старом Отце и «священной боли», которую тот так любил причинять другим. Сам Данло не находил радости в чужих страданиях, но понимал необходимость боли как стимулятора. «Через боль человек сознает жизнь», – говорят алалои. Жизнь – это боль, и если Хануману больно, значит, воля к жизни еще теплится в нем. Но чудо жизни – вещь тонкая, способная оборваться в любой момент. Данло видел, что Хануман умирает – долго ли еще воля и внутренний огонь будут поддерживать в нем жизнь? Смерть – левая рука жизни, смерть – это халла, но Данло не хотелось, чтобы Хануман умер.
Он отложил флейту и прошептал:
– Хану, держи руки за пазухой. Не надо дышать на них. Пальцы загребают холод из воздуха, понимаешь?
Хануман кивнул и сунул руки в свои широкие рукава. Он ничего не говорил, только кашлял, и его трясло все сильнее.
– Ты не создан для холода, Хану, верно?
Данло с мрачной улыбкой пощупал свой тонкий шерстяной хитон. Ветер усилился и гнал по площади колючие льдинки. Казалось что дрожат все, даже усталые послушники в своих белых куртках. Данло не сводил глаз с Ханумана. Хануман говорит мудро, и мужества ему не занимать, но в конце концов он всего лишь мальчик, необрезанный и не закаленный против испытаний сурового мира. Он слаб и болен, и скоро он уйдет на ту сторону. Данло смотрел на него и ждал, что это вот-вот случится. Он ждал и думал о пугающем, таинственном родстве, связавшем его жизнь с жизнью Ханумана. Всматриваясь в пышущее жаром лицо Ханумана, он, обеспокоенный таким оборотом своих мыслей, решил, что у них, должно быть, общий доффель. Дух Ханумана определенно связан со снежной совой или какой-то другой разновидностью талло. И тогда, в эти самые глубокие и холодные часы ночи, когда ветер умирает и земля затихает перед рассветом, Данло услышал зов Агиры.
– Данло, Данло, – сказала вторая его половина. – Хануман твой брат по духу, и ты не должен позволить ему умереть.
Быстро, почти не раздумывая, Данло сбросил с себя хитон.
Он улыбнулся, и в его глазах читалось сознание суровой необходимости. Нагнувшись к Хануману, он натянул хитон через голову на его дрожащее тело и снова опустился на свой мат, голый и замерзший, сам удивляясь тому, что сделал.
Хануман, посмотрев на него, слабо улыбнулся и бессильно закрыл глаза. Данло, собрав близлежащие маты, построил над ним что-то вроде шалаша. Они и лишний хитон должны были хоть как-то уберечь Ханумана от ветра.
– Данло, Данло, нет ничего страшней холода, – прошептала ему Агира.
Данло стиснул кулаки, чтобы не дрожать, а Хануман впал в беспамятство и стал бредить. Веки у него трепетали, словно крылья мотылька, и потрескавшиеся, кровоточащие губы беззвучно шевелились. Потом он начал бормотать вслух:
– Нет, отец, нет. Нет, нет.
– Тише, Хану! – Данло оглядывался, боясь, не проснулся ли кто-то из абитуриентов. У алалоев запрещается тревожить сон других собственными сновидениями. Сон – это священное время, возвращение в естественное состояние, к истокам, питающим дух. Открыть свой сон – значит заразить чужой дух образами, которые следует хранить в тайне. Если не оберегать свои сновидения, души всех мужчин и женщин перемешаются, и безумие овладеет ими. – Проснись, Хану, если не можешь спать спокойно!
Но Хануман погряз в своих кошмарах. На лице у него выступил пот, и губы в ужасе лепетали:
– Отец, нет, нет, нет!
Данло, нагнувшись над ним, зажал рукой его рот.
– Ш-ш-ш, Хану! – Горячее дыхание Ханумана обжигало его холодную руку. – Успокойся, усни! Шанти, шанти, усни.
Он баюкал Ханумана на руке, продолжая зажимать ему рот.
Он боялся, что послушники услышат эти заглушенные крики, но ближайший дежурный стоял в пятидесяти ярдах от них, прислонясь к дереву ши, и ничего не слышал. Под шепот «Шанти, шанти, усни» Хануман наконец забылся глубоким сном. Когда он затих, Данло отпустил его и занял прежнюю позицию на своем мате. Повсюду на ледяной площади Лави страдали другие несчастные дети. Никогда еще Данло не чувствовал себя таким замерзшим, брошенным и одиноким.
Утром ветер окреп, и взошло солнце.
– Лура Савель, – прошептал Данло. – О благословенное солнце, скорее вырви ветру зубы. – Но солнце не спешило, и ветер по-прежнему обжигал холодом. Розовато-красное небо покрылось льдистыми перистыми облаками. Когда солнце еще не вышло из-за гор на востоке, Бардо Справедливый явился подсчитать ночные потери. Послушники начали сновать между рядами, пересчитывая абитуриентов. Большинство матов опустело, и на площади осталось всего тысяча двадцать два человека. Из них только тысяче двадцати суждено было продолжить конкурс, поскольку две девочки ночью замерзли насмерть.
Послушники так и нашли их на матах, будто уснувших.
Обнаружили они и кое-что другое. Группа послушников на коньках окружила Данло с Хануманом, и кто-то крикнул:
– Смотрите, этот мальчик голый!
Бардо пробрался к ним между рядами. Несмотря на свою толщину, по льду он ступал легко и грациозно. Он ткнул пальцем в Ханумана, полуприкрытого матами и еще не пришедшего в сознание.
– А на этом два хитона. Почему два? – Он повернулся к Данло, неодобрительно поджав ярко-красные губы. – Ты же голый, ей-богу – понимаешь меня, парень? Нагни голову, если понимаешь. Ты отдал этому мальчику свой хитон?
Данло кивнул. Он стоял согнувшись, его кожа белела в утреннем свете, и мускулы на спине и боках трепетали, как струны арфы. Он чувствовал себя хуже некуда под всеми этими взглядами.
– Невероятно! – пробасил Бардо. – Это надо записать – за всю свою бытность Мастером Наставником я ни разу не видел такого самопожертвования. Подумать только – снять с себя хитон и отдать другому! Зачем ты это сделал, мальчик? Ах да, извини – тебе ведь нельзя говорить. Какое самопожертвование – и какое безрассудство. Как ты располагаешь протянуть следующие сутки? На улице дьявольски холодно.
Данло молча смотрел на него. Что-то в его синих глазах, видимо, вызвало раздражение Бардо, и тот рявкнул:
– Не пяль на меня глаза, мальчик, это невежливо! Ну почему, почему я вынужден терпеть такое нахальство?
Данло продолжал смотреть – не на окаймленное черной бородой, исполненное жалости к себе лицо Бардо, а скорее сквозь него, в небо. Ти-миура халла, думал он, следуй за своей судьбой. Он смотрел в прекрасный небесный круг, на его облака и краски. Ти-миура халла.
Но Бардо, очевидно, принимал это безмолвный молитвенный взгляд за вызов.
– Экий нахал! – сказал он. – Знает кто-нибудь, как его зовут?
Послушник по имени Педар с важным видом сообщил:
– Я видел его в Ледовом Куполе – его зовут Данло Дикий.
– Не спускайте с этого дикаря глаз. Следите за ним – я сегодня обедаю в Хофгартене, поэтому всю ответственность возлагаю на вас. – Бардо переводил взгляд с Данло на Ханумана, бормоча себе под нос: – Нахал!
И Данло остался под бдительным наблюдением Педара Сади Саната. Он был старшим из послушников, дежуривших на площади, с острыми глазками на прыщавом лице. Он принадлежал к тем старшим послушникам, которым доставляло удовольствие издеваться над первогодками и абитуриентами.
Он пристально следил за Данло и Хануманом и порой острил, обращаясь к своим приятелям:
– Поглядите на ледяного мальчика! И как это он до сих пор не замерз? Может, он принял юф? Или другой наркотик? Поглядите на Данло Дикого!
Многие действительно подкатывали поближе, чтобы посмотреть. Вскоре известие о подвиге Данло разошлось по всей Борхе, и послушники, закончив свои утренние мыслительные упражнения, старались хотя бы ненадолго заглянуть на площадь Лави. Все они, мальчики и девочки, смеялись и показывали на Данло пальцами. Сотни коньков бороздили лед около него, высекая ледяные брызги. От пребывания в непривычной скрюченной позе все тело у Данло затекло. Ему хотелось разогнуться, распрямить застывшие ноги, но он никому не хотел показывать свой украшенный насечками член.
– Никогда еще не видела голых мальчиков! – хихикнула хорошенькая послушница. – Какие у него руки, спина, какие мускулы – он как статуя древнего бога!
Другая, постарше, желтоволосая кадетка-холистка, уже поженски округлая, внимательно осмотрела Данло и заявила:
– Ну а я голых мальчиков видела, и этот самый Данло Дикий – великолепный экземпляр.
Многие абитуриенты со своих матов тоже смотрели на него.
Со временем несколько мастеров из Лара-Сига и Упплисы тоже пришли посмотреть, чем вызван такой переполох. Один из них, знаменитый мнемоник Томас Ран, сделал Педару выговор за его жестокость. Величественный мастер с благородным лицом и пышными серебряными волосами оправил складки своих серебристых одежд и сказал:
– Ты уже забыл, Педар, как сам поступал в послушники три года назад? Как тебя тогда звали – Педар Прыщавый? А теперь ты обвиняешь этого мальчика в том, что он ввел себе юф. Да, есть вещества, которые согревают кровь, но средства против гипотермии не существует. Он отдал свою одежду другому – тебе бы следовало похвалить его за это, а не дразнить.
В самом деле, многие зрители явно восхищались стойкостью и решимостью Данло.
– Он отдал свою одежду другу, – объяснял новоприбывшим то один, то другой послушник. – И провел так всю ночь, голый и холодный, как лед.
Педар, отогнав пару послушников, подошедших слишком близко, снял свою белую перчатку, нагнулся и пощупал спину Данло.
– Точно – как лед, – подтвердил он.
– А тот, другой мальчик?
– Этот горячий. – Педар потрогал щеку Ханумана. – У него жар. Сутки ни один из них точно не протянет.
– Похоже на то, – согласился с ним один из дежурных. – Сегодня будет снег – еще до вечера.
Небо действительно предвещало снег – Данло понял это, как только рассвело. В воздухе пахло влагой, и ветер не к добру переместился на юг. Потом он совсем утих, и облака стали сгущаться – их серебристые волокна неумолимо преображались в плотный свинцовый полог. Сырой холод, эеша-калет, окутывал мир. Данло часто по утрам чувствовал эту сырость перед снегопадом. Теперь, под этим низким серым небом, он снова испытывал полузабытые детские ощущения: ноющие зубы, растерянность и страх. Он боялся этого снегопада. Ни один мужчина или мальчик не должен подставлять снегу голую плоть. Страх, неведомый ему ранее, пронизывал волнами грудь и живот.
И снег чуть позже пошел. Крупные хлопья таяли у Данло на спине, и ледяные струйки стекали по бокам. Каждая тающая снежинка отнимала у тела частицу тепла, а снежинок было много, очень много. Болело все – кожа, горло и глаза. Нет ничего страшнее холода, думал Данло. Скоро он даже дрожать перестанет, и тогда ему останется либо попросить, чтобы его унесли отсюда, либо умереть.
Он мог бы сдаться, если бы не помнил, что участвует в состязании. Хануман по-прежнему спал своим горячечным сном.
Данло часто казалось, что он и умрет так, во сне – но Хануман время от времени кашлял, и прикрывавшие его заснеженные маты вздрагивали. Лихорадка спасала его, поддерживала в нем тепло под двумя хитонами, матами и снегом. Все другие абитуриенты вокруг тоже, конечно, покрылись снегом, но тонкая одежда плохо защищала их. Одежда сама по себе не греет – она только удерживает тепло внутри. Только живое, наподобие звезды или огня, горящего в человеческом теле, способно создавать тепло.
– Глядите, уходят! – крикнул кто-то из послушников. – Этот легкий снежок их доконал.
Многие абитуриенты вставали, стряхивали снег с промокших хитонов и уходили с площади. Почти все маты в пределах пятидесяти ярдов от Данло и Ханумана опустели. Данло, подняв голову, пересчитал оставшихся. Купа деревьев йау заслоняла ему обзор, и он плохо видел южную сторону площади – но судя по опустевшим рядам, где редко-редко еще трясся одинокий, засыпанный снегом ребенок, на площади осталось не более двух сотен. Двести человек из семи тысяч! Долго ли еще Бардо Справедливый намерен продолжать это состязание?
– Глядите на ледяного мальчика! – опять завелся Педар. В его голосе слышалась злоба. Несмотря на выговор мастера Рана, а может, как раз из-за него, он явно проникся ненавистью к Данло. – Почему ты не уходишь? Давай я отведу тебя в тепло! Уходи, пока еще можешь, ты, безымянный – давай!
Снег засыпал Данло голову, спину и даже подошвы ног. Он посинел, и снег больше не таял на нем.
– Уходи! Это ведь очень просто – встать и уйти.
Данло дышал тяжело, с трудом. Он больше не дрожал. Мускулы у него затвердели, как осколочное дерево, и он не знал, сумеет ли встать, даже если захочет. Живот болел от холода, холодный мат впивался в колени, каменное острие холода вбивалось в кости. Скоро и кости тоже застынут, но пока что ноги и спина причиняли Данло острую боль. Холод и боль, боль и холод – больше в мире ничего не осталось. Данло думал, как бы выбиться из этого круга, но мысли ползли медленно, как ледник. Что ему за дело до боли мира и даже до собственной боли: он уже падал в глубокий колодец оцепенения, где всякая чувствительность пропадает. Ему смутно вспомнилось чтото слышанное в детстве. Пока снег тихо падал на него и его воля к жизни остывала, он вспоминал, как некоторые охотники его племени говорили об искусстве под названием лотсара. Лотсара – это горение крови. Есть способ заглянуть в себя и заставить свой внутренний огонь гореть что есть силы.
Каждый может научиться этому – каждый мужчина. Данло знал, что о лотсаре говорится в Песне Жизни – это лишь малая часть знаний, которыми он владел бы, если бы завершил свой переход в мужчины, как подобает. Только мужчина способен ощущать поток мировой энергии. (Данло не знал, преподается ли такое искусство женщинам во время их тайных обрядов.) Только мужчина знает себя настолько, чтобы заглянуть в то тайное место, где огонь бытия преобразуется в жизнь.
Только мужчина… Данло стал вспоминать то, что рассказывал ему Хайдар о лотсаре. При ней лик бытия должен быть очищен так же, как при ожидании, в которое погружается охотник, но человек устремляет свой взгляд не вдаль, на ту сторону дня, но внутрь, в глубину своей анимы; он должен обнаружить там жизненный огонь, сокровенную и важнейшую часть анимы, и таким образом взглянуть в лицо себе самому.
Мир состоял из сплошного клубящегося снега, и зрение начинало изменять Данло – поэтому он закрыл глаза. За ними были мрак и тишина, огромные, как ночь. Он стал опускаться в себя, как в незнакомую, неизведанную пещеру. Да, неизведанную – но инстинкт подсказывал ему дорогу. Рассказы старших направляли его, и ему мерещилось, как Хайдар поет: «Ти-миура анима, ти-миура вилю сибана: следуй за своей анимой, следуй за голодом своей воли». Глубоко в животе он нашел место, где обитала анима: за пупком, у самого позвоночника.
При рождении пуповина человека отсекается от огней творения, но глубоко внутри частица священного пламени горит всегда. Теперь это пламя стало слабым и тусклым, как огонек угасающего горючего камня, и он должен раздуть его. Перед Данло открылись жировые прослойки его тела, пролегающие между кожей и мускулами, на груди, животе, в паху, на ступнях и ладонях. Сейчас Данло напоминал собой узловатый кожаный ремень, но даже в тех, кто пережил голод, всегда остается немного жира. И этот скудный запас теперь тает, словно ворвань в горючем камне. Тает, течет по телу и нагревается. Огонь в животе разгорается все жарче, зажигая кровь. Огонь жизни струится по жилам, пронизывая руки и ноги, даже онемевшие кончики пальцев. Кожа краснеет, и снег на спине начинает таять. Вот он уже сваливается с боков мокрыми ошметками, и снежинки, падая на разогретую красную кожу, тут же превращаются в капли воды. Но даже эти капли теплые, и жар охватывает все его существо – Данло не представлял себе, как он мог так замерзнуть.
– Смотрите! – сказал кто-то. – Смотрите, какой он красный! И снег на нем тает.
Педар подъехал, потрогал руку Данло и сказал:
– Он горячий. Был холодный, а теперь горячий.
– Я слышал о таких вещах, – заявил другой. – Авадгуты в Квартале Пришельцев смачивают свою одежду водой и стоят так на улице всю зимнюю ночь. Они высушивают одежду теплом своих тел. Думаешь, он тоже авадгута?
– Кто его знает? – Педар с недовольным видом поковырял прыщ на щеке. – Может, это просто фокус такой. Или наркотик. Без наркотиков снег ни на ком таять не будет.
В толпе вокруг Данло завязались споры. Большинство послушников хотело верить, что он наркотиками не пользовался, хотя никто не мог понять, с чего он так разогрелся.
В этот момент к ним вернулся, пошатываясь на коньках, Бардо Справедливый. Пот струился по его выпуклому лбу, несмотря на снегопад. На лице багровел огромный нос, покрытый сеткой лопнувших сосудов. Послушники знали, что он хлещет пиво с утра до вечера, и старались не попадаться ему, когда он пьян.
– Много вы понимаете в наркотиках, клянусь Богом! – Он приложил свою влажную мясистую руку к затылку Данло. – Горячий, но дело тут не в наркотике. Разве абитуриентов когда-нибудь испытывали холодом? До позавчерашнего дня даже я, Бардо Справедливый, не знал, каким будет очередное испытание. Откуда же было юному дикарю знать об этом? Нет, тут кроется что-то другое. Странно… Есть одна старинная техника, и этот Данло Дикий, видимо, ей обучен.
Педар потыкал коньком в лед, осыпав крошкой лицо Данло, и спросил:
– А что это за техника такая?
Бардо внезапно сделал пируэт, словно фигурист, и съездил ему по уху. Бардо бывал жесток, когда напивался, – жесток и сентиментален.
– Ты что делаешь? Брызжешь льдом в лицо этому бедняге, который с мата сойти не может! Я велел тебе следить за ним, а не мучить его. – Бардо огладил свои усы и забормотал себе под нос глубоким мелодичным голосом: – Горе тебе, Бардо, дружище, – зачем ты доверил свою работу послушнику?
Педар, ошеломленный быстротой и силой удара, стоял, держась за ухо, и взгляд его, устремленный на Данло, был полон ненависти.
Послушники вокруг Бардо скукожились, опасаясь, видимо, за себя. Один из друзей Педара, обведя рукой опустевшую площадь, спросил:
– Мастер Лал, долго ли еще это будет продолжаться? Их осталось всего сто человек.
Бардо, щуря от снега блестящие карие глаза, посмотрел на Данло и нахмурился.
– Посмотрите на этого бедного голого мальчика! У него терпения больше, чем у любого из вас! – Он нагнулся к самому уху Данло, дыша на него пивом, и прошептал: – Кто кого испытывает – ты меня или я тебя? Такие стойкие мне еще не попадались. Кто ты такой, клянусь Богом? Нет-нет, не отвечай – тебе нельзя говорить. Но скажи мне, дикий мальчик – просто мотни головой, если хочешь ответить «нет»: если я продолжу испытание, ты не умрешь и не выставишь меня варваром в глазах общества?
Данло с улыбкой покачал головой.
– Испытание продолжается! – выпрямившись, объявил Бардо. – И закончится оно тогда, когда закончится.
Пришлось Данло и ста оставшимся абитуриентам ждать до конца этого долгого дня. Среди тихого снегопада и белых зданий вокруг площади трудно было судить, сколько времени прошло. Данло стоял на коленях и смотрел, как мелькают в воздухе снежинки. Лотсара и надежда согревали его, но жир в его теле сгорал слишком быстро, и ему ужасно хотелось пить. Немало абитуриентов наелись снега и схватили серьезную простуду, но Данло знал, что этого делать нельзя, даже когда горло у тебя горит и сердце в груди кажется сгустком раскаленной лавы. Скоро он не сможет больше терпеть, слабость одолеет его, свет в глазах угаснет, и настанет забвение. Никогда он не отправится к звездам в поисках халлы – единственное путешествие, которое он совершит, будет на ту сторону дня, где простираются бесконечные голые льды.
– Данло, Данло. – Ему послышалось, что это шепчет Хануман, но Педар и другие послушники стояли слишком близко, чтобы можно было перешептываться – и Хануман все еще спал в двух своих хитонах, под матами и толстым одеялом снега, хотя постоянно морщился и кашлял во сне. Потом он начал просыпаться. Его глаза сквозь пелену лихорадки взглянули на Данло, как бы говоря: «Данло, Данло, я обязан тебе жизнью».
– Глядите, – сказал Педар, – болящий очухался.
Несколько сот послушников во главе с Бардо толпились вокруг, бесцеремонно обсуждая мужество Данло и Ханумана заодно с другими событиями дня. Педар втихомолку пробурчал, обращаясь к Данло:
– Навряд ли ты выдержишь другие экзамены, даже если пройдешь этот тест. Но если все-таки выдержишь, я надеюсь, что тебя назначат в мое общежитие. Оно называется Дом Погибели. Запомнишь, Дикий?
Хотя эта угроза была адресована Данло, на Ханумана она произвела поразительный эффект. Его лицо, и без того смертельно белое, застыло и отвердело, как мраморное. Живыми на нем были только глаза, горящие бледной яростью. Эта ярость, возникшая неведомо откуда, испугала Данло. В злобе на Педара Хануман пытался разбросать маты и сесть, но был слишком слаб для этого. Беспомощный, он лежал и смотрел на Данло, обуреваемый яростью и стыдом.
Так они и ждали под падающим снегом, глядя друг другу в глаза, потому что никто не хотел отвести взгляд первым. Люди вокруг обсуждали затяжной не по сезону снегопад, а между ними двумя струилось безмолвное понимание и секреты, которые, как они знали, открывать было нельзя. Данло чувствовал глубокую сосредоточенность Ханумана, его преданность дружбе и судьбе; оба они очень остро чувствовали друг друга. Они провели так весь день, и Данло хотелось сказать: «Хану, Хану, ты так же опасен, как Айей, талло». Потом издали донесся слабый звон вечерних колоколов Ресы, и толпа вокруг пришла в движение. Усталые послушники, дежурившие на площади с самого утра, ворчали, выражая сочувствие Данло, Хануману и остальным. Бардо Справедливый потер глаза, бросил на Данло полный любопытства и восхищения взгляд и хлопнул в ладоши.
– Тихо, время пришло! – сказал он. Это было адресовано послушникам и толпе посторонних – несчастные абитуриенты и так молчали с самого начала испытания. – Время пришло, клянусь Богом! Тест на Терпение заканчивается. Абитуриенты… – Тут Бардо умолк, и послушник, только что обежавший всю площадь, что-то сказал ему. – Абитуриенты в количестве семидесяти двух человек выдержали первое испытание. Второй экзамен состоится через пять дней, и мы приглашаем вас принять в нем участие. В общежитиях вас ждут горячие ванны, кофе и еда. Послушники вас проводят. Поздравляю – теперь вы можете сойти со своих мест и говорить сколько душе угодно.
Вокруг раздались крики облегчения. Абитуриенты вставали со своих матов, разминая закоченевшие руки и ноги, и спешили за послушниками в тепло.
– Данло Дикий! – закричал вдруг какой-то послушник. – Дайте кто-нибудь шубу для Данло Дикого!
Данло стряхнул снег с взлохмаченных волос и попытался встать, но не смог. Теперь ему было уже все равно, что Педар и другие увидят его член, но застывшие суставы не держали его. Спазмы сводили тело от паха до самой шеи. Как только снег и холод коснулись его живота, огонь лорсары угас, и Данло снова затрясся. Кто-то накинул толстую шегшеевую шубу на его голые плечи, но дрожи это не остановило.
– Хану, Хану, – сказал он, ковыляя на полусогнутых ногах к своему другу, – Хану, это все, можно идти.
Хануман, один из всех абитуриентов (не считая пятерых несчастных мальчиков, которых нашли мертвыми), не трогался с места. Многие и его сочли мертвым, но Данло видел, что в нем еще теплится жизнь. Послушник принес еще одну косматую шегшеевую шубу, и Данло помог ему завернуть в нее Ханумана.
– Данло, у тебя все в порядке? – Хануман дышал часто, как заяц, и даже кашель у него прошел. – Я боялся, что ты умрешь.
Послушники унесли его, а Данло остался принимать поздравления любопытных зрителей. Кто-то сунул ему в руку кружку горячего кофе, которую он с благодарностью осушил.
Его окружало не меньше ста ликующих незнакомцев, что не мешало ему оставаться наедине со своими мыслями.
Подошел Педар с раскрасневшимся от холода прыщавым лицом и сказал:
– Мы о нем позаботимся.
– Что с ним будут делать… с моим другом? – спросил Данло.
– С другом? Тебе, Дикий, следует знать одну старую пословицу: «Спасешь кому-то жизнь – наживешь врага на всю жизнь». Не думаю, что этот мальчик будет тебе другом.
Данло прикрыл глаза от летящего снега и задумался. Уходя с площади в окружении послушников, он от души надеялся, что Педар ошибается.
Глава VII ДОМ ПОГИБЕЛИ
Универсальный синтаксис. Изобретен Омаром Нарайямой на Арсите за двадцать лет до основания Города. Его структура отражает развитие холизма в период Пятой Ментальности. Возможно, это просто историческая случайность: если науку человечество изобрело, основываясь на математике, не менее древней, чем цивилизации Вавилона и Ура, то универсальный синтаксис возник через долгое время после того, как холизм начал проникать в науку, постепенно вытесняя ее. Как продвигалось бы познание вселенной в обратном случае – вопрос спорный, но полное раскрытие холизма без универсального синтаксиса определенно было бы невозможно.
Краткое содержание основной статьи. Омар Нарайяма был лингвистом Ордена Ученых. По иронии судьбы, труд всей его жизни привел к распаду этого древнего ордена и навсегда изменил подход человека к науке. Нарайяма, как и другие ученые в конце Века Имитации, сталпонимать ограниченность компьютерного моделирования по отношению к явлениям и законам пространства-времени. Он стремился к универсализации науки, что было Священным Граалем всех ученых того времени. Веком раньше фравашийская языковая философия начала оказывать глубокое влияние на интеллектуальный климат Цивилизованных Миров. Нарайяма после обучения у фраваши начал свою карьеру с кардинального вопроса теории познания: что мы видим, когда мы видим? Гипотеза Нарайямы заключалась в том, что склеенные вместе палочки мы видим как стул, а решетку атомов углерода в платиновой оправе – как кольцо с бриллиантом. Формулировка этого «как» и послужила основой универсального синтаксиса. Нарайяма, как позднее его последователи, занялся использованием языковых структур длямоделирования аспектов реальности, слишком сложных для математических формулировок.
См. также следующие статьи: Омар Нарайяма, биография; История науки; Причинность; Обратная причинность и теория скраирования; Арсит; Орден Цефиков; Орден Новых Ученых – Раскол и война; Век Имитации; Пятая Ментальность; Фраваши – музыка, философия, теория языка.
Британская Энциклопедия, 1754-е издание, 10-я дополненная стандартная версияПоправляясь, Данло ни разу не виделся с Хануманом ли Тошем. Наведя справки у нескольких старших послушников, с которыми подружился, он узнал, что Ханумана положили в госпиталь Борхи, где его либо вылечат, если такова его судьба, либо он начнет свое путешествие на ту сторону дня. Для Данло этот промежуток времени перед следующим экзаменом был полон как удовольствия, так и неуверенности. Он беспокоился за Ханумана, а иногда сворачивал на легкие проторенные дорожки своего детства, забывая, что он уже мужчина (или почти мужчина), и беспокоился за себя самого. Но беспокоиться о чем-то долго было не в его натуре. Жизнь проживается в теперешний миг, как говорят алалои, и он находил радость в самых простых и будничных вещах: в горячем мятном чае, сне и еде, в пробуждении и утреннем кофе, в хлебе и теплой ванне, после которой можно вздремнуть еще немного. Пройдя испытание холодом, самое острое наслаждение он испытывал от обыкновенного тепла. Ему, как и другим семидесяти абитуриентам, выделили крохотную отдельную комнатку в Приюте Пришельцев на западном краю площади Лави, и он целые дни приводил перед камином. Под треск еловых поленьев он, голый, грелся в красных волнах жара, играя на шакухачи. В конце каждого дня он сытно обедал рисом с миндалем, снежными ягодами со сливками, яичным супом и ореховым печеньем, а после навещал своих товарищей. Иногда незнакомые послушники, мальчики и девочки, приходили к нему, чтобы удовлетворить свое любопытство. На третий день после испытания к нему явился высокий строгий юноша по имени Кирил Буриан и сказал:
– Я видел, что ты сделал на площади. Как тебе удалось не замерзнуть? И откуда ты родом? Если ты пройдешь следующие экзамены, я надеюсь, что тебя назначат в мое общежитие – Дом Изабеллы. Тебе там окажут радушный прием, даже если тебя никто не знает.
Неожиданная слава и популярность, завоеванная им, казалась Данло странной. Он не понимал толком, что это за штука такая – популярность. Что такое доблесть, уважение и дружба, он, конечно, знал – эти понятия и у алалоев были приняты. Но послушники, искавшие его общества, как будто не хотели, чтобы он стал их другом и не питали уважения к той скромной мудрости, которую он приобрел в поисках халлы.
Его популярность, насколько он понимал, проистекала только из дружбы к Хануману, которую он доказал на деле, и из его успеха в лотсаре, которой должен владеть каждый взрослый мужчина. Заразительная природа этой популярности вызывала в нем ненависть. Ему казалось глупым и извращенным то, что люди общаются с ним не потому, что им нравится его лицо – иначе говоря, склад личности и характер, – а потому, что им лестно пообщаться с человеком, оказавшимся на время в центре внимания. Ненавистно ему было и обращение, которому подвергались абитуриенты. Кому-то из них предстояло вскоре стать послушниками, но на тех, кто не учился в элитных школах Ордена, смотрели как на чужаков. Этот снобизм, проявляемый такими, как Педар, был Данло глубоко противен. Но поскольку он считал ненависть самой злостной из всех эмоций, черным илом в океане бытия, грозящим поглотить человека в любой момент, он не позволял себе ненавидеть. Чтобы противопоставить этому что-то другое и заодно наказать себя, он старался завести себе как можно больше друзей среди послушников. Почти во всех, даже в Педаре, он находил какую-то сторону лица, духа или анимы, которую мог уважать. Много лет спустя Хануман ли Тош скажет ему: «Я не знаю никого, кому бы так много нравилось в мире». Ирония заключалась в том, что эта присущая Данло необузданная любовь к жизни завоевывала ему множество друзей и приносила ему еще большую популярность.
Ранним утром тридцать первого дня Данло наконец вызвали на экзамен. Очередному испытанию в отличие от Теста на Терпение он подвергался не публично, а в одиночку. В холодном каменном помещении Башни Акашиков веселая женщина-мастер, Ханна ли Гуа, водрузила ему на голову шлем для проверки физической структуры его мозга. Проверяла она и кое-что другое, но не сообщала Данло, что именно. Не сказала она и того, каков результат теста – положительный или отрицательный, – и на прощание заметила только:
– Надеюсь, ты будешь принят, Данло Дикий.
В последующие дни Данло хорошо изучил Академию, исходив ее вдоль и поперек. Упплиса с ее базальтовыми арками и узкими извилистыми дорожками была самым крупным из колледжей Ордена. Здесь мастер-эсхатолог Коления Мор проверила его на знание холизма и универсального синтаксиса, и здесь же он предстал перед Томасом Раном и Октавией с Темной Луны, которые, как предупреждал его Старый Отец, должны были оценить, насколько он владеет ши. Последний тест проводил знаменитый пилот, эталон Зондерваль. В Ресе, пилотском колледже, Зондерваль предложил Данло двенадцать математических теорем, которые тот должен был доказать или опровергнуть. Данло сумел доказать только пять из двенадцати и потому решил, что провалил этот, наиболее важный, экзамен. Он спросил Зондерваля, так ли это, и тот ответил:
– Мастер Наставник уведомит тебя о результатах тестов, когда комиссия решит, зачислять тебя или нет.
– Мастер Бардо – человек справедливый, да?
Зондерваль улыбнулся свысока, услышав этот невинный вопрос, и сказал:
– Ты хорошо узнаешь Бардо Справедливого, если будешь принят в Орден.
Комиссия, которую Бардо Справедливый собрал для решения участи абитуриентов, состояла из пяди выдающихся мастеров. Он пригласил столь блестящий квинтет, чтобы оказать поступающим должную честь, хотя окончательный отбор не требовал участия таких незаурядных умов. Но это не мешало ему руководствоваться самыми эгоистическими побуждениями, заманивая в приемную комиссию своих друзей – Колению Мор, Октавию и других. Он уговорил их, чтобы оказать честь себе самому. Несколько лет назад его так и не выбрали Главным Пилотом, назначив вместо него Ченота Чена Цицерона – так по крайней мере Бардо плакался всем, кто соглашался его слушать. Взамен ему, считавшему себя самым талантливым из всех пилотов, переживших печально известную Пилотскую Войну тринадцатилетней давности, предоставили скромный пост Мастера Наставника, не сулящий ни власти, ни славы. Поэтому он любил окружать себя самыми знаменитыми специалистами Ордена, чтобы купаться в их блеске и втайне негодовать на несправедливость жизни.
Он был тщеславен, это верно, но в конечном счете его тщеславие обернулось на пользу Данло. После сдачи последнего экзамена Данло вызвали в Святыню Послушников – огромное грозное здание, превышающее размерами многие общежития Борхи. Послушник проводил Данло в служебные апартаменты Бардо, расположенные в западном крыле. Данло постучал, и Бардо пригласил его войти в комнату, богато обставленную и украшенную произведениями искусства.
– Ага, вот и дикий мальчик. У тебя что, и правда другого имени нет?
Бардо подвел Данло к одному из окон, выходящих на Борху. Под ним были вделаны в пол два прямоугольных гладких серых камня, слегка вогнутых посередине, будто обработанных резцом – знаменитые борхианские камни для коленопреклонений. Бардо велел Данло стать на них коленями лицом к окну, а себе придвинул громадный мягкий кожаный стул и поставил его под прямым углом, чтобы видеть Данло в профиль, Данло устремил взгляд на Шпиль Тихо, возвышавшийся над всеми зданиями Борхи, а Бардо, разглядев его как следует, наконец спросил:
– Кто ты такой, клянусь Богом?
Он предупредил Данло, что голову поворачивать нельзя, но о глазах ничего не сказал, и Данло водил ими туда-сюда, оглядывая комнату. Бардо ему почти не было видно, но бородатый профиль мастера вместе с тенью от стула темнел на стенном гобелене.
– Отвечай, когда тебя спрашивают.
Данло потрогал перо в волосах, думая, как бы ответил на это Старый Отец. Он знал, что перечить старшим неприлично, да и глупо к тому же, но все-таки не удержался и спросил сам:
– А кто вы, уважаемый? Или любой другой человек?
– Я?!
– Вы когда-нибудь видели меня раньше? – с хитрой улыбкой осведомился Данло.
– Нет.
– Откуда вы тогда знаете, что я – это я?
Последовала долгая пауза, наполненная свистящим дыханием Бардо, после чего мастер взорвался:
– Вот нахал! То есть как откуда знаю? Это что, такая фравашийская игра? Ты был учеником фраваши, так ведь?
Данло кивнул, глядя на облака за окном.
– Послушай, юморист, как у тебя хватает нахальства играть в такие игры со мной? Разве ты не знаешь, что это я решаю, станешь ты послушником или нет? Разве ты не знаешь… а ну прекрати! Прекрати смеяться сейчас же или я мигом тебя отчислю! – И он забормотал устало, обращаясь к самому себе: – Ах, Бардо, Бардо, что ты наделал?
Данло не мог не смеяться, так смешон был Бардо – неистовый и жалеющий себя, сострадательный и слегка жестокий.
Но он сдержал себя и сказал:
– Прошу прощения. Но смех – это благословенное состояние, правда?
Бардо подергал себя за бороду, прочистил горло и сказал:
– Есть в тебе что-то очень знакомое. Откуда ты родом?
– Если я скажу, вы можете мне не поверить.
– Сделай милость, испытай меня и поведай, кто твои родители и с какой ты планеты.
– Я не уверен, стоит ли мне вам об этом говорить.
– Секретничаешь? Изволь. По крайней мере ты не с Триа и с воинами-поэтами дел не имел.
Данло было холодно в его хитоне и сандалиях, но далеко не так, как в те сутки на площади Лави. Стоять на голом камне, истертом тысячами послушнических коленей, было больно. Должно быть, эти камни очень старые, думал он, не зная, что их, как и все прочие камни для Святыни, доставили с Арсита во времена основания Ордена.
– Как вы узнали, что я не с Триа?
– А ты разве оттуда?
– Нет, – улыбнулся Данло. – Никогда даже не слышал о ней. Что это за место?
– Бог мой, почему ты все время отвечаешь вопросом на вопрос? – прогремел Бардо. – Тебе надо усвоить кое-что прямо сейчас, дикий мальчик. Это невежливо, когда абитуриенты – и послушники тоже, и даже кадеты – задают вопросы своим мастерам. Сначала нужно попросить разрешения. Как это возможно, что ты никогда не слышал о Триа? О ее торговом флоте? Может, ты и о воинах-поэтах впервые слышишь?
Данло смотрел на север, где рядами стояли старые гранитные дома – общежития для мальчиков, – а за ними виднелась северная стена Академии.
– Да, впервые, – правдиво ответил он.
– Ах-х.
– Можно вас спросить?
– Спрашивай.
– Откуда вы узнали, что я не воин и не поэт?
– «Воин-поэт» надо говорить. Это наемные убийцы, делающие свою работу за деньги и по религиозным мотивам. Ты, само собой, к ним не принадлежишь. Ты слишком молод, притом они все похожи друг на друга. А о том, что ты не имел с ними контактов, мне сказала мастер Гуа.
Данло смотрел теперь на юг, на девичьи общежития, расположенные концентрическими кругами – маленькие белые купола среди белизны свежевыпавшего снега. Он боялся, что мастер Гуа, исследовав его мозг, узнала всю правду о нем.
– Она видела весь мой разум.
– Во всяком случае, некоторые сегменты твоей памяти.
– Тогда она должна была сказать вам, откуда я.
– Ошибаешься. – Теневая рука Бардо на ковре, изображающем множество обнаженных пляшущих женщин, потянулась к теневой бороде. – Ошибаешься, дикий мальчик. Мастер Гуа – акашик. Знакомясь с твоей памятью, она обязана соблюдать профессиональную тайну – каноны Ордена требуют этого. Вопросы, которые я ей задавал, имели целью исключить определенные места, где ты мог родиться. Нужно было также удостовериться, что ты не слель-мим воинов-поэтов, не трийский шпион, не Архитектор Старой Кибернетической Церкви и не имеешь отношения к любой другой секте или ордену из черного списка.
– Черного списка?
– Опять вопрос, дикий мальчик?
Данло уперся костяшками в пол, чтобы перенести на них часть веса с колен. Этот обычай преклонять колени возмущал его – неестественно и неприлично для мужчины стоять так перед другим.
– Если можно… с вашего разрешения.
– Хорошо, я разрешаю.
– Что такое «черный список»?
Бардо рыгнул и облизнул губы.
– Это список наших врагов. Орден живет три тысячи лет только потому, что не допускает врагов в свои аудитории.
– Я никому не враг. – Данло опустил глаза, вспомнив то, что сказал ему Педар на площади Лави. Неужели он, когда спас жизнь Хануману, действительно сделал друга врагом? – Я не совсем понимаю даже, о чем вы говорите.
– Это просто удивительно, до чего ты…
– Невежествен, да?
Бардо снова рыгнул и смущенно покашлял.
– Я не хотел употреблять это слово. И, пожалуйста, не перебивай меня. Но ты и в самом деле круглый невежда, верно? Ты не такой, как другие абитуриенты. И волосы у тебя черные с рыжиной – как у Мэллори Рингесса. Лицо твердое, как кремень, и нос тоже рингессовский. А твои проклятые глаза – я даже и говорить о них не хочу. Скажи, ведь тебя вырезали? В последнее время это стало достаточно обычным делом. Мэллори Рингесс становится проклятущим богом, и люди переделывают свои лица и волосы под него.
Данло никто еще не говорил о его сходстве с Мэллори Рингессом. Слова Бардо порадовали Данло и прибавили веса его теории о собственном происхождении, но с Бардо он этой теорией делиться не хотел и поэтому сказал:
– Я таким родился. Это мои волосы, а лицо… мужчина сам делает себе лицо, правда?
– Ах-х – можешь держать свои секреты при себе, если хочешь, но должен предупредить, что твои шансы от этого не улучшатся.
Данло молчал, глядя в окно.
– Может, скажешь хотя бы, как ты умудрился ускорить свой обмен веществ во время испытания? Ты разогрелся, точно шлюха в рабочее время. Это цефическая техника – ты прошел цефическую подготовку, что ли?
– Нет. – Данло прижал палец к хитону над пупком. – В животе есть место, где живет огонь жизни, и если представить его себе, то…
– Стоп! – Бардо замахал руками и встал, что далось ему нелегко, учитывая его толщину и недостаточную высоту стула. Встав перед Данло, он воззрился на него с изумленным и озабоченным видом. – Есть в тебе что-то очень странное. Кто же ты, а? То, о чем ты рассказываешь, очень похоже на алалойскую лотсару!
Данло точно провалился под лед на море, так перехватило у него дыхание. Он смотрел снизу вверх на Бардо, и мускулы его живота сводило дрожью. Откуда этот тщеславный, безобразный человек знает, что такое лотсара? Неужели Хануман предал его, Данло, рассказав о его происхождении и его тайном поиске халлы? Если бы Данло знал получше недавнюю историю Ордена, он, конечно, слышал бы о путешествии Бардо к алалоям, но он не успел узнать об этом и даже не подозревал, что Бардо сопровождал Мэллори Рингесса в той гибельной экспедиции. Данло боялся, что либо та женщинаакашик проникла в самую глубину его памяти, либо Бардо сам способен читать мысли. Разве жители Небывалого Города не владеют самыми разными необъяснимыми искусствами?
Однако он не верил по-настоящему, что один человек способен читать мысли другого без помощи шайда-компьютера.
(Сколько бы Данло потом ни подключался к компьютерам – а он делал это много-много раз – и какой бы богатый опыт ни приобрел, он всегда думал о компьютерах как о самой большой шайде из всех изобретений человечества.) «Но если Бардо на самом деле может видеть мысли в моем черепе, – думал Данло, – то думать надо поосторожнее». Данло, словно охотник, пребывающий в состоянии ожидания, или аувании, очистил свой ум от всего, кроме сиюминутных ощущений: горячего солнца, льющегося в окно, сладкого цветочного запаха духов Бардо, заглушающих кислый пивной перегар, и углублений в камне под коленями. Его глаза, темно-синие, как вечернее небо, устремились вдаль, к мерцающим на западе шпилям Старого Города.
В этом взгляде был покой, глубокое терпение и ясность.
– Данло!
– Да?
– К чему эти тайны? – Бардо, поддерживая живот, нагнулся к самому лицу Данло. – Я уже видел когда-то глаза такие же, как у тебя. Скажи, дикий мальчик, отчего ты так спокоен? Что скрывается за этими глазами, такими красивыми?
Данло помолчал и наконец сознался, что боится, будто Бардо читает его мысли.
– Глупости! – вскричал тот. – Твои мысли? Я и свои-то с трудом читаю, ей-богу. Что же мне с тобой делать, дикий мальчик?
– Не знаю, – со всей искренностью ответил Данло.
– Тебя никто и не спрашивает.
– Я думал, что спрашиваете.
– Это риторический вопрос, не требующий ответа.
– Извините.
Бардо взъерошил усы и рыгнул, глядя сверху на Данло.
– Я знаю, что такое лотсара, потому что изучал обычаи алалоев и их язык, как многие у нас в Городе. А вот откуда ты о ней знаешь? Я хочу сказать, как ты научился этому – воспламенять свою кровь? Кто тебя научил? Фраваши, твой наставник? Да нет, быть не может – фравашийские Старые Отцы не занимаются физическим тренингом, так ведь?
Позднее солнце окружало нимбом массивную голову Бардо, и его курчавые черные волосы отливали золотом и бронзой. Яркий свет слепил Данло глаза – он заслонился рукой, прищурился и сказал:
– Почтенный, вы человек большого сердца. Разве я смог бы завоевать ваше доверие, предав кого-то другого?
Бардо подергал свою толстую нижнюю губу и улыбнулся.
– А ты совсем не такой уж невежа. У тебя есть какие-то манеры, хотя и странные. Мне это нравится. Называй меня «мастер Бардо». «Бардо» – это звучит, а?
– По-моему, не очень. – Данло это имя казалось неудачным, нелепым и даже зловещим. Слишком уж оно напоминало о барадо, смятении, в которое, по алалойским верованиям, впадает человеческий дух сразу после смерти.
– Вот как? Ты чересчур откровенен – не боишься, что я обижусь?
– Нет, мастер Бардо, – засмеялся Данло.
– Опять ты надо мной смеешься. В чем я таком провинился, если абитуриент смеется мне прямо в глаза?
– Этот вопрос тоже риторический?
– Я ведь тебе говорил, что нельзя отвечать на вопрос вопросом.
– Да, мастер Бардо. Я просто хотел сказать, что вы очень смешной… такой добрый и внимательный, и забавный, поэтому я и смеюсь.
Бардо побагровел, как от хорошей порции пива, и потер свой смахивающий на снежное яблоко нос.
– Добрый? Внимательный? Что ж, может, оно и так. У тебя талант видеть правду. Остроумие Бардо всем известно, но мальчикам не подобает смеяться над ним самим, понимаешь? Хорошо. Если ты так откровенен, я задам тебе вопрос, ради которого тебя и вызвал: для чего ты хочешь вступить в Орден? Я задаю его всем абитуриентам. Твой ответ может решить, станешь ты послушником или нет, так что подумай как следует.
Данло потупился, ковыряя цемент между серыми плитами пола. Где-то в глубине дома слышались голоса, скрипели двери и звенели колокольчики. Святыня, величественная, но полная скрытой жизни, напоминала Данло дом Старого Отца.
– Я пришел в Невернес, чтобы стать пилотом. Пилотом легкого корабля. Чтобы отправиться к центру великого звездного круга. Я должен найти способ перейти на ту сторону, не умирая при этом, способ взглянуть на вселенную как бы с другой стороны. А может быть, изнутри. Помимо времени, помимо звездной ночи… я выражаюсь непонятно, да? Есть одно фравашийское слово, замечательное слово: асария. Вы его знаете, правда? Я должен увидеть гармонию и разлад вселенной, прежде чем согласиться со всем этим. А согласиться я должен, даже если правда… холодна и жестока. Без этого я никогда не стану мужчиной. Никогда не буду истинно живым.
Данло добавил к этому, что он видел знаки и решил, что быть пилотом – его судьба. А потом присел на пятки, поморщившись от резкой боли в коленях.
– Ах-х, – промолвил Бардо. Стоя спиной к окну, он вглядывался в Данло. – Вот это, я понимаю, ответ! Замечательный в своем роде. Знаешь, что обычно отвечают абитуриенты, когда их спрашивают, зачем они хотят вступить в Орден?
– Нет, мастер Бардо.
– Обычно они говорят следующее: «Хочу посвятить себя науке и умножению знаний Ордена». Или – в таких случаях у меня рука чешется залепить оплеуху – выдают такое: «Хочу послужить человечеству». Вранье! Они отвечают так, полагая, что именно это я хочу услышать, и думают при этом, что если я приму их в Орден, карьера им обеспечена. То, чего они действительно хотят, – это власть и слава. Уж мне ли, Бардо, не знать этого! Но ты не такой, клянусь Богом! Ты не боишься говорить голую, фантастическую, опасную правду. Ты хочешь стать асарией! Мне нравится это. И ты мне нравишься. Я помогу тебе, Данло Дикий. Сделаю для тебя все возможное.
Данло, держась за колени, спросил:
– Не можете ли вы сказать мне, выдержал я экзамены или нет?
– Дела у тебя шли не слишком хорошо, но ты справился. Ты почему-то неважно владеешь синтаксисом, но твое чувство ши перевесило. А что касается математики…
– Мне очень жаль, но я сумел доказать только пять теорем.
– На две больше, чем кто-либо другой. Похоже, у тебя талант к математике. Люблю людей с математическим складом ума.
– Я тоже всегда любил… математику.
– Прекрасно, но отставание по универсальному синтаксису придется наверстать, иначе ты выставишь Бардо дураком.
– Почему, почтенный?
– Почему? – Бардо смахнул каплю пота со лба. – Потому что комиссия рекомендовала принять тебя в Орден, и окончательное решение зависит от меня. Так вот, я решил взять тебя в послушники – разве я не говорил, что помогу тебе?
Данло, не раздумывая, вскочил на ноги, раскинул руки и подпрыгнул, крича:
– Агира, Агира! – Слезы выступили у него на глазах, и он дышал так часто, что даже в пальцах закололо. Забыв об этикете, он бросился к Бардо, будто к отцу, припал лбом к его груди и попытался обхватить руками его необъятную талию.
– Ну, тихо, тихо! – Бардо мягко высвободился из объятий Данло и отстранил его от себя, держа за плечо вытянутой рукой. – Успокойся.
– О благословенный Бардо! – чуть дыша, пролепетал Данло.
– Мастер Бардо, – поправил тот. – Никогда не забывай о вежливости.
– В-виноват. – Данло, обуреваемый радостью, заплясал по комнате, как малый ребенок, и вдруг замер. Высокий для своих лет, он все-таки был Бардо только по грудь, и ему пришлось задрать голову, чтобы посмотреть мастеру в глаза. – Можно спросить, почтенный?
– Спрашивай.
– Никто не говорит мне ничего о Ханумане ли Тоше, и мне не разрешают выйти из общежития, чтобы навестить его. Он… здоров?
Бардо разгладил усы и положил тяжелую руку на плечо Данло.
– Ах да, твой друг. Красивый мальчик – никогда еще не видел таких красавцев, даже среди эталонов с Кавери Люс. Плохо дело, плохо. У него рак легких. Развитие опухоли остановили, но не знаю, будет ли он когда-нибудь по-настоящему здоров.
– Значит, он не сдавал экзамены?
– В этом не было необходимости. Твой друг, можно сказать, закончил элитную школу, поэтому его следовало проверить только на терпение.
– Так его тоже примут?
– Уже приняли. Теперь он послушник: он принес обет три дня назад, и его должны были отправить в одно из общежитий.
Данло подошел к окну и прислонился лбом к холодному кларию. Он был счастлив за Ханумана, но ему снова напомнили, как трудно аутсайдеру вроде него попасть в Орден.
– Я, разумеется, задал Хануману тот же вопрос, что и тебе, – продолжал Бардо. – Почему он хочет стать послушником. И знаешь, что он ответил? Что хочет власти и славы! После столь честного ответа я просто не мог его не принять. Есть в нем, однако, что-то, что меня беспокоит. На поверхности он честен, но внизу полон тайн. Мне кажется, он чрезмерно честолюбив. Послушай меня: я хорошо разбираюсь в людях. Будь осторожен с этим мальчиком. Я не уверен, что ты удачно выбрал себе друга.
Внезапный порыв ветра сотряс окно, и Данло отступил, опасаясь, что оно разобьется.
– Теперь уж ничего не поделаешь, мастер Бардо. Мы можем выбирать, с кем нам подружиться, но отказаться от своего выбора уже не можем, правда?
Бардо подергал себя за бороду, как будто вспомнив что-то свое.
– Это ты верно сказал. Очень верно. Ну что ж, дружи с ним, если так надо. Я велю старосте направить тебя в его общежитие, если хочешь.
– Спасибо, мастер.
Бардо махнул рукой, отпуская его.
– Ступай теперь. У меня еще двадцать человек на очереди. Удачи тебе, Данло Дикий.
На следующий день Данло стал готовиться к принесению обета. Куртку и брюки, сданные им в Ледовом Куполе, предали торжественному сожжению, а ему выдали новую одежду: парадную белую форму, три комплекта будничной, три камелайки, белье, ветровку и парку из искусственного шегшея. (А также две пары коньков и лыжи.) Все это было белым, как и шерстяная шапочка, которую полагалось носить постоянно.
Прежде чем надеть эту борховку, он должен был обрить голову. Это представляло для Данло проблему, поскольку свои длинные черные волосы он очень ценил. Алалойским мужчинам не разрешается стричься – и потом, куда же он пристроит бело перо Агиры?
– Все послушники должны брить себе головы, – сказал ему Бардо. – Чего ты уперся? – После долгого и путанного препирательства, в котором Данло толковал о значении пера Агиры, Бардо решил, что имеет дело с крайне суеверным мальчиком, перенявшим некоторые из варварских алалойских предрассудков. Бардо, сам не признававший никакого Бога и никаких формальных отношений, связующих человека с божеством, в качестве Мастера Наставника обязан был уважать все религии человечества, даже самые причудливые и тоталитарные. Он помнил, как двадцать лет назад одному послушнику-иудею разрешили носить под борховкой черную шапочку-ермолку.
К иудаизму многие относились с почтением (или насмешливо), как к самой древней из религий, прарелигии Старой Земли, возникшей за четыре тысячи лет до Роения. Но Бардо рассудил, что исключение, сделанное для правоверного иудея, можно сделать и для дикого мальчика, который верит, что в этой дурацкой белой птице заключается половина его души. Поэтому они в конце концов достигли компромисса. Старший послушник остриг Данло, намылил ему голову пахнущим розой мылом и сбрил все, кроме одной пряди на затылке. Теперь по спине у Данло, как у древних китайских военачальников, змеился черный хвост, длиной и толщиной не уступающий хвосту мускусного быка. Некоторые послушники отпускали шутки по его поводу, но Данло с гордостью носил в нем перо Агиры.
Через несколько дней он принес наконец свой обет. В Борху в этом году приняли всего двадцать семь аутсайдеров. Семнадцать девочек и девять мальчиков, все с отдаленных, неизвестных Данло планет, давали обет вместе с ним и были распределены по разным общежитиям. Данло обрадовался, когда его направили туда же, куда и Ханумана – в Пенхаллегон, одно из тридцати трех мальчишеских общежитий в северо-восточном углу Борхи. Это здание, одно из старейших построек Академии, носило прозвище «Дом Погибели», и не без причины: немало злополучных мальчиков погибло за несколько тысяч лет в его гранитных стенах. Четыре этажа этого строения, голого и сурового изнутри, связывала открытая винтовая лестница. Базальт для ее ступеней когда-то привезли с Арсита вместе с другими строительными материалами. За много веков эти веерообразные ступени стерлись и местами были скошены так, что поскользнуться на них было очень просто. Мальчики часто скатывались с лестницы кубарем, причиняя себе увечья, а порой падали прямо в ее внутренний колодец и разбивались насмерть. То, что лестницу до сих пор не снабдили перилами или другим ограждением, служило поводом постоянных скандалов.
Но основатель Ордена, знаменитый Хорти Хостхох, придерживался мнения, что послушники должны учиться осторожности и предусмотрительности на собственном опыте, а поскольку Орден чтил свои традиции, даже самые глупые и архаические, послушники продолжали преодолевать «погибельную» лестницу по многу раз на день. Чудо, что за все это время на ней разбилось всего двадцать или тридцать человек.
Данло, как и всем новичкам, предоставили койку на верхнем этаже. Однажды днем, когда все другие мальчики занимались конькобежным спортом, он поднялся в комнату с высоким сводчатым потолком и множеством окон, пробитых в толстых каменных стенах. (Четвертый этаж был самым грандиозным из всех помещений Дома Погибели, но и добираться до него было всего утомительнее и опаснее. Потому-то его спокон веку отводили новичкам, а остальные размещались ниже по годам – старшие послушники жили на первом.) В комнате двумя длинными рядами стояли двадцать спальных платформ. Незанятой оставалась только одна, и Данло сложил коньки и одежду в большой деревянный сундук у нее в ногах. Шакухачи, заботливо завернутая в форму, тоже отправилась в сундук. По правилам послушникам не разрешалось иметь никакого имущества, кроме одежды, но на практике почти все прятали в сундуках пару заветных вещиц. Данло застелил постель и лег на белое покрывало, глядя в потолок. Двадцать сводчатых арок напоминали ему скелет кита; толстые каменные ребра через равные промежутки располагались по всей комнате. Арки поддерживали стропила из осколочного дерева, многие из которых потрескались и расщепились. Данло комната сразу понравилась – особенно хорош был запах старого дерева и солнечный свет на шерстяных одеялах. Повинуясь неосознанному импульсу, он достал шакухачи и заиграл, наслаждаясь тем, как звуки падают с потолка на пол. Казалось, что комната – возможно, причиной был ее почтенный возраст – дышит воспоминаниями и жизнью вопреки своей суровой обстановке.
Чуть позже Данло впервые после испытания на площади Лави встретился с Хануманом ли Тошем. Тот вошел в комнату вместе с восемнадцатью другими мальчиками – все они громко переговаривались и топали ногами. По счастливому совпадению, кровати Данло и Ханумана помещались рядом.
– Я еще не поблагодарил тебя за спасение своей жизни, – улыбаясь, сказал Хануман. – Я уж боялся, что больше тебя не увижу.
Он стоял рядом с Данло, переминаясь с ноги на ногу и нервно перебирая пальцами, подвижный и неспокойный, как будто неуверенный в том, чего потребует от него эта новая дружба.
Данло подумал, что внутри Хануман все еще болен, хотя никто не замечает этого, кроме него самого. Но внешне он очень изменился. Ни раздирающего грудь кашля, ни жара, ни смертельной бледности умирающего. Волос на голове тоже не стало, и бритый череп белел, как раковина алайи. Послушническую форму он носил с небрежной грацией, словно так и родился в ней. Его красивое лицо уже не казалось таким хрупким, хотя скулы из-за бритой головы стали заметнее, а глаза смотрели еще живее и пронзительнее, чем запомнилось Данло.
Шайда-глаза, подумал он в тысячный раз. Потом он вспомнил, что Хануман – его друг, стиснул его в объятиях и закричал:
– Хану, Хану, как я рад, что ты жив!
Искренняя, неприкрытая радость Данло явно доставила Хануману удовольствие, но по напряженности его тела Данло сразу понял, что он не любит, когда его трогают. Данло знал, что цивилизованные люди почти все такие, и потому выпустил Ханумана из объятий, не придавая значения тревожному выражению его лица.
Другие послушники собрались вокруг них. Они видели, что совершил Данло на площади Лави, и им не терпелось познакомиться с ним поближе.
Хануман с гордостью занялся представлениями.
– Знакомься, Данло, это Шерборн с Темной Луны. – Затем он с некоторой настороженностью в голосе представил невысокого мальчика с миндалевидными глазами и живым саркастическим лицом. – А это Мадхава ли Шинг. Его дядя был мастер-акашиком, и двоюродный дед тоже.
Данло, знакомясь, кланялся каждому поочередно, а мальчики подчеркнуто официально кланялись ему. В Борхе все они были новенькими, но каждый, как и Хануман, обучался в одной из элитных школ Ордена. Этой своей элитарностью они очень гордились. В отдельности каждому из них воспитание не позволяло обращаться в Данло невежливо, но вместе они обливали его презрением, завидуя в то же время его внезапной славе. Они держались на расстоянии – как физически, так и психически. Последнее выражалось взглядами, где сквозили подозрение, боязливое уважение и неустойчивое, мнимое превосходство. Никто не улыбался ему и не смотрел в глаза. Его популярность была сродни популярности редкого зверя, недавно поступившего в зоосад. Только Хануман относился к нему, как к другу. Он стоял рядом с Данло, открыто выказывая свое презрение к снобизму остальных. От выражения, с которым смотрел на них Хануман своими бледными льдистыми глазами, у Данло щемило сердце.
Учебный год в Академии только начался, и никто из послушников еще не знал своего расписания и своих обязанностей. Данло весь день довольно осторожно общался с Мадхавой ли Шингом и другими, всячески обходя вопросы относительно своего происхождения. После ужина в столовой первого этажа (старшие и младшие послушники питались вместе) Данло с Хануманом бегом вернулись наверх и сели играть в шахматы. Хануман привез с собой из дома красивые старинные ярконские фигуры. Черные были выточены из осколочного дерева, белые – из слоновой кости, и все вместе представляло большую ценность. Хануману подарил их дед, когда внуку исполнилось восемь – Хануман очень дорожил ими и включил в число тех немногих вещей, которые взял с собой в Невернес.
Когда он впервые расставил фигуры, Данло заметил, что белый бог отсутствует и заменен солонкой. Такое нарушение гармонии огорчило Данло, и он расстроился еще больше, узнав, что бог не потерян, а изъят. Хануман, задыхаясь от гнева, рассказал ему, что отец никогда не одобрял сделанного дедом подарка. Отец заявлял, что именовать шахматную фигуру богом – значит впасть в ересь, гласящую, что хакра (или люди) тоже могут стать богами. Он считал это также кощунством, порочащим Бога Эде, и в одиннадцатый день рождения Ханумана белый бог в воспитательных целях был конфискован.
– Мой дед был Достойный Архитектор, хотя и не чтец, – сказал Хануман, – и он в этих шахматах ничего дурного не видел. Но отец всегда толковал догматы религии по-своему – чересчур строго. – Когда Хануман выиграл три раза подряд, Данло вернулся на свою койку и стал играть на шакухачи.
После особенно грустного пассажа Хануман метнул на него быстрый взгляд. Острый и оценивающий, он занял только долю мгновения, но Данло сразу ощутил глубокое понимание между собой и Хануманом, как будто только они двое в комнате чувствовали музыку по-настоящему.
Тем же вечером в купальне, примыкавшей к спальному помещению, произошел случай, еще более углубивший это понимание. Мальчики мылись перед сном и брили друг другу головы. Пахло сыростью, потом и душистым мылом для бритья. Горячая вода поступала бесперебойно из подземных источников Города, и в воздухе клубился пар. Закругленные окошки запотели, и по кафелю на стенах струилась вода. Данло сидел, скрестив поджатые ноги, на краю горячего бассейна и дышал паром, а Мадхава ли Шинг обрабатывал алмазной бритвой череп Ханумана. Внезапно он сделал неловкое движение, и из пореза на голове потекла кровь. Ранка была совсем маленькая, но Хануман, зажав ее рукой, затаил дыхание и устремил взгляд на черно-белые плитки пола, словно видел там что-то, скрытое от других.
– Извини. – Мадхава отошел к раковине и подставил окровавленную бритву под дымящуюся струю.
– Это не твоя вина, – после недолгой паузы ответил ему Хануман. – Никого из нас здесь не учили орудовать бритвой.
– Все равно извини, – напрягшись от этих слов, сказал Мадхава. – Сейчас принесу клей.
– Не надо. Я сожалею, что дал волю моему дурному настроению. Пожалуйста, добрей меня до конца.
И он объяснил, что ненавидит это ежедневное бритье головы из-за того, что оно напоминает ему один из обрядов его церкви. Все Достойные Архитекторы Реформированной Кибернетической Церкви обязаны брить себе голову – это называется у них «малой жертвой». Ирония в том, что он, Хануман, отрекся от религии своих отцов ради мнимого здравомыслия Ордена, но оказалось, что он и тут должен жертвовать своими волосами – если не Богу Эде, то традиции, истоков которой никто уже не помнит.
Когда Мадхава снова принялся за дело, а Хануман снова стиснул зубы под скребущей череп бритвой, в купальню вошел Педар Сади Сенат и еще трое старших послушников – все крупнее кого-либо из новичков и все в камелайках, как будто только что явились с улицы. Они выстроились перед бассейном, выставляя напоказ свои внушительные фигуры. Настроение Ханумана, и без того неустойчивое, совсем омрачилось, и он быстро переглянулся с Данло. Педар перехватил этот взгляд и тут же пришел в бешенство.
– А ну встать! – гаркнул он. – Хануман ли Тош и Данло Дикий, мы пришли поздороваться с вами, а самое меньшее, что вы обязаны сделать, это встать.
Данло и Хануман поднялись одновременно, словно их соединял общий нерв. Данло был выше Ханумана и благодаря выступающим под кожей мускулам и сухожилиям казался гораздо сильнее. Хануман еще не достиг своего полного роста, и его хрупкое тело из мальчишеского еще не стало мужским. Оба голые, они остро сознавали свою наготу.
– Добро пожаловать в Дом Погибели! – сказал Педар. – Мы вас ждали.
После этого он извинился за свое отсутствие во время ужина, объяснив это тем, что он и его друзья были заняты с проститутками в Городе. Расхаживая перед Данло и Хануманом, он оглядывал их с головы до пят. При этом он то и дело посматривал на своих приятелей и качал головой. Из всех послушников, что здесь находились, он был самым старшим по возрасту и самым прыщавым. Маленькие глазки, тоже похожие на прыщи, ввинчивались в Данло. В них проглядывали жестокость, придирчивость и злоба. Данло помнил, как дразнил его Педар на площади Лави, как швырялся ледышками ему в лицо и как Мастер Бардо дал за это Педару в ухо. Ему стало ясно, что Хануман и он сам попали в общежитие Педара не совсем случайно.
– Прекрасно, прекрасно, ледяной мальчик. Староста не хотел назначать тебя сюда, но мы убедили его, что для нас большая честь иметь у себя столь прославленную персону.
Хануман снова взглянул на Данло, и Данло не понравилось отсутствие всяких эмоций на его лице.
Педар, топоча ботинками по мокрому полу, щелкнул пальцами.
– Почему ты не смотришь мне в глаза, дикий мальчик? Скоро будет День Повиновения, и тогда тебе придется смотреть на меня, когда я с тобой говорю.
Данло посмотрел Педару прямо в глаза, и Хануман тоже.
Вода в бассейне бурлила, брызгая Данло на ноги.
– Пожалуйста, уйдите, – сказал вдруг Хануман. Его звонкий обычно голос звучал тускло и мертво. – Мы будем повиноваться, когда настанет День Повиновения, – а сейчас, пожалуйста, оставьте нас в покое.
Педар склонил голову набок и затряс ею, как будто ему в ухо набралась вода.
– Я что-то плохо слышу, – сказал он своим друзьям. – Мне показалось, что один из этих червячков попросил меня уйти.
– Да, уходите, пожалуйста, – сказал Данло, моргая от щиплющего глаза пара. Шерборн с Темной Луны, Леандер Морвен и другие мальчики, плескавшиеся в холодном бассейне, замерли, точно снежные зайцы, прислушиваясь к их разговору.
– Посмотри на себя! – Указательный палец Педара целил Данло в пах. Данло невольно опустил глаза и увидел длинный шрам на бедре, где его когда-то располосовал шелкобрюх; белый и блестящий, он имел форму копья, указывающего на член. Все в купальне теперь смотрели на то же место, на обнаженную головку и насечки цвета индиго и охры. – Что с тобой случилось, дикий мальчик? Какая-нибудь шлюха обкусала тебе член, а потом украсила его татуировкой?
Это оскорбление в адрес Данло переполнило меру терпения Ханумана – он сжал кулаки и принял боевую стойку, но Педар на это только рассмеялся.
– Ты тоже погляди на себя! Тебе еще расти да расти, мальчик. Что это у тебя там болтается – лапша или червяк? Интересно, что делают маленькие мальчики со своими червячками?
Хануман дрожал с головы до ног. На его руках и ляжках напряглись мелкие, но твердые мускулы. Он стиснул зубы.
Мадхава ли Шинг предусмотрительно отошел от горячего бассейна и полоскал бритву в раковине. Он крикнул:
– Осторожнее, Хануман. Если ты ударишь старшего послушника, тебя сразу исключат.
Данло, стоя плечом к плечу с Хануманом, почти чувствовал болезненный жар адреналина, струящийся по телу друга. Он поднес руку ко рту и шепнул:
– Не надо, Хану.
Этот как будто охладило Ханумана – он расслабился и повернулся к Педару спиной.
– Если ты меня ударишь, за этим последует не только исключение, – заявил тот. – Смотри на меня, когда я с тобой говорю!
Но Хануман продолжал смотреть на бассейн.
– Ах ты, паршивец! – И Педар, не успел Данло опомниться, ринулся вперед и ударил Ханумана по голове, чуть не сбив его с ног. Свежий порез от бритвы открылся, и по виску потекла кровь.
– Нет! – вскрикнул Данло. Лишь второй раз в жизни он видел, как один человек бьет другого. Боясь, что Педар ударит Ханумана снова, он стал между ними. – Нет.
Но Педар, как видно, понял, что зашел слишком далеко. В том, как он ковырял свои прыщи, чувствовалось сожаление об утрате контроля над собой, а может быть, даже стыд. Поклонившись Данло, он сказал:
– В День Повиновения у меня будет богатый выбор – Дикий Мальчик или Червяк. Мне самому интересно, который из вас будет мне подчиняться. Обдумайте это хорошенько за три следующие десятидневки.
Сказав это, он кивнул своим друзьям и вышел вместе с ними. Эхо их шагов еще долго стояло в спальне после их ухода.
Мадхава и другие мальчики приглушенными голосами заговорили о Дне Повиновения. Хануман по-прежнему смотрел на воду, стоя совершенно неподвижно, и глаза у него были как повернутые внутрь зеркала.
– Хану, у тебя кровь идет, – сказал Данло. Красные капли собирались на ушной мочке Ханумана в крупные бусины и скатывались по бледной груди. – Хану, если ты боишься, что…
– Уйди, – сказал вдруг Хануман, – Уйди, пожалуйста.
– Но у тебя кровь идет, – повторил Данло. В детстве его учили, что раны надо обрабатывать сразу, и он протянул руку к порезу на голове Ханумана, но тот от его прикосновения взвился, как от удара молнии.
– Нет! – Хануман отдернул голову и повернулся к Данло лицом. – Оставь меня в покое!
Данло снова протянул к нему руку, на этот раз ко лбу, чтобы снять гнев, который невольно вызвал. Это был знакомый всем алалоям жест, знак доброты и примирения, но Данло сделал его напрасно. С силой, поразительной для такого хрупкого тела, Хануман ударил кулаком по руке Данло, отшвырнув ее прочь. Боль от прижатых к кости нервов прострелила Данло до локтя, и рука онемела. А Хануман, ударив его, словно отпер дверь в комнату, которую никогда не следовало открывать. Он замахнулся снова, всем телом – кулаками и коленями. Данло придвинулся к нему вплотную – то ли чтобы отразить удары, то ли чтобы встряхнуть Ханумана и привести его в чувство. Сцепившись с ним, он почувствовал много вещей разом: шум текущей воды, голоса мальчиков, кричавших что-то сквозь плотную пелену пара, скользкие плитки пола под ногами, но страшнее всего было безумие, глядящее из светлых глаз Ханумана. Оно пришло непонятно откуда, словно лава, хлынувшая из трещины в земле. Сперва Данло подумал, что Хануман впал в бешенство, словно собака, которая брызжет слюной и кусает всех, кто попадется. Быть может, Хануман принимает его за Педара, а недавнее прошлое – за настоящее? Но тут они с Хануманом стукнулись лбами, глядя друг другу в глаза, и Данло понял, что ошибается. Каким-то образом он обидел Ханумана так, как даже Педар не сумел.
Умом он не понимал, чем мог вызвать такую ярость, но другая часть его существа это понимала, и Хануман, даже охваченный безумием, тоже понимал. Он наносил Данло удары снова и снова, вполне сознательно, словно превращая свой гнев в голую разрушительную энергию. Много позже, когда Данло припомнит этот случай досконально, образ Ханумана, полностью сознающего, что он делает, будет преследовать его, но теперь для него существовала только ярость, локти, кулаки и капли крови в парном воздухе. Лицо Ханумана, бьющего Данло ногами, применяющего прочие приемы своего боевого искусства, ужасало своей сосредоточенностью. Хануман ударил Данло в живот и двинул коленом в незащищенный пах.
Быстрая слепящая боль побежала вверх вдоль хребта и пересекла дыхание. Данло скрючился, не отпуская шеи Ханумана, и они вместе тяжело рухнули на пол у бассейна. Данло ударился подбородком о что-то твердое, то ли плитку, то ли кулак Ханумана. Зубы у него лязгнули, он прикусил язык, ощутил вкус собственной крови и вдруг очутился в воде, прижимая к груди голову Ханумана. Вода обжигала кожу и вливалась в рот.
Данло захлебывался – он мог бы утонуть тогда, держась за пах и живот, как подраненный зверь. В бассейне ему было едва ли по пояс, но это могло случиться. «Смерть – левая рука жизни», – вскричало, казалось, все его существо, и он, барахтаясь и захлебываясь в горячей воде, вдруг ощутил внутри могучий прилив жизни. Это его анима отозвалась в клетках мозга и крови – голая воля к жизни, перебарывающая боль, ненависть и шок. Борьба за жизнь представляла собой сплав ужаса и радости. Он нащупал дно, встал, глотнул воздуха, и кровь потекла у него изо рта. Он так и держал Ханумана за шею, а тот продолжал драться, хватая Данло за горло и целя пальцами ему в глаза. Данло, бывало, боролся в пещере деваки с другими мальчиками, но до такой злости они никогда не доходили. Сейчас, однако, он был словно дикий зверь, и сила струилась по его мышцам. Он был сильнее Ханумана. Они топтались в воде, стесняющей их движения, но он был выше и сильнее. Он захватил голову Ханумана, держа его лицо над самой бурлящей водой.
«Жизнь – правая рука смерти», – слышалось ему, но на самом деле это Мадхава или еще кто-то из мальчиков кричал, стоя на краю бассейна:
– Отпусти, ты убьешь его!
Данло еще крепче зажал голову Ханумана, скользкую от воды и крови, чувствуя не добритую Мадхавой щетину. Случайно он дотронулся до кровоточащего пореза на виске. Под ним была кость, еще ниже мозг, а еще ниже – леденящий все это хрупкое тело страх. Хануман оцепенел от страха – он тоже боролся за жизнь, и Данло никак не удавалось погрузить его лицо под воду. Он знал, что должен убить Ханумана прямо здесь, сейчас, пока страсть к убийству владеет им. Алалойского мужчину (или почти мужчину) жизнь часто ставит перед жестокой необходимостью убивать. Но Данло не мог убить.
Кровь из его прикушенного языка расплеталась в воде на алые нити, вмешиваясь с кровью Ханумана. Он видел тесные узы, связывающие их. Через эту горячую взбаламученную воду, плещущую ему в грудь, он чувствовал нерасторжимую связь с Хануманом. Тат твам аси, думал он, ты есть то. Все связано со всем остальным; сердце с сердцем и атом с атомом, и в Ханумане, в его бьющемся теле и безумных глазах, Данло видел себя. Он не мог причинить вред Хануману, не повредив себе.
«Лучше умереть, чем убить самому». Он вспомнил ахимсу, учение Старого Отца, и понял, что не убьет Ханумана и никого больше не сможет убить. Ни одно живое существо.
– Хану, Хану, – задыхаясь, выговорил он, – успокойся!
– Нет! Оставь меня!
Данло стоял, сжимая руками его голову. Язык болел, и трудно было говорить внятно.
– Хану, Хану, ти алашария ля шанти. Успокойся! Я друг тебе, а не враг!
– Уйди.
– Ти алашария ля шанти, – снова помолился Данло и зажал Хануману рот.
Вскоре безумие покинуло Ханумана, и он затих. Данло держал его крепко, прижимаясь грудью к тонким ребрам у него на спине. Успокоение Ханумана передалось и ему. Он не мог знать, что Хануман впервые со времен раннего детства полностью расслабился в присутствии другого человека. Глубокое доверие возникло между ними в этот миг, сознание того, что ни один из них никогда больше не причинит вреда другому.
– Зачем ты ударил меня? – прошептал Данло. – Я тебе друг, а не враг.
Видя, что Хануман силится что-то сказать, Данло отнял руку от его рта и опустил ее в воду. Горячая зыбь заколыхалась вокруг пальцев. Где-то наверху, за клубами пара, шлепали по мокрой плитке ноги и кто-то кричал:
– Дай ему еще раз! Сунь его головой под воду, пока не утонет!
– Тихо! – сказал Мадхава ли Шинг. – Не то старшие послушники услышат и всех нас покидают в бассейн.
Почти все мальчики, впрочем, были ошарашены увиденным и не подзуживали дерущихся. Они смотрели на Данло с Хануманом, явно опасаясь момента, когда эти двое диких вылезут из воды.
Данло, не обращая на них внимания, шепнул на ухо Хануману.
– Что с тобой сделалось?
– О-ох, – выдохнул тот, почти неслышно за плеском воды. – Прости меня. Ты не пострадал?
Данло отпустил его. Теперь они стояли лицом друг к другу, и Мадхава звал их, прося выйти.
– Язык прикусил, кажется.
– Прости, что я сделал тебе больно. – Хануман поплескал водой на свой порез. – Мне показалось, что ты хочешь убить меня.
– Убить?
– Я объясню тебе, только не здесь, не при всех. Ты подождешь, пока все не улягутся спать?
Данло перекинул волосы со спины на грудь. Перо Агиры порядком истрепалось, и только воск, которым он мазал его со дня своего посвящения в мужчины, спасал талисман от гибели.
– Ладно, подожду. – Данло сжал пальцами твердый стержень пера.
Позже, когда Мадхава заклеил Хануману порез на голове едко пахнущим гелем, когда прозвонили вечерние колокола Борхи, светящиеся шары погасли и все уснули, Данло с Хануманом вылезли из постелей и пробрались на середину комнаты. Лестничный колодец разверзся перед ними, как черная дыра в космосе. Они спустились на несколько ступенек, не доходя до спальни второклассников внизу. Толстое перекрытие над ними хорошо заглушало их голоса.
– Прости, что ударил тебя, – заговорил в темноте Хануман. – Я не хотел. Просто одурел и очень испугался. Есть в тебе что-то такое. Твоя сила, твое прошлое, твое мужество и ты уж прости, твоя странность. Ты протянул руку к моему лицу, так ведь? К моей голове. Глупо, конечно, что я не могу избавиться от своего собственного прошлого. Но на Катаве никто не прикасается друг к другу без крайней необходимости. Тебе, наверно, подобная сдержанность кажется отвратительной – мне и самому так кажется, если подумать. Я знаю, что должен преодолеть себя, и преодолеваю. Ох, как это трудно. Неприлично говорить так о себе самом. Это тщеславно. Слишком много я думаю о собственной персоне. Но я должен верить, что мы способны преодолеть себя, если вложим в это всю свою волю. Во мне тоже есть что-то такое, я знаю. И зная об этом, я могу этим управлять. Я никогда больше не ударю тебя, Данло. Я скорее умру, чем сделаю это.
Голос Ханумана струился во тьме, как жидкое серебро. Данло чувствовал в его словах правду и огромную печаль. Он чувствовал, что Хануману страшно быть наедине с собой; хуже того – он всегда наблюдает за собой со стороны, будто караулит убийцу, который сможет влезть ночью в открытое окно.
Будь Данло благоразумнее, он принял бы извинения Ханумана и тут же укрылся бы за барьером, которым люди отгораживаются от нежелательной или опасной дружбы. Но он не мог этого сделать. Его опыт с аутистами, а может быть, те ужасы, которые он наблюдал, когда все его племя утратило разум изза повальной болезни, делали его необычайно терпимым к безумцам всякого рода. Он только улыбался про себя, сидя на холодном камне и слушая о вещах, которых не знал больше ни один человек.
– Прости, что я ударил тебя по лицу, – сказал наконец Хануман. – И в пах тоже – ты как, ничего?
– Ничего. – Данло пощупал себя между ног, как бы проверяя, все ли там на месте. – Мошонка у меня теперь разукрашена под стать члену.
– Прости меня. Я причинил тебе боль.
Данло слегка подташнивало от боли в паху и мятного запаха медицинского клея на голове Ханумана. На темной лестнице запахи и звуки казались очень резкими.
– Ничего, заживет.
После долгого молчания Хануман прошептал:
– «Я люблю того, чья душа глубока, даже будучи ранена, и кто может погибнуть от всякой малости; такой легко уходит за пределы мира».
– Это опять цитата из твоей священной книги, да?
– Есть вещи, которые по-другому не выразишь.
– Другу можно сказать все.
– Значит, мы друзья?
– О благословенный Хану, мы стали друзьями с того первого дня. Дружба – такая же халла, как великий круг бытия. Ее нельзя сломать.
На тихой лестнице, где их шепот таял во тьме, каждый из них коснулся лба другого. Они долго еще говорили о жизни и о судьбе. Данло, полностью доверившись Хануману, рассказал ему о своем стремлении высказать свое согласие жизни, какой бы она ни была.
– Жизнь – это загадка, великолепие и редкость. Видеть ее трепет – в этом все. Так учил меня фраваши, Старый Отец: никогда не убивать ни одно живое существо и не причинять ему вреда, даже в мыслях. Приняв такой образ жизни всей душой, наверно, и становишься со временем асарией, да?
Они вернулись в спальню, и Данло долго лежал, слушая шум ветра и дыхание девятнадцати спящих мальчиков. Глубокой ночью Хануман рядом с ним заворочался и стал бормотать во сне:
– Нет, отец! Нет, нет, нет!
Данло сбросил одеяло и подошел к нему. Каменный пол леденил ноги, и он стал коленями на кровать Ханумана. Звездный свет серебрил окна и проникал в комнату. Бледное тонкое лицо Ханумана исказила страдальческая гримаса. Страдание – это жизнь, подумал Данло. Тихонько, на алалойский лад, он прижал ладонь к губам Ханумана.
– Не надо будить остальных, – прошептал он. – Ми алашария ля, шанти, шанти. Усни, мой брат, усни.
Глава VIII ДОКТРИНА АХИМСЫ
Мудр тот, кто видит себя во всем и все в себе.
«Бхагавад Гита»В первые дни своего послушничества Данло и Хануман стали неразлучными друзьями. Данло, как и подобает другу, закрывал глаза на худшие из недостатков Ханумана и дорожил теми редкими качествами, которые выделяли его из всех остальных: целеустремленность, силу воли и преданность. Последнее свойство, когда Хануман признал Данло своим другом, проявлялось особенно ярко. Повсюду – в общежитии, на солнечных дорожках Борхи и на площади Лави, где после завтрака собиралась целая толпа, Хануман стоял за Данло горой.
Пуская в ход обаяние, юмор и легкий нажим (никто из присутствующих при драке в купальне не хотел толкать его на новые насильственные действия), он с грехом пополам добился принятия Данло в среду послушников. Помогло и то, что Данло легко нравился людям и охотно смеялся над собой, даже когда ему указывали на разные его странности. Он и в самом деле давал другим богатую пищу для насмешек. Каждое утро он вставал вместе с солнцем, выходил на мороз и кланялся на четыре стороны света. А каждую ночь перед тушением огней он поднимал, кряхтя, свою кровать и ставил ее перпендикулярно кровати Ханумана, чтобы спать головой на север. Другие мальчики спали головой к окнам, выходящим на запад и восток, Данло же был убежден, что такое положение во время сна приводит к болезням крови, запору и даже к безумию. Он верил также, что воду в себе удерживать вредно, и потому мочился, обернувшись к югу, как только чувствовал в этом потребность, был туалет поблизости или нет. Однажды мастер-горолог поймал его на этом у Коллегии Главных Специалистов – Данло сверлил желтую дыру на красной ледяной дорожке, – после чего за ним окончательно утвердилась репутация эксцентричного молодого человека. Эта репутация возросла до мифических размеров, когда однажды перед обедом он позабыл про обещание, данное самому себе в горячем бассейне, и съел гусеницу бабочки-нимфалиды. Эту его оплошность можно было легко объяснить: после долгих занятий с учебными компьютерами в библиотеке он разговаривал с Мадхавой и другими послушниками возле этого массивного здания.
Он устал и проголодался и потому, сам не замечая, отковырнул кору осколочного дерева, под которой обнаружились три толстые гусеницы, каждая величиной с его большой палец. По старой привычке Данло сгреб эти лакомые кусочки и сунул их в рот, прежде чем вспомнил, что поклялся не причинять вреда ни одному живому существу. Но поскольку он все равно уже убил их и нехорошо было терять попусту столько вкусного мяса, Данло проглотил гусениц. В детстве он ел их тысячу раз, и эти были такие же сочные и восхитительные на вкус, как и те.
– Ты ешь червей?! – вскричал Мадхава, в ужасе и отвращении скривив свое щуплое личико. Под этими эмоциями проглядывало боязливое уважение – Мадхаву поразило, что Данло способен есть живое мясо. Сам он прибыл с одного из искусственных миров Энолы Люс, где единственной живностью были люди и выращиваемые в пищу бактерии; он не видел разницы между насекомым и червяком.
– Нет, – сказал Данло. – То есть ел раньше, до того, как узнал, что убивать живое – большое зло. Просто сегодня я так проголодался, что забыл об этом. – И Данло шепотом помолился за души гусениц: – Лилийи, ми алашария ля шанти.
Но Мадхава не понял его и объявил во всеуслышание, к общему ужасу:
– Данло Дикий ест червей!
Как ни странно, именно этот поступок принес Данло славу мирного человека. Ему пришлось объяснить Мадхаве и другим мальчикам то, что он до сих пор таил в себе: о принесенном им обете ахимсы. Многие послушники уже были знакомы с фраваши и их доктринами. Шерборн с Темной Луны прямо спросил Данло, не учился ли тот у фраваши. Данло, не любивший лгать, не мог ответить на этот вопрос столь же прямо и стал говорить о верованиях и системах веры в целом. Сознавшись в том, что перенял одну из основополагающих доктрин фраваши, он сказал, что ахимса – не просто доктрина, а скорее образ восприятия вселенной, преобразованный позднее в веру.
– Восприятие – вот главное, – сказал он. – Сознание взаимосвязанности всех вещей. Следовать ахимсе – значит видеть эту связь. Просто человек иногда о ней забывает.
Вскоре после этого вновь принятых послушников уведомили, кому они будут служить с 65-го дня, внушающего всем страх Дня Повиновения. Данло, как он и боялся, удостоился «чести» служить Педару Сади Санару. Говорили, что Педар дружен со старостой, который и занимался, как правило, этими назначениями. Педар, должно быть, убедил старосту, что как никто другой способен преподать Данло идеалы послушания и повиновения. Ханумана же, как ни странно, назначили в услужение к самому Мастеру Наставнику, Бардо Справедливому. Подобные прецеденты уже имели место, однако случай был не совсем обычный: новички чаще всего прислуживали старшим послушникам, послушники второго и третьего класса – кадетам, а старшие послушники – мастерам. (Старшие зачастуда избавлялись от службы у определенного мастера, вызываясь добровольно работать в городских кафе и барах, но для Данло и Ханумана, как первогодков, этот путь был закрыт.) Хануман слышал, что мастеру Бардо угодить нелегко, и удивлялся, почему такую честь оказали именно ему. Тогда он еще не знал, что Бардо нравятся красивые мальчики, и не догадывался, что Бардо чувствует вину за мучения, которым подверг Ханумана на площади Лави, едва его не уморив, и хочет оградить новичка от таких, как Педар, старшеклассников. Данло с самого начала беспокоился о том, как Хануман поладит с мастером Бардо. Вся эта система подчинения вызывала у него возмущение и ненависть. Никакие слова Ханумана не могли избавить Данло от этой ненависти. Когда Хануман уныло заметил, что всякое общество основано на обмене обязанностями, информацией и услугами, Данло сказал:
– Мать кормит грудью свое дитя, а отец носит кровяной чай старым, потерявшим зубы праотцам, но не годится мужчине служить другому мужчине, сильному и здоровому. Это хуже чем паразитизм – это шайда.
Считая дни до начала службы, Данло начал свои ежедневные занятия. Следуя совету мастера Бардо, он стал учить универсальный синтаксис, и его дни оказались заполненными до предела. Ранним утром, после завтрака и умственных упражнений, он делал самое трудное: отправлялся к знаковику и зубрил трехмерные символы, называемые идеопластами. Позднее утро посвящалось запоминанию: базовых идеопластов было двадцать три тысячи, и требовалось ясно представлять себе их форму, цвет и конфигурацию. Данло мог бы впечатать себе основную часть этой премудрости, но после сеансов в мастерской Дризаны он проникся недоверием к этому противоестественному акту, чтобы не сказать к самим печатникам.
Притом импринтинг имел свои опасности, не последней из которых было перенасыщение мозга информацией. Члены Ордена прибегали к импринтингу лишь в самых необходимых случаях – идеалом было заложить некую основную базу знаний, после чего для помощи мышлению и памяти использовались компьютеры. Данло закладывал эту базу более долгим способом, вызывая в воображении бесконечные цепочки идеопластов и вжигая их в мозг с прямо-таки поразительной скоростью. За этой титанической работой следовал обед из хлеба, бобов и фруктов, а затем Данло опять возвращался к универсальному синтаксису, изучая теорию образов, формализацию, моделирование и практическое применение. Он занимался этим до самого хоккея или фигурного катания в Ледовом Куполе. Только по вечерам у него оставалось время поболтать и посмеяться с другими мальчиками, сразиться в шахматы с Хануманом или поиграть на шакухачи, лежа на своем грубом белом одеяле.
Послушникам полагалось изучить, помимо универсального синтаксиса, также историю Ордена, правила его этикета, математику, науковедение, всеобщую историю, конькобежный спорт, йогу, языки, книговедение и фравашийскую мыслительную гимнастику. А также цефические искусства: холдинг, дзадзен, медитацию, фугирование и подключение к киберпространствам. К концу своего обучения в Борхе послушники проходили еще и некоторые из основных дисциплин Ордена: скраирование, мнемонику, механику и эсхатологию. Одновременно могли преподаваться не более двух из этих предметов.
В этих пределах послушник мог самостоятельно строить свое образование. Ожидалось, что он (или она) будет сам исследовать древо познания, выбирая наиболее интересующие его отростки. Этот выбор служил мерилом его интеллектуальной ценности – и его ши. Хотя послушника обучало множество наставников, дающих ему советы и предоставляющих свою мудрость, за свое образование в конечном счете отвечал он один.
В конце послушничества, когда проводятся экзамены на предмет поступления в один из высших колледжей, позор в случае провала и отчисления из Ордена ложился на него и только на него.
Случилось так, что первым наставником Данло стал прославленный мастер Джонат Хаас, глубокий старик с покрытым бородавками лицом, великий ум, одержимый страстью передать сокровища своего интеллекта своим любимым ученикам. Мастер Джонат был классическим холистом, представителем школы, вобравшей в себя старую науку, влюбленный, подобно многим своим коллегам, в теорию и абстракцию. Он обожал составлять модели вселенной и представлять невероятно сложные космические процессы в символах универсального синтаксиса. По его словам, все системы классификации и обобщения заключали в себе великую власть. В 51-й день ложной зимы, угощая Данло кофе с корицей в своей квартирке близ Академии, мастер Джонат прочел ему одну из своих излюбленных лекций:
– Ты можешь думать о холизме как о дисциплине, изучающей взаимные связи – ведь тебя именно это интересует, юный Данло? Я так и думал. Итак, связанность: что такое язык, если не выражение связанности вещей? Их родства? Я сижу на этом стуле. Солнце льется, как золото, на это диковинное перо у тебя в волосах. Метафоры! Невозможно наложить два координатных пространства разных размерностей одно на другое так, чтобы они совместились. Наложение! Координаты! Пространства! Что такое математические термины, если не метафоры? Псевдотороиды, каналы и фокусы – все это метафоры. Метафора движет природой. Математика есть система кристаллизованных, рафинированных метафор. Еще в большей степени это относится к универсальному синтаксису. Что это такое, если не математика, преобразованная в истинно универсальный язык? С помощью математики мы можем выразить искривления мультиплекса или смоделировать хаотическую структуру облака; с помощью универсального синтаксиса мы можем соотнести шахматный гамбит с ролью цвета в развитии скутарийского организма и с расположением сверхновых в Экстре. Можем выявить все существующие связи. Чем лучше мы будем моделировать, тем больше связей нам откроется. Что еще, кроме холизма, способно показать нам перехлестывающиеся узоры вселенной?
Данло быстро открыл для себя красоту этой господствующей интеллектуальной системы Цивилизованных Миров. Не забывая предупреждения Старого Отца относительно того, что холизм является самой соблазнительной из всех систем именно вследствие своей универсальности, он тем не менее впитывал уроки мастера Джоната с жадностью, доставлявшей удовольствие старику. По утрам Данло являлся к мастеру Джонату точно в назначенный час, и они вместе изучали труды величайших холистов, таких как Мория Эле и Ли Тао Цирлот.
Кроме того, мастер Джонат задавал Данло различные упражнения, задачи и композиции, входящие в костяк холизма.
Мастер, с самого начала взиравший с подозрением на перо снежной совы, очень скоро открыл приверженность Данло к алалойской тотемной системе – это было неизбежно. Об этой системе мастер Джонат знал почти все, как и о большинстве других вещей. В качестве упражнения, желая продемонстрировать Данло бесконечные возможности холизма, он предложил ему совместно заняться формализацией этой системы. Он находил гордость в доказательстве того, что холизм способен вместить в себя любую систему, даже причудливый свод верований первобытных людей, мажущих новорожденных младенцев менструальной кровью в убеждении, что эта жизнетворящая субстанция напитана мировой душой так же, как каменьмагнит – особой силой. Так над бесконечными кружками кофе с шапкой сладких сливок они закодировали два вида животных, три аспекта человеческого «я» и четыре стихии – кровь, огонь, лед и ветер – в символах универсального синтаксиса.
(В последнем случае мастер Джонат предложил использовать кватернион, часто применяемый для кодирования четырех мастей японского таро, четырех контуров человеческого мозга, а также четырех скутарийских полов и четырех частей «Последней симфонии» Бетховена.) Данло нравилась зга трудная работа, и он часто жалел, что не может остановить время на год, чтобы постичь все тонкости холизма, не отвлекаясь на другие предметы.
Но время в жилищах и башнях Академии, повинуясь холодному императиву цивилизации, шло лишь в одну сторону, и остановить его было трудно. Настал 65-й день ложной зимы, День Повиновения, и Данло пришлось прервать свою игру с абстракциями и символами. В тот день после завтрака все новички Борхи оставались в своих спальнях, перебрасываясь нервными репликами. В Доме Погибели Данло первого вызвали вниз. Старшие послушники ждали, выстроившись перед своими койками. Когда Данло вошел, все они поклонились. Педар, выйдя вперед, вручил ему подметальную щетку и сказал:
– Ну, ледяной мальчик, добро пожаловать в Дом Погибели.
Глаза у Педара были красные, и он непрестанно ковырял свои прыщи. Данло не знал, что Педар принимает кж, наркотик, вызывающий покраснение глаз, раздражительность, а также кровоточивость десен, прыщи и даже галлюцинации.
Педар, как и все прочие, пользовался этим средством для стимуляции умственной деятельности. Известно, что человеческий мозг в период полового созревания выделяет гормон, растворяющий все образованные в детстве, но неиспользуемые синапсы. Это позволяет взрослому человеку с уже определившейся структурой мозга проводить в жизнь усвоенные ранее уроки, расплачиваясь за это гибкостью и возможностью новых открытий. Юк, вдыхаемый через нос или растворяемый в питье, тормозит выделение этого гормона и стимулирует рост новых синапсов. Говорят, что юк делает способного ребенка еще способнее, и даже тупицу, отдаляя окончательное взросление, иногда превращает в гения. Поэтому многие прибегают к этому чудодейственному эликсиру, жертвуя взамен нормальным общением с людьми, здоровьем, а порой и рассудком.
– Застели-ка мою кровать, Данло Дикий! – Педар кивнул на разворошенную, с пятнами крови постель. – Простыни будешь менять каждые три дня.
Данло застелил. Каждое последующее утро он носил одежду Педара в прачечную и обратно, подметал около его койки и точил его коньки длинным алмазным напильником. Самой тягостной его обязанностью было ежевечернее бритье головы Педара. Каждый раз после ужина он сбегал по лестнице в купальню нижнего этажа, брал, задыхаясь от пара, алмазную бритву и короткими, точными движениями водил ею по черепу Педара. Иногда он думал, как легко было бы опустить ее к шее Педара и вскрыть большую, пульсирующую на горле артерию. Но такие мысли были ему еще более отвратительны, чем сама служба. Никогда не убивай и не причиняй вреда другому, даже в мыслях, гласит закон ахимсы. Данло очень старался подавлять эти свои крамольные думы. По природе он не был склонен к насилию и каждый вечер, по фравашийской методике, создавал у себя в уме зеркало, отражающее лучшие стороны Педара, и выбривал ему голову до блеска, без единой царапины, в знак своей внимательности и доброй воли. Данло ловко обращался с режущими предметами, но как раз эта ловкость и злила Педара. Старшие послушники любили шпынять новичков, но для этого нужен был предлог. Таким предлогом, согласно традиции Дома Погибели, неизменно служили порезы при бритье, что случалось часто, поскольку мало кто из первогодков умел управляться с архаическими опасными бритвами. Еще большую досаду вызывали у Педара природное благородство Данло и его твердая решимость не поддаваться ненависти. Педар, как видно, не желал лицезреть свои лучшие стороны, потому что не смотрел Данло в глаза и не отвечал ему на поклон по окончании бритья. Его вполне устраивала собственная низость – с некоторыми людьми так бывает. Жестокий, мстительный и глухой к собственному изначальному благородству, он долго дулся и однажды отдал Данло совершенно немыслимый приказ.
– А теперь побрей мне бороду, – распорядился он. – Этой же бритвой, да смотри не порежь.
– Ты хочешь, чтобы я побрил тебе… лицо, о Великолепный?
Педар сидел на низкой табуретке, сутулый и обрюзгший, потому что он не любил заниматься спортом; кожа на груди пожелтела от юка, и большие соски напоминали сырую печенку. Он мотнул головой на раковину, куда непрерывной струей хлестала горячая вода, образуя мыльный фонтан. Вокруг в клубах пара стояли его друзья, своими крепкими нагими телами преграждая Данло всякую попытку к бегству. Сам Данло был одет в свою обычную форму и немилосердно потел в этой плотной шерсти.
– Ты хочешь, чтобы я побрил тебе лицо, о Великолепный? – повторил он.
– Мне надоел этот титул. Отныне будешь звать меня «о Глубочайший».
– О Глубочайший, но как же я смогу брить твое лицо, не прикасаясь к нему?
– Можешь прикасаться – я разрешаю.
При этих словах друзья Педара, ухмылявшиеся до сих пор, удивленно переглянулись.
Данло не хотелось брить лицо Педара. Он наконец-то усвоил, что во многих Цивилизованных Мирах прикосновение к чьему-то лицу считается худшим из оскорблений. Данло начинал уважать цивилизованные обычаи, но не только по этой причине не желал дотрагиваться до Педара.
– Я могу порезать тебя.
Действительно, нельзя было сбрить жидкую бороденку Педара, не порезав его. Всю его физиономию покрывали красные вулканы свежих прыщей вперемешку со струпьями и впадинами от старых. На его лице, а также на груди и спине. Не было ни одного чистого участка кожи, позволяющего провести по нему бритвой. Педар выпятил подбородок, многозначительно глядя на своих приятелей. Данло стал орудовать самым кончиком бритвы, срезая волоски чуть ли не поодиночке. Он работал с тщательностью алалоя, режущего по моржовой кости, но в конце концов пальцы у него устали, рука дрогнула, и он срезал огромный красный прыщ у Педара на шее. Кровь вместе с гноем, густым, как желтые сливки, хлынула наружу.
Педар дернулся, и Данло порезал его снова, проведя на этот раз царапину у самой гортани. Кровь теперь вовсю хлестала Педару на грудь и на белую табуретку, склеивала Данло пальцы и застывала на гладком алмазном лезвии.
– Ты меня порезал! – вскричал Педар.
Данло окунул бритву в мыльную воду, и красные разводы тут же ушли в сток. Не зная, что еще сделать, он прижал свой рукав к горлу Педара.
– Порез неглубокий, но нехорошо, когда кровь течет. Я…
– Ты порезал меня, будь ты проклят!
– Извини.
– Дурак.
– Я искренне сожалею.
Педар вскочил, зажимая порез рукой, и крикнул:
– Сожалеешь… а дальше что?
– Я искренне сожалею, Глубочайший.
– Дикий мальчик забывается. – Педар кивнул своим шестерым друзьям. Все они были почти взрослые, а один, Арпиар Погосян, с бугристыми, накачанными мускулами, сложением почти сравнялся с Бардо, самым крупным из знакомых Данло мужчин. – Давайте-ка поучим его хорошим манерам.
Все шестеро накинулись на Данло, схватили его за руки и за ноги и прижали к полу. Данло ударился ухом, и это рассердило его. Он стал брыкаться, как шегшей, атакованный волками на льду, и лягнул кого-то, вызвав крик:
– Держи его ногу, не отпускай!
– Силен, паршивец! – пропыхтел в ответ Арпиар.
Пострадавший застонал: Данло, как выяснилось потом, сломал ему два пальца на руке. Данло почти что ощутил боль, причиненную им другому, и так устыдился, что ослаб и дал пригвоздить себя к полу. Арпиар Погосян прижимал коленями его ляжки, все остальные крепко держали его за руки и за ноги.
– Что это с ним? – выразил удивление Арпиар. – Почему он вдруг поддался?
Педар, присев на корточки рядом с Данло, пояснил:
– Он учился у фраваши, у Старого Отца. Говорят, он принес обет ахимсы.
Парень с грустным ироничным лицом, Рафаэль Ву, стоял в стороне, держась за поврежденную руку.
– Ахимса! – прошипел он. – Да он мне пальцы сломал!
Данло лежал, прижатый спиной к полу, и четыре голых потных парня нажимали ему на грудь и живот. Дышать было трудно, от Педара пахло потом и мылом. Данло смотрел на Педара задом наперед, и от этого его глаза казались темными, как раковины кавы, и почти нечеловеческими. Поскольку Данло был личным слугой Педара, тому, согласно всем правилам и традициям, запрещалось его трогать, но Педар нашел другой способ помучать его. Кровь из пореза почти уже не текла, но Педар нарочно выдавил еще немного. Капля крови повисла у него на подбородке и упала Данло на лицо.
– Нет! – закричал Данло. – Нет!
Педар вовсю жал пальцами свою испещренную рубцами шею. То ли случайно, то ли намеренно он выдавил несколько прыщей, брызнув Данло в глаза кровью и гноем. Данло зажмурился и сжал губы, чтобы кровь Педара не попадала внутрь.
Всю свою жизнь, задолго до того, как поклялся не причинять вреда ничему живому, он знал, что чужую кровь нельзя пробовать на вкус – худшей шайды просто быть не может. Ему хотелось крикнуть: «Не надо, эта кровь осквернит и твою душу, и мою!», но с закрытым ртом он ничего сказать не мог.
Педар наконец встал, и другие мальчики отпустили Данло.
Педар выглядел пристыженным и смущенным.
– Завтра, когда будешь меня брить, действуй поосторожнее.
Данло вихрем взлетел вверх по лестнице, в знакомую прохладную спальню. Хануман, упражнявшийся в своем боевом искусстве, увидел, что он весь в крови, и замер с поднятым кулаком.
– Данло, что случилось?
Данло только головой потряс и пробежал в купальню. Сорвав с себя испачканную одежду и смыв зараженную кровь с лица, он вернулся в спальню и забился под свое одеяло, дрожа от ненависти. Он ненавидел Педара Сади Саната черной, лютой ненавистью. Более того, он ненавидел систему, будь то цивилизация, мир или вселенная, способную произвести подобного субъекта. Ненависть отравляла ему душу, но хуже всего было презрение, которое он испытывал к самому себе, – презрение за то, что он оказался слаб и поддался ненависти. В решающий миг он отвернулся от ахимсы. Он далек от искомой им гармонии – далек, как смерть от жизни.
– Данло, Данло, что с тобой? – Хануман стоял над ним и тряс его за плечо.
– Я нарушил свой обет… обет ахимсы. – Данло сел и сбросил с себя одеяло. Другие мальчики точили коньки на завтра, и в спальне стоял скрежет напильников. Многие поглядывали на Данло, но он не обращал на это внимания. – О благословенный Бог… зачем я это сделал?
И он рассказал Хануману все. Тот слушал его, покусывая мозоли на костяшках пальцев. Когда Хануман узнал, что сделал с Данло Педар в купальне первого этажа, его лицо приобрело испуганное, замкнутое выражение. Он не утешал Данло, но полностью разделял его возмущение. Данло стало страшно при мысли о том, к чему может привести безмолвная ярость его друга.
– Мой долг – терпеть Педара и все его мелкие пакости, – сказал он.
– Я понимаю.
– Как я смогу следовать ахимсе, если по-прежнему буду ненавидеть его и желать ему зла?
Хануман скусил с костяшки кусочек желтой ороговевшей ткани и выплюнул его на пол.
– Я понимаю.
– Тебе, наверно, тоже тяжело служить мастеру Бардо.
– Тяжело, – со странным выражением ответил Хануман. – Но из трудностей тоже можно извлечь уроки. Когда-нибудь я еще отомщу Бардо, а ты – Педару.
Данло, глядя на Ханумана, достал из-под одеяла свою бамбуковую флейту.
– В детстве я часто слышал пословицу: «Силу хария, мансе ри дамия». Дети бесятся, мужчины сдерживают себя.
– Совершенно верно, Данло. Умение сдерживать себя – это главное.
– Да, Хану. Вот только имеем ли мы с тобой в виду одно и то же, говоря о сдержанности?
Ложная зима вскоре кончилась, и выпали первые глубокие зимние снега. Сто дней на службе у Педара предоставили Данло много возможностей научиться сдержанности. Он овладел искусством подавлять свою ненависть и стал понимать, какого бесконечного терпения и какой силы требует от человека ахимса. Педар больше не пачкал Данло своей кровью – теперь он изобретал более тонкие способы мучительства. Он прилюдно издевался над пером у Данло в волосах, заставлял его полировать свои коньки до блеска, пока Данло не начинало мутить от запаха смазки, и всячески старался не давать ему спать. Это была самая жестокая из его выдумок – если не по результату, то по намерению. Каждую ночь после тушения огней Педар взбирался по лестнице в спальню Данло. После отбоя никакая муштра уже не допускалась, поэтому он делал это втихую и с большой осторожностью. Первогодком он как-то поскользнулся на лестнице и теперь ставил ногу точно в центр каждой ступеньки. Пробравшись в спальню младших послушников, он будил Данло и уводил его с собой в медитативную комнату первого этажа, где заставлял его петь гимны Ордена, практиковаться в йоге или же – это была его любимая пытка – читал наизусть начальные строки знаменитых старинных стихотворений, а Данло полагалось закончить строфу. Если Данло не справлялся с задачей, он исполнял в присутствии старших послушников танец дервиша или прыгал на одной ноге, пока ее не сводило судорогой и он не валился на пол. Пользуясь своей феноменальной памятью, он заучил наизусть сотни старых стихов, а потом и тысячи. Скоро у Педара почти не осталось шансов подловить его, даже пуская в ход Индру Сена и других малоизвестных поэтов Третьих Темных Веков. Память Данло, само собой, приводила Педара в бешенство, и он придумал для него новое испытание: читать стихи до изнеможения. Педар любил поэзию, а еще больше любил хрипоту в голосе Данло, через силу произносящего строки, сочиненные тысячи лет назад на Старой Земле или других покинутых планетах. Своим собственным сном Педар жертвовал лишь в самой малой степени. Когда он уставал слушать, то уходил и ложился спать, а его сменял Арпиар Погосян или другой старший послушник. Часто они таким образом заставляли Данло бодрствовать всю ночь.
Однажды утром, после особенного изнурительного сеанса декламации, Хануман увидел, как обессиленный Данло ложится в постель, и сказал:
– Посмотри на себя! Нет такой традиции, которая позволяла бы Педару лишать тебя сна. Почему ты не пожалуешься мастеру Бардо или не позволишь мне это сделать?
Данло зевнул. Он сильно осунулся, и под глазами пролегли темные круги, но сами глаза смотрели ясно, несмотря на сонливость.
– Силу вания, мансе ри дамия, – сказал он. – Дети жалуются, мужчины терпят.
– У твоих алалоев, как видно, на все случаи пословицы есть?
– Да. Они природные философы.
– Но нельзя же позволять Педару не давать тебе спать.
– Если я пожалуюсь мастеру Бардо, он может наказать Педара.
– Очень надеюсь, что он выведет его на площадь Лави и там публично закатит ему пощечину, – со злобной усмешкой сказал Хануман.
Данло, зажмурившись, помотал головой.
– Этого нельзя допускать, Хану! Я не должен причинять ему вред ни словом, ни делом, ни даже мысленно.
– Ты слишком далеко заходишь в своей ахимсе. Педар – гнойный прыщ. Почему ты не хочешь, чтобы мастер Бардо его наказал?
– Он гнойный прыщ, – согласился Данло, – но в нем есть и другое.
– Что другое?
– Нечто редкое и замечательное.
– Ведь ты его ненавидишь!
– Возможно… но я не должен.
– Тогда я буду ненавидеть его за двоих. – Хануман потрогал Данло лоб, пробуя, нет ли жара. – Возможно, это и благородно – воздерживаться от ненависти. Возможно. Но твоя воля к ненависти всегда должна быть остра как бритва. Может быть, когда-нибудь ты откажешься от ахимсы как от негодной этики, и тебе понадобится вся твоя ненависть, чтобы защищать себя от Педара и ему подобных.
В период этой муштры, которая с переходом зимы в глубокую зиму стала еще свирепее и которой Данло донимали гораздо больше, чем других мальчиков, его спасали от физического и морального краха три вещи. Первой, по счастливой случайности (а Данло всегда был счастливчиком), стали праздники. Триолет, День Памяти, День Тихо, Ночь Скорби, Праздник Сломанных Кукол – три дня из каждых десяти посвящались отдыху и веселью. В эти дни Данло был свободен и от службы Педару, и от других своих обязанностей. Можно было свернуться под теплым одеялом и выспаться всласть. Во-вторых, ко сну он относился не совсем обычным образом и мог обходиться без него в случае необходимости. Промышляя с Хайдаром тюленя на морском льду, он часто сутками бодрствовал над лункой, притопывая ногами от холода. Ждать, когда Нунки вынырнет из моря на твой гарпун, всегда приходилось долго. Зато с приходом глубокой зимы, когда задувал свирепый западный ветер, он мог целыми сутками спать в пещере.
Данло всегда засыпал без труда, а после общения с аутистами научился входить в сон, как в холодные, целительные, полные видений воды. Ему не раз снилось его второе «я», таинственная снежная сова Агира с оранжевыми глазами и сияющими белизной перьями. Она говорила Данло, что сон – это воссоединение с Богом и что он, Данло, должен прибегать к этому священному состоянию когда только может. Поэтому все трое суток Триолета, когда горожане курили тоалач в честь окончания Войны Наемных Убийц, он провел в постели, вставая только по нужде или чтобы немного поесть. Поднявшись наконец, освеженный и с ясной головой, он увидел, как Хануман мается, впервые попробовав тоалач, и сказал: – Сон – это блаженство, правда? Разве может Педар навредить мне, пока я способен уходить в сон?
Третьим из того, что спасало Данло, была растущая любовь Ханумана. По скрытности своей натуры тот не проявлял своей любви открыто, посредством слов или шлепков по спине, как это водилось у других мальчишек. Но Хануман имел сто других способов, чтобы выразить связывавшее их чувство. Быстрый обмен взглядами или легкий наклон головы без слов говорилхДанло, как дороги Хануману его веселость, его любовь к жизни, его необузданный нрав. Этой последней, дикой и опасной стороной натуры Данло Хануман не уставал восхищаться, хотя именно из-за этой дикости Данло чуть было не утопил его в горячем бассейне. Много лет спустя, когда их отношения из любви переросли в глубокое и жуткое взаимное понимание, Хануман записал в своем вселенском компьютере: «Я любил смотреть, как Данло бегает на коньках. О, с какой ясностью помнится мне, как он чуть ли не вспарывал лед на дорожках Борхи! Эти горько-сладкие образы невозможно забыть: его сверкающие на солнце коньки, его мускулы, вздувающиеся под камелайкой. И эта быстрота, эта глубина его глаз, когда он перерабатывал информацию – мельчайшие перемены температуры, оттенки цвета и твердости льда, недоступные другим. Его шаг был легок и скор – молниеносен, можно сказать, но в ногах всегда присутствовала сила, гибкая и непредсказуемая. Мадхава ли Шинг говорил, что он выпендривается, но это неправда – он просто любил бегать с повышенной скоростью. Не странно ли, как много говорят о человеке его движения? Душа и личность – самые трудноопределимые из всех понятий, но я сразу прозрел в душе Данло то, что притягивало и одновременно отталкивало меня: его силу и страстность. Он был более неистов, чем я, и прекрасен в своем невежестве, как та белая сова, с которой он всегда брал пример. И это всегда меня ужасало. Нет ничего ужаснее человека, наделенного невинностью, дикостью и грацией животного». Но больше всего Ханумана восхищали мужество Данло и решимость терпеть издевательства Педара. Воля, позволяющая человеку возобладать над собой, всегда казалась Хануману уникальным, божественным свойством. Но воля проистекает из жизни, а Хануман хорошо помнил, какая это хрупкая штука – жизнь. Поэтому он, движимый любовью и дружбой, втайне поклялся сделать все, чтобы сохранить жизнь Данло и уберечь его от плохого.
В сорок девятый день глубокой зимы Педар, вызвав Данло в медитативную комнату, заявил ему:
– Мне не нравится твой дружок.
Данло, стоя на одном из ковриков в ненавистной ему коленопреклоненной позе, смотрел на красивые, черные с красным стены и любовался завитками и волокнами панелей из дерева джи. Здесь было тихо и хорошо пахло – Данло наслаждался бы пребыванием в этой комнате, если бы не мучения, которым он в ней подвергался.
– Который из них, о Вдохновенный?
– Хануман ли Тош, – рявкнул Педар. – Мне не нравится, как он на меня смотрит.
– Как же он смотрит на тебя, о Вдохновенный?
– Мне это надоело. Зови меня «Всеведущий».
– Хорошо, о Всеведущий.
– Твой дружок смотрит на меня как на старинную статую. Хуже того – как на скутари или на какого-то другого гнусного инопланетянина. А когда я встречаюсь с ним на лестнице, он вообще на меня не смотрит – это уж из рук вон.
– Возможно, он не выносит вида твоих прыщей, о Всеведущий.
Услышав это, Педар побагровел от ярости, и его прыщи налились кровью, а Данло не сдержал бунтарской, насмешливой улыбки, которую он перенял в доме Старого Отца. Ахимса, как он понимал ее, требовала лишь не причинять человеку ни телесного, ни духовного вреда. Фравашийская традиция не запрещала причинять кому-то моральную боль, помогающую что-то понять.
Данло даже нравились эти словесные поединки с Педаром.
В глубине души он продолжал его ненавидеть. А еще глубже, в темной и неосознанной части его существа – в самых его генах, – ревело, как океан, стремление уничтожить то, что он ненавидел.
– Что ты сказал?! – Педар уже занес кулак, чтобы стукнуть Данло по голове, но вспомнил, должно быть, что за такое могут исключить из Ордена, и хлопнул кулаком по ладони.
– Великолепие твоего лица…
– Ладно, ладно, дикий мальчик. Не хочешь вести себя как следует – тем хуже. Будешь сегодня вечером думать о правилах поведения, пока не отмоешь весь пол в купальне.
– Спасибо тебе!
– Это за что же?
– За возможность попрактиковаться в сдержанности. Спасибо тебе, о Прыщеносец!
В ту ночь Данло скреб полы в купальне первого этажа – вернее, соскребал черную грязь, набившуюся между плитками. Педар не дал ему ни щетки, ни моющих средств, и Данло использовал для этого свои длинные ногти. К утру он обработал только двести из 12 608 плиток пола, обломав себе почти все ногти и вывозившись в липкой, дурно пахнущей грязи.
– Будешь приходить сюда каждую ночь, пока не закончишь, – распорядился Педар, проверив его работу. Слабый утренний свет сочился серебром сквозь замерзшее окно в восточной стене. – Понял?
Данло зевнул, улыбнулся и ответил:
– Я понял, о Прыщеносец.
Тем же утром Хануман в отчаянии крикнул:
– Да ведь это же невыполнимо!
Его ярость отражала чувства других первогодков. Мадхава ли Шинг ужаснулся, узнав об этом «приговоре», как он выразился. Он был мал ростом, меньше даже, чем Хануман, но в его черных миндалевидных глазах читалось саркастическое высокомерие правящего академического класса планеты Шинг.
– Это вопиющая несправедливость, – изрек он в своей спокойной, невозмутимой манере. – Надо что-то делать.
Другие мальчики – Адан Дур ли Кадир, Хавьер Миро и Шерборн с Темной Луны – согласились с ним. Всю зиму они были свидетелями непоколебимого упорства Данло и прониклись к нему уважением. Их первоначальная подозрительность сменилась восхищением, сочувствием, а кое у кого и преклонением. Данло был прирожденным лидером – что-то в нем побуждало людей разделять его стремления и его взгляды.
Мадхава совсем уже собрался идти к Мастеру Наставнику с протестом против варварского поведения Педзра, но Данло убедил своих новых друзей сохранить все в секрете.
Однако слухи о борьбе Данло каким-то образом все же распространились по Борхе. Возможно, проговорился кто-то из друзей или недругов Педара с первого этажа. Все послушники, не только из Дома Погибели, но также из Каменных Палат, Эрмитажа и других общежитий, узнали о том, как Педар Сади Санат испытывает преданность Данло ахимсе. Ребята из отдаленных миров мало что знали о фраваши или об ахимсе. (Вообще-то «ахимса» – древнее санскритское слово. На Старой Земле это учение исповедовали джайниты. Они носили на лице марлевые маски, чтобы при вдохе нечаянно не убить мошек, кишмя кишевших в воздухе на жарком континенте под названием Азия. Фравашийские правила не столь строги – у них считается злом лишь сознательный вред, причиняемый живому без веской причины.) Но многим другим идеи ахимсы были знакомы и близки, хотя и считались неприменимыми в повседневной жизни. Хануман первый подметил заключенную в ахимсе иронию.
– У Педара вместо сердца гнойный прыщ, – сказал он как-то Данло. – Ты поклялся никому не причинять зла, а он пользуется этим, чтобы вредить тебе.
Рассказ о страданиях Данло своим чередом дошел до ушей Мастера Наставника, и Барда тут же вызвал Педара в Святыню-Послушников. Записей об их беседе не сохранилось, но скоро по Борхе поползли слухи, что Педара постигло суровое и весьма болезненное наказание. Педар получил приказ прекратить травлю Данло. Кто-то слышал, как мастер Бардо гремел за дверью:
– Клянусь Богом! Жизнь и без того достаточно жестока, чтобы добавлять к варварскому происхождению новое варварство! И почему я не позаботился, чтобы Данло назначили служить достойному послушнику? Я, должно быть, был пьян, когда предоставил эту функцию старосте. Горе мне!
После этого Педар по всем статьям должен был оставить Данло в покое, однако не оставил. Вопреки здравому смыслу, он возлагал на Данло вину за то унижение, которое претерпел в комнатах мастера Бардо. Его жестокости и мстительности сопутствовала не знающая пределов гордыня. По происхождению низкий из низших (его родители были хариджаны, прибывшие в Невернес потому, что уверовали, будто здесь можно бесплатно получить наркотики вроде юка и Джамбула, а также доступ к мозговым машинам цефиков), он воображал, что среди его предков числились воины-поэты, нейрологики и эталоны.
Как иначе объяснить его поразительный интеллект и тот факт, что он, мальчик-хариджан, сумел поступить в Борху? И разве может эталон позволить человеку низшего уровня оскорблять себя? Разве воин-поэт, не знающий страха убийца, испугается этого толстого шута, Мастера Наставника? Именно из уважения к своим мнимым предкам, как он сам признался Арпиару Погосяну, Педар составил план унижения Данло. Он будет придерживаться буквы приказа мастера Бардо, но отплатит позором за позор и укажет Данло его место. Он научит этого дикаря уважать тех, кто выше его.
И Педар стал собирать материал против Данло. Ночью, после тушения огней, он взбирался по темной лестнице и затаивался там, слушая, о чем шепчутся младшие послушники. Он пользовался и другими методами, чтобы шпионить за Данло. Он знал одного кадета – горолога из Лара-Сига, который знал куртизанку, подруга которой была ученицей Старого Отца. О Данло ходило множество диких слухов, и Педар старался дойти до первоисточника каждого из них. С самого первого дня на площади Лави ему казалось, что в Данло и в его прошлом есть нечто темное, загадочное и очень глубокое. Будучи умным парнем и способным исследователем (в своих честолюбивых мечтах он видел себя Главным Историком Ордена), он вскоре сложил вместе кусочки головоломки и разгадал тайну Данло.
В 64-й день глубокой зимы он подошел к Данло на площади Лави. Был один из тех морозно-голубых, совершенно ясных дней, когда все окружающее – ледяные скульптуры, красно-рыжий лишайник на стенах домов, иголки деревьев йау – видится с почти избыточной яркостью. Было слишком холодно, чтобы долго оставаться на воздухе, но горожане, и взрослые и дети, любили прогулки на зимнем солнце, и на площади поставили обогревательный павильон. Под его клариевым куполом, опирающимся на деревянные колонны, собралось множество послушников. Из решеток в ледяном полу шел теплый воздух, и все, кто там был, расстегнули свои белые парки. Ковыряя лед коньками, послушники высматривали знакомых в людском потоке, струящемся через площадь Данло и его друзья из Дома Погибели каждый день после обеда собирались здесь. 64-й ничем не отличался от других дней. Данло стоял там, где попрохладнее. Постукивали коньки, и от ледяной крошки шел свежий запах. Хануман, Мадхава ли Шинг, Шерборн с Темной Луны и три девочки из Эрмитажа окружили его, Данло как раз обсуждал парадоксы причинности с одной из девочек, Риганой Брандрет Таль, когда Хануман показал на площадь.
– О нет. Погляди, Данло, – прыщ со своими дружками.
Две дорожки пересекали белый лед площади, образуя гигантское красное «X». На оной из них Данло, проследив за пальцем Ханумана, увидел Педара Сади Саната, Арпиара Погосяна и Рафаэля Ву, катящихся прямо к ним. Педар, возглавлявший их, въехал в павильон. Не останавливаясь и не здороваясь ни с кем, он достал из внутреннего кармана шубы маленький прямоугольный предмет – фотографию – и предъявил ее Данло.
– Этот человек – твой отец? – пронзительный голос Педара был слышен во всем павильоне и даже на Площади. – Тот, кто в середине – твой отец?
– Смотри, – сказал кто-то, – ведь это Мэллори Рингесс.
Данло втянул в себя холодный воздух, не понимая, как Педар раскрыл тайну его происхождения. Краски на фотографии сливались в сплошное глянцевое пятно. Чувствительные элементы на фотографиях всегда высветляют и увеличивают ту часть изображения, на которую смотрит человек. Но Данло никогда раньше не видевший фотографий, не знал, куда смотреть, и изображение оставалось нечетким. Данло различал что-то зеленое с белым, похожее на гору, темные фигуры на ее фоне и еще что-то синее. Такой яркой синевы, как на этой картинке, он ни разу не видел наяву – только во сне. Ничто в природе, даже яйцо птицы Айей, не могло иметь столь чистое и насыщенной окраски.
– Как красиво! – воскликнул он. – Что это?
Арпиар Погосян позади Педара постучал коньком о колонну, сбивая с него лед, и строго осведомился:
– Как ты разговариваешь со старшим?
Данло поспешно склонил голову и повторил, обращаясь к Педару:
– Что это, о Просвещенный?
– Это фотография, – ответил тот.
Данло продолжал пялить глаза на красиво раскрашенный глянцевый прямоугольник.
– А что такое «фотография», о Просвещенный?
– Это фото алалойской экспедиции Мэллори Рингесса. Ты что, никогда фотографий не видел?
Когда Дризана впечатала Данло основной язык, он, помимо прочих, узнал и слово «фотография». Он помнил, что это означает двухмерное изображение, воссоздающее в точечном режиме объекты реального мира – в каком-то смысле это то же самое, что и наскальная живопись. Фото, конечно, точнее и лучше передает внешнюю сторону реальности, зато пещерные рисунки передают самую суть Айей, Сабры, Беруры и других обитателей мира.
– Ну так что же? – спросил Педар. Он держал фото ровно, стараясь, чтобы рука не дрожала.
Дайло рассматривал фотографию, слыша, как перешептываются напирающие со всех сторон послушники.
– Данло Дикий не знает, что такое фото! – объявил один из них.
– На, возьми, – сказал наконец Педар.
Данло взял карточку рукой без перчатки. На ощупь и на вес она напоминала костяное дерево. Углы у нее были острые, а поверхность блестела, как илка-квейтлинг, молодой белый лед.
– Это Рингесс! – сказал Шерборн, тыча в фото пальцем. – Мэллори Рингесс! И Бардо Справедливый, еще до того, как стал Мастером Наставником. Какой он здесь молодой!
Педар стоял к Данло вплотную, так, что тот видел крупные поры у него на лице и ощущал металлическую едкость юка в его дыхании. Педар был наркоманом всю свою жизнь, пропитавшись юком еще во чреве матери. Если бы Данло знал об этой его зависимости, его ненависть к Педару, возможно, сменилась бы жалостью.
– Ну, так как? – Педар смотрел Данло прямо в глаза. – Ты внебрачный сын Мэллори Рингесса, верно?
Данло все так же смотрел на картинку, пытаясь обрести какой-то смысл в яркости ее красок, разглядеть лица в хаосе света и тени. Но он не видел лиц и удивлялся, как это Шерборн и другие сумели узнать изображение Бардо Справедливого. Глаза у Данло всегда были острые – он мог различить грозный силуэт белого медведя на расстоянии пяти миль – так почему же он сейчас не видит то, что доступно всем остальным? Ему вспомнились слова Старого Отца: «Зрение есть акт воли, осуществляемый мозгом». Что же такое с его волей, если он не видит то, что перед ним?
– Данло! – подал голос Хануман, переводящий взгляд с него на Педара. – Данло, отдай ему фотографию – не надо тебе на нее смотреть.
Педар бросил на Ханумана ненавидящий взгляд, но промолчал.
Данло с улыбкой покачал головой, полностью поглощенный тем, что пытался разглядеть. Резкий зимний свет, отражаясь ото льда, слепил глаза, но не он мешал Данло видеть.
Данло подался головой к Хануману и прошептал:
– Хану, недостаточно видеть что-то таким, как оно есть, – надо еще понимать его смысл.
– Не вини себя, – прошептал в ответ Хануман. – За это отвечают синапсы, которые формируются на первом году жизни Просто тебя в детстве не учили видеть реальность, изображенную таким образом.
Верования – веки разума, подумал Данло и сказал:
– Но ведь теперь я мужчина. Разве может ребенок видеть то, что недоступно мужчине?
Под возбужденную болтовню полусотни любопытных подростков Данло поклялся себе увидеть во что бы то ни стало, какой бы ужас или позор ни был сопряжен с этим.
– Хватит прикидываться, дикий мальчик. – Педар, выше его ростом, немного сгорбился, чтобы стоять лицом к лицу с Данло. – Не говори мне, что не замечаешь сходства между собой и Рингессом.
– Это правда, – отозвалась из толпы Ригана Брандрет Таль. – У Данло волосы, как у Рингесса. Посмотрите на эти рыжие нити в том, что осталось от его гривы. – Маленькая и юркая, как гладыш, она протянула руку и подергала Данло за хвост. – Черные с рыжиной – у кого еще есть такие?
– И глаза, – добавил кто-то, – и это ястребиное лицо.
Арпиар Погосян пихнул Педара локтем.
– У дикого мальчика и правда хищный вид, ты не находишь?
– Свирепый, – поправила Ригана. – У него свирепая красота, как у отца – если Мэллори Рингесс действительно его отец. Потому ты так и издевался над ним – все это знают. Ты боишься его или завидуешь ему – а может, и то и другое.
– Он ублюдок Рингесса. Хочешь послушать доказательства, ублюдок?
Хануман выставил ладонь навстречу Педару.
– Пожалуйста, не стой так близко.
– Первогодки не смеют отдавать приказы старшим послушникам, – вмешался Арпиар, наставив палец в белой перчатке на Ханумана.
Данло на миг закрыл глаза и глубоко вдохнул чистый холодный воздух.
– Хану, почему я ничего не вижу? Здесь правда изображен человек – Мэллори Рингесс?
Хануман, поддерживая снизу руку Данло, поднес фотографию поближе к глазам.
– Да, это Рингесс. – Он обвел пальцем фигуру и лицо на снимке. – Вот его нос, а это волосы, черные, как пилотская форма. Видишь, как они падают на лоб? Вот глаза, вот губы…
– Я вижу! – вскричал вдруг Данло. Хаос на фото прояснился, и фигуры со снимка буквально бросились ему в глаза, обретя смысл. Три женщины и трое мужчин, все в черном.
Мужчина в середине, высокий и жилистый, с крупным длинным носом и льдистыми голубыми глазами, действительно походил на хищную птицу.
– Он великолепен! И я правда похож на него, да?
Данло поднял глаза, обменявшись взглядом с Хануманом.
Пришло время признаться, что он вырос в алалойском племени деваки, усыновившем его. Данло не понимал, откуда Педар узнал об этом, но горел желанием выслушать его «доказательства».
Он не мог себе представить, почему должен стыдиться такого отца.
– Данло Дикий, – начал Педар, обращаясь к собравшихся, – прибыл в Невернес не из элитной школы в отличие от вас. Он вообще не из Цивилизованных Миров. Я был на Крышечных Полях и говорил с комендантом – никаких записей о его иммиграции не существует. Отсюда следует, что он должен был родиться в Городе, как и я. Но Данло не учился в здешней орденской школе – иначе я бы знал. Почему же он не учился там, если он местный? Почему его допустили к вступительному конкурсу в Борху, если он даже в престижную школу не сумел поступить? В ответ на все эти вопросы я хочу предложить вам свою гипотезу.
И Педар изложил свою теорию о таинственном происхождении Данло. Популярностью он не пользовался, и все шарахались от него из-за его неприглядной внешности, но он упорно скользил туда-сюда, долбил коньком лед и кружился на месте, сопровождая все это бурной жестикуляцией.
– Люди слышали, как Данло Дикий говорил по-алалойски. И я думаю, что он вырос среди алалоев. – Педар рассказал, как Город шестнадцать лет назад снарядил к алалоям экспедицию с целью найти Старшую Эдду, заключенную в старейший ДНК человечества – в ДНК первобытных алалойских племен. Экспедиция, по его словам, закончилась крахом. Скраер по имени Катарина погибла в пещере племени деваки. Бардо Справедливый был убит копьем (но городские криологи вернули его замороженное тело к жизни). Кроме того, погиб один из мужчин деваки. – Экспедиция продолжалась почти год, – сказал Педар, – и за это время Мэллори Рингесс вполне мог зачать ребенка.
– Но Данло совсем не похож на алалоя, – возразила Ригана, вытирая белым платочком покрасневший от холода нос. – Если у Рингесса была связь с первобытной женщиной – они ведь все волосатые, как обезьяны, правда? – Данло должен был унаследовать и ее гены.
Педар ковырнул прыщ над губой.
– Я предполагаю, что Мэллори Рингесс имел связь с Катариной-скраером.
Услышав это, Ригана умолкла и уставилась на Данло, и многие другие тоже. Данло радовался, что его предположения насчет родителей наконец подтвердились, и не понимал, почему они так странно смотрят на него.
– Если у Мэллори с Катариной действительно был ребенок, – сказала Ригана, – и этот ребенок Данло, почему тогда Рингесс и остальные не привезли его обратно в Город?
– Катарина умерла, а Рингесс попросту бросил ребенка – такова моя гипотеза.
Данло, до сих пор молча слушавший эту реконструкцию собственной биографии, потрогал перо у себя в волосах и прошептал:
– Агира, Агира, правда ли это? – Но он уже понимал, что это правда. Глубоко в груди, где кричала от боли его анима, он сознавал свое родство с Катариной-скраером и человеком по имени Мэллори Рингесс. Данло снова посмотрел на фото, словно заглядывая через ледяное окно в темные бурлящие воды памяти. На фото в переливчатых красках запечатлелись образы шестерых человек. Данло видел только их: картины, звуки и запахи окружающего мира отошли куда-то, как далекий мираж. Пока он вглядывался и вспоминал, в павильон вошли несколько кадетов-эсхатологов вместе с мастерами. Данло не обращал внимания ни на них, ни на звон полуденных колоколов, ни на торопливые объявления, передаваемые из уст в уста, ни на резкий белый свет, бьющий в глаза. Он помнил, что мозг – это тонкая ткань, сеть шелковых синапсов, способная фильтровать шум, сосредоточиваясь на более важной информации. Он распознал на фото огромного бородатого Бардо, и его удивило и позабавило то, что Бардо, оказывается, знал его отца. Двух женщин, как он узнал теперь, звали Жюстина Рингесс и дама Мойра Рингесс – у них обеих, тетки и матери Рингесса, были радостные и умные лица. Третья была Катарина-скраер – по всей вероятности, его родная мать. Данло испытывал боль, глядя на ее прекрасный образ. У нее не было глаз, потому что она лишила себя их еще в юности, чтобы стать скраером и видеть будущее. Вся она состояла из контрастов и парадоксов: блестящие черные волосы, белая кожа, черные таинственные глазные ямы под белым лбом, страстное и в то же время спокойное выражение губ. Данло, естественно, не мог помнить лица своей матери, но понимал теперь, отчего он, как ему рассказывали, родился смеясь. Катарина-скраер могла смеяться, даже испытывая боль или предчувствуя свою гибель. Он в самом деле ее сын – это так же верно, как то, что день – дитя ночи, и унаследовал от нее самое чудесное из ее душевных качеств.
– Ми пела лот-мадда, – прошептал Данло. – О благословенная матерь моя, шанти. – Потом он повернулся к Хануману, постучал пальцем по фото и спросил: – А это что за человек? Ты его знаешь?
Хануман, который, вытянув руки, сдерживал напирающую толпу, ответил:
– Это Леопольд Соли, отец Рингесса.
В центре фотографии, между Катариной и Мэллори, стоял мужчина, походящий на Рингесса как родной брат. Те же льдистые, глубоко сидящие глаза и длинный нос. То же хищное лицо и печальный взгляд, говорящий о слишком глубоких раздумьях над смыслом жизни – или над его отсутствием.
– Как ты сказал?
Толпа вокруг шумела. Дым от табака и тоалача висел в воздухе вместе с запахом разгоряченных тел и руганью. Кто-то пролил Хануману на ботинки кружку с кофе, и горячая коричневая жидкость сразу прожгла дырки во льду.
– Леопольд Соли, – повторил Хануман. – Он был Главным Пилотом, пока Рингесс его не сместил. Известно, что лорд Соли был отцом Мэллори Рингесса.
Педар, на чьи ботинки тоже попал кофе, спросил:
– Ты что, никогда не слышал о Леопольде Соли?
– Соли… Да, я знал человека, которого так звали.
Фотография стала расплываться перед ним. Красные, белые и черные тона перемешивались, фигуры таяли и сливались в сплошное грязно-бурое пятно.
– Смотрите, фото мутирует, – сказала Ригана. – Интересно, какой будет следующая сцена?
– Теперь Мэллори Рингесс и его семья будут представлены в преобразованном виде, – пояснил Педар. – Сейчас увидите.
Данло пристально наблюдал за превращениями, происходящими под блестящей поверхностью снимка. Почти все другие послушники уже знали историю алалойской экспедиции и знали, как семья Рингесс переделала себя под алалоев, но для Данло возможность переделки цивилизованных людей в первобытных была настоящим открытием. Переваять современного человека в неандертальца непросто, однако все шесть членов экспедиции подверглись подобной переделке с тем, чтобы быть принятыми в племя деваки. Для этого кости следовало укрепить и нарастить, стимулировать рост мускулов, надстроить надбровные дуги, имплантировать новые, более крупные зубы.
После резьбы лицо на черепе располагалось под более скошенным углом. Многие считают, что волосатые, с грубо вылепленными лицами алалои смахивают на обезьян, но Данло всегда восхищался первобытной красотой своих приемных родичей, задолго до того, как ему в мозг ввели слово «первобытный». Катарина, его мать, нравилась ему и в измененном виде.
Из цветового хаоса на фото проступала прекрасная женщина, высокая, безмятежная, в парке из белого шегшея – и больше уже не слепая. Ей вставили новые глаза, светящиеся глубокой синевой – Данло когда-то видел их во сне. Наяву он их увидел, когда впервые посмотрелся в зеркало в ванной дома Старого Отца. «Но глаза у тебя материнские, – сказал ему Трехпалый Соли холодной ночью, полной смерти и отчаяния. – Юйена ойю – глаза, которые смотрят слишком глубоко и видят слишком много».
Данло снова помолился за свою мать, которой не знал, и стал рассматривать других людей на фото.
– Из Мэллори Рингесса получился отменный алалой, да? – сказал он Хануману. – Интересно, как себя чувствуешь, когда наружно становишься алалоем, сохраняя сознание цивилизованного человека.
И Данло задумался, не слушая, как обсуждаются вокруг скандальные обстоятельства его рождения.
– А ведь я его знаю, своего родного отца, – сообщил он Хануману. – Я уже видел его когда-то. Помню, я тогда был маленький и только еще учился завязывать свои унты. Я сидел на нартах Хайдара. Пальцы замерзли, и узел никак не получался, но Хайдар сказал, что пора ехать, и велел мне спрятать руки в тепло, а то они отвалятся. Хайдар и Вемило отвезли меня к морю, на лед, чтобы я встретился там с родным отцом. Наверно, он тогда приехал ко мне – один-единственный раз. Мой отец, Рингесс, – он даже в облике алалоя сохранил свой свирепый вид, да?
– Так ты правда его сын? – Хануман смотрел на Данло с завистью, страхом и преданностью. – Мне следовало догадаться, что ты не простой абитуриент.
Данло почесал нос.
– Если Мэллори Рингесс – сын Леопольда Соли, тогда Соли – мой дед. Ми ур-падца. – Он обвел ногтем изображение человека, которого знал всю свою жизнь. Свирепый, изнуренный, слишком много думающий – Трехпалый Соли.
Когда фотография мутировала, Леолольд Соли в своей черной пилотской форме превратился в этого странного алалоя, который сделал Данло обрезание и посвятил его в мужчины той ушедшей в прошлое ночью глубокой зимы. Выходит, не все члены экспедиции покинули Данло. Трехпалый Соли, как видно, остался у алалоев, чтобы сберечь его и благополучно провести через все опасности детского возраста.
В том, что Педар правильно разгадал тайну Данло, сомнений почти не осталось. Мальчик то и дело произносил алалойские слова, а его сходство с Рингессом (и Соли) было видно всем.
– Ну что, дикий мальчик? – Педар взял у Данло фотографию и помахал ею над головой. Послушники шумели, толкались и вытягивали шеи, чтобы лучше видеть. – Ты сын Мэллори Рингесса, верно?
Множество рук в белых перчатках тянулось к фотографии, и Данло отступил назад.
– Да, – сказал он наконец, – я его сын.
Педар сковырнул прыщ на шее, испачкав перчатку, и торжествующе улыбнулся.
– И не стыдно тебе стоять тут? Не стыдно смотреть на своих товарищей?
– Почему мне должно быть стыдно?
– Так-таки и не знаешь, почему?
– Нет.
Педар с жестокой, насмешливой интонацией обратился к послушникам:
– Ну-ка, кто скажет дикому мальчику, почему ему должно быть стыдно? – Все внезапно примолкли, и Педар снова повернулся к Данло. – Ну что ж, ладно – я сам скажу. Ты знаешь, что Катарина-скраер была сестрой Мэллори?
– Нет!
Педар с ехидной улыбкой наставил на Данло палец.
– Твоя мать была сестрой Мэллори Рингесса, и он с ней спал – он всегда ставил себя выше морали и закона, так о нем говорят.
Ригана Брандрет Таль подала голос из толпы, возмущенная не былыми грехами родителей Данло, а поведением Педара:
– Как ты груб.
– А родную сестру трахать – это не грубо? – Педар отдал фотографию Арпиару, сложил большой и указательный пальцы в кружок и стал тыкать в него пальцем другой руки, что во всем заселяющем вселенную человечестве обозначает совокупление. – Грубее не придумаешь, правда, дикий мальчик?
Данло понимал, что лучше всего было бы молчать, спокойно перенося все издевки и оскорбления Педара, но колени у него подкашивались, губы тряслись, и он не мог оставаться на месте.
Шайда тот мужчина, который ложится со своей сестрой.
Шайда та женщина, которая…
– Что скажешь, дикий мальчик?
Боль поднялась из живота к горлу и глазам. Теперь Данло понял, почему медленное зло поразило его племя и убило всех его сородичей.
Шайда то дитя, что родилось от шайды.
Ему, как загнанному зверю, хотелось одного: бежать. Он провел рукой по глазам, глотнул воздуха и бросился прочь из павильона, расталкивая послушников. Белизна площади Лави ослепила его, и коньки застучали по льду, высекая белую пыль. Спеша набрать скорость, он врезался в кадета-пилота, но почти не ощутил удара – лишь смутно заметил что-то черное. Кадет замахал руками и упал, но Данло не остановился помочь ему. Он мчался по дорожке, оставляя позади площадь Лави.
Глава IX УМНОЖЕНИЕ НА НОЛЬ
О могучий Арджуна, даже если ты веришь, что твое существо подлежит рождению и смерти, не печалься.
Смерть неизбежна для живых и рождение неизбежно для мертвых. И поелику избежать этого нельзя, то и горевать не следует. Каждое существо поначалу не знает себя, а потом узнает. Когда же ему приходит конец, он снова перестает себя знать. О чем же здесь горевать?
Речь Кришны перед битвой при Курукшетре, «Бхагавад-Гита»Данло без всякой цели мчался мимо зданий Борхи. У подножия Холма Скорби, где ровная территория Академии сменялась обледеневшими горными склонами, он увидел известную своей красотой рощу ши, где росло сто двенадцать деревьев, привезенных с Утрадеса. Данло сел на каменную скамью между стволами.
Он играл на шакухачи и высматривал в синем небе Агиру.
Я тот, кому не следовало рождаться на свет, думал он.
Вскоре он услышал скрип коньков на единственной дорожке, пересекающей рощу, и увидел едущего к нему Ханумана.
– Я не мог не пойти за тобой, – выдохнул тот, – но ты бежал слишком быстро. Я уж думал, что потерял тебя, но потом услышал твою флейту. Ее хорошо слышно сквозь деревья.
– Да, я знаю. Правда это… то, что сказал Педар? Катарина и Мэллори Рингесс в самом деле брат и сестра?
Хануман уперся в скамью носком ботинка. От ветра и бега его обычно белое лицо стало пунцовым.
– Да. Об этом все знают.
– Значит, я выродок.
– О Данло.
– Мне не следовало рождаться на свет. – Данло смотрел на деревья ши, поистине уникальные и прекрасные. В отличие от конической симметрии осколочников или деревьев йау их кроны ветвились без определенного порядка, дробясь на тысячи мелких отростков, и на каждой веточке трепетали и переливались серебром тянущиеся к солнцу листья. – Как он мог? Как мог Рингесс спать с собственной сестрой?
– Не знаю, – пожал плечами Хануман.
– Шайда и еще раз шайда. – «Шайда тот мужчина, который трогает свою сестру под шкурами ночью», – вспомнилось Данло.
– Данло, ты…
– Нет! – Данло вскочил и выкрикнул три страшных слова, ударяя себя флейтой по бедру им в такт: – Я… тоже… шайда!
– Данло, нельзя так…
– Нет, нет, нет, нет!
Позабыв об ахимсе, Данло сорвал с ветки над скамьей лист и стиснул его в кулаке. Серебристый сок, теплый как кровь, смочил ему пальцы. Данло стало больно оттого, что жизненная сила дерева пропала впустую, и он зажмурился, оплакивая погибший лист.
– Данло, Данло… – Голос Ханумана, сдавленный от избытка эмоций, затих. Данло почувствовал его холодные пальцы и открыл глаза. Хануман быстро отдернул руку, смущенный своим жестом. Он впервые делал что-то подобное с пяти лет, когда мать сказала ему, что он уже большой и не должен никого трогать руками. Они с Данло обменялись безмолвным понимающим взглядом. Слышен был только шум ветра в кронах ши.
Помолчав, Хануман процитировал слова из «Пути человека»:
– «Я люблю тех, кто подобно каплям дождя падают один за другим из темной тучи, нависающей над людьми; ценой своих страданий и гибели они предвещают молнию».
– Я предвещаю смерть, – сказал Данло.
– Почему ты так говоришь?
– Я шайда, и поэтому деваки постигла шайда-смерть. – Данло снова сел, чувствуя холод камня даже через теплые штаны. Он открыл Хануману тайну, которую никому не хотел выдавать: тайну гибели всего племени деваки от загадочной шайда-болезни.
– Твой народ мог убить просто какой-нибудь вирус, – сказал Хануман. – И создал этот вирус не ты.
– Да, но мое пребывание в племени ослабило деваки. И отравило их души шайдой.
– Глупости. Ты не должен так думать.
– Правда есть правда.
Хануман испустил протяжный вздох.
– Мне не нравится, когда ты такой.
– Прости.
– Я сожалею об участи твоего народа – но у тебя своя жизнь и своя мечта. Своя судьба.
Данло внезапно опустился на колени и голым пальцем, почерневшим и потрескавшимся от тяжелой работы, к которой принуждал его Педар, стал чертить круги на снегу.
– Как я теперь смогу стать асарией? Видя трепет жизни, как я смогу сказать ей «да», если не могу сказать «да» собственному существованию?
– Данло, ты…
– Я был дураком, когда возомнил, что могу стать асарией.
– Если ты и дурак, то не простой дурак. Пожалуй, ты достаточно глуп, чтобы стать асарией.
– Нет, теперь это невозможно.
– Для таких, как мы, все возможно.
Данло продолжал рисовать. Снежные кристаллики забились ему под ноготь. Было слишком холодно, чтобы доказывать теоремы на снегу. Он оставил свое занятие и поднял глаза на Ханумана.
– По-твоему, мы чем-то отличаемся от других?
– Ты сам знаешь.
– Но, Хану, мы такие же люди, как все.
– Люди людям рознь.
– Они благословенны. Все люди благословенны.
– Но мало кто избран. На протяжении всей истории были люди, которым суждено было стать выше.
– Выше… чего?
– Выше себя. И выше всех остальных.
– Ты, я вижу, природный аристократ, – улыбнулся Данло.
– Как же иначе? Только мы, аристократы духа, знаем, на что способны.
– А как же другие?
– У других все по-другому. Ты не должен слишком много думать о них. Всякое человеческое общество подчиняется иерархии. Жизнь – это живая пирамида, и только естественно, что кому-то приходится стоять на ее вершине.
– То есть на головах у других.
– Не я создал эту вселенную – я только живу в ней.
Данло, стоя на коленях, слушал, как летит ветер с Холма Скорби и покрытых льдом гор над ним.
– Но это трудно – жить, когда чужие ботинки лезут тебе в лицо.
– Да, жизнь жестока. И тот, кто стоит на вершине, тоже должен быть немного жесток. К другим и особенно к самому себе.
– И мы с тобой тоже?
– Да. Ты сам поймешь, когда вдумаешься.
– Но почему, Хану?
– Потому что для таких, как мы с тобой, это единственный путь стать выше. Мы смотрим сверху вниз на тех, кто у нас под ногами. Казалось бы, они так близко – но нас разделяет громадное расстояние. Большинство из них охотно соглашается с нашим пребыванием наверху. Можно даже сказать, что они с удовольствием выдерживают наш вес. Они только и видят, что наши ботинки, и порой им кажется, что им это ненавистно. Но если мы хоть на миг спустимся вниз, на вершину пирамиды тут же влезут они. И вид всех этих людей под ними вызовет у них тошноту, головокружение и даже безумие. Чем больше высота, тем дальше падать. Вот почему они с радостью предоставляют вершину таким, как мы. Вот почему расстояние между нами так огромно: Даже световые дистанции между звездами меньше тех, что разделяют людей, которые любят свою судьбу, и людей, которые ее боятся. Но таких, как мы, эти расстояния не пугают. Они напоминают нам об огромности наших собственных душ. Только ради этого и стоит жить, Данло: ради обострения своей чувствительности, осознания своих желаний, укрупнения своих целей, расширения самих себя. Ради власти над собой, ради того, чтобы быть выше. Вернее, стать выше. Кто не мечтал об этом? И кто способен отделить себя от низших, не проявив некоторой жестокости?
Порыв холодного ветра, пролетев по роще, зашелестел листьями. Данло встал и через их серебристый свод посмотрел вверх. Небо на западе уже не было голубым. Гряда свинцовосерых снеговых туч надвигалась на Город с моря. Илка-тета, подумал он, тучи смерти.
– Я не понимаю тебя, – сказал Данло Хануману, стоящему под гигантским старым деревом. – Ты любишь людей, и они тебя любят, но ты говоришь так, будто они ничего не стоят.
– Люблю, – согласился Хануман. – Как и животных.
– Но люди – не животные!
Хануман засмеялся.
– В известном смысле – а только он и имеет значение – большинство людей просто нули. Взять хоть Педара и его друзей. Шансы на то, чтобы стать чем-то высшим, у них нулевые. Триллионы людей, триллионы Педаров заселяют галактику своими подобиями и считают это своим предназначением. Но это всего лишь умножение на ноль.
– Но, Хану, где бы ты был без людей, создавших тебя?
– Вот именно. Единственное назначение низших – становиться на колени и создавать пирамиду, чтобы высшие могли стать наверху, выше облаков, и выполнить высшую задачу. Ты не должен считать таких, как мы, простой случайностью цивилизации. Мы – это единственная причина цивилизации. Ее надежда и смысл.
– О, Хану!
– Это тяжело, я знаю. Трудно признать, что люди живут не ради себя самих. Потому что существование, которое они ведут, нельзя назвать настоящей жизнью.
Данло, как шегшей, копнул ногой наст.
– Есть такая вешь, как рабство. Мастер Джонат рассказывал мне, что в Летнем Мире раньше были рабы.
– Ты думаешь, это так дурно, когда высшие живут за счет низших? Нет. Это только естественно. И необходимо. Мы должны это признать. Они отдают свою жизнь нам! Они несовершенные, мелкие, больные и сломленные люди, и мы должны принимать их жертву с благодарностью, с состраданием и даже с любовью.
Данло на миг зажмурился и сказал:
– После Дня Повиновения я на себе испытал, что такое рабство.
– Я тоже. Но это нам во благо, а не во вред. Раз в жизни каждый должен побыть рабом.
– Почему?
– Потому что так мы узнаем, что значит чувствовать чужой сапог у себя на спине. Потому что потом, становясь самими собой, мы не чувствуем угрызений совести.
Данло прислонился к стволу ши, постукивая пальцами по обледеневшей коре – это напоминало звук, производимый птичками маули.
– К Педару и его друзьям я теплых чувств не питаю и никогда не буду питать, но они – это мы, а мы – это они. Настоящей разницы нет.
– Ахимса, – покачал головой Хануман. – Благородная идея, которая тебя погубит.
– Как раз наоборот.
Хануман потопал ногами по снегу, чтобы согреться.
– Мы с тобой – тоже животные, но в нас есть кое-что помимо этого.
– Как и в Педаре.
– Не совсем так. Истинная грань эволюции пролегает не между животным и человеком, а между человеком и настоящим человеком.
Горделивые речи Ханумана взволновали Данло (притом он опасался, что в них есть доля правды). Он побрел по роще между стволами ши. Одно здешнее дерево он особенно любил – скрюченное, расщепленное молнией. Оно напоминало ему, что даже в жизни растений присутствует боль. Данло стал кружить около этого дерева. Затвердевший снег поверх корней хрустел под ногами.
– Люди все настоящие.
– Все?
– Все. Даже расы с измененными генами. Даже те, которых считают инопланетянами.
– Нет, Данло. Настоящие люди встречаются редко. Реже, чем ты думаешь.
– Что же такое, по-твоему, настоящий человек?
– Семя, – ответил Хануман, не сходя с прежнего места.
– Семя?
– Желудь, который не боится уничтожить себя, чтобы превратиться в дуб.
– Это значит…
– «Настоящий человек, – процитировал Хануман, – есть смысл вселенной. Это танцующая звезда, это черная дыра, чреватая бесконечными возможностями».
– По-моему, все люди наделены бесконечными возможностями.
– Я люблю тебя за то, что ты в это веришь. Но на самом деле я знал только двух человек, достойных этого названия, да и то с оговорками.
Данло резко повернулся к Хануману. Тот смотрел на него так, словно только они двое во всей вселенной имели какоето значение.
– Но я такой же человек, как и все. Чем это мы с тобой такие особенные?
– Тем, что сознаем свою глубинную цель. Тем, что смотрим слишком глубоко и видим слишком много.
– Но, Хану…
– Тем, как мы чувствуем боль.
«Тем, как мы чувствуем боль». Данло надолго задержал в себе воздух. Затем все вырвалось из него разом: воздух и его фундаментальная неприязнь к элитизму Ханумана. (А главное – страдания относительно собственного происхождения, отделявшего его от всех других людей Цивилизованных Миров.)
– Что ты знаешь о боли? – крикнул он.
– Видимо, я знаю недостаточно много. – Хануман стоял, скрестив руки на груди и весь дрожа, но с улыбкой, злой и в то же время полной глубокого смысла. – Но настоящие люди страдают так, как другим не дано. Этому ничем не поможешь. Чтобы стать выше, надо быть беспощадным к самому себе. Если твой глаз предает тебя, его следует вырвать – понимаешь? Если тебе что-то тяжело и ненавистно, если другие зовут это злом – это надо сделать именно потому, что тебе это ненавистно. Слабые места собственной души надо выжечь каленым железом. Это постоянное насилие над самим собой и есть боль, которой нет конца.
Данло кивнул рассеянно, почти не слушая. Обычно он слушал других с вниманием совы, скрадывающей скребущегося под снегом гладыша, но теперь он стоял, обратив взгляд к небу, и вспоминал.
– Нет конца, – повторил Хануман. – Боль от переламывания себя – это только начало. Только потом к таким, как мы, если мы достаточно сильны и души у нас достаточно глубоки, приходит настоящая боль. В чем она, ты спросишь? Во власти выбирать свое будущее. В вынужденности этого выбора. В этой жуткой свободе. В бесконечных возможностях. Во вкусе к бесконечному, подпорченному возможностью эволюционного краха. Настоящая боль – это знать, что ты умрешь, и в то же время сознавать, что умирать ты не должен.
– Но все живое умирает, Хану, – тихо промолвил Данло.
Он прижался лбом к старому корявому стволу ши. Ледяная корка отпечаталась на его коже.
– Зачем умирать, Данло? Разве не может быть новой фазы эволюции? Нового вида бытия? Как ты не понимаешь! Я пытаюсь обрисовать новое свойство мозга. Новые синапсы. Новые связи. Целое созвездие свойств и способностей, новых уровней существования. Сознание, усовершенствованное, восторгающееся собой, очищенное. Чистое сознание, составляющее нашу суть, к которой мы стремимся. Мы всегда жаждем стать выше. Вечно стремимся к этому. Вот почему настоящие люди чувствуют больше боли – потому что мы сами больше, но нам всегда мало, всегда. И в душе мы сознаем эту свою ненасытность, и сознаем, что сознаем это. Получается обратная связь. Понимаешь ли ты, что это такое? Боль усиливается до бесконечности, каждое мгновение времени. Реальность становится почти чересчур реальной. Она пылает. Вся вселенная охвачена возможностями, обещающими свет – и безумие. Настоящая боль – это горение, которое никогда не прекращается, горячка, молния.
Долгое пребывание на холоде изнурило Данло, и он снова прислонился к дереву. Его пальцы нашли обугленную рану там, где редкая зимняя молния расколола кору. Горячка и молния.
Он помнил ту горячку, сопровождаемую пеной изо рта, которая погубила его народ. Ветер крепчал, неся с собой густые, неподвластные времени запахи гор, запахи жизни и смерти.
Лучшим в роще ши как раз и было разнообразие запахов: дымящийся помет гладышей на снегу, лед, поземка, раздавленные ягоды йау, горячий сок на месте сорванных ветром листьев.
Где-то в горных лесах стая волков, должно быть, убила шегшея – самца или оленуху. От ветра пахло кровью с примесью выпущенных шегшеевых внутренностей. Почти все волки любят полизать перебродившее содержимое желудка шегшея, прежде чем приняться за печень.
– Данло, ты меня слушаешь?
Данло, по правде сказать, почти не слушал. Запустив руку под шапку, он потер щетину на голове. Ему вспомнился один обычай деваки. Мужчина, нечаянно поранив другого, должен пролить собственную кровь, чтобы искупить боль, которую причинил.
– Данло!
Анаслия – так называют деваки эту разделенную боль.
– Данло, пожалуйста. Посмотри на меня.
Но Данло смотрел вниз, ища глазами подходящий камень.
Собственные следы на снегу окружали его кольцом, и земля коегде обнажилась. Он опустился на снег и замерзшими пальцами выковырнул белый камешек и осколок гранита. Быстрым и точным движением он стукнул одним камнем по другому, отколов от гранита острую пластинку величиной с листок ши. Она плохо подходила для того, чтобы резать, но Данло за неимением кремня или обсидиана зажал ее пальцами и приставил ко лбу. Сделанный им разрез протянулся от щетинистой линии волос до брови. Он резал глубоко, до кости, ведя черту наискось через весь лоб. Кровь залила ему брови и закапала в снег.
– Что ты делаешь? – Хануман бросился к Данло и упал на колени рядом с ним. – Что ты наделал?
Данло пытался отвернуться от него. Он раздвинул пальцами края раны, чтобы как можно больше крови излилось в мир.
Много крови потребуется, чтобы искупить смерть Хайдара, Чандры и всех его соплеменников. Он знал, что смертные муки всего племени разделить не сможет – столько крови ни у кого нет. Шайда тот, кто приносит смерть своему народу. Нет, никогда ему не искупить смерть деваки и даже собственную шайда-жизнь – ведь его время умирать еще не пришло. Но он может отдать мертвым свою кровь и свою боль. Его лоб изнутри и снаружи представлял собой целую вселенную боли.
– Данло, Данло! – Хануман прижимал к его лбу пригоршни снега, пытаясь унять кровь. Но крови было слишком много, и она превращала снег в красную слякоть. – О Боже! – повторял Хануман снова и снова. – О Бог мой!
Рана Данло, возможно, напомнила ему о смерти – об убийстве – собственного отца в фамильной читальне, и Хануман обезумел от страха.
– Ох, Данло, Данло! Зачем ты это сделал? – Он расстегнул «молнию» своей парки, вынул из пальцев Данло осколок камня, откромсал им кусок своей шерстяной рубашки и обвязал голову Данло под промокшим от крови ободком шапки.
– Я отдаю кровь мертвым, – объяснил Данло.
– О нет, только не теперь! Пойдем скорее – надо отвести тебя к резчику, пока ты не истек кровью.
– Погоди. – Данло, несмотря на полыхающую боль над глазом и кровь, уже промочившую повязку насквозь, знал, что головные раны часто кажутся серьезнее, чем они есть на самом деле. – Погоди. Твое лицо – твое благословенное лицо.
Удивительно, как выражение чьего-то лица может изменить всю вселенную. Вернее, то, что скрывается за этим выражением. В том, как сморщился красивый лоб Ханумана, в дрожании его чувственных губ было что-то новое – Данло не представлял себе, что когда-нибудь это увидит. Красота этого лица ужасала. Страшный и прекрасный порыв сострадания преобразил его. Деваки переводят слово «сострадание» как «ансалия», что означает буквально «страдать вместе». Как Хануман страдал! Данло не мог выносить зрелища этого лица. В сострадании его друга было что-то больное и надрывающее сердце, что-то извращенное.
Данло поднял голову и заглянул в безбрежную черноту за голубизной неба. Ему вдруг стало страшно – непонятно отчего. Он не смог бы выразить этот страх словами. Но нутром знал, в чем дело: он пробудил в Ханумане извращенное сострадание, в котором куда больше ужасного, чем прекрасного.
– Что ты так смотришь? – Глаза Ханумана, полные слез, колыхались, похожие на два бледных зеркала.
Анашайда, шептало его глубинное «я»: берегись этого извращенного сострадания – оно может изменить обе ваши жизни и даже судьбу всего живого.
– Данло! О Боже, ну почему кровь никак не останавливается? – Хануман снова откромсал кусок рубашки и сменил Данло повязку.
– Прижми ее к голове, – буркнул Данло, встретившись с ним глазами. – Покрепче – тогда остановится.
– Вот так? – Хануман прижал ладонь ко лбу Данло.
– Да, хорошо.
– Все еще идет? – Распахнутая парка Ханумана пропускала ветер, рубашка превратилась в лохмотья, и он весь дрожал. – Бог мой, – пробормотал он, громко стуча зубами, – никогда не видел так много крови.
Выдыхаемый им углекислый газ горячими короткими толчками бил в лицо Данло.
– Все нормально, – сказал Данло. – Спасибо.
Хануман медленно ослабил свой нажим, а потом совсем убрал руку. Взглянув на свою окровавленную, испорченную перчатку, он рубанул кулаком воздух.
– Почему ты не применяешь свою ахимсу по отношению к себе самому? И зачем только Педар показал тебе это дурацкое фото!
– Деваки убил не Педар.
– Конечно, нет.
Данло никогда не думал, что в двух простых словах можно выразить столько презрения.
– Пожалуйста, не вини Педара. Он просто…
– Он ничтожество. Он пытается опозорить тебя, потому что не может вынести собственного позора. Своей слабости, своей низости. Он даже страдания не может выносить по своему слабодушию. Вот и старается взвалить их на тебя.
– И ты его за это ненавидишь.
– Как же иначе? Мы всегда враждуем с такими, как они.
– Но ахимса запрещает…
– Ахимса! – Хануман побелел от ярости. – Для настоящего человека это не закон!
– Но убивать…
– Послушай меня, Данло: «Делай, что считаешь нужным – это и будет закон».
– Чей закон?
– Наш.
– О, Хану!
Держась за лоб, Данло обернулся к западу. Тучи уже скрыли солнце, он попытался вслушаться в то, что говорил Хануман.
– Немногие настоящие люди, появившиеся вследствие эволюции, каждый со своими уникальными способностями… твой родной отец, Мэллори Рингесс… этот онтогенез человека в бога, гений, создающий свое истинное «я»… – Гладкая речь Ханумана почти не проникала сквозь купол окружающих Данло звуков. Где-то в небе чайка звала свою пару, и ее «хра-хра» пугало чирков в их зимних гнездах; на деревьях слышалось хлопанье крыльев и нервное чириканье. Сильный свежий ветер несся с горы над осыпями и ледниками, и листья ши под его напором трепетали, как серебряные, – казалось даже, что они звенят. Данло весь ушел в эти звуки, но голос Ханумана в конце концов победил.
– …истинное «я» и истинную волю осуществлять свою судьбу. – Эти умные слова наполняли Данло страхом и заставляли кровь пульсировать в жилах. Хануман больше всех, кого он знал, был готов принять свое будущее и возлюбить свою судьбу, какой бы ужасной и трагической она ни оказалась.
Ти-миура халла, подумал Данло. Следуй за своей судьбой, повинуйся заложенной в тебе воле к жизни. Но что, если эта воля погубит чью-то другую жизнь?
Они покинули рощу, миновав горный склон и громадные ледяные изваяния Эльфовых Садов. Хануман настаивал на том, чтобы проводить Данло в лазарет колледжа, но Данло не хотелось объяснять, откуда у него взялась рана на лбу, – поэтому оба направились по крайней восточной дорожке Академии прямо к Дому Погибели. Там, в пустой купальне четвертого этажа, Хануман заклеил лоскутья кожи на лбу у Данло, но сделал это не слишком умело: когда рана впоследствии зажила, над левым глазом остался яркий шрам, похожий на зигзаг молнии.
– Спасибо, – сказал Данло по окончании процедуры. – Шанти. – На занятия идти было уже поздно. Данло сел на кровать и заиграл на шакухачи, размышляя над странными событиями этого дня.
– Ты не чувствуешь слабости? – спросил Хануман, доставая сменную форму и перчатки. – Сильно болит?
– Дергает – но в промежутках не болит.
– Принести тебе какое-нибудь обезболивающее?
Данло потряс головой и даже выжал из себя смех. К голове сразу прилила боль.
– Ты куда? – спросил он.
– У меня есть еще пара дел перед ужином.
Тот вечер стал самым странным из тех, которые провел Данло в Доме Погибели. Другие мальчики после игры в хоккей и пятнашки вернулись в спальню. Мадхава ли Шинг и Шерборн с Темной Луны попытались завязать с Данло разговор, но оставили его в покое, увидев зубчатый шрам у него на лбу и почувствовав страсть, которую он вкладывал в игру на флейте.
Когда все спустились на ужин, где присутствовал также Хануман и послушники с трех других этажей, Данло не пошел и остался голодным. Поэтому он не видел, какое напряжение воцарилось в столовой, когда Педар и его друзья заняли места за одним из длинных столов, чтобы поужинать синтетическим мясом, хлебом, фруктами и морозным вином. Он не видел виноватого и покаянного выражения на лице Педара, когда другие, сдвигая бокалы и почтительно понижая голоса, говорили о родителях Данло. Данло сидел, поджав ноги, на своей койке, играл на бамбуковой флейте и даже не подозревал о том, что план Педара унизить его потерпел крах. Между тем послушники, а также многие кадеты и мастера прониклись огромным интересом к побочному сыну бога. Данло играл, сидя один в пустой и холодной спальне, и с каждым своим вздохом, уходящим в костяной мундштук флейты, он чувствовал внутри пустоту, бурю сомнений и предчувствие недоброго. Ему следовало бы обратить на эти чувства больше внимания. Он, как-никак, был сыном Катарины-скраера и унаследовал долю материнской чуткости к будущему. Ему следовало бы понять, что хаотические темные образы, клубящиеся в нем, скоро воплотятся в жизнь. (Не иначе как Агира вложила их в третий глаз позади его лба.) Но он продолжал играть, закрыв глаза, и в бездонных звуках флейты слышались страх и отчуждение, относившиеся только к прошлому.
Прозвонили вечерние колокола, и послушники, вымывшись и побрившись, улеглись спать. Сон Данло был чуток. Его мучили кошмары, и он ворочался в простынях, бесконечно погружаясь в раскаленное, кроваво-красное море бредовых видений. Казалось, что он никогда не проснется. Потом раздался вопль: «Прочь, прочь!» Данло, затерянному в пучине сновидений, показалось, что это кричит он сам. Он передернулся всем телом и очнулся, потный и дрожащий. Кругом царил полный мрак, и тишина в спальне была глубокой и холодной, как лед.
Но это длилось только мгновение.
– Зажгите свет! – завопил кто-то, и свет зажегся. Хануман, моргая, сидел на своей койке. Теперь уже все проснулись, и все смотрели на темный лестничный колодец посередине комнаты.
Снизу слышались приглушенные крики.
– Похоже, он упал! – донеслось со второго этажа. Голоса звучали все громче, и паника катилась с этажа на этаж. – Да он мертвый, посмотрите, сколько крови! Он упал с лестницы! Насмерть разбился! – Данло первый вскочил с постели и побежал вниз. Сонные Хануман и Мадхава последовали за ним. Послушники со всех этажей, точно по сигналу, спешили вниз, чтобы узнать, кто на этот раз свалился со знаменитой лестницы Дома Погибели.
– Пошлите за резчиком! – кричал кто-то.
– Нет, за криологом. Надо заморозить тело – может быть, криологи его оживят.
– Поздно, – отвечал другой голос. – Его уже не вернешь – вы же видите, ему все мозги вышибло!
Данло, опустившись вниз и протолкавшись сквозь толпу старших послушников, увидел невероятное зрелище. На середине вестибюля первого этажа, скорчившись на каменных плитах, лежал Педар Сади Санат. С лестницы он, видимо, свалился вниз головой. Его лицо разбилось всмятку, череп раскололся о нижние ступени. Данло не узнал бы его, если бы не прыщи на сломанной шее. Стоя над телом Педара, он задрал голову. Лестница вилась вверх серой каменной лентой, и чуть ли не на каждой ступеньке толпились любопытные. Их бритые головы при свете огненных шаров отливали красным и зеленым, образуя радужную спираль из шестидесяти черепов. От множества полных ужаса лиц у Данло закружилась голова.
– Как он мог упасть? Он всегда был так осторожен! – говорил Рафаэль Ву, которому Данло, обороняясь, в свое время сломал пальцы. Он стоял тут же рядом, как и Арпиар Погосян – этот, зевая, потирал свою толстую шею, и оба смотрели на Данло. – Это ты его толкнул, дикий мальчик?
Данло прижал кулак к голому животу. Входная дверь хлопала, пропуская холод. В отличие от других, облаченных в длинные ночные рубашки, Данло всегда спал голый.
– Никогда не убивай никого и не причиняй никому вреда, – прошептал он, – даже в мыслях.
– Что ты там бормочешь? – осведомился Рафаэль. Арпиар отодвинул его сторону, чтобы лучше видеть Данло.
– Не думаю, что его столкнул дикий мальчик. Я не спал, когда Педар поднялся на четвертый этаж. И слышал, как он кричал – а вы разве нет? Что-то вроде: «Чудовища, все в крови, прочь, прочь!» Кто-нибудь еще слышал, как Педар кричал про чудовищ?
Оказалось, что это слышали не менее четырех мальчиков.
Все заговорили разом, перекликаясь с этажа на этаж.
– Он, наверное, поскользнулся.
– С чего бы ему поскальзываться?
– Если бы тебе среди ночи привиделись окровавленные чудовища, ты бы тоже поскользнулся.
– Какая разница? Ему не полагалось быть не лестнице после тушения огней.
– Правильно!
– Это он к Данло шел.
– Так ему и надо.
– Тише. А если бы это ты сверзился?
Арпиар печально пожал плечами и сказал Рафаэлю:
– Я сто раз ему говорил, чтобы он очистил себя от этого юка.
Пока Арпиар с Рафаэлем обсуждали галлюциногенные свойства юка и других наркотиков, которые Педар употреблял, Хануман с белым, как лед, лицом пробился к Данло.
Он принес ночную рубашку, которую Данло тут же надел и застегнул. Все стояли, поглядывая на Педара (или стараясь вовсе не смотреть), дотрагиваться до него никому не хотелось.
Никогда не убивай, думал Данло. Лучше умереть, чем убить самому.
Он боялся, что Хануману станет дурно от такого количества крови, но у того на лице не отражалось никаких эмоций, и невозможно было понять, о чем он думает.
Тут входная дверь распахнулась, и вошел Бардо вместе с послушником, которого послали уведомить его о происшествии с Педаром. Его мутные глаза налились кровью, шуба была вся в снегу. Всем своим видом он выражал нетерпение, как будто его оторвали от секса или от сна. Массивной рукой в черной перчатке он потер сперва глаза, потом бугристый лоб и наконец смахнул талую воду с пурпурного носа.
– Надо же, один из моих мальчиков погиб! Вот горе-то.
Бардо шагал через вестибюль медленно и мерно. Высоко на стенах, на полпути между полом и сводчатым потолком, светились холодным пламенем огненные шары, освещая картины с воображаемыми пейзажами Старой Земли, а также видами Арсита и Ледопада. Между картинами, примерно через каждые десять футов, стояли постаменты розового дерева с бюстами знаменитых пилотов и академиков, живших во время своего послушничества в Доме Погибели.
– Традиция требует, – пробасил Бардо, – чтобы я провел расследование по делу смерти этого бедного мальчика. Кто может рассказать мне, как он упал?
Он быстро – очень быстро, учитывая серьезность момента – допросил Данло, Ханумана, Арпиара и других. Некоторое время он расхаживал по вестибюлю, а затем опустился на колени рядом с Педаром. Он поднял голову вверх, засекая углы и расстояния своими быстрыми карими глазами, осмотрел забрызганные мозгом и кровью ступени и плиты. Голова и торс Педара плавали в луже крови. Один нервный мальчик, Тимин Ванг, в первые минуты вызванной падением суматохи вступил ногой в кровь и разнес ее по всему вестибюлю. Маленькие кровавые следы вели в купальню первого этажа, где Тимин наконец-то отмылся. Бардо выслушал его показания, а также показания Мадхавы ли Шинга, подтвердившего, что Данло с Хануманом в момент падения лежали в своих кроватях. После этого он вынес немедленное, официальное (и совершенно неверное) заключение относительно смерти Педара. Из него вытекало, что где-то после ужина, в 64-й день глубокой зимы 2947 года, Педар решил извиниться перед Данло за все несправедливые поступки, которые по отношению к нему совершал. К этому удивительному решению он пришел будто бы потому, что понял: Данло, несмотря на все его, Педара, старания задеть его и опорочить, не утратил своей популярности и в будущем обещает стать выдающимся человеком. Стойкость Данло и его верность ахимсе изменили Педара. Данло, следуя фравашийской традиции, всегда стремился отыскивать лучшие стороны во всех, с кем общался, даже если речь шла о врагах. Педар, узнав Данло получше, стал и себя видеть таким, каким мог бы быть: талантливым, ищущим правды, а не мести, умеющим признать свое поражение. Поэтому он решил принести Данло публичные извинения. Когда все улеглись спать, он, как это было у него заведено, отправился наверх, чтобы разбудить Данло. (Не мог же он вот так сразу избавиться от своих жестоких замашек. Арпиар сказал Бардо, что Педар хотел напугать Данло в последний раз, внезапно подняв его с постели – для того лишь, чтобы потом предложить ему свои извинения, а после и дружбу. Потому-то он и отправился наверх тайно и ночью, как слеллер.) Где-то наверху, гораздо выше третьего этажа, Педару привиделись его «кровавые чудовища», и он, очевидно, оступился и упал.
– Это большое горе, – провозгласил Бардо. – В смерти Педара есть доля горькой иронии, но никто не повинен в ней, кроме него самого.
– Шанти, – прошептал Данло. – Ми алашария ля шанти.
Хануман по-прежнему не сводил глаз с Педара, и в его светлых глазах не было ни обвинения, ни жалости – ничего, кроме смерти.
– По-моему, он даже себя самого ненавидел, – тихо сказал он. – Теперь ему хотя бы себя терпеть не придется.
Бардо вздохнул и подошел к Данло, нагнувшись так, чтобы тот лучше слышал.
– Нам с тобой надо поговорить, Данло ви Соли Рингесс. Может быть, завтра или послезавтра. – Потом он еще раз посмотрел на лестницу Дома Погибели и промолвил: – Ох, горе.
Двое кадетов-резчиков пришли с салазками и забрали тело Педара. Арпиар Погосян и его друзья принесли ведра и тряпки, чтобы отмыть с пола кровь – эту работу они не могли поручить первогодкам. Бардо напомнил послушникам, что на следующий вечер в Святыне состоится заупокойная служба, и отправил всех спать.
Данло в ту ночь больше уже не уснул. Лежа под мягкими, как снег, простыней и одеялом, в черной давящей тишине спальни, он повторял про себя слова мастера Бардо: «Никто не повинен в его смерти, кроме него самого». Но Данло думал по-другому. Ему казалось, что он один из всех послушников, резчиков и мастеров знает истинную причину гибели Педара.
Шайда – путь человека, убивающего других людей.
Однажды, в такую же злую ночь, дожидаясь, когда на лестнице послышатся шаги Педара, он представил себе, как Педар оступается и падает – падает, будто камень в черный ледяной океан. Он пожелал ему смерти. Между тем издавна известно, что песнь, звучащая в сердце, всегда отзывается во внешнем мире. Один-единственный раз он нарушил ахимсу, мысленно пожелав Педару зла, – и вот теперь тот мертв.
Шайда – крик человека, потерявшего душу.
Данло долго плакал в темноте, радуясь, что Хануман спит и не видит, как содрогается от рыданий его одеяло. Хануман спит и неспособен разделить с ним боль. Но долгое время спустя, уже перед рассветом, Хануман тоже стал плакать во сне и бормотать:
– Нет, отец, нет, пожалуйста, не надо!
– Хану, Хану. – Данло встал с постели, склонился над потным перекошенным лицом Ханумана и зажал ему рот. – Шанти, успокойся – ты всех перебудишь.
Как видно, смерть Педара и Хануману причиняет страдания. Данло, босой, стоял над ним в пронизанной сквозняком комнате и слушал, как воет ветер, ударяя в клариевые окна.
Их дребезжание почти заглушило приглушенные крики Ханумана. Данло потрогал теплый лоб друга – его собственный из-за раны горел огнем – и понял в глубине души, что заблуждается.
Хануман страдает не из-за Педара, а из-за него, Данло. Анашайда, извращенные любовь и сострадание – вот о чем кричало Данло всего его существо.
– Ш-ш-ш! – прошептал он, прижимая ладонь к губам Ханумана. – Шанти, брат мой, усни.
Глава X БИБЛИОТЕКА
Что такое язык, если не зеркало реального мира, позволяющее нам снабжать определениями, обсуждать и понимать события, элементы и связи этого мира? И если рассматривать математику как усовершенствованный вариант естественных языков, как кристаллизацию языковых метафор, концепций и связей в систему символов большой логической тонкости – то что такое математика, как не постоянное полирование этого зеркала?
Мне хотелось бы остановиться на этом полировальном процессе и на его цели. Я придерживаюсь мнения, что мы должны вникнуть во все тонкости языка, постигнуть глубочайшие законы его логики и стать истинными мастерами Слова. Изучив все связи, существующие между вещами, мы сможем превратить языковые метафоры в бесчисленное количество новых связей и форм. Только тогда мы получив возможность создать новую математику.
Только тогда мы сможем сделать наше словесное зеркало безупречным и таким образом сконструировать поистине универсальную, вселенскую грамматику.
Из дневника Омара НарайямыСогласно канонам Ордена, Педара Сади Саната должны были похоронить в ледовой могиле вместе с другими почившими послушниками на главном кладбище Борхи. Но у Педара имелись родственники в трущобах Квартала Пришельцев, и все они – родители, дядья, тетки и кузены – были хариджанами. Они забрали тело Педара, чтобы подвергнуть его сожжению, сопроводив это одной из своих тайных варварских церемоний. Кроме того, они подали официальное прошение с требованием более тщательного расследования обстоятельств смерти Педара. Как хариджаны, они, разумеется, не имели права ничего требовать, однако обладали реальной силой, с которой считались во всей вселенной. Они могли взбунтоваться и причинить увечья самим себе, сочтя, что с ними поступают несправедливо. Известны были случаи, когда хариджаны в общественных местах наподобие Хофгартенского Круга обливали себя маслом сиху и поджигали. Это делалось с целью вынудить руководителей Ордена дать им какие-то привилегии. Члены этой секты, допускающей подобное изуверство, повсеместно рассматривались как отребье человечества. В Городе они селились ради дешевых наркотиков и легкого доступа в виртуальные компьютерные пространства. Как ни странно, Бардо Справедливый, полагавший, что большинство людей стоит ниже него в социальном, моральном и интеллектуальном отношении, питал к хариджанам необъяснимую симпатию. Горе горькое, как выразился бы сам Бардо. Хариджаны в своей петиции обвиняли его в пренебрежении своими обязанностями, и ему пришлось оправдываться за свои действия (или отсутствие таковых) перед Коллегией Главных Специалистов. Поэтому в дни, последовавшие за трагедией в Доме Погибели, он был слишком занят, чтобы увидеться с Данло.
– Я уже пять раз был в Святыне, – пожаловался Данло как-то перед сном Хануману. – Мастера Бардо никогда нет на месте. Как же я узнаю правду о своих родителях, если его нет?
– Ты сын человека, ставшего богом. – Хануман сидел на своей койке, расставив на доске шахматные фигуры, и играл сам с собой, против себя самого. Казалось, что игра поглощает его целиком. После смерти Педара он держался рассеянно, но сила его духа на свой потаенный, страдальческий лад проявлялась еще ярче. – Твой отец Мэллори Рингесс – что еще тебе нужно знать?
Данло склонил голову, вспоминая, как хоронил своих соплеменников в снегу над пещерой деваки, и ответил:
– Все.
– Ты имеешь в виду свой народ? Деваки?
– Да.
– Ты не должен винить своего отца за то, что случилось с ними.
– Я… не хочу его винить.
– И себя ты не должен винить за то, что случилось с Педаром.
Данло вскинул голову.
– Уж слишком хорошо ты меня знаешь.
– Упасть было его судьбой. Это просто несчастный случай.
– Хариджаны в это не верят.
– Верить или не верить – их дело.
– Насколько я слышал, кое-кто из главных тоже не верит в несчастный случай.
Хануман взял солонку, заменяющую недостающего белого бога, и переставил ее на один квадрат. Он вел себя небрежно, почти беззаботно.
– Это верно. Лорды Юрасек и Цицерон требуют акашикского дознания.
– Акашики со своими компьютерами способны заглянуть в чужой ум, да?
– Возможно.
– Тогда лорд Цицерон может распорядиться, чтобы и нас с тобой допросили. Чтобы проверить, не знаем ли мы, отчего умер Педар.
– Об этом не беспокойся. Бардо пообещал, что ни одному послушнику не позволит предстать перед судом акашиков.
– Я, кажется, знаю, отчего Педар умер. – Данло посмотрел на Ханумана долгим взглядом и снова потупился, потирая лоб над глазами.
Хануман закончил свою партию и перевернул солонку на бок в знак поражения. Она стукнула о деревянную доску, и кристаллики соли высыпались на черно-белые клетки. Глядя на них, Хануман спросил тихо:
– И отчего же?
Тихо, чтобы не взбудоражить других послушников, Данло прерывистыми, отягощенными памятью и стыдом словами рассказал, как нарушил ахимсу и пожелал Педару смерти. Закончив, он взял солонку и ее тяжелым днищем стал толочь кристаллики в белую пыль.
– Ты не должен раскаиваться в том, что пожелал или подумал, – сказал Хануман. – Мысли человека принадлежат ему и только ему. – И он стал говорить, что в Городе мысленных преступлений не признают – если ты, конечно, не принадлежишь к одной из кибернетических церквей. – Надо тебе знать, что в очистительных церемониях нашей церкви используются акашикские компьютеры. Для того чтобы проникнуть в мысли и даже в самые потаенные части души. Но всегда найдутся способы их одурачить.
– Какие… способы?
– Они есть. – Глаза Ханумана стали тусклыми, как соляная пыль на доске. – Говорят, что цефики способны контролировать любой компьютер. С помощью высшей йоги, которой обучают своих студентов.
– Но мы-то цефиками никогда не станем.
– Кем бы мы ни стали, тебе нет нужды беспокоиться из-за акашикского следствия.
Данло, продолжая толочь соль, кивнул, но промолчал.
– Это Бардо должен беспокоиться, а не мы. Это глупо, но некоторые лорды обвиняют его в смерти Педара. И хариджаны тоже.
– Но почему?
– Потому что он позволил старосте назначить тебя в услужение к Педару. Потому что позволил вражде между вами зайти слишком далеко. Ну и потому, конечно, что Педар каждую ночь лазал по лестнице в нашу комнату, а Бардо не принял никаких мер.
– Мне жаль, что я доставил Бардо столько неприятностей.
– Брось. Он сам вечно навлекает на себя неприятности. И всегда выпутывается – выпутается и теперь.
– А вдруг Коллегия Главных отправит его в отставку? И сделает Мастером Наставником кого-то другого?
– А вдруг одна из звезд близ Города завтра взорвется, станет сверхновой, и мы все умрем? С тем же успехом можно беспокоиться, как бы хариджаны не наняли убийц, чтобы отомстить за смерть Педара.
Данло быстро вскинул глаза.
– Тебя это беспокоит, Хану?
Хануман помолчал, не отрывая глаз от доски, и ответил с натянутым смехом:
– Ты тоже слишком хорошо меня знаешь.
– Но разве хариджаны пользуются услугами наемных убийц?
– Говорят, сто лет назад они убили так Главного Библиотекаря, когда он запретил им пользоваться библиотеками Ордена.
– Я слышал, что это Хранитель Времени приказал убить лорда Хинду, а потом свалил вину на хариджан.
– Возможно.
– Даже если бы хариджаны захотели заказать чье-то убийство, то не смогли бы. Они бедны, и денег у них нет.
– Возможно. – Хануман, вытянув губы, сдул соль с шахматной доски и своими маленькими ловкими руками стал расставлять фигуры для новой партии. – По правде сказать, я не верю, что хариджаны способны заказать убийство Бардо или еще кого-нибудь. Не хочешь ли сыграть, пока не погасили свет, – или ты всю ночь теперь будешь думать об этих несчастных хариджанах? Родственники Педара уж точно не пожертвуют своим сном, думая о нас с тобой.
Однако в то самое время, когда Данло с Хануманом играли в шахматы на четвертом этаже Дома Погибели – и за много дней до этого, – родные Педара Сади Саната держали в памяти их имена. Данло ви Соли Рингесс и Хануман ли Тош многократно упоминались в жалких жилищах Квартала Пришельцев – даже теми хариджанами, которых смерть Педара близко не затрагивала. Люди всегда охотно обсуждают чужие несчастья, и потому имена Данло и Ханумана дошли до червячников и охотников за информацией, обычно почти не имеющих дел с хариджанской сектой. Хариджаны не могли предвидеть последствий своей болтовни, но именно она привела к ужасному происшествию (и к ужасному открытию Данло), которое случилось десять дней спустя в главной библиотеке Академии.
Для Данло посещение библиотеки в тот день, 81-го числа глубокой зимы, было не совсем обычным событием. Вернее, необычной была причина этого посещения. После того, что сказал ему Педар на площади Лави, Данло захотелось узнать побольше о галактических богах и, в частности, разобраться, что же такое онтогенез его отца в бога: халла или шайда. Хануманом, сопровождавшим Данло, руководили, возможно, не менее глубокие причины, но он не выдавал своей истинной цели и не говорил, какую информацию собирается искать. Как и в другие дни, они подъехали на коньках к библиотеке, стоящей между Борхой и темными, тесно поставленными корпусами высшего колледжа Лара-Сиг. Сама библиотека была еще темнее. Она возвышалась, как скала из черно-серого базальта; к восточному входу сбегались красные дорожки со всех концов Академии. Здание было пятиэтажным, но только на верхнем этаже западного крыла имелись окна. Этот черный монолит был рассчитан на то, чтобы сделать человека маленьким, сбить с него спесь и напомнить ему, что его хваленый интеллект – ничто перед мудростью, накопленной за много веков. Послушники, кадеты и мастера, проходя под массивным порталом библиотеки, заново проникались сознанием, что их долг – служить великому храму Знания и, если хватит ума, добавить к его стенкам кирпичик-другой. Входные двери – две прямоугольные, безупречно сбалансированные базальтовые глыбы – почти всегда стояли открытыми, но библиотека тем не менее оставалась заветным местом, и с легким сердцем сюда никто не входил. Восемьдесят одна ступень вела от главной ледяной аллеи к входу. Лестница тоже была базальтовой, и влага делала ее весьма скользкой. Нижние ступени испокон веков были расписаны волнистыми параллельными линиями, кругами, пиктограммами, пересекающимися треугольниками Соломоновой Печати и другими символами. Врезанные в камень канавки обеспечивали хорошую опору для мокрых подметок, однако были оставлены здесь не для удобства академиков. Эти знаки по большей части принадлежали хариджанам. Они испещряли весь Невернес и все города Цивилизованных Миров – их оставляли на библиотеках, ресторанах, больницах, мастерских и даже на жилых домах. Их были сотни, и любой странствующий хариджан мог получить из них информацию о свободном доступе к мозговым машинам, о местах, где можно поесть, выпить кофе и поговорить о неблагоприятных законах и правилах, о наркотиках и в обмен на услуги и так далее. Тот, кто владел этим алфавитом, мог бы расшифровать на библиотечной лестнице историю отношений Ордена с хариджанами.
Старейшие знаки на нижних ступенях, просуществовавшие три тысячи лет, почти совсем стерлись под действием снега, льда и многочисленных ног. «Свободный доступ к информации!» – как правило, гласили они. По мере восхождения знаки становились все более отчетливыми и все менее оптимистическими. Срединные надписи, относившиеся к периоду Войны Наемных Убийц, предупреждали, что доступ к информационным бассейнам сильно ограничен, а порой и вовсе воспрещен не входящим в Орден лицам. Наиболее свежие надписи оповещали с недвусмысленной ясностью: «Посторонним доступа нет!»
На верхней площадке у входа, между двумя колоннами фронтона, стояли семеро библиотекарей в синей форме. Данло и Хануман поклонились им. Одна из них, на редкость некрасивая женщина по имени Лилит Волу, остановила их перед входом.
Данло знал ее, как и других кадетов-библиотекарей, по своим прежним посещениям. Лилит вперила в них свои косые глаза цвета охры, едва не вылезающие из орбит, подобно каменной горгулье знаменитого жакарандийского храма.
– Назовите, пожалуйста, свои имена. – Голос у Лилит был утробный, как у самки шелкобрюха в брачную пору. Она происходила из какого-то мира близ Примулы Люс. Данло с трудом верилось, что тамошние расы конструируют подобные типы лиц сознательно, повинуясь какому-то уже забытому религиозному кодексу.
– Да ведь ты же меня знаешь, Лилит!
Данло со своей исключительной памятью считал естественным, что и Лилит запомнила его после их единственной встречи сто восемьдесят дней назад. С тех пор он ее не видел – в последующие разы эти ненавистные ему формальности выполняли другие кадеты. Лилит его действительно помнила, но только потому, что прошла мнемонический тренинг, обязывающий ее знать в лицо всех послушников Академии.
– Пожалуйста, назовите свои имена, – резко и отрывисто повторила она.
На лестнице позади Данло и Ханумана уже образовалась очередь: нетерпеливый мастер-горолог с красным лицом и в красном платье, хайкист с растерянным видом человека, слишком долго пробывшего в виртуальном пространстве, и трое старших послушников, только что отыгравших хоккейный матч в Ледовом Куполе. От них пахло чистым соленым потом; они переговаривались, притопывая ногами, дыша паром и поглядывая на Данло с Хануманом.
– Хануман ли Тош.
– Хорошо, проходи, – разрешила Лилит.
– А я Данло по прозвищу Дикий, – улыбнулся ей Данло.
Лилит одернула жакет на своем топорном торсе.
– Твое полное имя – Данло ви Соли Рингесс, не так ли?
Данло стукнул ногой по обледеневшим каннелюрам ближней колонны. Кусочек льда отломился и покатился вниз.
– Да, – сказал он, смущенный тем, что это, очевидно, уже всем известно. – Данло… ви Соли Рингесс.
– Впредь ты всегда должен называться полным именем перед тем, как пройти сюда. Ясно?
– Да.
Серьезность и официальность Лилит забавляли и в то же время раздражали Данло. Он снова улыбнулся ей, поклонился чуть ниже, чем следовало, и прошел вслед за Хануманом в вестибюль библиотеки. Здесь царил полумрак, и воздух в огромном помещении был затхлым. Несмотря на светящиеся шары над центральным фонтаном (а возможно, как раз из-за их бронзовых и кобальтовых бликов), трудно было различить цвета одежд снующих взад-вперед специалистов. Данло путал эсхатологов, тоже носивших синюю форму, с библиотекарями. По-прежнему следуя за Хануманом, он шел мимо древних фолиантов и манускриптов, хранившихся в безвоздушных клариевых саркофагах; они вели к дальней стене, где начиналось западное крыло. Там внутри неглубокой ниши сидели на скамьях трое мастер-библиотекарей. Данло понял, что это именно библиотекари, по их выжидательным взглядам, как будто их единственная задача состояла в оказании помощи младшим послушникам.
Данло снова назвался, на этот раз полным именем, и спросил, можно ли им с Хануманом занять пару ячеек. Один из библиотекарей, тощий и лысый, с лицом наподобие ожившего черепа, велел им подождать и сверился с планом западного крыла на столе в центре ниши. Цветные инкрустированные квадратики представляли пятьсот тридцать две ячейки огромного послушнического отдела, и все они были заняты маленькими белыми фигурками, выточенными из оникса. Библиотекарь задумчиво потер свой блестящий череп, но тут из западного крыла вышел его коллега и убрал со стола две фигурки.
– Номера 212 и 213 освободились, – объявил он.
Первый библиотекарь вернул фигурки на места под номерами 212 и 213, побарабанил пальцами по черепу и спросил Данло:
– Вы оба первогодки? Тогда вам понадобится гид – вы согласны обойтись одним на двоих?
В предыдущие посещения библиотеки Данло никогда не возражал против общего гида, хотя хорошо знал, что Хануман предпочел бы пользоваться его услугами единолично. Хануман, не любивший, чтобы ему помогали, с удовольствием обошелся бы вовсе без гида, но послушникам-первогодкам рекомендовалось приходить в библиотеку по двое, чтобы скудных кадров библиотекарей хватило на всех. Это сравнительно новое правило действовало только с 2934 года, поскольку во время Пилотской Войны сто десять мастер-библиотекарей покинули Орден и перешли в знаменитую библиотеку энциклопедистов на Ксандарии. И теперь один библиотекарь Невернеса обслуживает двух послушников.
– Вы согласны? – повторил библиотекарь.
Данло перехватил взгляд Ханумана, устремленный на трех праздно сидящих библиотекарей. Они явно собирались остаться в резерве на случай, если кому-то из старших послушников понадобится персональный гид.
– Согласны, – ответил наконец Хануман.
– Да, – подтвердил Данло. – Мы и раньше приходили сюда вместе.
– Очень хорошо. Следуйте, пожалуйста, за мной.
И лысый библиотекарь повел их вверх по истертым ступеням, а потом по коридорам, где почти не было света. Самым ярким объектом здесь был череп мастер-библиотекаря, плывущий впереди. В теплом воздухе пало плесенью, сыростью и потными телами, побывавшими здесь за тридцать веков. Миновав множество дверей из темного гниющего дерева, они пришли наконец к той, где висела таблица под номером 212.
– Мы на месте. – Мастер-библиотекарь открыл дверь перед Данло, а затем прошел еще с десяток шагов и впустил Ханумана в ячейку № 213… Сам он прошел в слуховую камеру, расположенную между ними, сказав с порога: – Меня зовут Верен Смит. Желаю обоим успешного путешествия.
Хануман поклонился напоследок мастеру Смиту и с улыбкой взглянул на Данло. Улыбка была странная, нервная, как у ребенка, который собирается войти в запретную для него комнату родительского дома. Кивнув Данло, он вошел и закрыл за собой дверь.
Данло, как уже делал раньше, тоже вошел в полутемную, наполненную паром раздевалку. Закрыв дверь, он исполнил привычный ритуал: снял ботинки, разделся, развесил одежду на деревянных крючках, наполнил ванну горячей водой и вымылся. Комнатушка была такая тесная, что он, раскинув руки, мог дотронуться до двух противоположных стен. Мокрый и потный, он вылез из воды лицом к черному входу в собственную ячейку и потрогал перо Агиры, чтобы придать себе мужества. Коснувшись потом шрама над глазом, он прочел библиотечную мантру:
– Каждый акт познавания влечет за собой целый мир. – К этому он шепотом добавил «шанти» и вступил в ячейку.
Ячейка, еще меньше, чем раздевалка, тут же герметически закрылась за ним. В ней не было ничего, кроме маленького резервуара с водой, окруженного по стенам и потолку пурпурными нейросхемами. Это кристаллическое белковое кружево представляло собой живую мозговую ткань учебного компьютера ячейки. Ячейка и есть компьютер, напомнил себе Данло.
Войти в ячейку на свой лад означает то же самое, что попасть внутрь компьютера или, точнее, втиснуться в артерию его мозга.
Данло вел себя очень осторожно, чтобы случайно не притронуться к нейросхемам – так, как избегает человек прикосновения к чужому глазу. Он вошел в бассейн и принял лежачее положение. Вода, имеющая температуру тела, плотная и тяжелая от растворенных в ней минеральных солей, всяческих сульфатов и карбонатов, придавала телу повышенную плавучесть.
Данло всплыл на поверхность, покачиваясь, как кусок дерева на волнах тропического моря. В комнате тем временем стало совершенно темно. Рябь на воде улеглась, и всякое движение прекратилось. Беспросветный, как в космосе, мрак охватил Данло. Здесь не было ни звуков, ни жары, ни холода, ни прочих ощущений, стимулирующих нервы. Теплая вода, обволакивающая все тело, кроме лица, растворяла чувство тяжести и ощущение себя как отдельного организма, отгороженного от окружающей среды. Данло больше не чувствовал своей кожи и не мог сказать, где кончается он сам и начинается темная соленая вода. Растворение его физического существа в недрах компьютера одновременно успокаивало и глубоко ужасало Данло. Уже двенадцать раз он лежал вот так, с трясущимся под водой животом, и ждал, когда компьютер подаст, информацию на его бездействующие нервы. В момент творения, когда энергия вечности выплеснулась во время, вся вселенная была сжата в единственной точце, бесконечно горячая, бесконечно плотная и чреватая бесконечными возможностями.
В голове у Данло внезапно зажегся свет – вернее, возникло восприятие света, мерцающие золотые, синие и красные образы. Вибрирующие нейросхемы, окружающие Данло, пробудились от прикосновения его мыслей, просканировали химические и электрические реакции его мозга и, пользуясь терминологией акашиков, начали считывать его сознание.
Вслед за этим компьютер задействовал горизонтальные, биполярные и анакриновые клетки в сетчатке Данло, и она начала отражать плывущие из компьютера образы и символы. Следом за ними включились другие клетки и нервные узлы, чьи длинные аксоны формируют ведущий в мозг оптический нерв.
«Я – глаз, которым вселенная смотрит на себя и сознает свою божественность», – вспомнились Данло слова, слышанные от Ханумана. Вспомнил он также, что клетки его сетчатки – самые высокоэффективные и наиболее развитые из всех нервных клеток. Сетчатка в сущности – это продолжение мозга, выходящее через ткани и кость к свету. Сетчатка – это зрячая, познающая часть глаза; без превращения света в безукоризненно выверенные перепады напряжения человек не мог бы видеть.
Существует много версий эволюции вселенной. Большинство эсхатологов Ордена исповедуют сплав антропного принципа старой науки с теологией кибернетических религий. Согласно этой гипотезе, вселенная рассматривается как Бог, эволюционирующая сущность, стремящаяся создать новую информацию и завершить собственную самоорганизацию. Историческое название этого варианта – Социнанова вселенная, вселенная, стремящаяся пробудиться и взглянуть на себя со стороны, чтобы достигнуть совершенства.
Без глаз – без фотоэлементов и сети нервов, которыми они снабжены – нельзя воспринимать свет вселенной. Но Данло знал, что есть и другие виды зрения. Говорят, что пилот способен общаться со своим корабельным компьютером, даже будучи безглазым, как скраер. Плавая в теплой воде и пребывая в кибернетическом пространстве, Данло не мог не задумываться, какие же ужасы ждут его, если он когда-нибудь станет пилотом. Однажды он окажется запечатанным в кабине своего легкого корабля, и это будет очень похоже на погружение в бассейн с соленой водой. Но корабельный компьютер будет подавать образы прямо на его зрительную кору в затылочной части мозга. «Зрение есть акт воли, осуществляемый мозгом», – вспомнил Данло. Каково это – видеть звезды так, как видит пилот, посредством компьютерного информационного потока?
«Придется тебе подождать с этим, пока не станешь пилотом, – сказал ему мастер Джонат несколько дней назад. – Полный контакт между компьютером и мозгом послушнику не под силу, да и опасно это».
Находясь в наиболее постижимом из всех кибернетических пространств – в том, которое цефики называют «пространством ши», – Данло не представлял себе, как может контакт быть еще более полным. Учебный компьютер считывал его хаотические вопросительные мысли и питал его образами, звуками и прочими ощущениями. В этом процессе использовались не только зрительный и слуховой нервы, но и нервы носоглотки, сердца и всего остального организма. Данло видел, как формируются первые галактики из света сотворения; сквозь его кожу струились гамма– и бета-лучи ста миллиардов звезд; моря горячей лавы на Старой Земле вздымались, текли, затвердевали, трескались и таяли снова – и так раз за разом, пока не сформировались плавучие континенты; базальтовая почва колебалась под его босыми ногами, пронизывая вибрацией кости и череп; он ощущал вкус соленой воды и слышал могучий рокот первых океанов, из которых вышли первые живые организмы; он чуял запах жизни, запах хлорофилла и крови, густой и зовущий; он следовал за этим запахом, а жизнь текла и разветвлялась, питая черную почву, заселяя Старую Землю и миллионы других таких же миров; он вникал в эволюцию бактерий и простейших, грибков, растений, животных и других царств жизни. Жизнь всегда стремилась к разнообразию и странности, к новым формам организации. Данло ощущал ее вокруг себя и внутри – она пульсировала, действовала на вкус и осязание, питалась, делилась и размножалась. Он ощущал себя зеленым листом, вдыхающим прохладную, сладкую двуокись углерода и клетка за клеткой растущим навстречу солнцу; флагеллатом, полым клеточным шаром, который, как крошечная планета, вращается в капле воды, и калименой, и морским окунем, и снежным червем в желудке птицы, и человеком; в конце концов бесконечные возможности эволюции переполнили его и бесчисленные ощущения жизни захлестнули с головой.
«Данло ви Соли Рингесс!»
Данло, следящий за делениями и разветвлениями жизни, не сразу осознал, что его кто-то зовет. Постепенно до него дошло, что это голос – или мысли – мастер-библиотекаря в слуховой камере, по ту сторону стены из нейросхем. Мастер Верен Смит контролировал его путешествие по пространству ши (и таким же образом помогал Хануману). Поскольку они с мастером делили одно пространство, Данло мог прочесть немалое количество его мыслей.
«Данло ви Соли Рингесс!»
«Да?»
«Пожалуйста, оторвись ненадолго от сенсорных ощущений. Ты слишком погряз в имитации».
«Вот так? Если я не буду прикладывать волю, чтобы видеть, образы поблекнут и умрут, да?»
«Пользуйся техникой тапас, чтобы сдерживать себя; ты знаешь, как это делается».
Совершив всего двенадцать начальных путешествий в пространство ши, Данло, конечно, не мог овладеть тапасом и другими кибернетическими чувствами. Для того чтобы входить в информационные потоки и ориентироваться в них, нужны особые, разработанные цефиками дисциплины. Ши, «пробующая на вкус» информацию и регулирующая ее уровень, – бесспорно, высшая из них, но есть и другие. К ним относятся ментирование, образное зрение, имитация, синтаксис и темп. Тапас – это действительно скорее техника, чем чувство – заключается в умении контролировать, то есть сдерживать сенсорную имитацию. Послушники-первогодки всегда испытывают трудности с тапасом – вот почему при их первых сеансах должен присутствовать мастер-библиотекарь.
«Не слишком полагайся на имитацию, молодой Данло».
– Но зрение, слух, обоняние… постигать на собственном опыте историю богов, как и любую отрасль знания, куда проще, чем цитировать ее".
«Проще, да, но занимает гораздо больше времени. И истощает мозг».
«Дело не только в простоте. Пока не испытаешь на себе, не узнаешь – я не очень ясно выражаюсь, да? То есть думаю. Я хочу сказать, что имитацию очень важно отличать от настоящей жизни, да?»
Задерживаться слишком долго в моделированной реальности было опасно, но Данло странным образом притягивали воображаемые ландшафты, которые рисовал ему компьютер посредством своих электронов. Воспринимать информационные конструкции как голубые воды, реки горячей лавы и скалистые горы – точно он и правда был птицей, летящей над лесами осколочного дерева, чьи черные ветви и серовато-зеленые иглы казались почти реальными – в этом ужас сочетался с очарованием. По правде сказать, Данло питал к компьютерной имитации недоверие и ненависть. Втайне он больше всего боялся перепутать нереальность с реальностью, чем бы эта «реальность» ни была. Реальность – это правда, так считал он, правда вселенной. По иронии, именно его страсть к правде побуждала его погружаться в искусственные миры и сюрреальности имитации как можно глубже. Он делал это, чтобы испытать себя. Он обнажал свои нервы перед коварной лаской компьютера, потому что страстно желал овладеть самым основным из кибернетических чувств.
Плавая в теплой воде и чувствуя, как холодный ветер компьютерного мира леденит ему лицо, Данло пытался объяснить это мастер-библиотекарю, но у него не слишком хорошо получалось. Электронная телепатия пространства ши плохо передает эмоции – ведь ты не видишь лица своего собеседника и не можешь заглянуть в его истинное «я».
«Ты еще молод, и перед тобой много времени, чтобы научиться симуляции. Теперь тебе нужно воспользоваться своим чувством синтаксиса и читировать нужную тебе историю. Это наиболее эффективный способ для простого информационного поиска».
«Но то, что я ищу, – непросто».
«Что же тебе нужно от сегодняшнего путешествия?»
«Сам не знаю. Должна быть какая-то цель… в эволюции богов. Во всякой эволюции. То, как возникают новые экологии из онтогенеза бога, экологии наподобие… Золотого Кольца, образец и цель».
«Ты мыслишь телеологически, молодой послушник».
«Но мне нужно побольше узнать о богах. Об их эволюции. Мэллори Рингесс, мой отец, он стал богом, да? Мне нужно знать, почему».
Данло знал, что ученые Ордена по-разному смотрят на эволюцию жизни. Многие механики, например, чурались телеологии. Почитатели древней научной философии считали жизнь результатом бесчисленных, случайных химических и квантовых событий, а всю историю – причинно-следственной цепочкой, где микрособытия прошлого обусловливают настоящее и толкают его в неизвестное, неопределенное (и бессмысленное) будущее. Данло, ценивший суровую красоту детерминизма и случая, полагал, однако, что эта философия искажает реальность или скорее суживает взгляд на нее. Такой взгляд не обязательно ложен, но это все равно что рассматривать картину молекула за молекулой с целью постигнуть ее симметрию или замысел художника. Есть другие пути видеть, и телеология – один из них. Для Данло, как для всякого хорошего скраера или холиста, будущее было столь же реально, как настоящее; закрывая глаза или глядя в звездное небо, он чувствовал, как нечто беспредельное и величественное влечет к себе его сердце. А может быть, запускает свои кровавые когти и клюв ему в живот – дикая, атавистическая часть Данло все еще представляла вселенную в виде бесконечно огромной серебристой талло, которая только начинает пробуждаться и пожирать все живое.
«Телеология – это ведь увеличительное стекло, через которое видишь направление истории, да?»
Мастер Смит должен был ответить на этот мысленный вопрос сразу, и Данло удивился, когда ничего не услышал. Но потом он вспомнил, что библиотекарь занимается также и Хануманом, и стал терпеливо ждать, когда мастер Смит вернется в их общее компьютерное пространство.
«Ты спрашивал о телеологии, Данло ви Соли Рингесс? Это верно: ты можешь выбирать среди многих познавательных систем, молодой послушник».
«У фраваши умение видеть знание сквозь разные линзы… разные познавательные системы… умение примерять разные мировоззрения называется ментарностью».
«Почтенные фраваши неправильно употребляют это слово. Они расширили его смысл, чтобы приспособить его к некоторым концепциям своей философии».
«Но ментарность – великолепный способ видения, разве нет?»
«Если быть точным, ментарность – это одно из кибернетических чувств. Ты находишься здесь, молодой послушник, чтобы приобрести эти основополагающие чувства».
«И синтаксис тоже?»
«Ты не сможешь стать пилотом, пока не овладеешь им».
«Но символы, словесный шторм…»
«Тебе трудно зрительно представлять себе идеопласты?»
«Нет, мастер, как раз наоборот. Я представляю их… слишком ярко. Даже отсоединившись от компьютера, я продолжаю их видеть. Они горят у меня в голове».
Время от времени Данло задерживал дыхание, погружался в воду с головой и плавал там во мраке и безмолвии. Когда его мозг начинал настоятельно требовать кислорода, он выныривал и втягивал в себя воздух, чувствуя вкус минеральных солей во рту. Его глубокие вдохи и выдохи отражались эхом от нейросхем. На этот раз он вошел в пространство ши, призвав на помощь чувство синтаксиса, чтобы найти дорогу в словесном шторме, который нарастал у него в мозгу. Закрыв глаза, он увидел перед собой поля мерцающих трехмерных символов, идеопластов универсального синтаксиса. Умственным взором Данло читировал идеопласт понятия «как», и тот появился в форме пятиугольника или скорее пятиконечной морской звезды, застывшей в кристальной форме голубого топаза. Она соединилась с параллельными брусьями понятия «бог» и с другими символами. Каждый идеопласт, подобно знакам древнего китайского письма, был задуман как уникальное графическое (и прекрасное) выражение определенной идеи или предмета, от самых сложных до самых простых. Идеопластов было много, очень много. Данло, изучая универсальный синтаксис, запомнил около пятидесяти тысяч. Знаковики говорят, что их потенциальное число бесконечно – и это должно быть так, поскольку саму реальность можно видеть и изображать в понятиях, чьи оттенки и глубина не имеют пределов. Идеопласты иногда определяют как слова универсального синтаксиса, но фактически они могут выражать также и звуки, и идеи, и аксиомы, и определения, и формулировки, и логические построения, и даже целые модели вселенной.
«Молодой послушник, читируй, иначе заблудишься в словесном шторме».
Читирование – дешифровка и прочтение идеопластов – это наиболее элементарная часть синтаксиса, но освоить его нелегко. Компьютер подавал в поле зрения Данло целые отряды сверкающих символов, представляющие собой многочисленные учения и концепции, имеющие отношение к божественности.
Данло изучал связи между идеопластами; в их переплетениях, напоминающих фравашийский ковер с вотканными в него алмазами и изумрудами, открывались сложные, исполненные смысла построения. Он читировал идеопласты один за другим, и они складывались в системы самых разнообразных, древних и инопланетных, философий. Читируя же почти органические связи между символами, когда расположение одного знака влияло на расположение и значение любого другого, Данло открывал для себя прекраснейшие идеи и истины, которые, возможно никогда не постиг бы иным путем.
Компьютеристы первых кибернетических религий смотрели на вселенную как на компьютер, и каждая частица материала ной реальности рассматривалась как деталь этого компьютера.
Соответственно, каждое событие в пространстве-времени считалось результатом обработки вселенским компьютером уравнений, выражающих законы природы, которые компьютеристы называли алгоритмами. Согласно старейшим кибернетическим теологиям, эти алгоритмы двадцать миллионов лет назад, в момент творения, легли в основу программы вселенной. Они будут действовать, пока компьютер не остановится и ответ на некий важнейший вопрос не будет получен.
Шеренги идеопластов теперь формировались слишком быстро, чтобы цитировать их с легкостью, и Данло вышел из словесного шторма, желая поразмыслить наедине с собой. Его окружали теплая вода и реальный соленый и влажный воздух, но перед мысленным взором продолжали мелькать идеопласты. Он унаследовал от матери ее образную, эйдетическую память, которая его порой ужасала и смущала, а не только приносила радость. В пространстве памяти, где краски по-прежнему оставались яркими и чистыми, как серебристая зелень листа ши, особенно выделялся один идеопласт. Он происходил из великих формул Упанишад и символизировал мистическое равенство между глубинной сущностью человека и божественным разумом, лежащим в основе всей реальности.
Идеопласт выглядел как алмазная слеза, висящая в центре сферы из десяти тысяч таких же капель – каждая из них переливалась фиолетовым, красным или синим огнем и отражала свет всех остальных. Данло никак не мог избавиться от этого красивого символа и от множества других, связанных с ним.
Чтобы сделать это, ему пришлось приложить большие усилия.
Воспользовавшись приемом мнемоников, он представил себе огромное снежное поле и зарыл туда идеопласты один за другим, присыпав их пушистым белым сорешем. Только так ему удалось очистить свою память и найти место, свободное от символов и слов, чтобы пристроить там свои мысли.
«Реальность, включающая в себя все вещи, – думал он, – объективная реальность, которую некоторые считают непознаваемой… если существует реальность объективнее законов природы, снега и льда, если за этим благословенным миром стоит некая воля, как смогу я когда-нибудь познать ее?» Долгий промежуток реального времени, которое горологи иногда называют вне-временем, Данло лежал в своей ванне и думал о кибернетических теологиях. Он решил, что если бы вселенная действительно была беспредельным компьютером, познать объективную реальность было бы невозможно – разве компьютер может «знать» архитектора, который спроектировал его и написал его программы? Человек, как и любая другая частица вселенной, не способен выйти за пределы этой вселенной, чтобы увидеть реальность (или «Бога», создавшего эту реальность) такой, как она есть. Данло жаждал познать истинную суть Бога и поэтому решил вплотную заняться изучением этой странной кибернетической доктрины, оказавшей влияние на множество народов галактики Млечного Пути и на всю историю человечества.
«Николос Дару Эде, первый Архитектор Вселенской Кибернетической Церкви, был также и первым богом. Первым человеком, который стал богом. Если он правда был богом или остается им, где тогда его свобода быть и становиться другим… ведь он, как и все остальное во вселенной, остается существом из материи и энергии, запрограммированным извне… подчиняющимся вселенскому алгоритму настоящего Бога?»
Данло снова подключился к компьютеру, дав волю потоку кипучих, лишь наполовину сформированных мыслей. Ему пришлось долго ждать, прежде чем голос мастер-библиотекаря отозвался у него в голове.
«Вы поняли мой вопрос, мастер Смит? – Компьютер упорно молчал. – Я не хотел прерывать вас, но… у Ханумана все в порядке? Он ищет что-то неподобающее, да? Иногда он слишком увлекается… возможностями компьютера».
Ответом ему были все те же тишина и мрак. Когда ожидание сделалось почти невыносимым, до Данло дошли наконец укоризненные мысли мастера Смита.
«Данло ви Соли Рингесс, ты не должен спрашивать меня о путешествии своего друга. За это тебя могут лишить доступа в библиотеку».
Данло вспомнил, что библиотекарям, под страхом изгнания из Ордена (а иногда и под страхом смерти), запрещается рассказывать кому-либо о путешествиях, которыми они руководят.
«Прошу прощения, мастер, но когда вы не ответили на мой вопрос…»
«Чтобы получить точный ответ, молодой послушник, ты должен поточнее формулировать свои вопросы. Грамматики не зря утверждают, что сила универсального синтаксиса заключается в возможности постановки правильных вопросов».
Данло согласился с этим и занялся мысленной формулировкой своих вопросов. В кибернетическом пространстве, ясном, как голубое небо, и простирающемся во все стороны, он вызывал различные идеопласты. Кристаллические фигуры возникали одна за другой, словно из ниоткуда. Данло выстраивал их или, если пользоваться цефической терминологией, ментировал, соединяя идеи и древние парадоксы подобно фравашийскому Отцу, вплетающему золотые нити в свой ковер.
«Ментировать» – это глагольная форма техники кибернетического чувства, известного как «ментирование», которое преобразует симплементарные мысли в комплементарные истины.
Данло пользовался правилами универсального синтаксиса, чтобы ментировать идеопласты в определенный, уникальный вопрос, и в сотый раз за время своего послушничества дивился силел красоте этого языка знаков. Он начинал понимать, что с помощью универсального синтаксиса можно ставить вопросы не только учебному компьютеру, но и самой вселенной. Данло знал, что его правила проистекают из логики и связей естественных языков, но если обычный язык кодирует понятия в слова, то органический язык универсального синтаксиса способен символизировать все отрасли знания, особенно математику, и связывать их между собой. Математика, в сущности, сама представляет собой высокоабстрактный, формальный язык, являющийся составной частью универсального синтаксиса. Или же – Данло знал, что в этом состояло одно из многочисленных разногласий между канторами и грамматиками – можно рассматривать универсальный синтаксис как одно из бесконечных ответвлений древа математики. В обеих этих отраслях идеопласты ментируются в конструкции, помогающие открыть законы природы, выразить новую философскую теорию либо доказать теорему – Данло, осваивающему монтированию и познающему тайный язык вселенной, было все равно, что во что входит.
«Концепции, относящиеся к богам или к Богу, трудно формулировать, да? Или ко вселенной. Всегда есть проблема ссылки на самого себя. Парадокс Рассела».
«Данло, ты меня слышишь? Оторвись, пожалуйста, на минуту от своего ментирования».
«Вот так? Мне надо перейти в режим телепатии?»
«Да-да, так».
«Человеку… мне лично… трудно думать о Боге».
«Но ты уже сформулировал эту трудность, не так ли?»
«Вы имеете в виду выражение «Никто не может поклоняться богу, кроме бога»?»
«Да, его. Это выражение присутствует в конструкции твоего вопроса. Знаешь ли ты, что открыл заново древнее санскритское изречение: «Надеро девам аркайер»?»
«Нет, мастер, не знал».
«И твоя формулировка попытки схоластов примирить свободу человеческой воли с божественным провидением как нельзя более точна».
«Спасибо».
«А вот твое соотнесение доктрины схоластов с современной кибернетической Доктриной Остановки уже не столь точно. Связь между ними слаба и не подкреплена историческими фактами».
«Но разве я не показал, что не существует алгоритма, определяющего, остановится компьютер или нет?»
«Ты выстроил свое доказательство очень изящно, молодой послушник, возможно, даже блестяще, однако ты лишь подтвердил то, что было известно тысячи лет назад».
«Но если Бог, бог в понимании компьютеристов, первопричина, существующая за пределами вселенной, если этот бог запрограммировал вселенную получить ответ на какой-то почти неразрешимый вопрос, то невозможно предсказать, каким будет этот ответ. Если вопрос или решение существует, его нельзя будет узнать, пока вселенная-компьютер не дойдет до момента своей остановки и…»
«Продолжай, пожалуйста».
«И поэтому Бог Эде не может по-настоящему быть Богом, и нельзя объявлять его таковым, поскольку будущее… поскольку вселенная создает будущее момент за моментом, единственным возможным путем. Нельзя предсказать судьбу Эде, как и судьбу кого-либо другого. Поэтому примиренность свободы воли с предопределением… должна как-то соотноситься с Доктриной Остановки».
«Да, это так. Но ты никогда не найдешь правильного соотнесения, пока не прочитируешь историю Вселенской Кибернетической Церкви».
«Какую часть этой истории я должен читировать?»
«Тебе решать, молодой послушник».
«Но…»
«Начинай читировать, молодой Данло, а мне позволь на время оставить тебя».
На этот раз Данло, вернувшись в словесный шторм, читировал уже быстрее и понимал более ясно. Он пытался высветить несколько темные и туманные связи Вселенской Кибернетической Церкви с историей Цивилизованных Миров. Информация представала перед ним многочисленными рядами идеопластов. Сведений о Николосе Дару Эде и основании его Церкви было куда больше, чем Данло мог себе представить – они простирались вдаль, как блистающие ледяные моря. Информация еще не знание, говорил он себе, а знание еще не мудрость. Признавая верность этого библиотечного афоризма, он, однако, черпал в словесном шторме и мудрость, и знание.
В этих идеопластах были кристаллизованы труды и размышления пятисот поколений лучших человеческих (и фравашийских) умов, и Данло, читируя открытия, факты и концепции, проверенные и перепроверенные на протяжении тысячелетий, чувствовал, что приобщается к этим умам. Он призвал себе на помощь самое обобщенное из кибернетических чувств – чувство ши. Ши – это эстетика знания, а еще вернее – мерило отношения мудрости к знанию. Чувство реальности, красоты и правды показывало Данло дорогу среди гор и ледников информации. Информация эта состояла из множества переплетенных слоев, и читировать ее было почти то же самое, что расшифровывать хрупкий узор снежинки. Конструкции можно было воспринимать в целом, как философские системы, или рассматривать каждый кристаллик отдельно: в каждом из них, даже в самом мелком, заключалась своя информация. Все слои, как верхние, так и нижние, имели одинаково сложное строение. Данло, разрывая их в поисках специфического факта, а затем снова возвращаясь на поверхность, чтобы свериться с историческими тенденциями, чувствовал головокружение.
Без ши, изящно компонующей эти тенденции и факты и подсказывающей, какие тропы стоит исследовать, а какие нет, он совсем затерялся бы среди этого изобилия.
Согласно Доктрине Остановки, вселенная остановится лишь тогда, когда Бог Эде сравнится с ней величиной, впитав ее в себя. Тот, кто верит, что момент остановки вселенной предсказать невозможно, должен верить и в то, что Эде не суждено стать Богом и что он подвергается такому же эволюционному давлению, как и любой другой организм или бог. Таких людей обвиняют в грехе эволюционной ереси.
С течением компьютерного времени Данло все ближе знакомился с религией, носящей название эдеизма. В частности, он узнал, что около трех тысяч лет назад на планете Алюмит жил простой компьютерный архитектор по имени Николос Дару Эде – простой в том смысле, что всю жизнь посвятил одной-единственной идее. Его мечтой было строить компьютеры, способные просвещать, расширять и сохранять человеческое сознание. В других отношениях Эде был сложной натурой: мастер-архитектор и бунтарь, восстающий против всякой архитекторской этики, прагматик и мистик, плагиатор древних писаний и блестящий автор, способный создать такие произведения, как «Путь человека» и «Универсалии». Если брать в целом, он был одновременно человек действия и мечтатель, который к концу своей долгой и бурной жизни (он прожил двести тринадцать лет, и это исторический факт) добился успеха там, где все остальные архитекторы его времени терпели поражение. Он создал компьютер, произведение искусства и гения, и назвал его своим вечным компьютером.
Более того, он открыл способ копировать человеческое сознание и хранить его в этом компьютере якобы без всяких искажений. А затем он, будучи в полном физическом и душевном здравии, нарушил Третий Закон Цивилизации. Эде – как проповедовали три последующие тысячи лет его последователи – этот бунтарь и провидец – попрощался со своими учениками-архитекторами и вложил в компьютер собственное сознание. Процесс сканирования и загрузки информации уничтожил его мозг. Отдельные скептики утверждали, что Эде всего лишь изобрел новый способ самоубийства, но большинство уверилось в том, что память и алгоритмы, составлявшие самую суть Эде, нашли точное отображение в его вечном компьютере. Эде преобразился, говорили уверовавшие, и стал чем-то намного больше, чем человек. Из этого грандиозного события и возник эдеизм – можно сказать, за одну ночь. Преданный ученик Эде, архитектор Костос Олорун, объявил, что древние пророчества наконец сбылись и цель эволюции человека достигнута. Человек создал Бога – вернее, перенес свою личность в компьютер, призванный слиться в единое целое с божественным началом вселенной. В последующие несколько лет вечный компьютер – то есть сам Бог Эде – в ускоренном темпе продолжал свой онтогенез к бесконечности.
Эде много раз копировал и перекопировал свое расширяющееся сознание во все более крупных и сложных компьютерах, которые сам проектировал и собирал, а затем в целых комплексах роботов и компьютеров, исполняющих различные функции. (Если Эде-человек был мастером компьютерного рукоделия, то Эде-Бог достиг в этом деле совершенства и «склеивал» компьютерные команды, работающие как одно целое.) И вот однажды настало время, когда Эде покинул Алюмит и вышел в просторы вселенной. Он вознесся в космос над планетой, которая не могла больше служить ему домом. Используя свою божественную власть, он при помощи крошечных самовоспроизводящихся роботов-бактерий разбирал астероиды, комечты и прочий космический мусор на элементы и создавал из этих элементов новые нейросхемы. Питаясь этой материей, он рос. Согласно Доктрине Остановки, которую Костос Олорун поспешил сформулировать, чтобы помешать другим следовать путем своего учителя, Богу Эде суждено было расти до тех пор, пока он не поглотит всю вселенную.
И Эде сопрягся со вселенной, и преобразился, и увидел, что лик Бога есть его лик. Тогда лжебоги, дьяволы-хакра из самых темных глубин космоса и самых дальних пределов времени, увидели, что сделал Эде, и возревновали.
Данло, плавающий в своем бассейне, включенный в темный ковер нейросхем, стал думать о деталях онтогенеза собственного отца. Он вспомнил, что Мэллори Рингесс никогда не отказывался от своей человеческой плоти и начал свой путь к божественности совсем по-другому, чем Эде. Но, как говорят фраваши, все дороги ведут в одно и то же место.
И обратили они взоры свои к Богу, возжелав бесконечного света, но Бог, узрев их спесь, поразил их слепотой. Ибо вот древнейшее учение, и вот мудрость. Нет Бога кроме Бога; Бог один, и другого быть не может.
Бог мог быть только один, и во Вселенской Кибернетической Церкви, сформировавшейся вокруг кредо эдеизма, мог быть только один Архитектор, наделенный властью общаться с ним. Первым из таких Архитекторов стал Костос Олорун, тщеславный и хитрый человек, обладавший огромной энергией.
Он нарек себя «Божьим Архитектором», потому что будто бы сам Эде доверил ему свой вечный компьютер, тот самый, в который поместил свою божественную душу. Костос Олорун как Божий Архитектор стал хранителем этого священного компьютера. Более того, было объявлено, что только он один среди всех Достойных Архитекторов может входить с ним в контакт, чтобы читать инструкции Эде человечеству и получать новые откровения, называемые алгоритмами. Непомерное тщеславие Олоруна воплотилось в Доктрине Сингулярности, гласившей, что отныне и навеки только один человек в лице Божьего Архитектора будет представлять власть Эде. За последующие полторы тысячи лет этот сан носили шестьдесят три человека.
Многие из них были одаренные личности, созидавшие свою церковь с пылом, невиданным со времен возникновения ислама или холизма на Старой Земле. Эдеизм распространился по всей галактике, достигнув наивысшего расцвета одновременно с третьей волной Роения. Он вполне мог бы стать вселенской религией человечества, но в 1536 году от Преображения Эде новую церковь едва не погубил раскол. Старший Архитектор Олаф Харша, движимый искренним (и еретическим) желанием пообщаться с Богом Эде напрямую, собрал вокруг себя большинство Архитекторов, которые взбунтовались против Доктрины Сингулярности. Так началась Война Контактов, величайшая в истории человечества, длившаяся более двухсот лет.
Зверства, творимые Архитекторами против других Архитекторов, умножались и становились все ужаснее по мере продолжения войны. Обеспечив себе почти верную победу, старейшины Реформированной Церкви, что было неизбежно, обратили военные действия внутрь и начали чистку собственных рядов, которой подвергались миллионы Архитекторов, подозреваемых в различных ересях или нечистых мыслях по отношению к церкви.
Именно в то время очистительная церемония сделалась оружием, предназначенным для переделки мозга всех инакомыслящих.
Есть свидетельства, что некоторые старейшины даже нанимали воинов-поэтов для убийства своих врагов. Почти достоверно, что правило, обязывающее воинов-поэтов убивать всех хакра, проистекает из секретного пакта между ними и старейшинами Реформированной Церкви.
Узнавая подробности Войны Контактов, Данло ежился в своей ванне. Вода стала казаться ему слишком горячей и перенасыщенной солями. Он очень хорошо помнил, что сказал ему Хануман в роще ши накануне гибели Педара. Для Архитектора желание стать выше, чем человек, – тягчайший из грехов, и старейшины церкви Ханумана определенно сочли бы этого мальчика сразу еретиком и хакра, если бы могли прочесть его сокровенные мысли. В прошлые времена воины-поэты преследовали бы Ханумана по всей галактике, а потом убили бы. Данло радовался тому, что они живут в более мягкую эпоху, хотя и не понимал своих друзей, полагавших, что подобные войны теперь уже невозможны. Его отец возглавлял пилотов в войне против других пилотов, и если такая трагедия могла случиться внутри Ордена, то возможно все что угодно.
Данло углубился в размышления о своем отце и о природе войны во вселенной.
«Человек становится богом… и начинается война, да? Экология организованного убийства. Кто знает, какие экологии возникнут из обожествления моего отца?»
«Было бы глупо винить Николоса Дару Эде за Войну Контактов, молодой послушник. Или Мэллори Рингесса за проблемы, которые встают теперь перед нашим Орденом. Рингесс – величайшая личность, которую когда-либо производил Орден, и не нам судить его или обвинять».
Данло, отделенный от библиотекаря пурпурной стеной нейросхем и десятилетиями жизненного опыта, не мог не улыбнуться восхищению, которое мастер Смит питал к его отцу.
Вступив в Орден, Данло обнаружил, что ученые делятся на два типа: одни не могли слышать имени Рингесса, другие практически обожествляли его. Мастер Смит явно относился ко второй категории.
«Я никого не хочу обвинять. Я хочу только разобраться… во взаимосвязанности действия и действительности. В этой паутине, где переплетаются судьбы всех и каждого. В паутине халлы – или шайды. Если потянуть за одну нить, вся паутина заколеблется. Мой отец, став богом, потянул за свою, и мне думается, что вселенная до сих пор продолжает колебаться».
Эта мысль повлекла за собой другие, соперничающие между собой. Одна, темная и зловещая, как штормовая туча над морем, скоро вытеснила все остальные: Данло стало казаться, что он, читируя историю Войны Контактов, упустил нечто жизненно важное как для себя, так и для всех, кого он знал.
Он снова вошел в словесный шторм, ища этот ускользающий от него факт или идею. Подобно снежной сове, оглядывающей ледяное поле в поисках скачущего зайца, он прибег к своему чувству ши. Искомое им событие произошло ближе к концу войны. Через сто лет после того, как Архитекторы Реформированной Церкви одержали победу над «старой церковью», как они выражались, их миссионеры впервые появились на Ярконе, и в Цивилизованных Мирах вспыхнула эпидемия чумы.
Число умерших, по самым скромным подсчетам, достигло 49 миллиардов. На некоторых планетах, таких как Яркона или Самум, смертность достигала 96%. Поскольку болезнь поражала все население одновременно, многие умирали не столько от вируса, сколько потому, что некому было за ними ухаживать. Организмы больных теряли большое количество жидкости, и причиной смерти зачастую становилось обезвоживание.
Данло, несмотря на то что лежал в воде, чувствовал, что потеет; соленая вода, выступающая из его пор, вливалась в бассейн. После своего прихода в Невернес он узнал, что цивилизованные люди считают виновниками многих болезней червей, бактерии и вирусы, кишащие в любом человеческом организме. Данло втайне чурался этой мысли и в то же время посмеивался над ней, полагая, что городские жители попросту испытывают дикий страх перед живностью, обитающей у них внутри. Теперь он не был в этом так уверен. Пока он дивился тому, как маленький вирус способен убить взрослого человека во много миллиардов раз больше его, компьютер внезапно насытил его чувство имитации потоком образов. Данло «увидел», как чумной вирус пробирается среди ионов солей, молекул воды, аминокислот, липидов и Сахаров живого мозга.
Вирус представлял собой великолепную конструкцию, белковый бриллиантик, заключающий в себе темные витки ДНК.
Он плыл по разветвлениям нейронов и в конце концов присасывался к одной из клеток, входя в ее мембрану, как кинжал в ножны, и его ДНК проникала в центр клетки, в ядро человеческой ДНК, эволюционировавшей за миллиарды лет из простейших элементов.
Известно, что Архитекторы Старой Церкви с помощью воинов-поэтов сконструировали вирус чумы из обычного ретровируса. Обеспечив собственный иммунитет, они применили это биологическое оружие против Архитекторов-реформаторов. Но вирус оказался нестабильным и мутировал в радикальную структуру ДНК, заражающую всех Архитекторов и всех остальных людей без разбора.
Структура чумной ДНК действительно была совершенно новой, но ретровирус, из которого ее вывели, был старше самого человечества. Данло узнал, что человеческие ретровирусы – не что иное, как фрагменты древней ДНК, отколовшейся от человеческих генов и стремящейся вернуться домой. Этот дом она находит в мозгу человека, но особенно любит печень и половые клетки. Чумной вирус, обладавший той же химической «памятью», что и ретровирус, вшивался в ткань нейронов, маскируясь под человеческую ДНК, и мог скрываться там много лет, прежде чем использовать химический механизм клетки для собственного воспроизводства. Вслед за этим происходило нечто ужасное и удивительное. Данло с помощью компьютерной имитации наблюдал, как нейрон, разбухший от чужеродной жизни, лопается и тысячи новых вирусов проникают в мозговую ткань. Эти вирусы заражали новые нейроны, которые гибли таким же образом, и цепная реакция воспроизводства ширилась, убивая целые участки мозга. Гибель и разрыв миллионов нервных клеток неизбежно вели к переполнению мозговой оболочки жидкостью – она начинала давить на стенки черепа и тоже разрывалась.
У заболевшего чумой в первые сутки после начала болезни проявлялись следующие симптомы: сильный жар, рвота, диарея, сопровождаемые характерной «простреливающей» головной болью.
За этим следовали конвульсии, спазм челюстей, ушное кровотечение и неизбежная…
«Нет!»
Компьютер подал в поле зрения Данло цветное изображение Архитектора, умирающего от чумы, но Данло не нуждался в этих красках: белой пене, выступающей на бледных губах, красно-черной корке запекшейся крови, черноте ввалившихся глазниц и свинцово-серому цвету самих угасающих глаз. Он понял, что уже видел, как умирают от чумы. Шайда та смерть, что уносит целый народ на ту сторону дня. Хайдар, Чандра, Вемило и восемьдесят пять других деваки умерли от великой чумы – теперь Данло был уверен в этом, но он не имел понятия, как этот древний вымерший вирус мог попасть к ним.
Чумной вирус не вымер. К концу Войны Контактов он заразил практически все человеческое население Цивилизованных Миров, и оставшиеся в живых передали сохранившийся в их генах вирус своим потомкам. Вирус вошел в геном человека как пассивный, хотя и паразитический, сегмент ДНК. В большинстве человеческих организмов ДНК вируса, подавляемая генами-ингибиторами, остается в спокойном состоянии. Лишь в немногих человеческих обществах, изолированных от исторических катаклизмов, встречаются люди, у которых гены-ингибиторы имеются в недостаточной степени или отсутствуют совсем. Такие люди восприимчивы к контактам и могут заразиться от…
– Нет! – Выдохнув это вместе пузырящейся водой, Данло вскочил, став ногами на скользкое плиточное дно. Потревоженная вода заколыхалась вокруг его бедер. Его контакт с компьютером прервался, и он не видел больше ничего – ни внутренним зрением, ни глазами, которые щипало и жгло от соленой воды. – Нет! – Его гневный крик заполнил тьму ячейки, отразился от живых стен компьютера и затих. Густой белковый дух нейросхем в сыром воздухе смешивался с едким запахом пота. – Шайда тот человек, который убивает других людей, – прошептал Данло.
Но никто не слышал этой прочитанной им строки из девакийской Песни Жизни. Библиотечные компьютеры реагируют даже на самую слабую человеческую мысль, но когда человек отключается и начинает говорить с помощью голосовых связок, нейросхемы остаются глухими к звуковым волнам.
– Отец, отец, что ты наделал!
Но никто не ответил Данло. Только дыхание со свистом вырывалось у него из груди и вода плескалась вокруг теплыми волнами.
– Мастер Смит! – произнес он вслух. – Вы сказали, что мы не должны винить моего отца. Но ведь это он возглавил экспедицию к деваки!
Тут Данло понял, что, как бы громко он ни кричал, мастер Смит и никто другой его не услышит. Стены из нейросхем обладают безупречной звукоизоляцией, и внутренние помещения библиотечного компьютера – самое тихое место во вселенной. Испытывая настоятельную потребность ознакомить мастера Смита с трагедиями (и преступлениями) жизни Мэллори Рингесса, Данло опять погрузился в бассейн, подключился к компьютеру и сразу перешел в режим электронной телепатии.
«Мастер Смит! Вы восхищаетесь моим отцом за то, что он стремился разгадать тайну вселенной. Он думал, что Старшая Эдда закодирована в алалойской ДНК. Боги наивысшего порядка поместили эту тайну в древнейшую ДНК, да? И мой отец думал, что алалойская ДНК отличается от ДНК цивилизованных людей. Что она на свой лад благословенна».
Данло ждал ответа, но их общее телепатическое пространство оставалось тихим, как стоячая вода. Вероятно, мастер Смит руководил сейчас Хануманом, а может быть, рассердился на Данло за внезапно прерванный контакт – Данло много раз предупреждали об опасности этого.
«И мой отец отправился к алалоям. К благословенным деваки. Их ДНК действительно отличалась от нашей… и теперь отличается. Они жили на Квейткеле пять тысяч лет – ни Война Контактов, ни чума их не затронули. О благословенный Бог! Они были так невинны и так чисты».
Он ждал, что мастер Смит вступится за Мэллори Рингесса и заметит, что тот не обязан был знать, как восприимчивы могут быть к чуме не имеющие иммунитета деваки. Мастер Смит мог обвинить Мэллори Рингесса разве что в беспечности – тот не подумал, что он и все прочие цивилизованные люди являются переносчиками смертельного вируса.
«Мой отец был убийцей!»
Данло знал, что Мэллори имел связи с женщинами деваки и делился с ними своей спермой. Это убийство – намеренно заражать кого-то своей шайда-ДНК. Отец должен был знать, что когда-нибудь – через четырнадцать лет или четырнадцать поколений – вирус, инфицировавший деваки, оживет, и племени настанет конец.
«Мой отец должен был знать об этом, да? Но ему было все равно. Какое богу дело до мужчин и женщин, умирающих по его вине?»
И какое богу дело до целых племен и народов? Данло вспомнил, что Хайдар и другие деваки зимой, когда море замерзало, ездили в племена олорун, санура и патвин, а мужчины из этих племен, конечно же, бывали в других племенах к западу от Квейткеля. Чумной вирус убил деваки, а сейчас, пока Данло плавает в ванне, недоумевая, почему мастер Смит ему не отвечает, этот вирус исподтишка убивает его собратьев-патвинов. И очень скоро – возможно, даже следующей глубокой зимой, – если Данло не сделает ничего, чтобы восстановить халлу в мире, вирус убьет все двести двенадцать алалойских племен, и алалои перестанут существовать.
«Человек жаждет стать богом… и за этим следует убийство. Одно убийство за другим. Почему мир человека состоит из сплошных убийств?»
Так и не дождавшись ответа, Данло начал беспокоиться.
Возможно, мастер Смит молчит потому, что с путешествием Ханумана что-то неладно. Возможно, Хануман заблудился в словесном шторме и не может выбраться из пространства ши.
Возможно, кибернетическое самадхи или какое-то другое состояние компьютерного сознания так поглотило его, что у Ханумана не осталось воли вернуться к себе. А быть может, Хануман попытался проникнуть в тайные библиотечные хранилища информации, и сторожевые программы дали ему отпор, приведя в бессознательное состояние. Такое уже случалось с послушниками. Возможно, Хануман лежит в своем бассейне без сознания, с закрытыми глазами, и вдыхает в себя теплую соленую воду.
«Мастер Смит, пожалуйста! У Ханумана все в порядке?»
Мастер Смит говорил Данло, что о путешествиях других послушников спрашивать нельзя, но Данло был слишком обеспокоен, чтобы обращать на это внимание. Ему следовало бы терпеливо ждать в своей ячейке, следовало бы вернуться в ласковые потоки компьютерной информации и ждать, когда мастер Смит отзовется, но Данло не хотел больше информации.
Он мог бы, конечно, просто плавать в своем бассейне и опятьтаки ждать, часами и сутками, как учили его Хайдар, Трехпалый Соли и другие мужчины деваки. Но через некоторое время его начал беспокоить какой-то слабый запах – тот, смешанный с запахом нейросхем и соленой воды, никак не поддавался определению. Фруктовый и пузырчатый, он бил через ноздри прямо в мозг. Зловещий аромат вызвал целый поток эмоций и воспоминаний, и Данло вдруг стало страшно.
Хануман стал сам не свой после смерти Педара, подумал он. О Хану, Хану, почему это так?
Не в силах больше ждать, он выскочил из воды и ринулся в открывшуюся перед ним дверь ячейки. В раздевалке он натянул одежду и ботинки на мокрое тело и открыл дверь в коридор. Из двери хлынул пар, и запах, беспокоивший Данло, стал намного сильнее. Данло знал, что этот запах ему знаком и что он должен бояться и ненавидеть его, как запах самой смерти, но никак не мог вспомнить, почему.
Смерть. Сплошная смерть. Она везде.
С быстротой молнии Данло метнулся к двери в слуховую камеру библиотекаря и постучал по темному гнилому дереву.
– Извините меня, мастер Смит, – скажите, пожалуйста, у Ханумана все в порядке?
Подождав немного, он постучался снова. Побарабанив по двери кулаком, он понял, что ответа не дождется. Весь тускло освещенный коридор уже гудел от его стука, но до слуховых камер и ячеек звуки извне не доходили, и как бы он ни дубасил и ни кричал, ни мастер Смит, ни Хануман, ни другие библиотекари и послушники его не услышат.
Масло каны, вот чем здесь пахнет, внезапно вспомнил он.
Им душатся воины-поэты.
Эта пугающая мысль заставила его позабыть все правила этикета, и он распахнул дверь. Запах масла каны хлынул навстречу. Он пронизывал мозг, как электрический ток. У Данло сжалось горло, и стало трудно дышать. В камере, кроме этого, стоял и другой запах, густой и насыщенной жизнью. Данло в детстве чувствовал его много раз – здесь пахло кровью и смертью. На маленьком белом футоне аккуратно сидел мастер Верен Смит, положив руки на колени. Данло ожидал найти его в бассейне, но теперь вспомнил, что мастер-библиотекарям для контакта с компьютером такая помощь не требуется. Вместо воды мастера Смита окружала лужа крови. Кровь блестела на полу камеры, и футон из белого стал почти красным. Капли крови алели на нейросхемах и падали с лысой головы мастера.
Такого количества крови Данло не видел уже четыре года, с тех пор как Хайдар проткнул оленуху шегшея копьем на свежем чистом снегу и перерезал ей горло ножом. Данло подошел поближе к мастеру, чтобы лучше видеть. Мастера Смита удерживала в сидячем положении стена из нейросхем, к которой он привалился. Глаза остались открытыми, и рот удивленно скривился, как будто его застали в глубоком контакте, не способного ни видеть, ни слышать, не шевелиться. Кто-то открыл дверь без спроса, как Данло, набросился на библиотекаря и перерезал ему горло.
Одно убийство за другим.
Это кровавая комната, вонь масла каны… казалось, все это тянется целую вечность, но на самом деле все действия Данло заняли считанные секунды. Увидев, что мастер Смит мертв и ему уже не поможешь, он повернулся и выбежал вон.
Воины-поэты убивают потому, что любят убивать.
Данло бросился к ячейке Ханумана. Хвост его мокрых волос метался по спине. Надо сказать Хануману, что отогенез человека в бога крайне опасен и чреват шайдой. И не только это. Данло боялся, что если не скажет этого теперь, то времени уже не будет. По библиотеке разгуливает воин-поэт – он был в этом уверен, как и в том, что убийство библиотекаря было только прелюдией и на самом деле убийце заказан Хануман.
Глава XI МОМЕНТ ВОЗМОЖНОГО
Как я готовлюсь к смерти?
Учусь жить.
Как я учусь жить?
Готовлюсь к смерти.
Поговорка воинов-поэтовВойдя в ячейку Ханумана, Данло нашел ее пустой. Вода, выплеснувшаяся из бассейна, протекла в раздевалку и собралась лужицами на неровных плитках пола. Одежда Ханумана – камелайка, белье и парка – так и осталась висеть на крючках, а ботинки аккуратно стояли внизу на подставке. Данло пошарил глазами, ища следы крови, но ничто не указывало на то, что Хануман умер или умирает. Только сильный жуткий запах масла каны говорил, что ячейка опустела не без помощи воина-поэта.
Воины-поэты как пауки – они забирают и связывают свои жертвы, прежде чем убить их.
Они любят еще и мучить свои жертвы, напомнил себе Данло, выходя в коридор. Он мог бы пойти за помощью. Мог бы повернуть направо, в ту сторону, откуда пришел, к светлому и безопасному вестибюлю библиотеки. Мог бы пуститься на розыски какого-нибудь библиотекаря, чтобы поднять тревогу и сообщить, что мастер Смит пал жертвой воина-поэта.
Мог бы уступить панике (благоразумию), но ему вспомнилось много чего относительно воинов-поэтов, и потому Данло повернул налево. Там было темно. Он уходил все дальше в недра библиотеки, и запах масла каны становился все гуще и тошнотворнее, как мускус, который разбрызгивает в воздухе росомаха. В коридоре не было ничего, кроме сырых стен и пронумерованных дверей ячеек. Номера по пути следования Данло увеличивались. Там, внутри, покоились в своих бассейнах послушники, слепые и глухие, как паломники на космическом корабле. Они не ведали, что мимо них недавно прошел воин-поэт и что одного из их соучеников вот-вот убьют.
Хану, Хану…
В каком-то месте этого бесконечного коридора, под световым шаром, не горевшим уже несколько лет, Данло увидел на плитах пола черный плащ. Он подобрал его и понюхал: грубая шерсть разила маслом каны. С изнанки к этому зловещему одеянию были подшиты ряды кожаных кармашков, и в каждом лежал оперенный дротик с палец величиной. Данло наугад вынули один и поднес к слабому свету. На конце дротика торчала стальная игла, покрытая, как эмалью, какой-то твердой субстанцией, красной, как засохшая кровь. Данло стал доставать другие дротики – каждый наконечник был окрашен ядом другого цвета, шоколадным, красновато-коричневым или фиолетовым. Воины-поэты, по слухам, пользовались ядами разных видов, чтобы исполнять мелодии боли на человеческом теле, как на арфе.
О, Хану, Хану.
Почти не раздумывая, Данло зажал пригоршню дротиков в кулаке и двинулся дальше. Вскоре впереди забрезжил свет – там коридор заканчивался и малоиспользуемая лестница вела на другие этажи библиотеки. Данло бросился туда, топоча по каменным плитам и ловя ртом воздух. Теперь он хорошо видел, что на лестнице находятся двое человек. Один из них, привязанный к перилам, был Хануман ли Тош, другой – воин-поэт в красивой радужной камелайке и сам красивый и опасный, как тигр, с длинным ножом, приставленным к бледному горлу Ханумана.
– Пожалуйста, не подходи ближе, – сказал воин-поэт, и голос его излился в коридор, как мед.
Что-то в этом чудесном голосе побудило Данло подчиниться, и он остановился ярдах в двадцати от лестницы. Он стоял там в нерешимости и старался отдышаться.
– Данло – ох, больно, не делай этого! – подал голос Хануман, напрягшийся в своих путах. Многочисленные кольца блестящего волокна касии, охватывая его руки и грудь, привязывали его к чугунным балясинам перил, Волокна глубоко, до крови, врезались в кожу и, должно быть, причиняли Хануману сильную боль. Данло вспомнил, что воины-поэты называют волокно касии жгучей веревкой: оно разъедает тело, как кислота.
– Нет, Данло, нет! – Хануман, скрученный жгучей веревкой, был наг. Воин-поэт, должно быть, вытащил его из бассейна и под угрозой ножа провел по всему коридору. А Хануман, как видно, пустил в ход свое боевое искусство – на шее воина-поэта виднелись царапины, как будто ему пытались разорвать горло ногтями. Хануману удалось сорвать со своего противника плащ, но это ненадолго задержало воина-поэта – он скорее всего зажал голову мальчика как тисками и поволок его дальше. Хануман и теперь боролся – с самим собой, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не плакать, не кричать и не молить Данло о помощи. – Не надо, Данло!
Хотя на пустой лестнице было довольно светло, Данло не мог сказать наверняка, что блестит на лице Ханумана – еще не просохшая вода или пот. Помимо блестящей пленки, там присутствовали страх, ненависть и другие эмоции, не поддающиеся разгадке. Широко раскрытые глаза Ханумана были прикованы к глазам воина-поэта – он оторвался только на миг, чтобы взглянуть на Данло.
– Пожалуйста, уходи отсюда! Беги, Данло, беги!
– Он прав – беги, – сказал воин-поэт. – Ступай и приведи библиотекарей или их роботов. Когда ты вернешься, я уже разделаюсь с ним.
– Данло, нет!
Воин-поэт учтиво поклонился и сказал, обратив нож в сторону Данло:
– Ты, должно быть, Данло ви Соли Рингесс. Сын того Рингесса, о котором все говорят. Я полагал, что ты задержишься в своей ячейке еще немного, но знакомство с тобой делает мне честь при любых обстоятельствах. Я Марек с Кваллара и прибыл в Неверное, чтобы встретиться с тобой и с твоим другом.
Данло смотрел на длинный ряд стертых базальтовых ступеней, уходящих вверх над Хануманом и воином-поэтом. В глубине души он надеялся, что группа библиотекарей или, к примеру, кадетов-пилотов вот-вот появится там и одолеет воина-поэта. Но другая часть сознания подсказывала ему, что никакое количество людей или роботов не успеет спасти Ханумана до того, как воин-поэт перережет ему горло. Скорее всего Ханумана уже ничто не спасет. Лучше всего поскорее убежать, пока воин-поэт и его, Данло, не убил.
– Если хочешь остаться, – сказал Марек, – долго тебе ждать не придется. Я уже загадал Хануману стихи.
Данло вспомнил, что воины-поэты иногда оказывают своим жертвам честь, загадывая им начальные строки стихов. Если жертва сумеет закончить строфу, ее освобождают. Если нет, то…
– К сожалению, твой друг – не знаток поэзии, – продолжал Марек. – Пора дать ему лекарство.
Сказав это, он с ошеломляющей скоростью достал из своей камелайки дротик с серебряным острием и вонзил его в шею Ханумана. Хануман тут же испустил крик и стал корчиться в своем жгучем коконе, а Данло метнулся к лестнице, но воинпоэт, направив на него нож, покачал головой.
– Пожалуйста, не двигайся с места. – Марек, поцеловав желтое кольцо на мизинце левой руки и фиолетовое на мизинце правой, взял в руки голову Ханумана и коснулся поцелуем его лба. – Это средство его не убьет, а лишь приблизит к моменту возможного.
Хануман снова издал тонкий, режущий ухо визг, словно гладыш в когтях у снежного тигра. Данло отчаянно хотелось кинуться ему на помощь, но он не мог пошевелиться, точно воин-поэт и ему впрыснул свой парализующий наркотик. Хануман с искаженным от муки лицом прикусил язык, и мускулы напряглись под его потной кожей, как от разряда электрического тока.
– Свет! – закричал он, лишенный возможности закрыть глаза. – А-а! – Воин-поэт, должно быть, ввел ему эккану – средство, делающее человека чувствительным к самым слабым ощущениям. Теперь для Ханумана фотоны световых шаров над головой – все равно что падающие в глаза капли жидкого золота. Нервные клетки его сетчатки шипят и обугливаются в потоке света. Эккана, возбуждающая нервную систему, разъедает оболочку нервов, открывая каждый фибр жестоким поцелуям мира и электрохимическим бурям, бушующим в самом организме. Через считанные мгновения вселенная Ханумана превратится в ковер из пылающих нервов. Крохотные, бесконечно разветвляющиеся волокна пронижут огнем все ткани и органы, затронут каждую клетку и заключат тело в футляр ужасающей боли бытия. Но эта пытка, как ни парадоксально, призвана освободить Ханумана от себя самого.
Пробудившийся мозг, действуя, как веко сознания, должен был бы загородить нестерпимый блеск внешнего и внутреннего мира, отключив человека от его повседневных нужд, опасностей и страхов. Но эккана, один из самых тонких психоделиков, не позволяет глазам закрыться. Она обнажает мозг перед светом, отраженным от всех поверхностей – от камней, листьев и замерзшего моря, от разбитых сердец, кошмаров и трупов, стынущих в снегу. Стоять с широко раскрытыми глазами перед этим ослепительным светом – значит открыться всей боли вселенной. За этим следует момент бесконечной уязвимости.
Момент возможного, когда человек, чувствуя в себе отраженную и умноженную боль всего сущего, принимает ее целиком и без страха. В этот момент перед смертью, превыше смерти, испытывая боль превыше всякой боли, человек осознает, что он – это не только его тело и его «я». В этот единственный, высокий, чудотворный момент тот, у кого достанет сил вместить в себя страшный огонь жизни, обретает безграничные возможности.
– Данло, прошу тебя!
Воины-поэты верят, что человек, у которого есть силы преодолеть себя, переживает золотой миг, вечный, как небеса христиан или то невыразимое состояние, которое Архитекторы называют кибернетическим самадхи. Но того, кто слаб, боязлив или болен душой, ждет только ад.
– Прошу тебя – воин-поэт!
Хануман опять повернул голову к Данло, но похоже было, что он смотрит на огненную стену. Он тряс головой, как слепец, скрипел зубами, ругался и взывал к другу.
Данло по-прежнему стоял в темном коридоре, где пахло паром, нейросхемами, плесенью, маслом каны и потом, переводил взгляд с Ханумана на воина-поэта и не знал, что ему делать.
– Отпусти его! – сказал он наконец. – Такую боль никто выносить не может.
Воин-поэт приложился губами к своему клинку и сказал:
– Посмотрим.
– Хануман точно не может.
– Твой друг крепче, чем ты думаешь. Умеешь ли ты читать лица, Данло ви Соли Рингесс? Посмотри на него – он почти созрел для ножа!
Данло, гляди на Ханумана, стиснул в руке дротики воинапоэта. На лице друга он видел только боль, ужас и смерть.
– Пожалуйста, отпусти его. – Скоро, возможно, через каких-нибудь десять ударов быстро стучащего сердца Данло, воин-поэт вонзит острие своего ножа в глаз Ханумана. Он будет опускать нож все глубже и глубже, медленно направляя его вдоль зрительного нерва в мозг. Таким образом он постарается причинить Хануману максимальные мучения и тем увеличить возможности его освобождения.
– От экканы должно быть какое-то противоядие. Пожалуйста, дай его Хануману.
– Ты должен знать, что такого противоядия нет, – улыбнулся Марек. – Даже если я освободил бы твоего друга, следы священного средства навсегда остались бы в его организме. Эккана никогда не перерабатывается полностью. Даже по прошествии многих лет – или жизней.
– Тогда опусти его. Пусть он приближается к моменту возможного всю оставшуюся жизнь.
Воин-поэт снова улыбнулся, широко и весело, одобряя рассудительность Данло перед лицом смерти – пусть даже не своей, а Ханумана.
– Ты много знаешь о нас, воинах-поэтах.
– Да, знаю… кое-что.
– Тогда ты должен знать, что нам хорошо заплатили за жизнь Ханумана ли Тоша. За его жизнь – понимаешь?
– Сколько бы вам ни заплатили, мы заплатим больше. Я… и Орден.
– И что же ты дашь за жизнь своего друга, молодой Данло?
– М-миллиард городских дисков. – Данло, никогда в глаза не видевший даже одного диска и уж тем более не представлявший себе его ценности, назвал первую цифру, пришедшую ему в голову.
– Миллиард? У тебя есть такая сумма? Или у твоего Ордена?
– Ну, тогда миллион. Или сто – мы заплатим, сколько нужно.
– Щедрое предложение. Но боюсь, что жизнь Ханумана уже поздно выкупать за деньги.
– Однако кто-то ее купил?
– Разумеется. – Воин-поэт поднес нож к широко раскрытому неподвижному глазу Ханумана. – И сейчас получит свой товар.
– Это Архитекторы? С Катавы, из церкви Ханумана – это они заказали его убийство? Из-за того, что считают его святотатцем… хакра?
– По правде сказать, они только изобличили его как потенциального бога.
– Но не приговаривали его к смерти?
– Не по этой причине.
– По какой же тогда?
Марек тихо рассмеялся.
– Для того, кто сам близок к своему моменту, ты задаешь слишком много вопросов.
– Я прошу тебя не убивать его.
– Другие тоже просили.
– Кто?
– Его мать, например. Она хотела, чтобы его доставили на Катаву для очищения от нежелательных программ. Но его дядья стояли за более радикальное решение.
Данло, зажмурившись, потряс головой и шагнул к воину-поэту.
– Отпусти его. Пожалуйста, отпусти.
– Один момент. – Воин-поэт потрогал лоб Ханумана и заглянул ему в глаза. – Еще момент – и он будет свободен.
– Нет! – закричал вдруг Хануман и ударился головой о перила с такой силой, что вся лестница загудела. – Пожалуйста, Данло, – убей его!
– Хану, Хану!
– Убей сейчас же! Убей!
Данло смотрел на воина-поэта, сжимая в кулаке дротики.
Воины-поэты – давние враги Ордена. Когда-то они создали вирус, погубивший приемных родителей Данло и все племя деваки. А этот, со своим длинным блестящим ножом, собирается убить Ханумана.
– Осторожнее с дротиками, – сказал Марек. – Смотри сам не уколись.
Данло с превеликой осторожностью перенес четыре дротика в левую руку, оставив красный в правой.
– Зеленый лишает человека сознания примерно на час, – сообщил воин-поэт. – А тот, который словно в шоколад обмакнули, навсегда лишает дара речи.
Данло отвел правую руку назад, целя Мареку в горло.
– Голубой заряжен наркотиком правды.
Данло, дыша животом, начал набирать в себя воздух, как делал когда-то перед тем, как пронзить копьем снежного тигра или метнуть камень в зайца.
– Дротик, который у тебя в руке, убивает мгновенно – парализует сердечные нервы. Это быстрая смерть, молодой Данло, но крайне неблагородная.
Глядя на горло воина-поэта, где пульсировала рядом с гортанью большая артерия, Данло сомневался, что сможет убить его. Однажды, два года назад, с расстояние почти вдвое больше этого, он попал копьем под лопатку бегущему на него шелкобрюху. Но воины-поэты – дело другое; говорят, они владеют искусством замедленного времени, тем особым состоянием тела и разума, когда нервы срабатывают с молниеносной быстротой и все события в окружающем мире кажутся замедленными. Как бы точно и быстро ни метнул Данло свой дротик, воину-поэту он покажется плывущим по воздуху пером, а при наличии более высокого мастерства – мухой, копошащейся в банке с медом. Скорее всего Марек перехватит дротик и швырнет его обратно в Данло. А если предположить, что нынче день чудес и Данло все-таки сможет убить воинапоэта, то еще неизвестно, способен ли он это сделать. Воин-поэт казался таким счастливым, держа нож у глаза Ханумана, он совсем не боялся, и жизнь прямо-таки кипела в нем.
– Да бросай же! – завопил Хануман. – Не бойся – убей меня, меня!
Данло на самом деле мог промахнуться и попасть вместо Марека в Ханумана – это было веской причиной вовсе не бросать дротик, но существовали и другие причины, более глубокие. На губах воина-поэта играла улыбка, спокойствие окутывало его волшебным плащом, а глаза, казалось, все понимали.
Глаза – окна вселенной, вспомнилось Данло.
У воина-поэта глаза были просто необычайные – густо-лиловые, почти такие же темные, как у Данло. Глаза хищника, пищей которому служат лица и страхи других людей. Данло, потонувший в этих немыслимых глазах, никак не мог решить, безумен воин-поэт или как нельзя более нормален. На свой лад он, конечно, был совершенно сумасшедший, поскольку его смертолюбивая доктрина нарушала всяческое жизненное равновесие. В его безумии определенно была шайда, но столь сознательная и полная шайда, что в ней присутствовала даже некоторая красота. Данло редко доводилось видеть таких красивых людей, как воин-поэт, – и таких полных жизни. Мускулы на шее и обнаженных руках Марека клубились, как змеи, волосы создавали вокруг головы черный ореол, кожа лучилась золотом. Он точно ангел смерти, подумал Данло. Лицо и фигура Марека дышали страшной красотой, словно он принадлежал к неким существам высшего порядка, в которых ужас и прелесть улыбаются друг другу и держатся за руки. Но несмотря на радость, которую он получал от жизни об руку со смертью, в нем чувствовалось что-то бесконечно трагическое и печальное. Воин-поэт, как всякий продукт искусственно выведенной расы, являл собой один из экспериментов, где эволюция достигает определенного совершенства, но дальше двигаться не может.
Он почти человек, подумал Данло. Настоящий человек.
Воин-поэт взглянул на блестящую сталь, которую держал у глаза Ханумана, и Данло понял, что расстояние между таким, как Марек, и настоящим человеком столь же узко, как лезвие ножа, и в то же время велико, как от Невернеса до края вселенной.
Он убийца. Шайда – путь человека, который убивает других людей.
Бесконечная боль, которой поклонялись воины-поэты, всасывала их в водоворот безумия и убийства. Воины-поэты – образцовые убийцы. Им нравится думать о себе как о мастерах бонсая – своими ножами они подравнивают опасных или нездоровых индивидуумов, как маленькие деревца, чтобы большое дерево жизни оставалось сильным и стойким. Искусство осуществления смерти они довели до совершенства. Они верят, что вселенная всегда будет нуждаться в таких, как они.
Но я-то не убийца, подумал Данло. Его отведенная назад рука дрожала, готовая метнуть дротик. Я – не он.
Данло, хотя и питал странное сочувствие к безумцам, не мог смириться с необходимостью убивать – особенно в самом себе.
Его путь всегда должен быть противоположен убийству. Он должен нести жизнь, а не смерть, даже если его идеалы и действия будут стоить ему собственной благословенной жизни.
Никогда никого не убивай и не причиняй никому вреда; лучше умереть, чем убить самому.
Это была самая глубокая причина из тех, по которым он не мог убить воина-поэта. Убийство ведет к разгулу убийств и нарушению равновесия жизни, и оно шайда, ибо является отрицанием и говорит «нет» бесконечным возможностям жизни.
Убийство такого, как воин-поэт, исключает возможность излечить его от безумия и преобразовать в нечто поистине чудесное.
– Воин-поэт! – крикнул Данло. Разжав пальцы левой руки, он высыпал дротики на пол, а потом повернулся, выбросил правую руку вперед и метнул красный дротик, который пролетел по воздуху и вонзился в дверь ячейки № 264. – Отпусти Ханумана!
Хануман, услышав его голос, затряс головой.
– Нет, Данло, пожалуйста, убей меня.
– Извини, молодой Данло. – Лиловые глаза Марека светились, отражая блеск ножа. – Но момент должен настать.
– Тогда возьми меня вместо него.
– Нет, нет!
– Возьми меня, и я проживу его момент.
Воин-поэт, уже направивший нож в глаз Ханумана, внезапно замер.
– Что ты сказал? Знаешь ли ты, о чем просишь?
Данло очень хорошо знал, о чем просит. Он помнил традицию воинов-поэтов: если кто-то предлагает занять место жертвы, желая испытать момент возможного, воин-поэт не может оставить эту просьбу без внимания.
– Возьми меня, – повторил Данло. – И отпусти Ханумана.
Воин-поэт, устремив на Данло пристальный взгляд, склонил голову в знак уважения его любви к своему другу.
– Твое предложение благородно, но одного благородства недостаточно.
Данло протянул к воину-поэту раскрытые ладони, зная, что тот читает по его губам и глазами, ища в его лице какой-то ключ.
– Кроме того, оно смелое, но и смелости недостаточно.
Данло сделал свое лицо открытым, как у спящего ребенка, помня, что воины-поэты не часто удовлетворяют подобные просьбы.
– Так ты в самом деле готов умереть? – спросил Марек.
Данло, глядя на его нож, сам не знал, готов он умереть или нет. Умирать ему определенно не хотелось, и он не был уверен, что его время пришло. Но ведь смерть от ножа воина-поэта не была неизбежной – у Данло имелся пусть ничтожно малый, но шанс. Даже если воин-поэт позволит ему занять место Ханумана, казнь свершится не сразу. Сначала воин-поэт с помощью жгучего волокна или какого-нибудь яда лишит его способности двигаться, а потом загадает Данло стихи. И если Данло сможет их закончить, воину-поэту придется освободить его.
– И даже готовности умереть недостаточно, – сказал Марек. – Нужно еще кое-что.
Все это время воин-поэт вглядывался Данло в глаза, словно надеясь отыскать там ту редкость, в которой нуждался.
– Я должен спросить твоего друга, готов ли он уступить тебе свое место. – И Марек обратился к Хануману: – Ты согласен?
– Нет! – Хануман напрягся в своих путах и плюнул в воина-поэта кровью, но потом притих и посмотрел на Данло. Он смотрел долго (а может быть, всего лишь мгновение), а после ответил: – Нет, я не согласен – убей меня, если так надо, но не его.
Воин-поэт кивнул с сознанием серьезности момента и сказал Данло:
– Он не соглашается, чтобы ты занял его место. Он сказал «нет» – не следует ли нам прислушаться к его мнению?
– Нет! Он сам не знает, чего хочет!
– Правда, если бы он ответил согласием, я убил бы его сразу, чтобы покарать за трусость.
– Значит, ты нарочно задаешь парадоксальный вопрос?
– Мы, воины-поэты, любим парадоксы.
– Но зачем вообще что-то спрашивать, если ты собираешься его убить?
– Я не сказал, что собираюсь его убить.
– Но…
– Он ответил нам, высказал свое желание. Теперь решать должны мы.
– Отпусти его и загадай мне стихи.
– Да, мне хотелось бы прочесть тебе стихи. Но готов ли ты их услышать?
– Да. – Но как только это слово сорвалось с его губ, Данло испугался, что воин-поэт вообще не станет читать стихи. На миг он пожалел о том, что выбросил дротики.
Ему было противно стоять так и ждать, когда воин-поэт решит их с Хануманом Судьбу. Потом он вспомнил то, что Старый Отец сказал однажды об ахимсе. Ахимса, по воззрениям фраваши, – это не просто пассивный отказ причинять зло другим. Некоторым людям ахимса время от времени дает великую силу, которая проистекает из сознания, что любая другая жизнь равноценна твоей. И из воли принять смерть: ведь если ты не ставишь свою жизнь выше всех остальных, ты никогда не станешь защищать ее ценой жизни кого-то другого. Поэтому в этой полной насилия, кровавой вселенной, где Данло родился, он так и так скоро умрет.
Сегодня, завтра или чуть позже он отшвырнет свою жизнь, как недоеденный кровоплод, спелый и сочный. Когда его время придет, он сделает это с такой же силой и яростью, как метнул бы дротик в воина-поэта. Но до тех пор он будет жить свободно, не зная страха.
Сила ахимсы заключается не только в готовности умереть, подумал Данло, но и в готовности жить. Жить совсем без страха – это страшно.
– Да, – повторил он. – Я готов… услышать твои стихи. – Он сделал к воину-поэту шаг, потом другой. Нож Марека слегка изменил положение, и темно-синий блик упал Данло на лицо.
Воин-поэт убрал нож от глаза Ханумана и медленно, со значением улыбнулся. Данло сделал еще шаг, и нога его словно повисла в воздухе. Запах масла каны, очень сильный теперь, напоминал ему о ночи его посвящения, когда он лежал под звездами и учился быть выше боли и смерти. А еще он узнал, каким было детство воина-поэта – он читал это по лиловым вспышкам молний в глазах Марека. В чертах золотистого лица он видел маленького ребенка, бессознательно чувствующего страшную близость смерти. Искусство воинов-поэтов заключается в том, чтобы перевести это чувство на сознательный уровень. Воин-поэт улыбнулся Данло, приложив к губам фиолетовое кольцо, и когда он совершил это движение, преодолев тяжкую власть пространства и времени, на Данло обрушалась волна воздуха, волны мельчайших молекул. Его ноздри были открыты этому воздуху, открыты запаху масла каны, который пронизывал его нервы и вонзался в мозг. Данло подошел еще ближе, не в силах оторвать глаз от ножа воина-поэта. Скоро, если он не сможет закончить стихи, этот нож пройдет через глаз ему в мозг, и жизнь в один ослепительный момент покинет его. Да, он завершится, но не погибнет. Когда он отшвырнет ее прочь, это не значит, что ее больше не станет, ибо жизнь нельзя отменить или уничтожить. Когда острый холодный нож пробьет кость за его глазом, кровь хлынет из него, как река. Она оросит каменную стену, ступени и чугунные перила, обагрит черные волосы воина-поэта, коснется его прекрасных глаз ожогом железа и соли, она упадет на лицо Ханумана, как утренний свет, а когда Хануман откроет рот, чтобы в последний раз крикнуть «нет», она попадет ему на язык и просочится в горло, в струящиеся жизнью ткани его тела. Кровь будет течь бесконечно, как океан – она все затронет, и все напитает, и сделает еще более живым. Он будет жить во всем и вечно, так же как пронзительный запах масла каны, и чудесные краски одежды воина-поэта, и прекрасная сломанная душа Ханумана отныне вечно живут в нем.
– Поди сюда! – Воин-поэт улыбался ему, как потерянному и вновь обретенному младшему брату. – Этого достаточно – я думаю, ты готов услышать стихи.
Сделав десять быстрых шагов, Данло оказался на лестнице и встал рядом с Хануманом. Он коснулся окровавленной руки друга, его блестящего лба и холодных витков жгучего волокна. Воинпоэт стоял так близко, что Данло мог бы потрогать и его.
– Пожалуйста, развяжи его, – сказал Данло. – Ты согласился прочесть мне стихи – значит, его надо освободить.
Воин-поэт придвинулся вплотную, окатив Данло ароматом масла каны и провел острием ножа по кокону на груди Ханумана. Волокно отозвалось металлическим звуком, но осталось целым и неповрежденным.
– Волокна касии трудно перерезать. И даже если бы я мог его освободить, то не стал бы. Если я это сделаю, он попытается убить либо меня, либо себя.
Хануман к этому времени дрожал от ярости и боли, вперив свои неподвижные светлые глаза в Данло. Трудно было судить, понимает ли он то, что они говорят.
– Но если я… не смогу закончить стихи, ты освободишь его, да?
– Определенным образом. У меня есть средство, которое его усыпит – через трое суток он проснется и будет жить, если захочет.
– Тогда дай ему это средство.
– Не сейчас. Он должен быть в сознании, чтобы видеть момент того, кто занял его место.
– Но…
– Если ты ответишь правильно, то сможешь сам дать ему это средство. Им заряжен пурпурный дротик, который ты бросил в коридоре – помнишь?
– Помню. Прочти мне свои стихи.
Воин-поэт заглянул в глаза Хануману.
– Плохо дело. Твой друг миновал свой момент. Теперь мы никогда не узнаем, что могло бы быть возможным… для него.
– Загадывай же стихи, пока еще не поздно.
Воин-поэт кивнул и достал из бокового кармана камелайки иглу с розовым наконечником.
– Стань, пожалуйста, спиной к перилам, рядом со своим другом.
Данло стал бок о бок с Хануманом, и чугун надавил на его позвоночник. Позади него спускались вниз ступени, шипел пар и булькала в трубах вода.
– Ты ведь не станешь меня связывать… этим жгучим волокном?
– Нет. – Воин-поэт стоял перед Данло, глаза в глаза, и его дыхание пахло медом и апельсинами. – У меня его больше не осталось.
– Тогда почему я не могу стоять просто так, без яда?
Воин-поэт левой рукой поднес парализующую иглу к шее Данло – в правой он держал нож.
– Если ты не сумеешь закончить стихи, то, возможно, захочешь убежать.
– Не стану я убегать.
– Или начнешь бороться, чтобы избежать экканы. – Воинпоэт кивнул на Ханумана. – Ты ведь видел, как эккана лижет душу языками пламени.
– Да, видел. Но разве нельзя… достичь момента возможного без экканы?
Воин-поэт, не сводя с Данло пристального взгляда, улыбнулся.
– Может быть, и можно. Посмотрим.
Данло, чувствуя рядом плечо Ханумана, ощупью нашел его руку, горячую и скользкую от крови. Крепко сжав ее, он сказал:
– Говори же свои стихи.
Воин-поэт, почти касаясь грудью его груди, приставил иглу к горлу Данло и нацелился ножом ему в глаз.
– Ты любишь поэзию, молодой Данло? Ты знаешь много стихов?
Услышав этот вопрос, Хануман ожил. Он визгливо засмеялся и дважды сжал руку Данло, напоминая ему секретным кодом о тех ночах, когда тот заучивал стихи для Педара.
– Да, кое-какие знаю. – Данло умолчал о том, что за последние полгода выучил около двенадцати тысяч стихотворений.
– Теперь мало кто сохранил вкус к поэзии. А ведь когда-то она была душой цивилизации.
– Мой отец… любил поэзию, – ответил Данло, не зная, что сказать.
– Это известно. Рингесс как-то сказал, что стихи – это мечты вселенной, кристаллизовавшиеся в слова.
– А поэты – та часть вселенной, которая предается мечтам?
– Верно. Но мечты, как ни печально, порой губят мечтателя. За совершенство слов расплачиваются сломанными жизнями.
Данло, несмотря на чрезвычайность ситуации, улыбнулся.
Самый большой парадокс воинов-поэтов – это, пожалуй, то, что ради достижения момента возможного они пользуются не только ножами, но еще и стихами.
– Сейчас я прочту тебе начальные строки одного стихотворения, старого-престарого – готов ли ты услышать их, Данло ви Соли Рингесс?
Хануман внезапно стиснул руку Данло, словно цепляясь за камень на краю пропасти.
– Да, – сказал Данло. – Читай.
И воин-поэт, шевеля губами в нескольких дюймах от лица Данло, произнес звонким сильным голосом:
Свет священный детских лет, Негасимый ясный свет! Как счастлив я…Данло, слушая эти полные совершенства слова, смотрел на огненные шары, заливавшие лестницу своим ярким светом.
Свет падал на лицо воина-поэта и окрашивал каждый камень и каждую полоску раствора в стене цветами кобальта, лаванды и розы. Данло, под впечатлением этой красоты и совершенства, улыбнулся, глядя в глаза воину-поэту.
– Ты хорошо расслышал, молодой Данло? Я повторю еще раз – слушай как следует:
Свет священный детских лет, Негасимый ясный свет! Как счастлив я…Слова лились в уши Данло чудесной золотой музыкой. Ему можно было и не слушать их во второй раз. Он превосходно помнил все стихи, которые знал наизусть, и после первого же прочтения понял, что этих стихов не знает.
– Тебе остается прочесть четвертую строку. – Воин-поэт приблизил нож еще на полдюйма к глазу Данло. – Ты ее знаешь?
Твердая маленькая рука Ханумана дрогнула в руке Данло.
– Скажи ему, Данло. Скажи.
Данло видел теперь, что лицо Ханумана тоже прекрасно и что оно играет всеми красками надежды. Хануман был уверен, что он знает стихотворение. В этот момент он верил, что Данло знает все стихи во вселенной.
– Ну, говори же!
Данло покрепче сжал его руку, набрал воздуха и прочел сам:
Свет священный детских лет, Негасимый ясный свет! Как счастлив я…И его голос затих, уходя в бесконечность. Данло надеялся, что он ошибается, что стихотворение еще отыщется в памяти, как алмаз среди груд простого камня. Он надеялся, что одно совершенное слово повлечет за собой другое, и он, произнеся строфу с самого начала, вспомнит ее конец. Но как можно вспомнить то, чего никогда не знал?
– Я прочту стихи в третий раз, – сказал воин-поэт. – В третий и в последний. Если ты не сможешь закончить, то должен будешь приготовиться к своему моменту.
Свет священный детских лет, Негасимый ясный свет! Как счастлив я…– Так что же, Данло ви Соли Рингесс?
Длинные ногти Ханумана впились ему в ладонь. Кровь закапала вниз, и нельзя было понять, чья она – Ханумана или его.
– Данло, Данло, – прошептал Хануман с обезумевшими от боли глазами. – Ну пожалуйста.
Данло остро ощущал запах масла каны и горько-сладкое дыхание поэта. В мире не осталось ничего, кроме гортанных стонов Ханумана, собственного глубокого дыхания и серебристого блеска иглы и ножа. Голова была пуста, как чернота между звездами. В ней не было ничего – и было все. Был свет огненных шаров, отражающийся от полированного базальта красивыми волнами. В свете всегда есть что-то дикое и странное, как будто несметные миллионы его фотонов несут с собой память о далеких звездах и иных временах. Данло знал почему-то, что в свете можно закодировать все: надежды, слова и сокровеннейшие мечты вселенной. При этой мысли световая завеса, падавшая на него (и на Ханумана, и на воина-поэта), разодралась, и за ней открылось нечто, на что нельзя было смотреть и от чего нельзя было отвернуться. Это был свет по ту сторону света, высший и низший свет. Он состоял из тысячи странных новых цветов, почти невыносимых для глаза, и в каждом оттенке заключался целый мир – пространство, память и время. И Данло чувствовал, что позади его глаз, глубоко в крови, тоже живут целые миры, а в них заключены другие.
Эта глубина и странность, которую он открыл в самом себе, поражала его. С его памятью творилось что-то непонятное, как будто в ней содержалось гораздо больше, чем он когда-либо знал. Он должен был вспомнить себя. В его жизни (а может быть, и в жизни других людей) было что-то очень важное, что он должен был вспомнить. Теперь, как и в каждый момент своей жизни, он, как ребенок на берегу океана, всегда находился на пороге этого великого откровения, но оно каждый раз ускользало от него. Его преследовало ощущение утраченного времени и страшное подозрение, что он забыл целые куски своей жизни.
Но самым ужасным была уверенность, что эти воспоминания лежат где-то у самой поверхности его души – ждут и струятся, как океан под корой льда и снега.
Я забыл, что забыл…
Воин-поэт в странном свете лестницы, глядя на Данло с жуткой улыбкой, потрогал своим красивым пальцем лезвие ножа. И тут, словно айсберг, рухнувший в звездное море, в уме у Данло возникло слово. За ним явились другие, великолепные и совершенные. При всей своей странности они показались Данло старыми знакомыми, точно он когда-то сочинил их сам – вернее, не когда-то, а прямо сейчас, как будто только эти простые словам могли достойно завершить строфу.
В мире…
– Данло ви Соли Рингесс, – прошептал воин-поэт, – готов ли ты к своему моменту.
Данло слегка склонил голову, но прежде чем воин-поэт коснулся его своим ножом, прочитал, глядя ему в глаза:
Свет священный детских лет, Негасимый ясный свет! Как счастлив я… В мире, славящем меня!– Да! – вскричал Хануман, сдавив руку Данло. – Да! Вот он, стих!
Пять секунд Данло смотрел воину-поэту в глаза, подмечая там оттенки изумления, восторга, почтения и страха. С бесконечной грустью воин-поэт убрал иглу от шеи Данло и опустил нож.
– Ты ответил правильно, – сказал он Данло. – По правилам моего ордена миг спустя ты будешь свободен.
Он отошел на несколько шагов назад, не сводя глаз с Данло и Ханумана. Взглянув на их соединенные окровавленные руки, он спрятал иглу обратно в карман, однако нож оставил.
В коридоре позади него стал слышен скрип дверей и приглушенные голоса, но он не обращал на это внимания.
– Почему… он хочет… освободить нас? – выговорил Хануман.
– Потому что я должен, – ответил воин-поэт.
– Но ведь ты… подрядился… убить меня!
– Да, и поэтому многие избегают заключать контракты с нашим орденом. Впрочем, прошло уже много времени с тех пор, когда мы в последний раз разрешали кому-то занять место своего друга. Это произошло 212 лет назад, в храме на Жакаранде, перед Валерианскими воротами. А из тех немногих, кто искал момента возможного, никто так и не смог завершить стихи – до сегодняшнего дня.
Воин-поэт устремил пристальный, глубокий взгляд на Данло, ликующего и озадаченного собственным успехом, но тут на Ханумана напал кашель, и он стал задыхаться.
– Можно мне взять дротик? – спросил Данло. – Чтобы он мог… уснуть?
– Один момент. Есть еще одно, что Хануман должен видеть, если уж действовать по всем правилам.
– Что же это?
Жесткая улыбка тронула губы Марека.
– Мне заплатили за жизнь – ведь я говорил тебе?
– Да, – растерянно ответил Данло. – Дядья Ханумана заплатили за то, чтобы ты вонзил нож ему в глаз.
– Это не так. Ты не понял сути нашего контракта. Дядья Ханумана хотели, чтобы его убили надежно, на расстоянии. С помощью яда или вируса. Недорогая смерть, лишенная всякой чести.
– Я все еще не понимаю.
– Мы разыскивали Ханумана весь прошлый год. Мы подозревали, что он отправился в Невернес, а потом наши информаторы подтвердили это. Они же сообщили нам, что хариджаны возмущены смертью мальчика по имени Педар, с которой связывают имена Данло ви Соли Рингесса и Ханумана ли Тоша.
– Значит, хариджаны тоже заказали… убить Ханумана?
– Нет, разумеется. Воины-поэты не заключают контрактов с хариджанами. Единственные, с кем мы договаривались, – это Архитекторы.
– Но тогда…
– Узнав, что Хануман причастен к смерти Педара, мы усмотрели в этом повод изменить контракт. И меня послали в Невернес.
– Но Хануман непричастен к смерти Педара.
– Я другого мнения. Я с самого начала подозревал, что он имеет прямое отношение к этому несчастному случаю.
– Что ты такое говоришь! – Данло, продолжая держать Ханумана за руку, повернулся к нему, но лицо его друга было бледным и пустым, а взгляд – устремленным навстречу собственной боли.
– Я подозревал, что Хануман убил Педара, но не мог знать наверняка, пока не увидел его лица. Вот почему, в первую очередь, я подкупил эту безобразную библиотекаршу, чтобы она впустила меня в это безобразное здание. Чтобы подойти к Хануману поближе и рассмотреть его лицо.
– Но Хануман… не мог убить Педара!
– И все-таки он убил его. Убил умышленно. Посмотри на лицо своего друга! Он слышит нас и понимает. Имеешь ли ты какое-нибудь представление о цефической технике? О том, что лицо всегда выдает правду? Прочти эти знаки, молодой Данло. Нет, не только то, как он прикусывает губу. Взгляни ему в глаза и заметь, как расширяются и снова сужаются его зрачки при каждом упоминании слова «убийство». Педара убил он. Возможно, с помощью какого-то наркотика, который заставил Педара оступиться. Он убил Педара, чтобы спасти твою жизнь. Из любви к тебе. Он был способен убить из благородных побуждений – я заподозрил это после разговора со старейшинами хариджан. И убедился в этом, когда связал его жгучим волокном и спросил, достало ли у него мужества стать убийцей. Глазами он ответил мне «да». Редкого благородства человек наш Хануман ли Тош. И потому заслуживающий редкой и благородной смерти. Настоящей смерти – жаль, что он никогда уже, наверно, не переживет свой момент возможного после того, как ты его освободил.
– Хануман не убийца! – крикнул Данло. – Убийца – ты! Ты, со своим контрактом, своими иглами и своим ножом!
Воин-поэт не стал спорить и только посмотрел на нож, который держал легко и небрежно.
– Да… мой контракт.
Голоса в коридоре стали громче, и воин-поэт оглянулся через плечо. Какой-то старый библиотекарь и послушник в белой форме шли в их сторону. Библиотекарь двигался с трудом, наклонясь к послушнику – видимо, они только что закончили свое путешествие через пространство ши, но гид все еще считал нужным руководить разговором. В этот миг что-то – возможно, стон Ханумана – заставило библиотекаря остановиться и вскинуть голову. Сквозь облако пара он посмотрел на ярко освещенную лестницу. При виде воина-поэта с ножом в руке он закрыл лицо ладонями, вскрикнул: «О нет!», схватил послушника за руку и увлек его в противоположную сторону. Топот их бегущих ног эхом прокатился по коридору и затих.
– Теперь сюда придут библиотекари со своими роботами, – сказал воин-поэт. – У меня остается мало времени, чтобы выполнить свой контракт.
– Что ты хочешь этим сказать?
– Мне заплачено за жизнь. То, что произойдет сейчас, Архитекторов не удовлетворит, однако контракт есть контракт.
Он встал, слегка расставив ноги и глядя прямо на Данло, обратил нож острием к собственному лицу и улыбнулся.
– Нет… не надо! – сказал Данло.
Он двинулся к воину-поэту, но тот достал из кармана фиолетовую иглу.
– Пожалуйста, не приближайся ко мне. На сегодня оплачена только одна жизнь, а не две. Твой момент может настать быстрее, чем ты думаешь.
– Мой момент?
Левой рукой воин-поэт направил на него иглу, правой поднес нож к своему красивому глазу.
– Я сказал, что пришел в библиотеку в первую очередь ради того, чтобы увидеть достославное лицо твоего друга. Это правда, но у меня была и другая причина – мы, поэты, любим многозначные миссии. Покончив с Хануманом, я пришел бы к тебе, Данло ви Соли Рингесс. Не затем, чтобы убить – не в этот раз. Чтобы увидеть. Чтобы самому посмотреть, кто ты есть. Ибо у нас, воинов-поэтов, появилось новое – оно же и старое – правило: находить и убивать всех потенциальных богов. Знаешь ли ты, что причиной этого послужил твой отец? Мэллори Рингесс – просто Рингесс. Меня послали в Невернес, чтобы проверить, сын ты своего отца или нет.
По правде сказать, Данло в этот прекрасный и жуткий момент сам толком не знал, кто он. Самому себе он представлялся чужим, а его собственная жизнь – загадкой, столь же глубокой и необъяснимой, как и то, что он вдруг вспомнил стихи.
– Его отец… – начал Хануман, но закончить не смог. Он вцепился в руку Данло, лицо его искривилось, и терзающие его волны боли стали почти видимыми.
Воин-поэт, не сводя глаз с Данло, сказал:
– Для тебя возможность есть. Ты будешь тем, кем будешь. Ты выберешь сам, Данло ви Соли Рингесс. Когда-нибудь придется выбрать. А мы подождем, пока ты не сделаешь свой выбор.
С дальнего конца коридора, со стороны вестибюля, послышались звуки: слабый гул голосов, скрип металлических колес и многочисленные шаги.
– Пора. – Воин-поэт устремил взгляд на нож. Казалось, что все его сознание сузилось, слившись воедино со смертоносным блестящим лезвием. – Странно. Всю свою жизнь я жил ради этого момента. А теперь, когда он настал, я вижу, что не готов умереть.
– Не умирай тогда. Живи.
Все в Данло – его любовь к ахимсе, его чудодейственная воля, его глубокие, такие живые глаза – говорило воину-поэту о жизни. Но существует единство противоположностей, и ирония – закон вселенной. Пока Данло смотрел на воинапоэта, чувство родства и жуткой радости пробежало между ними. Воин-поэт улыбнулся Данло и сказал:
– Спасибо – теперь я готов.
– Но я не хотел…
– Вот мои последние стихи. Предсмертные – я дарю их тебе на память. Пожалуйста, не забывай их.
В коридоре появились пятеро кадетов-библиотекарей с лазерами под прикрытием катящегося на колесах робота, и воинпоэт, взглянув на Ханумана и Данло, быстро прочитал:
Двое друзей Соединили правую и левую руки. Моя смерть – моя жизнь.Он закинул голову к свету огненных шаров и воздел руки, словно взывая к небу над сводами библиотеки. Вытянутые, они вознеслись над ним, словно шпиль собора. В них был зажат нож, сверкающая стальная игла. Бесконечно долгий момент воин-поэт смотрел на его невероятно тонкое острие, а потом со страшной силой вонзил нож себе в глаз. Он целил верно, и нож, пробив кость, вонзился в мозг. Он умер почти мгновенно, с костяной рукоятью, торчащей надо лбом, словно рог какого-то мифического зверя; умер, медленно и бесконечно долго падая на ступени, в тот самый мир, когда Данло ринулся вперед в отчаянной попытке спасти ему жизнь. Спасение запоздало. Воин-поэт упал, лицо исказило гримаса бесконечной боли. Малое количество вытекшей крови удивило Данло.
– Его момент, его момент, о-о! – вырвалось у Ханумана, который смеялся, плакал и выл от боли одновременно.
Робот подкатился к ним и своим лазером разрезал путы Ханумана. Кадеты уже обнаружили тело мастера Берена Смита, и один из них пошел за тремя носилками – для мастера, воина-поэта и Ханумана, который упал на руки Данло. Сердитая маленькая женщина по имени Калере Чу, отправилась в ячейку Ханумана за его одеждой. Данло не мешал кадетам унести Ханумана с ледяных ступеней. Он отыскал на полу коридора нужный дротик, отлетевший к отопительной решетке, и, прежде чем кадеты среагировали, вонзил его сбоку в шею Ханумана. Наркотик, как и говорил воин-поэт, почти сразу же погрузил Ханумана в сон.
– Что ты делаешь? – спросил один из кадетов, крупный испуганный парень лет двадцати. Он потел и все время сглатывал, как будто жевал нечто крайне неудобоваримое. – Хочешь убить его? – Он отпихнул Данло в сторону.
Опершись окровавленной рукой о перила лестницы, Данло увидел наконец, как закрылись измученные глаза Ханумана, погрузив его в забытье.
– Усни, брат мой, – прошептал Данло и посмотрел на воина-поэта, спящего вечным сном. Данло знал, что никогда не забудет его последнего стихотворения и его ужасных слов, отметивших Ханумана ли Тоша клеймом убийцы.
Глава XII МАСТЕР НАСТАВНИК
Воин, носящий два кольца, должен всегда иметь при себе два вида оружия: нож, пресекающий ложь тела, и стих, обнажающий правду разума.
Максима Нильса Ордандо, основателя ордена воинов-поэтовВ последующие дни, как и предсказывал воин-поэт, организм Ханумана так и не избавился от экканы. Поскольку ему предстояло страдать от последствий отравления всю жизнь, его забрали в башню цефиков, чтобы он научился блокировать сигналы, подаваемые в мозг нервами, и контролировать боль. Данло не разрешали навещать друга, но мастер-цефик Хавьер Хэйк постоянно уведомлял его о состоянии Ханумана. Тот, по словам мастера, должен был радоваться уже и тому, что остался в живых: мало кому удавалось спастись от ножа воина-поэта, и уж совсем немногие продолжали жить с экканой, впрыснутой в кровь. Ум Ханумана и его сила воли явно произвели на мастера впечатление, что было нелегко совершить – ведь цефики славятся своей каменной невозмутимостью.
Однажды утром, когда Хануман занимался с цефиками адукхой и другой лечебной техникой, а Данло за завтраком думал о нем и старался припомнить все события, предшествовавшие их встрече с воином-поэтом, он наконец получил приглашение явиться на квартиру к мастеру Бардо. Собственно говоря, это был скорее вызов, чем приглашение, и Данло, наспех проглотив кофе, сбегал за самой теплой из своих шуб. Ночной снег, побеливший здания Борхи, продолжал падать маленькими редкими хлопьями, известными Данло под названием райшей. По дороге к Святыне Послушников райшей сплошь замел его шапку, шубу и длинный черный хвост волос. В каменных коридорах Святыни стоял такой холод, что снег не растаял и к тому времени, когда Данло, сняв варежки, постучался стальным молоточком в дверь квартиры Бардо. Дверь внезапно распахнулась, и хлынувшее оттуда тепло сразу растопило снежную пыль.
– Данло! Я вижу, воин-поэт не тронул тебя. Не стой тут и не напускай холоду – входи и садись! – Бардо, стоя на пороге, широким жестом пригласил Данло внутрь. – Я люблю, чтобы у меня было тепло – тебе, возможно, даже жарко покажется. Давай-ка свою шубу, пока тепловой удар не хватил.
В комнате действительно было очень тепло, и Данло сразу вспотел. В двух каминах у противоположных стен с треском пылали дрова, и на Бардо была лишь одна длинная тонкая рубаха – черная, как пилотская форма, однако сшитая из лучшего японского шелка с драгоценными камнями, а на шее семь серебряных цепей. Комната тоже изобиловала предметами роскоши: у обеденного стола из осколочника стояли невероятно дорогие резные стулья с Утрадеса, на стенах висели фравашийские тондо и гобелены; обстановку дополняли рояль, высокая арфа, синтезатор и шахматный столик с квадратами из опала и обсидиана. На низких столиках в каменных горшках росли деревца бонсай, чей возраст насчитывал несколько тысяч лет. Каждое деревце, с причудливыми ветками и миниатюрными иголками, было по-своему совершенно. Их владельцы, первые из которых, возможно, происходили со Старой Земли, передавали их по наследству или продавали за большие деньги. Данло казалось странным, что взрослые мужчины всю свою жизнь посвящают подрезке и культивированию комнатных растений с целью ограничить их рост – это, должно быть, требовало большого мастерства и больших затрат времени. Если бы он смыслил что-нибудь в денежной стоимости, то подивился бы еще и тому, что эти семь карликовых деревьев стоили мастеру Бардо больше трех тысяч городских дисков.
– Ты что, ценитель бонсая? – спросил Бардо.
– Нет, мастер.
– Я тоже нет. Раньше у меня было еще двенадцать деревьев, но они погибли. Я, наверное, неправильно их поливаю.
Данло потрогал пальцем землю в одном из горшков. Она была перенасыщена влагой – вряд ли корни смогут выдержать.
– Хануман в День Повиновения попросил разрешения самому ухаживать за ними, – сказал Бардо. – По-моему, они его просто очаровали. Ну что ж, пускай – когда выйдет из башни цефиков. Надеюсь, это произойдет скоро. Не доверяю я им, проклятым, – да и кто доверяет? Они смотрят на тебя так, словно хотят влезть тебе прямо в мозги. Чем скорее Хануман освободиться от их йоги и прочих штучек, тем спокойнее мне будет. – Бардо сгреб Данло за плечо и почти что поволок его через комнату. – Сядь вот сюда. – Он направил Данло к обтянутой тюленьей кожей кушетке напротив камина, а сам с довольным вздохом опустился в громадное мягкое кресло, которое когда-то привез с Летнего Мира. Несмотря на ранее утро, он уже принялся за свой излюбленный наркотик: на подлокотнике у него стояла полупустая кружка черного пива. Бардо подался вперед, уперев локти в колени – огонь зажигал рубиновые искры в его черной бороде. – Нам с тобой надо поговорить.
Данло посмотрел в его большие, откровенно хитрые карие глаза.
– Могу ли я задать вам вопрос, мастер Бардо?
– Задавай. Отныне, когда мы наедине, можешь спрашивать меня о чем угодно и без разрешения.
– Мастер Бардо, то, что случилось в библиотеке…
– Пожалуйста, называй меня Бардо. Просто Бардо. Так меня звал твой отец.
– Мой отец…
– Твой отец, – снова перебил Бардо, – Мэллори Рингесс. Как видишь, я это признаю. Я понял это сразу, как только увидел тебя – там, на площади Лави, во время теста, голого как шлюха и полузамерзшего. Твоя дикость – это как раз в стиле Рингесса. Я подумал, что он когда-то побывал у куртизанки, и в результате получился ты. Мне и в голову не пришло, что ты также и сын Катарины. Я должен был догадаться. – Бардо со вздохом постучал пальцем по своему безобразному бугристому лбу. – Мои глаза это видели, но глупые мозги отказывались признать правду.
– Ведь вы были лучшим другом моего отца, да?
Бардо вздохнул и произнес медленно, как бы про себя, с горечью в голосе:
– Разве можно дружить с таким человеком? С человеком, которому предназначено стать богом?
– Но в экспедиции вы были вместе? – У Данло пересохло во рту, в сердце росла боль. – Вы, мой отец… и моя мать.
– Да, мы все потащились за Рингессом на этот проклятый замерзший остров. На Квейткель. И прожили у деваки почти год.
– Деваки, – почти шепотом сказал Данло, вперив взгляд в блестящий паркет. – Благословенные деваки.
Бардо хлебнул пива.
– Ты уже слышал историю своего рождения, верно? – пророкотал он. – От Педара, в день перед тем, как он упал с лестницы. Бедный мальчик. Он показал тебе фотографию нашей экспедиции, так? Я полагаю, ты хочешь узнать всю правду о своем отце и об этой экспедиции. Как это ни печально, но твой отец из-за своего дикого нрава и своей похоти нажил себе врагов среди деваки. Твой отец и твоя мать – вся твоя проклятая семейка со своей склонностью к насилию и к инцесту. Само собой разумеется, что они нажили себе врагов – да и я тоже. Я признаю, что участвовал в этом безумии. Если по правде, я был Мэллори больше чем другом – он любил меня, как брата! Теперь мне кажется, что это было очень давно, а потом мы отправились в эту проклятую экспедицию. Твой отец убил одного деваки по имени Лиам, а брат Лиама убил меня – проткнул мне сердце своим окаянным копьем! Да, у нас там были враги, но и друзья тоже были, в этом-то все и горе. Я любил деваки, а они любили меня. Женщины, само собой, Ментина, Нори и Тасарла, с такими толстыми ляжками, но и мужчины тоже. Хайдар и Вемило были моими друзьями. И Чокло тоже, Чокло в особенности. Большое горе, что ты оказался брошенным, паренек, но за тобой хотя бы Соли присматривал. Твой дед, как ты теперь знаешь, Соли Молчальник – как он там, Леопольд, ничего?
Данло подождал, когда Бардо допьет свое пиво, и ответил:
– Соли умер.
– Да неужели? Великий Главный Пилот наконец-то умер? Как это случилось?
– При моем посвящении в мужчины он съел печень морского окуня… и отравился.
– Вот горе. – Бардо толстым красным языком облизал кружку внутри. – Но с чего вдруг Соли вздумалось есть эту печенку? Почему твоим посвящением занимался он, а не Хайдар?
– Хайдар тоже умер.
– Горе. Я любил Хайдара.
– Они все умерли.
– Что?
– Все умерли, Бардо. Все благословенное племя деваки.
– Все? И Чокло тоже?
– Да.
– Но от чего?
– От болезни.
– Бог мой! – Бардо грохнул кружкой по подлокотнику кресла. – Они были самыми крепкими из всех известных мне людей! Как могли они умереть все поголовно?
Бардо, тряся головой и бормоча что-то под нос, встал и вынул кувшин с пивом из ниши под замерзшими окнами. Наполнив кружку пенистым черным напитком, он сделал глоток и слизнул пену с усов.
– Их убила чума, – сказал Данло. – Вирус, созданный человеком. – Он потрогал шрам у себя над глазом и рассказал Бардо все, о чем узнал в библиотеке: об Архитекторах Вселенской Кибернетической Церкви и развязанной ими чуме.
– Горе, горе. – Капли пота проступали на мясистом лице Бардо и скатывались в бороду. – Горе.
– Мой отец заразил деваки этим вирусом.
– Грязное бактериальное оружие… – Бардо, глядя в окно на снежное небо, говорил тихо, как будто был в комнате один. – Нет, это уж из рук вон. Ничего хуже я в жизни не слышал. Бог мой! Ты, мы все – переносчики чумы? И я тоже. Почему генетики не сказали нам, что у деваки нет иммунитета? Почему я сам об этом не подумал? Зачем мне дан столь великолепный мозг, если не для обдумывания всех вероятностей? А ты, Мэллори, мой друг? Но нет – ты всегда был бесшабашным. Шальным и бесшабашным – такова уж твоя проклятая судьба.
Глаза Бардо остекленели и подернулись поволокой слез, которая делала их еще ярче и усиливала их грустное выражение. Бардо со своими мокрыми красными губами, влажными глазами, потным лицом и раздувшимся от пива туловищем, состоял, казалось, целиком из воды. По его огромному лицу катились волны эмоций: чувства вины, сострадания, жалости к себе и любви, то ли чувственной, то ли братской. Данло подумал, что такой человек должен быть слишком восприимчив к холоду мира: при первом же дыхании зимы он застынет, как лед галилка, и треснет на тысячу кусков.
– Я думаю, теперь все алалойские племена тоже заражены. – Данло зажал большими пальцами глаза, чувствуя влагу и там. Не следовало забывать, что и он, как и все люди, большей частью состоит из воды.
– Да, возможно, – ответил Бардо. – Но мы не должны думать, что они обречены. Это было бы совсем плохо – я даже мысли такой допустить не могу!
– Но шайда-вирус убивает всех, к кому прикасается! Всех невинных, не имеющих иммунитета.
– Должен быть способ снабдить твоих алалоев иммунитетом.
– Правда?
Бардо, хлебнув еще пива, похлопал себя по рокочущему животу.
– Как пилот, я в этом не слишком хорошо разбираюсь. Но разве нельзя привить алалоям те гены-ингибиторы; которые защищают тебя, меня и всякого цивилизованного человека?
– Вы думаете, можно?
– Я надеюсь, ей-богу! По-моему, это очень просто. Даже если придется доставить всех алалоев до последнего к городским генетикам.
При этих словах Данло с внезапным беспокойством потер лоб. Он вспомнил все, что случилось с ним после прихода в Невернес, и сказал:
– Если привезти алалоев в Небывалый Город, они могут перестать существовать как народ.
– По-твоему, лучше, если у них мозги вытекут из ушей?
Данло уставился на огонь широко раскрытыми глазами. В его памяти горели смертные костры, зажженные в ночь гибели его народа.
– Нет, – ответил он.
– Пусть себе возвращаются обратно в свою глушь, когда мы избавим их от этой дурацкой чумы.
– Но их там двести племен!
– Так много? Да, трудновато придется, верно? Договор опять потребуется временно отменить.
– Договор?
Бардо снова приложился к пиву.
– Алалои первыми нашли эту планету. Когда Орден, перебравшись на нее с Арсита три тысячи лет назад, обнаружил, что она заселена ордами дикарей, он вынужден был заключить с ними договор. Разве ты не учил историю Ордена? Наша территория ограничена этим островом, и все контакты с алалоями находятся под запретом.
– Однако мой отец побывал у деваки?
– Да. Но только потому, что Хранитель Времени удовлетворил его просьбу и приостановил действие договора.
Данло потрогал белое перо у себя в волосах.
– Договор нарушили однажды, и деваки больше нет.
– Я сожалею, Данло.
– Вы думаете, его следует нарушить… еще раз?
– Это единственный выход. Теперь, поскольку Хранителя Времени не стало, нам придется обратиться в Коллегию Главных Специалистов.
– Вы полагаете, они удовлетворят такую просьбу?
Бардо, встав, навис над Данло, вытер пот и рыгнул.
– Должны удовлетворить, клянусь Богом! Надо как-то исправлять то, что мы натворили. И в первую очередь это нужно мне, Бардо. У меня есть друзья среди главных. Они ко мне прислушаются. Если способ спасти алалоев существует, мы найдем его – обещаю тебе, Паренек.
Данло улыбнулся. Бардо, понятно, умалчивал о том, что его влияние в Коллегии Главных Специалистов относилось скорее к области желаемого, чем действительного. После проникновения воина-поэта в библиотеку, что явилось прямым следствием смерти Педара Сади Саната (так по крайней мере утверждали враги Бардо), многие главные специалисты предлагали снять Бардо с поста Мастера Наставника. Но простить эту маленькую ложь так легко. Темные, глубоко посаженные глаза Данло, устремленные на него, были так серьезны и полны такой надежды, что Бардо наобещал бы все что угодно – скорее из сострадания, чем ради похвальбы, – и кто бы его за это упрекнул?
– Я и не догадывался, что наша разнесчастная библиотека может стать таким опасным для послушников местом, – продолжал Бардо. – Сначала ты обнаруживаешь источник этого смертоносного вируса, потом появляется воин-поэт. Бедняга библиотекарь – как, бишь, его звали? Мастер Смит. Он первый член Ордена, убитый таким образом с тех пор, как другой воин-поэт ворвался в башню Данлади и чуть не убил Леопольда Соли четырнадцать лет назад. Дурной это знак, когда воины-поэты активизируются – ох, горе, горе.
Цветочные духи Бардо и пивное дыхание так действовали на Данло, что он едва мог дышать.
– Я боюсь за Ханумана, – сказал он.
– Боишься, что другой воин-поэт попытается его убить? Теперь это маловероятно. По законам их ордена после выполнения контракта всякие действия прекращаются. В таких случаях, правда, и убивать обычно больше некого – просто не верится, что Хануман пережил воина-поэта. И ты тоже. Ты такой же храбрый, как твой отец. И вдвое бесшабашнее – будь осторожен, о тебе уж и так сплетничают почем зря.
Данло, смущенно улыбнувшись, встал и посмотрел в окно.
– Загадка в том, – пробасил Бардо у него над ухом, – зачем кому-то понадобилось заключать с воинами-поэтами контракт на убийство Ханумана? И кто этот заказчик?
– Так вы не знаете?
– А ты?
Данло, не желавший рассказывать о том, что услышал на библиотечной лестнице, повернулся к Бардо.
– Да нет… откуда?
– Ты все так же отвечаешь вопросом на вопрос, ей-богу! Это у вас, чертовых Рингессов, в генах, что ли?
– Виноват.
– Я, как Мастер Наставник, должен кое о чем тебя расспросить. Коллегия Главных возложила на меня эту обязанность. Ты, конечно, вряд ли что-то знаешь, но, возможно, воин-поэт сказал что-то, дающее нам ключ к этой загадке. Это мало кому известно, но твой отец говорил мне, что воины-поэты любят побеседовать со своей жертвой, прежде чем убить ее.
– Я… не хочу вспоминать, что он говорил. – Данло вперил взгляд в свои ботинки, уже просохшие у жаркого огня.
– Не хочешь – или не можешь вспомнить? Странно!
– Я боялся за жизнь Ханумана.
– Но за свою, как видно, нет. – Данло поднял голову и посмотрел на Бардо. – Если бы боялся, не вспомнил бы эти проклятые стишки.
– Откуда вы знаете… что я их вспомнил?
Бардо надул щеки и всплеснул руками.
– Откуда знаю? Я скажу тебе, откуда. Ты думаешь, я не повидался с Хануманом? Так вот, я у него был. Он немного смог рассказать мне – он и говорил-то с трудом. Но вспомнил, как ты провел воина-поэта, вызвавшись занять его, Ханумана, место. Он восхищен твоим мужеством, как и я. А еще больше меня восхищает твоя хитрость. Ты использовал ахимсу как оружие, чтобы заставить поэта прочесть тебе стихи, и в результате поэт окочурился. Какая ирония! Ты победил воина-поэта, ей-богу! Как твой отец – ты должен знать, что он тоже однажды победил воина-поэта.
Данло, избегая смотреть Бардо в глаза, прикрылся рукой и потупился.
– Я не знал… что воин-поэт обернет свой нож против себя.
– Но он обернул. Ты загубил его миссию, и он только так мог выполнить свой контракт с проклятыми Архитекторами.
Данло отнял руку от лица и поднял голову.
– Что, заинтересовался? Да, воина-поэта, по всей вероятности, наняли Архитекторы, а не хариджаны, как думает кое-кто из наших дураков. Хотя не секрет, что хариджаны винят в смерти Педара вас с Хануманом. Тебя – из-за твоей преданности ахимсе. Ты противостоял его глумлениям так, что пристыдил его и поставил лицом к лицу с собственной низостью. Ты делал это сознательно, не так ли? Как же, как же – ангслан, эта фравашийская игра в священную боль. Вся сладость иронии в том, что в духовном смысле ты истязал Педара больше, чем он когда-либо истязал тебя. Вот он и лазал по лестнице после тушения огней, и было почти неизбежно, что в одну из ночей он выпьет лишнего и разобьется. Так по крайней мере говорят хариджаны.
Данло, снова опустив глаза, сосчитал до двадцати и спросил:
– Но почему они обвиняют Ханумана?
– Хануман – твой ближайший друг, разве нет? Всем известно, что он вел себя с Педаром вызывающе.
– Тогда главные специалисты должны подумать, что хариджаны наняли воина-поэта, чтобы убить и Ханумана, и меня?
– Так они и думают, но это в корне неверно. Хариджаны считают, что куда более тебя или Ханумана в смерти Педара виновен я. Если бы воину-поэту платили они, это я оказался бы под его проклятым ножом.
Эта мысль, очевидно, подействовала Бардо на нервы. Он потер затылок, рыгнул и тремя большими глотками осушил кружку до дна.
– Стало быть, это Архитекторы. Я знал, что Хануман сбежал с Катавы – он рассказал мне об этом в день, когда принес свой обет. Он сказал, что его семья рассорилась со старейшинами и отец будто бы погиб при загадочных обстоятельствах. Я подозревал заказное убийство – эти чокнутые Архитекторы вечно убивают друг друга. Не могу только понять, зачем им было так далеко и так беспощадно преследовать Ханумана. Что он такого мог им сделать? Впрочем, это не важно. Наш Орден стар и прогнил насквозь, как зубы лорда Цицерона, – но надо отдать нам справедливость, своих мы пока еще не выдаем. Если бы даже Хануман продал свою ДНК слеллеру или убил собственного отца – после того как он прошел в ворота Академии и принял обет, это больше не имеет никакого значения.
Последнюю фразу Бардо произнес без всякой задней мысли, но Данло затаил дыхание, как будто в лицо ему пахнуло холодом. Все, что, даже самым неумышленным образом, связывало Ханумана с идеей убийства, пугало его.
– Я не знаю, зачем воина-поэта послали в Невернес, – сказал он. Воин-поэт и в самом деле не назвал ему истинной причины, по которой Архитекторы заключили контракт на убийство Ханумана. Данло отчаянно хотелось знать, что это за причина, но не хотелось, чтобы Бардо знал об этом его желании. – Но он сказал одну вещь, которую я запомнил. Он сказал, что у воинов-поэтов теперь новое правило. Новое, оно же и старое. Они должны убивать всех потенциальных богов.
– Ах-х, – заволновался Бардо. – Так и сказал? Не соврал ли? Если это правда, с чего ему вздумалось говорить об этом тебе?
– Он спросил меня, сын ли я своего отца.
– Ах-х-х! Не могу выразить, как меня это интересует. Воины-поэты имели вескую причину следить за достижениями твоего отца. Он положил начало. Человек или бог, он тряхнул вселенную так, что небеса заколебались и воины-поэты испугались, что звезды посыплются на них. Не из-за этого ли они вознамерились убивать всех потенциальных богов? И что они подразумевают под словом «потенциальные»? Не могут же они истребить всех хакра кибернетической церкви: еретики в среде Архитекторов кишат, как черви на трупе. Их там миллионы. Поэт явно собирался убить Ханумана за нечто большее, чем какая-то ересь. Может, я чего-то не разглядел в этом мальчике? И поэты полагают, что он способен пойти путем твоего отца? Это, знаешь ли, мысль – тут есть над чем подумать!
Бардо принялся расхаживать взад-вперед, поглаживая бороду и басовито рокоча что-то. Данло, стоя перед камином, тоже задумался. Он ясно помнил, что сказал воин-поэт, обвиняя Ханумана в убийстве Педара. И помнил, что отец шел путем гордыни и насилия: он убил человека по имени Лиам, и воина-поэта, и трех пилотов во время Пилотской Войны – а в конце концов, по воле рока, убил все племя деваки.
– Послушай, – сказал наконец Бардо. – Нам, пожалуй, не стоит распространяться о своих гипотезах относительного того, зачем воина-поэта послали разыскать Ханумана. Понимаешь? Лучше, если ты никому не будешь говорить об этом «новом правиле» воинов-поэтов.
– Я и не собирался.
– Вот и хорошо. Возможно, правды мы никогда не узнаем, но есть и другая гипотеза: может быть, никакого контракта с Архитекторами не было. Может быть, поэт явился в Невернес по приказу своих мастеров на Квалларе. Возможно, в библиотеке он все рассчитал до тонкостей – рассчитал, что ты покинешь свою ячейку и увидишь, как он готовится убить Ханумана. Этот фокус с экканой был задуман как испытание для тебя, и все инсценировано для проверки твоего потенциала. Ах, Данло, Паренек – ты правда сын твоего треклятого отца?
И Бардо заглянул в глаза Данло.
– Ах-ах-х… Почему я не подумал об этом раньше? Ослеп я, что ли, или просто трусил? Возможно ли? Может, мы все – дети твоего мерзавца-отца, его безумной и чудесной души? Ей-богу, кто ты такой? Кто я и кто все остальные? Возможно ли, чтобы другие тоже пошли путем твоего отца? Не было мгновения за последние тринадцать лет, чтобы я не думал об этом. Только почему я не знал, что об этом думал, – вот вопрос. Но теперь я знаю – и знаю, что я знаю, ей-богу!
Бардо издал свой рокочущий смех, как человек, довольный вселенной и всем, что в ней содержится, не исключая и себя самого, потер руки и сказал:
– Мне всегда приятно поговорить с тобой, но сегодня я пригласил тебя по другой причине. Я должен передать тебе кое-какую твою собственность.
Он прошел к столу посередине комнаты, отпихнув ногой с дороги бесценный стул, и взял стоящий там ларец с инкрустацией из жемчужных треугольников и квадратиков осколочного дерева, который затем вручил Данло.
– Красивый, – улыбнулся Данло. Ларец был прохладный на ощупь и тяжелый. – Спасибо вам.
– Нет, ты не так меня понял. Ларец мой – я за него заплатил сто маундов на Утрадесе. А вот то, что внутри, принадлежало твоему отцу – и матери. Ну, открывай же – чего ты ждешь?
Данло повиновался. Крышка бесшумно откинулась на золотых петлях, и он сразу ощутил характерный запах старой кожи.
Внутри лежали две книги, каждая со снежный кирпич толщиной, и прозрачный камень, похожий на кварц. Были там и другие вещи. Стенки ларца, обитые изнутри черным бархатом, мешали рассмотреть все содержимое.
– Ну? – сказал Бардо.
Данло поставил ларец на антикварный чайный столик, взял одну из книг и перелистнул сухие поблекшие страницы.
– Я уже видел эту книгу! – заявил он, изумленно раскрыв глаза. – И держал ее в руках когда-то, давно.
– Но как это возможно?
Снег за окном запорошил дорожки и лужайки Борхи, и Данло вспомнилось другое снежное поле, по которому он ехал когда-то. Воспоминание было слабое – тень воспоминания: однажды, после того как ему нарекли имя в третий день рождения, они с Соли отъехали от берега Квейткеля на лед, где стояла икалу, маленькая снежная хижина. Он вошел в хижину один и нашел там ту самую книгу, которую теперь держал в руках. Но кто-то забрал ее у него – Данло до сих пор помнил свой гнев по этому поводу, а больше ничего не помнил. В памяти, где четко запечатлелась почти вся его жизнь, сохранились только эти невнятные образы и эмоции. Столь загадочное предательство собственной памяти казалось Данло странным и постыдным, и он решил не говорить больше об этом.
– Ты знаешь, что это? – спросил Бардо.
– Да. У Старого Отца в доме было много книг. Он и читать меня научил.
– Ты умеешь читать? Я, должен сознаться, так и не овладел этим варварским искусством. Интересно, зачем фраваши эта морока?
– Но это же очень просто! Гораздо проще, чем читировать идеопласты.
– Правда?
– Ну да. Хотите, я научу вас, Бардо? Это благословенное искусство.
– Прямо сейчас, что ли? – Нос у Бардо был красный, как спелый кровоплод, а глаза приобрели задумчивое, отстраненное выражение. Настроение у него менялось, как одежда, надеваемая или снимаемая по мере надобности в холодный день. – Лучше в другой раз, если ты хочешь, чтобы я помог тебе с твоей алалойской проблемой. У меня на сегодня еще много дел.
Данло открыл книгу на титульном листе, хрустнув кожаным переплетом, и прочитал вслух:
РЕКВИЕМ ПО ХОМО САПИЕНС.
– Это книга Хранителя Времени, – сказал Бардо. – Циничная история человечества, написанная им. Твой отец получил ее от него в наследство – а может, и украл.
Перевернув пару желтых страниц, Данло наткнулся на заинтересовавшее его место:
«Хомо сапиенс – загадка эволюции. Разве не загадка и чудо то, что примерно тот же интеллект, который необходим для изготовления зазубренного наконечника копья, оказывается достаточным для открытия математических теорем. В другой вселенной все могло бы быть по-другому, и человек был бы избавлен от существования в своем нынешнем трагическом качестве: полуобезьяна, полубог».
Данло прочел это Бардо, и тот надул свои толстые щеки.
– Какой, однако, циник был этот Хранитель Времени. Что тебе за охота читать подобные мерзости, Паренек.
Данло с улыбкой склонил голову и достал из ларца другую книгу, в переплете из древней бурой кожи с золотым тиснением, стершимся и облупившимся во многих местах.
– Это собрание стихов, как видишь, – сказал Бардо. – Когда-то Хранитель Времени подарил эту книгу твоему отцу – это уж точно подарок, можно не сомневаться.
Данло пробежал глазами первые несколько стихотворений.
– Я не понимаю этих слов. Буквы мне знакомы, но сложены они совершенно бессмысленно.
– Почти все эти стихи очень древние. Написанные на мертвых языках. Твой отец любил поэзию – поэзию всех видов, – как другие любят женщин.
– Стало быть, и мне придется выучить все эти мертвые языки.
– Вольному воля. Мне лично никогда не хватало на это терпения.
– Спасибо, что отдали мне эти книги, Бардо.
– Они не мои. – Бардо глядел на снег за окном, облизывая ободок кружки. – Я просто хранил их для твоего отца, на случай, если он вернется. Теперь они твои. По правде сказать, я даже рад избавиться от такой ответственности.
Глядя на Бардо, Данло подумал, что на самом деле этот великан вовсе не рад, и сказал:
– Все равно спасибо.
– У меня хранились не только книги. Есть еще кольцо и шар. Достань их, Паренек.
Данло вынул из ларца прозрачный хрустальный шар чуть больше своего кулака, тяжелый, как камень. Это действительно был камень, самый совершенный из камней – скраерская сфера, выточенная из чистейшего, не имеющего ни единого изъяна алмаза.
– О, вот поистине благословенный камень, – сказал Данло. – Имакла, как глаз талло.
– Он принадлежал твоей матери. Такими сферами пользуются скраеры.
– Мать ведь тоже была скраером, да?
– Одним из лучших, когда-либо существовавших.
Данло поднес алмазную сферу к окну. Бронзовые и фиолетовые огоньки затрепетали в ней, словно бабочки, заключенные во льду. Данло заглянул в самый центр, где все цвета сливались в мерцающую, слепящую глаза белизну.
– Я никогда еще не видел такой великолепной, редкой вещи.
– Каждому скраеру, когда он приносит обет, вручается такая сфера. После смерти Катарины твой отец оставил сферу у себя, хотя ее следовало бы вернуть Главному Скраеру.
Данло, заметив, что запятнал алмаз своими пальцами, дохнул на него и тщательно вытер рукавом.
– Бардо, – спросил он внезапно, – вы не знаете, как умерла моя мать?
Бардо прикончил очередную порцию пива и вытер губы шелковым платком.
– Она умерла в пещере деваки, паренек, к нашему великому горю. Умерла, рожая тебя – роды были тяжелые, и она потеряла очень много крови.
Данло заметил, что полнокровное лицо Бардо побледнело, а глаза стали твердыми и блестящими, как бриллианты, и подумал, что этот грустный, обуреваемый страстями человек говорит ему не всю правду.
– Возьми еще кольцо, – торопливо промолвил Бардо, – и мы в расчете.
Данло снова запустил руку в ларец и нащупал на мягком бархате кольцо.
– Покажи-ка.
Данло разжал кулак. У него на ладони лежало пилотское кольцо из черного алмаза. Данло знал, что алмазное волокно каждого такого кольца пропитывается добавками уникального состава, и атомная метка, оставленная в иридии и железе, позволяет отличить одно кольцо от другого. Он надел его на мизинец – оно было ему великовато.
– Кольцо твоего отца, ей-богу! Не надевай его на людях, иначе другие пилоты оторвут тебе палец.
– Но ведь и я когда-нибудь стану пилотом, да?
– На это мы можем только надеяться.
– Тогда, значит, мне можно носить кольцо?
– Это? Нет, Паренек, нельзя – даже когда оно будет тебе впору. У каждого пилота должно быть свое кольцо – тебе вручат его, когда ты принесешь пилотскую присягу.
Бардо со вздохом и кряхтением снял одну из своих серебряных цепей и надел ее через голову Данло.
– Однако ты можешь держать его при себе. Продень в него цепочку и носи на шее. Под одеждой его никто не увидит.
– Вы очень щедрый человек. – Данло расстегнул цепь, надел на нее кольцо и спрятал его под камелайку. – Спасибо.
– На здоровье.
– Мой отец доверил кольцо вам перед тем, как покинул Невернес?
– Да, и это был самый печальный момент в моей жизни.
– А вы не знаете, где он теперь?
Бардо со вздохом потер глаза.
– Я знаю только то, что и все остальные: Мэллори Рингесс исчез шесть лет назад со своим кораблем. Факты говорят, что он отправился в Твердь. Он говорил, что когда-нибудь соединится с этой проклятущей богиней, но я никогда по-настоящему в это не верил. А теперь он пропал.
Данло уставился в огонь, прижимая кольцо к сердцу, и спросил:
– Бардо, кто он теперь, мой благословенный отец?
– Бог! – рявкнул Бардо. – Проклятущий бог.
– Но что значит – быть богом?
– Это только бог знает.
– Но тогда…
– Твой отец, – прервал его Бардо, – первый вспомнил Старшую Эдцу. И, возможно, единственный, кто вспомнил ее во всей полноте. Он заглянул в себя и нашел там тайну жизни – тайну богов. Мне думается, что он открыл секрет бессмертия. Могущество разума – великая сила, и боги должны любить его превыше всего остального.
Данло, продолжая смотреть в огонь, сказал:
– Удел бога – это боль, сплошная боль.
– Вот как? Почему?
– Я… не знаю.
– Твоему отцу его преображение, конечно, досталось тяжелой ценой. Он исковеркал свой мозг! Две трети его мозга заменены микросхемами, биокомпьютерами, которые вставили ему агатангиты, когда вернули ему жизнь.
– Но часть его по-прежнему остается человеческой?
– Возможно.
– И эта его человеческая часть так и существует в его теле? Он такое же существо из плоти и крови, как мы с вами?
– В том-то и вопрос. Но ответа на него я не знаю.
– Но если его мозг остается отчасти человеческим и если сердце у него бьется, как у человека, он ведь должен где-то существовать. Где-то в пространстве-времени.
– Возможно.
– Может, он так и живет в кабине своего «Имманентного»? У какой же звезды кружит теперь его корабль?
– Да откуда мне знать, ей-богу!
– Вы были его лучшим другом.
– Я думаю, – сказал Бардо, возвращаясь к окну, – что он затерялся в Тверди. Она впитала в себя его ум, если не тело.
– Значит, отец… ушел на ту сторону?
– Не совсем. Это было что-то вроде брачного союза. Мистика, конечно, – но я, хотя терпеть не могу мистики, начинаю верить, что это правда.
– Почему?
Бардо, постучав по окну своими кольцами, указал на небо.
– Как иначе объяснить появление Золотого Кольца вскоре после этого? Я верю, что это духовное дитя твоего отца – его и Тверди.
Данло посмотрел в окно и увидел, что снег перестал. Небо, тяжелое и низкое, напоминало намокшее серое одеяло. Он подумал о Золотом Кольце, растущем там, за пределами атмосферы, и поклялся себе, что если когда-нибудь станет пилотом, то отправится туда и разберется в природе того, что создал его отец. Он расстегнул камелайку, потрогал пилотское кольцо и спросил:
– Вы думаете, Золотое Кольцо защитит наш мир от радиации Экстра? Правда?
– Таков был план твоего отца – он вечно строил какие-то планы.
– И жизнь в этом мире будет продолжаться?
– Надеюсь – я-то ведь пока жив!
– Значит, мой отец убил одно племя… но спас мир.
– Ирония ему всегда была свойственна.
Данло прижал костяшки пальцев ко лбу и тихо произнес:
– Халла – путь человека, защищающего свой мир.
– Халла, говоришь?
– Я пойду. – Данло встал, зажав в руке алмазную сферу. Он вспотел, и глаза от пристального вглядывания в небо болели.
Он подумал о своем отце, когда-то убившем Лиама из племени деваки и многих других, и прошептал:
– Шайда – путь человека, который убивает других людей.
Бардо, обладавший острым слухом, покачал головой.
– Не суди его, Паренек. Даже будучи человеком, он был не таким, как все.
– Правда?
– Да, ему было суждено стать богом. Теперь я это вижу. – Бардо взял с подоконника пустой кувшин из-под пива и улыбнулся самому себе, погруженный в мечты и воспоминания. – Ты представляешь, что это такое – сделаться богом?
Данло свободной рукой коснулся его потного лба, а потом взял с чайного столика обе книги, зажал их под мышкой и повторил:
– Я пойду.
– Погоди! Надо, чтобы хоть одна рука была свободна, не то ты упадешь и разобьешь себе нос. – Бардо протянул Данло свой инкрустированный ларец. – Положи сюда книги и шар тоже. Можешь оставить его у себя, если хочешь.
– Спасибо.
– Куда ты так спешишь?
– В башню цефиков. Может быть, мастер Хавьер разрешит мне сегодня повидать Ханумана. Я должен спросить его кое о чем.
– Что ж, ладно. Я пришлю за тобой через несколько дней. Коллегия Главных должна будет принять решение относительно алалоев, и я хочу, чтобы ты при этом присутствовал.
Данло надел шубу и поклонился.
– Спасибо вам, Бардо.
Он вышел из Святыни и покатил по дорожкам Борхи, чтобы задать Хануману один простой вопрос. При этом он очень старался не уронить ларец, который дал ему Мастер Наставник.
Глава XIII КОЛЛЕГИЯ ГЛАВНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Я не стремлюсь что-то улучшать – я хочу лишь, чтобы чего-то стало больше: больше людей, больше мечты, больше истории, больше сознания, больше страданий, больше радости, больше болезней, больше агонии, больше разрывов, больше эволюции, больше жизни.
Из медитаций Джина ДзенимурыУ Бардо ушло не слишком много времени, чтобы добиться решения Коллегии Главных Специалистов по поводу бедственного положения алалойского народа. Пока Хануман оставался под опекой цефиков (Данло по-прежнему не разрешали с ним видеться), Бардо обратился в Коллегию от имени Данло и всех двухсот двенадцати алалойских племен, и главным специалистам не терпелось разделаться с этим неприятным вопросом, равно как уладить дело с хариджанами и разрешить загадку, почему воин-поэт пытался убить простого послушника. Многим из них в равной степени не терпелось избавиться от самого Бардо. Эти люди, серьезные мужчины и женщины, считали Бардо просто молодым пилотом, страдающим напыщенностью и бахвальством. Некоторые заявляли, что он слишком безалаберен (и груб) для Мастера Наставника. Нассар ви Джонс, Главный Печатник, считал, что следствие по делу смерти Педара Бардо провел спустя рукава; немало других упрекали Бардо за устройство жестокого состязания, во время которого на площади Лави погибло слишком много абитуриентов. Бардо вскоре после того, как отдал Данло отцовское кольцо, обнаружил, что судьба самих алалоев мало кого волнует. И никто не хотел приостанавливать действие договора, поскольку Орден в то время занимали куда более глобальные вопросы.
– Какие же они дураки, ей-богу! – сказал Бардо, придя к Данло как-то вечером в Дом Погибели. – Дураки и трусы. Все, о чем они думают, это проклятые обреченные звезды!
По собственному его признанию, Бардо боялся, что Коллегия отнесется к его прошению без должного внимания. Главные специалисты, сказал он, торопятся вернуться к своим дебатам на тему, посылать вторую экспедицию в Экстр или нет.
– Поговаривают даже об организации в Экстре второй академии. Раздел Ордена, легальный раскол ради расширения нашей власти. И для того чтобы помешать Вселенской Кибернетической Церкви взрывать эти поганые звезды. Трепотня и больше ничего – старые лорды любят языки почесать. Известно тебе, что они обсуждают этот вопрос уже шесть лет, с самого возвращения неудачной первой экспедиции? Помяни мое слово, Паренек: ты успеешь вырасти и принести пилотскую присягу, прежде чем они перестанут трепаться и начнут действовать. Ну почему твой отец бросил нас на произвол этого дурацкого совета? Не понимаю! Когда он был главой Ордена, да и при Хранителе Времени тоже, здесь что-то делалось.
Как ни грустна эта история, но совет – действительно самый неэффективный и подверженный коррупции орган правления. В то время, когда Бардо подал свое прошение, Коллегия являла собой яркий пример как неэффективности, так и коррупции. Шесть лет назад, после неожиданного исчезновения Мэллори Рингесса, будущее Ордена перешло в руки его главных специалистов. Ранее Орденом с незапамятных времен правил суровый авторитарный Хранитель Времени, которого затем на краткий срок сменил Мэллори Рингесс. И главные специалисты, боясь прихода нового диктатора, постановили, что отныне у Ордена больше не будет единого главы. С 2942 года Коллегия – 121 представитель различных дисциплин Ордена – пыталась править на основе консенсуса. Это был благородный эксперимент, попытка реформировать наиболее почтенные установления Ордена, но закончилось все провалом. Иначе и быть не могло. Самая суть Ордена заключается в управлении личными страстями, амбициями и мечтами. Искатели несказанных истин вселенной, принесшие присягу и выполняющие свою миссию сообща, должны занять свое место в иерархии, организованной кем-то одним. В противном случае настанет хаос; люди откроют для себя сто или тысячу индивидуальных истин, которые разрушат всякий порядок и сметут созданные человеком структуры, как стая голодных чаек, расклевывающая мертвого кита. Нужен какой-то единый взгляд, а взгляд – это неотъемлемая черта живого организма, будь то мужчина, женщина или животное, отыскивающее дорогу среди снежных полей мира. У совета из нескольких человек зрение еще хуже, чем у снежного червя, зарывшегося в сугроб. Главные специалисты Ордена на первом году своего правления увязли в бесконечных спорах по поводу правил внутреннего распорядка, протокола, религиозных и политических определений, по поводу креационизма, кибернетического гностицизма и прочих идеологий. Единственное, на чем они сошлись, было то, что демократия, основанная на консенсусе, невозможна.
Осознав это, Коллегия реорганизовалась и стала решать все важные вопросы большинством голосов, которое должно было составлять две трети от общего числа. Президиум из четырех главных специалистов устанавливал повестку дня, занимался административной деятельностью и принимал меры, когда голосование заходило в тупик. Эти четверо, называвшие себя Тетрадой, постепенно приобретали все больше власти. Третьего числа средиземней весны 2944 года Тетрада предложила издать новый канон, давший ей право выбирать, какие дела Коллегии следует рассматривать, а какие нет. Большинство главных специалистов, к стыду своему, только порадовались перспективе быть избавленными от множества мелких вопросов, отнимавших у них массу времени, и проголосовали за новый канон. За три с половиной последующих года Тетрада сочла достойным рассмотрения очень немногие дела. (Дебаты относительно второй экспедиции в Экстр оставались почти единственным вопросом, который Коллегия не уступала никому.) Четверо лордов Тетрады сделались фактическими правителями Ордена. Бардо, презиравший всю Коллегию в целом как безмозглых слепцов, основную часть своего ехидства приберегал для Тетрады.
– Они себя именуют Тетрадой, а по мне они – просто четверка варваров. А уж Ченот Чен Цицерон особенно. Он сказал мне, что Тетрада неправомочна отменить договор. Врет: Тетрада вправе сделать все, что ей охота. Лорд Цицерон говорит, что только вся Коллегия может приостановить действие договора – а вслед за этим заявляет, что не станет отягощать Коллегию принятием подобного решения в такое время! Как они меня бесят, эти старые хрычи, ей-богу! Им ничего не втолкуешь. Но я все-таки добился, чтобы Главный Акашик меня выслушал, иначе нам пришлось бы совсем плохо, а бедным алалоям еще хуже. Николос Старший был другом твоего отца и моим тоже. Власть успела его испортить, но он еще помнит, что такое дружба. Он убедил лордов Цицерона, Палла и Васкес, поставить вопрос на Коллегии. Они соберутся 74-го, тогда мы и получим ответ.
Утром в день заседания Данло облачился в неудобную парадную форму. Внизу этот цельнокроеный комбинезон был достаточно просторен, потому что шаровары делались широкими для удобства езды на коньках, но Данло после приема в Борху окреп, набрал мускулы, и выше пояса комплект стал ему тесен – пришлось попросить Мадхаву ли Шинга застегнуть ему «молнию» на спине.
– И ты позволишь мне прикоснуться к тебе? – осведомился Мадхава в своей саркастически-дружелюбной манере. – К единственному послушнику в истории Ордена, победившему воина-поэта?
Данло с печальной улыбкой надел тесную шерстяную куртку, перчатки, шапку и меховой плащ. Застегнув стальную цепь у горла; он ответил весьма загадочно:
– Никого я не побеждал. В конечном счете воин-поэт одержал верх.
Он встретился с Бардо под холодными световыми шарами на ступенях квадратного белого здания Коллегии Главных Специалистов. В морозном воздухе слышались звуки скалываемого со ступеней льда, скользящих коньков и далеких детских голосов. Городские часы уже прозвонили начало нового дня, но по внутренним часам Данло утро еще не наступило.
Глубокая зима – самое темное время года, и солнцу предстояло взойти лишь через несколько часов. Под ними, в тридцати ярдах к северу, поблескивали серебром при звездном свете сто двенадцать деревьев рощи ши.
– Ага, вот и ты! – воскликнул Бардо. – Слушай, я должен предупредить тебя кое о чем. Пару ночей назад я выпил лишнего – это со мной бывает. И не исключено, что я рассказал о твоей победе над воином-поэтом кое-каким ненадежным типам, не умеющим хранить секреты. Они могли передать это своим друзьям. Поэтому приготовься, что тебе будут задавать вопросы – многие старые сплетники захотят узнать, как ты вспомнил эти проклятые стишки. Видно, судьба моя такая – вечно создавать легенды о ком-то другом!
– Спасибо, что предупредили, – с улыбкой ответил Данло.
Бардо, фыркнув, притопнул своими громадными ботинками по белому граниту.
– Ну и холодина, ей-богу! Давай-ка войдем и выпьем кофе – думаю, стариканы продержат нас весь день, прежде чем договорятся до чего-нибудь путного.
Бардо вырядился в шубу из черных соболей с золотом, но от его мехов разило пролитым пивом, дыхание благоухало дрожжами, мутные глаза покраснели, как будто он пил всю ночь. Он двинулся вверх, рыгая на каждой четвертой или пятой ступени, а то и пуская газы. Данло следовал за ним, задаваясь вопросом, как может этот шут в обличье великана спасти алалоев, если он сам себя не может оградить от подобного отупения. Он боялся, что Бардо того и гляди споткнется и расшибет себе голову, но Бардо, привыкший к большим дозам пива, на ногах кое-как держался. Своим громовым басом он потребовал, чтобы им открыли, и двери Коллегии отворились. Встретивший их послушник в парадной форме поклонился Бардо, кивнул Данло и проводил их через пронизанный сквозняками вестибюль в приемную у зала заседаний. Там на простом деревянном столе их ждал голубой кофейник с двумя голубыми кружками. Другой мебели, равно как ковров или украшений, в этой холодной комнате не было.
– Ей-богу, это просто оскорбительно! – Бардо разлил кофе по кружкам и нетвердой рукой подал одну Данло. – Надо бы потребовать стулья. Они что, думают, мы на полу будем сидеть? Или проторчим весь день на ногах?
Однако их не заставили ждать целый день – непонятно, к лучшему или к худшему. Если бы Бардо дали время переработать поглощенное им пиво, он преклонил бы колени перед Коллегией с ясным взором и замкнутыми устами, вследствие чего будущее Ордена и Невернеса могло бы обернуться совсем по-другому. Если бы – самое магическое из всех выражений, но скраеры учат, что оно всего лишь иллюзия. Вернее, иллюзорна наша вера в могущество случая. Согласно древней метафоре, все события чьей-то жизни, все миллиарды миллиардов «если бы» и моментов возможного – всего лишь молекулы воды, из которых состоит река. Какими бы хаотическими ни казались пороги и водовороты, сама река течет в одну сторону, к морю. Так и с жизнью: то, что случилось, должно было случиться, говорят скраеры. Поэтому Бардо, в самом глубоком смысле, сам выбрал свое будущее и воплотил его в жизнь посредством одной только воли.
Не успели они допить свою первую кружку, вернулся послушник и сказал:
– Пора. Сейчас будет вынесено решение по вашему делу. Мастер-пилот и Данло Дикий, прошу вас следовать за мной.
Послушник открыл дверь и пропустил Бардо и Данло в зал заседаний. Данло, словно при выходе из пещеры на свежий воздух, ошеломили новые ощущения. Яркий свет холодных тонов лился из огненных шаров, расцвечивая огромное помещение красными, синими и золотыми бликами. Круглые стены сверкали полированным белым гранитом; высоко вверху, где обитало хаотическое эхо, сквозь клариевый купол сияли звезды. От черных плит пола шел холод, и это место показалось Данло каким-то бесчеловечным, хотя его ожидало здесь много людей. Главные специалисты Ордена – сегодня они присутствовали в количестве ста десяти человек – сидели за столами из блестящего дерева джи. Столы, имеющие форму полумесяца, располагались концентрическими дугами на дальней стороне зала, и за каждым сидели четверо или пятеро лордов. (Данло, подойдя ближе, стал чувствовать на себе взгляды каждого из них. Он слышал гул голосов и дыхание сотни человек, но тишина преобладала. Послушник попросил их с Бардо преклонить колени на квадратном фравашийском ковре в самом центре зала. Лорды сидели вокруг так близко, что Данло различал на их суровых лицах черные, карие и голубые глаза. Многие из них были стары, а некоторые омолаживали свои тела уже второй или третий раз. Здесь стоял сладковатый запах, а от столов пахло лимонной политурой. Данло так захлестнули эти ароматы вместе с пивным дыханием Бардо и собственным едким потом, что он едва расслышал, как послушник докладывает о них:
– Милорды, вот мастер-пилот и Мастер Наставник Пешевал Лал по прозванию Бардо и послушник Данло ви Соли Рингесс.
Центральный стол прямо перед Данло, лицом к двойным дверям зала, занимали четверо лордов Тетрады.
Один из них, высокий и худощавый, с коротко остриженными волосами и черными зубами, смотрел на Данло в упор.
Это был Главный Пилот, Ченот Чен Цицерон.
– Данло ви Соли Рингесс, – произнес он, – мы рады видеть тебя среди нас. С прошением к нам обратился мастер Бардо, но сделал он это от твоего имени. Поэтому основным просителем являешься ты, и Коллегия по ходу дела будет обращаться непосредственно к тебе. Устраивает ли это тебя, молодой послушник?
Данло, глядя на мягкое лицо лорда Цицерона, вспомнил то, что говорил о нем Бардо: этот человек, самый старый из всех пилотов, лжет по привычке, с легкостью мальчишки, бьющего мух; он изворотлив, но при этом неумен, и словоохотлив, но редко говорит то, что другим представляется правдой.
Он был еще и нетерпелив, несмотря на возраст. Не услышав немедленного ответа, он повторил:
– Устраивает ли это тебя, молодой послушник?
– Да, – ответил Данло.
– Превосходно.
– Зато меня не устраивает, Главный Пилот! – загремел Бардо. – Что я вам – камень, лишенный слуха и речи? Алалои заражены гнусным вирусом, и меня тоже волнует их судьба, ей-богу!
Он стоял на коленях, потея и свирепо глядя на Ченота Чена Цицерона, но не упомянул, однако, о том, что он, Бардо Буйвол, известный любитель женщин, лично заразил многих молодых алалоек своей спермой, если и не самим вирусом.
Лорд Цицерон кивнул другим лордам Тетрады. Справа от него сидели Главный Эколог, Мариам Эрендира Васкес, и Николос Старший, тихий дородный человек, чья природная застенчивость во времена кризиса уравновешивалась стойкостью и стальной волей. Он прославился своим участием в расколе, который тринадцать лет назад привел к Пилотской Войне и свержению Хранителя Времени. Из всей Тетрады он был самым уважаемым и популярным. А Одрик Палл, Главный Цефик, сидящий слева от Цицерона, был тем, кого больше всего боялись. Он страдал редким генетическим заболеванием – альбинизмом: кожа и волосы у него имели цвет выбеленной кости, а радужки его розовых глаз словно окунули в молоко, смешанное с кровью. Он был очень стар – говорили, что теперь, после смерти Хранителя Времени, он самый старый в Городе человек. Обменявшись взглядами с лордом Цицероном, он сделал своими скрюченными пальцами какой-то знак. Лорд Палл никогда не пользовался голосом и разговаривал только знаками или на тайном мимическом языке цефиков. Одни считали, что он родился немым, другие – в основном его ученики – утверждали, что он просто утратил привычку к устной речи и его голосовые связки за ненадобностью атрофировались. Данло, глядя снизу на этого страшного старца, думал, что лорд Палл, должно быть, наделен зловещей тайной силой. Поистине шайда-человек: циничный, все повидавший, острый умом и лишенный всякой человечности.
Лорд Цицерон, постучав пилотским кольцом по столу, обратился к Бардо:
– Лорд Палл напоминает нам, мастер-пилот, что, как бы ни дорожили мы вашим мнением, вам разрешается говорить лишь в том случае, когда вопрос обращен непосредственно к вам. Вас это устраивает?
– Как моча в качестве напитка.
– Что такое?
Данло, держа спину прямой, переводил взгляд с лорда Цицерона на Бардо. Он знал, что эти двое враждовали еще до того, как заняли противоположные стороны в Пилотской Войне.
В кадетские годы Бардо лорд Цицерон был самым суровым и жестоким из его наставников. Назначение Цицерона Главным Пилотом тоже немало взбесило Бардо – все знали, что он сам мечтал занять этот пост, а Цицерона на дух не переносил. Надув щеки, багровый от выпитого пива, Бардо выпалил:
– То, что слышали.
Воинственный настрой Бардо произвел неблагоприятное впечатление как на Тетраду, так и на всю Коллегию. Лорды покачивали головами и перешептывались. Главный Эсхатолог Коления Мор, Джонат Парсонс, Родриго Диас, Махавира Нетис и Бургос Харша – все выражали Бардо свое неодобрение. На Данло они смотрели с жалостью, как на человека, связавшего свою судьбу с таким грубияном.
– Мастер-пилот, – сказал Цицерон, – разумно ли оскорблять тех, у кого вы просите согласия в столь исключительном деле?
Бардо положил тяжелую руку на плечо Данло и склонился к нему головой. Данло остро чувствовал, что все взгляды в зале устремлены на них. Ему стало трудно дышать и захотелось оттолкнуть Бардо, но он сохранил свою официально-учтивую позу.
– Да пошли они все! – зашептал ему Бардо. – А Цицерон – первостатейный лгун и притворщик. Делает вид, будто наше поведение еще способно как-то повлиять на Коллегию. Посмотри на них, Паренек! Не надо быть цефиком, чтобы понять, что старые хрычи уже приняли свое решение.
Данло посмотрел на лордов, очень представительных в своих янтарных, индиговых, серых и всевозможных других парадных одеждах. Их лица действительно имели весьма решительное выражение.
– Мастер-пилот, вам не разрешается разговаривать с мальчиком – слышите? Если вы не способны сдерживать себя, вас удалят.
Бардо рыгнул и злобно глянул на Цицерона, однако промолчал.
– А теперь, – произнес Цицерон, – мы предоставим лорду Васкес ответить просителям.
Мариам Эрендира Васкес разгладила свою ярко-зеленую мантию. Добродушная, с квадратным лицом, она славилась ясностью мышления и прагматизмом. Она улыбнулась Данло и сразу ему понравилась, хотя ее первые слова обескуражили его:
– Данло ви Соли Рингесс, мы с сожалением вынуждены сказать тебе, что твоя надежда на временную отмену восьмого договора была напрасной. И прежде чем приступить к голосованию, мы должны объяснить, почему это так.
Своим ясным, холодным голосом лорд Васкес начала говорить о Войне Контактов и о чумном вирусе, который Архитекторы Старой Кибернетической Церкви вкупе с воинами-поэтами сконструировали для борьбы со своими врагами. Крепко сцепив маленькие квадратные руки, она сидела на стуле вполоборота, обращаясь как к лордам Коллегии, так и к Данло. Она объяснила, каким образом вирус проникает в хромосомы жертвы, становясь частью генетической памяти каждого цивилизованного человека.
– Этот вирус можно считать наследственным заболеванием, которое в большинстве человеческих организмов дремлет уже тысячу лет. И вот теперь, к несчастью, псевдопервобытные племена, известные как ал алой, по всей вероятности, оказались инфицированы им. В них вирус не дремлет – и это катастрофа, поскольку болезнь эта неизлечима.
Неизлечима, повторил про себя Данло. Он сжал кулаки, и воротник вдруг стал ему очень тесен. Речь Главного Эколога, обрекающей алалоев на верную смерть, обострила его чувства.
Он слышал, как ветер шуршит льдинками о купол, как гневно бормочет Бардо и как лорд Цицерон, вздыхая, посасывает свои черные зубы. В зале многие вздыхали, и в их взглядах, устремленных на него, Данло видел жалость. Гранитные стены и колонны вокруг говорили о суровости Ордена, который за тысячи лет своего существования принял слишком много трудных решений. Четкий голос лорда Васкес отражался от стен: «Болезнь эта неизлечима». Данло закрыл глаза, и ему вспомнилось самое жестокое изречение его племени: ти-анаса дайвам – возлюби свою судьбу. Он впервые задумался над странностью слова «анаса», могущего значить как «любить», так и «страдать».
– Данло ви Соли Рингесс!
Данло открыл глаза и увидел, что лорд Васкес обращается к нему.
– Да?
– Понял ли ты, что средство от этой болезни так и не было найдено?
– Это я понял… но все-таки не могу понять.
– Как мне объяснить это тебе?
– Ведь печатники давно уже расшифровали геном человека, да?
– Это верно, молодой послушник.
– Почему тогда нельзя найти и удалить вирусные участки ДНК? И если каждый цивилизованный человек наследует гены, подавляющие эту ДНК, почему нельзя привить эти гены алалоям?
Лорд Васкес скомкала в руках зеленую ткань своей мантии.
– Ты говоришь так, будто генная инженерия – очень простое дело. В действительности это невероятно сложно. Пойми, что невозможно отыскать в организме ген с определенной структурой или функцией.
– Правда?
– Представь себе чертеж, используемый при постройке здания. Каждая световая точка, каждый камень и каждое перекрытие на такой голограмме однозначно отражает структуру будущего дома. Но ДНК не похожа на этот чертеж.
Данло, не дождавшись продолжения, спросил:
– На что же она похожа?
– Она скорее напоминает рецепт для выпечки торта. Набор инструкций. Миллионы одновременных действий. Если действовать согласно коду ДНК, или рецепту, получится живой организм. Тебе понятно? Мало кто это понимает. Многие думают, что сконструировать шестой палец или фиолетовые глаза очень просто. Но это немыслимо трудно. Можно ли испечь торт в форме башни, просто добавив муки, или не добавляя в тесто яиц, или повысив температуру в духовке? Так и с наследственностью: изменить ее в желаемом направлении далеко не всегда возможно.
И лорд Васкес перешла к чумному вирусу. Существует теория, сказала она, что он внедрился по крайней мере в пять из двадцати трех человеческих хромосом, кое-где фактически заменив собой аксоны, жизненно важные рабочие гены. ДНК этого вируса двулична: когда гены-ингибиторы отключают отдельные ее участки, она переключается на выработку белков, необходимых для обмена веществ. В благоприятных же для себя условиях она вырабатывает вещества, погубившие племя деваки. Удаление вируса из генома было бы равносильно уничтожению организма – это при условии, что вирусную ДНК можно будет опознать и выделить, что практически невозможно.
Есть многое в функциях и взаимодействиях трех миллиардов нуклеотидов человеческого генома, что пока остается неизвестным. Неизвестно, например, какие именно гены подавляют вирус. Генетики предполагают, что за это могут отвечать интроны – так называемые никчемные гены, разделяющие аксоны. Эти окаменелые гены, пребывающие в бездействии тысячи и даже миллионы лет, могут внезапно ожить и заняться подавлением действующих генов. Среда, от которой зависит их расцвет либо поражение, хаотична – это химия жизни, существующая в динамичном, неуравновешенном состоянии.
– Представим человеческий организм как экологию, – говорила Данло Главный Эколог. – Что произойдет с экосистемой, если ее хищники будут уничтожены? Катастрофа. Подобным же образом зачастую бывает невозможно удалить нежелательные гены, не причиняя вреда всему организму.
Данло потрогал белое перо у себя в волосах. Он хорошо понимал, к чему ведет лорд Васкес, и тем не менее сказал упрямо:
– Но хищники не убивают всю свою добычу, иначе они умерли бы с голоду. А чумной вирус погубит всех алалоев.
– Алалои – еще не все человечество.
– Значит, вы уже приняли свое решение. – Данло обвел взглядом правителей Невернеса. Лица у них были каменные, как у статуй прославленных лордов Ордена, стоящих вдоль круглых стен зала. – А вы когда-нибудь видели, как умирают от медленного зла?
Лорд Васкес, оставив его вопрос без ответа, сказала:
– Для твоих алалоев это катастрофа, однако она не случайна. Хорошо известно, что предки алалоев внесли изменения в свои хромосомы. Без сомнения, они при этом исключили какие-то нежелательные интроны и, возможно, удалили по ошибке участки ингибиторной ДНК. Они изменили экологию своих организмов – и сами себя обрекли на смерть от чумы.
Данло коснулся шрама на лбу.
– Ми пела лалашу… благословенный народ… обречен.
– Вот что получается от манипуляций с генетической информацией, – сказала лорд Васкес.
– Шанти, – прошептал Данло.
– Генетики Ордена, – продолжала лорд Васкес, – так и не нашли средства против чумы ни тогда, тысячу лет назад, ни после. Даже агатангиты, по сведениям наших библиотекарей, объявили чуму неизлечимой. Ты понимаешь меня?
– Да. – И Данло, вспомнив, что агатангиты в своем мастерстве биоинженерии равны богам, произнес нараспев: – Ти-ананса дайвам.
– Что это значит? – с натянутой улыбкой осведомилась лорд Васкес.
– Это значит «возлюби свою судьбу». Возлюби то, что причиняет страдания.
– Я сожалею, молодой послушник, – официально, но с теплотой в голосе сказала лорд Васкес, – однако судьбу алалоев изменить нельзя. Ты согласен с этим?
– Нет.
– Мы знаем, что это трудно, молодой послушник.
Бардо пыхтел рядом, глядя на Данло и внимательно прислушиваясь к его словам.
– Мы должны возлюбить свою судьбу, это правда, – сказал Данло. – Но никто не может знать своей судьбы, пока не проживет свою жизнь.
– Скраеры думают иначе.
– Судьба, – тихо промолвил Данло. – Болезнь неизлечима. Но… как мы можем это знать?
Лорд Палл, бросив на него острый взгляд, повернулся к лорду Николосу, и его старческие пальцы зашевелились, как черви. Среди собравшихся не более трети или четверти понимали цефический язык знаков – остальные, даже не пытаясь следить за жестами лорда Палла, сидели с раздраженными и скучающими лицами. Николос, исполняя роль переводчика, пояснил:
– Лорд Палл напоминает нашему юному послушнику, что мы, разумеется, не можем быть абсолютно уверены в неизлечимости данной болезни.
Лорд Цицерон добавил своим шелковым, неискренним голосом:
– Но мы можем подсчитать, во что обойдутся нашему Ордену поиски противочумного средства. Можем сравнить возможную пользу и шансы на успех – почти нулевые – с этими расходами.
– Подсчитать! – внезапно взревел Бардо, стукнув себя кулаком по колену. – Расходы! Польза! Разве мы торговцы, которые оценивают даже то, что цены не имеет?
– Молчать! – вскрикнул лорд Цицерон. – Предупреждаю вас в последний раз.
– Ну-ну… – Бардо опустил глаза к черному пилотскому кольцу у себя на пальце и умолк, мрачный и зловещий, как космос.
Лорд Цицерон обвел взглядом собрание.
– Цена таких исследований была бы непомерно велика. Нам следует учесть это, когда мы будем голосовать.
Вслед за этим он сразу поставил поднятый Данло вопрос на голосование. Данло не удивился, когда за поиск противочумного средства проголосовали только трое лордов. Все остальные были против.
– Мы сожалеем, что были вынуждены прийти к такому решению, – сказал Данло лорд Цицерон. – Но, возможно, твои алалои все-таки выживут. Может пройти много лет, прежде чем этот непредсказуемый вирус перейдет в активное состояние – и мы будем искренне молиться, чтобы этого не случилось никогда.
– Можно подумать, тебя это действительно волнует, – пробурчал Бардо себе под нос.
Лорд Цицерон, не обращая на него внимания, слегка улыбнулся Данло.
– А теперь мы должны уладить еще одно дело, прежде чем отпустить вас. Существуют вопросы относительно смерти послушника Педара Сади Санара, которые Мастер Наставник должен был задать по ходу следствия. Мы хотим задать тебе эти вопросы сейчас, молодой послушник. Если ответы удовлетворят нас, то акашикского расследования, возможно, проводить не придется. Тебя это устраивает?
Данло, метнув быстрый взгляд на Бардо, ответил:
– Да… устраивает.
– Очень хорошо. – Цицерон, понизив голос, посовещался с тремя другими лордами Тетрады. – В таком случае я задам тебе первый вопрос.
Пока он прочищал горло, лорд Палл внимательно посмотрел на Данло, и Данло вспомнил, что цефики будто бы способны определить по лицу и речи человека, правду он говорит или лжет. Вспомнил он и тот нескончаемый, незабываемый момент в библиотеке, когда воин-поэт сказал ему, что прочел правду на лице страдающего Хануманз;
– Я должен спросить молодого послушника, угрожал ли когда-либо Хануман ли Тош жизни послушника Педара.
Данло на миг прикрыл глаза и ответил:
– Нет.
– А ты сам угрожал убить Педара?
– Нет.
– Это ты убил Педара?
Данло набрал воздуха, чувствуя, что глаза лорда Палл а прожигают его, как лазеры. Все остальные лорды тоже смотрели на него.
– Ты был причиной падения Педара Сади Санара с лестницы? – повторил Цицерон.
– Да… возможно.
По залу прошел тихий вздох, и лорды закачали головами.
Бардо с недоверием воззрился на Данло.
– Расскажи, как ты убил его.
– Я… представил его мертвым.
– Что?
– В воображении. Я увидел, как он падает с лестницы.
– Но ты не толкал его? Не подавал ему в тот день еды или питья? Ничего не подмешивал ему в вино?
– Нет.
– Ты совершил какие-нибудь физические действия, чтобы сбросить его с лестницы?
– Я желал ему зла. Хотел, чтобы он умер. Моя воля… привела к этому несчастью.
– Это все?
– А разве этого мало?
Лорд Цицерон посмотрел на лорда Палла и тот слегка приподнял указательный палец. Цицерон цыкнул больным зубом и сказал:
– Любой, кто подчинялся бы такому, как Педар, мог желать ему смерти. За мысли мы тебя не виним. Нам ясно теперь, что за случай с Педаром ты ответственности не несешь.
– То-то же, – пробормотал Бардо.
Лорд Цицерон, очевидно, не расслышав его, наставил на Данло костлявый палец.
– Во всяком случае, мы не можем обвинить тебя в том, что ты был непосредственной причиной его смерти. Но, может быть, от твоего имени действовал кто-то другой? Ты слышишь меня, молодой послушник? Возможно ли, что Педара убил Хануман ли Тош?
– Нет. Я не могу в это поверить.
Данло поднял глаза к звездному куполу и произнес про себя: «Я не стану этому верить».
– Верить – одно, а знать – другое. Ты знаешь, что он убил Педара?
– Нет, – после секундного молчания ответил Данло.
– Но ты должен знать, был ли Хануман в своей постели, когда…
– Ей-богу, это уж слишком! – Бардо взгромоздился на ноги, побагровев от ярости, и погрозил своим кулачищем лорду Цицерону. – Вы перегибаете! Хватит его допрашивать – мало вам, что вы обрекли на смерть его народ? Что с вами такое? Это вы гнусный убийца – вы, а не он!
– Молчать! – Палец лорда Цицерона нацелился на Бардо. – На колени, пилот!
– Сам молчи, не то я заткну тебе рот оплеухой.
– Что вы сказали?
– Заткнись, пока цел.
– Что-о?
Бардо, пошатываясь на массивных ногах, рявкнул:
– Тебе торговые фрахты возить, а не служить пилотом в Ордене!
– Я Главный Пилот Ордена, а вы давали обет послушания!
– Ей-богу, это я должен был стать Главным Пилотом, а не ты! Тогда я напомнил бы тебе, что долг и слава пилота состоят в поиске невозможного – хотя бы лекарства от этого проклятого вируса.
– Если вы немедленно не преклоните колени…
– И еще напомнил бы о том, что Главный Пилот должен быть для послушников примером и наставником, а не инквизитором.
Указующий перст лорда Цицерона затрясся – то ли от страха, то ли от гнева, а голос сделался обманчиво спокойным.
Можно было подумать, что он нарочно провоцирует Бардо.
– Тем не менее Главный Пилот я, а не вы – Мастер Наставник. Я полагаю, что назначение – или смещение – Мастера Наставника относится к чисто административным действиям и потому входит в компетенцию Тетрады. – Он с улыбкой поклонился трем другим лордам, сидящим с ним за одним столом.
– Но это Мэллори Рингесс назначил меня, Бардо, Мастером Наставником, прежде чем покинуть Невернес. Сам Рингесс.
– А мы, четверо лордов, в силе отменить это самое неразумное из его распоряжений. Ваш друг оказал вам плохую услугу, дав вам пост, превышающий ваши способности. И оказал столь же плохую услугу Ордену, покинув Город и предоставив вам измываться над послушниками.
– Ей-богу, я все-таки дам тебе в морду!
Бардо двинулся было к лорду Цицерону, но Данло, не вставая с колен, сжал ему запястье, ощутив мощь его бугристых мускулов. С детства работая на холоде, Данло закалился и стал очень сильным, но все же Бардо легко мог бы вырваться. Однако что-то, видимо, удержало Мастера Наставника. Он посмотрел на Данло сверху, рыгнул, улыбнулся и сказал тихо:
– Ладно, пусти.
Большинство лордов, очевидно, утвердилось в мнении, что багроволицый Бардо, ревущий, словно мускусный бык, представляет непосредственную физическую угрозу для их персон.
Главный Печатник отправил послушника за кадетским патрулем, а другие, в том числе и Ченот Чен Цицерон, съежились на своих стульях, стараясь не встречаться с Бардо взглядом. Собственно говоря, им всем следовало бы встать, окружить Бардо, пристыдить его и призвать к порядку. Этого требовали каноны Ордена, те, которые главные специалисты, будучи кадетами, столь рьяно проводили в жизнь. Но теперь они состарились и уже много лет не прибегали к насильственным действиям. Из Тетрады только лорд Васкес и лорд Николос поднялись, чтобы усмирить Бардо.
К ним присоединились Родриго Диас и еще несколько человек, но большинство осталось на местах.
– Подождите! – Ченот Чен Цицерон, набравшись наконец мужества, тоже встал и возглавил группу лордов, наступавших на Бардо.
– Не пошел бы ты, – пробурчал тот.
– Вы больше не Мастер Наставник! – вскричал Цицерон.
– Нассал я на тебя! – взревел Бардо. Вслед за этим он сделал нечто беспрецедентное за всю трехтысячелетнюю историю Ордена. Освободившись от Данло, он расстегнул «молнию» на брюках и вытащил член, самый длинный и толстый, который Данло видел между ног у человека, багровый и раздутый, как у шегшея. Придерживая свой внушительный орган пальцами, Бардо пустил струю на пол, а затем направил ее на Ченота Чен Цицерона и засмеялся, когда Главный Пилот отскочил назад, едва не запутавшись в собственных ногах. Струя хлестала туда-сюда, удерживая на расстоянии других лордов, и Бардо грохотал, содрогаясь от смеха. После выпитого ночью пива в нем плескался целый океан жидкости. Данло дивился его вместительности. Моча растекалась ручьями по черным плитам пола и впитывалась во фравашийский ковер. Темно-янтарная, почти оранжевая, она разила сахаром и козьим корнем. Данло понимал, что через несколько мгновений – или унций – ковер у него под коленями промокнет, однако сохранял свою учтивую позу.
– А ну назад! – гаркнул Бардо на лордов. – Все прочь!
Несмотря на всю нелепость момента, а может быть, именно из-за нее, Данло вспомнил о своих соплеменниках, страдавших недержанием перед смертью. Слезы обожгли ему глаза, и он, глядя, как Бардо виляет туда-сюда своим членом, начал вдруг смеяться. Он смеялся и плакал одновременно над изначальной абсурдностью жизни.
– Ей-богу, я уже почти кончил! – объявил Бардо. – Стойте на месте – вам больше незачем призывать меня к порядку. Вы слышали – это все! Я покончил с вами, старыми дураками, и с Орденом.
Эти слова как громом поразили собрание. Какой-то миг никто не шевелился. Бардо, не став отряхиваться, застегнул штаны и снял с мизинца черное кольцо, которое поднял вверх для всеобщего обозрения.
– Этим кольцом восемнадцать лет назад меня посвятили в пилоты. Теперь я отрекаюсь от своей присяги. Я нассал на Орден и на вас всех!
Он отвел руку назад и с ужасающей силой метнул кольцо в ближайшую колонну. Алмазное, пропитанное специальными добавками кольцо разбилось, издав страшный для слуха звук.
Данло уставился на алмазные осколки, усеявшие черный пол.
А он-то думал, что знаменитые пилотские кольца несокрушимы.
– Прощайте. – Бардо с улыбкой опустил руку на голову Данло, поклонился лордам и с грацией, поразительной при его тучности и хмельном состоянии, прошествовал к выходу из зала.
Ченот Чен Цицерон почти сразу же восстановил порядок.
Он вызвал послушников подтереть пахучую лужу Бардо, для Данло принесли новый ковер, и потрясенные лорды вернулись на свои места. Допрос Данло продлился еще некоторое время. Его спрашивали, не слышал ли он, как Хануман кощунствует против бога Архитекторов, Николоса Дару Эде, и не знает ли он, по какой причине Хануман явился в Невернес.
Спрашивали также, с довольно почтительными интонациями, почему и каким образом он заменил Ханумана в качестве жертвы воина-поэта. Выслушав его ответы, лорды посовещались.
Лорд Кутиков предложил изгнать всех воинов-поэтов из Города. Лорд Васкес заметила, что уходу Бардо из Ордена следует только радоваться: его добровольное изгнание умиротворит хариджанских старейшин и покончит с проблемами, вызванными прискорбным – и случайным – падением Педара. Что до Ханумана ли Тоша, Коллегия сняла с него все обвинения.
– Мы сожалеем, – сказал Данло лорд Цицерон, – что холодный луч подозрения упал на тебя и Ханумана. Ясно, что падение Педара было тем, чем оно представлялось с самого начала: трагическим несчастным случаем. Ни ты, ни Хануман убийцами, безусловно, не являетесь. Вы оба примерные молодые послушники, проявившие исключительное мужество при столкновении с воином-поэтом. Мы будем счастливы посвятить вас в пилоты, когда придет ваше время.
Так разрешилась «хариджанская проблема» и прочие, более мелкие заботы лордов Невернеса. Данло позволили уйти, и он покинул здание Коллегии. Выйдя на улицу, он сразу увидел Бардо – тот прислонился к световой колонне у подножия лестницы. Первый свет уже позолотил здания Академии, но световые шары еще горели, окутывая Бардо мягкими красками. На его лице лежали индиговые, фиолетовые и красные полосы; рука была поднята ко лбу, и полоска кожи на месте пилотского кольца отливала фосфоресцирующей белизной.
Спустившись, Данло услышал, как великан бормочет себе под нос:
– Ах, Бардо, что ты наделал? Ну, теперь уж все – горе, горе…
– Вы хорошо себя чувствуете? – спросил Данло, и Бардо поднял на него глаза. – Бардо, Бардо, какая жалость.
– Я тоже сожалею, паренек, Я подвел тебя. Но ты видел рожи этих старцев, видел? Они не забудут этого дня, даже если проживут еще три жизни.
– Я тоже не забуду.
– И я. Последний день, когда Бардо отведал пива.
– Что?
– С завтрашнего дня я, Бардо, больше не возьму пива в рот – обещаю тебе, паренек. В старости я вспомню этот день и скажу: «Вот черта, за которой началась моя новая жизнь. До нее Бардо был слабаком, трусом и пьяницей. За ней он стал человеком цели, истины и великой судьбы».
– Но что же вы будете делать теперь?
– Что буду делать? Чего я только не сделаю. Я совершу то, что когда-нибудь назовут великим. Ах, паренек, в этот самый миг, когда я смотрел в твои безгрешные глаза, в мой ожиревший мозг проникла одна светлая мысль. Я сделаю то, что заставит всех лордов Ордена встрепенуться и сказать: «Нам надо было сразу понять, кто такой Бардо, и прислушаться к нему, пока у нас была возможность».
– Вы оставите Невернес?
– Возможно. А может, и нет. Не будем говорить обо мне. Ты-то сам что собираешься делать?
Данло посмотрел на рощу ши, которая на утреннем ветру переливалась серебром, как вода.
– Мне бы тоже следовало покинуть Орден.
– Ну нет. Как раз этого тебе и не следует делать.
– Почему?
– Ты должен стать пилотом. Твой отец был пилотом, и ты тоже должен.
– Почему?
– Потому что в Экстр рано или поздно пошлют вторую экспедицию. На ее организацию уйдет лет пять или десять, но она состоится. Великая экспедиция к Архитекторам Старой Церкви. Это они устроили чуму и говорят, что им известно средство против нее.
Небо над Данло еще отливало ночной синевой, но на востоке уже зажглись багрянцем очертания гор. Он вознес безмолвную молитву солнцу и спросил:
– Это правда? Но откуда вы это знаете?
Бардо рыгнул, выдохнул облако пара и спрятал руки под мышками:
– Я был молодым пилотом, когда Хранитель Времени объявил свой поиск, и я отправился на Ксандрию. Это скучное отсталое место, где нет ни искусных женщин, ни хорошей еды, ни пива, но библиотека ксандрийских энциклопедистов – самая лучшая в Цивилизованных Мирах. И я проник в нее! Глубоко, Паренек, очень глубоко – в их святая святых, где хранятся запретные знания. Счастливый случай – я это признаю – помог мне узнать все досконально о древних религиях и тайных орденах, о всяких культах и сектах. Во что только люди не верят – ты не поверишь, если я скажу! И хотя у меня есть свои недостатки, на память я никогда не жаловался. Я много чего помню! Я помню, как считировал секретную запись Шаранта Ли Чу, помощника Эдмонда Джаспари. Ты ведь слыхал о Джаспари, «Божьем Архитекторе» Вселенской Кибернетической Церкви? У этих проклятых Архитекторов это все равно что первосвященник. Так вот, в записи Ли Чу содержится приказ Джаспари о выведении чумного вируса. Это было в 1750 году по невернесскому времени, на втором году Войны Контактов. Старая Церковь проигрывала войну, и ее Архитекторы, отчаявшись, поручили воинам-поэтам сконструировать этот треклятый вирус. Он, само собой, мутировал и чуть было не изничтожил всю их Старую Церковь и три четверти человечества в придачу. Все это знают. Именно Ли Чу заявил, что инженеры Джаспари сконструировали некое средство, которое удерживает вирус в пассивном состоянии. Это средство, если верить Ли Чу, было введено всем выжившим Архитекторам. Это дало им возможность выжить, очень немногие из них унаследовали так называмый подавляющий ген, который защищает всех остальных. Думаю, Архитекторы Старой Церкви по-своему столь же отличны от нас и столь же уязвимы, как алалои. Возможно, они пользуются этим своим средством и по сей день.
Густой бас Бардо умолк, и тут Данло сделал нечто странное. Сложив ладони и направив сомкнутые пальцы вниз, он воздел руки и склонил голову перед солнцем. Исполнив этот важнейший из алалойских дневных ритуалов, он вспрыгнул на три ступеньки вверх, улыбнулся и спрыгнул обратно.
– Но почему же, Бардо, вы не рассказали об этом лордам, если знали?
– По трем причинам. Во-первых, пройдет по меньшей мере пять лет, прежде чем снарядят экспедицию, и еще пять до того, как первые пилоты вернутся в Невернес. Алалои, как ни противно мне это говорить, за это время вполне могут вымереть. Во-вторых, Орден, как я его понимаю – как понимал, пока не махнул на него рукой, – Орден не должен вымаливать у этих варваров-Архитекторов формулу ингибитора, поскольку наши генетики, возможно, сумеют его продублировать. Ну и в-третьих…
– Да?
– Третья причина, по которой я ничего не сказал этим дурням, состоит в том, что они бы мне не поверили. Меня, который солгал всего один-два раза за всю свою жизнь, этот скользкий Ченот Чен Цицерон обозвал бы лжецом. И что бы мне тогда оставалось сделать? Убить его? Мне следовало бы это сделать во время войны, пока у меня был шанс, а сейчас я разве смог бы? Где там. Я даже пощечину старику не смог бы закатить, вот в чем горе.
Бардо еще долго убеждал Данло в том, что он должен стать пилотом, если хочет помочь алалоям, и добиться, чтобы его отправили в Экстр.
– Это будет наилучший твой шанс. Орден, мне сдается, разделят на две половины, и лучших пилотов пошлют в Экстр. Может быть, я построю себе легкий корабль и тоже туда отправлюсь.
Данло пнул обледеневшую ступеньку.
– Простите, что доставил вам столько неприятностей.
– А? Нет-нет, это не твоя вина. Мне как Мастеру Наставнику пришел конец еще до того, как мы вошли в Коллегию. Лорд Цицерон годами ждал этого случая.
– Мне очень жаль.
– Мне и самому жаль. Кто теперь присмотрит за моими девочками и мальчиками? И за тобой с Хануманом – особенно за Хануманом. После несчастья с Педаром он стал сам не свой.
– Да.
– Уж слишком он чувствителен, черт побери. По-моему, ему невыносима сама мысль о смерти – все равно чьей, даже такого паршивца, как Педар.
– И я так думаю.
– А теперь еще этот варварский случай с воином-поэтом. Горе.
– Он все еще страдает от последствий экканы, да?
Бардо кивнул:
– Пожалуйста, позаботься о нем, когда меня не будет. У него не меньше сотни почитателей, но мне кажется, мы с тобой единственные, кто его понимает.
– Я всегда… буду ему другом.
– Прочнее настоящей дружбы ничего нет. Уж я-то знаю. – Бардо расправил плащ и потер руки. – Не оставляй надежды, паренек. В наши странные времена может случиться все что угодно. Кольцо, которое я тебе дал, еще с тобой?
Данло приложил руку к груди и кивнул.
– Это хорошо. Храни его на случай, если твой отец вернется. А он когда-нибудь да вернется, клянусь Богом.
Бардо обнял Данло и похлопал себя по животу.
– Ну ладно, я пошел. Высосу кружек двадцать и напьюсь – день, как-никак, знаменательный.
– Но ведь вы сказали, что не будете больше пить.
– Ничего подобного. Я сказал – с завтрашнего дня. А до него еще далеко, ей-богу!
С этими словами Бардо низко поклонился Данло и прицепил коньки. Зрелище его шаткой походки, как ни странно, вселяло в Данло не отчаяние, а надежду.
– До свидания, Бардо! – крикнул он.
Проводив Бардо глазами, он повернул к Дому Погибели, чтобы рассказать другим послушникам о том, что случилось в Коллегии Главных Специалистов.
Глава XIV ИГРА В ХОККЕЙ
Умудренный муж должен не только уметь любить своих врагов, но и ненавидеть друзей.
Фридрих-МолотСледующие несколько дней Данло блуждал в холодном тумане по Академии и размышлял. Работать он не мог и подавлял желание пойти в библиотеку и поискать в ее кибернетических пространствах что-нибудь, проясняющее судьбу алалоев. Он не посещал своего учителя и не ел в столовой с друзьями. Но одним холодным и ясным днем, 77-го числа, он вспомнил, что его товарищи по общежитию должны выступить в хоккейном матче против первогодков Каменных Палат. Поэтому он вернулся в Дом Погибели, надел камелайку, прицепил хоккейные коньки, взял клюшку и поспешил в Ледовый Купол.
День для матча, по правде сказать, был выбран неудачно.
Послушники, ошеломленные отставкой Бардо, предпочитали обсуждать это скандальное событие, а не гонять шайбу по льду.
Теперь уже стало известно, что Бардо покидает Город – возможно, навсегда. Мадхава ли Шинг, Шерборн с Темной Луны и другие приставали к Данло с вопросами относительно планов Бардо. А перед самым началом первого периода в дальнем конце огромной арены появился Хануман ли Тош. Он проехал мимо пустых санных дорожек, через белые прямоугольники пяти ледяных площадок в центр Купола, к Данло и другим мальчикам, которых не видел так давно. Всего полчаса назад цефики наконец выпустили его из своей башни, и он направился прямиком в Ледовый Купол. Данло вспомнил, что Хануман любит хоккей почти так же, как свое боевое искусство.
– Привет, Мадхава, привет, Лоренцо, привет, Ивар, привет, Алесар. – Кадеты Дома Погибели столпились вокруг Ханумана, поздравляя его с чудесным избавлением от смерти.
Освободившись, Хануман подкатил к Данло, одиноко стоящему у кромки поля. Пристально посмотрев на него, он сказал:
– Привет, Данло, – рад видеть тебя в полном порядке.
– А ты, Хану, как? Тебе еще больно?
– Не ты ли говорил мне, что через боль человек сознает жизнь? – с тихим странным смехом ответил Хануман.
– Да, но это было до того, как я увидел… на что способна эккана.
– Боль – это всегда боль. Но есть способы ее контролировать.
– Я слышал, что от экканы многие умирали.
– Но я, как видишь, пока жив. И снова обязан тебе жизнью. – Он произнес это четко и холодно, но, заметив, что больно задел Данло, заставил себя улыбнуться. – Ты каждый раз поражаешь меня. Ты вступил в борьбу с поэтом по собственной воле – даже моя мать не сделала бы того, что сделал ты.
Данло потрогал шрам над глазом и сказал:
– Все говорят так, как будто у меня был выбор.
– Он у тебя был. Ты мог убежать.
– Нет, не мог – ты же знаешь.
– Да, я-то знаю. – Хануман снова попытался улыбнуться, но что-то явно не давало ему покоя. – Это чудо, что ты вспомнил стихи. Был момент, когда я думал, что ты не вспомнишь, но ты вспомнил. Правда? Ну конечно, вспомнил. Твоя феноменальная память для меня всегда была загадкой. Вот почему поэт ткнул себя ножом в глаз, а мы с тобой живы и можем говорить об этом.
Пока двадцать послушников из Каменных Палат занимали свои места на той стороне поля, Данло с Хануманом поговорили о том, что случилось в библиотеке, и о том, как Коллегия Главных Специалистов ответила отказом на прошение Данло. Они говорили без напряжения, но между ними возникло расстояние, которого не было прежде. Данло хотел узнать побольше о лечебном искусстве цефиков, но Хануман неохотно рассказывал о времени своей изоляции у них в башне. Данло спрашивал его и о другом – о разных мелочах вроде заточки коньков или стратегии сегодняшней игры. Более серьезные вопросы он обходил, чувствуя затаенное страдание Ханумана и видя его холодность. В сущности, был только один вопрос, который Данло хотел бы задать, но он, как часто бывает между друзьями, почему-то говорил о чем угодно, кроме этого, самого главного. Потом кто-то из Каменных Палат объявил о начале игры. И Хануман, к огорчению Данло, воспользовался всей этой суматохой, блеском стальных лезвий и толкучкой молодых тел на льду, как щитом, чтобы отгородиться от беспокойства своего друга. Он стал неразговорчив, а потом и вовсе замолчал. В течение пяти периодов он сохранял это неловкое, обидное молчание и держался в стороне от Данло. Он вел свою обычную молниеносную игру, орудуя черной клюшкой из осколочного дерева внимательно и в то же время яростно, но победа как будто не слишком его волновала. В отчужденности всей его фигуры, в светлых глазах, когда он смотрел на Данло или отводил от него взгляд, читались страдание и отчаяние.
– Почему ты сегодня… так замкнут? – спросил наконец его Данло в перерыве перед шестым и последним периодом игры. Они сидели рядом на конце длинной блестящей скамейки, выкрашенной недавно в голубой цвет. Их товарищи по команде либо сидели, тяжело облокотившись на собственные колени, либо стояли, отдуваясь, сплевывали кровь из разбитых ртов и делали непристойные жесты в сторону команды Каменных Палат на той стороне поля, в семидесяти ярдах от них. Данло видел противников через стоящую надо льдом дымку – двадцать ребят постукивали коньками о свою красную скамейку и поднимали вверх два пальца. Этим они – смотря как толковать – либо выражали сомнение, что их соперники появились на свет естественным путем, либо напоминали, что ведут в счете на два очка.
Они действительно забили на две шайбы больше. Сам Данло весь матч играл рассеянно и механически. Обычно они с Хануманом забивали больше всех голов, но сегодня между ними не было халлы, не было взаимности мысли и действия. От Ханумана шел холод, как от ледового поля, а Данло одолевали думы о смерти и убийстве.
– Ты в каком-то смысле еще больше замкнут, чем я, – ответил Хануман.
– Может быть… но это не в моей натуре и не в твоей тоже.
Хануман прищурился от света, льющегося через тысячи треугольных панелей Купола.
– Откуда ты знаешь, какова она, моя натура?
– С той самой ночи, как упал Педар, – сказал Данло, обходя этот вопрос, – ты ушел в себя. Почему? Ты ведь ненавидел его почти так же, как я.
Хануман, по-прежнему глядя вверх, закрыл глаза и поморщился, будто от боли.
– Потому что он умер. Разве этого недостаточно? Ты тоже выглядишь не лучше, с тех пор как узнал, какая судьба ожидает алалоев.
– Но они – мой народ!
– Извини, Данло. Может быть, средство против чумы еще будет найдено. Может быть, ты сам его найдешь. Но мы все равно когда-нибудь все умрем, разве нет? Человеческая жизнь так быстро проходит – почему? – И Хануман процитировал Данло место из книги Бога, которое Николос Дару Эде позаимствовал из одной из древних священных книг – «Ложной Бхагавад-Гиты»: – «Бытие сжигает плоть, и все живое стремится к своей погибели, как мотыльки летят на пламя».
– Ты слишком много думаешь о смерти, – сказал Данло.
– Я?
– С этим ничего не поделаешь. От смерти лекарства нет.
– Кибернетическая Церковь учит другому.
Данло потрогал перо Агиры.
– Будь это даже возможно, я не хотел бы, чтобы меня – мое «я», мою пурушу – поместили в компьютер.
– Но есть и другие способы. Есть путь, который выбрал твой отец. Бардо все время говорил об этом. Однажды он сказал, что любой, кто готов страдать так же, как страдал Рингесс, может стать богом.
– Бардо любил с тобой разговаривать, да?
– Особенно когда бывал пьян. Его интересовала моя карьера – он всегда настаивал на том, чтобы я стал пилотом.
– Ты будешь самым благословенным из всех пилотов.
– Ты думаешь? А вот я не уверен. Вчера Главный Цефик пригласил меня к себе на чай там, в башне. И предложил поступить в Лара-Сиг, чтобы учиться на цефика.
– Сам Главный Цефик?
– Тебя это удивляет, я вижу.
– Но ты не должен становиться цефиком!
– Это почему же?
– Цефики – очень замкнутый народ.
– Мы вернулись к тому, с чего начали.
– Цефики слишком удалены от жизни. – В четвертом периоде чья-то клюшка оцарапала Данло подбородок; он вытер кровь рукавом камелайки, и на белой шерсти осталась красная полоса. – Цефики исследуют сознание, и я понимаю, что многих послушников это привлекает. Самадхи, фуга и одновременность, все эти виды компьютерного сознания. Но нельзя изучить… реальное сознание, подключаясь к компьютеру.
Перерыв заканчивался; хоккеисты точили коньки и обматывали клюшки черной лентой – не потому, что коньки действительно затупились или осколочное дерево нуждалось в укреплении, а потому, что это был ритуал окончания игры, почти такой же старый, как сам Дом Погибели. Сталь визжала под алмазными напильниками, и Хануман повысил голос:
– Искусство цефиков состоит не только в подключении к компьютеру.
Кто-то передал Данло ролик липкой черной ленты, и он отгрыз кусок своими крепкими белыми зубами.
– Все дело в господстве, да? В господстве над разумом – над умами других людей.
– В этом есть свои опасности, я знаю. Вот почему цефики приносят самые строгие обеты во всем Ордене. У них своя этика и все такое.
– Но цефики – это герметики, – повторил Данло то, что слышал повсюду в Академии. – Мистики, хранящие тайны… относящиеся к господству над сознанием.
– Да, это входит в их этику. Открыть большинству людей тайны их сознания – все равно что дать детям в руки водородные бомбы.
– Хану, Хану, как раз этого я и боюсь.
– Ты боишься меня?
– Нет, за тебя.
Хануман закончил бинтовать свою клюшку.
– Правда?
– Ты же видел их, мастер-цефиков! Видел их лица. Особенно у старых. Я тоже видел – три дня назад, в Коллегии. Главного Цефика, лорда Палла. Он такой же, как все они, – порченый и страшный, слишком много знающий… о себе самом. Он безумен. Мне кажется, в нем почти ничего человеческого не осталось. Не становись цефиком, Хану.
– Большинство цефиков слишком долго живут. Быть может, мне суждено умереть молодым – но даже если этого не случится, до такой старости я все равно не доживу.
– Но есть и другие причины, по которым тебе не следует… Как ты думаешь, почему лорд Палл предлагает тебе учиться на цефика?
– Ну, цефики и пилоты всегда перебивают друг у друга лучших послушников. Я уверен, что Главный Цефик и тебя пригласит на чай до конца этого года.
– Но я никогда не смогу стать цефиком.
– Не сможешь?
– Нет. – Данло снял коньки, провел по краю ногтем большого пальца и стал точить их напильником, который перебросил ему Мадхава. – Перед поступлением в Академию мне пришлось пообщаться с возвращенцами. И с аутистами. Все эти секты и цефики – опасное сочетание, а?
– Потому цефикам и запрещено примыкать к какому-либо религиозному течению.
– И тебя новые религии не интересуют?
– Нет, нисколько.
На молочном гладком льду около скамейки виднелось отражение Ханумана, и что-то в этом бледном, призрачном образе намекало на затаенную страсть. Как будто лед, исказив чистые линии лица Ханумана, послужил линзой, позволяющей заглянуть в его глубокое, истинное «я». В его бледно-голубых глазах читался религиозный пыл – Данло впервые видел в своем друге верующего. С каким бы презрением и ненавистью ни относился Хануман к вере своих отцов, в которой воспитывался с детства, как бы ни насмехался над ней, как бы часто ни отзывался об эдеизме как о «религии рабов»… Все дело в том, думал Данло, что эдеизм, как и все другие религии, недостаточно религиозен для такого, как Хануман.
– Известно, что цефики, некоторые, из них, практикуют почти постоянный контакт со своими компьютерами, – сказал Данло. Оторвав взгляд ото льда, он посмотрел на Ханумана и добавил полным боли голосом: – В нарушение канонов… и закона Цивилизации. Ты ведь слышал об этом, да?
– Если верить сплетням, часть кибершаманов, именуемая нейропевцами, действительно злоупотребляет компьютерами – я думаю, это правда.
– И они ищут контакта… с богами, да?
– Возможно. Кто знает, чего ищут нейропевцы?
– А чего ищешь ты?
– Я сам толком не знаю.
Данло, подметив свет, вспыхнувший в глазах Ханумана при этих словах, подумал, что друг его прекрасно знает, чего ищет.
– Значит, ты решил, что станешь цефиком?
– Возможно.
– Но мы же собирались вместе пойти в пилоты!
– Ты будешь пилотом – ты для этого рожден.
– Но странствовать среди звезд…
– Прости, но за эти дни я потерял всякое желание увидеть звезды.
– Но цефик? Нет, тебе это совсем не подходит.
– Откуда ты знаешь, что мне подходит, а что нет?
– Я это вижу. Это всякому видно.
– Видишь? – Напильник Ханумана яростно шаркал по лезвию конька. – Значит, ты у нас скраер.
– Чего ты так злишься?
– По-твоему, я злюсь?
– Конечно, злишься – твое лицо…
– Ну почему тебе всегда надо говорить правду? И что такое видеть? Можно ведь и солгать иногда!
– Я не хочу видеть, как ты становишься цефиком.
– Быть может, это – моя судьба.
– Судьба?
– Возлюби свою судьбу – разве не так ты всегда говорил?
– Но ты не можешь знать своей судьбы!
– Я знаю, что решил стать цефиком. Только что. Спасибо, что помог мне принять решение.
– Нет. Ты не должен.
– И все-таки я стану им. Прости.
– Но почему, Хану? Почему?
Они смотрели друг другу в глаза, как тогда, в день своего знакомства, на площади Лави; никто не хотел отвести взгляд первым. Но тут Мадхава ли Шинг объявил начало шестого периода, и они выехали на поле вместе с восемнадцатью другими мальчиками из Дома Погибели. Переговариваясь и царапая коньками лед, игроки заняли свои места за штрафной линией. В самом центре поля внутри фиолетового кружка уже лежала шайба, и все взоры обратились к ней. Мальчики затихли, стиснув в руках клюшки. Из других частей Купола, с саночных дорожек и площадок для фигуристов, слышался шорох коньков и полозьев, но этот звук сразу потонул в дружном гаме, как только Мадхава подал сигнал к началу игры. Клюшки опустились на лед, коньки заклацали, из глоток вырвались возбужденные крики. Обе команды ринулись к шайбе в центре поля. Данло и Хануман, самые быстрые из «погибельников», подкатили к ней первыми, но трое «каменных» почти сразу блокировали их, и обе команды сшиблись, мелькая клюшками и вопя от боли. Данло удалось вывести шайбу из свалки, и он передал ее Хануману. Согласно стратегии «погибельников», он отвечал за правый край, а Хануман за левый. Всю игру им никак не удавалось скоординировать свою атаку, поэтому функции нападающих поневоле принимали на себя Мадхава (неизменно отстающий от Данло на десять ярдов), Алесар Рос и другие. Но теперь случилась любопытная вещь. Пока Хануман на левом фланге пытался прорваться сквозь кучу «каменных», Данло стал воспринимать его не только глазами, но каким-то более чутким и верным органом, как будто его чувство жизни откликалось на затаенный огонь его друга через разделяющий их лед. А Хануман, пылающий, как звезда, отзывался на его огонь – Данло чувствовал это по блеску его глаз, по наклону его шеи, по бешеному мельканию его клюшки и по собственному сердцу, стучащему в такт с коньками. Что-то – может быть, их гнев друг на друга, или их страх перед судьбой, или любовь к ней – связало их заново. Они катились вперед, и с каждым шагом между ними крепла невидимая нить, священное родство, делающее их едиными нутром и умом. Эта волшебная пуповина позволяла им предугадывать будущее, раскрывавшееся перед ними миг за мигом. Лед стлался под Данло, как атласное полотнище, передавая ему ритм бега и ударов Ханумана. Эта стальная мелодия четко выделялась среди стука клюшек, криков и певучих инструкций Мадхавы. Хануман обнаружил в обороне противника брешь, и Данло заметил ее в тот же самый миг, еще до того, как Хануман послал туда шайбу. Шайба, красный щербатый деревянный кружок, стрельнула прямо к Данло, и он перехватил ее. Двое послушников с цветком, эмблемой Каменных Палат на камелайках, тут же ринулись к нему. Данло резко вильнул влево, а Хануман одновременно освободился от блокирующих его противников. Данло передал шайбу ему. Внезапный порыв ветра дохнул холодом в лицо, резанул по глазам, и Данло увидел летящую обратно к нему шайбу, как расплывчатое красное пятно. Вместе, почти синхронно, они продолжали мчаться к воротам «каменных», перебрасываясь красной шайбой. Они обходили противников, с безошибочной точностью ориентируясь в пространстве и времени. «Хану, Хану!» – мысленно воскликнул Данло, передавая шайбу. Хануман притормозил ее, выбросив вперед клюшку, а потом молниеносным ударом послал через пятнадцать ярдов в ворота. Так они забили свой первый в этом периоде гол.
– Повезло вам! – подосадовал, хватив клюшкой по льду, игрок «каменных», симпатичный парень с красновато-бронзовой кожей. – Хороший удар.
– Все равно мы ведем на одно очко, – напомнил ему другой, показав Хануману средний палец.
Потный и запыхавшийся Шерборн с Темной Луны, облокотившись на клюшку, ответил ему тем же.
– Еще один гол, и мы сравняем счет. А потом забьем еще один и обставим вас.
Обе команды вернулись за свои штрафные линии, и темнокожий парень из «каменных», которого звали Лаис Мотега Мохаммад, подал сигнал ко второму вбрасыванию. Хоккеисты накинулись на шайбу, как коршуны на падаль. На Данло сыпались удары клюшек, ботинок и локтей, но он точно слился с шайбой воедино. Себя он не щадил. Из всех мальчиков на поле он был самым быстрым, самым сильным и самым диким.
Из-за этой дикости он много раз в прошедшем сезоне наносил травмы другим игрокам и много раз думал, не отказаться ли вовсе от хоккея. Однажды, двинув парня из Дома Лави клюшкой в лицо, сломав ему челюсть и выбив четыре зуба, он понял, что закон ахимсы в чистом виде ему соблюсти никогда не удастся. Правда, ахимса в изложении Старого Отца требовала лишь никому не причинять зла сознательно. Данло терпеть не мог делать кому-то больно и никогда не делал, если мог этого избежать. Но его бесшабашность и любовь к скорости заставляла всех, и даже его товарищей по общежитию, опасаться Данло Дикого. Сам же он ничего не боялся. Он тоже часто получал травмы – вот и теперь, во время свалки, Лаис Мохаммад угодил ему черенком клюшки в глаз, который сразу пронзило жгучей болью и заволокло слезами. Но Данло привык к боли и никогда не уделял ей такого внимания, как цивилизованные мальчики. Через боль человек сознает жизнь – эта пословица была ему родной, как биение собственного сердца, которое он чувствовал прямо позади подбитого глаза. Он умел сливаться с болью и пропускать ее через себя, как обжигающе-ледяную воду. Полуослепший, в вихре клюшек и коньков, он нашарил шайбу и вошел с ней в хаос крепких тел, визжащего льда и сердитых криков, позволив ему увлечь себя через поле. Его гений и его сила заключались именно в этом: стать частью хаоса, не сопротивляясь ему и не пытаясь его контролировать. Выросший среди льдов и ветра, он находил дорогу звериным чутьем, двигаясь с неподражаемой грацией.
– Данло! – услышал он внезапно крик Ханумана. В мешанине рук и ног перед ним открылся просвет. Данло послал туда шайбу, Хануман принял ее, и стена тел сомкнулась снова, как море вокруг утеса. Толпа отхлынула от Данло, переместившись к Хануману. Тот ехал в куче из десяти или двенадцати человек, пытаясь вырваться.
– Шайбу! – вопил Мадхава. – Шайбу!
– Хану, Хану! – Данло проскочил между двумя «каменными». Тайная нить между ним и Хануманом натянулась, снова увлекая его в свалку. Был момент, когда Хануман мог бы передать шайбу ему, однако не передал. Хануман был очень хорош в защите. Данло боялись за дикость, а его – за жесткий стиль игры. Он шел напролом и крушил всех на своем пути.
Это была логика его жизни, его трагедия и его судьба. Его злость, его клюшка (или кулаки, когда он оставался безоружным), его смертоносная аура создавали вокруг него некое непреодолимое пространство, центром которого был он сам.
Таким образом он успешно оборонял себя и шайбу, но в то же время выбивался из общего хода игры. Данло с двадцатифутового расстояния увидел, как он отпасовал шайбу Мадхаве, а потом ловко съездил клюшкой по колену зарвавшегося «каменного». Сделал он это как бы случайно, не сумев якобы сдержать удар. «Каменный» с воплем повалился на лед, держась за коленку, тряся головой и проливая слезы, а лицо Ханумана превратилось в маску страха – Данло уже видел у него это выражение в их первую встречу. Кроме него, этого, кажется, никто не заметил. Пока вокруг вопящего «каменного» собиралась толпа, Данло, не отрываясь, смотрел на Ханумана. С помощью глаз и того глубинного зрения, которому не мог подобрать названия, он видел коренной парадокс существования Ханумана: тот боялся всего, что выходило за пределы его «я», боялся твердой льдистой чуждости других людей и предметов. Страх побуждал его отгораживаться от жизни, а отгорожение вызывало в нем чувство уязвимости и одиночества. И Хануман боялся, и ненавидел, и чинил вред всякому, кто ему угрожал. Когда Лаис Мохаммад указал на него клюшкой, обвиняя его в трусости и жестокости, Хануман тут же отбил его клюшку своей, и та по инерции задела щеку одного из «каменных», малорослого мальчугана с глазами испуганной оленухи. Тот вскрикнул и тоже замахал клюшкой и зацепил Шерборна с Темной Луны. Волна насилия захлестнула обе команды, и они накинулись друг на друга, молотя клюшками, ругаясь и брызгая слюной. Данло врезался в схватку, отводя удары руками. Сам он не дрался и двигался осторожно, чтобы не задеть коньками кого-нибудь из упавших игроков, хотя битва была бы для него лучшим способом зашиты. Связующая нить между ним и Хануманом теперь так натянулась, что Данло казалось, будто сердце друга бьется в его груди. Он уже подобрался к Хануману совсем близко, но кто-то треснул его по уху, а угрюмый парень, имени которого он не знал, вогнал ему черенок клюшки в солнечное сплетение. Данло, задыхаясь, прижал локти к животу и увидел, как Хануман двинул этого парня в висок. Тот рухнул на лед как подкошенный. Данло не знал, жив ли он. Такой удар мог прикончить кого угодно, а Хануман достаточно распалился, чтобы убить. Данло видел это по его холодным обезумевшим глазам и по ударам, которые он наносил коньками и клюшкой. Добровольно с ним никто бы не етал связываться, но свалка не оставляла места для выбора: Как раз в этот момент Хануман, угадав своим шестым чувством, что Лаис Мохаммад подбирается к нему сзади, круто обернулся, и их клюшки заклацали одна о другую. Лаис размахнулся, явно норовя сломать Хануману нос, размозжить это красивое тонкое лицо. Хануман блокировал удар, и в глазах у него была смерть.
– Хану, Хану! – Данло бросился к нему. Другие дерущиеся прочли бы на лице Ханумана только ярость – он рубился с Лаисом самозабвенно, пуская в ход приемы своего боевого искусства, но Данло видел, что лицо его друга, при всей свирепости, на самом деле застыло от страха. Это страх заставлял Ханумана молотить по клюшке Лаиса с такой силой, словно он старался повалить дерево. Наконец он разнес ее в щепки, и очередной удар обрушился Лаису на грудь.
Занося клюшку. Хануман каждый раз морщился, словно этот разгул насилия ранил его до основания и причинял ему мучительную боль. Именно этой боли он и боялся. Больше всего на свете он боялся собственной воли, способной переломить его самого, хотя в то же время любил ее и называл своей судьбой.
Данло вклинился между Лаисом и Хануманом, чувствуя, как страх в животе его друга колеблет связующую их нить, и вырвал клюшку из рук Ханумана. Лаис, бросив обломки своей, выхватил другую у товарища по команде и принялся молотить Данло по спине. Он сыпал руганью и пытался дорваться до Ханумана. Данло повалил Ханумана на дымящийся лед, прикрыв его своим телом. Клюшка Лаиса дубасила его по спине, и боль от ударов напоминала о еще более глубоких душевных ранах Ханумана.
Через боль человек сознает жизнь. В этот бесконечный, наполненный болью момент Данло понял о Ханумане самое главное: его друг, этот бледный сосуд гнева, с которым он будет связан до смертного часа, был от природы добрым и сострадательным мальчиком, но искалечил сам себя. Вернее, он попытался выжечь в себе эту доброту – так убивают нежеланного младенца, бросая его в раскаленную лаву. Он сделал это намеренно, именно потому, что был одарен сильной пламенной волей – волей преодолеть себя и стать выше. И это Данло пробудил в нем эту волю, развил ее и укрепил. Потому Хануман и любил Данло – любил за дикость, полноту жизни, грацию движений, а прежде всего за бесстрашие перед жизнью. И ненавидел в нем эти же самые качества потому что сам был лишен их.
Все это Данло понял в один миг, лежа на Ханумане и прикрывая его от клюшки Лаиса Мохаммада. А Хануман брыкался, пытаясь сбросить его с себя, и лупил коньками по льду, поднимая фонтан осколков и посылая в кристальные глубины волны ярости, бессилия и ненависти. Ненависть – левая рука любви, вспомнил Данло, и их совместное будущее предстало перед ним во всей своей неизбежности, хотя должны были пройти годы, прежде чем он выразил бы это видение в словах или рассмотрел его получше.
– Данло, пусти! – прокричал Хануман.
Кто-то из «каменных» обхватил Лаиса сзади руками и оттащил его от Данло. Данло встал, повернулся к Лаису лицом и сказал:
– Прости.
– Уйди прочь! – заорал тот, вырываясь из рук своего товарища и пытаясь поднять клюшку.
Хануман тоже встал, весь дрожа и шаря глазами по льду в поисках своей клюшки, но Данло посмотрел на него и сказал:
– Хану, нет.
Хануман замер, уставившись на него.
– Хану, Хану, – прошептал Данло. Лаис тоже смотрел на него, и все остальные понемногу утихомиривались. Преданность Данло ахимсе и его откровенная любовь к своему другу, этому страшному Хануману ли Тошу, заставила драчунов устыдиться, и многие из них побросали клюшки. С разных концов Купола к ним спешили послушники, кадеты и даже четверо мастер-акашиков, красных и запыхавшихся от игры в скеммер на санных дорожках. Одна из них, Палома Старшая, старуха с молодым лицом и телом женщины средних лет, отчитала мальчиков за то, что они поддались насилию. Все оправдания и жалобы на то, что другие начали первыми, она пресекла, заявив скрипучим старческим голосом:
– У насилия нет ни начала, ни конца, и вы все виноваты. – Она организовала первую помощь пострадавшим – в порванные мускулы втерли быстро впитывающиеся энзимы, порезы и царапины заклеили. У нескольких мальчиков обнаружились переломы и выбитые зубы, и Палома отправила их к резчику.
Мальчик, которого Хануман огрел по голове, отделался контузией и храбро предложил закончить игру. Хоккеисты отошли к своим скамейкам, чтобы немного отдохнуть.
– Тебе сильно досталось? – спросил Хануман Данло у их голубой скамьи. Ярость покинула его, и он тронул Данло за рукав. – Может, лед приложить? Сними камелайку, посмотрим твою спину.
Данло расстегнул камелайку, снял рубашку, и его спину точно огнем обожгло, как будто кто-то сдирал с нее мясо раскаленным ножом. Он сгорбился, упершись локтями в колени.
По крайней мере один позвонок посередине пронзало болью при каждом вдохе. Всю спину покрывали багровые кровоподтеки, которым скоро предстояло почернеть. Данло их не видел, но чувствовал – от ягодиц до самой шеи.
– Да, тут нужен лед, – сказал Хануман. Вдоль скамьи ходило по рукам стальное ведерко с кубиками льда. Хануман взял один цилиндрик, намороженный вокруг деревянной палочки, и стал водить им Данло по спине. – Ох, Данло – твоя ахимса когда-нибудь тебя погубит.
– Но я должен был вмешаться! – Данло скрипнул зубами, когда Хануман принялся натирать его дурно пахнущей мазью. – Не то он убил бы тебя… или ты его.
– Ты думаешь, у меня хватило бы на это отваги?
Покончив с явно тяготившим его делом – он всегда боялся иметь дело с какими бы то ни было телесными повреждениями, – Хануман отошел к фиолетовой линии, отмечавшей край поля, и стал долбить лед носком своего конька. Он потупил голову, но глаза его сияли.
– Хану, – сказал Данло, подойдя к нему, – я должен спросить у тебя одну вещь.
Хануман молча поднял на него глаза, где спокойствие сочеталось со страхом.
– Там, в библиотеке, воин-поэт, прежде чем убить себя, кое-что сказал мне. – Данло, в свою очередь, тронул Ханумана за рукав. – Я не могу забыть… то, что он сказал о Педаре.
– И что же он сказал?
– А ты не помнишь?
Хануман, поколебавшись долю мгновения, ответил:
– Нет, не помню.
– Поэт сказал, что ты… убил Педара.
– Убил? Ты думаешь, я правда убил его?
– Я… не хочу так думать.
– Как, по-твоему, я мог это сделать?
– Не знаю.
Хануман посмотрел Данло в глаза и сделал нечто поразительное: он схватил Данло за руку, как тогда в библиотеке, и стиснул изо всех сил, до боли и хруста костей. Потом приблизил губы к самому уху Данло и прошептал:
– Воин-поэт ошибся. А может, солгал. Никто не убивал Педара – он сам себя убил.
– Это правда?
– Уверяю тебя.
Хануман заставил себя улыбнуться. В этой улыбке заключались искренность и безмерное успокоение, но и что-то помимо этого. За безупречной работой лицевых мускулов и светлыми эмоциями скрывалось, как нарыв, глубокое страдание. Хануман мог бы закричать от боли, если бы не так хорошо владел собой.
– Мне кажется, цефики не до конца тебя вылечили, – сказал Данло. – Дело ведь не только в эккане, правда? Тут что-то другое.
Хануман отпустил его руку и стал ковырять коньком лед.
– Ты слишком правдив – я уже говорил тебе об этом. Слишком серьезен, слишком любопытен… и так далее. О себе ты не беспокоишься, верно? О своем «я». Я таким мужеством не обладаю – да и кто обладает? Это все твоя дикость. При первой же встрече я увидел ее в тебе – в нас обоих. Я думал, у меня хватит мужества на нее, но ошибся. Она убьет меня, если я первый ее не убью. Понимаешь?
– Да. – Данло ощущал оцепенение во всем теле, и ему вдруг стало холодно. Он закрыл глаза, вспоминая, когда впервые возлюбил опасность и дикость своей жизни: это было в ту холодную ночь, когда они с Соли хоронили племя деваки. Воздав дань воспоминанию и молитве, он исправил свой ответ, сказав шепотом: – Нет. И не хочу понимать.
– Я лишен твоей грации… – тихо промолвил Хануман. – Той, с которой ты принимаешь все, даже собственную дикость.
– Но я не все принимаю. В этом вся беда человека по отношению к жизни. Наша беда, Хану, – разве тебе непонятно? Сказать «да» – вот в чем истинное мужество. Но я пока еще не могу быть асарией. Все, на что я ни посмотрю – Бардо, мой благословенный народ, ты, – кричит мне «нет»!
– И все-таки ты по-прежнему намерен стать пилотом?
– Бардо думает, что это мой наилучший шанс на спасение моего народа.
– Алалоев?
– Да, благословенных людей.
– Но это не единственная причина, по которой ты хочешь стать пилотом, правда?
– Да.
– Ты как-то говорил мне, что хочешь добраться до центра вселенной.
Данло посмотрел в глубину Ледового Купола, где гремели на своих дорожках сани и испарения окутывали лед, как мокрый серый мех. Скрестив руки на груди, он сказал:
– Раньше я думал о мире, о вселенной, как о великом круге. Великом круге халлы. И я еще верю порой, что могу отправиться к центру этого круга.
– Чтобы увидеть вселенную такой, как она есть?
– Да. Мир глазами большинства людей и то, как они живут, – это фальшь, обман, ложь.
Хануман уже наковырял коньком маленькую горку снежной пыли.
– Вот потому я и буду цефиком, – сказал он. – Хочу открыть центр самого себя. И посмотреть, ложь ли это.
– А потом?
– А потом война. Я воюю сам с собой, и мне надо знать, способен ли я на такой вид убийства.
Больше он в ту пору ничего не сказал Данло. Он мог бы сознаться в большем, гораздо большем, но он хорошо хранил свои секреты, порой даже от себя самого. Возможно, он хотел сказать Данло всю правду о своем решении стать цефиком. Но правда, как говорят фраваши, многолика и комплементарна.
Искать ее – все равно что пытаться найти самую красивую песчинку на песчаном морском берегу. В сущности, Хануман никогда не понимал того чудесного качества, которое называл дикостью. Дикость – это стремление, черта, чувство и часть воли, позволяющая человеку узнать себя во всех элементах мироздания и ощутить огненную подпись вселенной в себе самом. Истинная дикость убивает. Она затягивает сознание в самую глубину жизни, то есть в смерть, ибо смерть – левая рука жизни и близка к ней, как один удар сердца к другому. Смерть может быть быстрой, как у альпиниста, падающего с высоты, или у пилота, чей легкий корабль падает в центр голубой звезды-гиганта. Она может быть медленной, как у алкоголика, гнусной, как у развратника, печальной, как у пропавшего в своих мечтах аутиста, и безумной, как у нейропевца, неспособного отключиться от своего кибернетического рая. Есть еще лишенная времени, возвратная смерть алалойского охотника, который на льду моря, в великой пустыне, слушает Песнь Жизни и уходит в мистическую область, называемую альтйиранга митьина. И есть, наконец, самая тяжкая из всех смертей. Чувствовать огонь бесконечности внутри себя и позволять ему гореть, умирать каждый миг и каждый миг возрождаться из пепла этого священного внутреннего огня, создавать себя заново по образу своих сокровеннейших страстей и видений – вот жизнь и смерть человека, который становится богом. Все инстинкты Ханумана толкали его именно к этой судьбе, но ему недоставало мужества использовать свои лучшие возможности, и он боялся дикости, заложенной в нем самом. Поэтому он отчаянно цеплялся за себя, за свою личность, свои идеалы, эмоции и мысли, за все составляющие своего «я», которые Данло назвал бы попросту «лицом», но Хануман почитал как нечто драгоценное, неподвластное переменам и оберегал от всяческого ущерба. Всем остальным он жертвовал без стыда и милосердия. Полагая себя обреченным на самый тяжкий из всех путей, он сознательно, трагически искоренял те самые страсти, которые могли бы сделать его поистине великим. Он, такой мягкий и чувствительный в детстве, пытался превратить себя в самого твердого из людей. Он, наделенный редкой волей к жизни и состраданием к людям, исказил свою любовь к Данло, перекроив ее в ненависть к его мучителю, и заставил себя убить послушника Педара Сади Саната. Воин-поэт не солгал: Хануман действительно совершил это убийство. И сделал он это не в своем воображении, а своими руками, своей волей и своим ненавидящим сердцем.
Вечером после того, как Данло рассек себе лоб в роще ши, Хануман, кое-как обработав эту ужасную рану, отправился в Квартал Пришельцев, на улицу Контрабандистов.
Там он на последние деньги, которые привез с собой в Невернес, купил сновидельник, черный приборчик величиной с детское сердце, комплекс нейросхем и алмазных чипов, запрограммированный на создание определенного диапазона образов. Сновидельники, эти игрушки для взрослых, уставших от скучной повседневности, служили также педагогическими пособиями для цефиков, проверявших на них способность своих учеников отличать имитацию от реальности. Хануман нашел своему сновидельнику другое применение. Когда все мальчики улеглись спать, он спрятал сновидельник под одеялом и стал ждать ночного визита Педара. Как только Педар взошел на лестницу, Хануман направил поток образов сновидельника прямо в его зрительную кору. Картина эта представляла скутарийских маток, поедающих своих новорожденных детей. Хануман создал этих темных, извивающихся, окровавленных чудовищ специально, чтобы напугать Педара и заставить его упасть. Чтобы убить его – Хануман не лгал себе в том, что касалось его затаенных целей. Он совершил убийство, чтобы спасти Данло от дальнейших мук и унижений. И еще потому, что самый акт убийства всегда был ему ненавистен. А главное – для того, чтобы выжечь из своей души тайную слабость. Именно это послужило истинной причиной его решения стать цефиком. Могущественное искусство цефиков было ему необходимо для завершения мучительной работы по переделке самого себя. В центре своей души, где боль была всего сильнее, он надеялся обнаружить источник собственных страданий и выжечь его без остатка. Все это Хануман жаждал рассказать Данло, но побоялся, что тот неправильно его поймет. А потом Мадхава ли Шинг вывел их команду из тринадцати оставшихся человек на лед, и момент был упущен.
– Данло, ты идешь?
Данло стоял на краю поля, глядя на Ханумана, катящегося вперед в кучке других ребят. «О Хану, Хану, – думал он, – что ты наделал?» Свет, струящийся сквозь Купол, делал лицо Ханумана белым и золотым, и Данло, не в силах вынести его ужасного вида, опустил глаза. Он отвел глаза от правды, как от прекрасной, но обреченной звезды, которая вот-вот взорвется. Он чувствовал, как стучит его сердце, сильно и часто, миг за мигом увлекая его в будущее, которого он не мог знать до конца. А потом глубоко внутри возник шепот, будто ветер пролетел среди осколочных деревьев. Это был ответ на тот страшный вопрос, который Данло недавно задал, но он, единственный раз в жизни, не прислушался к внутреннему голосу.
– Данло, ты идешь? – снова позвал Хануман.
– Да. – И Данло вышел на лед, чтобы доиграть хоккейный матч.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ПУТЬ РИНГЕССА
Глава XV ВОЗВРАЩЕНИЕ ПИЛОТА
Вся история человека – это его попытка определиться в отношениях с Богом.
Хорти Хостхох, «Реквием по хомо сапиенс»Для молодого человека, даже воспитанника самой прославленной школы Цивилизованных Миров, время, в которое он растет и мужает, всегда представляется нормальным, каким бы бурным оно ни было и какие бы ни приносило перемены.
Перемены и опасности действуют на человеческий ум как наркотик или скорее как обильная пища, вызывающая стремление познать жизнь во всей ее полноте. К такому питанию быстро привыкаешь. В тех, кто пережил знаковые события истории – войну, чуму, контакты с иными цивилизациями, образование новых видов или религиозные откровения, – развивается вкус к бродильному суслу эволюции, по сравнению с которым «нормальная» жизнь кажется скучной, плоской и бессмысленной. (Божественному же взгляду, окидывающему период в два миллиона лет, весь невероятный путь человечества от саванн Африки до звезд галактики тоже кажется нормальным.) И если поистине выдающаяся биография Данло ви Соли Рингесса изобиловала странностями, трагедиями, историческими решениями и поступками, сам он редко думал о себе как о выдающемся человеке и не считал вселенную, в которой родился, враждебным или изначально трагическим местом. Да, она была сурова, полна прихотливо взрывающихся сверхновых, наводящих ужас богов и новых экологии. Вселенная, лишенная равновесия. Мир вокруг был пропитан пороком, несправедливостью, ложью, искусственно вызванным генетическими болезнями и другими проявлениями человеческого зла. Все миры вокруг звезд были поражены шайдой – до самых своих огненных, раскаленных ядер. Существовало ли средство против этого вселенского зла? Мог ли Данло вместе со всем человечеством найти путь к восстановлению первичного равновесия жизни и возвращению всему сущему той стройности и естественного порядка, которые он называл халлой? Он знал, что даже в халла-вселенной мира никогда не будет. Она вечно, словно зимняя буря, будет реветь, клокоча насилием, хаосом и переменами. Данло явился в мир, чтобы упорядочить хаос своего времени, но ему в отличие от Ханумана ли Тоша даже в голову не приходило, что вселенную можно преобразовать каким-то новым страшным образом.
Вряд ли стоит задерживаться на том, как Данло окончил Борху и поступил в пилотский колледж Ресу. Он был блестящим учеником, но блеск этот проявлялся так естественно, что никогда не вызывал в его товарищах ни зависти, ни гнева.
Математика, фугирование, маршрутизация и холдинг – все эти пилотские дисциплины поглощали почти все его время, но не оставляли на нем глубокого отпечатка почти до самого конца его учения. Он освоил контакт со своим корабельным компьютером и пришел в восторг, испытав разные виды кибернетического сознания. Все кадеты-пилоты проходят через этот период первой любви к своим компьютерам. Данло быстро пристрастился к чудесному состоянию, называемому самадхи-расширением. В отличие от первой и низшей стадии савмкальпа-самадхи человек в состоянии расширения не отделяет своего сознания от молниеносных цифровых потоков компьютера. Самосознание растворяется, как электроны в микровояокнах компьютерных нейроехем. Человек испытывает единство, слияние с кибернетическим пространством мультиплекса. Время почти останавливается. Входя в струящиеся воды чистой математики, пилот переживает божественное, сладостное чувство ускорения мысли, нащупывания связей, расширения разума. Эта деперсонализация, многократное увеличение своего «я» для кого-то становится чудом, для кого-то кошмаром и грозит гибелью всем, кто сопрягается с компьютером слишком глубоко. Немало пилотов затерялось в холодной, страшной красоте цифрового шторма. Пилоты гибнут на тысячу разных ладов, и чаще всего это происходит внутри их компьютеров. Данло не проектировал компьютер, который был мозгом и душой его легкого корабля, но он быстро обучился умственному слиянию с компьютером, чувствуя себя вполне вольготно – однако никогда не забывался. Сам корабль, красавец из алмазного волокна, названный им «Снежной совой», Данло проектировал и строил лично – правда, с помощью целой команды техников, архитекторов, программистов и роботов. На нем он выходил в космос – сначала к ближним планетам Нинсану и Сильваплане, а затем в то математическое пространство, что лежит за пространством видимой вселенной. Талант и сила Данло помогли ему не только благополучно пережить эти первые пробные выходы в мультиплекс, но и накопить знания для решения своих собственных проблем – и основной проблемы великой цивилизации, распространившейся от ледяных улиц и блестящих шпилей Невернеса до самых дальних звезд.
Что же он узнал за эти годы? Он не открыл для себя никаких ошеломляющих новых истин – скорее стал видеть мир более четко. Это было продолжением того пути, который Данло начал еще в детстве и понял по-настоящему в доме Старого Отца. Данло ни от кого не скрывал своей цели увидеть вселенную «такой, как она есть», постичь ее со всей глубиной и ясностью и сказать «да» всему, что он увидит. Но чем острее становилось зрение и чем яснее открывалась пропащая душа человечества, тем сильнее одолевало его искушение сказать «нет». Став настоящим, взрослым мужчиной, он начал еще критичнее относиться к цивилизованным людям, к их странным верованиям, культурам и институтам. В черной камелайке кадета-пилота он скользил по запретным ледяным Кварталам Пришельцев, заводя друзей во всех сектах и слоях общества.
Но ему всегда и везде чего-нибудь недоставало. Правда, Данло, по-прежнему почитавший фравашийские идеалы, никогда не заострял внимание на этих недостатках; даже в самом последнем червячнике он находил качества, которые мог уважать и даже любить – и ему всегда отвечали взаимной любовью.
Он вращался среди хариджан, проституток, эталонов, аутистов и архатов, ища в их бегающих взорах свет сознания. Слишком часто, особенно у главных специалистов Ордена, этот свет оказывался тусклым, как огонек горючего камня, колеблемый ветром. Видя, как люди смотрят друг на друга – всегда осуждая, желая или пренебрегая, всегда в страхе перед самим собой, он начал понимать, что основной недостаток обычного человеческого сознания заключается в изолированности от всего мироздания. Люди всегда страдали от одиночества своего существования в виде отдельных существ, но по прошествии тысячелетий эта боль перешла в наследственное проклятие.
По мере продвижения человечества от первобытных собирателей плодов до граждан галактической цивилизации пропасть между «я» и другими элементами мироздания приобрела космические размеры. Данло узнал множество способов зарастить или преодолеть эту пропасть. Одни становились натурмистиками и забывались в единении с землей, ветром и небом, другие принимали наркотики, третьи погружались в яркие сны, четвертые искали мистической связи с компьютером. К этим последним относились цефики-нейропевцы, некоторые кибершаманы и собратья Данло – пилоты Ордена Мистических Математиков. Члены секты астриеров игнорировали глубинные вопросы существования, плодя детей в огромных количествах.
Некоторые женщины, чей период плодородия продолжался сто лет, рожали каждый год. Астриеры полностью посвящали себя животным потребностям жизни: добыванию пищи, одежды, денег, украшений, а зачастую также сновидельников и других приборов для отупления души и мозга. Другие люди отрицали ущербность своего сознания. В Век Науки многие даже гордились отделением человека от природы, субъективного от объективного, факта от значения, сознания от материи. Наиболее же универсальным методом преодоления упомянутой пропасти всегда служила религия. Данло суждено было стать знатоком не только математики, но и религиозных учений. Во время своего первого и второго года в Ресе он пытался понять то фундаментальное, что лежало в основе всех религий: стремление человеческого «я» объять холодную, таинственную чуждость мироздания.
Если все тотемные системы, инопланетные философии, холизм, Кредо Случая и самые разные дисциплины от канторовской математики до скраирования – все проистекают из этого стремления, то можно смело сказать, что Данло к двадцати годам постиг на опыте сорок религий. Сорок – это по меньшей мере. Все началось с его приобщения к алалойскому сон-времени, альтйиранга митьина, к Древним и к Песне Жизни. Поселившись в Городе, он впитал в себя приличную дозу фравашийской языковой философии, пофлиртовал с тихизмом и усвоил часть аутистской системы реконструирования реальности. Он завел друзей среди скраеров и уломал их открыть ему тайную доктрину сарвам-асти. Он забавлялся с древней кабаллой и магией чисел. Желая понять ненависть Ханумана к эдеизму, он выискивал еще существующие в Невернесе секты Вселенской Кибернетической Церкви: Архитекторов Вселенского Бога, Церковь Эде и Кибернетических Пилигримов мультиплекса. Пару раз он даже поучаствовал в их ритуалах, включавших экстатическую церемонию подключения. Эти экзотические таинства, которые Хануман цинически именовал религиозным гурманством, явились необходимой фазой на жизненном пути Данло, рожденного, чтобы стать как провидцем, так и асарией. Входя в очередную религию, он смотрел на реальность через новую линзу. Эти линзы, словно цветные стеклышки, которыми играют дети, неизбежно искажали реальность, окрашивая ее в странные (и порой прекрасные) тона. Но Данло в каждой религии или культе надеялся найти какой-то универсальный центр, зерно истины, чистое и ясное, как алмаз. Свою задачу и судьбу он видел в том, чтобы подержать каждую веру в руках, посмотреть на мир сквозь нее, а затем разбить кристалл молотом своей воли. Только так он мог отыскать зерно и увидеть все в истинном свете. Когданибудь ему предстояло взглянуть на вселенную собственными глазами, свободными даже от алмазных линз и способными пропустить звездные огни и огонь человеческого страдания через глубочайшие области его «я». «Искать свободы посредством религии, – сказал Данло Хануман, когда они оба уже стали кадетами, – все равно что пытаться понять скутари, предлагая им себя на обед».
Путь, избранный Данло, и в самом деле был опасен и напоминал продвижение по узкому ледяному мосту. Трудно разглядеть дорогу в ледовом тумане различных верований.
Искателю грозит опасность заблудиться – или упасть. Из всех религий самой предательской и труднопреодолимой для Данло оказался повсеместно царящий в Ордене холизм, хотя большинство мастеров Ордена отказались бы признать холизм религией. Они указали бы Данло, что поступление послушником в Орден требует полного отречения от каких бы то ни было верований, теологии или доктрин. На первый взгляд это казалось правдой – тем труднее было Данло взмахнуть своим молотом и раздробить эту тонкую, бесконечную малую линзу.
Холизм был душой современной цивилизации – люди воспринимали его как должное и не оспаривали его положений так же, как не думали о воздухе, которым дышали. Немногие помнили истоки холизма, немногие знали о том, что когда-то человечество воспринимало вселенную совсем по-другому «Холизм, – сказал как-то Данло мастер Джонат, – служит выражением Шестой Ментальности человека. Иногда ее называют также Последней Ментальностью – разве можно представить себе более совершенный способ моделирования реальности, скажи на милость?» Исторически холизм возник, отколовшись от редуктивных методов науки. Холизм, называемый также «второй наукой», видит вселенную как паутину взаимных связей и действий. Все системы (саму вселенную тоже можно рассматривать как разветвленную сверхсистему) владеют чем-то и вне своих пределов. Все вещи в определенном смысле живы или входят в живую систему; нельзя понять реальный мир, объединяющий сознание и материю, сводя (или редуцируя) его до уровня элементарных частиц. Кредо холистов можно было бы выразить в словах: «Материя есть сознание». Основополагающие теории холизма пытались объяснить, как возникает сознание из материальной вселенной и каким образом сознание всех вещей связано между собой.
Наука прошлого в этом отношении потерпела полный крах.
Она отвела людям роль объективных наблюдателей механической, не имеющей смысла вселенной, мертвой вселенной.
Человеческий разум, по теории детерминистов, являлся всего лишь субпродуктом мозговой химии. Химические законы сочетания и взаимодействия элементов преподносились как непреложная истина. Сами элементы считались неделимыми частями материи, лишенными сознания и не затронутыми тем самым сознанием, которое пыталось понять, как может живой разум состоять из мертвой материи. Из подобных теорий и концепций следовал неизбежный логический вывод: люди – это биохимические роботы, не обладающие свободой воли.
Неудивительно, что человечество в Век Холокоста впало в безумие и отчаяние.
Холизм был попыткой вернуть вселенной жизнь и заново связать с ней человека, заживить трещину между «я» и всем, что не «я». Но и холизм по прошествии многих веков оказался несостоятельным. За три тысячелетия существования Города специалисты Ордена успели позабыть о том, что холизм – это сплав теории и личного опыта, и уделяли слишком много внимания теории. То, что некогда легло в основу холизма – квантовая механика, бейтсонова эпистемология, общая теория систем, кибернетикам информатика, – разрослось в сложную систему, представляющую реальность в символах универсального синтаксиса. Некоторые холисты с самого начала рассматривали эту реальность как кибернетическую, природу – как сеть программируемых единиц, обменивающихся информацией, а жизнь – как поток информации, который останавливается, будучи перекрытым. Компьютер стал моделью разума и метафорой вселенной. Наиболее догматичные из холистов-кибернетиков, собственно, и рассматривали вселенную как компьютер, а разум – как набор программ, осуществляемых этим компьютером или его компонентами. Используя универсальный синтаксис Омара Нарайямы, холисты Ордена разработали целую науку, трактующую индивидуальное сознание как подпрограмму вселенского алгоритма. Это был блестящий, но слишком абстрагированный способ восприятия вселенной – ведь пропасть между «я» и всем остальным заполнялась лишь формально.
Холисты, например, канонизировали пресловутую теорему колокола, взятую из старой квантовой механики. Они поклонялись особым свойствам света и учили, что фотон из каждой пары фотонов «помнит» полярность своего партнера, как бы они ни были разделены в пространстве-времени. Материя есть память, утверждают холисты. Тело и разум каждого человека, учат они, каждым своим электроном связаны с тканью вселенной. Каждое квантовое событие, каждое из ежесекундных триллионов взаимодействий частиц реальности друг с другом – это нота, вызывающая резонанс в огромном колоколе мироздания. И звук этого колокола, распространяясь повсюду, связывает все сущее. Реальность на своем глубочайшем уровне есть неделимое целое, и в этом заключена мистическая истина нашей вселенной. Эта канонизированная концепция преподносилась человечеству, ищущему основополагающего единства, но человечество познавало ее лишь в теории, а не на опыте.
Истинный холизм помимо теории живых систем должен был бы включать в себя еще и реальность ветра, голода и снежных червей, которых жарят над костром в холодную зимнюю ночь.
Каждый индивидуум, чтобы стать настоящим человеком, будь то мужчина, женщина или ребенок, должен неустанно дивиться тайне жизни. Мы все должны быть способны держать контакт со вселенной, впитывать поток фотонов, летящий через пространства многих световых лет, и слышать гул самых дальних галактик, и ощущать электроны кровяных телец, вибрирующих в нашей крови. Никто не должен чувствовать себя отрезанным от океана разума и памяти, омывающего все вокруг, никто, созерцая блеск звезд, не должен чувствовать себя покинутым и одиноким. Это холизм отчасти повинен в том, что целая цивилизация оказалась лишена лучших своих чувств – раздробленная на десять тысяч триллионов островков сознания, которые рождались с ощущением безысходности и ждали смерти со стеклянными глазами и абстрактными формулами на устах, вечно страшась жизни и вечно желая испытать ее во всей глубине и истинности.
И все же всегда находились люди, неподвластные догматам холизма и всех прочих «измов», которые, обратив взор внутрь себя, внимали ритмам собственного разума и крови. Холизм, говорили они – это бесплодный мистицизм, мистицизм без сердца, а вот дао, древний Путь Жизни, продолжается вечно.
На протяжении всей истории человечества искатели этого пути, вплоть до первобытных шаманов лесов и пустынь Старой Земли, придерживались непрерывной тайной традиции проникновения в глубины жизни. Эти выдающиеся люди служат источниками энергии, к которым человеческое общество обращается каждый раз, когда его жизненная сила угасает. Сам Орден всегда опирался на своих искателей несказанного и имманентного: на тайных кибершаманов, пилотов-диссидентов, на йогическую ветвь цефиков, на лучших скраеров и мнемоников. В этом заключается ирония и даже трагедия, ибо это блестящее меньшинство всегда стремилось преобразовать Орден, в то время как Орден – старые ортодоксальные мастера и главные специалисты с холодными сердцами и каменными лицами – присваивал себе их важнейшие открытия, высасывал жизнь из сокровеннейших знаний и строил из останков теории холизм. Став жестоким и окаменелым, как старый костяк, Орден во многом послужил углублению изначальной ущербности человеческого сознания. Люди Цивилизованных Миров всегда обращались к Ордену в поисках истины и слишком часто получали взамен символы универсального синтаксиса, искусственный интеллект, виртуальную реальность, форму вместо содержания, формулы бесконечности вместо жизни.
Просуществовав так три тысячи лет, великая звездная цивилизация времен Данло обветшала и стала хрупкой, как старое стекло. Повсюду, в Невернесе и миллионе других городов, мужчины и женщины жили слишком долго, став чужими собственным телам; они чурались всякой органики и проводили слишком много времени в мечтах, или в манящей сюрреальности своих компьютеров, или в холодных каменных библиотеках. Но Данло везде, на улицах и в кафе, встречал и других, которые желали чего-то большего, хотя и не отдавали себе отчета в этом своем желании. Каждый человек в глубине души стремился ощущать в своей крови огонь жизни и чувствовать то же древнее священное пламя в других. Данло в наиболее цинические свои моменты представлял себе цивилизованных людей как триллионы единиц мертвой материи, ожидающие, когда некий свет извне воспламенит их. Вот вернется из бездн космоса какой-нибудь выдающийся человек и принесет с собой звездный огонь, который побежит от одного к другому, пробуждая людей для великих возможностей. И тогда настанет хаос, тогда человечество сольется воедино и рванется к звездам – где их будет ждать то ли истинное пробуждение, то ли какой-то ужасный механизм уничтожения, который Данло мог представить себе лишь очень смутно. То, что он родился в такое время и может стать свидетелем этого рывка, его не удивляло. Но он не догадывался ни о том, как близка от него искра, призванная разжечь это пламя, ни о том, что он окажется в огне с самого начала.
12-го числа ложной зимы 2953 года над Городом появился корабль под названием «Кольцо славы», принадлежащий ренегату, бывшему пилоту Ордена Пешевалу Сароджину Вишне-Шиве Лалу, известному всем как Бардо. Челноки сновали через атмосферу трое суток, дробя огнем и громом небо над Крышечными Полями и создавая великолепное зрелище для зевак, собравшихся поглядеть на прибытие корабля. Челноки выгружали из его трюмов сокровища сотни миров: арфы и масло сиху, мебель, деревца бонсай, священные драгоценности с Веспера, зачерняющее масло, тондо, картины и даргиннийскую скульптуру; экзотические сенсорные приборы, в том числе и сновидельники, ярконские алмазы; рубины, изумруды, опалы и огневиты с Темной Луны; жемчуг из океанов Новой Земли, а также, само собой, фравашийские ковры и наркотики наподобие юка, Джамбула, тоалача, пива и виски.
В Городе дивились тому, как Бардо сумел нажить такое богатство всего за пять лет. Говорили, будто он еще в послушничестве нарушил обет бедности, будто он унаследовал часть фамильного состояния (по рождению Бардо был принцем Летнего Мира) и хранил эти деньги втайне от всех. Теперь он пустил это маленькое состояние в оборот и превратил его в большое – так утверждали его старые друзья. Другие были к нему не столь добры; его враги среди мастеров и главных специалистов обвиняли Бардо в торговле живым товаром или нелегальной техникой. Некоторые, в том числе Ченот Чен Цицерон, намекали даже на то, что он предал Орден, ссылаясь на его собственные слова: «Каждый пилот когда-нибудь испытывает искушение продать свое искусство торговому флоту Триа или раскрыть секреты нашей математики, которые мы обязуемся хранить».
В этом была некоторая доля правды. Бардо действительно торговал секретами, но это не были секреты Ордена. Много лет назад, совершив свое пресловутое путешествие на Ксандарию, он проник в запретные информационные хранилища знаменитой библиотеки и нелегально скопировал множество данных. Всю эту информацию – топологические маршруты к затерянным мирам, запретные технологии, исторические факты, которые могли бы дискредитировать крупные религиозные течения, а также античную музыку, фантастику и бесценные тональные поэмы – он поместил в камень-Огневит, который всегда носил при себе на серебряной цепочке. Если не считать этой единственной драгоценности, он был беден, поскольку давно растратил остатки семейного состояния. Отрекшись от своих обетов и лишившись своего легкого корабля, он распродал последнее имущество за восемь тысяч городских дисков и оплатил перелет на паломническом корабле, шедшем на Веспер, Ларондиссмант и Триа. На Триа его поначалу приняли за очередного червячника, желающего продать огневит, и отнеслись к нему соответствующим образом. Но узнав, что он Бардо, бывший мастер-пилот Ордена, трийекие торговые магнаты и пилоты воздали ему почести. Его снабдили начальными капиталом, женщинами, пищей, наркотиками и музыкой, предлагая ему баснословное состояние и титул торгового короля, если он обучит трийцев заветной математике Ордена. Сказать, что это не ввело Бардо в искушение, было бы неправдой. Искушение было очень велико. Он стал бы не единственным пилотом, дезертировавшим на Триа, но ни один мастер-пилот еще не предавал Орден таким образом. В конце концов Бардо отклонил предложение стать королем – не потому, что так любил Орден, но потому, что видел перед собой высшую цель.
Он продал трийцам свой камень со всей информацией и купил себе большой космический корабль. Покинув Триа без сожаления, он углубился в извилистые каналы мультиплекса по ту сторону звезд и, следуя от окна к окну, прошел в самое сердце Цивилизованных Миров.
«Вся история человечества – это попытка повысить свое благосостояние», – сказал как-то Бардо, и несколько последующих лет он провел, доказывая правоту этих слов. Следить за каждым его рейсом от звезды к звезде не имело бы смысла.
Он посетил множество миров, покупая одно и продавая другое. Он обладал недюжинной сметкой и коммерческим даром, а его природная лень отступила перед величием цели. Он процветал, и его богатство увеличивалось по экспоненте. Значительную часть своего состояния он заработал, совершая рейсы между Самумом, Ярконой и Катавой. На Самуме он наполнял свои трюмы тысячами астриерских семей. Все они были Архитекторами разного толка: в то время самумская иерократия преследовала все кибернетические конфессии, и каждый Архитектор, способный оплатить свой проезд, бежал на Яркону и в другие свободные миры. Самые богатые из них платили Бардо бешеные деньги, потому что он был мастером своего дела и его «Кольцо славы» совершал переход от Самума до Ярконы быстрее, чем любой трийский торговый корабль. С каждым прибытием нуждающихся в устройстве семей ярконские цены на недвижимость росли, и стремление попасть на эту богатую планету побыстрее еще больше взвинчивало стоимость перелета. (Кроме того, Архитекторы подозревали, что Яркона в любое время может закрыть перед ними свои города и они останутся запертыми на Самуме под угрозой геноцида.) На Ярконе Бардо избавлялся от своего живого груза, после чего предавался неге в роскошных борделях, вкушал огнедышаще-острые блюда и ждал ежегодного открытия ярконской ярмарки драгоценностей. В первый же час ее работы он на полученные от Архитекторов деньги скупал алмазы самой чистой воды и огневиты, побеждая в торге всех своих конкурентов. Вместе с драгоценностями он грузил на «Кольцо славы» несколько тысяч паломников и отправлялся в долгий путь на Катаву. Это путешествие он совершал всего за несколько переходов опять-таки потому, что входил в число лучших пилотов Ордена, и каждый год прибывал туда первым, опередив всех торговцев драгоценными камнями. Катава в качестве престола Кибернетической Реформированной Церкви единственная во всех Цивилизованных Мирах производила бесценные эпические огни, украшавшие алтари кибернетических церквей по всей галактике. А эпические огни, согласно пересмотренной версии «Принципов кибернетической архитектуры» Николоса Дару Эде, могли быть изготовлены только из настоящих ярконских огневитов. Катавские Архитекторы всегда нуждались в таких камнях, и Бардо всегда продавал эти природные компьютеры с огромной прибылью. После этого он загружал свой корабль контактными, очистительными и расширительными компьютерами. Катавские компьютеры, как известно, по святости не имеют себе равных. Взяв груз, Бардо совершал заключительный отрезок своего путешествия. На Самуме он продавал священные компьютеры тамошним кибернетическим церквям. Производить компьютеры в этом суровом мире, разумеется, всегда запрещалось, но Архитекторам для их церемоний они были необходимы. Бардо, платя огромную мзду своим самумским агентам и распространявшим товар червячникам, вновь опустошал свои трюмы и начинал брать деньги со стремящихся на Яркону беженцев. Он повторил это пять раз и, вернувшись в Невернес, стал первым в городе богачом.
Ко всеобщему изумлению, он купил себе роскошный особняк в Старом Городе и объявил, что намерен потратить остаток своих дней (и свое состояние) на поиск высших путей жизни.
На 69-й день ложной зимы, отремонтировав свой дом и обставив его со всевозможной роскошью, Бардо открыл двери артистической элите и недовольным из рядов Ордена. Каждый вечер он устраивал праздник во славу жизни, посвященный воспоминанию ее тайны.
– Мэллори Рингесс пожертвовал себя поиску Старшей Эдды, – говорил Бардо своим гостям, потчуя их изысканными блюдами, вином и трубками с тоалачем. – Старшая Эдда, тайна богов, заключена в каждом из нас, свернута триллионами священных змей в наших клетках, закодирована в наших проклятых хромосомах. Попытаться вспомнить ее тайну жизни – это и есть путь Рингесса. – Вечера Бардо быстро приобрели популярность, и вокруг него сплотился кружок специалистов, куртизанок, нейропевцов и старых друзей. Помимо них, в доме кишели странствующие воины-поэты, червячники, хибакуся и прочие, званые и незваные. Разномастные искатели вполне земных благ скоро надоели Бардо, и он стал рассылать приглашения. Теперь в дом пускали только предъявителей стальных карточек с голограммой из двух переплетенных колец – черного алмазного и золотого. Все горожане мечтали получить такой пригласительный билет. Многие специалисты Ордена к концу ложной зимы тоже прониклись любопытством к этим необычайным празднествам и принялись добывать себе приглашения, осаждая Бардо или кого-то из его ближнего круга. Но удача улыбалась не всем, и отчаявшиеся ученые приобретали многократно использованные карточки у червячников около Хофгартена или перекупали у других мастеров. Поэтому, когда 88-го числа посыльный доставил вожделенный билет в одно из общежитий Ресы для Данло ви Соли Рингесса, кадеты и мастер-пилоты преисполнились зависти.
– Да снизойдет на тебя этой ночью свет, – пожелал Данло ехидный молодой пилот Ора Бей, остановив его на гладком льду площади Ресы. Данло рвался поскорее увидеть Бардо и нетерпеливо шаркал коньками на месте. – Этот визит может оказаться для тебя первым и последним – я буду очень удивлен, если наши главные вскорости не издадут указ, запрещающий нам бывать у Бардо.
Случилось так, что Хануман ли Тош получил приглашение в то же самое утро. Узнав об этом во время обеда (они с Хануманом остались друзьями и часто ели вместе), Данло устроил свои дела так, чтобы пойти на вечер вместе с другом. На закате они вышли из Западных ворот Академии – стальные створки этих ворот всегда стояли открытыми навстречу огням Города. Хануман поджидал Данло под гранитными блоками Раненой Стены и приветствовал его, как всегда, улыбкой и быстрым кивком.
– Ну как ты, Хану, – готов? Вечер просто великолепный.
Вечер, наполненный щебетом птиц и сладким запахом, и верно был из тех, что выманивают граждан Невернеса на улицу в поисках преходящих наслаждений. Тысячи бабочек-нимфалид с лилово-белыми крылышками порхали вокруг снежных далий и других цветов вдоль Раненой Стены. Подтаявшие ледянки Старого Города блестели от воды, собравшейся в мелкие лужицы или покрывающей темно-красный лед серебристыми линзами. Только через несколько часов улицы замерзнут снова. Хануман, хотя было довольно тепло, надел парадную форму цефика и накинул на плечи меховую накидку. Мареново-оранжевый цвет его одежды был, по правде сказать, отвратителен, и Хануман – с его-то светлыми глазами и песочными волосами – выглядел в ней не лучшим образом. Оранжевое придавало его молочно-белой коже болезненный оттенок, и она походила на бумажный абажур, плохо скрывающий горящий внутри огонь.
Он то и дело покашливал в перчатку – рак легких не поддавался полному излечению. Он уже стал взрослым – им с Данло исполнился двадцать один год, – но так и остался слишком хрупким.
– Давай прокатимся по Серпантину, – сказал Данло. – В это время там прогуливаются самые красивые женщины.
Данло тоже был худ, но худобой дикого зверя, любящего ветер, небо, движение и берущего от мира только то, что необходимо для жизни. За прошедшие пять лет он еще больше окреп и подрос, отрастил бороду, как у взрослого алалоя, и буйная черная грива, длинная и спутанная, как трава в тундре, ниспадала ему на плечи. Белое перо Агиры по-прежнему торчало у него в волосах. Сняв с себя белую шапочку-борховку, он перестал подчиняться каким бы то ни было правилам. Плотно облегающая его черная камелайка годилась для хоккея, но никак не для вечера, где собирались сливки невернесского общества. Когда Хануман попенял ему за столь неподходящий наряд, он только улыбнулся и промолчал. По льду он двигался легко, как морская птица, скользящая сквозь холодные воздушные потоки.
Они пробирались между толпами на Серпантине, этой самой длинной из ледянок, вьющейся через весь Город, от Эльфовых Садов до Западного Берега. Пару раз они останавливались полюбоваться на красивых женщин. В основном это были молодые астриерки, которых родители отправляли гулять, нарядив в красивые шубки или кимоно, надеясь, что они подцепят богатого жениха-аристократа – последние собирались по вечерам в верхней части Серпантина.
– Каждая из них – просто прелесть, – объявил Данло. Он засмотрелся на девушку в зеленом кимоно, ехавшую под руки с двумя другими – возможно, ее сестрами. Астриеры стараются не общаться ни с кем вне своей секты, а уж тем более с пилотами Ордена, которым обет запрещает жениться, но когда Данло улыбнулся девушке, она застенчиво наклонила голову и улыбнулась ему в ответ.
– Любовь к женщинам тебя погубит, – заметил Хануман.
– Ты это и о другом говорил, Хану, однако я пока еще жив.
– И будешь жив, пока не умрешь.
Данло впитывал в себя уличные ощущения: тихие голоса, шорох дорогих тканей, задевающих его в толкотне, блеск начищенных ботинок и коньков, запахи мокрого льда, изысканных духов и пота.
– Я всегда признавал, что Бардо – человек опасный, – сказал он Хануману, – по крайней мере для меня. Может, поговорим об этом?
– Почему нет? Ты ведь любишь опасности всякого рода.
Данло потер багровый шрам над глазом и улыбнулся.
– По-моему, Бардо пытается ввести что-то истинно новое. Вспомнить Старшую Эдду – благородная задача, правда? Ордену следовало бы возглавить этот эксперимент – мнемоникам Ордена. А не объявлять бойкот собраниям у Бардо, как, по слухам, собираются сделать.
– Ты думал, Орден будет поощрять претензии нового культа?
– Культ ли это? Никаких религиозных идей Бардо за собой не признает.
– Чем громче он это отрицает, тем больше себя выдает.
– Иногда мне думается, что цивилизованным людям просто необходима новая религия. Они так несчастны. Так мертвы внутри, так потеряны.
– Никогда не понимал этой твоей страсти к религиям.
– Это потому, что твоим единственным религиозным опытом был эдеизм.
– Другого мне не требуется.
– А вот я, – засмеялся Данло, – тихист и холист, и Архитектор, и суфий, и дзен-буддист, и фравашист, а может, даже будущий алалойский шаман. Должно быть, временами я здорово тебя раздражаю.
Хануман направил его к пустому обогревательному павильону, где они могли побыть наедине.
– Да, раздражаешь, ты, как-никак, мой друг.
– Если Бардо действительно нашел способ вспомнить Старшую Эдду, то это не религия, а ценный опыт.
– Бардо и его кружок определенно что-то вспомнили, это несомненно. Но Старшая Эдда? Ты действительно веришь, что какие-то инопланетяне – или боги – закодировали свои тайны в человеческих хромосомах?
– Почему бы и нет? – улыбнулся Данло.
– Мне казалось, что верить – это не в твоем стиле. «Верования – веки разума», – так ведь говорят твои фраваши? И учат ни во что не верить?
– Да, – с той же улыбкой подтвердил Данло, – включая и веру в то, что верить ни во что не надо.
– Ты меня поражаешь. – Хануман откашлялся и покачал головой. – Просто поражаешь. Не следует ли мне заключить, что ты готов принять и этот «ценный опыт», который Бардо будто бы предлагает всем и каждому?
Данло, уже смеясь, положил руку на плечо Ханумана, утопив черную перчатку в оранжевой меховой накидке.
– Да, я приму его, но только на время. Возможно, всего лишь на одну ночь.
Хануман слегка улыбнулся, но его лицо тут же стало замкнутым.
– Я боюсь, что Бардо захочет использовать тебя.
– Бардо всех использует. В противном случае он не был бы Бардо.
– Но ты – сын Мэллори Рингесса. Одно твое присутствие придаст вес его сборищам, сам знаешь.
– Да, я это сознаю. А вот сознаешь ли ты, что Бардо и тебя может использовать?
– Потому что я теперь цефик?
– Да.
– Ну что ж, мы, цефики, тоже кое-что умеем и не настолько испорчены, как тебе представляется. Возможно, небольшое количество цефической нейрологики убедит Бардо не возмущать своих сторонников и удержит его в пределах здравого смысла.
– Не могу забыть, как Бардо противился твоему намерению стать цефиком.
Хануман снова кашлянул и оглянулся через плечо на посетителей уличного кафе, сидевших за столиками. Двое мастерэсхатологов, толстых, как тюлени, были, очевидно, полностью заняты своим вином и синтетическим мясом.
– Верно, противился, но незачем оповещать об этом всех и каждого.
– Извини.
– Теперь я, должно быть, представляю для него дилемму. Он и хочет воспользоваться мной, и боится. Я для него так же опасен, как его знаменитое пиво.
– Но он определенно знаком и с другими цефиками, кроме тебя.
– Надо тебе знать, – ответил Хануман вполголоса, – что лорд Палл уже издал указ, касающихся одних только цефиков и запрещающий нам посещать собрания в доме Бардо.
– Стало быть, ты нарушаешь приказ своего главного специалиста?
– И да, и нет. – Взгляд Ханумана затуманился – Данло всегда ненавидел его дьявольские глаза. – Лорд Палл должен служить нам примером в области этики и потому не мог не запретить контакты с Бардо. Но втайне – и ты смотри не говори никому, – втайне ему требуется быть в курсе того, что делает Бардо.
– Зачем? Ваш лорд Палл хочет записаться в искатели Старшей Эдды?
– Лорд Палл человек непростой.
– Говорят, что он хочет распустить Тетраду и стать единоличным главой Ордена.
– Возможно.
– Выходит, ты на него шпионишь?
– Данло!
– Извини. Чтоб у меня язык отсох – я не хотел тебя оскорблять.
– Ладно, прощаю.
Мимо их павильона проехали кадеты-горологи в ярко-красной форме, толкаясь и пересмеиваясь. Губы у них полиловели от тоалача, на лицах читались предвкушение, сознание вины и страх – они собирались провести ночь в одном из инопланетных борделей Квартала Пришельцев. Кивнувшего им Данло они не заметили. Он переглянулся с Хануманом.
– Развратники! – крикнули оба друга в унисон и покатились со смеху. Они любили эту игру, разоблачающую чужие секреты, мотивы и планы. Хануман обучил Данло цефическому искусству читать по лицам, и тот стал со знанием дела толковать подергивание мускулов, движение глаз, предательское напряжение голосовых связок – все знаки, выдающие состояние людского ума. Данло так поднаторел в этом, что иногда читал даже безупречно контролируемое лицо Ханумана.
– По-моему, – сказал он, – ты сам записался в искатели Старшей Эдды. Это правда?
Хануман уставился на него. Его глаза напоминали старый голубой лед, лицо – застывшее зимнее море. Но Данло помнил, что все эмоции выражаются мышечными волокнами и все мысли кодируются в электрохимических сигналах, которые нервы передают мышцам, побуждая их напрягаться. Немигающий взгляд Ханумана говорил о глубоком презрении ко многим вещам, но выдавал желание властвовать собой и любовь к своей судьбе.
– Это правда, – сказал Данло, – но не вся – так мне думается. Раз ты не веришь в благословенную Эдду, значит, тебя интересует сам поиск как таковой, да?
– Разве могу я сохранить что-то в секрете о тебя? – с тихим смехом ответил ему Хануман. – Не надо мне было учить тебя основам мимики. Я нарушил свою этику, сделав это.
– Но иначе я никогда не знал бы, что ты думаешь на самом деле. Ты стал очень скрытен за эти последние годы.
– «Молчаливый, как цефик», – процитировал Хануман старую поговорку.
– Да, молчаливый. И озабоченный, и… не от мира сего.
– Для разнообразия я могу немного побыть в твоем мире. – Хануман откашлялся в оранжевую перчатку и с силой, неожиданной у столь хрупкого юноши, стряхнул на мокрый оранжевый лед комок раковых клеток. – Мне определенно хочется освоить технику вспоминания Эдды. Мнемоническую технику. Говорят, Бардо залучил к себе мастер-мнемоника, который выдает ему свои профессиональные секреты, как безумец, мечущий бисер перед свиньями.
Данло дерзко заглянул Хануману в глаза.
– Ты хочешь собрать немного этого бисера и унести к себе в башню?
– Ну, раз уж я шпионю на Главного Цефика, я ведь должен получить что-то взамен, как по-твоему?
На улице, где стало еще больше народу, витали запахи поджаренных кофейных зерен, смешанные с курмашом, чесноком и сладостями. Разговор перешел на старинное соперничество между цефиками и мнемониками. Хануман, знавший историю лучше Данло, рассказал ему, что пять тысяч лет назад на Самуме цефики составляли самостоятельный орден. А мнемоники, входившие в этот орден, так же интересовались тайнами сознания, как нейрологики, кибершаманы или йоги. Но когда цефики объединились с арситскими холистами и возник Орден Мистических Математиков, мнемоники, как и скраеры, предпочли выделиться в отдельную профессию. Еще задолго до перемещения в Невернес они оберегали секреты своего мастерства от цефиков, которых считали закосневшими ортодоксами, развращенными к тому же использованием компьютеров.
А цефики оберегали свои секреты от кого бы то ни было – даже от своих лучших друзей.
– Мне всегда было интересно, чем вы таким занимаетесь у себя в башне, – сказал Данло. – Это всем интересно. Говорят, вы пользуетесь акашикскими компьютерами для восстановления потерянной памяти – это правда?
Хануман позволил себе улыбнуться, и его лицо стало совсем недоступным для прочтения. Данло редко заговаривал с ним о дисциплинах, которые изучали они оба. Он знал, конечно, что Хануман предназначался в кибершаманы, а потому должен был овладеть электронной телепатией, гештальтом, фенестрацией и другими видами компьютерного сознания. В глазах Ханумана всегда присутствовало затравленное выражение человека, проводящего слишком много времени в контакте с компьютером и совершающего глубокие погружения в пространство ши, мыслительное, мемориальное и мета-пространство – а может быть, даже в мифическое благопространство, которое почти с религиозным пылом ищут кибершаманы. Данло боялся даже, что изначальная религиозность Ханумана преобразовалась теперь в любовь к компьютерам. Возможно, скоро его посвятят в тайный внутренний круг кибершаманов, имплантируют ему в мозг биочипы, и Хануман будет поддерживать непрерывный контакт с компьютером, став нелегальным нейропевцом.
– Поговорим о компьютерах в другой раз, – сказала Хануман. – Если мы не поторопимся, то придем на праздник последними.
Он свернули с Серпантина на более узкие дорожки, закрытые для санного движения. По сторонам мелькали кафе, печатные мастерские, библиотеки и красивые старые жилые дома из черного и розового гранита. Здесь селились в основном богатые эмигранты и специалисты Ордена, каждый из которых имел свой персональный туалет и камин. В воздухе пахло дымком из труб и цветами, которые росли тут повсюду: снежные далии, лазурники, красные и золотистые огнецветы. Ящики с ними стояли на всех подоконниках, притягивая взгляд россыпью красок.
А благословенное Кольцо все растет, подумал Данло, посмотрев на небо. Над Невернесом стояла бледно-золотистая дымка, облако газов и неведомой новой жизни, через которое просвечивали только самые яркие звезды. Данло уже пять раз путешествовал к этим звездам, не видя их, и никогда не обсуждал свои путешествия с Хануманом. Никогда не рассказывал о псевдотороидах, пронизывающих мультиплекс, как черные черви, о красоте Великой Теоремы, о своем страхе попасть в бесконечную петлю, о радости преодоления цифрового шторма и вхождения в сон-время (в создаваемое компьютером сон-время пилотов). Он так и не поделился с Хануманом сделанным пилотами открытием, что Золотое Кольцо, разрастаясь в космическом пространстве над их планетой, искривляет само это пространство. Какая-то форма жизни внутри Кольца – возможно, могущественный бог, эволюционировавший из миллиардов вновь созданных организмов – преобразует сверхсветовую субстанцию мультиплекса, делая ее узловатой и более сложной.
И оставляет в Мультиплексе прорехи, создавая новые окна, через которые пилоты на легких кораблях следуют от звезды к звезде. Когда-нибудь сгущение близ желтого солнца Невернеса может свернуться в тугой комок. Изобилующее фокусами, связывающими Невернес с каждой звездой галактики, оно может стянуться в узлы и стать непроходимым. Тогда Невернес перестанет быть топологическим центром галактики, и Город Света окажется отрезанным от звезд. Этого секрета Данло не мог открыть никому, даже лучшему другу.
– Гляди, – сказал Хануман, показав вперед рукой в оранжевой перчатке. Они только что пересекли Старгородскую глиссаду и свернули на пурпурную улицу с деревьями и помпезными особняками. – Вон он, дом Бардо. Кошмарный, правда?
– Кошмарный, – согласился Данло, – но великолепный Дом, самый большой в квартале, стоял на восточной стороне улицы. Три тысячи лет назад Орден выстроил его в классическом стиле, из нарезанных лазером гранитных блоков, с высокими клариевыми окнами. Деревянные части из ценных пород джи, японской вишни и осколочника обрабатывались ароматическим воском. В нем, как и в других домах по соседству, размещалось чье-то посольство, пока Орден не перевел эти учреждения на Посольскую улицу. Во времена Рикардо Лави к нему пристроили северное и южное крылья для кадетов, которым недоставало спальных мест в стенах Академии. То было начало Золотого века Ордена, когда люди из всех Цивилизованных Миров стекались в Невернес, время энтузиазма, фантазий и рискованных технологий. Крылья дома вырастили органическим путем, из крошечных робобактерий. Алмаз и органический камень сложились в бесшовные стены. С улицы дом походил на огромное фантастическое насекомое: туловище из природного серого камня, крылья из блестящего вещества с ярко-красными, розовыми и аметистовыми прожилками, Протянувшиеся на пятьдесят ярдов в северный и южный концы улицы, они казались хрупкими, как пористый лед, как будто все эти шпицы, арки и башенки могли обвалиться при первом же порыве ветра. Однако пристройки были достаточно прочными, как все конструкции из органического камня. Первоначально фасад каждого крыла украшали двести пятьдесят шесть окон из алмазного волокна. Теперь их осталось мало – остальные за прошедшие века распродали или разворовали.
Глядя на уцелевшие красивые восьмиугольники, где гаснущий свет дня преломлялся разноцветными искрами, Данло внезапно пожалел о том, что Орден запретил технологию органической сборки. Теперь всего несколько домов в Старом Городе, построенные между 620 и 694 годами, представляли этот вид каменной кладки.
– Не думал, что Бардо когда-нибудь вернется, – сказал Хануман.
– А я всегда на это надеялся.
– Приглашение при тебе?
– Да. – Данло показал Хануману стальную карточку, зажатую в ладони.
– Пожалуйста, обещай мне подумать хорошенько, прежде чем поддаться соблазнам, которые предложит тебе Бардо.
– Хорошо, если ты сам пообещаешь забыть на эту ночь, что ты цефик, и повеселишься как следует.
– Хорошо, обещаю.
– Я тоже.
– Тогда пошли. Тут должен быть какой-нибудь привратник, проверяющий приглашения. – И друзья двинулись по аллее к новому дому Бардо.
Глава XVI ПУТЬ ЗМЕЯ
…Это приводит нас к образу змея Кундалини как образу внутренней силы.
Символически он представляется в виде змея, свернувшегося кольцом (кундала) в нижней части позвоночного столба.
Но в результате одухотворяющих упражнений – например, хатха-йоги – змей распрямляется, проходя через различные сплетения тела, и достигает области лба, где помещается третий глаз Шивы.
И тогда, согласно доктрине индуизма, человек обретает чувство вечности.
Хуан Эдуарде Цирлот, «Словарь символов»Участок вокруг дома был обнесен оградой – устрашающей конструкцией из железных пик, вставленных в каменное основание. Данло слышал, что Бардо иногда охраняет свой дом посредством еще одной, внутренней ограды, но поскольку использование лазеров грозило изгнанием из Города, не считал эти слухи достоверными. У открытых ворот они с Хануманом отдали свои приглашения привратнику, маленькому человечку со счастливым взором – явному аутисту, судя по его лохмотьям.
– Вы опаздываете, уважаемые кадеты, – сказал он, – однако прошу пожаловать – вспоминательство скоро начнется.
Они поклонились и проследовали дальше, мимо ледяных статуй, деревьев ши и лужаек со снежными цветами. Данло, несмотря на предупреждение привратника, катил не спеша, наслаждаясь ранним вечером. Напоенный ароматами воздух вызвал в нем чувство предвкушения с примесью страха. До него доносились звон бокалов, смех и звуки странной музыки.
К фасаду дома, где находились парадные двери из осколочника, примыкала большая каменная веранда или скорее обогревательный павильон, заполненный народом. Данло с Хануманом сняли коньки и влились в толпу, раскланиваясь с мастерами Ордена, хибакуся, спелистами и даже торговыми магнатами в расшитых драгоценностями камзолах. Все, кого Данло видел, пили морозное вино, виски и Джамбул или курили тоалач. Здесь были представлены червячники и хариджаны, поэты и фантасты; присутствовали даже две красивые куртизанки, занимающие видное положение в своем Обществе. Казалось, что Бардо созвал к себе добрую треть Города, но это было не так. Цефиков, кроме Ханумана, не наблюдалось, астриеров собралось мало, Архитекторов и того меньше.
Скраеры, вероятно, охотно пришли бы на это посвященное памяти празднество (ведь эти незрячие пророки порой именуют свои видения «воспоминаниями о будущем»), но Бардо не доверял им и к себе не допускал.
Здесь было очень шумно, и Данло тронул Ханумана за рукав, чтобы привлечь его внимание. Пользуясь цефическим языком знаков, которому обучил его Хануман, он передал: «Давай найдем Бардо и поздороваемся с ним».
С потоком других гостей они вошли через холл в большой, богато убранный солярий. Бардо вывез из своих странствий большие арфы, ярконскую мебель, даргиннийские скульптуры, многочисленные тондо, картины и вышивки. К перечню следовало добавить фравашийские ковры и большое количество сенсорных ящиков. Данло удивлялся, видя мантелеты, телефоны, сулки-динамики и прочие виды запретной техники открыто висящими на стенах или стоящими на лакированных столиках. Впрочем, Бардо всегда любил пустить пыль в глаза и никогда не отличался осторожностью. Перед алмазными окнами Данло с улыбкой насчитал двадцать три деревца бонсай – заметно пожелтевших: Бардо, как видно, по-прежнему поливал их слишком обильно.
Хануман, перехватив его взгляд, сказал:
– Я слышал, что Бардо выходит к гостям не раньше полуночи, когда начинается сеанс.
– Тогда, пожалуй, поужинаем. Ты уже ел?
– Я не голоден.
– В таком случае извини – против этих запахов устоять не могу.
И Данло, вечно голодный и всегда евший за троих, отправился на поиски здешних деликатесов. В дальнем конце комнаты помещался длинный стол с клариевыми тарелками, палочками для еды, бокалами и всевозможными яствами. Тут были перечные орехи, овощи с соусом карри, сыры, жареное томбу, горы красной икры и синтетического мяса. А также орехи бальдо, ломтики снежных яблок, кровошюды со сливками, хлеб и разные сладости. Данло втиснулся между трясущимся аутистом и чернокожей красавицей, в которой он узнал диву Нирвелли. Он наполнил тарелку горячим курмашом и стал уплетать его, похрустывая ореховыми ядрышками и оглядывая комнату. Нирвелли здесь была не единственной знаменитостью. Данло заметил Зохру Бей, Морию ли Чен и Томаса Зондерваля, самого Зондерваля, облаченного в шикарный наряд, придуманный им самим, и в собственную надменность.
Данло уже подумывал, не подойти ли ему к этому светочу в среде пилотов, когда увидел, что рядом с Хануманом в шелковой пижаме куртизанки стоит самая красивая женщина из всех, которых он встречал в жизни.
– Лошару шона! – прошептал он. – Лошару халла!
Он уставился на нее не мигая, до боли в глазах, и сердце забилось, подгоняемое толчками адреналина. Так он стоял долго, словно лесной зверь, наблюдавший за другим зверем.
Забытая тарелка накренилась, и орехи посыпались на мраморный пол. Голод, от которого сводило живот, вдруг пропал.
Красота этой молодой куртизанки прожгла его насквозь, словно молния. В один миг он полюбил в ней все: ее грациозные жесты, естественную улыбку, а прежде всего – чисто животную полноту жизни. Она была высокая, подтянутая, с красивой мускулатурой фигуристки, и ее лицо запоминалось сразу, хотя Данло смутно сознавал, что его черты не слишком гармоничны. Губы казались слишком яркими, полными и чувственными по сравнению с кремовой кожей. Картину дополняли длинный властный нос, высокие скулы, густые светлые волосы и японские глаза, живые, умные и темные, как кофе. Все лицо выдавалось вперед под резким углом – атавизм, указывающий на какие-то первобытные качества ее натуры. Данло сразу откликнулся на это первобытное начало. Какая-то его часть предполагала, что позже он может увидеть ее в ином свете, но все остальное пылало страстью, пересиливающей всякое сомнение. В груди стало горячо и тесно, глаза не могли оторваться от красавицы, рукам не терпелось коснуться ее чудесного лица.
Халла та женщина, что сияет, как солнце.
Она тоже взглянула на него. Она повернула голову и посмотрела на него через всю переполненную людьми комнату.
Посмотрела прямо, дерзко и открыто. Их глаза встретились, сомкнувшись намертво, и они испытали шок мгновенного узнавания, как будто были знакомы миллионы лет. Данло почувствовал, что падает в ее глаза, а мир вокруг сузился, приобрел повышенную четкость и остановился. Он знал, что никогда ее раньше не видел, но древнее электричество, связующее их, жгло ему зрачки. Горело все – губы, пальцы и кровь, и дыхание изменяло ему.
– Извините, – сказал он, обретя наконец голос. Рядом с ним стояла стройная женщина в нарядном серебристом платье, которую его поведение явно забавляло, и он просыпал свой курмаш на ее серебряные туфельки. Не отрывая глаз от прекрасной куртизанки, он пробормотал: – Извините… вы не подержите мою тарелку?
Он сунул тарелку ей в руки, вежливо поклонился и отошел.
Комнату он пролетел как на крыльях. Он шел к Хануману и куртизанке, все это время глядя ей в глаза.
Хануман улыбнулся ему, но Данло едва это заметил и едва расслышал, как его друг сказал:
– Данло, позволь представить тебе Тамару Десятую Ашторет. Тамара, это мой друг, о котором я вам говорил, Данло ви Соли Рингеес.
Данло поклонился ей и тут же забыл все правила хорошего тона. Он схватил ее за руку, затянутую в голубой шелк, и ему сразу захотелось снять собственные кожаные перчатки, чтобы лучше почувствовать ее длинные пальцы.
– Вы прекрасны! – выдохнул он. – Никогда я еще не видел такой красоты.
Его вспышка вызвала у Тамары чудесную широкую улыбку, осветившую ее лицо, словно солнцем. Она была слишком тактична, чтобы вернуть ему комплимент на словах, но ее глаза, полные света и смеха, ясно говорили: «Ты тоже очень хорош».
– Вы впервые здесь? – спросил Данло.
– Нет, в третий раз. – Ее голос, сильный и звонкий, ласкал слух. – Бардо приглашает куртизанок на все свои вечера. Говорят, что он хочет обратить наше Общество в свою веру. – Данло отпустил наконец ее руку.
– Может быть, ему просто нравится окружать себя красивыми женщинами?
– Я уверена, что он руководствуется многими причинами, но он ваш друг, а не мой, и вы должны лучше его понимать.
– Я уже пять лет его не видел. Люди меняются, правда?
– Все говорят, что Бардо – очень религиозный человек. – В голосе Тамары слышались недоверчивость и ирония. – Я лично нахожу, что это харизматическая личность. Его пылкость на всех нас произвела впечатление. Но что служит источником его страсти? Может показаться, что он в самом деле стремится вспомнить Старшую Эдду, раскрыть наследственную память. Я познакомилась с ним совсем недавно – он всегда так ревностно относился к возможностям своей памяти и своего разума?
– Того Бардо, которого знал я, – Данло не удержался от смеха, – больше интересовали другие части его организма. Другие… возможности.
– Я, кажется, понимаю, какие, – присоединилась к его смеху Тамара. Они стояли, глядя друг другу в глаза, и смеялись.
Хануман откашлялся, послав Данло холодный взгляд. Он первый завязал разговор с Тамарой – нешуточное достижение, если учесть, что она была куртизанкой, а он всего лишь кадетом. Эмоции, проявляемые Данло, вызывали у него недоумение.
– Понятно, почему Бардо пытается привлечь куртизанок на свою сторону, – сказал он. – Если бы я хотел обратить Орден в новую веру, то начал бы именно с них.
– Мне кажется, вы переоцениваете наше значение, – сказала Тамара.
– Разве?
– Наше Общество не имеет никаких официальных связей с Орденом.
– Тем сильнее проявляется ваше влияние.
– Но мы, как известно, преследуем только чувственные цели, а не политические, – с улыбкой произнесла Тамара. – Терпеть не могу политику.
– Многие гетеры говорят так, но потом, с годами… вы ведь знаете, как говорят наши мастера?
– Нет, не знаю.
– «Найдешь любовницу – потеряешь душу».
Тамара снова рассмеялась.
– Какой же вы циник. Меня учили, что наше Общество основали как раз для того, чтобы помешать мужчинам терять свои души.
На самом деле Общество Куртизанок возникло в 1018 году как кооператив для защиты капиталов нескольких десятков женщин, необычайно искусных в любви. А заодно и для защиты их жизни. Вновь учрежденное общество начало скупать недвижимость в Квартале Пришельцев и самостоятельно распоряжаться своими финансами, разорвав все связи с прежними сутенерами.
В отместку эти склонные к насилию и паразитизму субъекты избивали женщин, а иногда даже пытали нейроножами, заставлявшими биться в конвульсиях их красивые тела. Не одна куртизанка погибла таким образом. Поэтому основательницы Общества сложились и наняли убийц, но те, изничтожив сутенеров, предали своих заказчиц и потребовали себе три четверти годовых доходов Общества, угрожая в противном случае перебить всех куртизанок одну за другой. Это было гораздо больше, чем брали сутенеры, и куртизанки решили не платить, а послать самую одаренную свою диву Наташу Урит на планету Квааллар. Там Наташа заключила коварный договор с воинами-поэтами. В обмен на их смертоносные услуги куртизанки обязались изучить необычную религию Квааллара и по мере возможности обращать в нее мастеров и главных специалистов Ордена. В то время воины-поэты проповедовали свое учение во всех Цивилизованных Мирах и убивали из чистого удовольствия испытать близость со смертью и с жизнью. Они стремились научить этой интенсивности бытия всех людей, а в особенности ученых Ордена, ценивших только знание и разум. Наташа Урит пообещала приставить к мужчинам Ордена молодых куртизанок, чтобы те с помощью своего искусства открыли сердца ученых навстречу новому опыту. Ключом к сердцам служило наслаждение, и куртизанки за две тысячи лет овладели этим искусством в совершенстве. Воины-поэты давно уже истребили всех прочих наемных убийц в Городе, их проповедническое рвение остыло, и договор утратил силу, но в куртизанках пламя их веры не угасло, и они сохранили особые отношения с Орденом. Общество росло и развивалось, но его послушниц по-прежнему обучали искусству тантры, сексуального танца, музыке, майтхуне и пластике. Послушницы же на протяжении веков подрастали, становились гетерами и соблазняли всех молодых членов Ордена, могущих позволить себе такую роскошь. Старея, гетеры омолаживали свои тела и становились подругами мастеров и старых лордов, с юных лет познавших вкус их любви. Орден запрещал своим пилотам и другим специалистам вступать в брак, и вместо жен они обзаводились любовницами. Некоторые женщины даже рожали детей – нелегально, разумеется, и были лорды, которые старались добыть деньги, чтобы содержать свои тайные семьи в роскоши. Они с повышенным вниманием прислушивались к советам своих подруг и теряли если не душу, то независимость. Однако лучшие из куртизанок, будь то любовницы, дивы или гетеры, продолжали использовать свое искусство лишь в высших целях.
– Если бы наше Общество действительно хотело повлиять на Орден, – улыбнулась Хануману Тамара, – мы учили бы мужчин доставлять удовольствие женщинам. Ведь женщины составляют почти половину Ордена.
– Это верно – но семеро из десяти лордов мужчины.
Данло откинул волосы с глаз. Ему приходилось почти кричать, чтобы быть услышанным за музыкой и гулом голосов.
– Вы правда это можете – научить мужчин доставлять женщинам удовольствие? – Тамара тихо засмеялась в ответ и кивнула.
– Мне кажется, в этом и заключается секрет их искусства, – сказал Хануман. – Лучший способ соблазнить мужчину – это польстить его тщеславию.
– Боюсь, вы не совсем понимаете, – сказала Тамара, и они с Хануманом занялись словесным фехтованием, словно два послушника, гоняющие туда-сюда хоккейную шайбу. Хануман, мрачный, но собранный, изображал молодого кадета, которому услуги куртизанок недоступны и которого обуревают почтение, возмущение, чувство вины и плохо скрытое желание. Но он только разыгрывал эти эмоции, как это водится у цефиков. Скорее всего он пытался одержать над Тамарой верх, сорвать блистательный покров ее шарма и показать ослепленному любовью Данло грани ее характера, которые тот иначе не разглядел бы.
Но Тамара осталась непоколебима, как алмаз, и, несмотря на все ухищрения и завуалированные атаки Ханумана, продолжала улыбаться и блистать.
– Уверена, что вы, когда станете полноправным цефиком, найдете себе куртизанку, которая научит вас величайшему из всех удовольствий.
– Смею ли я спросить, в чем оно заключается?
– Думаю, вы уже знаете, в чем.
Хануман выдавил из себя смех.
– Да, мне, как цефику, полагается знать подобные вещи.
Последовала долгая пауза, которую нарушил Данло, спросив:
– Так что же это за величайшее из всех удовольствий?
– Давать удовольствие другим, конечно. – Тамара перевела взгляд с Данло на Ханумана. – Хотя для некоторых мужчин самое большое удовольствие состоит в том, чтобы причинять боль.
Ее слова явно застали Ханумана врасплох. Его лицо, побагровев, выразило бешенство, обиду и стыд – он редко проявлял такие эмоции открыто.
– Ты должен знать, Данло, что куртизанки очень остры на язык. Даже цефику есть чему у них поучиться.
– Благодарю вас, вы очень любезны.
– Столь многому можно научиться, и столь мало ночей на это отпущено. – Хануман поклонился Тамаре со своей замороженной цефической улыбкой. – Этой ночью мы с Данло пришли сюда поучиться мнемонике. Мы вынуждены покинуть вас, чтобы засвидетельствовать свое почтение Бардо. – Он снова поклонился – чуть ниже, чем следовало – и сказал Данло: – Интересно, потолстел ли он еще больше за пять лет.
Данло сознавал, что им в самом деле следует найти Бардо, но что-то в темных блестящих глазах Тамары удерживало его на месте.
– Данло! – Тихий, подчеркнуто сдержанный голос Ханумана затерялся среди сотни других голосов. – Ты идешь?
– Нет пока. Ты передай Бардо привет от меня. Я найду тебя… после.
Он по-прежнему не сводил глаз с Тамары и потому не видел бешенства, мелькнувшего на лице Ханумана. Ему не пришло в голову, что Хануман тоже мог влюбиться в Тамару с первого взгляда, как и он. Данло даже не подозревал, что Хануман может быть способен на такое всепоглощающее чувство.
Хануман вышел из комнаты, и Данло признался Тамаре:
– Иногда ему нравится причинять людям боль, это верно. Но я не вижу, зачем он мог бы захотеть сделать больно вам.
Кто-то толкнул Данло сзади, заставив приблизиться к Тамаре. Народу в комнате прибывало, и становилось очень душно. Многие курили семена трийи, семечки громко щелкали, и под всеми тремя люстрами клубился лиловатый дым, щиплющий глаза и дурманящий голову. Тамара стояла под самой люстрой, и электрический свет, отражаясь в хрустальных подвесках, одевал ее в сиреневые тона. Данло она представлялась статуей богини, изваянной на планете Гемина. Но тут ее гибкие мускулы дрогнули под голубовато-сиреневой пижамой, и он остро осознал, что она живая, из плоти и крови, и дыхание у нее сладкое и горячее.
– Иногда мне кажется, что у куртизанок и цефиков слишком много общего, – сказала Тамара. – И они, и мы слишком хорошо сознаем силу слов.
Они стояли теперь так близко, что Данло ощущал влажность ее дыхания и мог говорить, не повышая голоса.
– Я слышал, что куртизанки мастерски владеют искусством вести разговор.
– Беседа – это третье из величайших удовольствий.
– Но я еще ни разу… не разговаривал с куртизанкой.
– А я еще ни разу не встречала таких, как вы, – улыбнулась Тамара.
– Но, наверно, слышали обо мне, да?
– Хануман рассказал мне, как вы добирались до Невернеса. Как вам пришлось съесть собак, чтобы выжить. По-моему, он питает к вам некоторое почтение.
– А не рассказывал он вам, как и где я родился?
– Я слышала эту историю. Нелегко, мне думается, быть сыном Мэллори Рингесса.
– О, это не так уж трудно. Жить в городе, где люди способны поклоняться человеку, ставшему богом, – вот что тяжело.
– Я думаю, что люди во всех городах примерно одинаковы.
– Цивилизованные – да. Но есть люди, которые живут по-другому.
В ее взгляде он увидел понимание.
– Вы говорите об алалоях?
– Да.
– Но разве вам нельзя когда-нибудь вернуться к ним? К их образу жизни?
Данло потер лоб и потрогал перо в волосах.
– Я никому об этом не говорил, но я часто мечтаю о том, чтобы вернуться.
– Потому что алалои живут проще, чем мы?
– Нет, не в этом дело. Не только в простоте. Всю жизнь я ищу красоту, которую называю «халла». Халла – это… гармония жизни. Связанность всего сущего, паутина, то, как каждая вещь становится собой только во взаимодействии со всеми другими. Я видел эту красоту… пару раз, в детстве, в тихие звездные ночи.
Тамара протянула руку в пространство между ними там, где ее пижама почти соприкасалась с камелайкой у него на бедре, и переплела свои длинные пальцы с его.
– Несколько лет назад я слышала в записи один из алалойских диалектов, и этот язык показался мне красивым.
– Вы знаете много языков?
– Я впечатала себе, если правильно помню, четырнадцать и выучила обычным способом еще три.
Тамара, как и многие куртизанки, предпочитала общаться с клиентами на их родном языке. Знающие об этом иногда отзывались о куртизанках – обычно с непристойным подтекстом – как о мастерицах языковедения.
– А из алалойского вы что-нибудь помните?
– Нет, но мне нравится, когда на нем говорят.
Данло сжал ее пальцы. Она стояла совсем близко, глаза в глаза, и он впивал чистый запах ее волос.
– Халла лос ли девани ки-шарара ли пелафи нис ни мансе.
– А что это значит?
– Халла та женщина, которая зажигает в мужчине благословенный огонь.
Тамара засмеялась с откровенным восторгом.
– Ты красивый мужчина, и мне нравится говорить с тобой. Но хорошо, что ты не сказал этого при своем друге. По-моему, он чувствует к тебе сильную ревность.
– Кто, Хануман?
Тамара со вздохом кивнула.
– Мне думается, он уже собирался предложить мне контракт, когда ты подошел к нам.
– Но он кадет – разве ваше Общество заключает контракты с кадетами?
– Общество нет. Но некоторые кадеты, несмотря на свой обет – надеюсь, я никого этим не оскорблю, – имеют при себе деньги, и некоторые куртизанки тайно заключают с ними контракты.
– Чтобы заработать, да?
– Не делясь при этом с Обществом. Таких куртизанок, конечно, наказывают, если поймают, но тем не менее это случается.
– Не знаю, откуда у Ханумана могли взяться деньги.
– Это не так уж важно. Боюсь, мне пришлось бы разочаровать его, с деньгами или без.
– У такой красивой женщины, как ты, должно быть много контрактов.
– Мое Общество обеспечило меня контрактами на пятнадцать ночей вперед.
Данло высвободил свою руку, снял, не заботясь ни о чем, перчатки и сунул их в карман. А после осторожно снял тугие шелковые перчатки с рук Тамары. На среднем пальце левой руки она носила золотое кольцо в виде змеи, кусающей собственный хвост, но Данло почти не обратил на это внимание.
Соприкосновение их горячих обнаженных пальцев привело его в восторг, и он дерзко осведомился:
– Но на эту ночь у тебя контракта нет?
– На эту нет. – Она сжала его пальцы и улыбнулась.
– У меня нет денег… и никогда не было.
– Иначе ты предложил бы их мне?
– Деньги – это ведь просто символ, правда? Бессмысленно предлагать их в качестве подарка. Если бы я мог подарить тебе что-то, это была бы жемчужина, чтобы носить ее на шее. Ты видела те, которые находят в раковинах палыгульвы? Они красивые и очень редкие.
– Данло, не нужно обещать невозможное.
– Что же мне тогда тебе подарить?
Вместо ответа Тамара притянула его руки к своему животу.
– Как ты красив. Я еще ни разу не заключала контракта с мужчиной из-за одной красоты.
Тогда он засмеялся, легко и радостно, как иногда случалось едим в моменты наивысшего восторга. Этот звук среди смеха десятков людей, куривших психоделические семена трийи, мог бы остаться незамеченным, но Тамара засмеялась тоже, и их взаимная страсть привлекла многочисленные взгляды. Данло было все равно – он не видел никого, кроме Тамары. Они смотрели друг другу в глаза, как будто были одни в этой комнате, а может быть, и во вселенной. Они смотрели иглубоко понимали друг друга умом и сердцем: им обоим казалось очень забавным стоять вот так, на виду, держаться за руки и влюбляться все больше. Это понимание было как нельзя более реальным – реальнее даже, чем даже запах Тамариных мускусных духов и едкого пота Данло. Оно уводило его в блистающее дикое будущее, которое осуществлялось прямо сейчас, в ее прекрасных глазах.
– Побыть бы вдвоем, – сказал он.
– Да, хорошо бы. У меня дом на Северном Берегу – можно пойти туда.
– Слишком далеко. Долго идти.
– Куда же нам тогда податься? – засмеялась она.
– Я слышал, что в этом доме тридцать спален. Не могут же они все быть заняты в этот час.
– Ты предлагаешь осуществить наш контракт прямо здесь и сейчас?
– Да – а что?
– Это неосмотрительно. Мне нужно подготовиться.
Данло внутренне поморщился при слове «подготовиться». Со времени своего поступления в Борху он соблазнил немало молодых женщин Ордена, а девушки похрабрее – акашики, холистки, скраеры и даже пилоты – соблазняли его. Они перед сексом тоже занимались приготовлениями. Каждая из них носила пессарий, вкладыш, предохраняющий от беременности и заболеваний. Как он ненавидел эту холодную противную штуку! Но цивилизованные женщины опасались инфекции пуще смерти и предохранялись, как только могли. А многие, как женщины, так и мужчины, вообще отказывались от секса. Предполагалось, что кадеты всех специальностей должны получать удовлетворение путем мастурбации или виртуальной реальности. Данло презирал оба этих способа, как шайду, ведущую к ложному экстазу. Оба актатребовали насыщения мозга обманными образами, и не имело особого значения, что их порождает – собственная фантазия или компьютер. Данло ценил естественное совокупление не меньше, чем саму жизнь, и искал его, где только мог.
– Побудем неосмотрительными хоть один раз, – сказал он Тамаре.
– Ты хочешь, чтобы я забеременела.
– Значит, таков будет результат нашего контракта.
– А тебе бы хотелось?
Данло коснулся ее длинных волос.
– Я слышал, что куртизанки всегда следят за своим циклом и способны его контролировать, да?
– Некоторые из нас способны, это верно.
– Тогда ты должна знать, опасный у тебя сегодня день или нет.
– Конечно, опасный. Он всегда опасный.
– Да, но насколько опасный?
– Ты хочешь знать процент? – Она улыбнулась, вся эта беседа явно развлекала ее. – Этой ночью наш шанс зачать ребенка очень невелик.
– Если это случится, я выйду из Ордена, и мы заключим брачный контракт.
Она посмеялась и сказала:
– Не надо обещать того, что ты не готов сделать.
– А если я правда хочу на тебе жениться? Я пообещал себе это, как только увидел тебя.
– Какие сладкие слова – но не будем пока говорить о браке.
– О чем же тогда? О любви?
– Ну нет, это еще хуже.
– Тогда не будем говорить совсем и проявим неосмотрительность.
Он коснулся ее лба, и трепет пробежал по его пальцам. Он коснулся век, щеки, длинной шеи, а потом сила жизни, стремящейся к новым горизонтам, охватила их обоих, как пожар, и она сказала:
– Хорошо.
Держась за руки, они стали пробираться к выходу. На пути им встречалось много женщин: поэтесса-хариджанка, чье старое морщинистое лицо было смутно знакомо Данло, толстая жена торгового магната, тощая курильщица тоалача с умными, но будто выжженными глазами. Данло в своем любовном тумане в каждой из них находил какие-то милые черты. Все женщины прекрасны, думал он – он мог бы жениться почти на любой, будь он свободен. Так он говорил себе, проходя через нарядную толпу в недра дома Бардо. Они миновал я большой зал с высокими сводами и окнами и поднялись по лестнице в северное крыло. Здесь потолочные окошки были алмазными и стены переливались бликами органического камня.
Комнаты для гостей тянулись по обе стороны коридора, и все двери, вытесанные из цельных плах дерева джи и натертые лимонным воском, были закрыты. Данло выбрал одну наугад, взглянул на Тамару и постучал костяшками пальцев по блестящему, гулко резонирующему дереву. Стук, показавшийся ему очень громким, разнесся по'всему коридору, но ответа на него не последовало, и Данло открыл дверь. В комнате уже явно кто-то побывал этим вечером: окна были открыты, и в камине еще тлели угли. Пахло лимоном, семенами трийи и снежными далиями, растущими на лужайке внизу, и эти чудесные запахи побудили Данло войти. Смеясь, он втянул за собой Тамару, захлопнул ногой дверь и почувствовал запах хороших вещей; дыма, чистого нового меха и густых волос Тамары, Ему все нравилось в этой комнате, хотя из-за темноты он почти ничего не видел. Здесь были красивые алмазные окна и сундуки из ценного дерева. На лакированных столиках чего только не было: трубки, чаши с семенами трийи, графины с вином, коробки с черным тоалачем и еще полдюжины наркотиков, которые нюхают, курят или пьют. Перед камином лежал огромный футон, покрытый шкурами шегшея. Данло стал над ним, ища во мраке глаза Тамары. Он ни на миг не отпускал ее руки и теперь притянул ее к себе, чтобы видеть ее лицо.
– Давай подышим вместе, – сказала она. И коснулась его губ своими.
Данло никогда еще не целовался с женщинами – у алалоев, как и у большинства цивилизованных людей, это не практиковалось. Игру ртов и быстро скользящих языков он нашел странной, но очень возбуждающей. У него даже дыхание перехватило от этого нежданного удовольствия. Тамара прижалась к нему, и их тела слились воедино. Ее шелковая пижама терлась о его шерстяную камелайку, заряжая электричеством ту или другую ткань. Когда Данло расстегнул пижаму и отбросил ее прочь, во мраке комнаты вспыхнули голубовато-зеленые искры. Камелайка снялась не настолько легко – не из-за разрядов, покалывающих пальцы, а из-за того, что очень туго обтягивала мускулы, вздувшиеся от прилива крови. Но наконец оба остались нагими и самозабвенно отдались объятиям и поцелуям. Она провела пальцами по его члену и удивленно ахнула, ощутив на нем твердые маленькие шрамы. Они долго стояли так, лаская друг друга, а потом Тамара потянула Данло вниз, и они упали на застилающие футон шкуры. Они тяжело дышали, стонали и обливались потом в неистовом порыве любви. Тамара, совсем еще юная, всего на пару лет старше Данло, была сильной и дикой, как молодое животное. Подложив под нее руки, он чувствовал, как играют мускулы на ее спине и ягодицах, чувствовал тугое, напряженное кольцо ануса.
Она не надела пессария, и ее шелковистый, восхитительно влажный захват увлекал Данло все глубже и глубже. Они двигались в такт, и он уже не знал, где кончается его тело и начинается ее. Было так, будто его клетки любят ее клетки – или, вернее, будто они вспомнили какое-то давнее блаженство и наконец-то обрели его вновь. Тамара, вскрикивая, крепко обнимала его и погружала все глубже в эту кипучую радость, в наивысший риск жизни. Был момент, когда Данло полностью подчинился и умер для себя самого, как будто стал маленьким, одиноким атомом сознания, завершающим какой-то вселенский план. Потом он вскрикнул, дрожь пронизала его, и это был истинный союз, истинное возвращение. Их голоса слились в один протяженный вопль – ему хотелось бы продолжать это вечно, но удовольствие перешло в боль, и пришлось перестать.
Некоторое время они лежали в изнеможении. Струящийся в окно холодок остудил их потные тела и заставил укрыться меховым одеялом. Он спросил, не разжечь ли огонь. Она сказала «да», и Данло, положив поленья на тлеющие угли, разворошил трескучее рыжее пламя. Скоро им стало жарко, и они откинули меха прочь. Лежа в обнимку перед огнем, они говорили о всяких пустяках вроде хорошей погоды и отменного ужина, который подал гостям Бардо. Постепенно их разговор стал более серьезным. Данло рассказал о причинах, побудивших его прийти в Невернес, и попытался объяснить, почему он подружился с Хануманом ли Тошем. Но слушать он умел лучше, чем говорить, рассказ Тамары о ее нерадостном детстве в семье астриеров и посвящении в секреты искусства куртизанок захватил его целиком. Ему открылся блеск ее ума. Она вполне могла бы вступить в Орден и стать цефиком или мнемоником, но ее родители, как хорошие астриеры и Архитекторы, не позволили ей получить школьное образование – поэтому она еще в ранней юности ушла из дома и была принята в Общество Куртизанок. Она считалась талантливой гетерой, и многие прочили ей карьеру дивы. Все свои способности, мыслительные и чувственные, она подчинила одной цели: делать жизнь, свою и чужую, полнее и ярче. По тому, как она смотрела на Данло, ему вскоре стало ясно, что больше всего она любит в нем его дикость и его собственную пламенную любовь к жизни.
– Какой ты горячий. – Она провела пальцами по черной поросли на его животе и лобке, коснулась жемчужной капли на конце его члена, поласкала открытую головку и насечки на стволе. Голова ее лежала у него на груди, и она рассматривала разноцветные шрамы внизу. – Тебе, наверно, было очень больно, когда это делали.
Данло вспомнил, как лежал на спине под звездами, пока Трехпалый Соли кромсал его, и ответил:
– Да… очень.
– Алалои все украшают себя таким образом?
– Только мужчины.
– Как странно. Это для того, чтобы доставить женщине больше удовольствия?
– Нет, причина не в этом.
– В чем же тогда?
Он погладил ее волосы.
– Я не хочу секретничать, но не могу тебе этого сказать. Мне нельзя. – Обрезание и татуировка мужского члена описывается в двадцать девятом стихе Песни Жизни, который запрещено открывать кому бы то ни было. Данло, казалось, давно уже отрекся от верований своего детства, но глубинная его часть приказывала ему хранить молчание.
– А может быть, они хотят понизить свою чувствительность?
– То есть как?
– Я знала нескольких мужчин, сделавших себе обрезание, – в основном червячников. Кожа на головке потом высыхает, и это снижает чувствительность – так они по крайней мере думают.
Данло стиснул челюсти.
– Но зачем кому-то надо делать себе обрезание… из-за этого?
– Чтобы продлить любовный акт. Чтобы и женщина успела испытать оргазм тоже.
– Но таким способом ничего продлить нельзя. Я, как видишь, обрезан, и все взрослые алалои тоже. Все знают, что мужчина достигает оргазма раньше женщины.
– Оставляя ее неудовлетворенной?
Данло, глядя, как пляшут блики огня на ее нагом теле, провел пальцами по ее бедру.
– Нас еще мальчиками учат, как ласкать женщину, чтобы она испытала экстаз. Если бы мое мгновение настало раньше твоего, я не оставил бы тебя неудовлетворенной.
Она улыбнулась и поцеловала его в пупок.
– Есть разные степени удовлетворения.
– Может быть – но вселенная устроена так, а не иначе, правда? Мужчины так устроены. Все самцы. Ты видела когданибудь, как шегшей кроет самку?
– Нет, не пришлось.
– Весь акт продолжается около десяти секунд. Десять секунд трения и рева – вот и все. Ты хотела бы изменить то, что установлено природой?
– А ты – нет? – Она улыбнулась так, словно прочла его мысли, и они оба рассмеялись.
– Я часто думал об этом. Почему мужская и женская страсть так не совпадают? И если и он, и она – дети природы, разве это не доказывает, что вся вселенная – шайда?
– Шайда – это противоположность халлы?
– Не совсем. Шайда – это… левая рука халлы.
– Понимаю. Ты признаешь только то, что естественно. – Она села, выпрямив спину и поджав под себя ноги, и сжала своей левой рукой его правую.
Немного погодя он спросил:
– Ты думаешь, мужчине нужно задержать свой оргазм, чтобы добиться синхронности с женщиной?
Она с улыбкой потрогала шрам у него на лбу.
– Некоторые мужчины считают, что такая задержка только усиливает экстаз. А потом один экстаз умножается на другой – возможности между мужчиной и женщиной бесконечны, так говорят.
– Не знаю, как это может быть еще сильнее.
– Моя страсть не всегда поспевает за твоей – да я и не хотела бы догонять, даже если могла бы.
– Но как это возможно – сдержать такую силищу? Когда момент настает, это все равно что помешать звезде взорваться.
– Показать тебе как?
– А ты можешь?
– И с большим удовольствием.
Она снова стала целовать его – губы, глаза, все тело от шеи до колен, а он целовал ее. После долгих поцелуев и ласк он лег на нее, как раньше, но она уперлась ладонями ему в грудь и уложила его на спину. Став над ним на колени, она стиснула его грудь, опустилась на него и стала двигаться вверх и вниз. Этим она не помогла ему замедлить оргазм – просто Тамара, как куртизанка, подчинялась правилам Общества, предписывающим постоянную смену (и равенство) поз. Ей было бы даже проще показать Данло нужную технику, лежа снизу, но она не собиралась нарушать правила ради своего удобства. Она скользила туда-сюда все быстрее, нажимая на него своим лоном.
Данло пытался управлять их общим ритмом. Он весь вспотел, часто дышал, и ему казалось, что он сейчас лопнет. Ему не терпелось достичь своего момента, и он был на грани, но Тамара внезапно надавила пальцами на туго натянутую кожу у него под мошонкой. Она показала ему, на какие точки нажимать, показывала, как нужно дышать, остудив его бурлящую кровь и умерив слепое желание. Трижды она делала это и каждый раз доводила его пыл до накала, которого он никогда не испытывал прежде. Наконец она сжалилась над ним и привела в действие другие точки, тут же вызвавшие у него оргазм. Дремлющая энергия, туго свернувшаяся у основания его позвоночника, стремительно развернулась, наполнив его чресла чудодейственной силой. Он видел, что та же сила наполняет и Тамару, зажигая огонь в ее блестящих глазах. Что-то огромное прошло между ними из глаз в глаза, из руки в руку, из клетки в клетку. Она закрыла глаза и стала раскачиваться, по-прежнему сжимая его своими коленями, своим лоном, своими искусными пальцами. Он был юн и полон соков, которые выжимало из него ее нежное сжатие.
Жизнь бурлила в нем, как огненная река, – в животе, у сердца, позади глаз. Пока он мог ее видеть, он смотрел, как Тамара, запрокинув голову и зажмурившись, ловит ртом воздух. Ее лицо при свете камина казалось маской блаженства. Тогда он тоже зажмурился, и давление у него в паху сделалось таким сильным, что он закричал, вцепившись в ее бедра. Разряд энергии, как молния, пробил его от паха до темени, и в этот миг чистейшей, слепящей радости между ними совершилось что-то необычайное. Жизнь хлестала из него в нее быстрыми толчками, пока Тамара не упала на него, задыхаясь, целуя его в шею, прильнув головой к его виску. Он лежал под ней в полном изнеможении, совершенно опустошенный и в то же время полный, как никогда, сознающий все, что происходит вокруг. Он слышал голоса в дальней части дома и ветер за алмазными окнами; он чувствовал, как распускаются огнецветы у Бардо в саду, и запах семян трийи, и сладкий аромат секса. Дыхание Тамары щекотало ему ухо, ее сердце билось рядом с его – никогда еще он не ощущал себя таким сильным, таким цельным, таким живым.
Через какое-то время они оба повернулись на бок, постепенно приходя в нормальное, всегдашнее сознание, а потом и дар речи обрели. Тамара запустила пальцы в волосы Данло, потрогав белое перо.
– Такие, как ты, мне еще не встречались.
– А я до тебя ничего не смыслил. Сколько всего мы еще не знаем, да? – Она кивнула и засмеялась.
– Есть мужчины, которые общаются с куртизанками много лет, прежде чем змей воспрянет.
– Змей?
– Ты разве не знал, что мы называем свое искусство «Путь Змея»?
Он взял ее за руку и нащупал кольцо на среднем пальце – толстую золотую змею с двумя рубинами вместо глаз. Змея впилась в собственный хвост, словно собравшись проглотить саму себя. Золотые зубы, вошедшие в золотое тело, образовывали правильный круг.
– Я заметил, что ты носишь кольцо в виде змеи. Это ведь древний символ, да?
– Значит, тебе и про змея известно?
– Не совсем. Просто я изучал разные религии и понимаю значение некоторых символов. Змея, глотающая собственный хвост, – символ самой природы, да? И бессмертия всего сущего. Жизнь пожирает другую жизнь, то есть саму себя, однако продолжается. Великий круг жизни и сознания, постоянно сбрасывающих смерть, как старую кожу, и возрождающихся заново.
Тамара перевела взгляд с кольца на него.
– Твое истолкование мне нравится больше того, которому меня учили. Оно проще и глубже.
Данло с улыбкой склонил голову.
– Для тебя этот символ означает нечто другое, да?
– Ты когда-нибудь слышал о змее по имени Кундалини?
– Нет, такое имя мне неизвестно.
– Но о тантрической йоге ты слышал?
Он покачала головой.
– Нас обучают многим видам йоги, но тантрической – нет.
– Тантра – очень древнее название. Это йога секса и жизненной энергии. Многие ее технические приемы вошли в другие йоги.
– И куртизанки специализируются в ней?
– Не совсем так. Наше искусство прошло долгий путь развития и во многом отличается от тантры, как в практике, так и в теории.
– Что же такое Кундалини – теория или символ?
– И то и другое. Согласно древней теории, энергия Кундалини свернута у основания позвоночника подобно большому змею. Есть разные виды техники для…
– Я испытал нечто похожее! – заявил Данло. – У основания позвоночника, точно – только это был скорее разряд молнии, чем змей.
– Да, он похож на молнию, если его разбудить. Пробужденная энергия, разворачиваясь, пронзает позвоночник, как молния, и проходит через все чакры. Чакра есть за пупком, и в области сердца, и…
– Это энергетические центры, да?
– А ты откуда знаешь?
Он сел, глядя в огонь и думая о своем испытании на площади Лави, когда жар лотсары, загоревшись у него за пупком, спас его от замерзания. Данло рассказал об этом Тамаре, заметив:
– У алалоев тоже есть свои теории.
– Я думала, твой народ слишком занят борьбой за выживание, чтобы заниматься пробуждением своих чакр.
– Это самое и делает Кундалини? И куртизанки?
– Я говорила о древней теории, – засмеялась она. – Согласно ей, Кундалини прожигает себе путь через все семь чакр. Это в идеале – но порой дорогу ему преграждают старые раны, телесные или душевные, и энергия блокируется.
– Как свет в каменном сосуде?
– Можно и так сказать.
– И тогда потока нет. Нет освобождения, нет… связи.
– У большинства людей так и получается. Но у некоторых Кундалини прожигает чакры одну за другой. И проходит через лотос с тысячью лепестков до самого темени.
Он повернулся спиной к огню, подогнув ноги, а Тамара приложила ладонь к его копчику, где тот соприкасался с мягким мехом, и волнообразно повела рукой вверх вдоль позвоночника и затылка. Ее пальцы проникли ему в волосы, пронизав сладким трепетом кожу на голове.
– А потом? – спросил он.
– Потом устанавливается связь. Кундалини взвивается в небо, осуществляя древнюю связь между ним и разумом.
Он поцеловал сгиб ее локтя.
– Ты говоришь, это старая теория?
– Да, очень старая.
– И куртизанки больше ее не придерживаются?
– В большинстве своем нет, хотя мы сохранили Кундалини как символ жизненной энергии. Кундалини, пробудившись, пронизывает каждый нерв и каждую клетку, и они тоже пробуждаются.
Своим мелодичным голосом Тамара вкратце изложила ему современную теорию куртизанок. Каждая клетка организма, объяснила она, обладает собственным сознанием, заложенным в электронных передаточных цепях, белковом синтезе и ДНК. Когда клетки пробуждаются полностью, осознавая заключенные в них секреты, то никогда не включавшиеся прежде участки ДНК – та ДНК, которую иногда называют «спящим богом» – оживают, чтобы исполнить свое истинное предназначение. Только так возможна настоящая эволюция человечества. Сознательная эволюция к новой симметрии тела и духа, о которой лишь немногие смеют мечтать. Она начнется – в далеком будущем или завтра, – и тогда мужчина и женщина соединятся, чтобы дать жизнь первому настоящему человеку.
– Замечательная теория, – сказал Данло. – Вот только верна ли она?
– Никто не знает по-настоящему, что побуждает ДНК включаться и эволюционировать. Некоторые ваши эсхатологи толкуют о формополях и супергенах, что почти так же старо, как тантра. Ты не поверишь, но некоторые мастера по-прежнему считают генотипическую изменчивость движущей силой эволюции. Лучшую теорию, на мой взгляд, предложила рианская школа. Ты слышал о Киприане Риа?
– Нет. Кто это?
– Сто лет назад она была Главным Эсхатблогом. Она заявила о существовании поля сознания, изоморфного генетическим полям, будто бы открытым биологами. Но это, конечно, только теория. Ваш Орден уже пять тысяч лет пытается понять природу сознания и материи.
Тамара назвала еще несколько эсхатологических школ, подкрепляя свои аргументы примерами из других дисциплин – таких как цефическая теория о круговой редукции сознания.
– Все, что было до сих пор известно о материи и сознании, следует пересмотреть в свете открытия, сделанного твоим отцом.
– Ты говоришь о Старшей Эдце?
Она кивнула.
– Говорят, что твой отец открыл математику сознания.
– И эта математика, это сознание… заключены в памяти?
– В клеточной памяти. Пробудив свои клетки, мы обрели бы эту память вновь.
– Вот почему куртизанки так интересуются мнемоническими сеансами Бардо?
– Некоторые да.
– А ты?
Она пристально посмотрела ему в глаза ответила:
– Я хочу пробуждения человеческой натуры. Всей – и тела, и разума. И если это пробуждение затрагивает клеточную память, то меня этот мнемонический процесс чрезвычайно интересует.
– Ты очень много знаешь о самых разных вещах. Тебе бы холистом быть. Не знал, что куртизанки обладают такой эрудицией.
Тамара расчесала пальцами свои светлые волосы, вся засветившись от его комплимента. Куртизанки любили получать похвалы, как некоторые любят шоколад. Она была откровенно, беззастенчиво тщеславна и гордилась не своей красотой, которую принимала как должное, но своим мастерством куртизанки, а больше всего – своим умом и памятью.
Многие куртизанки имели поверхностное представление о разных дисциплинах Ордена, что помогло им вести умные беседы с мастерами и главными специалистами, но мало кто мог похвалиться столь глубокими знаниями, как Тамара Десятая Ашторет.
– А я не знала, что пилот может обладать таким талантом в любви.
– Я тоже, – засмеялся он.
– Кундалини редко пробуждается с такой легкостью, с помощью самой простой техники.
– Ты называешь то, что происходило этой ночью, «простой техникой»?
Она стала перед ним на колени, лучась счастьем и юмором.
– Мы даже азы с тобой не прошли. Мы не слушали, как бьется сердце другого, не синхронизировали дыхание, не…
– Давай подышим вместе. – Он взял ее руку, холодную от льющегося в окно ночного воздуха. Его лицо, руки и все другое, обращенное к окну, тоже остыло, но спину согревал огонь, и жар по-прежнему струился вверх по позвоночнику.
– Поздно уже. – У нее было превосходное чувство времени, куда лучше, чем у него. – Сейчас, наверное, где-то около полуночи.
– Значит, до рассвета еще три часа. Подышим вместе до утренней зари.
– Я думала, ты пришел на мнемоническую церемонию.
– Нет, я пришел, чтобы встретиться с тобой – просто не знал этого заранее.
– Ах ты, красавец мой – у нас будут и другие ночи.
– А как же твои контракты?
– Контракты всегда можно расторгнуть.
– Правда?
Она засмеялась и поцеловала его руки.
– Вступая в Общество, мы не отказываемся от свободы распоряжаться собой.
Он посидел еще немного, глядя на нее, и сказал:
– Но на церемонию мы пойдем вместе?
– Хорошо, пойдем.
– Мне, пожалуй, следует поздороваться с Бардо – и поблагодарить его за то, что предоставил нам эту комнату.
Они оделись медленно и лениво, как будто тяжесть времени, давящая на других, для них не существовала. Потом поцеловались, засмеялись и отправились обратно на вечер.
Глава XVII ПУТЬ ЦЕФИКА
И были люди механическими игрушками, бесцветными, механике творения игрушек подчиненными, из леденца сотворенными.
Нелепыми были люди в абсурдности, с какою предавались они ритуалам, кои я знал наизусть, и коих абсурдность осознавал в цикличности, неконструктивности и суеверности их. Но исповедовали они ритуалы, но предавались им в сознании правоты своей, «живущие мертвецы», радостные, не сумевшие признать во мне – Того, чьей милостью длится их существование.
Из архивов цефиков (автор неизвестен)Они вернулись в солярий, все так же держась за руки. В комнате, набитой битком, стало еще более душно, и лиловато-серый дым забивал горло и ел глаза. Шум стоял ужасный.
Жестокого вида червячник с глазами из драгоценных камней садистски терзал струны арфы, и все пытались перекричать друг друга. Данло дважды толкнули и чуть не облили вином.
Впрочем, гости были настроены дружески и празднично. Данло, ведя Тамару за руку, переступил через упавшую женщину, которая, как видно, праздновала слишком усердно. Он вертел головой, отыскивая в этом море лиц Бардо.
– Данло! – загремел кто-то. – Тамара Десятая, идите сюда!
Бардо стоял посреди комнаты в окружении восьми или девяти женщин, с тарелкой перечных орехов в руке, и из его карих глаз катились слезы. Отказавшись от пива, он пристрастился к острой пище, от которой во рту жгло и глаза наполнялись влагой. Он стал еще громадное, чем запомнилось Данло, и бурлил энергией, как будто его живот, глотка и губы преобразились в мясистый трубопровод для звездной плазмы. Его раскатистый бас привлекал внимание всех окружающих, а речь подкреплялась выразительными жестами. Каждый его палец был украшен кольцом с драгоценным камнем, радужный наряд усеян изумрудами, рубинами и опалами. На шее он открыто носил сверкающий ярконский огневит. Этот показной блеск мог бы умалить более мелкую личность, но истинная суть Бардо не уступала сиянием дорогому камню, и стиль его одежды только обрамлял эту суть, делая его еще более крупным.
Бардо поставил тарелку на столик с лакированными вещицами и протянул руки навстречу Данло.
– Паренек! – Он заключил Данло в объятия и похлопал его по спине. – Паренек, да ты здорово вырос.
В самом деле, Данло почти сровнялся с ним ростом, хотя мускулов и жира у Бардо достало бы на двоих. Данло посмотрел ему в глаза, улыбнулся и тоже обнял Бардо – не чинясь, поалалойски, как если бы они принадлежали к одному племени.
– Вы прекрасно выглядите, – сказал он.
– Я чувствую себя прекрасно, как никогда. Порой мне кажется, что лучше уже и быть не может, однако я стараюсь – скоро сам увидишь. – Бардо повернулся к Тамаре и поклонился ей низко, как только позволил живот. – Польщен, что прекраснейшая из куртизанок вновь посетила мой дом. – В его широкой, откровенно радостной улыбке сквозило желание. – Насколько я слышал, с Данло вы уже познакомились.
В этот момент позади Бардо мелькнуло что-то оранжевое, и появился Хануман. Пригубив бокал с водой, он перевел взгляд с Данло на Тамару. Держался он легко и непринужденно, однако его взгляд, казалось, стремился выпить из них информацию, которая только цефику могла пригодиться.
– Хануман ли Тош! – воскликнул Бардо. – Я не видел, что ты тут стоишь – почему ты раньше не объявился?
Хануман с улыбкой поклонился ему, ограничившись словами:
– Здравствуйте, Бардо.
– Немногословен, как цефик – вижу, вижу. Однако ты тоже молодец. Я надеялся, что ты станешь пилотом, но наряд цефика тебе к лицу. Знаешь ли ты, что твои мастера поговаривают, будто тебе когда-нибудь суждено стать Главным Цефиком?
Хануман послал Бардо быстрый пронизывающий взгляд, говоривший о старой напряженности и новом понимании. Данло заметил, как потемнели его глаза и участилось дыхание, заметил признаки некого зловещего родства между ним и Бардо. Но в то время он не мог еще разгадать, в чем состоит это родство. Хануман между тем произнес очень четко и раздельно:
– Я еще даже цефиком не стал, не говоря уже о мастере. В нашей профессии подготовка мастеров требует самого долгого срока. Вам должно быть известно, что не бывало еще кадета, который стал бы мастером-цефиком менее чем через пятнадцать лет.
– Да, пятнадцать лет – это долго. – Бардо оглядел собравшихся вокруг. – Особенно в наше время. Пятнадцать лет назад Мэллори Рингесс был еще человеком, а я – пьяным дураком.
Пока он говорил, какая-то крошечная женщина с красными глазами и лиловато-смуглой, как у него, кожей протиснулась к нему и сказала:
– Дураком ты никогда не был. Разве Мэллори Рингесс избрал бы тебя своим другом, будь ты глуп?
– Познакомьтесь, – сказал Бардо, – это моя кузина, принцесса Сурья Сурата Дал из Летнего Мира. А это мои друзья. Прежде всего – Тамара Десятая Ашторет, гетера Общества Куртизанок.
Сурья поклонилась Тамаре отрывисто и холодно, как бы не одобряя ее профессию и образ жизни. Тамара ответила ей на поклон с милой улыбкой, но ее природная грация и приветливость только рассердили Сурью и та отвернулась.
– А вот это Хануман ли Тош и Данло ви Соли Рингесс – они неразлучны с послушнических лет.
При звуке имени Данло взгляды всех, кто был поблизости, устремились на него. Женщина-горолог в ярко-красном платье, торговый магнат со стаканом виски в руке, аутист с мечтательными глазами, мальчик-хариджан, несущий с кухни горячие блюда – все склонились в учтивом поклоне, как бы ожидая, что Данло скажет что-нибудь приличествующее моменту. Но ему ничего не приходило в голову. Он слишком остро ощущал запахи карри, стручкового перца и собственного пота. Тамара прижалась к нему, и густой аромат секса будоражил его чувства, как наркотик. Он слышал, как кто-то прошептал: «Это сын Мэллори Рингесса!» Доносились до него и другие звуки: мелодии импровизаторов, играющих на арфах и тут же сочиняющих стихи, раздражающий гул мантра-музыки и болтовня трехсот голосов. Он осознал вдруг, что всех здесь интересует только как сын Мэллори Рингесса. Он понял, что как человек и личность для них не существует, и ему стало стыдно за них. С тех пор он чувствовал этот жуткий стыд каждый раз, как входил в дом Бардо.
– Знакомство с вами – честь для меня, – с поклоном сказала Сурья. – Кузен говорил мне, что вы намерены вскоре покинуть Невернес. Вы будете пилотом, как тот Рингесс, и надеетесь войти в экстрскую экспедицию – я правильно запомнила?
– Да, правильно. – Данло взглянул на Тамару, увидел грусть и разочарование, и ему стало больно. Он собирался рассказать ей о своих планах, но среди их бурных совместных переживаний позабыл об этом.
– Напрасно Орден готовит пилотов для этой миссии, – сказала Сурья. – Разве Орден в силах помешать звездам взрываться? Конечно, нет. Лучше бы он готовил мнемоников, а не пилотов.
Ее резкая безапелляционность и забавляла, и раздражала Данло. Говоря с ним, она все время терла глаза, покрасневшие от курения бханга, сильного наркотика, растущего на планете Летний Мир. Сурья, однако, не сознавалась в своем пристрастии в бхангу и утверждала, что у нее аллергия на флору Ледопада. Данло она показалась женщиной амбициозной и к тому же лгущей слишком легко, и он сразу проникся к ней недоверием.
– Должен быть какой-то способ уберечь благословенньге звезды от гибели, – тихо сказал он. – Если умрут звезды, умрем и мы. Животные, птицы, даже ледяные соцветия и снежные черви – все погибнет.
– Ваша вера в жизнь должна быть сильнее, молодой Данло, – возразила Сурья.
– Жизнь благословенна, да… но хрупка. Нет во вселенной ничего столь благословенного и столь хрупкого.
Сурья крохотной, похожей на птичью, лапкой погладила рукав своего голубого кимоно.
– А как же Золотое Кольцо? Ваш отец создал его, чтобы защищать вашу планету от радиации Экстра. И разве вы не знаете, что вокруг всех Цивилизованных Миров тоже скоро вырастут такие кольца? Сам Мэллори Рингесс сказал об этом перед тем, как покинуть Невернес. Ведь так, Бардо?
Бардо похлопал себя по урчащему животу и тронул за плечо полную женщину, стоявшую рядом. Она взглянула на него темными оленьими глазами, будто только и ждала приказания принести стопку тоалача или какую-нибудь еду.
– Ну Рингесс, правда, не выражался так прямо, однако говорил мне об этом на берегу перед нашим расставанием, это факт.
Данло посмотрел в окно, думая об огромных расстояниях галактики, о холодных, почти бесконечных пространствах, пронизанных фотонами, нейтрино и гамма-лучами. Около двадцати лет назад, когда он был еще младенцем и лежал в пахнущих молоком мехах, одна из звезд Абелианской группы превратилась в сверхновую. Сейчас, когда он слышит гул многочисленных голосов и смотрит на чопорное постное личико Сурьи Сураты Дал, волновой фронт сверхновой находится в какихнибудь сорока тысячах миллиардов миль от Невернеса и скоро, всего через восемь лет, обрушится на Город Боли световым дождем смерти. Или жизни. Возможно, Золотое Кольцо в самом деле впитает этот смертельный свет, заслонив Невернес, как щитом, и будет продолжать расти в небесах.
– Кто знает, что такое Золотое Кольцо в действительности? – полушепотом произнес Данло. – Чем оно должно стать?
– Неужели вы не верите в то, что сказал ваш собственный отец? – упрекнула его Сурья.
Тогда Хануман, стоявший напротив Данло, рассмеялся, что случалось с ним не часто, и сказал своим цефическим, четким и невыразимо ироническим голосом:
– Вам следует знать, что Данло ни во что не склонен верить. Если есть на свете человек, пылко верующий в неверие, то это он.
Все посмеялись этой немудреной шутке, даже Тамара, которая смотрела на Ханумана как на красивую, но ядовитую змею, требующую осторожного обращения.
Бардо взъерошил своей ручищей волосы Данло.
– Верования – веки разума, так ведь?
– У разума много век. – Когда Бардо оставил его волосы в покое, Данло проверил, на месте ли перо Агиры, и посмотрел на Ханумана с укором, как бы спрашивая: «Что это с тобой сегодня?»
После краткой паузы Сурья спросила его:
– Вы учились у фраваши? Бардо приглашал к нам фравашийского Старого Отца, но тот отказался прийти.
– Твоего Старого Отца, – уточнил Бардо, потирая живот, – того, у которого ты учился, когда пришел в Город. Без имен с этими фраваши можно запутаться, ей-богу! Я хотел продемонстрировать почтенному фраваши силу нашей мнемонической техники, но он дал мне от ворот поворот.
– Почему? – спросил Данло.
– Под глупейшим предлогом. Сказал, что не может войти в дом, поскольку фраваши предубеждены против зданий, где больше одного этажа.
– Но это правда, – засмеялся Данло.
– Да неужели?
– Они верят, что от жизни в многоэтажных домах можно заболеть и умереть.
– Разве вас не беспокоит, – спросила его Сурья, – что эти суеверные старые инопланетяне все еще имеют власть в вашем городе? И в вашем Ордене?
Бардо закатил глаза и тяжко вздохнул:
– Моя кузина, Данло, верит в то, что инопланетный образ мысли для человека непригоден.
– Фраваши, – продолжала Сурья, – якобы учат человека тому, как освободиться от всех религиозных и мыслительных систем, даже от их собственной. Их цель мне ясна. Что может быть соблазнительнее полной свободы?
– Я не успел сказать тебе, Данло, – вставил Бардо, – что моя кузина – известная поборница свободы. Она освободила рабов Летнего Мира. Это было еще до восстания, до того, как наша семья подверглась изгнанию, но я уверен, что Сурью Сурату Лал там по-прежнему помнят.
Сурья Лал, летнемирская принцесса, действительно посвятила свои зрелые годы борьбе за освобождение порабощенных людей и роботов, а в юности боролась за права кукол, этих странных информационных экосистем, которые обитают в компьютерном пространстве и будто бы являются живыми существами. Теперь эта свободолюбивая женщина, участвовавшая во всех прогрессивных движениях своего времени, примкнула к своему кузену и к движению, которое впоследствии получило название «Путь Рингесса».
Данло провел пальцами по волосам.
– Все люди думают, что они любят свободу.
– Разумеется, – сказала Сурья. – Но для человека истинная свобода состоит в раскрытии человеческих возможностей.
– Человеческих, – тихо повторил Данло. Закрыв глаза, он живо представил себе очень человечное лицо Тамары в момент экстаза. Это был миг полной свободы и в то же время, как ни парадоксально, миг полного подчинения силам жизни. – Кто знает, в чем они?
Он не ждал ответа на свой риторический вопрос, но Сурья позабавила его, сказав:
– Ваш отец всю свою жизнь посвятил раскрытию тайны человеческих возможностей. Способов, позволяющих нам выйти за свои пределы. Преодолеть свою глупость, свою низость и даже свои тела. Особенно тела и мозг тоже – вы улыбаетесь, Данло ви Соли Рингесс, но это потому, что вы пока еще молоды и красивы. Вряд ли вы представляете себе, что значит такая старость, когда вернуть молодость уже невозможно. Что значит состариться духом. Быть старым, безобразным и гниющим заживо.
Во время этого разговора вокруг них собралось много народу, теснившего их друг к другу. Тамара переплела пальцы с Данло, Сурью прижало к объемистому животу Бардо, и Данло чувствовал, как пахнет маслом сиху и сладким дымом бханга от ее кимоно. Хануман стоял напротив него, смотрел и слушал с самым циничным видом на бледном лице. Он незаметно указал Данло на Сурью – никто больше не увидел этого жеста и не понял его смысла: «Вот уродина. Я всегда говорил, что красота существует только на поверхности, зато безобразие проникает до самых костей».
Данло покачал головой, упрекая Ханумана за такую жестокость. Но он невольно замечал морщинки вокруг красных глаз Сурьи, в уголках ее похожего на червоточину рта. Не нужно было владеть искусством цефиков, чтобы прочесть на этом лице страх. Она могла прожить еще добрых триста лет до окончательной старости, но видно было, что перспектива дряхлости и смерти ужасает ее. Даже старую трясущуюся Иришу в те дни, когда все племя Данло ушло на ту сторону, не одолевал такой страх.
– Есть в цивилизованных людях черта, всегда вызывавшая во мне недоумение, – сказал Данло. – Чем дольше они живут, тем больше боятся умереть.
– Умереть – это не так уж страшно, – заметил Бардо, потирая грудь. В молодости алалойское копье пронзило ему сердце, и он умер своей первой смертью. Тогда его заморозили, потом оттаяли и исцелили, но он встретился со смертью снова, когда его легкий корабль исчез в огненной сердцевине звезды. Богиня по имени Калинда воскресила его – так он по крайней мере рассказывал – и с тех пор он относился к делам такого рода философски. – Что такое смерть, как не краткий миг покоя перед тем, как нас соберут по кускам и заставят жить снова? Жизнь – вот что тревожит душу. Стремление к полной и достойной жизни.
Сурья поджала губы – Бардо, как видно, уже достал ее своими рассуждениями.
– Умереть боятся все, – нахмурясь, заявила она. – Человечество находится в плену у страха смерти.
– Верно замечено, – сказал Хануман. – Вы очень проницательны.
Сурья, явно не уловив иронии в этой реплике, одарила его улыбкой и просияла.
– Я слышала, будто цефики считают, что все эмоции проистекают из страха.
– Это почти правда. Основной алгоритм жизни – это умножение жизни. Не есть ли стремление размножаться то же самое, что и страх смерти? Предположим, что это так. Тогда все эмоции, если рассматривать их как запрограммированные в организме реакции, в определенном смысле служат сохранению жизни с тем, чтобы она могла размножаться.
– Еще я слышала, что цефики умеют читать эмоции людей по их лицам.
– Да, это одно из наших искусств. Одно из самых древних.
Хануман как-то сказал Данло, что цефики прослеживают искусство чтения лиц по меньшей мере до старых художников-портретистов – Тициана, Дюрера и Леонардо, полагавших, что портрет в идеале должен быть зеркалом души.
– Наконец, я слышала, что цефики умеют читать мысли, но никогда не верила в это по-настоящему.
– Иногда мы можем делать нечто похожее.
– Но ведь мысли не запрограммированы в нас, как эмоции.
– Разве?
Бардо потер руки и сказал Сурье:
– А ты знаешь, что Мэллори Рингесс тоже владел кое-какими цефическими навыками? Он мог посмотреть на тебя и сказать, о чем ты думаешь, ей-богу. Мог обнажить твою душу – потому-то его и боялись. Больше того, он мог предсказать, что сейчас скажет или сделает любой незнакомый ему человек.
– Вы тоже это можете? – спросила Сурья у Ханумана. Тот утвердительно склонил голову.
– Иногда признаки поддаются расшифровке. Но не кажется ли вам, что разменивать наше искусство на подобные мелочи – довольно глупое занятие?
– Не могли бы вы показать что-нибудь прямо сейчас? – Возможность чтения лиц, как и сам Хануман, явно очаровали Сурью. Она нацелила свой костлявый пальчик через комнату. – Видите вон того высокого мужчину в коричневой форме?
– Историка? Лысого?
– Возможно, он действительно историк. Я еще не научилась разбираться в цветах ваших ученых. Можете вы сказать, о чем он думает?
Хануман, держась очень прямо, посмотрел в ту сторону.
Сурья и другие чувствуя силу его концентрации, следили не за историком, а за ним. Хануман, хотя и отзывался об искусстве чтения лиц с пренебрежением, втайне любил блеснуть своим талантом.
– Он думает, что в доме Бардо собралось много опасных людей. Ощущение опасности, как всегда бывает, разрастается в мысль о том, что может грозить его жизни, и о бегстве из Города. Ее сменяет покаянное сознание собственной трусости. Ему хотелось бы верить, что Золотое Кольцо защитит Город от радиации Экстра, но по натуре он циник и большой трус, хотя о себе думает как о человеке благоразумном, «человеке на все времена». Как историк, он в курсе эмиграционной статистики. Он знает, что в Невернес прибывает вдвое больше людей, чем из него убывает, и не может себе этого объяснить. Он не совсем трезв – за этим он сюда и пришел. Ему кажется, что перед ним стоят глобальные вопросы, на которые он ищет ответа. Чем сильнее сомнение, тем настоятельнее потребность в вере. Что такое вера, как не отчаянная попытка убежать от сжигающего ум страха?
Сурья кивнула, пораженная успехом Ханумана, а Данло, который тоже сосредоточился, глядя на историка, расхохотался. Легкая щекотка, возникшая в животе, так одолела его, что он трясся и захлебывался, точно юнец, впервые отведавший волшебных грибов.
– Я не понял – тут какая-то шутка? – осведомился Бардо.
– Нет… не шутка.
– Что же тогда?
Данло на миг прикрыл глаза и прислушался. Он сызмальства учился распознавать самые тихие звуки природы, а сегодня его слух был необычайно остер. Он даже через комнату слышал, как историк рассуждает о пути Рингесса и других религиях, и отличал его тонкий голос от всех остальных. Данло открыл глаза и сказал Хануману:
– По-моему, он обсуждает вслух те самые вещи, о которых ты нам говорил.
– Ты хочешь сказать, что наш цефик плутует? – спросил Бардо.
– Я слышал, что цефики умеют читать по губам. – Данло улыбнулся Хануману. – Это входит в ваше искусство, да?
– Разумеется. Губы – часть лица, разве нет? Есть ли лучший способ читать лица?
– Значит, вы все-таки плутовали? – сказала Сурья. – Я так и думала, что чужие мысли прочесть невозможно.
Хануман, снова поклонившись, окинул ее с ног до головы своими твердыми блестящими глазами.
– Нельзя считать обманом то, что не считается таковым по закону. Однако… Видите вон ту женщину у дальней стены?
Та, о которой он говорил, стояла в одиночестве перед настенной фреской, на ней была мешковатая кофта с капюшоном и плетеными завязками.
– Она афазичка, – сказал Хануман. – Вы знаете, кто такие афазики, принцесса Лал? В Городе эта секта, пожалуй, уникальна. Они пользуются голосами, но языка у них нет. Они слышат, что им говорят, но слов не понимают. Они обрабатывают мозг своих детей, уничтожая в нем языковые центры. Не ужасайтесь так – они не монстры, как думает большинство. Они делают это, потому что считают слова помехой правильному восприятию реальности. Искажением реальности. Именно поэтому я и выбрал эту женщину. Она не может говорить ни с кем, потому что лишена этой способности. Она пришла сюда в надежде, что вы, просвещенные люди, соприкоснувшись с Мэллори Рингессом, нашли какой-то способ общаться напрямую, от сердца к сердцу, без слов. Но испытала разочарование. Она одинока, ей скучно, она не смогла связаться ни с кем из присутствующих. Она думает – вы знаете, что люди способны Думать, даже если у них отняты слова – думает, что ей лучше уйти отсюда.
– Вы меня не убедили, – сказала Сурья. – Если бы я знала что-то раньше об этих бедных афазиках, то сама могла бы догадаться обо всем, что вы сказали.
Хануман бросил на нее взгляд, предвещающий недоброе.
– Когда я шевельну пальцем вот так, афазичка выйдет из комнаты. – Он выждал пару секунд и слегка приподнял обтянутый перчаткой палец. Афазичка словно по сигналу, словно связанная с этим пальцем невидимой струной, выпрямилась и Тяжелой, шаркающей походкой двинулась к выходу.
– Бога ради, как ты узнал? Как ты это делаешь? – заволновался Бардо.
– Я начинаю вам верить, – сказала Сурья. – Но это точно не очередной фокус? Эта афазичка, случайно, не ваша знакомая?
Хануман улыбнулся своей скрытной улыбкой.
– Следите вон за тем старым фантастом с огромным кадыком. По моему сигналу он кашлянет. – Хануман поднял палец, и фантаст действительно кашлянул.
Так продолжалось и с другими. Хануман указывал на разных мужчин и женщин, предсказывая, что сейчас они кашлянут, потрут глаза, засмеются, нахмурятся, заговорят, начнут танцевать или отопьют из своих бокалов. Он поднимал палец, и люди исполняли все назначенное им, словно он был кукольником, дергающим за ниточки марионеток. Это была фантастическая, почти зловещая демонстрация искусства цефиков.
Это убедило Сурью, что Хануман обладает редкостной силой, но принцесса пока отказывалась признать, что его власть распространяется и на нее.
– Эти люди не подозревают, что вы за ними наблюдаете, – заявила она. – Вряд ли вам удастся прочесть что-то по лицу человека предупрежденного.
– Например, по вашему, принцесса?
– Допустим. О чем я сейчас думаю? – И она сморщилась, словно сушеный кровоплод, от усилия убрать со своего лица всякое выражение. – Можете вы мне это сказать?
– Не надо, Ханум, – тихо сказал Данло. Игра Ханумана была ему ненавистна – он не выносил, когда к людям относились, как к роботам, чья жизнь запрограммирована заранее, но еще больше его угнетали гордыня Ханумана и ярость, горевшая в его глазах.
– Должен ли я промолчать потому, что мой лучший друг об этом просит? – Хануман шагнул вперед так, что оказался в окружении Данло, Тамары, Бардо и Сурьи. Он явно наслаждался и тем, что находится в центре их внимания, и возможностью блеснуть. – Или потому, что моя этика не рекомендует высказывать человеку в лицо, о чем тот думает? А быть может, мне не нужно молчать, ибо настало время откровений? Думаю, Данло согласится – оно пришло. И Тамара тоже. Забудем же об осмотрительности, и позвольте мне быть откровенным. Пожалуйста, Данло, не смотри на меня так – для тебя это редкий шанс выяснить, что думают о тебе другие. Увидеть себя со стороны. Да, я знаю, тебе это безразлично, потому-то тебя все и любят. И боятся тебя. Все из-за твоей дикости, твоей детской души: ты слишком поглощен миром, чтобы думать о себе. А вот другие к себе не столь равнодушны. Возьмем принцессу Дал. Ей хочется верить, что эта дурацкая техника чтения лиц возможна, потому что она хочет разгадать тебя. Она о тебе думает с тех самых пор, как Бардо назвал твое имя. Ты беспокоишь ее. Одно твое имя ее оскорбляет. – Хануман повернулся от Данло к Сурье так резко, словно вел поединок по правилам своего боевого искусства, с твердым и острым как нож лицом. – Все зовут его Данло Диким, и вам, принцесса, хотелось бы знать, действительно ли он так дик. Заверяю вас, что это Так. Он еще более дик, чем вы можете себе представить. Но куда может привести эта дикость, спрашиваете вы? Действительно ли он сын своего отца? Данло ви Соли Рингесс. Я сказал, что его имя вас оскорбляет, но не сказал, к какой его части это относится. Скажу теперь: Данло хоть и Рингесс, но не тот. Нуждается ли вселенная в другом Рингессе – или ей и одного слишком много? Вы сомневаетесь на это счет. Вы полны сомнений. Известно ли вам, что такое моментальность? Остановка времени? Вот в этот самый момент – остановите свои мысли и зафиксируйте их, как насекомых в янтаре. Вот оно! Если бы вы могли видеть свое лицо сейчас, когда вы по-настоящему верите. Вы думаете о Мэллори Рингессе и о том, что он совершил. О Золотом Кольце. Вы спрашиваете себя, как эта специфическая мысль, этот золотой образ мог отразиться на вашем лице. И еще один вопрос, который для вас страшнее смерти: не я ли внушаю вам эти мысли? Так каков же ответ? Запрограммированы наши мысли или мы обладаем свободой воли? Пожалуйста, не отводите глаз! Если вы это сделаете, то после будете мучиться вопросом, не я ли заставил вас это сделать. Как мучает вас вопрос о свободе человека. Что для человека возможно, а что нет? Мэллори Рингесс жизнь положил на то, чтобы раскрыть свои возможности. У кого еще хватит на это бесстрашия? Сделан ли Данло, которого мы все любим, как солнечный свет, из того же материала, что его отец? Вы молитесь, чтобы он был не такой, и боитесь, что он окажется таким. Страх – вот квинтэссенция души. Он влияет на все наши действия. Если Данло по-настоящему бесстрашен и дик, чего тогда ожидать от него? Что он может натворить, если точнее? Во что выльется его дикость? Вы задаете себе все эти вопросы, и ваша мысль все время движется по кругу. Позвольте мне разорвать этот круг и озадачить вас новой мыслью: кто из нас может сравниться дикостью с Данло? И зачем нам это может быть нужно?
Тут Хануман умолк, глядя на Сурью и, очевидно, дожидаясь только удобного случая, чтобы снова пустить язык в ход.
– Ну все, довольно, – сказал Бардо, обняв его за плечи. Он высился над Хануманом как гора. – Недаром же говорят: «Не вступай с цефиком в спор, иначе ты его возненавидишь».
Но Сурья даже после всего сказанного не возненавидела Ханумана. Напротив – он совсем ее очаровал. Она, чью душу он обнажил при помощи своих зорких глаз и язвительного языка, смотрела на него, как на бога или скорее на сверхчеловека, поддерживающего личный контакт с областью божественного. Ее лицо выражало попеременно изумление, раболепие и конфуз оттого, что ее мысли выставили напоказ. Чтобы скрыть этот конфуз, она повернулась к Данло и стала лгать.
– Вовсе я о вас не думала. – Ее смуглое побагровевшее лицо походило на уродливую маску неправды. – Не знаю, почему вашему другу вздумалось говорить такие вещи. Я все это время думала о рецепте курицы с карри, которую меня научила готовить мать. Я всегда любила блюда с карри, а все эти разоблачения просто обман.
Данло потер шрам над глазом, взглянул на Тамару и улыбнулся. Его не так-то просто было смутить. Данло был влюблен и его переполняло острое ощущение жизни. Но он испытывал смущение за Сурью, хотя и очень желал бы, чтобы она осталась в Летнем Мире со своим карри и своими рабами. Он поклонился ей и сказал:
– Хануман уже напомнил нам, что в игре без правил обмана быть не может. – Хануман устремил на него свой властный цефический взор, но, поскольку Данло перед ним глаз никогда не опускал, в конце концов отвернулся.
Сурья потерла шею и вздохнула, смягченная, как видно, словами Данло.
– Должна вам сказать, что против вашего имени ничего не имею. Вы же не виноваты в том, что родились на свет.
– У каждого своя судьба, – сказал Данло.
– И все мы наделены свободой воли. Ваш отец учил, что в конечном счете судьба и свобода воли – одно и то же.
– Мне кажется, что у вас воля необычайно сильная.
Сурья, просияв, впервые улыбнулась ему. Улыбка у нее, несмотря на тонкие губы и потемневшие от кофе зубы, была красивая. Данло подумалось, что эта непростая женщина, будь она более честной и не столь подверженной страху, могла бы претендовать на красоту шибуи, редкую среди жителей Города.
– Вы не боитесь проявлять доброту к женщине, которая к вам была не слишком добра, – сказала она. – Возможно, вы и в самом деле бесстрашны.
– Бесстрашных людей нет.
– В этом по крайней мере Хануман был прав. Никто не свободен от страха – это условие человеческого существования. Но вы должны знать, что выход есть.
– Если вы имеете в виду моего отца…
– Когда Рингесс был еще человеком, – нетерпеливо прервала она, – он страдал от страха, как и все остальные, но нашел путь к освобождению.
Бардо, явно довольный оборотом, который принял разговор, стукнул себя кулаком по ладони, так что кольца звякнули друг о друга.
– Да, путь Рингесса – войти во вселенную богом и никогда не оглядываться в страхе назад.
– Путь Рингесса – это освобождение от страданий, – сказала Сурья.
– Верно. Рингесс указал нам путь к реальной свободе. – Голос Бардо гремел по всей комнате, и там внезапно настала тишина, к его неприкрытой радости – он всегда любил быть центром внимающей ему аудитории. – А единственная реальная свобода – это свобода бога.
После момента полной тишины кто-то выкрикнул:
– И каждый может стать богом.
– Или Богом, – подхватил другой.
– Дайте мне пару глотков каллы, и я увижу Бога.
– Дайте мне три глотка каллы, и я стану Богом.
– Не так-то это просто, – сказала стоявшая рядом с Бардо дородная женщина в голубой одежде эсхатолога. Ее звали Коления Мор, лорд Мор – она была Главным Эсхатологом Ордена. – По крайней мере для меня. Почему это так трудно – вспомнить?
Бардо энергично потер руки, обвел взглядом лица своих гостей и весело пробасил:
– Да, это дело трудное – так займемся же тем, что для нас и труд, и радость. Все знают, что Бардо самый ленивый в Городе человек, и раз уж я могу пить каллу и вспоминать Эдду, то и все могут. Теперь самое время. Я приглашаю всех, кто последние десять дней не занимался мнемоникой, в музыкальный салон. Сегодня с нами будет молодой цефик и его друг, Данло ви Соли Рингесс – сын Рингесса, который когда-нибудь тоже может стать Богом.
Многие снова поклонились Данло, и у него от стыда защипало глаза. Хануман улыбнулся ему с насмешкой и сочувствием – а может быть, и с оттенком вызова.
Когда Бардо и другие пошли к выходу, Тамара отвела Данло в сторону. Куртизанки, как известно, любят поговорить, но она хранила молчание во время всей его беседы с Сурьей и Хануманом.
– Мне кажется, тебе следует быть осторожным с Хануманом ли Тошем.
– Я всегда с ним осторожен. Друзья должны относиться один к другому бережно, правда?
– И во время сеанса, пожалуйста, будь осторожен.
– Разве вспоминать так опасно?
– Достаточно опасно. Калла сама по себе опасный наркотик, но опаснее всего, по-моему, – это пытаться вспомнить, когда твоя душа охвачена огнем. Не позволяй Хануману отравлять себя своими сомнениями. Или своим отчаянием.
– В эту ночь я далек от отчаяния, как никогда.
– Я не смогу пойти с тобой. Мой последний сеанс был всего пять дней назад.
– И ты еще не готова к следующему?
– Я не уверена. Но даже если бы я была готова… Бардо раздает каллу как святое причастие – а никто ведь не причащается каждый день.
– И напрасно, по-моему.
– Извини меня.
Данло поднес ее руки к губам и поцеловал, шокировав всех, кто это видел.
– Пожелаем тогда друг другу спокойной ночи.
– Мы можем встретиться снова через несколько дней, если хочешь.
– Зачем ждать так долго?
– После сеанса тебе захочется побыть одному.
– Не могу себе представить, что мне этого захочется.
– Прошу тебя, Данло…
– Да?
Люди шли мимо них, задевая их и стараясь не замечать близости, связывающей их. Данло коснулся лба Тамары, ища отражения мыслей в ее темных глазах.
– Прошу тебя, будь осторожен с собой.
Она поцеловала его в губы и попрощалась. Он вышел, не чуя под собой ног и не переставая думать о том, что она сказала.
Глава XVIII КАЛЛА
Приход наш и уход загадочны – их цели Все мудрецы земли осмыслить не сумели. Где круга этого начало, где конец, Откуда мы пришли, куда уйдем отселе?[18] Омар ХайямДанло вслед за другими вышел в северную дверь солярия.
Река одетых в шелка тел несла его по ярко освещенному коридору. Он смутно сознавал, что больше половины гостей остались позади, и слышал многочисленные жалобы на чрезмерную строгость Бардо. Большинство полагали, что желающих нужно допускать на сеансы каждые три дня, а горячие головы наподобие Джонатана Гура настаивали на ежедневных сеансах и даже на непрерывном процессе вспоминания Старшей Эдды.
Но Бардо, видимо, управлял твердой рукой и взял с собой в северное крыло лишь десятую долю собравшихся. Включая Ханумана, шедшего рядом с Данло, их было тридцать восемь человек, все громко переговаривались. Данло показалось странным то, как этот шум пропадет, словно впитываясь в блестящие стены. В этом коридоре из органического камня все было странным: невероятные углы или отсутствие всяких углов, миллиарды крохотных световых ячеек, вделанных в стены, тишина, внезапно объявшая их и сопровождающая в глубину дома.
Данло испытывал неуютное ощущение схождения вниз, хотя и видел, что пол в коридоре ровен. Пройдя мимо гостевых комнат с красивой мебелью и цветами, Бардо пробился сквозь ряды идущих и обнял Данло за плечи.
– Жаль, что этому дому пришлось побывать в чужих руках, – сказал он.
Весь остаток пути он говорил о пустяках, ни словом не упомянув об устроенном Хануманом представлении. Он рассказал Данло кое-что из истории дома. Орден владел им две тысячи лет, но после Войны Контактов, в период своего упадка, Коллегия Главных Специалистов ощутила вдруг острый недостаток средств и стала распродавать недвижимость, в том числе и дом Бардо. С тех пор его владельцами перебывали эталоны, хариджаны, пытавшиеся основать в Городе свое неофициальное посольство, снова эталоны и род богатых астриеров – они прожили здесь пятьсот лет, а потом подобрали себе новую планету для колонизации. Последним хозяином дома был торговый магнат, который никогда здесь не проживал и охотно уступил свою собственность Бардо.
– Большая потеря для Ордена, – говорил тот. – Но если они потеряли, то я приобрел, а со мной и те, кто желает исследовать открытые отцом Данло возможности. До сих пор Орден всемерно затруднял эту задачу для таких, как я, искателей.
– Возможно, Орден со временем поддержит вас, – сказал Данло.
– Нет, Паренек, вряд ли. – Бардо наклонился поближе к Данло и пророкотал вполголоса (дав заметить, что его дыхание очистилось от знакомого пивного аромата): – Хочешь знать правду о мнемониках? Как ни печально, лишь немногие из них сумели вспомнить Эдду полностью. И эти немногие должны будут уйти из Ордена, чтобы жить у меня и обучать новых мнемовожатых.
– А как же другие мнемоники?
– Они проголосовали, и третья их часть пришла к решению, что Старшей Эдды в действительности не существует и твой отец был лжецом, соблазнявшим людей верой в непостижимое. Для того якобы, чтобы вдохнуть в Орден новую жизнь. Еще одна треть рассматривает Эдду как ложную память, собрание мифов или вселенских архетипов, пересказ вечных истин, созданный нашими дурацкими мозгами.
– А последняя треть?
– Эти пребывают в нерешительности. Весь Орден занимает такую позицию относительно тайн, разгаданных твоим отцом. Варвары они все, вот что! Большинство, во всяком случае. По правде говоря, их куда больше занимает эта несчастная экспедиция в Экстр. Их просто заклинило на этом. Всякий, у кого есть хоть немного таланта и дальновидности, борется за то, чтобы войти во второй Орден при неизбежном разделе старого.
У круглого входа в музыкальный салон Бардо задержался, положил руку Данло на плечо и многозначительно на него посмотрел. Пока остальные проходили внутрь, он сказал:
– Ты тоже захочешь отправиться в Экстр, Паренек, и я тебя понимаю. Будь я моложе, я сам бы туда полетел. Мы живем в апокалиптические времена, ей-богу, но у нас есть дела куда важнее каких-то взрывающихся звезд.
– Мое дело вам известно.
– Алалои? Пять лет прошло – ты еще не забыл, что их ожидает?
– Забыл?
– Ну да, конечно, я вижу, что не забыл. Возможно, даже чересчур хорошо помнишь. Что ж, я надеюсь, ты найдешь средство от чумного вируса, если полетишь в Экстр.
Данло надавил на свой шрам – сильно, до самой кости.
– А я надеюсь, что вы отыщете Эдду.
– Колония Мор, увы, сказала правду – большинству людей трудно вспомнить Старшую Эдду.
– Ну а вам? Вы вспомнили?
– Ты всегда задаешь такие сложные вопросы, Паренек.
– Неужели? – улыбнулся Данло.
– Конечно. Да, я вспомнил кое-что. – Бардо постучал по своему массивному лбу. – Нечто чудесное. Стал бы я брать на себя все эти хлопоты и покупать этот чертов дом, если бы не вспомнил то, что вполне можно назвать Старшей Эддой?
– Кто-то может сказать… могу я быть откровенным, Бардо?
– А это необходимо? Ну ясно – откровенность у вас в роду.
– Кто-то может сказать, что вам просто нужна власть. Или слава. Или даже – женщины…
– Женщины? Это верно, их всегда влечет к таким мужчинам, как я. Словно бабочек к огню. Да, я люблю красивых женщин – а кто не любит? Но меня привлекает и другое – я ищу чуда, если говорить напрямик. Жизнь сложна, не так ли? Кошмарно сложна, как говаривал твой отец.
– Вы тоже человек сложный.
– Глубокий и страстный, – согласился Бардо.
– А человек больших страстей должен вершить большие дела, да?
– Правильно понимаешь.
Данло, склонив голову, улыбнулся, и они оба расхохотались. Бардо снова обнял Данло и похлопал его по спине.
– Ей-богу, я рад, что вижу тебя снова!
– А я рад, что вы вернулись.
Бардо, продолжая смеяться, вытер заслезившиеся глаза. Одна слезинка случайно упала на платиновое кольцо с голубоваторозовым опалом, и Бардо размазал соленую каплю по камню.
– Я всегда любил драгоценности, а вот пилотские кольца, должен признаться, терпеть не мог. Черный – такой мрачный цвет, совсем не подходящий для алмаза. Кстати, ты все еще носишь отцовское кольцо?
Данло вытянул из-под ворота камелайки серебряную цепочку, подаренную ему Бардо пять лет назад. На ней висело черное алмазное кольцо.
– Да, оно самое. – С этими словами Бардо достал из кармана стальную пригласительную карточку и показал Данло.
Голограмма из двух переплетенных колец, золотого и черного, ярко выделялась на стали и как будто вращалась. Черное кольцо явно было задумано как пилотское. – Люди нуждаются в символах, сам понимаешь.
Данло, уловив проблеск печали в мокрых глазах Бардо, спросил:
– Может быть, мне вернуть вам кольцо? Если вы хотите, чтобы оно было у вас… это ведь обыкновенное пилотское кольцо, правда?
Бардо поколебался какой-то миг, глядя на кольцо, зажатое в руке у Данло, вздохнул и сказал:
– Нет, пусть оно останется у тебя. Только храни его как следует – я не хочу, чтобы оно потерялось.
Данло снова спрятал кольцо под камелайку и увидел, что все в комнате уже заняли свои места.
– Они ждут нас, – сказал он.
– И не только они, – опять засмеялся Бардо.
– О чем это вы?
– О Старшей Эдде, само собой. Сложная шутка доложу я тебе, – кошмарно сложная.
– Я рад, что вы пригласили меня сегодня. Только я надеялся найти… что-то другое.
– Это уж как получится. Но будь осторожен, Паренек. Большей частью люди находят то, что хотят найти.
– Разве я на вашей памяти когда-нибудь был неосторожен?
– Ты с этим не шути. Будь поосторожнее с собой и с Хануманом. Мне не нравятся эти фокусы с чтением лиц, которые он сегодня проделывал. И то, что – и как – он говорил о тебе. За пять лет жестокость в нем окрепла.
Когда он вошли, все другие уже разместились на фугонах перед низкой деревянной эстрадой. В концертные вечера на ней устанавливался рояль или арфы, но сейчас эстрада использовалась для других целей. Там стояли канделябры с длинными, заостренными кверху свечами, а посередине высился стол с золотой урной и сверкающей голубой чашей. За ним, занавешенный снежными далиями и вьющимися цветами ниссы, виднелся аппарат или робот, подобных которому Данло еще не видел. Блестящие кварцевые трубки, где бурлили какие-то химикалии, сочетались в нем с нейросхемами. Данло, усевшись на футон, занятый для него Хануманом, кивнул на эту машину и спросил:
– Это еще что такое?
– Синтезатор запахов, – холодно ответил Хануман. – Ими пользуются мнемоники.
Они занимали почетное место в середине первого ряда. Слева от Данло помещалась Сурья Сурата Лал. Рядом с ней сидела пухлая Коления Мор в широких голубых одеждах. Мужчины и женщины ерзали, устраиваясь на своих футонах и дожидаясь начала сеанса. Данло, участвовавшему во множестве ритуалов самых разных церквей, это было знакомо, но имелись здесь и детали, с которыми он еще не сталкивался.
Участников, по его мнению, собралось слишком много для интимной обстановки, но слишком мало, чтобы поддерживать друг в друге огонь и создавать настоящую религиозную атмосферу. Эту комнату без окон, слишком темную и слишком тихую, слишком переполняли индивидуальные надежды и ожидания. Где-то позади капала вода, пахло мокрым камнем, мхом и сырой землей. Появился Бардо в сопровождении человека красивой и благородной наружности, в серебристом одеянии мнемоника.
– Друзья и коллеги соискатели, – сказал Бардо, прохаживаясь перед сценой, – позвольте представить вам мастер-мнемоника Томаса Рана. Мы с ним будем руководить сегодняшней церемонией.
Томас Ран, стоявший перед Данло, низко поклонился.
Глядя на его красивую черную голову с посеребренными висками, Данло подумал, что это человек гордый и даже надменный, но глубоко понимающий людскую натуру, что видно по его живым и грустным глазам. Ран поднялся на сцену и стал зажигать свечи. Канделябров было три, по одиннадцать свечей в каждом, и Данло невольно вспомнил, что отцу, когда тот будто бы вознесся на небеса, было тридцать три года.
Бардо сел на край сцены, уперся локтями в свой огромный живот и сцепил пальцы под подбородком. Наклонившись к Хануману и Данло, он сказал:
– Все меня спрашивают, как это Рингесс стал богом. Правда ли он стал богом, спрашивают они? Настоящим богом? Как это возможно, чтобы человек сделался богом?
– Неизвестно, возможно ли это. – Данло вдруг осознал, что Сурья и все остальные смотрят на него так, будто сожалеют, что его пригласили на церемонию.
– Как так? – спросил Бардо. – Объяснись, пожалуйста.
– Кибернетическая церковь учит, что человек богом стать не может. Ни один, кроме Николоса Дару Эде. Он вложил себя в компьютер, говорят они, и стал единственным истинным богом, но никому больше не дано пойти его путем.
Бардо, погладив бороду и кивнув, спросил громко:
– Присутствует ли здесь сегодня кто-нибудь из Архитекторов? Согласен ли кто-то из вас с основополагающей доктриной эдеизма? Нет? Это хорошо – иначе то, что я сейчас скажу, могло бы стоить мне жизни.
При этих словах Данло и Хануман обменялись быстрыми многозначительными взглядами. Пять лет прошло со смерти Педара Сади Саната и воина-поэта, посланного убить Ханумана. За все это время ни один из них ни разу не заговаривал об этой трагедии, но не было дня, чтобы они о ней не вспоминали.
– Я был воспитан в кибернетической вере, – с отрывистым смехом сказал Хануман, – и могу вас уверить, что вы уже наговорили достаточно, чтобы послать к вам наемного убийцу.
– Ну что ж, тогда я спокойно могу продолжать. – Бардо с улыбкой поднял вверх два толстых пальца. – Архитекторы заблуждаются по меньшей мере в двух отношениях. Нельзя стать богом, затолкав свою душонку в компьютер, но способ стать богом все-таки есть – и это путь Рингесса.
Какой-то старый хибакуся позади Данло спросил:
– Как вы определите, что значит быть богом?
– Я здесь не для того, чтобы давать какие-то определения, и пригласил вас не затем, чтобы вести теологические споры. Я повторяю и готов повторять снова и снова, пока язык не отнимется: наша задача состоит не в том, чтобы разоблачить доктрину эдеизма, какой бы ложной и пагубной она ни была, и не в том, чтобы основать новую религию. Бога ради, разве человечество не насытилось религиями по горло? Мы собрались сегодня здесь, чтобы вспомнить Старшую Эдду. Задача простая, но оттого не менее глубокая. Великая тайна, секрет бессмертия – они находятся в каждом из нас, закодированные в наших окаянных хромосомах. Способ развить в себе новые чувства, способ расти телом и духом все дальше и дальше, до бесконечности. Вот путь Мэллори Рингесса. Я был его другом, и я знаю. Когда-нибудь – так он обещал мне – когда-нибудь он вернется в Невернес, и вы узнаете, что значит быть богом и идти путем Рингесса. – Бардо взглянул через сцену на Томаса Рана, освещенного мерцанием тридцати трех свечей. – Мастер Ран познакомит вас с несколькими простыми приемами, и мы начнем наш сеанс вспоминания.
Томас Ран сел рядом с Бардо на краю эстрады и торжественно начал:
– Мнемоника различает шестьдесят четыре способа вспоминания. Поскольку выучить их все за один вечер невозможно, я расскажу кратко о каждом из них.
Вслед за этим он прочел краткую занимательную лекцию о мнемонике. Он быстро разобрался с наиболее известными способами – ассоциативной, образной, последовательной и логической памятью. Они довольно широко применялись и Ран не хотел утомлять аудиторию. Под шепчущий аккомпанемент фравашийской наркопесни он перешел к мифопоэзии и гештальту. По его речи было видно, что он благоговеет перед своим искусством. Данло решил, что он вообще склонен к преклонению перед высшими идеалами, насколько можно судить по его спокойному лицу и грустным серым глазам.
– Мы верим, что Старшая Эдда закодирована в наших хромосомах. Возможно, ключом к ней может стать возвратный вид памяти, и мы разработали упрощенную технику применения этого метода.
Коления Мор, ерзая на своем футоне, сказала:
– Это трудная техника.
– Только для некоторых, и то поначалу, – возразила Сурья Лал.
– Трудная, согласен, – сказал Томас Ран. – Но с воспоминаниями всегда так. С воспоминаниями о собственной жизни, да и с другими тоже. Память можно затемнить, но уничтожить нельзя. Это вы можете запомнить?
– Постараюсь, – вздохнула Коления.
– Прекрасно. Так вспомним же свою ДНК. – Ран встал, и они с Бардо подошли к столу в центре эстрады. После легкого кивка Рана Бардо заговорил нараспев:
– Вспомним свою ДНК. – Все собравшиеся подхватили этот призыв, словно молитвенный гимн. Музыкальный салон был построен так, чтобы отражать и усиливать звуки, и тридцать восемь голосов заглушили на время тихую фравашийскую наркопеснь. Затем Бардо хлопнул в ладони, и в воздухе, как жемчужная нить, заструилась японская тональная поэма.
Сладостный лепет музыки вернул Данло в дом Старого Отца, когда он, научившись играть на шакухачи, стал входить в сонвремя своего народа. Вспомнилась ему и другая музыка – музыка его детства: обтянутый кожей барабан Хайдара под вой восточного ветра, колыбельные приемной матери при свете горючих камней, священный мотив Песни Жизни, которую он так и не услышал до конца. Музыка окружала его и отбивала такт у него в груди. Данло посмотрел мимо Ханумана, ища ее источник. Стены здесь представляли собой скопление вибрирующих органических кристаллов, но музыка как будто исходила не из них и не из какого-либо другого места в пространстве-времени: она звучала отовсюду, как будто каждая частица воздуха несла свою ноту. Данло погрузился в нее целиком, вспоминая. Он не смог бы сказать, сколько времени это продолжалось: ему казалось, что каждая серебряная нота, прекрасная, глубокая и вечная, заключает в себе целую поэму.
– Вспомним, – снова провозгласил густой бас, и Данло взглянул на сцену. Бардо взялся за ручки золотой урны, а Томас Ран подставил ему голубую чашу, держа ее обеими руками. Бардо наполнил чашу прозрачной жидкостью, похожей на воду. Но это была не вода, а калла, наркотик мнемоников.
Мнемоники разрабатывали ее формулу пять тысяч лет на основе священных грибов Старой Земли, инопланетных растений и синтетических веществ, смоделированных по информационным молекулам, выращенным в кибернетическом пространстве.
Пить каллу, говорят мнемоники, – все равно что протирать замерзшее окно в другой мир, в области, похороненные под снежными наносами памяти.
– Составим круг, – сказал Бардо. Ран передал чашу ему, и он сошел со сцены. Данло, Хануман и все остальные поднялись, став в круг над своими футонами. Бардо и Ран заняли место в его середине. – Это калла. – Бардо поднял чашу вверх для всеобщего обозрения и ухмыльнулся, встретившись глазами с Данло. – Выпей один глоток – и ты убежишь от Бога. Два глотка – и увидишь Бога. Три глотка – и станешь Богом. – Он поднес чашу ко рту, выпил немного и утерся тыльной стороной ладони. – Сделайте два глотка, – предупредил он. – Ни больше, ни меньше.
Он отдал чашу Томасу Рану. Тот быстро отпил два глотка и вручил ее Сурье. Та приняла сосуд, как яичную скорлупу, способную сломаться от малейшего прикосновения, и ее красные глазки загорелись, как уголья в костре. Чаша двинулась по кругу, и получилось так, что Хануман оказался предпоследним. Держа чашу в руках, он посмотрел на стоящего слева Данло.
– Пей, – сказал Бардо. – Это не яд. Пей, и покончим с этим.
Хануман так, чтобы только Данло мог видеть, провел тремя пальцами в оранжевой перчатке по голубому фарфору. Это был сигнал – и вызов. Вызов читался во всем: в подобранной фигуре Ханумана и в том, как он сделал три больших глотка.
Данло видел, как трижды напряглось его горло и трижды подскочил кадык, словно зверь, ищущий выхода из западни. Все это время дьявольские глаза Ханумана не отрывались от глаз Данло, как бы говоря: «Ты достаточно храбр, чтобы играть в хоккей и рисковать жизнью, но готов ли ты встретиться с опасностью, грозящей разуму?»
С коварной улыбкой он передал чашу Данло, последнему в круге. Данло, попробовав каллу на язык, сделал один долгий глоток, потом другой. Напиток был прохладным и горьким.
Данло сделал третий глоток. Все три раза он надолго припадал к чаше, и трудно было сказать, сколько каллы он проглотил.
Выпив, он посмотрел на Ханумана, который, стоял с ним плечом к плечу, отвечая ему пронзительным, страдальческим взглядом. Как же ему ненавистен этот благословенный напиток, подумал Данло, и вся эта церемония. Оглядев весь круг, Данло подивился тому, как это тридцать восемь цивилизованных людей пошли на столь интимное действо – питье из одной чаши.
– Теперь садитесь, – сказал Бардо. Сам он рыскал между футонами, словно хлебнул вместо каллы ракетного топлива. Чуть ли не приплясывая в приливе некой высшей энергии, он смеялся, испускал стоны, качал головой и вращал своими большими, выразительными карими глазами. Потом он поднес руку ко лбу, закрыл глаза и объявил: – М-м-м, вот оно. Вы видите? Сядьте все, пока не упали – сейчас вы начнете вспоминать. Мы будем вести вас сквозь слои памяти. Начнем с первых детских воспоминаний. Пользуйтесь образной или обонятельной памятью, по вашему выбору, чтобы вызвать их.
Все снова опустились на свои футоны. Данло сделал это слишком стремительно, и ствол шакухачи вонзился ему в бедро.
Он всегда носил флейту с собой в глубоком брючном кармане, куда другие кладут коньки. Теперь он достал ее и приложил к губам костяной мундштук. Много раз с тех пор, как Старый Отец подарил ему флейту, ее пронизывающие звуки помогали Данло погружаться в мечты. Но в эту ночь он не стал играть, потому что Хануман сидел рядом и Данло хорошо знал, как ненавидит его друг придыхающий голос шакухачи. Да он и не нуждался сейчас в музыке – даже в забытой музыке Генделя, вывезенной Бардо из своих странствий и звучащей теперь в комнате. Память уже вздымалась в нем волнами, которые пронизывали ум и разбивались о линзу внутреннего глаза. Он смотрел на них и вслушивался в их звуки. Его сердце превратилось в бьющийся звуковой орган, рассылающий музыку крови по всем клеткам тела. Лицо вспыхнуло от жара, и пот с пальцев стекал в дырочки шакухачи. Он чувствовал себя диким, настороженным и любопытствующим. Не мог остановить прилив памяти, даже если бы захотел, и не понимал, как может кто-то захотеть этого. Не понимал он также, как умудряются Бардо и Томас Ран держаться на ногах. Обходя комнату, они шептали тихие указания на ухо одной, трогали сомкнутые веки другого и напряженные артерии на горле третьего, клали руку на чей-то вздымающий живот, чтобы наладить дыхание и унять страх перед внутренним миром – миром забытого опыта и воспоминаний. Может быть, человек, поглотив определенное количество каллы, приобретает к ней иммунитет, а может быть, Бардо и его мнемоник только делали вид, что пьют, и свободны от воспоминаний, словно каменные изваяния.
– Все мы внутри дети. – Голос Бардо звучал так, будто доносился с отдаленного морского утеса, и в то же время казался близким, как горячее дыхание у самого уха. – Все мы дети сейчас и совершаем путешествие, возвращаясь через младенца, плод, эмбрион и яйцеклетку к нашей чертовой ДНК. Найдите путь, по которому вы прошли, и вы найдете Старшую Эдду.
Данло закрыл глаза и сразу ощутил запах молока, густого материнского молока, теплого, липкого и сладкого. Он догадывался, что запах исходит из синтезатора, но не мог быть в этом уверен. В музыкальном салоне витали самые разные запахи, не имеющие определенной цели или скорее находящие одну из тридцати восьми целей, чтобы пройти через нос прямо в обонятельный центр мозга. Обонятельные волокна у Данло, как и у всех людей, не подвергавшихся генной инженерии, тянулись – синапс за синапсом – к гиппокампу и мозжечку, издревле регулирующим нейрохимические бури памяти.
– Мы используем запахи для пробуждения ранней памяти, – пояснил Томас Ран. Данло вдыхал запах молока, и память оживала, до того живая и яркая, как будто он снова стал младенцем и сосал, зарывшись носом в разбухшую грудь своей приемной матери. Но, купаясь в теплом, тюленьем запахе матери, он не переставал сознавать, что находится в возвратном состоянии мнемоники; если соблюдать точность, он вообще не вспоминал, а переживал заново моменты своей жизни.
– Уровни памяти многочисленны, – сказал Томас Ран, – и возвратный – самый глубокий из них.
Сейчас мне два года, подумал Данло и открыл глаза.
У большинства людей ранние воспоминания похожи на льдинки, плавающие в сумеречном море, разрозненные и трудноразличимые. Эти кусочки лишь с трудом можно свести в подобие событий прошлого, но картина каждый раз колеблется, словно морской мираж, и не приносит удовлетворения. Но Данло родился с редкой эйдетической памятью, которая запечатлевает все виденное в деталях и красках и по желанию вызывает эти яркие образы перед внутренним зрением. Данло всегда видел яснее и запоминал лучше других, но даже он не подозревал, что возвратные образы могут быть столь реальными.
Он никогда не переставал быть двухлетним.
Эйдетическая память – это ключ, отмыкающий картины и звуки, уничтожить которые невозможно. Данло открылся своему прошлому, и все его органы чувств работали в полную силу. Он видел свет – мягкий желтый свет горючих камней, наполняющий пещеру. Свет был повсюду и омывал все – закругленные каменные стены, ручонки Данло и лицо его матери. Он лежал, голый, у матери на коленях, окутанный мягким белым мехом и теплым запахами ее тела. Тут же у горючих камней сидели другие люди, его соплеменники, Розалейе, Йоши и Аррисон. Он очень ясно видел их лица, их блестящие карие глаза и каждый волосок на загорелой коже. Они произносили напевные слова, которые он, маленький Данло, понимал с трудом, но Данло ви Соли Рингесс, погруженный в возвратную память, понимал прекрасно. «Али, пела Али, лоса ли пелюса и халласа Айей». Да, Бог поистине был благословенной и прекрасной серебристой талло, но Данло, даже двухлетний, понимал, что Бог – это нечто большее. Его родич Чоко только что закончил рисовать Бога на дальней стене пещеры, и теперь все смотрели на нее. Перья Бога блистали серебром на черном камне. Раскинув крылья, он держал в своих черных когтях луну, одну из шести серебряных лун планеты.
Глаза Бога были черны и свирепы, и ему не терпелось запустить в луну свой клюв, разорвать ее на куски и пожрать. Данло не мог оторвать глаз от этой великолепной картины, и она вызывала в нем страх. Страх пронизывал его тело волнами до самых кишок. Он в полной мере чувствовал, что это значит, когда клюв огромной талло впивается тебе в живот.
Данло зажал пупок руками и закричал – тонко и дико, как птица талло, и этот его крик был страшнее всего. Корчась у матери на коленях, он рыдал от ужаса, ненависти и боли.
Пораженная мать склонилась над ним, трогая его руки, живот, грудь, где билось сердце, вытирая слезы с его лица.
Данло воспринимал этот образ всеми клетками своего тела и поражался тому, как он совпадает с эмоцией, с чувством невыразимой любви, которую вызвал в нем голос матери и ее рук. Он давно уже забыл эту любовь, забыл теплое и влажное удовольствие, которое вселяла она в его кровь. Но теперь ребенок снова ожил в нем со своим чистым, не признающим времени восторгом. Двух Данло связывали не память и событие, а скорее радость и радость, пространство-время того единственного момента, когда мать целовала его в губы, в лоб, в блестящие глаза. Данло представлялось чудом это повторное проживание былой жизни, связующее с источником его бытия.
Там, в самой глубине его существа, жил только смех, чистый смех. Данло всегда это знал, а теперь еще и чувствовал, как волны смеха нарастают у него в животе. Его родичи, собравшись вокруг, щекотали своими пахнущими рыбой пальцами его ребра и животик, выводя его из состояния ужаса. «Смех – самое священное из всех состояний человека, приближение его к Богу», – вспомнил он, извиваясь, дрыгая ножками на коленях у матери. Он корчился на своем футоне в музыкальной комнате, одолеваемый судорогами любви и смеха.
«Никогда я не перестану быть двухлетним».
Он услышал голос, шепчущий эти слова, и понял, что это правда. Он чувствовал ясно и непререкаемо, что все события его жизни (а возможно, и жизни вселенной) являются вечными и заключены в каждом моменте настоящего времени. Он почти видел, как они лежат там. Следуя за звуками своего смеха, Данло отправился назад в себя, во все те «я», которыми он был раньше. Это была классическая техника мнемоников.
В этом путешествии он уподоблялся змее, глотающей собственный хвост, или ребенку, пытающемуся заползти обратно в кровавое чрево времени. А в глубине пережитого им опыта всегда лежал ужас. Каждый исследователь вспоминания непременно сталкивается с моментом высшего ужаса. Этот момент, словно заостренный кол в закиданной снегом яме, может таиться в любом слое памяти, но неизбежно обнаруживает себя. Данло, заново переживающий смех своего младенчества, думал, что избежал худшего, между тем как он только приближался к нему.
Внезапно он почувствовал этот ужас под собой, прикрытый тонкой ледяной корой памяти. Ему сказали, что он непременно должен пережить момент своего рождения, но он понял вдруг, что это невозможно.
– Нет! – услышал он собственный крик. Он скорчился на футоне со сжатыми кулаками и сведенными от ужаса мускулами. – Нет… я не могу!
Почти сразу же рядом с ним оказался Томас Ран. Мнемоник, опустившись на колени, массировал его скрутившееся в узлы тело. Данло чувствовал на себе его длинные искусные пальцы и слышал его голос, но не видел его, потому что не мог разомкнуть накрепко зажмуренных век.
– Данло ви Соли Рингесс, – сказал Ран, – ты бежишь от себя самого.
– Один глоток каллы – и ты убежишь от Бога, – прошептал Данло. – Но я… выпил больше.
– Очень хорошо – но калла не может привести тебя туда, куда ты сам не хочешь идти.
– А казалось бы, что может быть проще. Мне сказали, что я родился, смеясь. Смех должен был бы доставить меня к моему первому моменту, да? Он так близко. Я почти вижу его. Почти… нахожусь там, в этом благословенном моменте.
– Ты должен сделать над собой усилие, молодой пилот.
– Не могу. Если я правда смеялся… то я, попав в этот священный миг, больше не смогу выйти оттуда, понимаете?
Томас Ран потрогал веки Данло и с трудом открыл их, а потом повернул его голову набок. Рядом на голубом футоне, как труп, лежал Хануман. По всей комнате, вытянувшись, лежали мужчины и женщины, погруженные в воспоминания.
– Что у вас тут? – Бардо, ступая легко и осторожно, подошел и тоже стал на колени рядим с Данло. Его глаза были как бездонные темные омуты.
– Он достиг стадии бегства, – ответил Томас Ран с суровым, непроницаемым лицом – он считал, очевидно, что мастеру-мнемонику всегда приличествует такое выражение.
– И от чего он бежит?
– От своего рождения. Ему сказали, что он родился смеясь, и он в это верит.
– Ах-х, – промолвил Бардо.
– Мы должны провести его через этот момент.
– Это обязательно?
– Я думаю, мы сможем воспользоваться словесными ключами на основе того, что он сказал.
– Словесными?
– Да, чтобы вернуть его обратно в образный шторм.
– Но разумно ли это? Посмотрите на него, Бога ради! Он проделал возвратный путь быстрее всех остальных.
– Кто идет быстрее, уходит дальше.
– Пусть тогда отправляется назад так далеко, как может. Свое рождение он вспомнит в другой раз.
Данло заглянул Бардо в глаза и понял, что тот погружен в воспоминания. Вряд ли Бардо мог присутствовать при его рождении, но Данло чувствовал, как тот, глядя с грустной улыбкой ему в глаза, переживает этот момент заново. Друзья, пившие каллу вместе, иногда говорят потом, что испытали почти телепатическую вспоминательную связь. Данло тонул в глубоком взоре Бардо, спрашивая себя, не вытягивает ли тот забытые образы из его памяти.
– Ступай назад, Паренек, если ты в силах, – сказал Бардо.
– Если мы нарушим последовательность, – возразил Томас Ран, – его воспоминание об Эдде может оказаться неполноценным.
– Ей-богу, да разве кто-нибудь, кроме Мэдлори Рингесса, вспомнил ее полноценно?
Ран с улыбкой достал из кармана синий флакон.
– Это калла? Я должен выпить еще, мастер?
– Это не калла, а вода, обыкновенная морская вода. Открой-ка рот.
Данло лег, открыв рот, и Ран вылил немного воды ему на язык. Морская соль обожгла горло.
– Она солонее, чем в море, – прошептал Данло. – Почти как кровь.
– Вкус и обоняние – очень сходные чувства. Ощути океан внутри себя – он был таким до того, как ты родился.
– Чтобы жить, я умираю, – произнес Данло.
– Не надо ничего говорить. Ощути океан у себя во рту. Ты никогда не рождался. Нерожденный и бесконечный, как океан, разве можешь ты умереть?
«Я никогда не рождался, – подумал Данло. – Я – это не я».
Закрыв глаза, он скрестил руки на груди, повернулся набок и подтянул колени к животу. Сон его был долгим. Ему было двести дней от роду, он спал и часто видел сны – темные, ритмичные, мирные. Когда он наконец проснулся, во рту у него стояла теплая соленая вода, имеющая вечный вкус моря.
Он плавал в лишенном света море в чреве своей матери. Мысль об отсутствии здесь света, собственно, не имела смысла, ибо он никогда не видел света и даже представить себе не мог, что у него когда-нибудь разовьется чувство зрения. Для него существовала только тьма, полная и беспросветная, как в космосе. Она поглощала его так безраздельно, что он не осознавал ее. Однако он слышал, как клокочут газы в кишечнике матери, как сокращаются ее мускулы и как гулко отдаются в окружающей его воде удары ее сердца. Его собственное сердце билось быстрее – он и его слышал, а также чувствовал, как льется через живот питающая его струя. Кровь, текущая в него по скользкой витой трубке, дарила ему жизнь; он очень мало что сознавал, но даже теперь, будучи нерожденным плодом мужского пола, плавающим в безбрежном океане, остро ощущал собственную жизнь. При этом, как ни парадоксально, собственной жизни у него не было – ведь он во всем зависел от материнского организма. Рядом с ним, за слоями плаценты, пульсировала кровь в брюшных артериях, и эта древняя кровная связь была магической и священной. Она держала его крепко и питалась им, как он сам получал питание из тела матери.
Я – это не я, вспомнил он. Он был водой, жиром и растущими клетками, которые выстраивались в нечто новое, был мускулами, памятью и кожей, но не знал, где кончается его плоть и начинается долгий темный гул материнского чрева. Глотая околоплодные воды и втягивая их в легкие, он чувствовал, что у него нет границ. Словно капля воды, растворенная в море, он, пока его кровь обменивалась двуокисью углерода и кислородом с материнской, чувствовал, что рост его беспределен и ведет к бесконечным возможностям.
Я – это бесконечная память.
Он вернулся очень далеко назад и переживал все стадии своего существования с момента зачатия. Каждая его клетка была наделена памятью о своем происхождении, и все клетки его крови, брюшной полости и мозга помнили, откуда они взялись. Он был скрученным узлом растущих возможностей не больше ореха бальдо; был трепещущим шаром делящихся клеток, которые спешно превращались в печень, желудок и сердце; был оплодотворенной яйцеклеткой, союзом половых клеток отца и матери. Он так и остался навсегда этой яйцеклеткой и вдруг понял, что он – это завершение экстаза двоих, настоящее чудо среди триллионов химических событий, чудо зарождения жизни.
«Все живое обладает сознанием», – вспомнил он. Он и сам был чистейшим сознанием, жизнесознанием единственной клетки. В нем кипели обменные процессы, митохондрии отрывали атомы водорода от молекул глюкозы и энзимы взрывались в плазме, но в нем же царил и мир, какого он никогда не знал прежде. Я – это то, что я есть. Он был голодом самого чистого вида, неодолимым стремлением есть и расти. И в то же время испытывал тихую радость плыть по бесконечной трубе, плыть и смаковать сахар, растворенный в окружающей его воде. В первый и, возможно, последний раз в жизни он представлял собой идеальную гармонию бытия и становления. Ловить свободно плавающие молекулы аланина, триптофана и других аминокислот и чувствовать, как они просачиваются сквозь его мембраны, было познанием халлы; больше того, это значило возвращать в себе прекрасную и страшную волю к жизни. Он дивился этой воле, этой любви, этому безоговорочному приятию жизни. Должно было пройти еще много дней, прежде чем у него разовьются горло, рот и губы, но будь он способен озвучить все, что знал, единственными его словами были бы: «Да, я хочу быть». Таким было сознание зиготы, таким оно всегда и останется.
Все охвачено сознанием, и память обо всем заложена во всем.
Он охотно остался бы очень надолго в этой единственной клетке, но он поглощал сахар, аминокислоты, липиды и рос, готовясь разделиться надвое. Он боялся этого деления и в то же время жаждал его, потому что никогда не вкусил бы прелестей человеческой жизни, оставаясь одной-единственной клеткой. Он был слишком полон собой, и происходящая от этого боль разрывала его мембраны. В самом центре его существа, в его ядре, заключалось сознание боли и память о жизни.
Он чувствовал, как она разворачивается, эта длинная, не имеющая возраста молекула памяти. Наиболее живой и священной его частью была ДНК. Она всегда пребывала в движении, изгибаясь и вибрируя миллиард раз в секунду. Она звенела в нем, как колокол, возвещающий о чуде созидания. Теперь звон стал особенно громок и внятен и шел волнами через его цитоплазму. Длинная, почти бесконечная лента ДНК распадалась посередине, как застежка-«молния», воспроизводилась, создавала новую жизнь. В бесконечной связке раскрывающихся кодов ДНК содержалась тайна жизни.
Тайна жизни – в новой жизни.
Назначением ДНК было увеличиваться и превращать аминокислоты в белки – вещество жизни. Все клетки, которыми он станет, будут через рождение и детство, до самой старости, нести на себя подпись этой ДНК. И еще кое-что будет в них: хромосомы с ДНК – древней и хранящей молчание, предназначенной для сборки уникальных и редких белков.
Память – это химия, химия – это память.
Ему двадцать один год и всегда будет двадцать один, и молекулы памяти плавают в самой глубине его мозга. Он пытался представить их себе зрительно – белки, стиснутые и сложенные в узор кошмарной сложности. Может ли память действительно быть закодирована в цепях вал и на, цистеина и аспарагиновой кислоты? Неужели его мозг просто читает закодированную в них память? Или эти молекулы – только подходящие к его нейронам химические ключи, отпирающие наиважнейшие воспоминания, всегда существовавшие в нем?
Память это память это память это…
Фактически тайну памяти никто еще не разгадал. Мнемоники за пять тысяч лет выдвинули множество теорий. Память – это вода, скованная льдом, заявляли они, это информация, закодированная в компьютере, это голограмма. Божественная раса, Эльдрия, когда-то будто бы произвела эксперимент с человеческим геномом и вложила все свои знания в древнейшую ДНК человека. Всю свою память: говорят, что Старшая Эдда не что иное, как память в чистом виде, но никто не знает, что она такое на самом деле и каким образом человек, будь то мужчина или женщина, может вспомнить ее.
Память просто есть.
Черная дыра крутит звезды пьет свет из тьмы черное бархатное чрево уничтожает-создает бриллианты света и звезды и планеты и голубовато-белый свет и искривления пространствавремени и гравитацию свет заключенный в материи это свет это свет это свет.
Великая память явилась, и Данло лежал тихо, пропуская ее сквозь себя. Старшая Эдда нарастала в нем, как волна чистого сознания или, вернее, как единственная, огромная, вечная память, чистая, как океан. Но и взбаламученная, и неверная, как океан во время шторма; волна нарастала за волной лишь для того, чтобы рассыпаться пеной и вновь исчезнуть в глубинах. Старшая Эдда, словно бесконечное количество водяных капель, сверкала знанием: запретными технологиями и новой логикой, бессчетными философиями, математикой, языками и вселенскими теориями. В ней заключалась память о религиозных движениях, о происхождении звезд, о страных чаяниях инопланетных существ и о той любви (и страхе), которые одна жизнь испытывает к другой. В ней были записаны мечты и муки древних цивилизаций и память богов. Данло пережил смерть одной из галактик в Скоплении Большой Медведицы и видел рождение звезд в Туманности Розетты. Вспомнить Эдду означало оказаться среди инопланетных ландшафтов, в мирах, где охристая и лиловая пыль клубится при свете красных гигантов. В мирах огненных и ледяных, в мирах, созданных внутри богоподобных компьютеров – безупречных кристаллических конструкциях, сложенных из пластов чистой информации. Большая половина Эдды представляла собой память расы, совершившей восхождение к божественному статусу. Секрет бессмертия был частью этой памяти, глубокой и темной, как подводная пещера. А еще в ней таился рисунок новых эстетических и философских чувств, известных Данло как ментирование, фуга и ши. Без этих чувств невозможно было понять вселенную во всей ее чуждой и бесконечной красе. Бог должен обладать высочайшим чувством прекрасного, и поэтому в Эдде содержались тысячи концепций красоты, живых и разнообразных, как краски палитры живописца. Данло, погруженный в глубочайший из штормов памяти, пытался представить себе, какие чудеса могла бы открыть ему вселенная, но он пока еще не обладал чувствами бога, и поэтому истинное понимание было недоступно ему. Он не мог понять эльдрийскую математику континуума и парадоксальность времени и не-времени, странность которых не помещалась в его сознании. Не мог он также постичь системное исчисление и теоремы связанности, показывающие, как соединяются между собой все виды жизни и все экосистемы. Старшая Эдда, по правде сказать, была кошмарно сложна, и Данло очень мало что различал в этом бурном хаосе памяти. Ему, как мучимому жаждой охотнику на тюленей, уносимому в море на льдине, приходилось довольствоваться скудными глотками талой воды, в то время как вокруг ревел великий океан истины.
В центре галактики крутится черная дыра…
Утопая в мягком футоне, Данло пытался понять то, что вспомнил. Старшая Эдда явилась ему в форме голосов, музыки, образов, великолепных драм. Часть этой памяти его сознание автоматически кодировало в слова, в символы универсального синтаксиса и даже в математические формулы.
Это была попытка объять необъятное. Но постепенно, все глубже погружаясь в память у себя внутри, он понял, что есть и другой способ. Его врожденное чувство иконики – способность представлять уравнения, теоремы и прочую информацию в виде ярких зрительных образов – усиливалось в нем.
Он очень хорошо помнил огромную черную дыру в центре галактики, где скопления звезд сверкали, как бриллианты, вправленные в кольцо, и почти в совершенстве помнил математику черных дыр. Он помнил ее так четко и ярко, что начинал понимать гравитацию не через символы или изящные математические формулы, а скорее как исполненное значения и важности лицо, досконально ему знакомое. Эта трансформация идеи в образ была странной и пугающей. Дивясь, он наблюдал, как сфера Шварцшильда преобразуется в скулы, спиноры – в брови, а тензорные поля разрастаются в лоб. Сингулярности смотрели на него, как глаза, впивая в себя целые галактики света. Но больше всего впечатляло то, как кривая Лави изогнулась в рот, улыбающийся рот, благословенный и ужасный, с уголками, приподнявшимися в загадочном смехе.
Это лицо было столь же реально, как воспоминание о пещере, в которой Данло родился. Он видел, как его чернота раскрывается в черноту ночи, чувствовал силу тяжести, влекущую к себе его клетки, и слышал эхо вселенной внутри. Видимо, пришедшая к нему память состояла из миллиарда таких лиц, выражающих все возможные виды знания. Одни он мог различать лишь с трудом, другие больше походили на архетипы или сновидения, чем на лица, и эти он знал не хуже, чем собственное отмеченное шрамом лицо, глядящее на него из зеркала. Но большинство этих лиц-икон были ему совершенно чуждыми, и проносились они в нем с невероятной быстротой. Они мелькали так, что казались одним изменчивым лицом, плачущим, поющим и пляшущим попеременно, эволюционирующим к какой-то неизвестной форме. Должно быть, это и есть незавершенный лик вселенной, думал Данло – ясноглазый, свирепый, мерцающий страшной красотой.
Какого цвета ночь? Каким было твое лицо до того, как ты родился?
Когда-то, еще в послушниках, он пытался различить изображение своей семьи в мнимом хаосе красок и форм обыкновенной фотографии, и только воля, вложения им в это занятие, помогла ему добиться успеха. Но сейчас ему приходилось воспринимать бесконечную череду мысленных ландшафтов, идеокомплексов и нечеловеческих представлений, охватывать и понимать их с помощью не до конца развитого чувства. Это новое сознание попросту ошеломляло его. Разобраться в Старшей Эдде было неизмеримо труднее, чем в лицах на фото.
Черная дыра в центре галактики вращалась вокруг бесконечно плотной точки, подобная бесконечно черному чреву. Ее безмерная гравитация втягивала в нее множество звезд, разрывала их на лептоны и фотоны, уничтожала их. Но, как ни парадоксально, каждая звезда вследствие временных искажений черной дыры сохранялась там во всем своем блеске, и десять тысяч бриллиантов мерцали на черном бархате горизонта событий. Каждая звезда представляла собой взрывающуюся массу триллиона триллионов грамм материи, которая заключала в себе энергию и свет. Черная дыра была органом созидания бесконечных потоков света. Когда-нибудь из неподвижного центра черной дыры, где все – тишина и вечность, вырвется во время целая вселенная света. Это и есть настоящая тайна богов: то, как свет создает все больше и больше сияющего света.
Но и самый яркий светоч среди людей не мог постигнуть эту тайну до конца, а большинство мужчин и женщин совсем не могли. Много долгих изнурительных мгновений Данло, как охотник, ищущий выхода из крутящихся вихрей сарсары, приближался к порогу нового видения. На этом пути им прежде всего руководили его Дикость и его воля. Воля к тому, чтобы видеть, чтобы пережить новый опыт и новые мировоззрения.
Он целиком и полностью приготовился отречься от всего, что знал, включая и себя самого, лишь бы увидеть Старшую Эдду.
Поэтому ему открывались трудные ассоциации и ошеломляющие связи между самыми невероятными идеями и явлениями, и он вспомнил то, что удавалось вспомнить очень немногим людям. Он почти понял связь между памятью и материей, почти рассмотрел, какое место занимает память в жуткой симметрии материи. Он почти увидел ослепительное, нерасчлёненное единство вселенной, которое вечно расщепляется и выходит во время, осуществляется и эволюционирует. На основе этого он почти понял самое важное о богах: если они не будут творить постоянно, они умрут. Они должны сами себя создавать. Все боги, а Эльдрия в особенности, рассматривают созидание как наивысшее из искусств. И поэтому каждый миг они созидают себя из вещества вселенной и вселенную – из своей вечной чудотворной памяти.
О Боже о Боже о Боже…
Бог – это память, подумал Данло, и ему открылась правда об Эльдрии, расе богов, поместивших свою память в человечество, а свое сознание – в черную дыру посередине галактики. Старшая Эдда была солона на вкус, и вселенная звучала в нем, как волна. На миг он познал все, что нужно было знать.
Потом память перешла в ревущий белый шум и рухнула, похоронив его под грузом воспоминаний. Он ничего больше не видел, ничего не слышал, ничего не чувствовал, не мог ни дышать, ни даже думать. Он сознавал, что создан из миллиарда миллиардов единиц памяти – они переливались, словно капли света, и растворялись в океане холодной, ясной, единой памяти, заложенной в глубине всех вещей. Он мог бы умереть в этой единой памяти и остаться навеки растворенным в ней. Но тут он вспомнил, что есть место, где память создается постоянно из голода, страсти и боли – целая вселенная жизни, – и понял что должен вернуться туда и рассказать Бардо с Хануманом о памяти богов.
– О Боже, о Боже, о Боже, – кричал кто-то.
Мало-помалу, как черепаха, выбирающаяся с океанской отмели на замерзший песчаный берег, он вернулся в музыкальный салон, открыл глаза и сел. Он потрогал перо в волосах, шрам над глазом, костяной мундштук флейты. Час был очень поздний, и все тридцать три свечи догорали, но ему казалось, что все здесь окутано светом. И все – паркет из осколочника, цветы, золотая урна с каллой – все материальные предметы взывали к памяти. Память заложена во всех вещах, и он невольно видел ее в волокнах своей шакухачи, и в бледных бескровных губах Ханумана, и в собственных длинных пальцах, обветренных и загоревших под солнцем ложной зимы.
Он мог бы уйти обратно в воспоминания, но Бардо опустился на колени рядом с ним и нажал ему на затылок. Сочувствующе глядя на Данло, он сказал:
– Ну, Паренек, потихоньку теперь, и не спеши высказываться.
Но Данло должен был рассказать ему о том, что вспомнил, о сущности Эдцы.
– Бардо, Бардо – выдохнул он, – оуни тло юстот!
– Что-что? Похоже на фравашийскую тарабарщину.
Данло понял, что говорит на старой мокше, и не мог сообразить, почему он вздумал и как сумел перевести Старшую Эдцу на этот язык. Древней мокше Старый Отец его никогда не учил. Он опомнился немного и прошептал:
– Слушай, Бардо, – это важно. Ничто не пропадает.
– Возможно – но что ты имеешь в виду?
– Память обо всем… заключена во всем. Математика памяти, ее бесконечности и парадоксы – это просто…
Бардо торопливо закивал, не дав ему договорить.
– Ты вспомнил Эдду ясно, да? Это мало кому удается.
Краснолицый человек, сидевший рядом, услышал это и передал какой-то хариджанке.
– Он вспомнил все ясно, – услышал Данло, и эта весть пошла гулять по всей комнате. Почти все уже пришли в себя и сидели по двое и по трое, разглядывая кристаллические стены, слушая струящуюся музыку Дебюсси или обмениваясь впечатлениями о своих воспоминаниях. Чувства Данло были обострены, и он слышал десятки разговоров сразу. Мнемонический сеанс ужаснул и смутил многих, но массовое возбуждение захватило всех. Ликование и ощущение удавшегося опыта висели в воздухе, как дурманящий дым. Многие уже считали себя инициаторами нового направления в эволюции человечества. Многие ощутили в себе новые видовые возможности, и никто не мог сказать, галлюцинация это или открытие. Данло слушал, и до него доносилось:
– …это можно описать только как неизбежность…
– …ощущение полного покоя должно быть…
– …в моем мозгу как будто огонь вспыхнул и…
– …как можно описать информацию, закодированную в свет?
– …нельзя сказать, что я что-то понял…
– …мечта, Старшая Эдда всего лишь мечта, и мы не…
– …да, да, мы могли бы стать богами, и Мэллори Рингесс…
– …если Эдда – это инструкция, как стать богами, то…
– …а потом я превратился в пульсирующий световой шар…
– …энергетическая плотность должна быть почти бесконечной…
– …и расширяться, иначе она просто схлопнется…
– …черная дыра в центре галактики, куда меня затянуло…
– …эмбриональная стадия была очень четкой, мне пришлось вернуться, но…
– …дальше транскрипции ДНК ничьи воспоминания не идут…
– …Эльдрия все закодировала в ДНК, память и…
– …бесконечные возможности, но только богу доступно…
– …вспоминать слишком долго: это все равно что опьянеть от огня…
– …обезуметь, если надолго задержаться в пространстве памяти…
– …видите, даже сын Рингесса вернулся, и…
– …его, кажется, зовут Данло ви Соли Рингесс…
– …они оба дикие, но там остается только цефик…
– …да-да, он призывал Бога, он затерялся в…
– …великое воспоминание столь же редко, как молния, бьющая дважды…
– …то же место, которое мы все пытались найти…
– …о Боже, о Боже…
Хануман поворачивался с боку на бок на своем футоне, шевеля тонкими губами. Это он кричал из глубин памяти, призывая Бога, как понял Данло теперь. Глаза его были закрыты так плотно, будто он зажмурился, и капли пота катились по щекам, оставляя дорожки на белой коже. Данло наклонился и прижал ладонь к его губам. Губы Ханумана были твердыми и горячими.
– Ш-ш-ш: ми мокаша ля, шанти, шанти, очнись, брат мой, и успокойся.
Но Хануман слишком увяз, и память не отпускала его. Бардо сказал:
– Ты лучше убери руку, а то как бы он не задохнулся. Словами его назад не вернешь. Ах ты, горе.
Томас Ран, Сурья Нал и другие подошли и стали в кружок над Данло и Хануманом. Огоньки свечей трепетали в их почтительных взорах.
– Кто вспоминает глубоко, тот вспоминает долго, – сказала Колония Мор.
– Данло тоже был глубоко и получил ясное воспоминание, – заметил Бардо.
– Оба кадета ушли уж слишком глубоко, – посетовала Сурья. – Надо как-то контролировать эксперименты, пока у нас никто еще не умер.
– Тише. – Лицо Томаса Рана было спокойно, и серебряные нити поблескивали в его одежде. – От воспоминаний никто никогда не умирал.
Сурья сморщила свое щуплое личико.
– По-моему, молодой цефик выпил слишком много каллы – а ведь его предупреждали.
– Выпей три глотка каллы, и станешь Богом, – вставил кто-то.
– Нужен контроль, – не унималась Сурья. – Я вам говорила.
– Никогда не видела, чтобы кто-то вспоминал настолько глубоко, – сказала Коления Мор, явно потрясенная. – Интересно, что при этом испытываешь?
Томас Ран, став на колени, начал массировать лицо Ханумана, но пользы это не принесло. Хануман продолжал выкрикивать с нарастающей болью, усугубляя общую тревогу:
– Все есть Бог, и я тоже Бог, о Боже, о Боже…
– Дело не только в калле – собственные воспоминания терзают его, – заявила Сурья и метнула на Данло быстрый ехидный взгляд, как бы спрашивая, отчего его друг терпит такие муки.
Хануман стиснул руки над пупком, и Данло накрыл их своей. При взгляде на кольцо озабоченных лиц ему явилась одна истина из Старшей Эдды. Мы все – пища для Бога, вспомнил он. Мы все…
– Итак, юный цефик теперь Бог, – сказала Сурья Бардо. – Мы все испытывали искушение заявить об этом, не так ли?
– Не нужно толковать чужой опыт, – ответил Бардо.
– Но Мэллори Рингесс не стал богом только оттого, что вспомнил Старшую Эдду. Потребовалось нечто большее.
Данло нащупал на запястье Ханумана пульс, частый, как у птицы, расходящийся дрожащими волнами до кончиков пальцев. А самого Ханумана захлестывает волна памяти, подумал Данло.
Закрыв глаза, он пропустил через себя собственную память.
Вселенная – это чрево, рождающее богов.
– Мы должны носить Рингесса в сердце, – продолжала Сурья, – чтобы его сострадание указывало нам дорогу – Великое знание, доступное нашей памяти, ничего не значит без сострадания, позволяющего его понять. Мэллори Рингесс всю жизнь искал любви и сострадания, и мы тоже должны обрести их, чтобы пройти его путем.
Надеро девам аркайер, вспомнилось Данло. Никто, кроме бога…
Под успокоительную музыку флейт и арф он открыл глаза и улыбнулся Сурье Лал.
– Никто, кроме бога, не может поклоняться богу, – произнес он.
– О поклонении здесь речи не было, – ответила Сурья.
– Но вы говорите о моем отце, и в каждом вашем слове слышится поклонение. Он был человеком, как все, а теперь, как говорят, стал богом. Мы действительно можем стать богами, но когда человек поклоняется чему-то, он совершает великий грех.
– Грех – следовать по пути, который Рингесс указал человечеству?
– Но ведь путей много. Сколько людей, столько путей.
– Нам известен только один путь сделаться богом, молодой пилот.
– А вы кем хотели бы стать: богом… или Богом?
Сурья, взглянув на Бардо, сказала:
– Как неоднократно повторял мой кузен, мы не собираемся создавать религию. О Боге я не знаю ничего, но знаю, что для человека бессмертие возможно. Ему доступны великая сила и бесконечный рост. Рингесс часто говорил о возможностях человечества. Бесконечные возможности.
Данло, не отнимая ладони от рук Ханумана, чувствовал, как подымается и опадает живот его друга. Этот ритм возвращал его в воспоминания, и он, глядя на искусанные в кровь губы Ханумана, думал о бесконечных возможностях. Через некоторое время он произнес с трудом, говоря то ли с Сурьей, то ли сам с собой:
– Есть возможность развить в себе… новый способ видения. Это может любой, будь то человек или бог. Еще вчера я этого не знал, но теперь знаю. То есть я всегда это знал, но сегодня, в Эдде… это новое чувство. Назовем его юген, лучшего слова не придумаешь. Юген – это способ видеть под внешним покровом сосновых игл, льда или слов всю хрупкость вселенной. В ней все хрупко – наши глаза, наше дыхание, наша математика, наши звезды. Хрупко и в то же время прочно, как алмаз, вечно. Парадоксы. Нельзя видеть что-то, не видя, что это ничто. Юген – это умение видеть связанность всех вещей. Вложенность прошлого в настоящее, «тогда» в «теперь». Материя – это память, и ДНК, и жизнь, и в каждого из нас вложена память о будущем. Увидеть то, что десять миллиардов лет ждало своего осуществления. Возможности эволюции – вы даже не представляете себе этих возможностей.
Данло, сидя с подвернутыми ногами, долго еще говорил о Старшей Эдде – вернее, рассказывал Сурье и остальным о своем знакомстве с ней. Трудно было описывать неописуемое, но многие здесь сами вспомнили Эдду, хотя и неглубоко, и понимали почти все из того, что он говорил. Наконец Бардо, встав, опустил руку на голову Данло и оглядел лица вокруг, светящиеся волнением и ожиданием.
– Данло ви Соли Рингесс осуществил великое воспоминание. Это ясно, не так ли? Возможно, его друг совершил такое же достижение. Мало кто из нас вспоминал так глубоко, как этот молодой цефик.
Хануман заговорил снова, и его слова были как холодные ножи, рассекающие покровы времени. Будущее на миг открылось Данло в каскаде образов, и эта картина пронзила его страхом и отчаянием.
– Я Бог, – бормотал Хануман. – Я Бог, мой Бог, я единственный, я тот самый, о Боже. – И после краткого молчания: – Нет, нет, нет, нет!
Данло встал и шепнул Бардо на ухо:
– Что делать?
– Не беспокойся, Паренек, все будет в порядке, – тихо ответил ему Бардо, а остальным заявил с величайшей уверенностью: – Молодой цефик не первый, кто заблудился в памяти. Я, Томас Ран и другие гиды тоже совершили глубокое путешествие. Но выход есть всегда – при необходимости мы применяем технику мнемоников. Сейчас мы поместим молодого цефика в Колодец. Пока мы возвращаем его назад, вы, пожалуйста, оставайтесь здесь и вспоминайте то, что вспомнили. Это ночь великого вспоминания, ей-богу!
Сказав это, он присел и поднял Ханумана на руки – при его силище это не составило ему труда. Хануман у него на руках казался мальчиком, хрупким и больным, страдающим памятью.
– Ран, пойдемте, пожалуйста, с нами, – попросил Бардо. Оба вожатых, поклонившись урне с каллой и людям, попрежнему стоящим вокруг Данло, унесли Ханумана в Колодец, комнату с бассейнами, наполненными целебными водами. Все другие вернулись на свои футоны. Музыка звучала теперь совсем тихо, поэтому Данло поднес к губам свою шакухачи и заиграл длинную глубокую мелодию, которой научил его Старый Отец. Он играл, и память вновь овладевала им.
Все мы – пища для Бога.
Он знал, что это – часть истины, но не мог пока сказать, насколько великим было его воспоминание. Он смотрел на сцену, на урну, поблескивающую золотом поверх черного лакированного столика, и обещал себе, что, когда его снова позовут на мнемоническую церемонию, он снова выпьет три глотка каллы.
Глава XIX КУКЛЫ
Сознание, задумываясь о собственной природе, неизбежно впадает в бесконечный регресс. На конце этой спирали, ведущей в никуда, находится Бог – или ад.
Ад был создан, когда Бог дал людям власть видеть себя такими, как они есть.
Хорти Хостхох, «Реквием по хомо сапиенс»Данло снова увиделся с Хануманом только через двое суток. Как и предсказывала Тамара, после ночи воспоминаний Данло захотелось одиночества, и он избегая разговоров с людьми. Днем и ночью он раскатывал на коньках по улицам, или заходил в кафе и в одиночку пил шоколад, или сидел на холодных скалах Северного Берега и смотрел, как разбиваются волны о ледяную кромку. Он совсем обессилел, но спать не мог, да и не хотел по-настоящему. Память о Старшей Эдде была слишком свежа, и он все это время оставался в диком, открытом состоянии разума. Часто он предавался воспоминаниям. Гул памяти, словно отзвуки землетрясения, колеблющие город, все еще звучал в нем и не спешил утихать. Он пытался разобраться в этой памяти, как-то объяснить ее себе самому. В конце концов вечером 90-го дня он вернулся в дом Бардо. Привратник впустил его, хотя у него не было приглашения. Поздоровавшись с многочисленными гостями (Бардо, видимо, очень гордился его достижением и хотел представить его всем своим друзьям), Данло извинился и прошел в северное крыло. Там, в роскошной комнате, пахнущей фравашийскими коврами, ароматическими скульптурами и живыми цветами, Хануман поправлялся после своего мнемонического опыта.
– Хану, Хану.
Хануман сидел в громадном кресле, обитом тюленьей кожей, перед горящим камином – совершенно голый, даже белья на нем не было. Он тоже выглядел так, словно глаз не сомкнул после сеанса. Его красивые волосы висели нечесаными сальными прядями, и местами сквозь них просвечивала белая кожа. Он повернулся и посмотрел на Данло так, словно не видел его. Его глаза, обычно бесцветные и холодные, напоминали озера бледно-голубого огня. Казалось, что он смотрит в себя – или сквозь себя, в место, где нет ничего, кроме беспросветного мрака и боли. Данло он виделся затравленным и несчастным, как человек, которому вернули молодость на один раз больше, чем следовало. Незнакомец, увидевший Ханумана впервые, мог бы подумать, что ему тысяча лет.
– Я рад, что ты пришел, – сказал Хануман.
Данло заметил тогда, что он держит в руке черную кристальную сферу величиной с яйцо талло… Хануман переложил ее из левой руки в правую, как камень сатори, который приверженцы дзаншина используют для укрепления рук.
– Ты как, в порядке? – спросил Данло.
– Как видишь.
– Значит, тебе удалось выбраться… из памяти? – Данло став за креслом Ханумана, потрогал его лоб, горячий и влажный. Все тело Ханумана словно корчилось на каком-то внутреннем огне.
– Не будем лучше говорить об этом.
– Я боялся… что калла увлекла тебя слишком глубоко.
– Калла, – с горечью и отчаянием произнес Хануман. – Выпей три глотка и станешь Богом. Могла ли быть более вопиющая ложь во всем, что нам говорили?
– Мне калла кажется благословенным напитком.
– Возможно, так оно и есть – для тебя.
Данло потер глаза.
– Сурья Лал сказала, что калла чуть не отравила тебя. Что три глотка – слишком большая для человека доза.
– Калла – это окно, ничего более. Только смотреть в него слишком долго нельзя – это обжигает глаза и отравляет душу.
– Все говорят, что ты получил великое воспоминание.
Хануман помолчал и ответил на свой скрытный манер:
– Я видел то, что видел, и вспомнил то, что вспомнил.
– А видел ли ты… взаимосвязанность всех экологии? Понял ли, как каждый кварк, каждая клетка, каждый организм и даже боги существуют одно в другом, и экологии распространяются через…
– Я видел слишком много, Данло.
– Правда? Разве это возможно – видеть слишком много?
– Я видел слишком ясно.
– Единая память. Видеть ее мерцание, ее связанность с материей, с нашим сознанием, с нами. Последние двое суток я только и пытаюсь удержать ее во всей ясности.
– Я рад, что ты вынес из воспоминаний столько восторга, – с быстрой улыбкой сказал Хануман. – Никогда еще не видел тебя таким счастливым.
– А я никогда еще не видел… столько возможностей.
И Данло стал рассказывать Хануману о возможностях и эволюции жизни во вселенной. Он говорил, что люди свободны вырасти в богов или остаться во всем блеске человеческой славы, впервые став людьми по-настоящему. Как запомнилось Данло из Старшей Эдды, истинная человечность – не трагедия и не рок, от которого надо бежать, а скорее чудесная, золотая, никогда не осознанная прежде возможность, которую каждый человек способен сотворить для себя. Он говорил долго, ожидая какого-нибудь отклика или комментария от Ханумана, но тот все так же сидел, вертя в руках свой черный шар, молчаливый и загадочный, как цефик.
Потом он взглянул Данло в глаза и сказал:
– Нет. – Он произнес это единственное слово очень весомо и снова ушел в молчание, как черепаха в свой панцирь.
– Что «нет»?
Хануман, с силой оттолкнувшись, встал и начал расхаживать по ковру перед камином. Мускулы на его бледных бедрах дрожали, как струны арфы, и все тело подергивалось от изнеможения. Данло подумал, что Хануман, наверно, мечется так уже двое суток. Хануман не обращал внимания на свою наготу и даже рисовался ею, словно хотел, чтобы весь мир видел его таким, как есть. На миг он протянул руки к огню, чтобы согреться, и красный свет упал на его твердое блестящее тело, на его белую кожу. Еще мгновение – и он повернулся к Данло, словно древнее металлическое изделие, только что вышедшее из огня. Данло видел, что он изменился, что пламя воспоминания наконец сплавило воедино его волю и его чувство судьбы. Лицо Ханумана, его точеное тело и его заново выкованное самосознание – все сияло страшной красотой. И все же, несмотря на всю кажущуюся полноту его жизни и блеск его глаз, в нем чувствовался мрак, как будто немалая доля его души хрустнула и надломилась. Улыбнувшись Данло печально и понимающе, он сказал:
– Нет. У вселенной, а значит, и у человека, есть только одна возможность.
И он пересказал Данло часть своих воспоминаний. Это был единственный раз, когда он с кем-то говорил об этом, но его единственное открытие – то, что он вспомнил о Старшей Эдде – должно было вскоре сделать его знаменитым, а Данло принести мучительные страдания.
– В небесах идет война, – стоя перед Данло со скрещенными на груди руками, сказал Хануман. – Боги в этой галактике и во всех прочих воюют между собой. Их много, богов, очень много, даже инопланетные есть. Ты не можешь даже представить себе, сколько их. Твой отец – один из них. То есть был одним из них – кто знает, жив он еще или нет? Они убивают друг друга уже миллион лет. Вот экология, которую я видел, и в ней выживают самые свирепые и самые крупные. Бог Эде, конечно, был не первым, как учат Архитекторы. Далеко не первым. Ты говоришь, что люди могут эволюционировать в богов, но этого мало. Всегда было мало. Для безграничного роста нужны три фактора: воля, чтобы себя переделать, гений, чтобы выжить, и сила, чтобы страдать.
Он рассказал Данло о битве между двумя богами, которую те вели на краю рукава Стрельца. За 18-м скоплением Дэва, где звезды редки, как снежинки на ветру, некий воинственный бог шестьдесят тысяч лет назад уничтожил другого. Труп этого неизвестного бога – величиной с небольшую планету, как сказал Хануман – вращается вокруг красного гиганта. Хануман тихим и ровным голосом назвал фокусы этой звезды. Таким знанием, чисто математическим, мог обладать только пилот. Либо Хануман получил его от одного из пилотов Ордена, либо действительно вспомнил, как часть Старшей Эдды. Поскольку пилотам запрещено разглашать подобные сведения (и поскольку любой пилот, которому посчастливилось бы найти мертвого бога, не преминул бы сделать себе имя на этом), Данло заключил, что Хануман говорит правду. Правда была написана на лице Ханумана, правда человека, видевшего стихию слишком страшную, чтобы когда-нибудь ее забыть.
– «Ибо вот древнейшее учение, и вот мудрость», – произнес Хануман, улыбнувшись Данло. Он редко цитировал теперь из «Книги Бога», делая это только в моменты крайнего расстройства. – «Нет Бога кроме Бога; Бог един, и другого быть не может».
Больше он не стал говорить о Старшей Эдде. Он вообще никогда не говорил о Единой Памяти, как другие, и даже намеком не давал понять, что его посетило озарение. Но каждый, кто встречал его в последующие дни, не мог не заметить, что весь он как будто светится. Данло увидел это сразу, как только вошел в комнату. Теперь он, стоя лицом к лицу с Хануманом, искал источник этого света и пытался понять перемену, произошедшую с его другом. Он решил, что «озарение» неверное слово для спуска в самые темные глубины себя самого. Великое воспоминание Ханумана скорее казалось ему затмением, видом негативного откровения, еще больше погрузившим друга в гордыню и любовь к своей судьбе. Он мог бы описать Ханумана с его горящими глазами и сломанной душой, как полностью пробудившегося, но и это было не совсем верно.
Он пробудился наоборот, осознал вдруг Данло.
Пробуждение наоборот – это не сон, а скорее полное осознание великого «Нет». Данло видел, что Хануман, слишком полно сознающий конечный негативизм жизни, глубоко несчастен под прикрытием своего молчания и своих улыбок. Он понял в эту минуту, что у Ханумана никогда не хватит сил, чтобы так страдать. Если он не излечится от своего основного недостатка, то при дальнейшем его погружении в никуда и погоне за личной божественностью наиболее слабая его часть разверзнется, как трещина на морском льду под лучами солнца, и поглотит его.
– Еще восемь дней, и нас снова пригласят на праздник, – сказал Данло.
– Возможно.
– Калла – дикое снадобье. Дикое, как море. Заблудиться проще всего, но можно научиться… попадать, куда тебе надо.
– Ты пилот, а я нет.
– Зато ты цефик.
– Цефик, – согласился Хануман, глядя в пространство.
– Цефики владеют тайнами сознания, верно?
– В самом деле? – проронил Хануман, глядя на шар у себя в руке.
– Калла – благословенный наркотик. Дверь, ведущая в глубины сознания.
– Ты действительно так думаешь?
– Я это видел. Правда. Я сам был… этим сознанием. Только на миг, и это было далеко от совершенства – но ведь я пил каллу только раз.
Хануман перевел взгляд на Данло, и слова хлынули из него, как лава из трещины в земле.
– Ты это видел, и спорить с тобой – напрасный труд, не так ли? Ты знаешь то, что знаешь. Но мне бы очень хотелось, чтобы ты хоть раз увидел то, что видел я. Это невозможно, я знаю, и глупо с моей стороны желать этого. У тебя есть твое благословенное сознание и больше ничего – ни страха перед уничтожением, ни паники, ни ненависти, ни отчаяния, от которого тебя выворачивает наизнанку.
Данло смотрел на Ханумана, и то самое отчаяние, о котором тот говорил, давящим комком нарастало у него в горле.
Сглотнув, он сказал:
– Но, Хану, вспомнить себя, Старшую Эдду, узнать Единую Память… ведь там все! Все случайности, весь свет, все времена, все возможности.
– Тебе хочется в это верить, но на деле это сознание, эта твоя божественная память – просто ловушка. Озеро лавы, прикрытое тонкой коркой. Ступи на него, выпив свои три глотка каллы, и ты провалишься, утонешь, сгоришь, обратишься в ничто.
– Как раз наоборот. Вспомнить себя значит снова обрести цельность. Стать полностью собой, до самой своей глубины – в этом нет ничего, кроме радости.
– Нет. Память – это огонь, и больше ничего.
– Да нет же, память – это…
– Данло, послушай меня! – Все мускулы в теле Ханумана подергивались и напрягались разом. Казалось, что жизнь так и бурлит в нем. Впервые после своего знакомства с Данло он, как ни странно, перестал кашлять, но был далеко не в полном здравии. Его снедала странная, ужасная болезнь, пожиравшая его миг за мигом. Одним рывком он переместился к столику у своей кровати. Утром кто-то из домочадцев Бардо поставил там вазу с подсолнухами. Семь цветков, вытянувшись на тонких стеблях, пылали золотисто-оранжевыми лепестками. Хануман ткнул пальцем в чашечку одного из них. – Посмотри на эти великолепные цветы! Видишь ли ты то, что вижу я? Не их странность, даже не их красоту, а горение. Они жгут мне глаза. Я смотрю на них, чтобы найти солнце в этой мерзкой комнатушке без окон, и мои глаза охватывает огонь. Я вижу, как листья, отдельные клетки, молекулы хлорофилла горят, страдая по солнцу. Это память о солнце – память есть во всем. Думаешь, клетки их стеблей не помнят, как их срезали этим утром? Не содрогаются от боли, причиненной ножом? Не страдают от желания вновь соединиться с корнем? Да, они содрогаются, они помнят, они страдают. Страдает все. Кожа, которой обито это гнусное кресло, где я просидел двое суток, помнит всю боль, испытанную тюленем за свою жизнь. Воздух, исходящий из моих уст, когда я говорю эти слова, пылает. С каждым вдохом я втягиваю в себя молекулу предсмертного выдоха каждого животного и каждой птицы, когдалибо живших на этой планете. Ты должен знать, что мнемоники правы. Память обо всем заложена во всем. Все горит, и конца этому нет. Вот что такое память. Вот что такое я. И говорю я это тебе не потому, что нуждаюсь в твоем сочувствии. Это последнее, чего я хочу от тебя. Но ты всегда говорил, что хочешь видеть веши такими, как есть – и если это правда, то раскрой глаза и смотри.
Данло потрогал шрам у себя над глазом, глядя на подсолнухи, пылающие золотом в черной каменной вазе. С них его взгляд перешел на Ханумана. Вот он стоит, его лучший друг, несчастный, обреченный, дрожащий от невыразимой боли, но по-своему ликующий. Он обрел собственное пылающее прозрение, собственную уникальную связь с силами вселенной. Данло он представлялся похожим на пророка.
Хануман отошел к огню, вдохновенный, с диким взором, как будто он и только он был призван свершить нечто великое. На его грустном прекрасном лице читалось убеждение в том, что все силы эволюции от начала времен сошлись на нем, что все будущее человечества зависит от его воли, его гения, его силы.
– Помнишь тот день в роще ши? – спросил Данло. – Тогда ты говорил, что растения, животные и люди не могут чувствовать боль по-настоящему.
– Помню. Я ошибался и все же был прав. Их боль реальна. Они страдают – все сущее страдает. Но по сравнению с болью богов это ничто.
– Боль есть боль. И ты пока еще человек.
– В общем и целом это верно. Но ты думаешь, что клетки моего мозга не знают заранее, что такое беспредельный рост? Они знают, они помнят. Мой мозг горит ярче любого огня. Это пламя превосходит все краски, превосходит даже свет, и оно длится и длится без конца,
– Есть способ его потушить.
– Нет, Данло, не в этой вселенной. – Хануман поманил Данло поближе к огню, где стоял стол, низкий, квадратный, старинного стиля, за которым хорошо посидеть, наслаждаясь кофе и дружеской беседой. Его верх был сделан из какого-то прозрачного материала наподобие клария или стекла, гладкого и холодного на ощупь. Данло смотрел на этот мертвенно-серый квадрат, не представляя себе, зачем кому-то понадобилось сотворить такое уродство.
– Вся вселенная охвачена огнем, – сказал Хануман, держа над столом свою черную сферу. – Ты никогда не задумывался, что делает вселенную такой, какая она есть?
Пока он говорил это, поверхность стола осветилась, и под ней зажглись синие точки и красные гроздья каких-то амебоподобных структур. Изображение, должно быть, создавали спрятанные в столе жидкие кристаллы.
– Что это за компьютер? – спросил он.
– Собственно говоря, это вообще не компьютер, – ответил Хануман, перекладывая черный шар из руки в руку. – Просто дисплей.
– И что он демонстрирует?
Хануман зажал шар в руке, пристально глядя на него.
– Кукол, – сказал он наконец. – Он показывает кукол. Ты когда-нибудь видел их раньше?
– Только слышал о них. Это форма искусственной жизни, информационные структуры, да? Говорят, будто компьютеры способны оживлять информацию.
– В каком-то смысле информация и есть жизнь. А компьютер – вселенная, в которой она обитает.
– Какой компьютер?
– Вот этот.
И Хануман поднес к огню свой черный шар, всматриваясь в него, как астроном, заглядывающий в самое сердце вселенной. Это, как он объяснил, был компьютер особого рода – из тех, что изготавливают цефики. Кремниевые нейросхемы, расположенные в его пятнадцати кубических дюймах, имели полное сходство со структурой огневита и, как всякий качественный огневит, могли генерировать информационное поле почти бесконечной плотности. Хануман сказал, что это его вселенский компьютер, содержащий полный комплект информационных экологии жизни.
– Дисплей покажет тебе эту жизнь. Хочешь посмотреть, что происходит внутри компьютера?
На поверхности стола вспыхнули огоньки – миллионы огоньков, мерцающих хаотическими красками: бордовые, сапфировые, фиолетовые, зеленые, ядовито-красные, розовые, алые, индиговые, аквамариновые и так далее. Каждый из них представлял определенный фрагмент информации, хранящейся во вселенском компьютере. Огоньки – вернее, представленная ими информация – были чем-то вроде искусственных атомов, каждый со своей уникальной программой. Все эти элементарные информационные структуры существовали в кибернетическом пространстве, называемом цефиками алам аль-митраль. Это пространство, где образы реальны, расположенное на полпути между реальностью и идеальным миром Платона. Мудрейший Авиценна со Старой Земли еще за тысячу лет до появления первых компьютеров отвел области существования место на полпути между материей и духом. Цефики на протяжении тысячелетий вкладывали всю свою изобретательность в то, чтобы создать такую область, а кибершаманы утверждали, что это им удалось. Многие из них обладали такими же черными сферами, как у Ханумана.
Все они создавали и программировали собственные уникальные информационные атомы, стремясь сотворить жизнь из чистой информации.
– Это уже десятая вселенная, сконструированная мной, – сказал Хануман. – Сотворение вселенных – самое захватывающее из всего, что я делал в жизни.
По сути дела, его вселенная не представляла собой какое-то завершенное произведение, как ограненный алмаз или вытканный до конца ковер. Хануман создавал только информационные атомы и правила их взаимодействия с окружающей средой и друг с другом. Все специалисты, занимавшиеся искусственной жизнью, экспериментировали каждый по-своему. Некоторые формировали свои вселенные по мере их эволюции, постоянно вводя новые программы и выбраковывая разные виды информационной жизни. Однако кибершаманы считали такое вмешательство неизящным и поверхностным методом. Хануман в своей десятой вселенной создал ровно сто восемьдесят семь информационных фигур и запрограммировал двадцать три закона, регламентирующих их комбинации. Он сделал это пять часов назад, и все это время его компьютер работал. Продолжал он работать и теперь, когда Хануман вглядывался в его середину.
– Зачем тебе эта игра? – спросил Данло. – Зачем играть в нее… именно сейчас?
– По-твоему, это игра?
– Ты строишь модели вселенной, да? Модели разных вселенных, раскрывающие возможности нашей.
– О нашей вселенной я уже знаю все, Данло.
– Но эволюция…
– Единственная эволюция, которая теперь имеет значение, – это та, которой мы можем управлять.
– Например, эволюция кукол?
– Разумеется. Показать тебе, как она происходит?
– Если хочешь.
Данло сцепил руки за спиной, вглядываясь в поверхность стола. Облако цветных огней стало несколько менее хаотичным. Красные точки с почти неуловимой для глаза скоростью вращались вокруг зеленых, аквамариновые вспышки смешивались с багровыми. Путем таких комбинаций сто восемьдесят семь оттенков света создавали тысячи самых разных информационных молекул, которые превращались в тысячи тысяч. Под стеклом возникали информационные узоры, обладающие почти геометрической точностью. Вибрируя, они перестраивались в новые конструкции, или росли, поглощая друг друга, или уничтожались, рассыпаясь фонтанами золота и пурпура. Произведенным ими светом питались другие молекулы, и все эти процессы происходили с такой быстротой, что Данло не смел глазом моргнуть, боясь упустить какую-то деталь общего узора, который постепенно начинал вырисовываться.
– Лошиша шона, – прошептал он. – Эти огни прекрасны.
Они действительно были прекрасны, как и возникающий из хаоса порядок. Никто бы не смог предсказать, каким этот порядок будет. Даже в теории невозможно было вычислить, какие еще формы разовьются в пространстве алам аль-митраль Хануманова компьютера.
– Эта программа работает в течение пяти часов. Молекулы, которые ты видишь, эволюционировали за первые пять наносекунд.
– Значит, теперь программа ушла далеко вперед?
– Далеко вперед.
– Сколько она еще будет работать? Каких кукол ты намерен создать?
– Я создал уже девять вселенных, но ни одну не довел до момента остановки. Было бы неизящно искать для жизни какое-то решение или какую-то высшую, совершенную форму.
– Понимаю, – кивнул Данло, думая о том, насколько честен Хануман сам с собой.
– Динамика искусственной жизни – вот в чем вся прелесть. В том, чтобы создать информационные атомы и столь совершенные вселенские законы, чтобы во вселенной все происходило красиво и гладко. Не выношу уродства.
Данло смотрел, как информационные молекулы комбинируются в длинные цепи, а цепи сплетаются в сверкающие мембраны. Мембраны вскоре разрослись и свернулись в глобулы, напоминающие органические клетки, только материалом для них служили не белки, липиды и РНК, а свет, закодированная в свет информация. Каждая информационная клетка была как крохотный драгоценный камень, сверкающий миллионами световых точек. На глазах у Данло клетки сливались в одно целое, поражающее богатством и переливами красок. Он оглянулся и увидел, что Хануман тоже смотрит.
– Вся прелесть в том, что творца способно поразить его собственное творение, – сказал Данло.
Вечерело, и огонь в камине догорал, а Хануман все показывал Данло, как его создания эволюционируют в кукол. Чтобы свести пятичасовую эволюцию к нескольким мгновениям, он увеличил скорость на дисплее. Данло смотрел, как клетки, сливаясь воедино, обмениваются искрами информации и образуют новые формы, наблюдал возникновение простейших информационных организмов, которые Хануман в шутку называл инфузориями. Из этих сверкающих структур развились затем новые царства искусственной жизни. Хануман классифицировал ее по мере появления новых видов, классов и порядков, никогда еще не существовавших ни в одном кибернетическом пространстве. На нескольких квадратных футах стола-дисплея показывалась лишь крошечная стадия этой эволюции, но краски тем не менее кипели и дробились, создавая огромное разнообразие видов. Эти виды то мутировали ежесекундно и переходили в новые, то оставались стабильными на пару секунд и заполняли целые секции дисплея однообразной жизнью, которую Хануман называл синусией. Но движение, мутация и обмен информацией не прекращались никогда, новые формы возникали, а старые рушились. Серии экологических сообществ сменяли одна другую так быстро, что Данло не успевал удержать их в уме. Эти серии становились все более сложными и красивыми, Последняя, развившаяся в компьютере всего час назад, изобиловала красивыми фигурами, словно изваянными из серебристого света. Они держались вместе, постоянно и внезапно меняя направление, словно косяк рыбы.
Порой они толкались, борясь за жизненное пространство, порой вибрировали, рассылая волны информационных молекул, и тогда становились очень похожими на стадо ревущих серебристых тюленей. Хануман сказал, что это и есть куклы и что скоро они станут разумными, как люди.
– Вот увидишь, – говорил он Данло, – у них очень сложная социальная структура. Они строят что-то вроде городов – это можно назвать информационными аркологиями. Что еще важнее, они производят оружие и воюют. Может ли быть более зловещий признак того, что они обладают интеллектом?
– Но как можно… называть этих кукол разумными? – спросил Данло, не отрывая глаз от дисплея. – Это просто информационные конструкты, руководимые программами. Отдельная информационная частица не имеет выбора во взаимодействии с другими. Так же обстоит дело с клетками и скоплениями клеток. А ведь каждый организм строится из этих частиц, да? Каждый организм, каждая кукла и то, что они делают, – все обусловлено написанными тобой программами. Разве могут они иметь волю? Или разум? Разве могут такие существа быть по-настоящему живыми?
– Твои вопросы слишком поверхностны. Более глубокий звучит так: с чего мы-то взяли, что у нас есть воля? Почему мы кажемся живыми?
– Но, Хану, мы и есть живые.
– Неужели?
– Да!
– Разве мы не созданы из атомов материи? Частиц углерода и кислорода, которые комбинируются согласно вселенским законам? Разве эти законы не запрограммированы в самую ткань нашей вселенной? И если это так, если каждый нейрон в наших великолепных диких мозгах действует исключительно по химическим законам, почему ты думаешь, что у нас вообще есть какая-то воля?
– Но нашу волю… наше сознание нельзя свести к простой работе нейронов. Мышление наших клеток нельзя свести к химии. Нельзя понять разум, сводя его до уровня материи – до взаимодействия все более и более мелких частиц материи. Я считаю, что мельчайшей частицы вообще не существует. Если материю можно делить бесконечно, значит, она вообще неделима. В том смысле, что никакая степень ее деления не может объяснить сознания.
Хануман, глядя на свой черный шар, спросил:
– Но что такое сознание, Данло?
Данло, помолчав немного, ответил: – Сознание – это не что-то. Оно просто есть. Оно то, что оно есть, и больше ничего.
– А что такое материя?
В углу комнаты над Данло висела большая паутина на редкость сложного плетения. При свете камина она вся переливалась золотом. Как сумел обыкновенный паук соткать такое великолепие? Задумавшись об этом, Данло пережил заново часть своего великого воспоминания. Глядя на паутину, он вновь увидел этот образ из Старшей Эдды «Материя – это память». Не скопище частей, сложенных из еще более мелких, безжизненных частиц, а скорее направленный поток чего-то, что он мог определить только как разумное вещество. «Материя – это разум», – вспомнил он и сказал это Хануману, продолжая смотреть на произведение, созданное искусством какого-то невидимого паука.
– Ну а разум что такое? – спросил Хануман. – Наш спор все время движется по кругу.
– Как же иначе? – улыбнулся Данло. – Разве размышлять о сознании не значит уподобиться змее, глотающей собственный хвост?
Их разговор перешел на цефическую теорию круговой редукции сознания. Согласно ей, человеческий разум можно объяснить путем нейроанализа, а нейроанализ – посредством мозговой химии. Химия мозга, в свою очередь, сводится к простой химии, а та в конечном счете – к чистой квантовой механике. Квантовая механика на протяжении тысячелетий с большой точностью описывала взаимодействие мельчайших частиц поддающейся наблюдению материи, но так и не смогла объяснить, откуда эти частицы взялись. Отдельные механики и по сей день не оставили попытки объяснить материю в терминах самой материи, но большинство отказалось от этого направления как от безнадежного. (Механики Невернеса всю физику сводили к чистой математике. Можно было подумать, что они оттачивают свои уравнения до остроты боевых клинков, чтобы рассечь ими покровы Платонова пространства – а уж тогда все доступные восприятию частицы материи посыплются оттуда, как золотые яйца. В этом заблуждении космического масштаба они находились ближе к истине, чем сами могли предположить.) Цефики же во времена Джоната Чу предложили радикальный метод объяснения материи в терминах сознания, вместо того чтобы объявлять сознание свойством высокоразвитых форм материи. Согласно лорду Чу, чистое сознание – это и есть то вещество, из которого создается реальность. Оно лежит в основе всей материи, всей энергии, всего пространства-времени. Оно постоянно движется и в то же время находится в покое, оно не имеет формы, как вода, однако вмещает в себя возможности всего сущего. Лорд Чу изобрел физику сознания и попытался показать математически, как чистое сознание дифференцируется во все частицы и части, вселенной. Со временем пресловутая волновая теория Чу была признана неадекватной и несостоятельной, но Джонату Чу почти удалось замкнуть круг, сведя человеческое сознание к чистому вселенскому сознанию, которое является тем, чем оно есть, и ничем более.
– Мне кажется, у тебя есть своя теория сознания, – сказал Данло.
– У каждого цефика есть своя теория.
– Да, но я слышал, что ты внес исправления в волновую теорию… в качестве своей дипломной работы.
– Кто тебе сказал?
Данло пожал плечами.
– У меня много друзей, Хану, и они не в силах умолчать о твоих достижениях.
– Да что я такого сделал? – Хануман снова принялся расхаживать взад-вперед. – Я просто отказался от этой концепции сознания. Что можем мы сказать о чистом сознании? Оно ни то и ни се, оно движется, оно не движется, оно неопределимо, неизмеримо, парадоксально. В каком-то смысле нельзя даже утверждать, что оно существует.
– Но ты-то существуешь. Мы все существуем и знаем, что существуем.
– Возможно.
– Все там, в Старшей Эдде, в Единой Памяти, которая у всех нас идентична. И то, как сознание становится…
– Ты ведь знаешь, что я Старшую Эдду помню иначе.
– Но на самом глубоком уровне все различия исчезают, и память становится вселенской.
– Каждый сам творит свою вселенную, Данло.
Данло потрогал перо у себя в волосах и посмотрел на черный шар Ханумана.
– По-моему, ты слишком сильно привязан к своей личной вселенной.
– Значит, к этому миру я должен быть привязан еще сильнее? К этой затвердевшей субстанции, летящей к своему уничтожению? К уродству, гниению и распаду? Нет, его я любить не могу. В нем слишком много боли. И зла. Ты же видел, как умирают дети хибакуся. Ты говоришь, что через боль человек сознает жизнь, но нет. Боль – это насмешка над жизнью. Жизнь в той уродливой оболочке, в которую мы загнаны, – это сплошное мучение, горение в негасимом огне. Что же горит в нем? Мы? Что мы, в сущности, такое? Мы чистый огонь, а огонь хоть и горит, но не сжигает сам себя. В стенах моей плоти горит пламя – назови его руководством, программой или душой, не важно. Я не есть материя. Не могу тебе выразить, как мне противен этот ущербный розовый материал, никогда не перестающий гореть. – Хануман оттянул кожу на тыльной стороне своей красиво вылепленной руки и тряхнул кисть так, что костяшки едва не задребезжали. – Как могу я любить эту плоть, эти кости, эти элементы, которые держат взаперти мое истинное «я»? Ты говоришь, что материя – это разум. Нет, материя – это страдание, это изменчивость и распад. Пока мы привязаны к материи, мы распадаемся либо медленно, атом за атомом, либо быстро, от болезни, но в конце концов распадаемся все. А дальше – только смерть и уничтожение. Огонь гаснет. Память обо всех светлых чувствах, которые мы испытывали, о друзьях, которых мы любили, стирается. Вот почему я должен найти путь освободить огонь из плоти. Человеку свойственно стремиться к побегу. Мы все желаем этого. Не будем забывать, как ты достиг своего благословенного воспоминания.
Выслушав эту маленькую речь, Данло склонил голову в память племени деваки, вымершего от болезни, потрогал шрам у себя над глазом и сказал:
– Да, страдания хотят избежать все, это верно. Но этот твой кукольный мир, Хану, эта твоя новая страсть – бегство от материальной реальности, а воспоминания – бегство в нее.
– Не вижу разницы.
– Но ведь она огромна. Это разница между реальным и нереальным.
– Пристало ли цефику слушать пилота, рассуждающего о природе реальности? – холодно произнес Хануман.
– Я не собирался этого делать. – Данло постучал по стеклу, под которым светились куклы Ханумана. – Я только хотел указать разницу между реальной жизнью и ее имитацией.
– Понятно. Кому это под силу, как не пилоту.
– Жизнь нельзя сотворить… из информационных частиц.
– А вот тут ты ошибаешься. Информация – самое реальное из всего существующего. Чистая информация – вот основа всего.
Хануман расставил ноги на паркете в защитной позе мастера дзаншина, неестественно расслабившийся и в то же время собранный. Стоя так в оранжевом свете гаснущего огня, он рассказал Данло о своем вкладе в теорию круговой редукции сознания. Он признался, что о сознании не знает ничего, зато о разуме – почти все. Любой разум, сказал он, и любой вид материи можно рассматривать как упорядоченную особым образом информацию. Особенно верно это по отношению к жизни, к логической форме, которая лежит в основе всей жизни. Логическая форма любого живого существа, заявил он, может быть отделена от элементов материальной реальности. Сознание жизни и себя как мыслящего существа – принадлежность этой логической формы, а не материи. Разум человека – не что иное, как собрание чистых, изящных схем, которые можно закодировать в программы, а следовательно, и хранить в кибернетических пространствах компьютера.
Внезапное возвращение Ханумана к философии кибернетического гностицизма – вере в то, что материя есть зло и что разум или душа могут быть избавлены от плоти и навеки обрести блаженство в неком кибернетическом раю – огорошило и встревожило Данло. Когда они оба отправились на вечер к Бардо, ему казалось, что он отчасти понимает, почему Ханумана влечет к рингизму: ведь это было откровенной ересью по отношению к доктринам Вселенской Кибернетической Церкви.
Хануман любил играть в еретика так же, как любил играть в шахматы. Он обожал издеваться над святынями веры, в которой был воспитан. В эдеизме он ненавидел все, а в особенности тот легкий машинный экстаз, которым вознаграждают Архитектора, очистив его мозг от негативных программ. Он ненавидел эту прогнившую старую религию и потому собирался стать пророком новой. Он стоял, держа в руках свой шар из нейросхем, с пустым взором, как будто испуганный собственными словами. Неужели Хануман действительно верит, что разум можно закодировать в компьютерную программу?
Данло не хотелось думать, что Хануман способен лгать, как червячник, продающий мертвый огневит. Слушая рассуждения Ханумана о куклах и усовершенствовании жизни, Данло был поражен мраком, заключенным в его словах. Он лишь очень смутно мог предугадать то, что станет очевидно для историков тысячу лет спустя: гений Ханумана как человека и цефика состоял в том, чтобы насытить рингизм идеями кибернетического гностицизма, внедрить в него компьютерный экстаз и таким образом положить начало новой, взрывной вселенской религии.
Глядя на прекрасных кукол, созданных Хануманом, Данло провел пальцем по перу в волосах. Этот легкий скребущий звук нарушил полную тишину в комнате. Подойдя поближе к Хануману, Данло сказал:
– С годами ты делаешься все более жестоким. Жестоким к самому себе.
– Возможно. Но если это так, жестоко с твоей стороны напоминать мне об этом.
– Прости. – Данло потупился, устыдившись своей откровенности.
– Если я и жесток, то не более, чем тот уродливый мир, в котором я родился.
– Мир есть мир. Вселенная…
– Вселенная движется к уничтожению. Если хочешь узнать будущее вселенной, вспомни об Экстре. О шаре в тысячу световых лет, где звезды взорваны и планеты мертвы. Пыль и распад. Подумай об этом, глядя ночью в окно.
Данло прижал пальцы ко лбу.
– А ты когда-нибудь стоял, Хану, на льду моря перед восходом лун? Когда вокруг только звезды и лед? Почему это все так прекрасно?
– Прекрасно? А сколько раз ты заявлял, что этот мир – шайда?
– Это верно, мир полон шайды.
– Почему ты тогда так слепо соглашаешься с ним?
– Ты думаешь, я слеп по отношению к миру?
– Твое стремление стать асарией – это путь слепца.
– Но ведь должен быть какой-то способ преодолеть шайду. Жить, даже если это ведет к смертельному исходу.
– Жить? – вскричал Хануман. Указав на шрам над глазом Данло, он ударил себя обеими руками в грудь и воздел их отчаянным жестом. – И это ты называешь жизнью?
– Что делать. Другой у нас не будет.
– Философия слепца.
– Да и быть не могло. За все те триллионы раз, когда во вселенной рождалась жизнь, ты мог родиться только тогда, когда родился.
– Зачем кому-то вообще надо рождаться?
– Не знаю. Но, несмотря на шайду, есть что-то чудесное в том, как вселенная…
– Нет. Наша вселенная порочна. – Хануман потер покрасневшие от бессонницы глаза. – Непоправимо порочна. Всюду, куда ни посмотри, болезнь, обман и отчаяние. Они везде, во всех элементах этого мироздания, в неизменных законах природы. Кто создал эти элементы? Кто написал эти законы? Бог? Глупо верить в Бога, но еще глупее игнорировать его труды. Если Бог и был когда-нибудь, он, должно быть, создавал все это безобразие спьяну. Да нет, я еще слишком добр. Взглянем на вселенную, как она есть. Что это за беспредельная звездная машина, перемалывающая нас, пока мы не пустим кровь и не умрем? Просто компьютер, построенный из материи и программируемый вселенскими законами. Вселенная перерабатывает следствия этих законов. Для чего? Чтобы сделать нашу жизнь чудесной? Нет. Нет, нет и нет. Вселенная запрограммирована, чтобы получить ответ на некий великий вопрос. Великий Программист должен получить этот ответ. Что же это за вопрос, спросишь ты? Глупый и жестокий, больше приличествующий математику или торговцу, а именно: сколько? Это единственный вопрос, который задает вселенная, и каждый раз, когда умирает ребенок от радиации или старик выживает из ума, забывая имя своей жены и даже ее лицо, вселенная все ближе и ближе к ответу. Сколько, Данло? Сколько страданий и уродства должен увидеть человек, прежде чем сойти с ума? Прежде чем кинуться на толпу в Хофгартене с пеной у рта, с лазером или ножом? Сколько безумия может выдержать цивилизация, прежде чем начнет взрывать звезды? Бог хочет знать. Не заблуждайся на его счет. Бог жесток целиком и полностью, и вселенная, созданная им, – это ад. Бог хочет знать, сколько ада можем вынести мы, ибо адский огонь, пожирающий Его самого, бесконечен, и невыносим, и никогда не гаснет. Бог истязает свои создания в надежде, что мы сравняемся в страдании с ним и этим облегчим его одиночество и его боль.
Данло подошел к вазе с подсолнухами, посмотрел на них и сказал:
– А ты сидишь здесь один и играешь в куклы? Почему, Хану?
Хануман, вертя в руках черный шар, ответил:
– Если бы я мог построить достаточно большой компьютер и написать достаточно гибкие, изящные программы, то было бы возможно создать совершенную мета-жизнь. Я в это верю. Жизнь без войн, без смерти, без горечи, без отчаяния, даже без боли.
– Ты правда веришь, что это возможно?
Хануман улыбнулся и ответил тихо:
– Должно быть возможно.
Он говорил с такой искренностью и редкой для него откровенностью, что Данло не мог на него смотреть. Голова у Данло разболелась, глаза жгло, и он не мог больше выносить страшной надежды, написанной на лице Ханумана. Устремив взгляд на красные прогоревшие поленья в камине, он после долгого молчания спросил:
– А как же ты?
– Пусть это тебя не беспокоит.
– Даже если ты достигнешь того, чего хочешь достичь, что будет с тобой? Огонь внутри – он ведь никуда не денется, верно?
– Думаю, что нет.
– Но ведь есть способ потушить его, Хану.
– Нет. Ты не понимаешь.
– В воспоминаниях…
– Нет, нет.
– Благословенная калла – словно океан, способный угасить любое пламя.
– Ох, Данло, нет, нет, нет.
– Единая память – мы только начали видеть ее.
– Ты еще слеп во многом.
В этих словах Ханумана содержалась не одна только горечь – Данло почувствовал себя так, будто змея плюнула ядом ему в глаза. У него выступили слезы, и он поднес руку ко лбу.
– Может быть. Но друг не должен говорить такое другу.
– Друг не должен толкать друга в морскую пучину.
– Даже если тот охвачен огнем и обезумел?
Голова Ханумана гневно дернулась.
– Я уже говорил, что наш спор движется по кругу. Оставь меня в покое. Ступай к своей шлюхе, пей свою каллу и плавай в своей единой памяти – мне дела нет.
Ни разу еще с тех пор, как они чуть не убили друг друга в горячем бассейне Дома Погибели, между ними не вставала такая злоба.
– Ты больше не будешь ходить на церемонии? – только и сумел выговорить Данло.
Хануман молча смотрел на него, как бы спрашивая: «А ты?»
– Путь больше не интересует тебя? – настаивал Данло.
Он думал, что Хануман снова промолчит, но тот после недолгого размышления ответил:
– Напротив, очень интересует. Когда-нибудь мы еще поговорим об этом, но не теперь. Пожалуйста, оставь меня – я не могу больше говорить.
После долгого неловкого молчания Данло попрощался, а Хануман подложил в камин три полена. Вскоре огонь разгорелся, стреляя красно-оранжевыми языками. Хануман стоял близко к огню, он отвернулся от Данло и смотрел на мерцающую черную сферу. Так Данло и оставил его, совершенно нагого, созерцающего, как отражается пламя в его вселенском компьютере, наедине с его куклами. Данло был слишком опечален, чтобы предугадать, что их общее близкое, даже очень близкое будущее будет непосредственно связано с Путем Рингесса.
Глава XX РАЗГОВОР
Кто, имея глаза, может видеть невидимое?
Кто, имея руки, может осязать неосязаемое?
Кто, имея уши, может слышать неслышимое?
Кто, имея уста, может сказать то, чего сказать нельзя?
Из медитаций Джина ДзенимурыНовые религии всегда разрастаются непредвиденным для их основателей образом – это исторический факт. Религии, чтобы выжить, должны как-то приспособиться к политическим и экологическим структурам, которые их питают; должны организоваться вокруг доктрины, законов и ритуалов этого священного ядра, которое не должно противоречить личным понятиям верующих о бесконечном; но прежде всего – культы, которым суждено стать вселенскими, должны контролировать и направлять духовную энергию человечества. Религия, не делающая этого, рискует нажить себе смертельных врагов среди правителей и устроителей других религий – а если этого не произойдет, бесконтрольная страсть пожрет ее изнутри.
Такой контроль – дело деликатное и в конечном счете всегда терпит крах. Большинство культов позволяют священному огню полыхать свободно и тем обрекают себя на самосожжение через несколько лет; они, как сверхновые, в самый период своего взрыва блистают разоблаченными иллюзиями, экстатическими видениями, мегаломаниями и загубленными жизнями. Другие религии с самого начала глушат наиболее естественные и возвышающие человеческие порывы; Бога они подменяют теорией и потому из религии превращаются в философию или науку. Такие религии, как эдеизм, достигающие полного расцвета и заражающие массы своей верой, рождаются редко. Но религиям, как и всему сущему, свойственно стареть. Доктрины, призванные вести людей к глубочайшим истинам вселенной, превращаются в словесные преграды, отделяющие одно общество от другого, мужчин от женщин, человека от самой святой части его естества. Видения перерождаются в кредо; вера сводится к обрядности; экстаз и мистический союз с божеством сменяются благочестием. Со временем сердце каждой религии обрастает отложениями и останавливается.
Поэтому искатели божественного начала всегда обращаются к новым пророкам и новым движениям, не сознавая того, что любая религия в конечном итоге отделяет человека от Бога.
Данло в своем стремлении разгадать, отчего вселенная впала в шайду, давно уже постиг эту присущую всем религиям иронию. Но до того, как связать свою судьбу с рингизмом, как стало называться это движение, он только играл в религию, переходя от церкви к церкви, от ритуала к ритуалу с легкостью перемещения на коньках из одного квартала Города в другой. Никакие доктрины и каноны не мешали ему разглядеть чистое священное ядро той или иной религии. И вот в один из вечеров ранней зимы, когда первый снегопад этого времени года укрыл Невернес сверкающей белизной, он отправился на свой второй праздник в доме Бардо. Он пошел туда один. Хануман все так же жил у Бардо на положении гостя, никуда не выходя и оправляясь от своего великого воспоминания (и попрежнему играя в куклы), а Тамара Десятая Ашторет, любившая вечера у Бардо почти так же, как любовные игры, в этот день была занята. Данло снова вошел в музыкальный салон, где услышал старинную музыку и вдохнул извечные ароматы, но на этот раз путь в глубины Старшей Эдды оказался закрыт для него. Калла послужила ему окном в великое воспоминание, и он поклялся при следующем своем путешествии в себя снова выпить три глотка. Но теперь, когда он занял свое место в кругу, ожидая голубой чаши, ему не позволили пить из нее бесконтрольно.
– Нам пришлось внести изменения в нашу церемонию, – объявил Бардо, стоя в середине круга вместе с Томасом Раном, который держал чашу с каллой, как невероятно тяжелый груз. Глядя прямо на Данло, он продолжил: – Как справедливо замечает моя кузина Сурья Лал, калла – слишком мощный наркотик, чтобы хлестать его, как пиво. Поэтому мы кое-что изменили.
В руке Бардо держал серебряный мерный стаканчик вроде тех, которыми бармены отпускают жидкий тоалач. Вроде, но не совсем такой: Бардо заказал его у ювелира на Алмазной улице, и это было настоящее произведение искусства. Поверхность стакана усеивали крошечные бриллиантики, а деления внутри обозначались тонкими золотыми ободками. Всего делений, включая обод на самом краю стакана, было три. Бардо опустил свой сосуд в чашу, которую держал Томас Ран, и наполнил его на две трети.
– Здесь ровно два глотка, – сказал он. – Выпей два глотка, и увидишь Бога.
Он подошел к Сурье Лал, которая опустилась на колени и раскрыла рот, как птенец. Конвульсивно проглотив содержимое стакана, она почтительно склонила голову. Бардо двинулся дальше по кругу, поднося каллу другим коленопреклоненным искателям. «Летите далеко, погружайтесь глубоко», – говорил он при этом.
В этот раз Данло снова вспомнил Старшую Эдду, зайдя дальше и глубже всех остальных, но не так глубоко, как ему бы хотелось. Он утвердился в своем звании гордости и украшения кружка Бардо, но растущая слава не манила его. Он был молодой кадет, дикий и отчаянный, и, как все молодые, терпеть не мог преклонять перед кем-то колени.
– Зря вы ввели эти изменения, – сказал он Бардо несколько вечеров спустя. Данло встретился с ним в обсерватории на верхушке центральной башни дома. Все помещение покрывал клариевый купол. Здесь было холодно, но тихо и уединенно, а в ясные ночи отсюда открывался красивый вид на огни Старого Города. – Калла – благословенный напиток, и не годится нам вымаливать на коленях эту пару глотков.
Данло настаивал на том, что каждый должен получать каллу в зависимости от потребности и вдохновения, и в этом его поддерживало немало сторонников Бардо. Это настроение чувствовалось на каждой церемонии наподобие подводного течения. Рингисты самого разного толка возмущались тем, что им каждый раз приходится выжидать десять дней, чтобы вкусить каллы; наиболее радикальные образовали содружество с целью обмена воспоминаниями и пытались убедить Бардо поставить урну с каллой прямо в холле, чтобы все входящие могли свободно погружать туда ладони и губы. Они отвергали авторитет мнемовожатых, даже таких мастеров-мнемоников, как Томас Ран, и верили, что каждый должен достичь великого воспоминания индивидуально, без всякой чужой помощи, руководства или вмешательства. Всякий контроль над путешествием внутрь себя, заявляли они, препятствует открытиям; это все равно что пробираться через наносы и трещины освещенного луной морского льда со спутанными ногами или смотреть на новоявленные звезды чужими глазами. Только тот, кто имеет мужество ринуться в неизвестность один, говорили они, может надеяться вспомнить себя. Только тот, кто самостоятельно учится путешествовать по ревущей вселенной внутри себя, может узреть Старшую Эдду.
– Даже если допустить, что по-человечески я с тобой согласен, мне приходится считаться с другими соображениями, – признался Бардо своему молодому другу. – На мне лежит ответственность, как на хозяине дома и на инициаторе этих собраний. Ты даже представить себе не можешь, что это такое, ей-богу! Имеешь ты понятие о том, сколько всего съедают мои четыреста гостей каждую ночь? Сколько вина и тоалача они выхлестывают? Все говорят, что Бардо богач – а считал кто-нибудь, чего мне стоит тайно ввозить каллу в город? Именно тайно. Не удивляйся так, Паренек, – откуда еще, по-твоему, берется твой «благословенный напиток»? Мы ведь не выжимаем его сами, как сок из кровоплода.
– Я думал, что каллу делают мнемоники, – сказал Данло.
Бардо хлопнул кулаком по ладони так, что по комнате прокатилось эхо.
– Верно, делают – на Самуме. Ты ведь знаешь, что мнемоники принадлежали к цефикам до того, как обе эти дисциплины влились в Орден? А известно ли тебе, что цефики обосновались на Самуме именно из-за тамошних растений, которых нет больше нигде в исследованной нами вселенной? Нет? Так вот, вся мнемоническая фармакология уже несколько тысячелетий производится там. Калла в небольших количествах ежегодно рассылается оттуда мнемоникам всех Цивилизованных Миров, в том числе и невернесским. И поступает она прямиком в их башню. Томас Ран и его ученики, когда согласились помочь мне, захватили, разумеется, с собой свои персональные запасы каллы, но их и на десять дней не хватило. К счастью, я предусмотрительно договорился с одним мнемофармакологом на Самуме, для которого деньги дороже, чем его обеты. Можно сказать, что я подкупил его – отдал громадные деньги, чтобы погрузить несколько бочек каллы на один из моих кораблей. Вот откуда берется твой распроклятый напиток, Паренек.
– Но разве нельзя синтезировать каллу здесь, в Городе?
Лицо Бардо стало печальным, как у клоуна.
– Есть секреты, которые мнемоники хранят даже от самих себя. Даже у того продажного фармаколога есть свои принципы. Я не могу найти никого, кто знал бы формулу каллы. Даже Томас Ран, который знает почти все, ее не знает. Кроме того, синтез каких-либо химических веществ в Городе выходит за рамки закона.
– Зачем же вы тогда мне об этом рассказываете?
– А что такого? Или ты шпионишь на Главного Цефика?
– Нет. – Данло провел рукой по рукаву своей камелайки, вспомнив, что Бардо когда-то тоже носил эту черную шерсть. – Я не шпион, но все-таки кадет… будущий пилот Ордена.
– Ох уж этот Орден, будь он трижды проклят.
Данло стоял, почти касаясь головой купола, дыша паром в холодном воздухе, и смотрел на восток, в сторону Академии, но почти ничего не мог разглядеть сквозь кларий, запорошенный свежим снегом.
– Когда-то я тоже так думал. Помните? Но вы убедили меня остаться в Ордене.
– Неужели? А, да, помню. Печально.
– Я не жалею, что пошел в пилоты. Я много узнал с тех пор – сон-время, цифровой шторм, звезды.
Бардо, покачиваясь на мягких подошвах домашних туфель, испустил долгий, протяжный вздох.
– В моем музыкальном салоне ты можешь узнать куда больше, чем на просторах галактики. Я тебе точно говорю. У тебя дар к мнемонике, это всем видно. Почему, как ты думаешь, я дал тебе постоянное приглашение?
– Я думал, это потому, что мы друзья.
– Конечно, друзья, ей-богу! Хотя у меня, наверно, не все дома, если я вздумал завести дружбу еще с одним Рингессом.
– И наша дружба обязывает меня… хранить секреты этого дома?
– А что, если так?
Бардо смотрел на Данло глубокими темными глазами, полными грусти, вызова и привязанности. Данло долго выдерживал этот взгляд и наконец ответил:
– Хорошо, я сохраню их.
– Правда?
– Да. – Данло медленно кивнул, вспомнив, что взрослый алалой под страхом смерти не должен открывать непосвященным юношам (и женщинам тоже) секреты Песни Жизни. Мужчина, когда нужно, умеет молчать, как небо. Все так же глядя Бардо в глаза, Данло сказал: – Я скорее умру, чем проговорюсь кому-то.
– В самом деле? Ты чертовски благороден – я всегда это говорил. Вообще-то нам скрывать нечего. Всем ясно, откуда мы получаем свою каллу. Думаю, что Главный Мнемоник, если не сам Главный Цефик, вскоре разоблачит нашего фармаколога и дисквалифицирует его. Впрочем, мы обеспечены каллой на пару лет – если только ты и твои друзья не будете лакать ее, как собаки воду из лужи.
– Выпей три глотка каллы – и станешь Богом, – улыбнулся Данло.
– Скажи спасибо, что тебе вообще дают каллу. Может быть, это недолго продлится.
– Как так? Почему?
– Потому, что Орден может запретить своим кадетам – как и всем прочим – употреблять запрещенные наркотики.
– Запретить каллу? – вскричал Данло. – Да как это можно? Если они это сделают, будет война.
Из всех ужасов цивилизации Данло самым ужасным казалось то, как цивилизованные люди всегда стремятся контролировать тела и мысли других людей. Эта вековая борьба за господство приводила к неисчислимым кровавым войнам. Данло достаточно знал историю, чтобы вспомнить о наркотических войнах на Старой Земле и во многих Цивилизованных Мирах. В этих войнах погибли миллиарды людей. Насколько он знал, человечество давным-давно, за тысячу лет до второй волны Роения, дало человеку право распоряжаться собственным сознанием, как он пожелает. Данло всегда считал это право неоспоримым и неотъемлемым, но из слов Бардо следовало, что это не так.
– Война… – сказал Бардо, глядя сквозь купол. – Есть войны, которые ведутся снова и снова, пока последняя женщина не родит последнего несчастного младенца.
– Даже войны из-за наркотиков?
– Слушай, Паренек: всякий, у кого есть власть, может объявить незаконным все что угодно. Хуже того – он может сделать это недоступным.
– Но запретить каллу значит нарушить кодекс.
– Да ну? Ты думаешь, он раньше никогда не нарушался?
– Нет… такое бывало, я знаю.
– Вообще-то главным специалистам не нужно запрещать каллу для того, чтобы отвратить народ от Пути. Стоит только запретить членам Ордена общаться со мной и приходить ко мне в дом. Или закрыть искателям Эдды доступ в Город. Или распустить слух, что калла губительна для мозговых клеток. Можно еще – признаюсь, что это уже паранойя – специально раздавать населению отравленную каллу. А если мы вынудим их пойти на крайние меры, можно нанять воинов-поэтов и перебить наших лидеров.
– Поэтому вы предпочитаете жить с Коллегией в мире?
– В мире? Ей-богу, хотел бы я вовсе забыть о ней, как и обо всем вашем гнилом Ордене. Да нельзя, вот беда.
Данло откинул с глаз свои длинные волосы.
– А не могли бы мы… помочь лордам вспомнить Старшую Эдду?
– И обратить весь Орден в нашу веру? – засмеялся Бардо. – Я всю чертову вселенную обратил бы в нее, если б мог. Старшая Эдда, проклятущая память – это ключ ко всему. В ней будущее, открывшееся лишь немногим из нас, в ней новый образ жизни для нашего поганого вида. Слушай меня: я лучший пропагандист самого себя! Но правда есть правда. Путь Рингесса – не просто культ, придуманный, чтобы обеспечить Бардо женщинами, деньгами и властью, уверяю тебя. Это единственный путь – ладно, скажу по-другому, чтобы не показаться фанатиком: лучший путь, которым чертово человечество может исполнить свое предназначение.
– И вы верите, что нам предназначено стать богами? Правда верите?
– Верю ли? – взревел Бардо. – Да я собственными глазами видел, как твой папаша преобразился в бога!
Вселенная – это чрево, рождающее богов, вспомнилось Данло, и он сказал, глядя Бардо в глаза:
– Выпей три глотка каллы и…
– Твой отец, – перебил его Бардо, – вспомнил Эдду яснее кого бы то ни было, хотя каллы в жизни не пробовал.
– Я часто думаю о том, что вспомнил отец. Что он видел.
Бардо заложил руки за спину и тяжело зашагал по комнате, волоча ноги по неровным каменным плитам и не заботясь о судьбе своих шелковых туфель.
– Если он заглянул в будущее – а я думаю, так оно и было, – то, наверно, понял, что калла опасна.
– Мне она кажется благословенной.
– Наши враги уже вопрошают, как это наркотик любого рода может привести к столь возвышенному откровению, как Старшая Эдда.
– Но почему они в этом сомневаются?
– Ну, это старая проблема воздействия химических веществ, то бишь материи, на сознание. Все полагают, что глубокое воспоминание – это духовный акт, и непонятно, как выжимка из нескольких поганых растений может приблизить кого-то к Богу.
– Никакой тайны тут нет, Бардо, – улыбнулся Данло. – Возьмем арфистку, которая играет на своем инструменте рапсодию Айонделы. Обыкновенная арфа, сделанная из волокон касии и осколочника, создает чудеснейшую музыку. А человек, выпив три глотка каллы, нажимает на спуек своих нейротрансмиттеров – ацетилхолина, триптамина и серотонина. Разве музыка разума звучит менее чудесно оттого, что ее создают эти благословенные молекулы?
– Кто тебе сказал, как действует калла, – Томас Ран? Тогда ты должен знать, как она опасна.
– Но опасность – лишь левая рука блаженства.
– Так говорит Данло Дикий, – вздохнул Бардо. – Ты уже выпил свои три глотка и обрел свое блаженство. У других… все было по-другому.
– Вы говорите о Ханумане?
– Одно время, Паренек, я боялся, что он спятил.
– А вы сами?
Бардо надул щеки.
– Ты думаешь, что я слишком большой трус, чтобы выпить три глотка? Так вот, я это делал. Шесть раз – не подряд, а вразброс. И каждый раз совершал путешествие в небеса и в ад, испытывая род божественного безумия. Я вспомнил себя, так мне думается, но это был как бы и не я, а моя память… или, может, я преобразился в нее каким-то дьявольским образом. И еще… а, черт побери, Паренек, разве это можно выразить словами?
– Но если мы не будем говорить о Старшей Эдде, – улыбнулся Данло, – то кто же скажет о ней?
– Кто? Да скептики, которые и не думали вспоминать себя – эти будут разглагольствовать вовсю, описывая наши бредовые видения.
– Тогда мы должны будем сказать людям правду.
– Но как?
– С помощью самых правдивых слов, какие сможем найти.
– Каких, к примеру?
– Вот каких. – Данло закрыл глаза и прикоснулся к перу в волосах. – Мы скажем, что в Старшей Эдде содержится память обо всем… о звездах, камнях и человеческих мечтах. Эдда – это полная, струящаяся через край чаша, и в то же время она пуста, более пуста, чем космос за Южной Стеной галактик. Там всегда есть место для новой памяти. Мы видели, что память вечно создается, вечно уничтожается и вечно сохраняется, как жемчуг в урне с зачерняющим маслом. Все сущее – это память, да? Вселенная – это океан ревущей памяти. Я сам – Старшая Эдда, и это моя правда, и вы тоже, и это ваша правда, но люди забывают об этом в тот самый миг, как вспомнили. Эдду, самую глубокую ее часть, вспоминать трудно. Ее свет проникает повсюду, и он ослепляет. Это как танец звездного света, как бесконечный поток фотонов, всегда движущийся, всегда прекрасный и, в сущности, недоступный зрению. И эти краски, мерцающие, переходящие одна в другую, бесконечные искры серебра, синевы и живого золота – все существующие краски и те, которых я никогда не видел и даже вообразить себе не мог. А за этими красками, за движением – вечный покой, тишина более реальная, чем камни, или ветер, или морской лед. Память в чистом виде. Я – эта тишина, и ничего более. И вы тоже, и все остальное.
Данло умолк и перешел в западный квадрант комнаты. Там купол был очищен от снега, и сквозь него виднелись световые шары отелей, тысячи ярких холодных точек среди миллионных огней Города. Данло прильнул лбом к обжигающе холодному кларию и долго стоял неподвижно, глядя на эти прекрасные, тихие огни.
– Данло!
– Да?
Бардо подошел и положил руку ему на плечо. Прочистив горло, он долго экал и мекал и наконец спросил – почти шепотом:
– Ты действительно готов сказать людям то, что сейчас говорил?
– Да – а что?
– А то, что в твоей прекрасной речи одна фраза противоречит другой. Ты называешь Эдду пустой и полной, тихой – и ревущей, как чертово море, и все это одновременно. И неподвижна-то она у тебя, и вечно движется – ты не боишься, что над тобой посмеются?
– Я не хочу, чтобы кто-то воздерживался от смеха, – улыбнулся Данло, – если ему хочется смеяться.
– Но не лучше ли просто сказать, что Эдду, э-э… нельзя передать словами? Признать, что это нечто несказанное, и успокоиться на этом?
– Но ведь это не так.
– Я думаю, что именно так, Паренек.
– Вы принимали три глотка каллы. Разве отчет о моем путешествии показался вам неправдой?
Бардо внезапно налился кровью непонятно по какой причине – от гнева, от смущения или с досады.
– Не то чтобы неправдой. Дело намного хуже: это абсурд. Мы не можем заявлять в открытую, что глубочайший опыт, доступный человеку, состоит из сплошных парадоксов.
– Но глубочайшая часть Старшей Эдды действительно парадоксальна.
– Не можем же мы так прямо сказать об этом!
– Мы можем сказать… все, что нужно сказать.
– А как же логика? Мы живем в чертовски логическом мире, так или нет?
– Да, это так.
– И что же? Ты готов отшвырнуть все законы логики, как сумасшедший, кидающий жемчуг в унитаз?
Данло, улыбнувшись этой сочной метафоре, сказал:
– Мир, каким мы обычно видим его – как мы о нем говорим, – очень многообразен, правда? Каждый дом в Городе, каждый отдельный человек, его имущество и планы, все, что он делает – каждый объект и каждое действие должны как-то отличаться от всех остальных. Что такое логика, как не свод правил, отделяющих один предмет или событие от другого? Птица – это птица, думаем мы, и потому она не может быть человеком. Человек либо существует… либо нет, то и другое одновременно невозможно. Все среднее мы отметаем заранее и живем, повинуясь этому закону. Это правильно. Иначе мы не могли бы здраво судить о вещах и понимать, как одно событие служит причиной другого – не понимали бы даже отдельности этих событий. Благословенные законы логики служат объяснением того, что мы понимаем под многообразием.
Бардо, полжизни посвятивший занятиям математикой и логикой, внезапно рыгнул, наполнив воздух запахами чеснока и козьего корня.
– Никогда еще не думал об этом с такой точки зрения. Ты, полагаю, ведешь к тому, что Эдда логике неподвластна из-за… э-э… единства памяти?
Данло с улыбкой кивнул.
– То, что я говорил… я старался подбирать слова тщательно, полировать их, как зеркало. По-моему, они верно отражают опыт воспоминания, насколько слова вообще способны отражать опыт. Но воспоминание само по себе лежит за пределами логики. В глубочайшей части Эдды различий между вещами нет. Вселенная помнит их на свой лад. Память обо всем заложена во всем – так говорят мнемоники. Я видел, что это правда. Памяти присуще единство, да? Благословенное единство.
– И ты намерен раскатывать взад-вперед по улицам, рассыпая свои парадоксы насчет… тьфу, даже говорить противно, до того мистикой отдает – насчет этого единства?
– Вы сами сказали: правда есть правда.
– Если ты станешь рассказывать об этом повсюду, все хибакуся в Городе сбегутся ко мне, чтобы попасть на церемонию.
– А разве вы не этого хотите?
– Да, вот вопрос: чего хочет Бардо? – Здоровяк потупился, губы его расплылись в улыбке, и Данло понял, что Бардо с самого начала замышлял превратить рингизм в массовое движение. Данло улыбнулся тоже, и они посмотрели друг на друга с веселым пониманием. – Но слова, даже самые правдивые, могут только направить людей на Путь – нам придется показать им правду.
– Будет лучше, если они сами ее себе покажут.
– Выпей два глотка каллы – и увидишь Бога. Нам надо будет научить их видеть.
– Нет, Бардо. Видеть каждый учится сам.
– Но надо же как-то контролировать эти проклятые сеансы, разве нет?
– Если вы будете их контролировать, то уничтожите великую память.
– Ты уж извини, но каллу придется отпускать строго по мерке.
– Пусть люди пьют, сколько хотят.
– Нет, это слишком опасно.
– Жить тоже опасно. Но ведь события своей жизни вы не контролируете?
– Снова я слышу речи Данло Дикого.
Данло провел пальцем по твердому холодному шраму над глазом.
– Все мы, когда пьем каллу, погружаемся в одно и то же благословенное море. Одни выплывут, другие утонут.
– Если ты будешь хлебать каллу, как воду, то и сам утонешь рано или поздно.
– Возможно.
– Так вот, я не могу позволить тебе броситься в стихию безумия.
Все мы – пища для Бога, вспомнил Данло. Старшая Эдда ревела у него в ушах, и он знал, что когда-нибудь великая память может поглотить его; она переварит его душу так основательно, что тот образ, который он знает как себя, никогда уже не кристаллизуется заново. Но этот момент, по мнению Данло, если и должен был когда-нибудь настать, лежал далеко в будущем. Настоящее существовало, чтобы дерзать и странствовать по темным течениям своего «я». Данло верил, что воля и мудрость всегда вернут его в мир живых созданий.
– Но ведь мои утопленники – это только метафора, Бардо. В море памяти заблудиться просто, но за этим всегда следуют другие путешествия, правда?
– Может, и правда – для мнемоников. Но они тренируются годами, прежде чем начать пить каллу. Почему они так осторожничают, как по-твоему?
– Но Томас Ран говорил…
– Томас Ран! – хохотнул Бардо, топнув ногой о камень. – Да он в душе такой же дикий, как ты, ей-богу. Но даже он должен знать, что если мы будем лить каллу во все рты подряд, некоторые бедолаги ухнут в самое настоящее, без метафор, безумие и умрут самой настоящей смертью.
– Чтобы жить, я умираю, – потупившись, сказал Данло.
– Опять твои чертовы метафоры? Ну так вот, Паренек: я не дам тебе потонуть в калле.
– Пожалуйста, не беспокойтесь обо мне.
– Приходится. Нравится это тебе или нет, ты у нас теперь эталон. И Хануман тоже. Поскольку руководство Ордена следит за нами, мы никак не можем допустить, чтобы наши лучшие молодые рингисты сгубили себя, опившись каллой – так ведь?
Данло достал из кармана свою шакухачи.
– Если вы ограничите нам доступ к калле, как же мы тогда сможем вспомнить самую глубокую часть Эдды?
– Эдда, Эдда. – Бардо потер глаза. – Я должен признаться тебе кое в чем. Лично я больше не желаю ее вспоминать. Вот так. Я выпивал свои три глотка, я видел огненные океаны ада – или рая, – и это чуть не свело меня с ума. Никому, в сущности не надо, вспоминать Эдду так глубоко. По крайней мере больше одного раза. Эти чертовы парадоксы. Не может Путь Рингесса существовать для нескольких пророков и гениев. Я отвечаю за дух рингизма, за каждого, кто хочет следовать по Пути. Даже за тех, кто утонул бы в Эдде, если бы им позволили. Проклятая Эдда. Да, я признаю, что в ней есть правда – правда о том, как мы можем стать богами. Вот это и есть путь Рингесса. Единственный путь. Великая память может привести нас к этой истине, но бросаться в ее пучину – это безумие.
Данло склонил голову в знак уважения к мыслям и страстности Бардо, а потом поднес свою флейту к губам и заиграл мелодию, которую сочинял последние несколько дней.
– По-твоему, я неправ?
Данло продолжал играть, постаравшись выразить взглядом всю свою симпатию к Бардо.
– По-твоему, это неправильно – оберегать своих друзей? Я боюсь за тебя, Паренек.
Мелодия лилась, но никуда не годная акустика обсерватории только подчеркивала пронзительное звучание шакухачи. Данло слушал, как резкий холодный звук рассыпается волнами под заснеженным куполом. Он понял вдруг, что Бардо прав и что ему нужно отказаться от больших доз каллы – но не из-за опасности впасть в безумие. По сути, от каллы надо совсем отказаться. Его, а может быть, и всех других путешественников в область воспоминаний поджидают опасности куда более тонкие и коварные. Калла – поистине благословенный наркотик, поистине окно во внутренний мир. Но она, как и все материальные окна, неизбежно ограничивает его взгляд на Старшую Эдду, искажает наиболее важные аспекты и мешает глубокому постижению Единой Памяти.
Доиграв, Данло спрятал флейту обратно в карман и сказал:
– Не бойтесь, Бардо. Я не буду больше пить каллу.
– Что ты сказал? – Глаза Бардо округлились.
– Ее благость – это сила, на которую я больше не должен полагаться.
– И поэтому ты отказываешься от нее?
– Да.
– Полностью?
– Да.
– Значит, после всего, что ты тут наговорил, ты стоишь передо мной, ухмыляешься и так вот запросто отказываешься от каллы?
– Нет… не запросто. – И Данло, почесав свою густую бородку, объяснил Бардо, почему решил отказаться от каллы.
– Ах-х, – сказал Бардо, – а это точно не потому, что ты на меня рассердился? За то, что я ввел эти ограничения с каллой?
– Я ничуть на вас не сержусь, – со смехом заверил Данло.
– Однако вспоминать больше не будешь?
– Я этого не сказал.
– Но ведь ты не будешь пить каллу вместе с другими.
– Не буду – но к великой памяти можно прийти и по-другому. Если вы не откажете мне от дома, я попрошу мастера Рана обучить меня мнемонической технике.
– Так ведь в ней шестьдесят четыре положения! Нужна целая жизнь, чтобы изучить их.
– Надеюсь, что моей на это хватит.
– Некоторым это и за всю жизнь не удается, – сказал Бардо, не разделяя веселости Данло. – Но предположим, что ты окажешься гением, а то и пророком, и достигнешь того, о чем мечтаешь, естественным путем – что дальше? Не можешь же ты до конца своих дней просидеть в этой треклятой памяти.
Они еще немного поговорили о мнемонике, и Данло сказал:
– Вы ищете в Эдде ключи и инструкции для достижения персонального божественного состояния. Это ваш путь – возможно, путь верный и славный. Мой, мне думается, будет несколько иным.
– Могу я спросить, каким?
– Я сам не знаю. Но когда-нибудь буду знать, если вспомню достаточно глубоко.
– Ну что ж, – Бардо энергично потер руки, – желаю удачи. Я бы охотно поболтал с тобой еще, но кому-то ведь надо возглавить сегодняшнюю церемонию. – Он двинулся к лестнице, но в последний момент обернулся и сказал: – Ты, разумеется, всегда остаешься моим желанным гостем, Паренек.
Данло постоял немного один, глядя на улицы Старого Города. Снова пошел снег, покрывая лед, дома и деревья до самой Восточно-Западной глиссады пушистым свежим сорешем.
Эти тишина и белизна напомнили Данло леса его детства, где он впервые увидел редкую белую талло. Он давно уже не вспоминал об Агире и еще дольше не молился ей, своему второму «я». Ему не хотелось думать, что он по-прежнему воспринимает мир через символы первобытной тотемной системы, но когда он, чем-то сильно озабоченный, проходил через рощу или заброшенное кладбище, часть его существа все еще ловила в воздухе дикий крик Агиры. Теперь он тоже прислушался – и даже здесь, заключенный в купол из синтетического стекла и отрезанный от ночи, услышал ликующий крик хищницы, падающей на добычу. Потом он понял, что этот крик звучит у него внутри, что это лишь воспоминание об Агире, запускающей когти в спину гладыша. Следом пришло воспоминание более глубокое, одна из истин Старшей Эдды: «Ты есть то».
Крик совы пронизывал заключенную в Данло вселенную, и он сказал себе: «Я – этот звук».
Он понял в тот миг, что его путь к божественному состоянию, если такой существует, будет чудесным и ужасным одновременно. Прижимаясь лбом к холодному кларию, он охотно поделился бы этим с Бардо или с Хануманом, но их не было с ним.
Глава XXI ОДОРИ
Однажды, еще молодым, за тринадцать лет до своего Завершения, Совершенный напился вина и проиграл в кости все свое состояние. Тогда Сароджин Гаруда, брат его и первый ученик, сказал ему:
– Ты швырнул на ветер нашу жизнь, ибо нет у нас теперь ни денег, ни пищи, ни кровли, которая укрыла бы нас от дождей.
Совершенный на это ответил:
– Вся наша жизнь – это игра с неизвестностью. Теперь нашей кровлей будет небо, и мы будем жить, совершенствуя себя. Когда же мы достигнем Завершения, то никогда больше не будем испытывать голода.
– Ты хочешь сказать, – спросил Сароджин Гаруда, – что мы будем питаться ветром и солнцем и что союз с Единым Целым наполнит наши души радостью?
И Совершенный, прозванный также Смеющимся Монахом, ответил:
– Разумеется, но прибавь также, что, когда мы достигнем Завершения, наши почитатели отдадут нам и хлеб свой, и одежду, и самую свою жизнь.
– Но как же ты привлечешь к себе почитателей, когда узнается, что ты, напившись, проиграл наше семейное достояние?
И Совершенный ответил:
– Вот увидишь: люди никого так не любят, как самого большого грешника, который, раскаявшись, становится святым.
– Значит, ты готов покаяться и отречься от всех пороков? – спросил Сароджин Гаруда.
Совершенный же засмеялся и ответил:
– Нет еще.
После этого Совершенный отправился в южные земли и соблазнял дочерей виноделов, и пил их вино, и танцевал запретные танцы, и ел волшебные грибы, что росли в лесу. Так он скитался тринадцать лет, пока не пришел в Священный Город. Там, у Пруда Вечности, он отрекся от мира и достиг своего Завершения, и все, что предрекал он, сбылось.
Много лет спустя Совершенный приобрел дворцы на каждое из шести времен года, и наполнил их бесценными изваяниями и редкими винами; он взял себе триста тринадцать наложниц, и прижил вчетверо больше детей, и снова стал танцевать, есть волшебные грибы и играть в кости. Сароджин Гаруда пришел к нему и сказал:
– Ты снова предался пороку.
И Совершенный ответил:
– В Завершении все различия стираются, и нет более ни порока, ни добродетели. Преимущество Совершенных в том, что они видят это ясно.
–Но люди, – сказал, поразмыслив, Сароджин Гаруда, – далеки от Совершенства и не видят того, что видишь ты.
На это Совершенный ответил:
– Потому-то они так и любят меня. Они знают, что Совершенный превыше добра и зла этого мира, и ничто не может его запятнать.
И Совершенный засмеялся, и Сароджин Гаруда, слыша этот священный смех, освободился от всех сомнений и несовершенств и достиг наконец того, что искал всю свою жизнь. Оба они смеялись долго, очень долго, и умерли в глубокой старости, будучи очень богатыми и Завершенными.
Из «Жизнеописания Совершенного»В ранние зимние дни Данло занимался мнемоникой под руководством Томаса Рана, а в промежутках проводил долгие блаженные часы перед пылающим камином Тамары, где изучал совсем другое искусство. Он сдержал свое слово и отказался от каллы, но его великое воспоминание не поддавалось ни отмене, ни забвению. Предсказание Бардо о том, что Данло с Хануманом станут отныне примером для остальных, подтвердилось: как раз самые радикальные рингисты, сторонники свободного употребления каллы, считали Данло чем-то вроде героя и старались подражать ему если не в его отречении, то в смелости и достижениях. В этот немногочисленный кружок входили близкие к Бардо люди, такие как дива Нирвелли и Дария Чу. К этим тайным поклонникам каллы примкнули не менее двух мнемовожатых Томаса Рана. Братья Джонатан и Бенджамин Гур (из печально знаменитых Гуров с Темной Луны) похитили из кладовой Бардо изрядное количество каллы, которой потчевали своих друзей и сторонников. Свои церемонии они устраивали тайно от Бардо в разных помещениях Города, а порой дерзали даже проводить их прямо у Бардо в доме. Джонатан Гур часто оставался один в Колодце – он плавал в соленом бассейне, омываемый изнутри каллой, чьи холодные прозрачные потоки уносили его в глубокую память.
Для своих друзей он тоже добился свободного доступа в Колодец. Там он поил их каллой и предоставлял каждого собственной мудрости, воле и прозрению. Радикалы гордились тем, что кто-то из них в любое время находится в одном из бассейнов Колодца. Как только один завершал свое путешествие во внутренний мир, другой тут же выпивал три глотка каллы и занимал его место – так, посменно, они непрерывно вспоминали Старшую Эдду. Эту свою подпольную деятельность они могли бы продолжать еще долго, но в конце концов случилось неизбежное. Червячник по имени Изас Никитович умудрился утонуть в бассейне. Это бы еще было полбеды (с весьма эгоистической точки зрения Бардо), но одна одаренная девушка, кадет-акашик, выпила не меньше пятнадцати глотков каллы и не вернулась из своего путешествия. Точнее, вернулась, но лишенная разума, с пустыми, как у аутиста, глазами. Услышав о том, что одна из его фавориток повредилась рассудком, Бардо сперва разрыдался, потом впал в ярость и разбил вдребезги девять бесценных агатангийских раковин алайя. Только Сурье удалось успокоить его. Слышали, как он кричал: «Ей-богу, если уж я своим вожатым не могу доверить эту чертову каллу, кому же мне тогда доверять?» Эти слова послужили предвестниками великих перемен, которым вскоре подвергся Путь Рингеса. Движение разделилось на три фракции, ни одна из которых не доверяла другой полностью. Был кружок Джонатана Гура, и была основная масса рингистов, которые по-прежнему посещали церемонии Бардо, получая от него свои два глотка. Старшая Эдда как таковая интересовала их меньше, чем рецепт как стать богом. Третья фракция откололась как раз от них. Многие рингисты с самого начала либо вообще не могли вспомнить Эдду, либо не умели разобраться в своих воспоминаниях. На изучение мнемонической техники у них недоставало ума или трудолюбия – кроме того, они боялись. Они избегали пить каллу не потому, что желали видеть вещи более ясно, а потому, что путешествие внутрь себя их ужасало. К рингизму они примкнули по одной-единственной причине: они почуяли, что Бардо и его кружок открыли путь к чему-то очень важному, превышающему их личные интересы, и захотели непременно поучаствовать в этом движении. Танец чистой памяти так и не открылся им, но их религиозный пыл от этого не угас. Дом Бардо, излучающий невероятные возможности, притягивал их днем и ночью. Им было достаточно купаться в золотом сиянии таких маяков, как Данло, или красивая и одаренная Нирвелли, или даже Томас Ран – ведь чужим светом пользоваться всегда легче, чем светить самому. Множество народу рассуждало о новых направлениях в эволюции и о бесконечных возможностях человечества, но мало кто был готов изменить хоть что-то в самом себе. Они мечтали преобразиться телом и духом в нечто новое, огромное и чудесное, но им недоставало мужества быть созидателями собственной судьбы. Им казалось, что они хотят стать богами, и некоторым хотелось захотеть этого по-настоящему, но и в этом они были столь же неискренни, как богатые астриеры, которые проповедуют сострадание к бедным, сидя на грудах алмазов, огневитов и прочих сокровищ. Отказавшись от каллы окончательно, они перешли на чисто духовные наркотики. Подменяя истинный экстаз фанатизмом, они удовлетворяли свою тоску по бесконечному обещаниями и надеждами, пренебрегая опасной работой по преодолению самих себя. Тем самым они сами себя предавали и вместо эволюционного пути сворачивали на революционный. Эта нервная отчаянная публика жаждала уверовать в то, что Золотое Кольцо защитит их от ярости Экстра и что если они пойдут путем человека, ставшего богом, малая толика его божественности может перепасть и им. Этих неудачливых ложных искателей другие рингисты насмешливо именовали «божками». Впрочем, тогда, в начале зимы 2953 года, божки составляли едва ли десятую долю последователей Бардо.
– Но с каждым днем их становится все больше, – признался Томас Ран как-то вечером, показав Данло сорок первое положение мнемоники. Они встречались почти каждый день после обеда – или в те вечера, когда Данло не мог пойти к Тамаре, – и Ран очень гордился тем, что дает Данло уроки.
На похвалу мастер был скуп, но часто поощрял Данло более тонким образом, преуменьшая заслуги других.
– Мнемоника – самая предательская из всех дисциплин: сначала она расстилает перед тобой сплошные розы, а потом начинаются сплошные шипы. Люди слишком легко сдаются, а некоторые так и не овладевают умением управлять собой. Боюсь, что как раз этих последних и привлечет к себе Бардо, попытавшись расширить наш маленький культ. Мы уже давали каллу самым выдающимся людям Города – кто еще остается? Ну, хорошо. Вернемся к деизму, или ты хотел бы перейти к мифопоэзии?
Ни одна из трех фракций, разумеется, не была замкнутой группой, отделенной от двух остальных. Многие приверженцы каллы искали как Единой Памяти, так и личной божественности. Многие умеренные рингисты всю ночь пылали жаждой возвышенного, а утром вылезали из постели с покрасневшими глазами, сомневающиеся, разочарованные в самых своих сокровенных мечтах. Некоторые из них могли на время снова возгореться прежним пылом, но большинство старалось успокоить свою тоску более легкими способами. Трудно было предсказать, когда кто-либо из искателей сойдет со своего пути и вольется в ряды божков, слепо идущих по уже проторенной дороге. Многие, обвиняя других в фальши и безверии, с легкостью выкалывали собственные внутренние глаза и бухались на колени, когда Данло или Бардо повествовали о чудесах Старшей Эдды. Дом Бардо сделался своего рода ареной, где рингисты всех фракций соперничали за духовное первенство. Вернее, его роскошно обставленные комнаты напоминали целый ряд театральных сцен, где днем и ночью толпились действующие лица. Мужчины и женщины улыбались с блаженным видом и гримасничали, пытаясь изобразить снизошедшее на них озарение.
Подражая поведению богов – в их собственном представлении, – они медленно и упорно ваяли образ идеального рингиста. Они пристально смотрели друг другу в глаза, как бы вопрошая: «А ты вспомнил Старшую Эдду?» Или более конкретно: «Ты уже становишься богом?» Но никто не посвящал себя этой игре с таким рвением, как Сурья Сурата Лал. Она играла в нее с Данло, Хануманом, Тамарой, с братьями Гур и со всеми новичками, приходившими к Бардо; можно предположить, что она играла даже перед зеркалом.
– У нее нет настоящего таланта к мнемонике, – по секрету сообщил Данло Томас Ран. – А жаль: она так старается. Даже слишком, по-моему.
Сурья по-своему была типичной представительницей тех, кто колебался между искателями и простыми последователями Пути. Она как будто никогда не ленилась, а внешние мужество и ум, которые она выказывала, обманывали даже ее друзей – но когда дело доходило до погружения вглубь себя, она моргала своими красными глазками, сжимала аленький ротик и становилась тупой и упрямой, как овцебык. При недостатке воображения она очень ценила мнение окружающих и потому делала вид, что воспоминания ее глубже, чем были на самом деле. Из-за усилий, которые она затрачивала на создание собственного светлого образа, ей никак не удавалось применить к себе то, что действительно открывалось ей в воспоминаниях. Она боялась что-либо изменить в себе, боялась быть дикой и завидовала тем, кто такого страха не испытывал. То, что Данло сумел проникнуть в самое сердце Старшей Эдды, с самого начала ее бесило. Она ошибочно приписывала его успехи действию каллы и потому выражала свое неодобрение этому чудодейственному наркотику.
После одной из калла-церемоний она заявила:
– Кто знает, не было ли великое воспоминание Данло просто галлюцинацией. Калла начинает вызывать у меня недоверие. Она слишком опасна, чтобы давать ее новичкам.
Время шло, дни становились короче, и она начала относиться с недоверием к самому мнемоническому акту. Она завидовала Томасу Рану, Данло и, если говорить всю правду, даже Хануману ли Тошу. Потерпев неудачу в исследовании великой памяти, она не могла обучать этому других, поэтому перспектива стать мнемовожатой и завоевать себе авторитет в зарождающейся церкви Бардо была для нее закрыта. Все, что ей оставалось, – это взять контроль над церемониями в свои руки, а впоследствии внести в них радикальные изменения.
После утопления Изаса Никитовича она выступила против того, чтобы давать каллу новым рингистам, заменив ее обыкновенной морской водой. Она надавила на Бардо, и тот, по своим собственным причинам, поддался ее визгливым доводам. Начиная с 48-го дня зимы все, кого приглашали к Бардо впервые, стали получать воду в качестве символического причастия, но рингисты со стажем по-прежнему выпивали свои два глотка из серебряной мерки Бардо. Можно было ожидать, что подобная профанация отпугнет многих, но на деле получилось как раз наоборот. Потенциальные божки хлынули к Бардо потоком, не боясь, что их заставят заниматься трудным и рискованным делом – вспоминать себя. Немало давних рингистов, которым калла опротивела, тоже обрадовались случаю заменить ее водой. Что до новообращенных, жаждавших вкусить священного напитка (они составляли примерно одну треть от общего количества), то они всегда могли надеяться, что их примут в число избранных. Этого можно было достичь, посетив не менее тридцати трех церемоний, признав, что человек способен стать богом, лишь следуя примеру Мэллори Рингесса – и, что важнее всего, передать в пользу Пути как минимум десятую долю своих земных сокровищ.
– Нам необходимы деньги, – заявил однажды Бардо в чайной комнате, куда созвал самых близких: Сурью, Томаса Рана, а также Колению Мор, Нирвелли, Ханумана и Данло. Братья Гур после случая с Никитовичем впали в немилость и больше не приглашались на эти интимные собрания, где подавались в маленьких белых чашечках редкие сорта чая и густой летнемирский кофе. – Промежуток между приглашениями увеличился уже до двадцати дней – мы не можем принять всех искателей, желающих попасть ко мне в дом. Поэтому нам нужно приобрести помещение, способное вместить их всех. В паре кварталов от площади Данлади есть одно заброшенно здание, которое устроило бы меня – просто великолепное, но кошмарно дорогое. Как верно заметила моя кузина, единственный способ финансировать такую покупку – это сделать так, чтобы ее оплатили новые рингисты.
Бардо организовал свой культ так, как организовывались почти все религии: он стоял во главе, как первосвященник и гуру, и все дела решал единолично. Ему не обязательно было с кем-то совещаться, но его общительная натура выпивохи и спорщика тосковала по дружескому обмену мнениями. Он сам на это напросился и потому не должен был удивляться, когда Томас Ран сказал:
– У нас и так уже слишком много божков. Лучше было бы отобрать из них наиболее перспективных, а остальных разогнать. Пути нужны искатели, и их не должно быть много.
– Решительно с вами не согласна, – заявила Сурья, со стуком поставив свою чашку. – Наш долг – распространить Путь Рингесса по всем Цивилизованным Мирам. А возможно, и за их пределами – там, где люди еще остаются людьми.
Данло, который так и не научился разбираться денежных делах, сказал, обращаясь к Бардо:
– Если вы будете требовать, чтобы новые рингисты платили за посещение церемоний… то это равноценно продаже каллы, правда?
– Ты совершенно неверно понимаешь эту ситуацию. Мы – люди, называющие себя рингистами – просто покупаем дом, вот и все. Мы будем владеть им сообща, и у каждого рингиста будет свой пай, соответствующий его или ее вкладу в Путь.
– А как же быть с теми, у кого денег нет? – спросил Данло.
– У них пая в общей собственности не будет, только и всего.
– Но вы разрешите им посещать церемонии?
– Разумеется. Путь Рингесса открыт для всех.
– Даже для аутистов?
– Даже для аутистов, Паренек.
– Ну, а Орден? Послушники, кадеты и большинство ученых приносят обет бедности.
– Да, это дело деликатное. – Бардо запил пирожное сладким черным кофе. – От всех новых рингистов мы требуем десятую долю имущества. Это по меньшей мере. Но из ничего десятую долю не выкроишь, верно? Значит, те, у кого действительно ничего нет, ничего и не заплатят.
В процессе дальнейшего обсуждения финансового вопроса выяснилось, что Бардо мало кого в Ордене считает по-настоящему бедным. Он указал, что кадеты и послушники, которым даже собственная одежда не принадлежит, часто происходят из богатых семей.
– Я знаю по опыту, что очень многие любят, когда у них водятся деньжата, и почти все хоть немного, да откладывают. Или могут заработать.
– Я ни разу и в глаза-то не видел городского диска, – сказал Данло, – а в руках и подавно не держал.
– Это из-за условий, в которых ты вырос. Но даже Данло Дикий может достать деньги, если очень понадобится.
– Я так не думаю. – Данло считал изобретение денег щайдой, одной из страшнейших язв цивилизации, и не мог себе представить, что они когда-нибудь ему понадобятся.
– В случае нужды ты сможешь продать себя на Клубничной улице, – подал голос Хануман, который все это время сидел молча. Его намек относился к мужским борделям, помещавшимся в самой скверной части Квартала Пришельцев.
К кофе он даже не притронулся, но его глаза, жесты и вся осанка выдавали такую наэлектризованность, как будто он выпил чашек девять. Взгляд, устремленный на Данло, показывал, что Хануман в полной мере сознает жестокость своих слов.
В глазах Данло вспыхнуло недоверие, потом отчаяние, и все за столом почувствовали вставшую между ними обиду.
– Извини, если я задел тебя. – Хануман говорил так, словно здесь, кроме них двоих, никого не было. – Я не хотел.
Бардо и большинство остальных усердно занялись своими пирожными и чаем. Молчания никто не нарушал.
– Никто не должен продавать себя за деньги, – произнесла наконец Нирвелли своим мелодичным голосом. Контраст ее черной кожи с белой пижамой поражал взгляд. – Что главное в Пути Рингесса – деньги или радость? Я хорошо знаю, что удовольствия продаются и покупаются, но радость ни за какие деньги не купишь.
– Разговоры о деньгах умаляют нас, – жестко произнес Томас Ран.
– Деньги – это только деньги, – сказала Сурья. – И мы должны решить, в какой форме принимать их от членов Ордена, способных сделать взнос. – Метнув на Данло укоризненный взгляд, она продолжала: – Молодой пилот прав в том, что большинство из них приносят обет бедности, а потому не могут иметь никакой собственности, даже доли в общем владении.
Бардо, подержав кофе во рту, проглотил его, махнул рукой, как бы отгоняя муху, и сказал с чуть наигранной беззаботностью:
– Эта проблема с совместным владением – никакая не проблема. Те, кто не может владеть собственностью, могут передать свой вклад другим рингистам, анонимно, и те будут распоряжаться собственностью за них. Это должно удовлетворить всех без нарушения дурацких канонов Ордена.
Сурья Дал первая предложила выжимать деньги из новых рингистов, Бардо придумал, как придать этим поборам законную форму, а Хануману следует воздать должное за то, что он привлек в церковь Бардо поток новообращенных, едва не захлестнувший ее. (А также возложить на него вину за последующее разложение Пути.) Чтобы дать полный отчет о его чудесном преображении и восхождении к вершинам религиозного авторитета, необходимо сначала остановиться на методах, которыми он постигал природу вселенского страдания.
«Те, кто повинуется великому в себе, – это великие люди, а повинующиеся мелкому в себе – люди мелкие», – говорил великий Лао Цзы за много тысяч лет до рождения Ханумана.
Можно думать, что эти слова предсказывают головокружительную карьеру Ханумана, вся жизнь которого представляла собой трагическую смесь великого и мелкого. Поначалу приверженцы Пути видели в нем только великое. Он стал лидером крупного религиозного движения еще совсем молодым. Некоторые думали, что даже чересчур молодым, но другие указывали, что Александр Великий в его возрасте уже совершил свои завоевания на Старой Земле, а Джина Дзенимура был всего на два года старше, когда отрекся от Ордена воинов-поэтов и основал дзаншин. Молодость Ханумана в итоге оказалась палкой о двух концах, и оба помогли его возвышению: сторонники считали его молодость признаком гения, противники не принимали его всерьез, как напыщенного юнца-идеалиста – пока не стало слишком поздно.
Данло, пожалуй, единственный из всех прозревал истинный потенциал Ханумана. Однажды, после бесплодной церемонии, где они оба пили только соленую воду, Данло нашел Ханумана одного, среди папоротников, у маленького водопада, в медитативной комнате Бардо, и сказал ему:
– Самый опасный идеалист – это тот, кто имеет силу осуществить свои идеалы.
– По-твоему, у меня есть идеалы? – засмеялся Хануман.
– Я знаю, тебе открылось что-то в ночь твоего великого воспоминания. Судьба и путь человечества. Я почти вижу это. Ты никогда об этом не говоришь, но я вижу… по молчанию и по теням твоих мыслей. Эту судьбу.
– Ты же знаешь – я верю в свободу воли.
– Почему мы больше не говорим так, как раньше?
– Я говорю. Это ты не слушаешь.
– Но другие… они слушают, да? Божки. Они ловят твои слова, точно ртуть, а ты говоришь и говоришь, и все больше народу стучится в дверь к Бардо, желая послушать.
Как это получается, что одним людям порой удается привлечь к себе внимание других. Зачем человеку или целой толпе народу стоять в снегу, развесив уши, и слушать кого-то, и чувствовать трепет его страсти, и пить огонь его глаз? Если правда, что Хануман ли Тош родился с даром красноречия, то правда и то, что все годы своего учения он прилежно развивал этот дар. Он был цефиком. Нельзя забывать, что это старейшая дисциплина Ордена, уходящая корнями в леса и пустыни Старой Земли. Если соблюдать точность, он был кибершаманом и в двадцать один год овладел почти в совершенстве разными видами компьютерного сознания. Это его мастерство имело решающее значение для Ордена, для Города и для всех миров, где обитают представители человечества, считающие себя цивилизованными. Но Хануман, при всем своем блестящем знании кибернетических пространств, не пренебрегал и другими отраслями цефики. От йогов он научился медитации, психоделике, физическим упражнениям, рапсодии, пению и внутреннему театру. У нейрологиков взял конфигурацию, мимику, ритуальный анализ, мифопоэзию, харизму и внешний театр.
Все ветви цефики включают в себя фравашийскую языковую философию, и Хануман умел пользоваться словесными наркотиками для рассеивания людских подозрений. Умел анализировать системы верований и подбирать специфические ключевые слова, освобождавшие его слушателей из их концептуальных тюрем. При этом, как вскоре обнаружил к своему ужасу Данло, Хануман строил совершенно новые ментальные тюрьмы, делавшие людей зависимыми от его слов, от его взглядов, от его пылкого чувства собственной судьбы.
Однако славу пророка ему в первую очередь создало его великое воспоминание. Он утверждал, что в Старшей Эдде содержится упоминание о смерти некого бога. На первых порах многие высмеивали его за это – особенно пилоты, называвшие это его открытие наркотическим бредом. Шестьсот лет назад Дарио Смелый нанес на карту все звезды и планеты 18-го скопления Дэва, но никакого бога, живого или мертвого, не обнаружил. О предсказании – или воспоминании – Ханумана забыли бы очень быстро, если бы Главный Пилот не высказывался столь громогласно против каллы и мнемонических церемоний. Однажды на Коллегии Ченот Чен Цицерон процитировал воспоминание Ханумана как пример того, что культ Бардо может быть опасен для Ордена.
– Мы должны запретить нашим послушникам и кадетам всякие контакты с Бардо, – заявил он собравшимся лордам. – В противном случае умы самой блестящей нашей молодежи подвергнутся отравлению.
У лорда Цицерона насчитывалось немало врагов, в том числе и знаменитый пилот-диссидент Зондерваль. Во время Пилотской Войны Зондерваль сражался против Леопольда Соли и Цицерона на стороне Бардо. Глубоко презирая лорда Цицерона и надеясь посрамить его (а также будучи самым высокомерным человеком, когда-либо рождавшимся на свет), Зондерваль решил совершить путешествие в 18-е скопление Дэва. На своем легком корабле «Первая добродетель» он проделал этот путь всего за три дня. Он знал фокусы красной звезды-гиганта, те самые, которые Хануман назвал Данло. Зондерваль был, пожалуй, лучшим в Городе пилотом и, возможно, единственным, кто полностью овладел Гипотезой Континуума или Великой Теоремой. Свое путешествие через галактику от Невернеса до скопления Дэва он совершил за один переход, а еще через пятнадцать дней обнаружил тело мертвого бога. Величиной с луну, оно было покрыто блистающей алмазной кожей десятимильной толщины, а мозг состоял из нейросхем до сих пор неизвестного эсхатологам вида. Тело, как и говорил Хануман, вращалось вокруг красной звезды-гиганта, которую Зондерваль тут же назвал Славой Ханумана. Это открытие действительно принесло славу как Хануману, так и Пути Рингесса и придало движению значительный вес. Через полдня после возвращения Зондерваля весть о его находке уже разошлась по всему Городу.
– Это докажет им могущество воспоминания, – сказал Томас Ран Данло. – Теперь все и каждый начнут просить меня показать им путь к Старшей Эдде.
Но Томас Ран, так хорошо разбиравшийся в мнемонике и индивидуальном сознании, ничего не понимал в природе массового религиозного психоза. Потенциальные рингисты осаждали в ту зиму дом Бардо не для того, чтобы получить указания Томаса Рана. Они приходили поглазеть на знаменитостей вроде Бардо и Данло ви Соли Рингесса, но всего любопытней было для них великое воспоминание Ханумана. Угощаясь морозным вином и пряными блюдами в солярии Бардо, они толпились вокруг Ханумана, надеясь услышать его голос или коснуться его шелкового рукава. Хануман ни слова не говорил о калле и больше уже не пророчествовал, но самое его молчание создавало ему ауру загадочности и власти. Он внимательно выслушивал незнакомцев обоего пола, рассказывавших ему о своих видениях, вглядываясь в их глаза и тайные страхи так, будто смотрел в самое сердце Старшей Эдды. Почти все отмечали его сострадание, его уникальную способность понимать чужую боль. От него исходило сияние памяти, говорившее о страшной первобытной силе, таящейся у него внутри. Люди это чувствовали. Такое ощущение нельзя было создать искусственно, даже пользуясь техникой харизмы и внешнего театра. Реальное и властное, как ночная гроза, оно распространяло запах озона, как бывает после разряда молнии. Через Ханумана люди связывались с этой глубочайшей из сил, и биение пульса вселенной казалось им гораздо более громким, чем когда-либо прежде, и бесконечно более реальным.
После своего выздоровления, начав выходить и общаться с рингистами на вечерах Бардо, Хануман принялся укреплять эту темную связь. Прежде всего он стремился узнать как можно больше о боли и страдании, и у него появилась вторая, тайная жизнь. Без ведома других цефиков и Данло он взбирался на ледяные утесы горы Аттакель, стоящие белой стеной над Садами Эльфов. Он делал это всегда один, одетый в обогреваемую камелайку и ботинки с шипами, и никогда не пользовался ни веревкой, ни сетью. Он много раз обмораживал себе лицо и руки и дважды терял пальцы ног, которые потом тайно восстанавливал в кленовой мастерской. Много раз он чуть не испытал боль и ужас падения. Но только таким способом он мог познать свой ужас и свою боль. Нужны были другие виды опыта. Он участвовал в турнирах по дзаншину, где дрался кулаками, локтями и ногами, пока и он, и его противник не обливались кровью. Он сражался храбро, не обнаруживая ни малейшего напряжения или тревоги, и заработал немало очков за свою расслабленно-собранное поведение перед угрозой физических, а иногда даже мозговых травм или смерти. Другие его эксперименты были не столь опасны, хотя не менее жестоки. По ночам он углублялся в Квартал Пришельцев и покупал неземные восторги у инопланетных Подруг Человека, а также посещал проституток мужского пола, с которыми обходился очень круто – не потому, что это доставляло ему удовольствие, а потому, что это причиняло им боль.
От совокуплений с инопланетянками и красивыми юношами его тошнило, и он делал это, чтобы проверить, сколько сможет выдержать. Это сошествие во мрак продолжалось всю холодную снежную зиму. В это самое время Хануман произносил перед гостями Бардо маленькие проповеди о добродетелях богов, а однажды, когда Бардо объелся шоколадными пирожными, сам провел ночную церемонию в музыкальном салоне.
Только по чистой случайности (а может быть, по воле судьбы) Данло узнал о тайной жизни своего друга.
Как-то вечером, посвятив весь день математике мультиплекса, Данло вышел в Старый Город, решив там поужинать. Он уже сутки ничего не ел, заблудившись в изящных построениях Великой Теоремы, и очень проголодался. Он воображал роскошный ужин из курмаша, горошка и риса с шафраном, как вдруг увидел впереди Ханумана. Одетый не по форме, в обыкновенную камелайку и коричневую шубу, тот мог сойти за богатого пришельца. Данло собрался уже окликнуть его и спросить, не хочет ли Хануман разделить с ним большую миску курмаша, но одежда и таинственный вид Ханумана заставили его передумать. Повинуясь капризу, Данло решил последовать за ним на приличном расстоянии. Через два квартала Хануман свернул на Серпантин, где было полно народу. Снегоуборочники нагромоздили высокие сугробы по обеим сторонам улицы, закрыв боковые дорожки и оставив конькобежцам узкое пространство между снежными стенами и санями, которые носились посередине. Данло пришлось приблизиться к Хануману, чтобы не потерять его из виду. Преисполненные важности мужчины и женщины в дорогих шубах толкали его, загораживали дорогу и с тревогой смотрели, как он совершает зигзаги между ними. Бежать было небезопасно. Только что выпавший снег глушил скрежет коньков и скрывал трещины и выбоины, которые обычно стараешься объезжать. С немалым трудом Данло проследил Ханумана до места, где Серпантин сворачивает на запад, в Квартал Пришельцев. Около Алмазного Ряда Хануман сошел с магистрали на более узкую дорожку. Снег скрывал красный цвет льда, и Данло не сразу понял, что они движутся по Клубничной улице, но потом заметил бордели – почти одинаковые каменные дома без окон и без огней. Темную улицу заполняли червячники, состоятельные мужчины и женщины средних лет, алчные и нервные под своими меховыми капюшонами. У дверей стояли красивые мальчики и юноши в туго обтягивающих шелковых камелайках, а также подозрительного вида сутенеры, подзывающие прохожих наглым свистом. Данло чувствовал, что оказался в неподобающем месте: многочисленные взоры ощупывали его и оценивали, прикидывая, что понадобилось молодому пилоту в таком районе. А вот Ханумана здешняя обстановка, видимо, совсем не стесняла, как будто запахи курений, духов и горящего Джамбула были хорошо ему знакомы, Мысль о том, что у Ханумана могла появиться склонность к мальчикам, забавляла и в то же время тревожила Данло. Он ожидал, что Хануман остановится перед одной из резных дверей, но тот внезапно свернул в темный переулок и исчез.
Данло, не на шутку встревожившись, последовал за ним в ледяной проем между двумя борделями, такой узкий, что двое мужчин не смогли бы проехать здесь плечом к плечу. Впереди заснеженная насыпь отгораживала район публичных домов от ветхих зданий, построенных добрых три тысячи лет назад.
В этих развалюхах, должно быть, помещались рестораны, поскольку в воздухе пахло свежим хлебом, сыром, силкой, чесноком и поджаренным мясом. Клубничная улица пролегает вдоль Колокола, названного так из-за того, что с воздуха сеть его улиц напоминает большой пурпурный колокол. В этот-то Колокол, по всей видимости, и пробирался Хануман. Данло не понимал, как тот рассчитывает это сделать. Клубничная – красная улица, а в Колоколе все, кроме главной, пурпурные.
В Городе красные ледянки пересекаются только с оранжевыми или одна с другой, а пурпурные – с зелеными. Красные и пурпурные не пересекаются никогда. Поэтому Город представляет собой нечто вроде топологического кошмара, и из одного квартала в другой иногда можно попасть только кружным путем. Такое устройство придумал когда-то Хранитель Времени, чтобы перекрыть улицы и изолировать различные секты и инопланетные общины в случае восстания или войны. Но хариджаны и прочие слои населения с самого начала стали потихоньку прокладывать нелегальные белые ледянки, соединяющие красные улицы с пурпурными, связывая между собой разные районы Города. Дойдя до конца переулка под звуки странной музыки и приглушенные крики из публичных домов, Данло предположил, что открыл одну из таких нелегальных дорожек, поскольку переулок не заканчивался тупиком, как следовало бы. Он проходил сквозь черный туннель под насыпью и вел прямо в Колокол. Беззаботно двигаясь за Хануманом, Данло вышел на хорошо освещенную пурпурную улицу с жилыми домами и магазинами.
Хануман вошел в какой-то старый облупленный дом без окон, совершенно неприметный. Это был ресторан. Данло остался на другой стороне улицы. Упершись руками в колени, он наблюдал за дверью этого заведения и раздумывал, как ему быть.
Он ждал долго, чиркая коньками по льду. Было очень холодно – такой мороз Данло когда-то назвал бы «харада». Снова пошел снег, и снежинки мерцали фиолетовыми и розовыми искрами в свете огненных шаров. Вокруг витали аппетитные запахи. Данло вспомнил, что ночью ему предстоит встреча с Тамарой, а значит, не мешает как следует подкрепиться. Он решил войти вслед за Хануманом, хотя ресторан был частный, а денег у него не имелось. Данло с тех пор, как поселился в Городе, всегда ел бесплатно и не знал правил, по которым за еду расплачиваются деньгами.
В обдуваемом горячим воздухом вестибюле, где стояли шкафчики для одежды и какие-то инопланетные предметы, его встретила увядшая женщина-метрдотель в красном кимоно. Взяв у Данло шубу, она спросила, нужен ли ему столик с жаровней.
– Право, не знаю, – ответил он. – Я пришел, чтобы встретиться с другом…
– Ваш друг уже здесь?
– Да. Думаю, что да.
– Вы не могли бы назвать мне его имя?
Данло, который, так и не избавившись от алалойского предубеждения, не любил поминать кого-то вслух, сказал:
– Я думаю, для него это было бы нежелательно.
– Но он относится к числу наших завсегдатаев?
– Мне кажется, он был здесь всего пару раз.
Окинув неуверенным взглядом поношенную камелайку Данло, его бороду и буйную гриву волос с торчащим в ней пером, женщина спросила:
– Может быть, вы дадите мне его описание?
– У него чудесное лицо – чуть напряженное, возможно, но одухотворенное, а его глаза…
– Как он выглядит? – прервала женщина.
Данло пристыжено понурил голову и описал ей Ханумана.
– Вы имеете в виду достойного Хироши ли Таля с Самума. Это один из самых почетных наших гостей. Следуйте, пожалуйста, за мной, и я проведу вас к его столику.
Она открыла внутреннюю дверь и ввела Данло в красиво убранный, располагающий к интимности зал. В полумраке Данло поначалу рассмотрел только стены полированного дерева джи, блестящие стальные ножи и вилки и силуэты сидящих за столами. Ошеломленный обилием ощущений, он шел сквозь стену звуков и запахов. Шипело, поджариваясь, мясо, слышались обрывки разговоров, пахло дымом, горелым маслом и морозным вином. Все в этом помещении вызывало тошноту, но голод, любопытство и еще одна потребность, неясная ему самому, манили его все дальше и дальше.
– У вас очень удобный столик, – сообщила женщина. – Приятного аппетита.
Дойдя до задней стены, они по двум ступенькам поднялись на небольшое возвышение, где стояли пять столиков.
– Привет, Данло, – сказал Хануман, сидящий на мягком стуле спиной к стене. – А я все ждал, когда же ты войдешь.
– Так ты знал, что я иду за тобой? – опешил Данло.
– Цефикам полагается знать такие вещи.
– Я просто хотел посмотреть, куда ты идешь, – улыбнулся Данло.
– Ну вот, теперь знаешь. Если хочешь, присоединяйся.
Данло сел рядом с ним и снял перчатки. Такого странного стола, как тот, за которым они сидели, он еще не видывал. Он был восьмиугольный. Ближняя к Данло половина была из черного осколочника, другая, вогнутая, сверкала золотом. По краю золотой половины шел мелкий желоб. Данло уже собрался выразить свое удивление по этому поводу, но тут официант принес им очищенные орехи кона в перечном соусе.
– Ты уже ел? – спросил Хануман. – Я уже сделал заказ – в основном мясные блюда, но такого, что и ты можешь есть, тоже много. Здесь так заведено, что люди, сидящие за одним столиком, едят сообща.
Данло взял костяные палочки и отправил в рот несколько орехов – горячих, сладких и вкусных.
– Откуда у тебя деньги, чтобы ужинать здесь? – спросил он. – И почему ты так одет? И почему выдаешь себя за самумского Архитектора? Ведь ты же их презираешь!
Он думал, что Хануман сейчас ему все разъяснит, но тот сидел молча, попивая красное вино из бокала.
– Тебе, наверно, лучше уйти, – сказал он наконец.
Эти слова упали Данло в уши, как капли горячего воска, и он медленно повел головой из стороны в сторону, не понимая, как Хануман мог сказать такое.
– Будет лучше, если ты уйдешь.
– Хану, неужели ты правда этого хочешь? Зачем же ты тогда приглашал меня?
Хануман, отпив еще глоток, взял со стола нож и легонько провел острием по ладони. Он казался озабоченным, ушедшим в себя, опечаленным. Скраер сказал бы, что он раскаивается в том, что еще не произошло. Зачем, спрашивал себя Данло, ходит он в этот укромный притон, где стоят странные столы и богатые посетители украдкой поглядывают друг на друга? Данло тошнило от запаха раздавленных цветов и подгоревшей крови и еще от ожидания, которое висело в воздухе и вызывало у него желание бежать без оглядки. Он уже хотел попрощаться, но Хануман улыбнулся и сказал ему:
– Нет, останься – я так решил. Я хотел пощадить твои чувства, но это было глупо с моей стороны. Оставайся.
Он взял хрустальный графин и спросил Данло, не хочет ли он выпить. Данло кивнул. Глядя, как льется в бокал красное вино, он осознал, что в зале произошла какая-то перемена.
Разговоры стихли, и только иногда кто-нибудь перешептывался. Прямо под ними за таким же черно-золотым столом сидели две пары. Одного из мужчин, мрачного червячника, сопровождала элегантно одетая проститутка, и если бы не татуированные губы и обведенные красным ободом глаза, она могла бы сойти за жену посла. У двух других, и у него и у нее, были яркие зеленые глаза, слишком большие для их тонких лиц. Это были, очевидно, генетически исправленные пришельцы из какого-то нецивилизованного мира, и оставалось загадкой, почему они сидят за одним столиком с преступником и его шлюхой. Взгляды всех присутствующих были теперь устремлены на этот столик – вернее, на маленького юркого человечка, стоящего у его золотой половины. Это был один из поваров ресторана, весь закутанный в белое полотно, в белом тюрбане, белых туфлях и белых полотняных перчатках. Эту белизну испещряли темно-красные пятна. Взяв со своей стальной тележки сосуд с маслом, он полил зигзагом золотую поверхность стола и размазал масло по ней широкой кистью.
– Золото нагревается лучше всех металлов, – объяснил Хануман. – Поэтому жаровни сделаны из золотого сплава.
Теперь стало ясно, что повар собирается приготовить для завсегдатаев какое-то блюдо. Данло не знал, как нагревается жаровня – плазмой или водородными горелками, – но очень скоро тонкая пленка масла затрещала и задымилась. Повар запустил руку в одно из отделений тележки и вытащил оттуда жирную, упирающуюся самку гладыша. Тело зверька представляло собой сплошную бело-розовую массу, из которой сочилась кровь: подручные повара на кухне только что содрали с него шкурку. Повар держал гладыша за шею так, чтобы все могли видеть его размеры и пол. В другой руке у него был металлический инструмент, напоминающий щипцы для орехов.
Им он быстро переломал гладышу все четыре лапы – так ловко, что Данло и глазом моргнуть не успел. Застыв на своем стуле, затаив дыхание, он смотрел. Во время этой операции гладыш почему-то не издал ни звука, но когда повар швырнул его на жаровню, испустил жуткий свистящий визг, как делают все смертельно раненные гладыши. Он пытался бежать, но лапы больше не слушались его, и он не мог вырваться из пузырящегося масла. Мог только биться в панике, свистеть и кричать.
– Нет, – прошептал Данло. – Нет, нет, нет.
– При таком методе животное перед смертью выделяет большое количество адреналина, – пояснил Хануман, с грустной улыбкой пригубив свое вино. – Некоторые утверждают, что это придает мясу особый вкус, ну и свежесть, конечно, обеспечивается. Сейчас посмотрим, беременна эта самка или нет.
Повар достал ножи и коснулся ими гладыша, в черных глазках которого еще полыхала жизнь. Затем он с изумительной ловкостью мигом разделал зверька на куски, которые шипели, поджариваясь в горячем масле и собственной крови. Избыток крови стекал в желобок и уходил в темное отверстие на углу стола. Оставшуюся повар использовал для приготовления печенки и потрохов. Он добавил в жаровню сок снежной далии и других цветов, получив превосходный соус. Кости, внутренности и другие отходы он отделил и убрал. Данло с облегчением отметил, что в брюхе у самки не оказалось детенышей, но некоторых зрителей это явно разочаровало. Закончив готовить свое блюдо, повар разложил мясо по белым тарелкам, гарнировав его ломтиками апельсина и свежей мятой. Затем поклонился гостям и стал вытирать ножи мягкой белой тканью.
– Деликатесное блюдо, – сказал Хануман. – Хотя я, должен признаться, не люблю гладышатины.
Данло не мог на него смотреть. Он вспотел, дышал с трудом и прижимал ладони ко лбу. То, что он только что видел, потрясло и ошеломило его.
– Ты… был прав… – сказал он, овладев наконец дыханием. – Мне не следовало оставаться.
– Тогда бы ты не узнал, что такое одори. Не ты ли говорил мне, что человек должен испытать все, что возможно?
– Но убивать гладышей таким образом… это шайда. – Он посмотрел вверх, на огни, имитирующие свечи, и ему вспомнилось: «Шайда тот, кто срезает мясо с живого существа».
– Я думал, ты будешь доволен, увидев, что некоторые цивилизованные люди еще предпочитают настоящее мясо синтетическому.
Данло посмотрел, как едят их соседи за нижним столиком, и впервые за много лет помолился за душу убитого животного: «Пела чуриянима, ми алашария ля шанти, о шанти л'Али».
– Конечно, это жестоко, – продолжал Хануман, – но убивать всегда жестоко.
– Убивать нельзя, – сказал Данло.
– Но ведь твои алалои убивают животных, не так ли? Я думал, ты привык к этому зрелищу.
– Охотник никогда не убивает просто так, ради удовольствия. Алалои убивает, чтобы жить – у него нет другого выхода.
– А видел ты когда-нибудь, как кошка играет с мышью?
– Мышей мне видеть не приходилось, но я знаю, что снежные тигры так делают, – признался Данло.
Хануман бросил взгляд на кухонную дверь.
– Ты принес обет ахимсы, Данло, и меня восхищает твоя преданность ей. Я чту твои взгляды, хотя они кажутся мне глуповатыми. Но ты сам признаешь, что жизни свойственна необходимость убивать. А если так, почему бы нам не получать от этого удовольствие? Почему не ценить эту необходимость и не смаковать все, что с ней связано?
Данло хотел ответить, но тут из кухни вышел еще один повар – крупная женщина с мясистыми руками, толстощекая и хмурая. Она подвезла свою тележку с множеством стальных ящиков прямо к их столу. Данло захотелось встать и уйти, но ему казалось, что все на него смотрят. Повариха, кряхтя нагнулась чтобы зажечь горелку под столом, и он подумал, что это поджаривание животных заживо – всего лишь одна из декадентских выдумок цивилизации. Правая его сторона призывала бежать отсюда со всех ног, но левая шептала, что он должен остаться и посмотреть. В итоге он застыл в бездействии, как птица, примерзшая к морскому льду. Повариха помазала золотую жаровню оранжевым маслом. Данло думал о том, что цивилизованные люди, сидящие в своих уютных кафе, без всяких усилий получающие одежду, тепло и комфорт, целиком поглощенные своими профессиями, приобретением знаний или денег, своими бездумными развлечениями, отрезаны от жизни до такой степени, что не видят ни ужаса мира, ни его красоты. Различные наркотики и виды искусств, столь широко распространенные в Городе, дают им возможность коекак воспринимать красоту, а та гнусность, что происходит у него глазах, – это попытка скучающих людей испытать ужас без опасности для себя. Данло ненавидел их за потребность в таких стимуляторах. Он открыл, что и сам, проведя семь лет в Невернесе, отчасти привык к их образу жизни, и это испугало его. В этот момент его правая сторона искренне презирала левую, а живот сводило спазмами от вони горящего масла. Повариха выдвинула ящичек, набитый свежим снегом, и достала оттуда снежного червя. Когда она подняла его вверх для всеобщего обозрения, Данло прижал кулак к животу. Ему впервые открылась часть мировоззрения Ханумана: тот полагал, что все люди жаждут страдания также инстинктивно, как и радости.
– Это шайда. – Данло наклонился к Хануману и прошептал на ухо: – Скажи ей, что мы передумали.
– А мы разве передумали?
– Пожалуйста, вели ей остановиться.
Жаровня уже накалилась, и повариха держала червя прямо над ней. Он отчаянно извивался, и женщина с трудом удерживала его.
– Не надо! – крикнул Данло. – Разве вы не знаете, что аулии очень чувствительны к высоким температурам?
Но повариха его не слушала. Он был не первый новичок, которому становилось дурно в решающий момент. Персоналу дали инструкцию прислушиваться только к постоянным клиентам – и поскольку Хануман молчал, повариха бросила червя на жаровню.
– Нет!
Червь с громким шипением корчился в горячем масле. Он пытался свернуться, но белки в его теле спекались и затвердевали. Повариха поворачивала его во фритюре тупой стороной ножа, а он все корчился, и пищевод, желудок и внутренности Данло корчились заодно с ним, бурля кислотой. На глазах выступили слезы, в горле жгло. Перебарывая кашель, Данло проговорил:
– Нельзя, чтобы он умирал таким образом. Нервы у аулии помещаются очень глубоко!
Ненависть душила его, не позволяя остановиться подробнее на анатомии снежного червя. Иначе он сказал бы поварихе, что большинство животных, если сжигать их заживо, страдают недолго, поскольку у них нервы, наиболее чувствительные к жару, помещаются в кожном покрове и быстро уничтожаются. Он сказал бы Хануману и всем присутствующим, что снежный червь устроен по-другому. У него чувствительность к жару, холоду и всему прочему распределяется по всему организму. Он фантастически восприимчив к теплу. Он будет умирать долго, извиваясь на раскаленном металле, и каждое мгновение покажется ему вечностью.
– Убейте его сразу, – молил Данло. – Пожалуйста!
Но повариха только растянула в улыбке свои плотно сжатые губы и полила червя какой-то янтарной жидкостью. Жидкость – вероятно, коньяк или другой алкогольный напиток – начала шипеть и дымиться. Повариха подожгла ее маленькой зажигалкой, и червь теперь извивался в саване голубого пламени.
– Скажи, чтобы она убила его, – свирепо потребовал Данло, глядя то на Ханумана, то на червя.
– Не могу, – ответил Хануман.
– Скажи!
– Не имеет смысла. Через пару секунд она разрежет его на куски, и все будет кончено.
– Нет, не кончено. Так червя не убьешь. Каждый сегмент живет отдельной жизнью. Она может накрошить аулии тебе на тарелку, но куски все равно останутся живыми.
– Это блюдо именно так и едят. – В голосе Ханумана не было эмоций, и в глазах не отражалось ничего, кроме бьющегося в голубом огне червя.
– Но сначала червя надо убить!
– Думаю, она не знает, как это делается.
– Его надо убить! – настаивал Данло.
– Ну вот и убей.
– Я не могу. Ты же знаешь.
– Еще бы – ведь это дурно. Из сострадания ко всему живому ты поклялся не причинять зла никому, даже гибнущему снежному червю.
Очень долго, как ему показалось, Данло не мог двинуться с места. Потом он снова взглянул на червя, и его сердце тоже загорелось. Он взвился со стула, перегнулся через стол, окунул руки в голубое пламя и схватил червя. Быстро, как мог, он зажал один конец его туловища между двумя пальцами, а пальцами другой руки провел по всей длине червя, как это делают алалои, сдавливая и отключая нерв сегмент за сегментом. Закончив, он бросил червя на стол перед Хануманом и поднял вверх обожженные, измазанные жиром руки.
– Что с тобой происходит? – крикнул он Хануману.
А тот улыбнулся ему и ответил:
– Теперь ты знаешь, что.
Данло и вправду знал, и это знание жгло его изнутри, как ни одна боль до этого. Ненависть захлестывала его с головой – ненависть к Хануману, к растерянным посетителям ресторана, к себе самому. Собственное лицо горело и жгло его, словно огненная маска. Он ухватился за край стола. Черное дерево и золото делали стол невероятно тяжелым, но Данло, напрягшись до хруста в позвоночнике, перевернул его одним рывком. Посуда и цветочная ваза посыпались на пол, разлетевшись градом осколков. Данло, не останавливаясь и не раздумывая, метнулся к другому столу, где еще один повар жарил креветок, и его тоже перевернул. Затем он разделался еще с одним, где в клариевом котелке варился омар, не слыша воплей окаченных кипятком клиентов и не видя их злобных лиц. Двое поваров попытались его удержать, но он расшвырял их и бросился вон из зала. У него хватило соображения схватить свою шубу, прежде чем выскочить в бушующую на улице метель.
Углубившись в темные извилистые ледянки Колокола, он наконец остановился и перевел дух.
– О Хану, Хану, и зачем только я нарушил свой обет? – простонал он.
Данло посмотрел на уличный световой шар и в языках красивого цветного пламени увидел улыбающееся лицо Ханумана. Его правая сторона ожидала, что Хануман бросится следом за ним, чтобы извиниться, но левая шептала, что этому не бывать. Данло стоял на безымянной улице и слушал, не заскрежещут ли коньки по льду. Снег таял у него на лице, но он ждал еще долго, прежде чем повернуть к Старому Городу. Надо было найти какое-нибудь кафе, пока еще не стало поздно: он очень замерз, очень устал и очень сильно проголодался.
Глава XXII ОГНЕННАЯ ПРОПОВЕДЬ
И Пробужденный, пробыв в Урувеле сколько пожелал, продолжил свой путь к Голове Геи, сопровождаемый священниками числом в тысячу человек, из которых все прежде были не стригшими волос монахами. И Пробужденный взошел на Голову Геи с этой тысячью священников.
Тогда он обратился к ним:
– Все сущее, о преподобные, пылает в огне. Что же горит в нем, о преподобные? Горят глаза, и формы, и сознание, которое дает глаз; горят впечатления, получаемые глазом, и все ощущения, как приятные, так и нет, зависимые от впечатлений, получаемых глазом, тоже охвачены огнем.
Из поучений ПробужденногоВо второй день глубокой зимы Бардо завершил переговоры относительно покупки собора в Старом Городе. Это было действительно великолепное здание из древнего камня, украшенное высокими арками. Секта кристиан во время правления Джемму Флоуто воздвигла его поблизости от Академии в надежде привлечь послушников Ордена к культу бога-человека, которого они именовали Мессией. Но кристианство было дряхлой и немощной религией, в которой жизни осталось не больше, чем в беззубом старце, давно уже подвергшемся своему последнему омоложению. Кристиане, не сумев утвердиться в Невернесе, продали свой красивый храм и покинули Город.
Тринадцать веков различные владельцы поддерживали церковь в хорошем состоянии. Бардо купил ее у группы Архитекторов, известной как Вселенская Церковь Эде. Они тоже совсем недавно покинули Невернес – не потому что их религия вступила в фазу угасания, а из опасения, что радиация Экстра скоро уничтожит Город. Собором они владели всего каких-нибудь двадцать лет, совсем им не пользовались и мечтали его продать. Поэтому Бардо заплатил за него гораздо дешевле, чем он стоил на самом деле. Чтобы отпраздновать эту коммерческую победу и заодно отметить годовщину предполагаемого вознесения Мэллори Рингесса, он решил устроить торжество. Девятнадцатого числа на Огненном катке Путь Рингесса собрался провести массовое празднество, какого Город еще не видел.
Приглашаем всех! – значилось на пригласительных дисках, которые сторонники Бардо распространяли во всех четырех кварталах Города. Хотя никто не знал, сколько народу соберется глубокой зимой на уличный праздник, Бардо выбрал самый большой каток Города, чтобы вместить ожидаемые толпы. Лорд Цицерон, узнав, что так близко от Академии скоро соберутся тысячи религиозно настроенных людей, пришел, естественно, в ярость, но почти ничего не смог предпринять. Все городские катки, согласно канонам, являлись общественной собственностью. Пока орденские замбони убирали и разглаживали лед на всех улицах и катках Города (кроме нелегальных), правители Ордена не могли запретить людям там собираться. Они, разумеется, могли запретить всем членам Ордена присутствовать на празднике, но лорд Цицерон, предвидя, что подобный запрет вполне может вызвать неповиновение, благоразумно отговорил лордов Тетрады от издания официального указа. Он дал понять, что Орден праздника не одобряет, воспользовавшись другими путями, а именно: отказался предоставить Бардо передвижные обогревательные павильоны Ордена; за пятнадцать дней до торжества убрал замбони с катка и окрестных улиц, чтобы лед там стал почти непроходимым; наконец, объявил, что все орденские рестораны и туалеты близ катка будут закрыты. К его неописуемому бешенству, Бардо одолел все эти препоны и даже обратил их в свою пользу.
Утро 19-го дня было ясным и очень морозным. Небо безоблачным синим куполом окружало Огненный каток. Сам каток, насчитывающий четверть мили в диаметре, сверкал, как красное зеркало, под лучами встающего над горами солнца. Вокруг него выстроились обогревательные павильоны, большие палатки из алого шелка, колышущиеся на ветру.
Рингисты всю ночь работали, чтобы поставить их. Денег, которые Бардо собрал с новых членов Пути, хватило и на павильоны, и на киоски с едой, стоящие прямо на льду катка. Он нанял поваров из лучших ресторанов Города и скупил в Квартале Пришельцев огромное количество еды и питья. Пока утро разгоралось и первые горожане вступали на лед, запах поджаренного мяса и хлеба уже плыл от киоска к киоску. К нему примешивались ароматы джамбалайи, горячего карри и сотни других блюд. С каждым часом народу вокруг киосков прибывало. Люди поглощали горячие деликатесы, запивая их кофе, шоколадом и подогретым элем.
К полудню на катке собралось три тысячи человек. Тогда на деревянной эстраде, поставленной у южного края, начали играть музыканты. Звуки арф и барабанов разнеслись по всему Городу. Улицы, ведущие к катку, заполнились до отказа. Лед на них сильно потрескался и был к тому же завален снегом, поэтому людям приходилось снимать коньки и идти дальше без них. Бардо, чтобы повысить им настроение, послал туда сотни новых рингистов с пивом и вином.
Раздавал он и другие наркотики: семена трийи из своих личных запасов и грибы теонанкатль; по рукам ходили шелковые кисеты с табаком, тоалачем, бхангом и прочими курительными травами. Участок Серпантина, примыкающий к северному краю катка, тонул в облаках синего дыма; там вспыхивали красными и оранжевыми огоньками сотни трубок и потрескивали семена трийи, испуская психоделические пары. Людские потоки со смехом и песнями струились без остановки, до входа на каток они добирались уже слегка охмелевшие от дыма.
Вновь прибывшие плечом к плечу размещались перед эстрадой, и мантра-музыка пронизывала их до самого нутра.
Были здесь богатые астриеры в мехах и замше, были аутисты в лохмотьях, с посиневшими босыми ногами, были червячники, афазики, воины-поэты, щипачи и архаты, и великое множество академиков в разноцветных шубах. Почти половина Ордена собралась на катке вперемежку с хибакуся, хариджанами и прочим населением Города. Люди продолжали подходить в течение всего дня, и все это скопище (включая также любопытствующих даргинни и фраваши) беспрестанно жевало, пело, курило и плясало.
– Ей-богу, их тут не меньше восьмидесяти тысяч! – сказал Бардо, стоя у выхода из большого обогревательного павильона на задах эстрады. Мантра-музыканты закончили играть, и на сцене никого не было, что позволяло хорошо видеть каток. Глядя на колеблющееся людское море внизу, Бардо издал довольный смешок. – А может, и все девяносто – эта ночь всем надолго запомнится!
Справа от него стоял Данло, слева Хануман. С того вечера в ресторане они ни разу не говорили друг с другом, и между ними возникла стена формальной вежливости и тревожного молчания. Данло тоже смотрел на толпу и считал. Уже почти стемнело, но он еще различал повернутые к нему белые, черные и коричневые лица. По всему катку то и дело вспыхивали и гасли оранжевые огоньки – они походили на порхающих светлячков, но на самом деле происходили от спичек: в такой громадной толпе несколько человек каждую секунду разжигали свои трубки.
– Я насчитал девяносто шесть тысяч человек. – Данло приходилось кричать из-за рокота голосов над катком. – И сорок девять – инопланетян.
Бардо с ахами и вздохами огладил бороду, очень довольный. Он выглядел очень величественно в черной, отороченной золотом шубе. Все рингисты в павильоне за сценой – Сурья Лал, Томас Ран и остальные избранные, а также божки, разносившие горячие напитки и служившие связными – ждали, когда он начнет вечернюю программу. Бардо улыбнулся Хануману, рыгнул и сказал:
– Столько народу – никому еще не приходилось выступать перед таким количеством.
Хануман дерзко облачился в свою форму цефика с оранжевой шапочкой на голове. Вообще-то он терпеть не мог головные уборы и не носил их даже в мороз, а шапочку надел только ради камуфляжа. Под оранжевым атласом помещался головной убор иного рода: хромовый цефический нейрошлем, покрывавший его голову от бровей до затылка. Шапочка прятала его блеск, который иначе был бы виден всем.
– Девяносто шесть тысяч триста девяносто один, – уточнил он. Его широко открытые глаза смотрели невидящим взглядом из-за контакта с компьютером. Шлем создавал сильное информационное поле, постоянно питающее мозг. – И все время подходят новые.
– Пора начинать, пока еще не слишком похолодало, – решил Бардо.
Глаза Ханумана прояснились, и он тоже стал изучать собравшихся. Данло понял, что он временно отключился от компьютера и теперь смотрит на все глазами цефика.
– Я думаю, надо поработать с ними еще немного.
– Еще поиграть? – пробасил Бардо.
Хануман кивнул.
– Только сейчас, по-моему, лучше обойтись без импровизаций и приберечь песнемастеров на потом. Лучше всего будет опять позвать музыкантов. Пусть поиграют – не дольше четверти часа.
– А потом будем выступать?
– Потом будем выступать. Но ораторов должно быть не больше пяти.
– Включая меня? – Бардо, нахмурясь, притопнул ногами так, что доски загудели.
– Ваша речь будет сопряжена с калла-церемонией. Нужно подобрать еще пятерых.
– Прежде всего Данло, само собой. – Бардо улыбнулся ему и поднял вверх огромный палец в золотой перчатке. – Затем моя кузина. Не забудем Томаса Рана и включим, пожалуй, Джонатана Гура.
Хануман покачал головой.
– Лучше чередовать ораторов разного пола, Пусть Ран говорит первым, затем Сурья, затем Данло. Потом надо выпустить Нирвелли. Вы уже слышали ее речь? У нее изящный стиль и красивый голос, как у многих куртизанок.
– Хорошо бы и Тамара высказалась, – заметил Бардо. – Жаль, что у нее сегодня встреча.
При этих словах Данло и Хануман переглянулись. Они оба знали, что Тамара не захотела присутствовать на празднике из-за своей неприязни к Хануману.
– Когда-нибудь мы еще уговорим Тамару поделиться своими воспоминаниями, – сказал Хануман. – Но сегодня от имени куртизанок будет говорить Нирвелли.
– Ты хочешь пойти последним? – спросил Бардо.
– Да, так будет лучше всего.
– Ей-богу, мне больше нравилось первоначальное расписание.
– Мы составляли его, предвидя возможность каких-то перемен, – улыбнулся Хануман.
Бардо снова нахмурился, явно недовольный тем, что Хануман помогает ему вести программу. По правде сказать, Хануман-то и был истинным организатором всего, что происходило в тот вечер. Он предложил раздачу наркотиков, он запланировал фравашийский звукоряд – тональные поэмы и музыку для тела, которые должны были подготовить публику к восприятию речей. Будучи мастером нада-йоги, йоги звука, он умело разместил сулки-динамики, наполнявшие каток симфониями, барабанной дробью и шепотами – мистической музыкой, действующей на тело и мозг. Он сам распоряжался установкой лазеров и лунных прожекторов по периметру катка. Сам подключал всю эту технику к мастеркомпьютеру, спрятанному под сценой, а после сам подключился к нему, чтобы контролировать события. Как цефик, он был чувствителен к малейшим перепадам человеческого сознания и разбирался в них с такой же легкостью, как алалой – в медвежьих следах на снегу. Кроме того, он мог управлять настроением и сознанием толпы, хотя подобные манипуляции массами людей являлись непростительным нарушением его профессиональной этики. Мастерство Ханумана поражало Данло и в то же время вызывало в нем ненависть.
Глядя, как Хануман улыбается Бардо, Данло вдруг понял, что тот замышляет предательство.
– Что-то мне не по себе. – Бардо, надув толстые щеки, выдохнул облако пара. – Боюсь, как бы ты себя не скомпрометировал. Тут присутствуют цефики, и они, конечно, поймут, что ты приложил к этому руку.
– Возможно.
– Тебя могут изгнать из Ордена.
– Это не самое худшее, что может со мной приключиться.
– Так ты готов покинуть Орден?
– Кому я больше обязан преданностью – Ордену или Пути Рингесса?
– Бог мой! Надеюсь, ты не винишь меня за то, что оказался перед таким выбором?
– Меня никто ни к чему не принуждал.
– Я очень надеюсь, что ни тебе, ни кому-то другому все-таки не придется выбирать.
– В вашей надежде нет ничего дурного, и я разделяю ее. Думаю, что нынешний праздник послужит сближению Пути с Орденом.
– Хорошо бы – иначе нам конец.
– Все будет в порядке, – заверил Хануман.
– Как бы там ни было, люди, надеюсь, никогда не забудут о Пути Рингесса.
– После этой ночи они не смогут забыть. – Хануман повернул голову и встретился глазами с Данло, бледный и мучимый ожиданием. Улыбнувшись, он добавил: – Сто тысяч человек – и ни один не забудет того, что увидит и услышит сегодня.
Они вернулись в павильон, а девять музыкантов в обогреваемой одежде заняли места на сцене. Стоя полукругом перед лицом темной массы внизу, они опустили руки на клавиши своих синтезаторов, и над катком зазвучала тихая, протяжная, рокочущая мелодия. Ужасная для слуха музыка освобождала ум от всех мыслей и заставляла тысячи сердец гулко отбивать ритм в головах. Этот гипноконцерт продолжался ровно четверть часа, а затем музыканты, оставив свои инструменты, ушли со сцены.
Было условлено, что ораторы в этот вечер могут говорить о любых аспектах рингизма – лишь бы говорили искренне и кратко. Томас Ран, стройный и серьезный, первый вышел на сцену в своих серебристых мехах. Он, как и на всех прежних собраниях, остановился на искусстве мнемоники и на природе Старшей Эдды. Преуменьшив опасности, связанные с каллой, он превознес ее достоинства. Его сменила Сурья Сурата Лал. Данло из павильона видел, как она прошла к самому краю сцены. Темой ее речи была концепция человечности, а также любовь и ненависть, которые она питала к своему слишком человеческому телу. С грубой откровенностью она заявила, что люди проводят свою жизнь в рабстве у голода, боли и похоти, но сильнее всего их порабощает страх смерти. Однако есть путь преодолеть границы своего тела и достичь бессмертия: это Путь Рингесса, на котором человек жертвует своим телом и своей личностью, чтобы перерасти в божество. Все люди, сказала она, должны открыть свои сердца перед великим и чудесным самопожертвованием Мэллори Рингесса; они должны умереть для самих себя, если желают истинной жизни; они должны носить в себе образ Мэллори Рингесса как видение того, чем они могут стать. Когда она закончила, настала очередь Данло.
Он прошел по скрипучим доскам навстречу приливу ста тысяч голосов. По недомыслию он вышел на мороз в одной камелайке и черных перчатках. Ветер взвихрил его волосы, и кто-то внизу крикнул: «Это Данло Дикий!» Он сам не сознавал, насколько дикий у него вид, весь сосредоточившись на том, что лежало перед ним. Темный воздух пронизывал его до костей, сто тысяч пар глаз смотрели на него, слова, срываясь с его губ, летели через весь каток и за его пределы. Данло, как он говорил Бардо в обсерватории, хорошо обдумал эти слова.
Он отполировал их, насколько можно отполировать, и в них отражалась его преданность истине, хотя, если бы его спросили, он сказал бы, наверно, что говорил слишком вольно, вкладывая в речь больше игры и страсти, чем пристало цивилизованному человеку. Закончив рассказ о своем великом воспоминании, он весь вспотел, несмотря на холод. Он стоял потный, дрожащий и улыбающийся, а слушатели топали ногами и кричали ему «ура». Это «ура» переросло в рев, сотрясший его от паха до легких и пронзивший уши раскаленными иглами. Никогда еще он не слышал такого чудесного и жуткого звука и не думал, что люди, даже когда их много, способны его произвести.
– Ты хорошо говорил, – сказал ему Бардо, когда он вернулся в павильон.
Данло, кивнув, сгреб свою парку, шапку и зимнюю маску.
Оставшиеся речи он хотел послушать вместе с народом и потому вышел, молча поклонившись Бардо и Томасу Рану. Спустившись с эстрады по задней лесенке, он прошел вдоль края катка. В черной маске никто не узнавал в нем человека, который только что говорил о Единой Памяти. Он пробрался на середину катка. Вокруг пахло горячим сыром, жареным мясом и хлебом с примесью пронзительного запаха тоалача. И трескучими семенами трийи, и противоморозным кремом, и подогретым пивом. Волнение чувствовалось повсюду. Несколько щипачей в обогреваемых шелках плясали, охваченные экстазом, но большинство стояли смирно, притопывая ногами по твердому снегу. Все смотрели на юг, и Данло невольно подумал, что не годится проводить торжественную церемонию, обратившись лицом к югу. Сто тысяч людей, глядя в неправильную сторону, переговаривались и вытягивали шеи. Данло был выше большинства из них и хорошо видел Нирвелли, которая, раскинув руки как крылья, говорила о радости вспоминания Старшей Эдды. Гибкая и красивая, с черной, как космос, кожей, она говорила о радости как о силе, способной преобразить любого человека, любую цивилизацию, а когда-нибудь, возможно, и всю вселенную. Ее слова падали в ночь, как жемчуг в черное масло – перлы, не имеющие, казалось, ни источника, ни направления. Данло смотрел на далекую фигуру Нирвелли, и ее голос омывал его со всех сторон.
Все живет только радостью, одной радостью; создание радости – вот цель вселенной.
Когда настала очередь Ханумана, на каток опустилась тишина. Люди не могли знать, что сейчас произойдет, но предчувствовали нечто – поэтому, когда Хануман вышел на сцену, все умолкли и все взоры устремились на него. Данло тоже смотрел как зачарованный на Ханумана, вышедшего к самому краю эстрады. Собранный как пружина, в оранжевых одеждах, он казался одиноким языком пламени на темном горизонте. Он запрокинул голову, подняв лицо к небу, воздел руки, и в тишине прозвенел его голос:
– Он смотрит на нас в этот миг, когда мы стоим здесь под звездами, которые он так хорошо знал.
Данло не знал, намерен ли Хануман рассказать о своем великом воспоминании. Теперь стало ясно, что он только об этом и будет говорить, но не прямо. Его голос опутывал Данло, как серебристая трехмерная сеть. Двадцать три сулки-динамика вокруг катка обогащали его гулким эхо и акустическими обертонами, создавая идеальный голофонический звук. Данло казалось, что Хануман стоит рядом и шепчет ему на ухо. Или кричит в самое его сердце. Вся сила этой зловредной техники в том, что виртуальные звуки и образы нельзя отличить от того, что происходит в реальности. Каждый человек на катке воспринимал речь Ханумана так же, как Данло, и каждый воспринимал ее по-своему. Сотни невидимых компьютерных глаз там же, по краю катка, регистрировали лица и жесты слушателей. Эмоции и мыслеобразы сотни тысяч человек миг за мигом сортировались и кодировались в информацию. Хануман нелегально пользовался цефическим компьютером, который эту информацию перерабатывал, и был единственным Архитектором кошмарно сложной программы, координировавшей его слова с выражением лиц его слушателей. Вернее сказать, она модулировала его голос, интонации, ударения и пропускала все это через сулки-динамики так, чтобы эти звуки действовали на каждого своим, уникальным образом. Поэтому, хотя все слышали ту же самую проповедь, каждый слышал ее немного по-иному. Это был триумф цефики. Данло только диву давался, как это Хануман умудряется манипулировать столькими людьми на столько разных ладов. (И ужасался тому, что Хануман на это способен.) Стоя позади толстого червячника, он слушал, как Хануман говорит о страдании и мировом зле, и думал, каким образом это слышат люди вокруг него. Он продвинулся поближе к сцене, но голос Ханумана продолжал преследовать его, как облако жужжащих мух, нисколько не изменившись.
– И что же первым делом увидит Мэллори Рингесс, глядя на нас? Он увидит – уже видит, – что все мы страдаем и каждый из нас корчится в огне своего бытия.
Данло подумал, что компьютерные глаза не прочтут его лица под кожаной зимней маской и потому компьютер Ханумана не сможет подобрать специфических звуковых ключей, чтобы им манипулировать. Возможно, он единственный среди людей без масок слышит серебряный голос Ханумана таким, как тот есть.
– Все сущее охвачено огнем, – сказал Хануман, и воздух зашипел, как масло на жаровне. – Горят атомы, и электроны, и оголенные ядра плазмы. Горят камни, и воздух, и морской лед, и звезды – все звезды во всех галактиках этого неба горят в огне. Звезды Экстра, взрываясь одна за другой, становятся огнем. Что же это за огонь? Это огонь бытия, огонь сознания, первобытного стремления быть, и принимать форму, и соединяться с другими формами, и эволюционировать.
Данло закрыл глаза, чтобы ничто не мешало ему слушать Ханумана. Чудодейственный, могущественный голос нес в себе вкрапления тысяч других голосов из других времен и мест. В этом голосе слышались радость и угроза воина-поэта и мечтательные интонации аутиста. Слышались благородство, властность и жестокость военачальников Старой Земли, торжественные завывания священников, распев раввина, читающего заупокойную молитву. Пульсация голосовых связок Ханумана вела Данло все дальше, в леса и степи Евразии, где гудели шаманские бубны. Вся мудрость и вся философия минувших веков вливались в голос Ханумана, укрепляя его и заряжая электричеством. Все провидцы, когда-либо делившиеся своими прозрениями с другими, говорили заодно с ним. И все же, несмотря на все эти эволюционные напластования, в самой глубине голоса Ханумана таился один-единственный первобытный звук: вой зверя, мучимого голодом, или болью, или тоской под диском зимней луны. Он рвался из горла Ханумана, как в зеленых вельдах Африки миллион лет назад. Вся история человека была лишь следствием этого воя.
Хануман говорил, а вой все усиливался, и углублялся, и набирал обороты, пока не стал пронзительным, как плач ребенка, зовущего мать. Этот плач, пронизывающий каждое слово Ханумана, таился, возможно, в груди, клетках и атомах всех ста тысяч человек, стоящих на льду, и во всех мужчинах и женщинах, которые когда-либо жили и когда-либо будут жить, в мирах и звездах всех галактик. Протяжный, отчаянный, невыносимый для слуха плач жег огнем уши Данло.
– Все живое горит в огне, – говорил Хануман. – Горят деревья на склоне горы, и бактерии, слишком мелкие, чтобы их видеть, и снежные черви, и гладыши, и детеныши шегшея, зовущие матерей. Горят тигры в ночном лесу – так ярко, что больно глазам. И вы, слушающие эти слова, тоже горите. И я горю. Что же это за огонь, сжигающий нас? Это огонь бытия, и сознания, первобытного стремления быть, и принимать новые формы, и соединяться с другими формами, и эволюционировать. Нас сжигает страсть к жизни, и боль, и страх, рождение, старость и смерть. Сжигает ненависть, несчастье, горе, скорбь и страдание. Что такое человечество, как не скопление огней, горящих ностальгией по бесконечному? Нас сжигает стремление преодолеть себя и ужас перед тем, что эволюция может прекратиться. Сжигают наши возможности, сжигает то, чем мы могли бы быть. Сжигают опасения, тоска и отчаяние.
На этом месте Хануман уронил руки и остановился, чтобы перевести дух, а после снова простер их навстречу толпе, словно заклиная некую силу, видимую только ему. Данло не мог оторвать от него глаз, и все вокруг, топая ногами, дыша паром и кашляя, тоже смотрели на Ханумана. Внезапно его развевающиеся одежды вспыхнули, и весь каток испустил дружный крик. Хануман, словно облитый маслом сиху, горел бездымным оранжевым пламенем, охватившим его с ног до головы.
Данло видел его разинутый в беззвучном вопле рот, видел, как обугливается и лопается кровавыми трещинами его кожа.
Но все это, конечно, было не взаправду. На лице Ханумана появилась грустная улыбка – Данло своими исключительно зоркими глазами даже на расстоянии ста ярдов видел эту улыбку, преисполненную извращенным состраданием. Пламя не тронуло Ханумана, потому что никакого пламени и не было – была иллюзия, созданная сулки-динамиками, но впечатление от нее получилось не менее сильным, чем от реального огня.
– Все горит, – продолжал Хануман, – и мы все горим, и все говорит нам, что это правда. Горят наши глаза и то, что мы ими видим, горят воспринимаемые зрением образы, и все мысли и ощущения, порождаемые этими образами, тоже горят.
В этот миг множество людей по всему катку вдруг превратились в столбы багрового пламени. Огонь, лизнув охваченное паникой лицо аутиста рядом с Данло, перекинулся на горолога, чья красная одежда окутала его пылающим саваном. Данло насчитал сто таких человеческих факелов, прежде чем снова сосредоточиться на том, что говорит Хануман.
– Что же это за огонь, обжигающий наши глаза? Это страсть к жизни, и боль, и страх; это рождение, старость и смерть. Это ненависть, несчастье, горе, скорбь и страдание. Все наше существо пылает при виде наших возможностей и того, чем мы могли бы стать. Пылает опасениями, тоской, ужасом и отчаянием.
Теперь иллюзорное пламя охватило уже тысячи людей. Многие вскрикивали в ужасе, и какое-то мгновение казалось, что сейчас начнется массовая паника. Но хариджаны и щипачи, вскинув руки над головой, пустились в пляс, и настроение толпы от близости к панике перешло в массовый экстаз. Любое большое скопление людей всегда склонно подчиниться внушению отдельной личности. Люди вокруг Данло жаждали стать частью группового сознания, создать это сознание, этот высший разум, эту зажигательную религиозную лихорадку. Они касались одежды друг друга, и хлопали в ладоши, и улыбались, и раскачивались на утоптанном снегу – и наконец, сто тысяч голосов слились в едином реве, расколовшем ночь, как зимний гром. Отдельные «я» сгорали, как спички, уничтожаясь во всепожирающем общем огне. Весь каток превратился в костер, зажженный Хануманом. Между ним и Данло встала сплошная красно-желтая стена. Будь это настоящие горячие газы, сквозь них ничего не было бы видно – но это был чистый свет, и люди вокруг плясали и кружились, не отрывая глаз от Ханумана. Эти глаза горели страхом, тоской и ужасом, но лица выражали противоположное отчаянию чувство.
Хануман протянул свои пылающие руки к Данло и другим, призывая к молчанию.
– Говорят, что есть путь освободиться от этого горения. Если наши глаза горят, мы должны покрыть их влажной тканью. Если горят наши уши, мы должны закупорить их воском. Мы должны отгородиться от образов, и звуков, и запахов, и вкусов, от информации, от всего, что может коснуться нас и чего можем коснуться мы. Говорят, что мы должны отречься от ощущений и от тех мыслей, которые эти ощущения порождают в наших умах. Мы должны отгородиться от сознания и от самого разума. Мы должны отгородиться от всего мира, чтобы не чувствовать к нему привязанности и не гореть из-за него. Говорят, что такое отречение избавит нас от страсти, и что мы, лишившись страсти, освободимся, и осознаем, что мы свободны, и в жизни не будет больше ничего, что заставляло бы нас страдать и гореть.
Пламя, окутывавшее Ханумана, при этих словах приобрело более жаркий голубой цвет. Оратор метался по сцене, размахивая руками, будто его жег настоящий огонь – и снаружи, и изнутри. Даже когда он замирал на миг, в нем чувствовалась бьющая через край энергия. Он выплескивал страсть голосом " всем своим существом – бесконечно живой и влекущий к себе, как магнит. – Говорят, что мы должны отречься от всего мира, чтобы угасить в себе огонь, – но это путь растения, камня или буддийского святого, а не живого человека. Настоящий человек горит стремлением стать чем-то высшим, и пока вы горите, вы принадлежите жизни. Я говорю вам, что вы должны сгореть в собственном пламени, ибо как можно обновиться, не превратившись сначала в пепел? Я скажу вам, что я вспомнил, что я почувствовал, что я увидел: тот, кто сияет ярче других, должен терпеть боль от огня. Для настоящего человека нет иного пути.
Фантастический кобальтовый огонь на катке перекидывался с одного на другого. Наконец он добрался до Данло, и тот тоже загорелся. Все затрещало в пламени: парка, лицо, взлохмаченные волосы и белое перо. Почти все присутствующие на катке горели теперь в этом общем голубом костре.
Каждый мужчина и каждая женщина – это звезда.
Эти слова были близки Данло, как стучащая в ушах кровь.
Он держал пылающие руки перед собой, дивясь огню, в котором не было жара. Это пламя не грело, и пальцы рук и ног горели не от него, а от мороза.
– Каждый мужчина и каждая женщина – это звезда! – воскликнул Хануман, и охватывающий его огонь внезапно сгустился в кобальтовый шар. – Звездный огонь, самый жаркий и самый чистый из всех, выжжет из наших душ все слабое и низкое. Тот, кто хочет светить, должен терпеть боль от огня. Мы должны гореть, чтобы достичь высшей организации своих «я», более глубокого сознания, чтобы расширить границы жизни. Да, мы должны сгореть в собственном огне – лишь тогда родится высшее «я», господствующее над огнем. Лишь тогда мы поймем, зачем горели, стремясь к бесконечному свету. Лишь тогда рождение, старость и смерть сгорят без остатка, и явится бог. Я говорю о боге, который живет в каждом из нас. Этот бог – повелитель огня и света. Он сам огонь и свет – ничего более. Этот бог – каждый из нас. Каждый мужчина и каждая женщина – это звезда, пылающая бесконечными возможностями. Я должен сказать о том, как стать этой звездой, этим вечным пламенем. Лишь став огнем, можно спастись от горения. Лишь так можно освободиться от боли, от страха, от ненависти, горя, скорби, страдания и отчаяния. Вот путь богов. Вот путь Рингесса: он в том, чтобы гореть пламенем нового бытия, сиять новым сознанием, столь же ярким, как звезды, столь же огромным, совершенным и несокрушимым, как сама вселенная. Вот путь Мэллори Рингесса, хранящего свыше Город, где он некогда был таким же человеком, как вы и я.
Закончив свою речь этими словами, Хануман благословляющим жестом простер руки над толпой, а затем воздел их к небу. Вид у него был измученный и ликующий одновременно; он тяжело дышал, обливался потом и дрожал от холода. Сфера голубого огня, окружавшая его, заполнила теперь весь каток.
Горели киоски, столы, кружки с пенистым черным пивом, трубки с тоалачем, туалетные кабинки, обогревательные павильоны и лед под ногами людей. Сам воздух был охвачен огнем – а затем огненный шар рванулся вверх. Хануман, Данло и все остальные запрокинули головы. Столб индигово-лилового огня струился со льда в небо, а багровые, медные и розовые искры, перебегая внизу от человека к человеку, как бы питали его. Толпа в один голос издала могучий слитный вопль.
Данло, несмотря на свои сомнения, поддался общему порыву и вместе со всеми переживал огненную феерию. Он не знал, что эта иллюзия была запрограммирована Хануманом – он даже не догадывался, что такое возможно. Прикрыв рукой глаза, он смотрел вверх. Огненный столб достигал теперь в ширину четверть мили, и казалось, что он поднялся выше горных вершин. Струи огня, играющие оранжевым, красным, зеленым и всеми прочими оттенками цвета, били в небо. Казалось, этому стремящемуся ввысь огню нет предела, что он будет разгораться все ярче и жарче, пока не воспламенит всю атмосферу. Но предел все-таки существовал. Сулки-динамики, которые Бардо взял напрокат у одного ренегата-фантаста, могли распространять свою иллюзию лишь до определенной черты. В десяти тысячах футов над Городом пламя угасло, уйдя в ночь, с чем Хануман ли Тош явно не мог примириться. Как выяснилось вскоре, он стремился создать еще более великолепную иллюзию, зрелище, которого уже никто не смог бы забыть. Но огонь угас, и настала тьма: Данло и все остальные, ослепленные небесным огнем, а также свечением павильонов и толп на катке, внезапно оказались в море пульсирующего мрака.
Затем свет вспыхнул снова – ослепительный свет, вонзившийся кинжалом в мозг Данло и заставивший его заслониться рукой.
По мановению Ханумана вокруг катка зажглись лазеры и лунные прожекторы. Свет заливал каток и поднимался высоко над Городом. Сотни лучей сплетались в сияющий купол. Мелкие ледяные кристаллы в верхних слоях атмосферы отражали наполнявшие воздух фотоны, и свет пронизывал всю атмосферу. Луны, зажегшиеся в пятидесяти милях над планетой, высветили микроорганизмы и ионизированные газы Золотого Кольца. Золотой дождь струился по небу, воздвигая над катком и Городом мерцающий храм.
Хану, Хану, зачем ты предал самого себя?
Данло смотрел в сверкающий купол, размышляя о том, что сказал и сделал Хануман. По сути, Хануман предал Бардо и Путь Рингесса, поскольку они планировали зажечь луны лишь в самом конце праздника, во время возглавляемой Бардо калла-церемонии.
Лишь став огнем, можно спастись от горения.
Данло вдруг стало трудно дышать под маской, и он сорвал с лица промокший кожаный лоскут. Никто не обращал на него внимания и не узнавал в нем сына Мэллори Рингесса: все взоры были подняты к небу. Снег хрустел под тысячами ног, и воздух оглашали стоны, кашель и сдавленные крики. Внезапно у всего сборища вырвался дружный вздох, пронесшийся над катком, как ветер. Сколько же людей поверили в то, что сказал Хануман, думал Данло? Сколько, глядя в золотое небо, повторяют про себя: «Каждый мужчина и каждая женщина – это звезда».
Рядом с Данло стоял странствующий кантор Ордена, весь в сером, с тонким, как истаявший лед, лицом, с утомленным и недоверчивым видом человека, который видел все, что стоит видеть. Воротник его дорожного плаща украшали эмблемы многих планет: Ярконы, Сольскена, Алюмита, Арсита и других, где он преподавал свою чистую математику. Этот цыганствующий ученый, как и все его собратья, так и не заслужил себе звания мастера и обречен был скитаться по Цивилизованным Мирам, преподавая в элитных школах и мечтая о том дне, когда он сможет вернуться в Невернес. И вот он вернулся, но не с триумфом, как мастер, а как скромный пилигрим, стремящийся в священный город своей юности. На первый взгляд он мог показаться все таким же молодым – с гладкой кожей и подтянутой мускулистой фигурой, но Дашто видел, что он уже далеко не молод. Его глаза отсвечивали ярко-лиловым – от имплантированных бактерий, – это было модно сто лет назад, но теперь считалось нелепым. Эту несчастную изношенную плоть недавно восстановили, нарастив в поле искусственной гравитации новые бугристые мускулы. Кантор чувствовал себя неловко в своем новом теле, и все в его осанке выдавало закоренелые привычки и рефлексы, накопившиеся за два полных страданий жизненных срока. То, что он страдал, угадывалось легко, как и то, что он горько разочаровался в жизни. Его жгли все виды горя, скорби и отчаяния, муки утраченной любви, разбитые мечты и ненависть к бессмысленности всех миров, где ему пришлось побывать. Но этот пустой человеческий остов стоял под зажженными Хануманом огнями, и его лицо, омытое золотым сиянием, оживало.
Он был слишком горд, чтобы выражать восторг открыто, и все же небесные огни всколыхнули все его существо и, быть может, заставили предположить, что тайны и возможности вселенной для него еще не потеряны.
Каждый мужчина и каждая женщина – это звезда.
Если уж циничный старый кантор мог смотреть в небо и желать обновления, что тогда говорить об остальных? Повсюду, куда Данло ни смотрел, лица светились заинтересованностью и надеждой – сто тысяч человек горели тоской и неодолимой потребностью освободиться от своих страданий. Хануман сказал им, что если терпеть священный огонь достаточно долго, можно спастись от горения, стать чистым пламенем и светом и самим творить свои возможности.
Каждый мужчина и каждая женщина – это звезда.
Данло стал пробираться к сцене мимо мохнатых шапок, через запахи духов, пота и возбуждения, мимо женщин, в благоговейном экстазе глядящих на небо. Сам он смотрел только на Ханумана, стоящего на краю сцены. Тот по-прежнему держался неподвижно, как статуя – воздев руки и запрокинув голову, – его глаза были закрыты, лицо выражало глубокий экстаз. Возможно, его пожирал огонь, который нельзя угасить.
– Хану, Хану, – шептал Данло, – почему ты не сказал им правды?
Каждый мужчина и каждая женщина – это звезда.
Правда в том, что огонь для всех один, и если люди страдают больше, чем камни или снежные черви, то страдания богов неизмеримо больше человеческих. Вся вселенная от Павлина до облака галактик Большой Медведицы сгорает от боли. Ни один бог, как бы могуч и огромен он ни был, не может избежать этой боли – вот о чем Данло хотел сказать Хануману. Он хотел сказать ему и всем другим, что они действительно могут стать богами, если таков их гений и их судьба, но лишь холодные вневременные глубины Старшей Эдды способны избавить их от страданий. Но Данло уже сошел со сцены, и момент, когда он мог сказать эту правду, миновал.
Хануман открыл глаза и улыбнулся – на катке грянуло громовое «ура», – а потом вернулся в павильон за сценой. Луны еще горели, когда взбешенный Бардо вышел на сцену со своей речью. После этого началась массовая калла-церемония (без каллы). Новые рингисты, исполнявшие роль вожатых, отмеряли тысячам участников морскую воду. (Впрочем, в толпе ходил и Джонатан Гур, потихоньку раздававший пробирки с настоящей каллой всем, кто искал Старшей Эдды. Члены его кружка и многие другие собрались скоро перед сценой и впали в настоящий транс.) Ритуальное питье соленой воды сопровождалось уверениями, что Мэллори Рингесс воистину стал богом и когда-нибудь вернется в Невернес. Говорилось, что он открыл человечеству секреты Старшей Эдды для того, чтобы все люди могли стать богами, и что люди могут достигнуть этой цели лишь в том случае, если будут следовать по Пути Рингесса. Надо сказать, что после сотворенных Хануманом чудес церемония выглядела скучной и малозначительной. Люди пили свою воду и произносили символ веры, стоя все под тем же золотым куполом; небесный свет отражался в их глазах, и лица выражали благоговение.
Когда церемония наконец закончилась, повсюду завязались разговоры и зазвучал смех. Многие отнеслись скептически к тому, что видели, многие сожалели, что попусту морозили себе носы столько времени. Эти разошлись быстро. Но все те, кто остался попить пива в обществе друг друга, сходились на том, что праздник удался на славу, что Хануман ли Тош – великий человек, и, самое главное – что в каждом из них, сколько их ни есть на катке, действительно горит звездный огонь.
Глава XXIII ЖЕМЧУЖИНА
Мое чрево – это память, и в него я помещаю семя. Так рождается все сущее. Все сущее, Арджуна, исходит из чрева памяти, и я – оплодотворяющий его родитель.
«Бхагавад-Гита»Вглядываясь в мутные воды истории (или оценивая перспективы эволюции человека и искусственной жизни в галактике), приходишь к выводу, что Огненную Проповедь Ханумана можно считать знаковым событием. Это был момент, когда рингизм заявил о себе перед всей вселенной. На Орден проповедь оказала немедленное и глубокое действие: в ранние дни глубокой зимы многие специалисты и академики начали посещать службы в приобретенном Бардо соборе. Многие из них принимали то, что впоследствии назвали тремя столпами рингизма, а именно: что Мэллори Рингесс воистину стал богом и когда-нибудь вернется в Невернес; что он открыл людям секрет Старшей Эдды с тем, чтобы перевести все человечество в божественное состояние; что люди могут стать богами лишь в том случае, если будут следовать по Пути Рингесса. Немало выдающихся мастеров и лордов, таких как Коления Мор, Хьюви Сири Саркисян, Джонат Парсонс и Дару Пенхаллегон, преклоняли колени в нефе собора и произносили символ веры вместе с другими новообращенными жителями Города. Какихнибудь тридцать лет назад, во времена Хранителя Времени, Орден ни за что не потерпел бы такого религиозного поветрия. Лордов и мастеров отправили бы в отставку, кадетов наказали, послушников не допустили бы к принятию обета. Но Хранитель Времени уже девятнадцать лет как умер, между пилотами состоялась война, и в Коллегии Главных Специалистов тоже не было согласия. По-настоящему Орденом никто не правил. Тетрада в отличие от Хранителя Времени так и не приобрела тоталитарную власть и никогда не функционировала как единое целое. Ченот Чен Цицерон кипел яростью против рингизма и рингистов, в то время как мягкоречивый Николос Старший советовал проявить сдержанность. Мариам Эрендира Васкес, чувствуя, возможно, свою вину за то, что отвергла прошение Данло относительно алалоев, жадно слушала рассказы о его великом воспоминании и совершенно открыто высказывалась за исследование Старшей Эдды – но исключительно традиционными мнемоническими методами, а не путем калла-церемоний Томаса Рана. Что до загадочного лорда Палла, никто не мог понять, чего он хочет: уничтожить новый культ на корню или подчинить себе.
34-го числа глубокой зимы 2953 года Цицерон на открытом заседании Коллегии упрекнул лорда Палла в том, что тот позволяет самым блестящим своим кадетам общаться с этим демагогом, пророком новой религии.
– Лорд Палл должен объяснить нам, почему Хануман ли Тош не был наказан за нарушение профессиональной этики. А также почему Хануману ли Тошу позволили контактировать с пилотом-ренегатом, известным под именем Бардо.
Лорд Палл, разумеется, ничего не должен был объяснять – особенно Ченоту Чену Цицерону, которого явно считал самым несносным из своих соперников в борьбе за власть. Однако он встал, обернувшись к собранию, потер свои розовые альбиносские глаза и на цефическом языке знаков произнес речь, которую его переводчик озвучил так:
– Дарования лорда Цицерона чересчур велики, чтобы тратить свое время на какого-то кадета-цефика. Я сам разберусь с Хануманом ли Тошем и поступлю с ним как должно. Все религии опасны, это так, но нам не следует опасаться, что мы не сможем взять этот жалкий культ Бардо под свой контроль. Не следует опасаться, что Путь Рингесса, в чем бы он ни заключался, сможет как-то противопоставить себя нашему вечному Ордену.
Но Путь Рингесса уже начинал противопоставлять себя Ордену. Вернее сказать, его бурное распространение, в числе других исторических причин, сыграло свою решающую роль в расколе Ордена. Уже в то время, когда Данло пришел в Невернес, сотни специалистов изъявляли желание добровольно отправиться в Экстр из ненависти к каким бы то ни было религиям и богам. Световые годы Экстра, полные взорванных звезд и разрушенных планет, они рассматривали как трагический итог деятельности религиозной группы, поклонявшейся богу Эде. Религиозность во всех ее формах вызывала у них такое же отвращение, как и удушающий орденский холизм. Они стремились покинуть Невернес, видя в этом путь к избавлению – теперь же, когда их коллеги из Упплисы и Лара-Сига принялись обожествлять Мэллори Рингесса, их тяга к освобождению перешла в нечто среднее между паникой и крестовым походом. Другие, пившие каллу и слышавшие проповедь Ханумана, смотрели на рингизм как на свежий ветер, который выдует прочь все эти застойные догмы, эти устаревшие взгляды на вселенную, которые, словно выбитые на камне механистические уравнения, въелись в самые почтенные институты Ордена. Этот сияющий звездный ветер вдохнет новую жизнь в Орден и во весь Город, говорили они. Опасливые мысли о том, что растущий напор рингизма может смести их самих, как уносимые в ночь угли костра, привели их к решению вступить на Путь Рингесса с самого начала, чтобы как-то управлять этим взрывным движением. Будучи элитой элитного Ордена, они полагали, что будут умерять пыл недовольных и безумцев всякого рода, которые сбегаются на свет новой религии. Хануман ли Тош, входивший в ту же элиту, был их надеждой и гордостью. Они полностью поддались обаянию его умных речей, не предвидя того, что их поклонение ему в конце концов погубит Орден.
Впрочем, среди тех, кто превозносил Ханумана, члены Ордена составляли меньшинство, большинством же были хибакуся, хариджаны и аутисты из беднейших районов Города с вкраплениями архатов, инфолаторов и принцесс. Сурья Сурата Лал после проповеди Ханумана стала называть его Агни, то есть «Горящий» или «Повелитель огня», и другие рингисты тоже обращались к нему таким образом. Его популярность росла так быстро, что это поражало всех, особенно Бардо, отчаянно ревнующего к восходящей звезде Ханумана. Это было больше чем ревность: Бардо глубоко ранило и разгневало то, как предал его Хануман в ночь празднества.
– Ей-богу, в жизни больше не стану звать его на свои торжества, – заявил разобиженный Бардо, обращаясь к Данло, несколько дней спустя. – И отлучу его от нашей чертовой церкви! – Возможно, Бардо так и поступил бы – но он, несмотря на всю свою злость, считал Ханумана слишком ценным, чтобы отбросить его вот так, словно выжатый досуха кровоплод. Во вновь открытый собор Бардо стекались тысячи божков, и у него хватало рассудка понять, что они приходят слушать Ханумана, а не его.
Большинство вступавших на Путь хотели чего-то для себя: божественности, просветления, приобщения к святым таинствам или воспоминаниям. Но были и такие, которые хотели одного: посвятить рингизму все свои силы и дарования. К этому меньшинству принадлежала Тамара Десятая Ашторет. Ее мечтой было обогатить Путь Рингесса древними секретами тантры, хоторые она так хорошо изучила. После проповеди Ханумана рингизм представлялся ей священным золотым древом, способным расти и развиваться сразу в нескольких направлениях. Пусть оно, как предсказал Хануман, устремляется к звездам, навстречу бесконечным огням вселенной – оно тем не менее состоит из миллионов людей, наделенных человеческими телами. Тамара страстно, всем сердцем верила в то, что эти тела следует как можно чаще подпитывать эликсиром чистой сексуальной энергии, иначе они никогда не будут по-настоящему живыми. Эти чистые побуждения и привели ее на Путь Рингесса. Впрочем, как обнаружил Данло в эти холодные дни глубокой зимы, характер у нее был сложный, и она, делая то или другое, руководствовалась не одной, а многими причинами.
Данло старался проводить с Тамарой как можно больше вечеров и ночей, и все же их всегда было мало. Профессиональные обязанности слишком часто вынуждали Тамару отправляться по морозу к другим мужчинам (и женщинам), многие из которых были лордами и мастерами Ордена. Данло не ревновал ее к ним лишь потому, что не был ревнив по натуре – впрочем, ранний опыт, полученный в племени деваки, любого отучил бы ревновать. Деваки, как и все алалои, самый терпимый народ – во всяком случае, в добрачных отношениях. Данло по-прежнему верил, что холостяку неприлично ревновать незамужнюю женщину. Поэтому всякую ночь, когда Тамара была свободна, он аккуратно являлся в ее дом в Пилотском Квартале и неизменно радовался чудесам, которые она дарила ему. Он любил бывать с ней наедине в ее доме, стоящем на тихой улице над утесами Северного Берега. Маленькое каменное шале с ничем не застланными полами из осколочника отличалось большой скромностью – Данло совсем не таким представлял себе жилище куртизанки. Но Тамара все свои контракты выполняла в Квартале Пришельцев, где ее Общество содержало самый роскошный во всем Городе дом удовольствий. К себе она мужчин не приглашала и потому не должна была угождать ничьим вкусам, кроме своих, ей же нравились не пышность и богатая обстановка, а открытые окна, комнатные цветы и красивый паркет, на котором она танцевала босиком, как плясуньи секты суфи. Дома она обычно обходилась вообще без всякой одежды и расхаживала повсюду голая. Она делала это без риска шокировать соседей, поскольку дома по обе стороны от нее принадлежали пилотам, исследовавшим Экстр с тех самых пор, как она тут поселилась. Она подолгу сидела нагая в своей медитативной комнате, на подушках в простых полотняных наволочках, глядя в окна на морские утесы и замерзший Зунд далеко внизу.
Чтобы не мерзнуть без одежды, она жарко натапливала свой дом. Данло, приходя к ней, сразу попадал в тепло. В каминной у Тамары было целых два очага, и она накладывала в оба кучу поленьев, прежде чем улечься с Данло на шегшеевую шкуру посередине. Здесь, при свете пламени, она показывала ему всевозможные позы своей сексуальной йоги. Часто они начинали с того, что Данло садился на шкуру, скрестив ноги, в позе черепахи или лотоса, а Тамара усаживалась на него.
Они соединялись, дыша в такт, напрягая мускулы и обильно потея – так, чтобы соленая вода струилась вдоль позвоночника. Тамара не раз говорила, что температуру тела нужно поднять так, чтобы пропотеть как следует.
Однажды ночью, после особенно неистовых любовных игр, Данло лег наконец плашмя на шкуру, с трудом переводя дыхание. Пряди мокрых волос липли к лицу и шее.
– Умираю от жары, – сказал он. – Может, окно откроем?
– А мы что, уже закончили? – Тамара сидела рядом с ним, и пот струился меж ее тяжелых грудей в пупок. Золотистые волосы на лобке взмокли, и вся она блестела, как намасленная. Откинув с лица длинные влажные пряди, она немного отдышалась и улыбнулась ему. – Если да, можно пойти в чайную комнату и закусить.
Они вытерли друг друга полотенцами и накинули кимоно из черного шелка. Чайная комната примыкала к медитативной, и там было намного прохладнее. Данло любил эту комнату – стропила розового дерева, бумажные стены и чистые приятные запахи. Тамара обожала красивые вещи, и немногие находящиеся здесь предметы радовали глаз: фарфоровый чайный сервиз на низком столике, статуэтка-доффель – медведь, вырезанный из осколочника каким-то алалоем, и на подоконнике – семь натертых маслом камней, найденных Тамарой на берегу. Данло сел к столу так, чтобы любоваться ими. В чуть приподнятое окно проникал холодный морской воздух. Внизу, под утесами, на которые Данло любил иногда взбираться, лежал скованный льдами глубокой зимы Штарнбергерзее.
– Тебе чая или кофе? – спросила Тамара.
– Чаю, пожалуйста. Мятного, если есть.
Тамара ушла на кухню – ее дом относился к тем немногим в Городе, где кухня имелась. Большинство считало, что есть одному у себя дома – это варварство и асоциальное поведение, но Тамара как-никак была куртизанкой и питание в публичных местах находила затруднительным. Вскоре она появилась снова, неся на подносе чайник, серебряные ножи и ложки, вазочку с медом и вазу побольше, с кровоплодами и мандаринами. Поставив поднос на стол, она села напротив Данло, разлила по голубым чашечкам горячий золотистый чай и подала одну Данло с грацией, которой куртизанок обучают в первую очередь.
Данло пригубил обжигающий напиток, глядя на ее длинные красивые пальцы.
– Я люблю смотреть на тебя. На то, как ты двигаешься.
В ответ на его комплимент она улыбнулась, как делала всегда, и вскрыла длинным ногтем кожицу мандарина. Она чистила эти фрукты по-своему, снимая кожуру непрерывной тонкой лентой, витками, от северного полюса до южного.
Очищенный мандарин она протянула Данло, а оранжевую спираль оставила себе и стала играть ею, сжимая и разворачивая, как пружину. Данло дивился вниманию, которое она уделяла таким вот мелочам. Ему нравилось, как она наливает чай точно в середину чашки, как медитирует над этой золотистой струей. Казалось, что все на свете приводит ее в восторг. Ее радовали чайные ложечки и чашки, и звучание собственного голоса, когда она разговаривала с Данло. Она обращала внимание на все, что происходит вокруг, а к Данло относилась так внимательно, как никто до нее. Эта внимательность была ее вежливостью и ее талантом. Ее искусство заключалось в том, чтобы познавать людей до конца и помогать им достигнуть радости. Она хотела быть дарительницей радости, раздавать ее своим знакомым точно так же, как она серебряным ножиком намазывала медом каждую дольку мандарина, прежде чем положить ее Данло в рот. Ей хотелось бы охватить своим мироощущением каждый камень и каждую снежинку и находить радость во всем, будь то мытье посуды, полировка морских камешков или соединение с Данло в медленном, потном экстазе. «Весь секрет экстаза – в деталях», – сказала она однажды. Она гордилась тем, что благодаря ей он постигает все более высокие степени экстаза, и кормила его мандаринами, и говорила с ним о пустяках, и слушала его так, как это умеют только куртизанки.
– А я люблю смотреть, как двигаешься ты, – сказала она, оторвав еще две дольки. – Так плавно – должно быть, оттого, что вырос вне цивилизации. Цивилизованные люди все точно из металла склепаны.
– Ты многих мужчин учила… умению двигаться?
– Я пыталась – но мужчины твоего Ордена такие зажатые.
– Не могу поверить, что ты не добилась успеха.
Она склонила голову с притворно-скромной улыбкой.
– Ну, таких, которые уж совсем не поддавались бы обучению, конечно, нет.
Данло вытер с подбородка каплю мандаринового сока.
– Тебе нравится учить людей, правда?
– Смотря кого.
– Мне иногда кажется, что ты и рингистам хотела бы преподать свое искусство.
– Ты думаешь, это было бы хорошо?
Данло съел еще дольку и отпил глоток чая. Мятный напиток, горячий и прохладный одновременно, подчеркивал кислинку мандарина и оживлял вкусовые бугорки на языке.
– Я много думал о том, почему Путь так интересует тебя – нас обоих. Ты как-то говорила, что хочешь пробуждать людей. Пробуждать наши клетки, чтобы мы жили, как настоящие люди. Но это как-то не совпадает с третьим столпом, правда?
– Что это за третий столп? Никак не могу запомнить.
– «Люди могут стать богами лишь в том случае, если они следуют по пути Рингесса», – процитировал Данло.
– Но не думаешь ли ты, что мы, прежде чем сделаться богами, должны стать настоящими людьми?
– Разве это важно – то, что я думаю?
– Очень даже важно.
– Тогда я скажу, что тебе, по-моему, стоит обучить рингистов своему искусству. Это ведь твое призвание, правда?
Кивнув, она взяла кровоплод и стала рассматривать его, словно алмаз, который собиралась огранить.
– Я еще в детстве хотела стать куртизанкой. Об этом, конечно, многие мечтают, и многие получают отказ, но я всегда чувствовала, что это мое призвание и что я буду очень несчастна, если меня не примут.
– Разве тебя могли не принять? – улыбнулся Данло. – Ты самая красивая из всех людей, которых я знаю.
Тамара залилась своим мелочным смехом, но тут же посерьезнела.
– Ты напрасно льстишь мне таким образом. Я всегда была чересчур тщеславна.
Это была правда, и Тамара ненавидела себя за это, хотя и пыталась относиться к этой своей черте с той же естественностью, что и ко всем остальным.
– Ты такая, какая ты есть, – сказал Данло.
– И тебе не слишком нравится то, чем я занимаюсь, верно?
– Это ограничивает наши общие возможности, – признался он.
– Ты опять о браке?
– Да, но брак – не главное. Главное – семья… настоящий союз.
– Это так важно для тебя?
– В конечном счете ничего важнее нет. – Он отвернулся и прижался лбом к холодному окну. – С самого прихода в Город я жил для себя. Мои планы, мои неудачи, мои мечты. В цивилизованном обществе очень многие так живут, даже академики и пилоты. Предполагается, что мы посвящаем себя Ордену, да? Мы сами жаждем этого посвящения. Пожертвовать часть себя чему-то большему, чем мы сами. Это идеал, но мало кто его достигает, мне кажется. Все говорят, что Орден мертв, и вот мы вступили на Путь, чтобы заполнить пустоту. Но ее нельзя заполнить, столпившись впритирку в соборе. Или становясь на колени и принимая от Бардо соленую воду. Для меня по крайней мере это невозможно. Я с радостью покинул бы Город навсегда, если бы не ты. Если бы не то, что мы могли бы сделать вместе. Называй это браком или союзом, как хочешь, но это было бы что-то великолепное. Благословенное. Это наше с тобой предназначение. Теперь я это вижу. Я очень долго был слеп. Когда мое племя погибло, я тоже умер – отчасти. Но мне даже не снилось, что такие, как ты, бывают. Наши ночи опять меня оживили, и я впервые за долгое время чувствую, что полностью здоров душевно.
Договорив, Данло поднял окно, чтобы впустить свежий воздух. Ночь была холодная и ясная, и лед на Зунде блестел при свете звезд, а над ним, как темные древние боги, высились горы.
Тамара подошла и опустилась на колени рядом с Данло. Ее глаза, вопреки серьезному выражению лица, сияли. Тронув его за руку, она сказала:
– Ты такой красивый и говоришь тоже красиво. Но честно ли это – говорить о браке, когда тебе запрещено жениться?
– Я пока еще кадет и не принимал пилотской присяги.
– Но скоро примешь, не так ли? Тебе не позволят жениться, а потом отправят в Экстр, и мы распрощаемся навсегда.
– Нет… не навсегда.
– Ты собираешься вернуться в Невернес?
– Как только смогу. Как только найду противочумное средство. Если оно существует.
– Понимаю. Ты должен исполнить то, что обещал себе.
Данло пожал плечами – эту привычку он приобрел после поступления в Ресу.
– Называй это как хочешь.
– Ты выполнишь свое обещание и вылечишь своих алалоев. А потом? Что будет с нами потом? Я слышала рассказы о женщинах, которые ждали пилотов из космоса.
– Ты имеешь в виду искривления времени?
– Я слышала о пилотах, которые стали старше на три года, в то время как их подруги состарились на тридцать.
– Это эйнштейновы нарушения. Случается, что искривления мультиплекса вызывают их.
– Замедленное время и сон-время ускоряют работу тела и мозга, верно? Ускоряют внутреннее время человека.
Он с улыбкой сжал ее руку.
– Я все забываю, как много ты знаешь о разных вещах.
– Не так уж много. Я не знаю, что значит быть замужем за пилотом – да и за любым другим мужчиной.
И Тамара заговорила о том, о чем раньше не хотела говорить. Они пили чай, ели кровошюды, и она рассказывала ему о своих мечтах, своих секретах и своих страхах, особенно о страхе, общем для всех куртизанок: состариться быстрее, чем это происходит у других людей. Поскольку куртизанки омолаживаются с возрастом каждые двадцать лет и поскольку этот процесс можно повторять всего три-четыре раза, с окончательной старостью они сталкиваются намного раньше остальных. Тамара боялась состариться и утратить свою красоту, но больше всего пугала ее мысль о том, что было бы с ней, если бы Общество не приняло ее в послушницы двенадцать лет назад.
– Если бы я не ушла из дома, то просто умерла бы, – говорила она. – Я выросла бы и стала такой же, как моя мать, и это убило бы мою душу. Я стала бы мертвой внутри, как все остальные.
Опустив раму окна и сняв кимоно, чтобы чувствовать себя удобнее, она стала рассказывать Данло о своей семье. Она происходила из большого астриерского рода, более или менее надолго осевшего в Городе. У астриеров семьи всегда большие, и семья Тамары ничем среди них не выделялась: Тамара была десятой из тридцати двух детей, большинство из которых все еще жили с родителями в огромном доме в Квартале Пришельцев. Было маловероятно, что они когда-нибудь достигнут идеальной цифры ста детей, хотя мать оставалась вполне способной к деторождению и продолжала производить потомство год за годом. Пять раз она рожала двойню, а однажды даже четырех близнецов. Тамара подозревала, что матери на самом-то деле давно опостылело это занятие. «Не муха же она, чтобы без конца откладывать личинки», – как выражалась дочь. Но гордый тысячелетний род Ашторет восходил по женской линии к легендарной Александре Евангелике. Эта Александра была, пожалуй, самой знаменитой матерью в истории. Половина ее детей перешла в новую религию, эдеизм, и продолжила имя Ашторетов, другая же половина переделала свою ДНК и превратилась в инопланетный вид, известный как гульды.
Гульды затерялись где-то в глубинах галактики, а многомиллионный род Ашторетов заселил множество планет. Одна из прародительниц Тамары обосновалась в Городе. За последующие века многие Аштореты покинули Город, но многие так и остались здесь. Дома к югу от Зимнего катка, где Серпантин загибается к Южному Берегу, прямо-таки кишели Ашторетами. Это место так и называлось – Ашторетником, и Тамара могла бы насчитать там тысяч девяносто племянниц, кузин и тетушек. Аштореты, не единственные астриеры в Городе, являлись, однако, образцом для своих единоверцев и строго придерживались семейных традиций. Мать Тамары, Виктория Первая Ашторет, во многом была типичной астриерской матроной: властная практичная материалистка, хитрая и все подвергающая сомнению, но при этом любящая, самоотверженная, терпеливая, гордая и ужасно тщеславная. Больше всего в жизни Тамара боялась стать похожей на нее – и этого едва не случилось. В одиннадцатилетнем возрасте мать просватала ее за богатого астриера, старше ее на десять лет. Через семь лет Тамаре предстояло выйти замуж и прилежно рожать детей.
Много детей – от эдеистов любого толка требовалось выпускать в жизнь как можно больше сознаний, волшебным образом преобразуя мертвую материю в живые существа, чтобы в конце времен все живое сознание во вселенной слилось с Богом Эде. Вступив в Общество Куртизанок, Тамара спаслась от этого рокового материнства. Самая идея брака вызывала в ней испуг и тревогу, и обычно она избегала разговоров на эту тему.
Сейчас это случилось с ней впервые. Держась за руку Данло и глотая свой чай, она объясняла своим грустным певучим голосом, почему никогда не сможет стать его женой.
– Брак – самая страшная западня на свете. Как только у женщины появляются дети, она начинает вязнуть в бесконечных заботах, и для экстаза больше не остается времени.
– А тебе не кажется, что астриерские браки – это все-таки крайность? – спросил Данло, погладив ее по руке.
– Брак есть брак. Даже ваши алалойки рожают по многу детей.
– Да, – согласился Данло, потрогав шрам над глазом. – Но многие дети умирают еще до того, как получат имя.
– И женщины продолжают рожать новых.
– Да… но не для того, чтобы заменить ушедших на ту сторону. Не только для этого. – Он провел рукой по лбу, вспоминая. – Женщины в моем племени были очень страстные. Их крики, несущиеся из снежных хижин, не давали нам спать по ночам, особенно глубокой зимой, когда ночи, почитай, конца нет. Жены наших мужчин знали, что такое экстаз. Они не нуждались в религии, чтобы ложиться со своими мужьями.
Тамара, перебирая темные волосы у него на руке, спросила:
– Деваки вступали в брак на всю жизнь?
– Навеки. – Жуя сочные дольки кровоплода, он рассказал ей, каким видят алалои загробный мир. Дух человека, пояснил он, – его первое «я» – приходит в мир нагим и одиноким, отрезанным от духов всего живого. Но у каждого мужчины есть доффель, второе «я» – зверь или птица, на которых он не должен охотиться. Первый долг юноши, когда ему сделают обрезание и посвятят в мужчины – войти в сон-время и найти там своего доффеля. Его дух мистически сливается с его второй половиной, и тогда его «я» обретает цельность и вечную жизнь. Он становится частью мировой души. Лишь после этого он может начать поиски той единственной женщины, которой суждено стать его женой. Как обретают свое цельное «я» алалойские женщины, Данло не знал – это была тайна. Знал он только, что души мужчины и женщины, соединившись, навеки остаются вместе и дают жизнь душам своих детей, и жизнь таким образом продолжается.
– Алалойская теология сложна, но очень красива. – Лицо Тамары выражало живой интерес. – Твои алалои – настоящие романтики.
– Да, они могут быть и такими. – По тому, как Тамара произнесла слово «романтики», Данло почувствовал, что и она в душе романтик, скрывающий многие свои желания.
– В сущности, ты так и остался алалоем, правда? – спросила она. – Диким-предиким.
По правде сказать, Тамара Десятая Ашторет любила мужчин не меньше, чем жизнь, и давно мечтала о браке, основанном на слиянии двух душ. Мечтала, что у нее будут дети, двое – мальчик и девочка. Но она никому не выдавала своей мечты, считая ее глупым пережитком детства, и стьщилась этого желания, которое ее мать назвала бы «эгоистичным и неисполнимым». В возрасте, когда мало кто вступает в брак по любви и совсем немногие – на всю жизнь, это и правда казалось неисполнимым. Тамара боялась, что Данло вновь пробудит в ней это желание, а потом бросит ее – то ли устремившись к одной из своих целей, то ли сделавшись богом, то ли обнаружив в тайной части ее «я» жестокую и ужасную красоту, которая может однажды проснуться и поглотить его.
– По-настоящему ты не хочешь на мне жениться, – сказала она.
– Нет, хочу.
Она положила в рот дольку кровоплода, глядя на него.
– Ты отказался бы ради этого от своей цели? От экспедиции?
После долгого молчания он ответил:
– Думаю, что да.
– Ну так выброси это из головы. Нельзя отказываться от своей мечты.
– Теперь у меня другая мечта.
– А твой народ? Алалои?
– Лалашу… благословенный народ… обречен. Уже пять лет, как я это знаю.
– Не можешь же ты просто взять и бросить их, не будучи уверенным.
Данло встал и прошелся по комнате. Паркет ритмично поскрипывал под его тяжелыми шагами. Он остановился у окна, глядя на замерзшее море, и сказал:
– Нет. Я не смогу их бросить, даже если они обречены. Особенно если обречены.
– А я не смогу уйти из Общества. – Тамара тоже встала и подошла к нему. – По крайней мере теперь.
– Потому что это твое призвание. – Данло слизнул с зубов горько-сладкий сок кровоплода.
– Путь Рингесса – это и мой путь. Многие из нас так думают.
– Какая ирония, – тихо засмеялся Данло. – Бардо думает, что обратил куртизанок в свою веру, а дело-то обстоит как раз наоборот.
– Мы никого не хотим обращать.
– Хануман думает иначе.
– Хануман… Трудный человек, очень трудный.
– Ты поэтому его избегаешь?
– По-моему, его невозможно избежать, Он очень настойчив в том, чего хочет.
– Он хочет создать новую религию.
– Но мы все ее создаем, не так ли? Все, кто связал себя с Путем. Даже ты, Данло. Мы можем сделать ее живой или дать ей умереть, как многим до нее.
– А потом?
– Когда потом? О чем ты?
– Если я осуществлю свою цель, а ты исполнишь свое призвание и пробудишь всех рингистов в галактике, что будет дальше?
– Поживем – увидим.
– Если я выйду из Ордена, ты выйдешь из своего Общества?
– Чтобы вступить с тобой в брак?
– Ну да.
Она погладила длинные волосы у него на затылке, поцеловала его в губы и улыбнулась.
– Я не могу загадывать так далеко, как ты. Мы живем в настоящем, и только оно имеет значение. Уже поздно. Лучше нам лечь спать и забыть о вещах, которые то ли случатся, то ли нет.
Она взяла его за руку и повела обратно в каминную, служившую также и спальней. Оба камина прогорели до красных углей, и в комнате стало темно, а жара, от которой обливаешься потом, сменилась настоящим холодом – пришлось залезать под одеяло. Они лежали, обнявшись, в своей шелковой постели. Тамара вскоре уснула, и Данло, чувствуя на лице ее дыхание, смотрел, как вздымается и опадает ее грудь. Он долго смотрел на нее и думал, что «теперь» превращается в «тогда» столь же непрерывно и неуклонно, как день движется через вселенную вслед за ночью.
Следующие пару десятидневок, пока другие обдумывали новые доктрины и технологии, которым предстояло навсегда изменить Путь Рингесса, Данло не расставался с мечтой жениться на Тамаре. Что бы он ни делал – пил кофе по утрам, занимался математикой или подключался для практики к своему корабельному компьютеру в Пещерах Легких Кораблей, – он то и дело вспоминал свой разговор с ней. В конце концов он пришел к неутешительному выводу: она, должно быть, решила, что он говорил просто так, несерьезно. В каком-то смысле он и правда поступил несерьезно. Он не дал обещания жениться на ней и не подарил ей ни кольца, ни диска, ни огневита, ни какого-то иного знака своей привязанности. Он достаточно разбирался в цивилизованных обычаях, чтобы знать, что такие подарки совсем не обязательны и что для некоторых жениться – все равно что зайти в кафе и заказать мясные котлеты. Но, как верно подметила Тамара, в душе он оставался алалоем, алалои же всегда дарят что-то женщинам, на которых намерены жениться. Раковины алайи, аметисты, кольца из резной моржовой кости, а иногда и жемчуг. Данло хорошо помнил, как в ночь их знакомства брякнул, что хочет подарить Тамаре жемчужину, которую она могла бы носить на шее.
Тогда она тоже сочла, что он говорит несерьезно, но с его стороны это были не пустые слова. Пусть он был беднейшим из бедных, неспособным покупать жемчуг и драгоценные камни, он с первой их встречи обдумывал способ подарить ей настоящую жемчужину.
Утром 61-го дня он спустился на набережную, где вдоль Западного Берега ровными яркими рядами стояли буера, и договорился со смотрителем насчет одного стройного красного кораблика. В магазине у причала он запасся тем, что требовалось ему для короткой поездки: спальными мехами, отапливаемой палаткой, плиткой, кухонной посудой, тросами и прочим альпинистским снаряжением, компасом, секстантом и картами, молотком, пешней, лопаткой, ножами, зубилами и горелкой. Еды он взял на двенадцать дней – в основном орехи бальдо, сушеные снежные яблоки и сыр. Он планировал отсутствовать не больше четырех дней, но когда путешествуешь глубокой зимой, всегда лучше придерживаться мудрого правила и брать втрое больше провизии, чем нужно по твоим расчетам. Никто не знал лучше Данло, что значит голодать, пережидая буран вдалеке от берега. Лодочный смотритель, увидев, какое количество припасов грузит Данло на свой буер, предупредил его, что одному глубокой зимой путешествовать опасно. Смотритель был тощий, с тонким слабым голосом, который утренний ветер норовил унести прочь.
– Не следовало бы вас отпускать, но вы кадет, а кадету разве что втолкуешь. Особенно пилоту. Как это говорят у вас в колледже? «Кадеты гибнут» – верно? Будьте осторожны, молодой пилот. Море опаснее, чем космос. Держитесь поближе к берегу, чтобы все время видеть горы. Вряд ли вы понимаете, каково это – заблудиться во льдах.
Вместо буера, наверно, безопаснее было бы взять собачью упряжку. Данло по пути на берег проходил мимо заснеженных нарт и псарни, где скулили собаки. Но он не доверял этим городским псам: ими пользовались только для спорта и отдыха, и вряд ли стоило ставить свою жизнь в зависимость от плохо обученных, незнакомых ему животных. Если честно, после своего путешествия в Невернес он и смотреть-то на собаку не мог без того, чтобы желудок не заурчал и не съежился до величины ореха бальдо. Поэтому Данло загрузил свои припасы на буер и поставил ярко-синий треугольный парус. Он надел очки, попрощался со смотрителем и отчалил, скользя по ветру. Серые башни Города скрылись в белом мареве позади него; впереди были ясное синее небо, жгучий воздух и лед, уходящий вдаль миля за милей. Ветер дул в спину, наполняя парус, и мачта из алмазного волокна звенела под его напором.
Этот ветер нес буер прямо на юг. Ледовые яхтсмены обычно держали на север через Зунд, а потом, лавируя против постоянного холодного ветра, выбирались на западную сторону острова. Западный берег с фиордами, ледниками и лесистыми склонами славился своей красотой. Но Данло в тот день искал красоты иного рода и потому правил на юг, в открытое море, куда горожанам выходить не разрешалось.
Он ехал очень быстро – в этом и состояла вся прелесть легких, изящных лодок на полозьях. Те, что были помельче, могли двигаться по гладкому льду втрое быстрее ветра. Но с ветром, дующим с северо-запада глубокой зимой, шутки плохи, и задачей Данло было не обгонять его, а управлять им. Его буер с плоскими, как лыжи, полозьями вместо стальных лезвий был, конечно, самым тихоходным и устойчивым из всех разновидностей ледовых судов, но неумелый или трусливый ездок вряд ли бы с ним справился. Данло сидел низко в кокпите, крепко держа румпель и подскакивая на каждом бугре.
Завидев на льду трещину, он тут же сворачивал вправо или влево. Обзор затрудняла снежная пыль, бьющая в его маску и очки. Даже дышать и то было трудно – в этом виде спорта все у Данло связывалось с трудностями, холодом и опьяняющим восторгом. Бело-серебристо-аквамариновый морской ландшафт проносился мимо с громадной скоростью. Рулевой полоз вибрировал, как снегорез, скрежет стали по льду отдавался в ногах и в паху. Ветер иногда внезапно менял направление, пресекая дыхание и норовя завертеть буер волчком. По мере удаления от берега скольжение делалось все быстрее, но лед местами становился очень неровным.
Данло перевалил через участок замерзших волн, называемых застругами, и быстрые толчки болезненно отозвались в зубах и позвоночнике. Еще через десять миль начался плотный снег, сафель, как называют его алалои, по которому нарты особенно хорошо скользят. Буер тоже летел быстро, иДанло очень скоро добрался до пограничной черты, пролегающей в тридцати милях от Невернесского острова. Впереди через каждую тысячу футов стояли красные вешки, уходящие в обе стороны к западному и восточному горизонту. Под ветром вешки сгибались и клонились на юг, будто указывая Данло дорогу. Когда-то правители Ордена заключили с алалоями договор о том, что ни один цивилизованный человек не перейдет этой границы. Вся планета, за исключением острова, на котором построили Невернес, отдавалась в полное распоряжение алалоям. Данло, всегда причислявший себя к Благословенному Народу, нарушил запретную для горожан границу, пронесшись мимо вешек со скоростью ветра, и прочел молитву всех путешественников, едущих к неведомым островам: «Али алли-ло киро лисалия».
В семидесяти милях к югу от Города есть остров, знаменитый своими птичьими базарами. Алалои называют его Ависалия. Это маленький скалистый островок с широкими песчаными пляжами, расположенный между Невернесом и Великим Южным океаном. У его берегов, омываемых теплым течением Мишима, проходят огромные косяки сельди, шоко и арктической трески, которыми и кормятся птицы. Каждую зиму стаи, насчитывающие десятки тысяч птиц, прилетают с северных островов и строят здесь свои гнезда. Глубокой зимой над Ависалией белыми тучами стоят топорики, пустельги, талло, поморники, крачки, гагары и прочие виды птиц. Их гомон и хлопанье крыльев слышны за многие мили. Большинство этих птиц зимует на солнечных южных склонах. Там они греются в косых лучах светила и охотятся, выхватывая из океана серебристую рыбу На южной стороне океан из-за теплого быстрого течения замерзает редко. На северном берегу живут другие птицы – китикеша, черпающие клювами снежный покров, и снежные совы, которые охотятся на китикеша. Чайки разных видов гнездятся на серых утесах над морем. Глубокой зимой, когда прибрежный лед лишает их обычных источников корма, им приходится довольствоваться остатками добычи белых медведей или других птиц. Сильно оголодав, они ополчаются на своих сородичей и заклевывают друг друга до смерти. Зато ложной зимой, когда море вскрывается, отмели просто кишат разными видами пищи, и чайки пируют. На северных отмелях водятся полярные крабы, спиральники и всевозможные моллюски – в том числе, конечно, и пальпульва. При низком приливе пурпурные раковины пальпульвы просто устилают берег. Это излюбленный корм хищных чаек, которые, взяв раковину в клюв, взлетают высоко в воздух и роняют ее на камни внизу. Скорлупа разбивается, и чайки поедают мясо моллюсков. В сезон выведения птенцов, когда молодняк постоянно требует пищи, не давая покоя родителям, чайки истребляют ежедневно сотни пальпульв. Примерно одна раковина из десяти содержит в себе блестящий нарост – жемчужину.
Прожорливые чайки заглатывают вместе с мясом тот самый серебристый и черный жемчуг, который в Цивилизованных Мирах считается одним из самых ценных. Невернесские червячники из поколения в поколение водят свои ветрорезы на Ависалию, чтобы добывать этот жемчуг. Каждую ложную зиму они вскрывают алмазными ножами тысячи раковин и выковыривают жемчужины, оставляя мясо чайкам. Чайки встречают червячников с радостью, поскольку те избавляют их от труда по разбивке раковин.
Если бы Данло отправился на Ависалию ложной зимой, он увидел бы в небе стаи голодных чаек, оглашающих воздух своими криками, а червячники, вполне вероятно, встретили бы его лазерным огнем или своими сверкающими ножами. Но он прибыл к северному берегу в середине глубокой зимы, когда мир скован льдом и тих. Путь от Города до острова он проделал меньше чем за день. В ста футах от берега он спустил парус и поставил якорь, закрепив его на льду длинными винтами.
Тут же рядом он установил свою обогреваемую палатку. Он испытал ностальгическое желание построить снежную хижину, но у него не было ни снегореза, ни инструментов, чтобы его изготовить. Впрочем, палатка была намного вместительнее и удобнее. Он разостлал свои спальные меха и всю ночь слышал, как хлопает на ветру клариевая ткань и перекликаются чайки на береговых утесах. Утром он наскоро позавтракал хлебом и сыром и принялся за работу.
К маленьким красным санкам вроде тех, на которых дети катаются с гор, он привязал лопатку, складные ведра, горелку, ножи и прочее снаряжение. С санками он двинулся на юг, к утесам, где гнездились чайки. Их крик разносился далеко с утренним ветром. Они усеивали утесы тысячами белых точек.
Насчитав девяносто тысяч, Данло сдался и стал осматривать берег. Серая стена скал тянулась на две мили вдоль берега. На них лежал снег, росли осколочные деревья, а выше простиралось синее небо. Данло провез свои санки через застывшие у берега волны и ребристый снег. Там внизу, под двенадцатифутовым льдом, пережидали зиму миллионы пальпульв. Данло мог бы продолбить лед и черпать раковины ведрами, мог вскрывать их ножом, но это привело бы к гибели моллюсков, чего он никогда бы не допустил. В детстве он наблюдал за морскими птицами и знал другой способ добычи жемчуга. Он втащил салазки на песок и гальку, к самому подножию утесов, где гомон чаек заглушал все прочие звуки. Несмотря на мороз, в воздухе висел густой азотистый запах птичьего помета. Белое гуано пятнало скалы, стекало вниз и копилось под скалами высокими зловонными кучами. Эти кучи годами нарастали вдоль берега. Верхний слой, мокрый и слизистый, создавался у Данло на глазах. Помет, как теплый дождь, сыпался ему на парку и залеплял очки. Унты с чмоканьем вязли в свежем гуано. У самых скал Данло взял лопату и начал копать. Под свежим слоем открылись накрепко замерзшие напластования. Данло отогревал их горелкой слой за слоем, раскапывал и просеивал, ища жемчуг. В последующие два дня его ведра успешно наполнялись найденными сокровищами. Каждая жемчужина прошла через зоб и кишечник чайки, и большинство из них были плохого качества – мелкие, неправильной формы или поврежденные желудочными кислотами. Данло забраковал 1038 жемчужин, прежде чем нашел ту, которую искал. Он очистил ее снегом и поднес к свету. Величиной с ноготь его большого пальца, она переливалась серовато-пурпурным цветом, который алалои называют «лила». Жемчужина не была совершенной, идеально круглой или особенно ровно окрашенной.
Алалои совершенству не доверяют – слишком красивые жемчужины кажутся им лишенными очарования. Та, что нашел Данло, имела слезовидную форму, и ее окраска местами отливала мягким розовым оттенком. Она принадлежала к тем, про которые ювелиры в Алмазном ряду говорят: «Век можно смотреть и не насмотришься». Данло смотрел на нее весь день и решил, что искать больше нечего. Он прожег лазером дырочку в самой узкой ее части и продел туда шнурок, который сплел из своих черных волос. Концы он скрепил клеем для бритья, и получилась подвеска, которую Тамара могла носить на шее.
Данло спрятал украшение в шелковый кисет вроде тех, в которых Бардо раздавал тоалач и трийю, крепко завязал его и положил в карман.
Обратный путь обошелся без происшествий, хотя и занял двое полных суток. Ветер большей частью дул с севера, и прихолилось лавировать, отклоняясь на северо-восток, северо-запад, а то и прямо на запад, когда ветер менялся. Однажды Данло задержался, чтобы исследовать маленький безымянный островок на середине пути между Ависалией и Невернесом.
Там он нашел белый скелет моржа, выброшенного на скалистый берег, и ему повезло: один из бивней оказался целым и неповрежденным. Данло взял клык с собой на буер. В этом путешествии в нем снова ожила любовь к разным ручным поделкам. Увидев клык, он сразу задумал вырезать из него разные вещи: кольца, трубку, фигурки животных, а главное – недостающего Хануману шахматного бога. Он надеялся залечить нанесенные их дружбе раны, подарив Хануману вещь собственного изготовления. Он возвращался в Город, окрыленный удачей, вдохновляемый мечтами о будущем. Дома он сжег испорченную парку и полдня отмокал в горячем бассейне своего общежития, очищаясь от гуано и показывая друзьям жемчужину. Потом проспал ночь и половину следующего дня, а под вечер отправился к Тамаре.
В чайной комнате она угостила его кофе и гренками. День был ясный, радостный, и в окна проникал солнечный свет.
Тамара грелась в его последних лучах, обнаженная, прикрытая только длинными золотистыми волосами. Она любила смотреть, как играет солнце на ее кружевных занавесках, медленно опускаясь к западу.
– Три последних дня меня не было в Городе, – сказал ей Данло.
– Ты уходил в мультиплекс на своей «Снежной сове»?
– Нет, в море на буере. – Наскоро рассказав о своем путешествии, он достал из кармана кисет и положил на стол. – Я привез тебе кое-что… чтобы носить на шее.
Тамара распутала завязки своими длинными ногтями, вытряхнула жемчужину на ладонь, и в ее глазах вспыхнул свет.
– Какая красота! Никогда еще не видела такой красивой жемчужины.
Она улыбнулась ему, и они дружно рассмеялись, как будто вместе попробовали какой-то новый эйфоретик. Контраст темной жемчужины с ее белой кожей был поразителен.
– Надень шнурок через голову, – сказал Данло. – Я сделал его длинным, чтобы легко проходил.
– Какая тонкая работа. – Она потерла пальцем блестящий черный шнурок.
– Я сплел его из своих волос. Это алалойский обычай.
– Прелесть какая. – Она погладила его по голове. – Я так и думала. У тебя чудесные волосы, такие густые и длинные. Мужчине такая роскошь даже и ни к чему.
– Когда-нибудь я состарюсь и облысею. Но моя жена попрежнему будет носить эту жемчужину.
Тамара с улыбкой положила кулон на стол рядом с кофейником и встала.
– Я хочу показать тебе кое-что. – Она вышла в медитативную и вернулась с длинной плоской шкатулкой из осколочного дерева, которая раскрывалась, как раковина пальпульвы. – Мне прислали это нынче утром, и я подумала, что тебе любопытно будет взглянуть.
Данло взял у нее шкатулку.
– Открой же!
Он открыл. Внутри на черном бархате лежало ожерелье из молочно-белого жемчуга. Жемчужины, тщательно подобранные по величине и по цвету, отличались идеальной симметрией.
Их было тридцать три на платиновой нити. Данло ничего не смыслил в ювелирном деле, но догадывался, что ожерелье должно стоить очень дорого.
– Они великолепны, – сказал он.
– Это джиладский жемчуг.
В Цивилизованных Мирах жемчуг с Джилады считался самым ценным. Джилада, искусственный мир, располагались на краю Экстра. Жемчужины выращивались там молекула за молекулой в вакууме при полном отсутствии света, звука и вибрации. В космосе нет гравитации, которая могла бы повредить перламутр, слой за слоем наращиваемый вокруг молекулы-семечка, и джиладские ювелиры производили идеальные сферические жемчужины. На изготовление одной-единственной затрачивалось порой больше года. Джиладский жемчуг славился своей совершенной красотой, но только очень богатые люди могли себе позволить купить его.
– Это, должно быть, подарок торгового магната, – сказал Данло.
– Нет. Я никогда не имела дел с трийцами. Это от Ханумана.
– От Ханумана… ли Тоша? Да откуда у него такие деньги?
– Не знаю.
Данло потрогал самую большую жемчужину, оставив след на ее безупречной поверхности.
– Какое совпадение, что Хануман прислал тебе этот жемчуг именно сегодня.
– Ты не говорил ему, что собираешься подарить мне жемчужину?
– Нет… Мы с ним больше не разговариваем. Но я показывал жемчужину своим друзьям – возможно, кто-то из них сказал ему.
– Вот и весь секрет твоего совпадения.
– Должно быть, так. Но с чего Хануману дарить тебе жемчуг?
– Как сказать… Он ухаживает за мной с той самой ночи, как мы познакомились.
– Он… хочет жениться на тебе?
– Не думаю. Ухаживать можно по-разному.
– Помнишь, тогда на вечере? Он так смотрел на тебя – сразу было видно, что он весь горит.
– Да, бедняга прямо раскалился.
– Как холодно ты это сказала.
– Правда? Я не нарочно.
– По-моему, Хануман тебе не очень нравится.
– Это неверно, – сказала Тамара, глядя на ожерелье в шкатулке. – Я его просто боюсь.
– Потому что он цефик?
– Потому что он слишком хорошо владеет собой. Раньше я не знала, что такое возможно.
– Но цефики как раз и стремятся держать под контролем все свои эмоции. И мысли… которые они называют программами.
– Он, видимо, преуспел в этом больше обыкновенного.
– Возможно, он просто хочет, чтобы люди так думали.
– Они и думают.
– Хануман человек не менее страстный, чем любой другой. Но чем сильнее страсть, тем больше ему нужно обуздать ее.
– Помнишь, что он сказал в своей проповеди? «Только став огнем, сможем мы освободиться от горения». Не думаю, что он питает страсть к женщинам – это осталось в прошлом.
Данло улыбнулся про себя: он кое-что понял в Тамаре. Эта замечательно красивая женщина всегда управляла чувствами мужчин. Естественно, что женщина такого типа относится с недоверием к мужчине, который не зависит от нее сексуально.
То, что Хануман способен сознательно глушить свои сексуальные желания, должно быть, ужасает ее и оскорбляет как профессионала.
– И ты никогда не думала о том, чтобы заключить с ним контракт?
– Думала, – призналась она. – Куртизанка обязана думать о таких вещах, даже если они неосуществимы.
– Кто еще из мужчин в Городе так нуждается в твоем искусстве, как Хануман?
– Неужели ты совсем к нему не ревнуешь?
Данло с улыбкой покачал головой.
– Мой приемный отец еще в детстве учил меня, что ревность – это шайда. Она отравляет душу.
– Но Хануман мертв внутри. У него там только холод и пепел.
– Ты могла бы пробудить его. Сделать его снова живым, правда?
Тамара провела ногтем по краю своей чашки, следя за игрой света на темной поверхности кофе.
– Надо очень любить его, чтобы сказать такое.
– Я и люблю его… как брата.
– И так легко готов уступить меня?
– Когда алалойский охотник навещает другое племя, его жена часто остается дома. Он путешествует по льду один, много миль и много дней, и добирается до конца своего пути замерзший и голодный. И кто-то из его сородичей, случается, уступает ему свою жену на пару ночей. Чтобы согреть его внутри и утолить его голод.
– Но мы-то не алалои – я, во всяком случае.
– Это верно.
– И я не твоя, чтобы уступать меня кому-то.
– Даже у алалоев, – признался он, – женщина должна сама согласиться, иначе гость останется необогретым.
– Никогда бы не согласилась согревать Ханумана. Кого угодно, только не его.
Данло постучал по футляру, где сияло жемчужное ожерелье.
– Значит, ты отошлешь его подарок назад?
– Хотела бы. – Вздохнув, она провела рукой по волосам. – Только не так это просто.
– Ты не хочешь ранить его чувства?
– О, я думаю, его эмоциональные органы хорошо защищены.
– Нет… совсем не защищены.
– По правде говоря, я просто не рискую его обидеть. Он за мной ухаживает не только ради меня.
– Ради твоего Общества?
Она кивнула.
– Он и другим куртизанкам посылал подарки. Не такие роскошные, как это ожерелье, но тем не менее.
– Все это, наверно, здорово раздражает Бардо.
– Да, Бардо человек ревнивый.
– Нехорошо это – ссориться из-за женщин.
– Бардо по крайней мере не заблуждается на наш счет. Сестры говорят, что еще не встречали мужчину, который так любил бы женщин.
Данло улыбнулся, вспомнив слышанный им рассказ о том, как могучий Бардо переспал однажды с девятнадцатью женщинами за одну ночь.
– Ты предпочла бы, чтобы жемчуг послал тебе Бардо?
– Я предпочла бы вовсе не получать подарков, на которые не могу ответить. – Она вынула ожерелье из футляра, держа его на вытянутой руке, как дохлую змею. – К сожалению, вернуть его нельзя. Мать бы этого не одобрила.
– Мать – это глава вашего Общества?
Тамара снова кивнула.
– В этот период она никому из нас не позволит обидеть Бардо или Ханумана.
– Понятно. Мать знает толк в политике, да?
– Она самая мудрая женщина из всех, кого я знаю.
– Она наблюдает за нашей церковью, да? Наблюдает и ждет.
– А ты не столь уж наивен в таких вещах, как хочешь казаться.
– Нет, я мало что в этом смыслю. Знаю только, что у Бардо есть харизма и власть, зато у Ханумана воля сильнее. Невозможно предсказать, кто из них одержит верх.
– А ты бы как хотел?
Услышав этот простой вопрос, Данло встал и начал шагать по комнате.
– Сам не знаю. Не уверен, что кто-то из них способен сделать Путь Рингесса чем-то стоящим. Чем-то благословенным. Я не знаю человека, которому это под силу.
– Мы смогли бы, – тихо заметила Тамара.
– Это гордость в тебе говорит. – Данло сел рядом с ней и поцеловал ее в лоб. – И любовь.
– Неужели мы позволим мировоззрению Ханумана отмести в сторону все остальные?
Данло посмотрел на жемчуг в руке у Тамары – прекрасный, совершенный, лишенный всякого тепла, – и ему вспомнилась кукольная вселенная Ханумана, тоже страдающая избытком совершенства.
– Хануман смотрит на вещи по-своему, – сказал он, – мы по-своему.
– И должны придерживаться своего, пока еще возможно.
– Что ты имеешь в виду?
– Разве тебе не предлагали сделать запись своего воспоминания?
– Что ты говоришь? Как можно записать воспоминание?
– Значит, ты еще не слышал? Хануман обратился к некоторым из нас с просьбой скопировать наши воспоминания в компьютере, который он сконструировал.
Встревоженный Данло снова встал и принялся шагать взад-вперед, потирая лоб.
– Но воспоминания невозможно скопировать! С чего Хануман возомнил, что способен это сделать?
Тамара спрятала ожерелье Ханумана обратно в футляр, встала и положила руку на грудь Данло.
– Все знают, как трудно вспомнить Эдду. Многим божкам это так и не удалось, не говоря уж о том, чтобы заглянуть в Единую Память.
Данло смотрел в окно на серебристый лед Зунда, а Тамара рассказывала ему о плане Ханумана облегчить воспоминание Старшей Эдды. Три дня назад, сказала она, Хануман начал приглашать рингистов ближнего круга для записи их воспоминаний в компьютер. Он обещал записать все последовательно, как это делается при записи музыки на синтезатор. Затем он собирался отредактировать эти воспоминания и собрать их в то, что называл «базовым воспоминанием».
Хануман утверждал, что каждый новый рингист, подключившись к компьютеру, сможет с полной ясностью вспомнить Старшую Эдду.
– Это очень плохо, – сказал Данло.
– Ты так думаешь?
– Да.
– Бардо с этим планом согласился.
Данло на миг закрыл лицо руками и уставился на вечернее небо, где всходили луны.
– Да, Бардо тоже боялся вспоминать Эдду, – сказал он наконец. – А ведь он – основатель новой религии; что, если ктонибудь вспомнит истину, которую эта религия сочтет ложной? Что, если какой-нибудь провидец разглядит ложь… во всем, что Бардо выдает за правду?
– Но что такое правда, Данло?
– Я всю жизнь над этим думаю, – улыбнулся он.
– Чем бы она ни была, не кажется ли тебе, что нам следует скопировать наши воспоминания? Чтобы в базовую запись вошла наша правда?
– Так ли она правдива, наша правда?
– Думаю, что да. Ты пережил великое воспоминание, это всем известно, и так чудесно рассказал о нем, хотя и говоришь, что не умеешь выбирать нужные слова. Да и я видела много чудесного. Что такое Эдда, как не путь к полному пробуждению? Позволить энергии сознания поглотить нас атом за атомом, клетка за клеткой; в каждом из нас живет всесокрушающая сила, уничтожающая и создающая, создающая и уничтожающая, которая только и ждет, чтобы ей позволили родиться на свет. Если бы мы только могли вынести кровь и муки этих родов, нам явилось бы самое прекрасное, что есть во вселенной. Я готова умереть, лишь бы мое видение осуществилось.
Данло потер лоб и вздохнул.
– Так ты согласна записать свою память в компьютер Ханумана?
– А ты?
– Нет.
– Еще бы – ведь ты не страдаешь гордыней, как я. – Она отвернулась от него к морским камешкам на подоконнике.
– Тамара. – Он тронул ее за плечо, любуясь водопадом золотистых волос вдоль гибкой спины. – Я люблю в тебе эту гордость.
– Правда?
– Люблю, как ветер.
Она обернулась к нему и посмотрела ему в глаза.
– Ты рассказывал, что как-то зимой чуть не погиб от ветра.
– Да, это верно, но верно и то, что ветер – дыхание мира. А твоя гордость – твоя сила и твоя жизнь.
– Ты правда так думаешь?
– Да.
– Однажды мне сказали, что моя гордость – это порочная программа, которая погубит меня.
– Нет, она благословенна.
– В детстве чтецы моей церкви пытались очистить меня от гордости и прочих грехов, но им это так и не удалось по-настоящему.
– Если бы им удалось, ты не была бы тем, кто ты есть.
– Само собой, – с нервным смешком ответила она. – Мне часто кажется, что все их попытки избавить меня от гордости только увеличили мое тщеславие.
– Архитекторы учат, что тщеславие есть безумие, верно?
– Ты, наверное, ненавидишь меня за это свойство.
– Совсем наоборот. Каждая из твоих тщеславных мыслей словно жемчужина – единственная в своем роде, благословенная и прекрасная.
– Нет, это ты прекрасен, – сказала она, пристально глядя на него. – Я никогда еще не встречала таких, как ты.
Он потупился и снова взглянул на нее.
– Никто не видел меня так, как видишь ты. И, думаю, никогда не увидит.
Данло смотрел в ее темные глаза, ища самую затаенную из ее тщеславных мыслей. Ему показалось, что он нашел ее, эту мерцающую жемчужину: Тамара видела себя богиней устрашающей красоты, воплощающей в себе энергию как жизни, так и смерти. Да, ее красота страшна, подумал он.
Отныне и навеки он будет любить в ней эту глубинную, первобытную красоту, дорожа ею больше всех остальных ее качеств.
– Югена лос анаса, – сказал он.
– Что это значит?
– Смотреть глубоко – значит любить глубоко.
Она улыбнулась ему, как озорная девчонка, взяла со стола футляр с джиладским жемчугом и захлопнула крышку с громким деревянным стуком.
– Придется мне, видно, оставить его у себя. Я в самом деле не хочу обижать Ханумана. Но я никогда его не надену. Я просто не смогла бы теперь.
Она взяла кулон, сделанный Данло. Темная жемчужина, раскачиваясь на шнурке, отражала все краски ночи.
– Мужчины делали мне много подарков, но такого я не получала ни разу.
– Я сделал это украшение, чтобы ты его носила.
– Мне очень хотелось бы носить его.
– Мне бы тоже хотелось.
– Но если я его надену, это будет иметь определенный смысл, верно?
– Только тот, который мы этому придадим.
– Но у алалоев такой дар означает обещание жениться?
– Ты можешь носить эту жемчужину как залог, если хочешь.
– Залог нашего взаимного обещания?
– Твоего обещания себе выйти за меня замуж и моего обещания жениться на тебе.
– Что же мне подарить тебе взамен?
– Удовольствие видеть, как ты носишь ее на своем сердце.
– Но нам ведь нужно назначить какой-то срок для исполнения своего обещания? У меня по-прежнему остается мое призвание, а у тебя – твоя цель.
– Все наши обещания будут… бессрочными. Все время, которое есть во вселенной, принадлежит нам.
– Никогда не видела ничего более прекрасного, – сказала Тамара, глядя на жемчужину.
Данло, поняв, что его момент настал, шагнул вперед и взял у нее кулон. Несмотря на то что он весь дрожал от волнения и с трудом мог дышать, действовал он быстро и ловко. Он накинул шнурок через голову на шею Тамары, выпростал из-под него ее длинные волосы, и жемчужина заняла место между ее грудей.
– Ох, – сказала она, – я не думала, что она такая тяжелая.
– Жемчуг пальпульвы очень крупен.
– Я не ожидала, что носить ее будет так приятно.
– Ты создана, чтобы носить ее.
– Я не думала, что когда-нибудь выйду замуж.
– А я всегда надеялся, что женюсь на тебе.
– Я думаю, мне понравится быть твоей женой.
– Я мечтал, что когда-нибудь это станет самой большой нашей радостью.
– Но радость всегда будет с нами. Мы созданы для радости.
В ее глазах и правда не было ничего, кроме радости, чистой, золотой радости, которая лилась на него и согревала его изнутри. Тамара поцеловала его и увела в каминную. Этой ночью они не изощрялись в сексуальном искусстве и не придавали значения тому, кто ляжет сверху. Они продолжали свою легкую, безыскусную любовную игру, пока не испустили дружный крик и не обнялись в изнеможении. Он долго лежал, прижимаясь к ней грудью, и чувствовал, как жемчужина давит ему на сердце. Вся вселенная сузилась до мерного дыхания Тамары, соленого запаха ее шеи и этой легкой боли, дарившей ему столько радости. Он радовался и гордился тем, что нашел себе жену, которая когда-нибудь родит ему детей. Он страшился этой своей гордости пуще смерти, но все-таки никогда еще не был так счастлив.
Глава XXIV МНЕМОНИЧЕСКАЯ ЦЕРЕМОНИЯ
После Холокоста на Старой Земле и во всех Цивилизованных Мирах стали возникать вселенские религии, пытающиеся объяснить тайны жизни: логизм, Священная Страсть, Божественная Наука, эдеизм, дзаншин, Путь Змея и так далее. Всего во время Пятой и Шестой Менталъности было известно 223 такие религии, и все они, в целях освобождения так называемых духовных энергий, легализировали применение секса, музыки словесных наркотиков, растительных наподобие теонанкатля, синтетических, а также самого мощного наркотического средства, которым является контакт человеческого разума с кибернетическими пространствами противного природе компьютера.
Хорти Хостхох, «Реквием по хомо сапиенс»На следующий день Хануман ли Тош пригласил Данло встретиться с ним в компьютерном зале собора Бардо, Впрочем, выражение «собор Бардо» вряд ли было допустимо. Хотя Бардо и распоряжался всем, что происходило в этом огромном каменном строении, ни собор, ни Путь Рингесса ему не принадлежали. Хранитель Времени, слишком хорошо помнивший историю Старой Земли, давным-давно ограничил власть всех городских организаций (кроме Ордена, разумеется). Он постановил, что любые общества, картели, ассоциации и религии, желающие обосноваться в Невернесе, не должны иметь легального статуса, а также владеть какой-либо собственностью. Во исполнение договора, существующего между Орденом и Городом, Бардо зарегистрировал собор как совместное владение многочисленных рингистов, оплативших его покупку. Этих рингистов в последней трети глубокой зимы 2953 года насчитывалось не менее четырех тысяч, и к ним каждый день прибавлялись новые. После Огненной Проповеди Ханумана собор во время вечерних служб был переполнен мужчинами и женщинами, желающими совершить великий путь к божественному состоянию. Их было так много, что Сурье Лал, ставшей доверенным лицом и администратором Бардо, пришлось вводить их имена в компьютер.
– Если рост будет продолжаться в таком же темпе, нам придется проводить по две службы в день, – сказал ей однажды Бардо. – Эк их привалило, этих новых божков – ни в лицо, ни по имени не упомнишь, даже с такой памятью, как у меня. А если они не знают Бардо, то с какой стати им соблюдать преданность этому Бардо? Надо бы привести этих новых рингистов к присяге наряду с прочтением Трех Столпов. Пусть они поклянутся мне в преданности и послушании.
В один холодный день, во второй половине 66-го дня, Данло после короткого путешествия по улицам Старого Города оказался около собора. В Старом Городе много старинных зданий, в том числе высоких и красивых, с блестящими вкраплениями органического камня. Собор Бардо выделялся между ними не высотой или величием, а стариной и красотой. Он занимал почти весь квартал к югу от площади Данлади. Поскольку большинство улиц в этой части Города пролегает параллельно Старгородской глиссаде, идущей от Крышечных Полей прямо к Северному Берегу, здания вокруг площади Данлади ориентированы с северо-запада на юго-восток. Но собор Бардо был выстроен с востока на запад и стоял в своем квартале косо, под углом. Его создатели, христиане из Общества Христа-Богочеловека, поставили здание так потому, что знаменитые храмы Старой Земли строились именно так, с востока на запад. С воздуха было бы видно, что собор имеет форму креста, священного символа всех христианских сект.
Возглавие креста указывало на восток, к Академии, подножие практически занимало сердце Старого Города. Посередине помешалось восемьсот футов искусной каменной кладки, высоких окон и массивных гранитных контрфорсов. Над пересечением поперечины креста с главным зданием стояла башня на сто пятьдесят футов выше остального здания видная от самой Академии. Ажурные орнаменты в гранитных стенах, как льдинки, округлые окна и устремленные в небо коньки кровель – башня считалась одной из самых красивых в Городе. Бардо, однако, нашел ее острые углы и прямые линии неподходящими для увенчания его собора. (Как ни странно, он не возражал против того, чтобы проводить свои собрания в здании, имеющем форму креста. Как знаток символов, подумывавший даже сделаться знаковиком, он должен был знать, что крест – один из древнейших символов, намного древнее любой церкви или религии. Знаковики считают, что крест – это великое Древо Жизни, стоящее в центре вселенной, мост, по которому душа совершает свой переход навстречу Богу. Наиболее древнее его значение – это неотъемлемое от жизни страдание. Две палочки, если положить их крест-накрест и потереть, как мужчина трется о женщину, рождают страшный огонь, который и есть жизнь.) Поэтому Бардо планировал снести башню и заменить ее золотым клариевым куполом.
Он хотел вскрыть свод собора, чтобы видеть изнутри небеса во всей их славе. Были у него и другие планы. Когда Данло подъехал на коньках к западному порталу, Бардо стоял под большой центральной аркой и наблюдал за работами по переделке фасада. Несмотря на свою занятость, он заметил Данло и крикнул ему:
– Здорово, Паренек! Ну, как тебе нравится наша каменная хижина?
Данло, подъехав к нему, поклонился и отступил на несколько ярдов назад, чтобы лучше разглядеть производимые Бардо перемены. На западном фасаде три двери, и хотя центральная гораздо больше других – даже Бардо, стоя рядом с ней, казался маленьким, – все двери обрамлены огромными заостренными каменными арками. В центре главной арки, над дверью, помещалось круглое витражное окно. Это красивое, наполненное светом сооружение, собственно, представляло собой серию из девяти арок, где нижняя поддерживала выступающую впер'ед верхнюю. Ребра арок украшали скульптуры святых, пророков и прочих персонажей христианской религии.
Эти изображения покрывали практически весь фасад, и самые большие глядели каменными очами из расположенных над арками ниш. Бардо, как основатель рингизма, не мог, разумеется, примириться с таким порядком вещей. Он решил убрать неподобающие скульптуры, и весь фасад был усеян роботами, выполняющими эту программу. Этих роботов, каждый с муху величиной, были тысячи. Они копошились над арками движущимся ковром, вгрызаясь в камень крошечными алмазными резцами. В воздухе стоял скрежет и стук, пыль и осколки камня сыпались на курчавую шевелюру Бардо. Скоро все изваяния и снаружи, и внутри собора, сказал он Данло, исчезнут, и другие роботы нарастят на их месте органический камень, из которого будут изваяны скульптуры Катарины-скраера, Балюсилюсталу, Шанидара и других, направлявших Мэллори Рингесса на его пути от человека к богу.
– Окна тоже придется убрать, как ни жаль, – сказал Бардо. – Не можем же мы допустить, чтобы наши божки глазели на древние чудеса и заражались древними суевериями, правда?
– Но эти витражи такие красивые.
– Мы, само собой, вставим новые стекла. Я, собственно, уже начал – увидишь, как войдешь внутрь.
Они постояли еще немного, обмениваясь любезностями и сплетнями. Бардо с суровой миной, которая совсем ему не шла, осведомился, почему Данло уклоняется от всех церковных обязанностей после Огненной Проповеди. Данло ответил, что все это время занимался своим легким кораблем и математикой. Говорить приходилось громко из-за производимого роботами шума. Бардо фыркал и кашлял от летящей на него пыли.
– Да, конечно, ты пилот, а пилоты должны знать математику. Мне она тоже в свое время казалась самым прекрасным из всего, что есть во вселенной. Мы с твоим отцом говорили, что доказать теорему – все равно что найти драгоценную жемчужину.
На последнем слове он сделал такое энергичное ударение, что брызги слюны полетели в воздух, многозначительно глянул на Данло и широко ухмыльнулся.
– Вы, кажется, знаете все секреты в Городе, – сказал Данло, тоже не сдержав улыбки.
– Ты уже подарил свою жемчужину Тамаре? Ей-богу, она самая красивая женщина Города! Ты обещал на ней жениться, да?
– Вы что, насквозь меня видите? Это Хануман научил вас читать по лицам?
– Ничему он меня не учил – по крайней мере открыто. Теперь, став знаменитым, он предпочитает находиться в уединении.
– Вы не можете ему простить то, что он сделал во время Огненной Проповеди?
– Простить?
– Мне кажется, вы ему не доверяете.
Бардо чихнул, протер глаза и увлек Данло поглубже под арку, чтобы укрыться от строительного мусора.
– А ты-то сам доверяешь ему, Паренек?
– Он самый близкий мой друг.
– Он и мне друг, или был им, пока не начал строить из себя чертова пророка. Разве пророку можно доверять? Я сам не знаю, насколько я ему верю и должен ли верить вообще. Я полагаюсь на него в том, что он привлекает народ на Путь и вдохновляет людей своими проповедями. Верю даже, что он открывает им нечто заветное из этой окаянной Старшей Эдды, которую, как им кажется, они хотят вспомнить. Он настоящий религиозный гений, ей-богу, так пусть делает то, что положено гению: светит и дарит свой свет другим.
Последние слова Бардо, видимо, произнес с намеком, поскольку весь сиял, продолжая улыбаться Данло.
– Но насколько вы доверяете его замыслу – поместить наши воспоминания в компьютер?
– Я ждал, что ты об этом спросишь.
– Так это правда, Бардо?
– Семь лет я тебя знаю, и все это время ты меня допрашиваешь.
– Почему бы и нет? – улыбнулся Данло. – Если я перестану, вы лишитесь удовольствия отвечать мне.
– И то верно. Ладно, на этот вопрос я отвечу, и остановимся на этом. Я уже говорил тебе, что калла – опасный наркотик. Очень опасный – и поэтому мы решили отказаться от калла-церемоний. Никто больше каллу пить не будет – по крайней мере публично. Но божки должны получить свое воспоминание, так что мы ввели другую церемонию. Вернее, введем сегодня вечером. Это будет особый случай – я буду руководить, а Хануман ассистировать мне, понимаешь?
– Кажется, понимаю.
– Сегодня в соборе будет тысяча человек, и каждый из них получит воспоминание, которого никогда не испытывал раньше. Оно состоит из многих фрагментов. Я сделал свой вклад, Томас Ран тоже – надеюсь, и ты сделаешь.
– Мой вклад… – произнес Данло, закрыв глаза.
– Ты ведь получил приглашение от Ханумана?
Данло молча кивнул.
– Вот и отлично. Я рад, что ты согласился записать свои воспоминания.
Данло, ни на что согласия не дававший, открыл глаза. Взгляд Бардо вгонял его в краску, и он сказал:
– Хануман обещал мне, что мое первое воспоминание… будет сохранено в идеальном виде.
– Как светлячок во льду. Хорошо бы поторопиться с этим – я хотел бы включить твое великое воспоминание в общее целое для вечерней церемонии.
– Так скоро?
– Что делать, приходится поспешать. Нелегкая работа – погружать людские толпы в воды мистического озарения. Если мы будем медлить, события нахлынут, как прибой, и сметут нас.
Он показал Данло, как пройти в компьютерный зал, и вернулся к надзору за работами.
Как только Данло вступил в большой неф, его захлестнули воспоминания. Он никогда еще не бывал в соборе – ни в этом, ни в каком-либо другом. Он знал это также твердо, как и то, что никогда не взбирался на ледовые горы луны Агатанге – и все же при виде льющихся в окна потоков света ему показалось, что он был здесь уже тысячу раз. Несмотря на кишащих снаружи роботов, здесь царили тишина и покой. Холодные сквозняки гуляли по пустому нефу и выходящим в него трансептам. По обе стороны – окна и многочисленные колонны. Высоко вверху колонны переходили в длинные изящные арки, которые переплетались одна с другой вдоль центральной линии свода. Казалось, что весь этот камень парит в воздухе благодаря какому-то волшебству. Весь интерьер собора говорил о желании преодолеть силу тяжести и поднять материю к небесам. Присущее человеку религиозное чувство пропитывало здесь каждый камень и каждый витраж. Данло испытывал ощущение, что эти колонны и орнаменты хранят память о десяти тысячелетиях песнопений и молитв. На витражах были представлены чудеса, будто бы сотворенные Христом-Богочеловеком. Десять окон были уже вынуты и заменены новыми, показывавшими в синих, зеленых, желтых и алых тонах различные драматические события. Предвечернее солнце хорошо освещало их. Бардо с раскрытым в беззвучном вопле ртом грозил кулаком небесам. Из груди у него торчало длинное копье, и кровь запятнала его белую парку. Это был один из переломных моментов в жизни Бардо, когда он умер своей первой смертью. Бардо не уставал повторять, что отдал свою жизнь, чтобы спасти Мэллори Рингесса, и теперь изобразил эту сцену на витраже для всеобщего обозрения. Он все старые витражи планировал заменить сценами из жизни Мэллори Рингесса (его как будто ничуть не смущало то, что и он примазывается к величию своего друга). Данло шел по проходу и думал, какими же будут эти сцены. Он любовался игрой света и тем, как разгораются или тускнеют краски по прихоти набегающих облаков. Синевато-золотой свет заливал весь собор, напоминая, что все живое обязано ему своим существованием – и был одинаково ярок и ослепителен независимо от того, в старые или новые окна он проходил.
Данло прошел мимо алтаря, к которому вели застланные красным ковром ступени. Там к вечерней службе уже были приготовлены золотые подсвечники, золотая урна и голубая чаша, неоднократно применявшиеся на калла-церемониях.
Кроме них, алтарь украшали тысяча восемьдесят девять живых огнецветов. Дверь из бокового прохода, уставленного статуями и колоннами, вела в коридор. Компьютерный зал, как объяснил Бардо, помещался за пределами главного здания. С северной стороны к собору примыкали разные мелкие пристройки, соединенные крытыми переходами и зимними садиками. Данло, пройдя по полутемному коридору мимо ризницы и библиотеки, пришел к залу собраний. Когда-то здесь заседали верховные чины невернесской христианской церкви. Данло постучался, и ему открыл Хануман, прямой и гордый в своей одежде цефика.
– Привет, Данло.
– Привет, Хануман.
Данло вошел, и Хануман, чтобы растопить холодок отчуждения, стал рассказывать о собранных здесь предметах. В основном это были компьютеры различных видов. Гранитный купол зала с длинными окнами между каменными ребрами был наполнен воздухом и светом, зато внизу царил хаос. По периметру комнаты шли фестончатые арки с псевдоколоннами. Раньше под ними стояли ряды стульев, которые теперь убрали и заменили высокими деревянными шкафами. Между шкафами стояли столы, заваленные компьютерами, нейросхемами и инструментами для разборки, лечения и выращивания компьютеров. Имелись здесь также мантелеты, сулки-динамики и голографические стенды. Хануман недавно начал собирать старинные и редкие компьютеры, которые размещал в музейных витринах, как драгоценности. (Один из них действительно был драгоценностью – древний, давно угасший ярконский огневит.) Данло переходил от витрины к витрине, рассматривая электронные компьютеры, оптические компьютеры, кубы, чипы, диски и даже алмазный шар, внутри которого проецировались графические изображения.
Хануману, как видно, особенно нравились механические счетные устройства. Одну из витрин целиком занимал арифмометр с медными шестеренками и блестящими хромовыми рычажками. Из другой Хануман достал японские счеты и быстро-быстро стал щелкать деревянными костяшками. Он продемонстрировал Данло два вида квантовых компьютеров, светящийся газовый компьютер, а потом показал на сверкающий ярконский гобелен.
– Это, конечно, звезда всей коллекции. Схемы вотканы прямо в ткань.
Они поговорили немного о переделках, предпринятых Бардо, и прочих пустяках. Данло хотелось рассказать Хануману о найденной им жемчужине и своем обещании жениться на Тамаре, но он не решался. То, что они оба ухаживали за Тамарой, пролегло между ними, как открытая рана. Она была точно гноящаяся язва на лице аутиста. Повинуясь требованиям такта, они старались не смотреть на нее и не говорили о ней, но ни на минуту не могли забыть о ее существовании.
– А ты хорошо выглядишь, – сказал наконец Хануман.
– А ты, я вижу, побрил себе голову. Теперь ты носишь кибершапочку постоянно, да?
Хануман, гоняя красные бусинки по прутьям счетов, смотрел куда-то вверх, и Данло вдруг подумал, что он смотрит не в освещенное солнцем пространство купола, а в какие-то другие пространства, освещенные другим светом. Его бритую голову покрывала кибершапочка, головной убор кибершамана: алмазная, выложенная изнутри пурпурными нейросхемами, имитирующими разветвления человеческих нервов. Она создавала впечатление сети электронных нервов, окутывающей голову Ханумана. Этот мастер-компьютер представлял собой эффектное зрелище, и кибершаманы любили щеголять такими устройствами, хотя из всех цефиков были самыми скрытными.
– У нас она называется контактеркой. – Когда Хануман улыбался, казалось, что его лицо состоит из одних зубов внутри жуткого сверкающего черепа. – Некоторые думают, что глупо брить себе голову, как будто ты послушник, но иначе она не будет прилегать как следует.
Контактерка действительно обтягивала его голову как вторая кожа, в точности повторяя выпуклости его черепа. Клей под названием гимук удерживал ее на месте; этот клей и постоянное давление вызывали раздражение на коже, и шапочку по лбу и вискам обводила красная полоска.
Данло старался смотреть Хануману в глаза, чтобы не видеть контактерки.
– Я слышал, что только кибершаманы высшего разряда могут носить ее постоянно.
– Ты хочешь знать, посвящен ли я в высший разряд?
– Я слышал, что есть такие разряды, о которых даже кибершаманы высшего класса почти ничего не знают.
– Ты говоришь о тайных ступенях?
– Выходит, не таких уж тайных, раз я слышал о них, – улыбнулся Данло.
Хануман промолчал.
– Я слышал, что есть нейропевцы, которые через кибершапочку поддерживают непрерывный контакт с другими компьютерами.
Хануман улыбнулся углами губ, все так же глядя в купол.
Глаза у него налились кровью, как будто он давно не закрывал их. Сейчас они были раскрыты до предела, но при этом смотрели как незрячие. Хануман стоял, застыв, как гладыш в снегу, с жуткими пустыми глазами. Данло знал, что он контактирует либо со своей шапочкой, либо с одним из компьютеров в комнате – невозможно было определить, с которым.
Кибершапочка, или контактерка, служила окном в киберпространства всех стандартных компьютеров, да и многих нестандартных тоже. Хануман смотрел в пустоту – незрячий, как скраер, – он мог контактировать сейчас с квантовым механическим компьютером, или с гобеленом на стене, или даже с самими стенами.
– Хану, Хану, что ты делаешь?
Хануман, как бы отвечая ему, перевел взгляд на компьютер в самом центре комнаты. Там на простом штативе из осколочника, на уровне глаз Данло, лежала черная кремниевая сфера величиной с моржовую голову. Данло сразу распознал в ней укрупненный вариант вселенского компьютера Ханумана – того, в котором тот создавал свою кукольную вселенную.
– Извини, – сказал Хануман, – мне нужно было закончить один эксперимент.
Данло стал оглядываться, высматривая квадратный столик, который стоял у Ханумана в комнате после его великого воспоминания. Но ни столика, ни другого дисплея или монитора не было видно.
– Стол я оставил у Бардо в доме, – сказал Хануман, догадавшись, что ищет Данло. Он постучал по своей контактерке. – Теперь, когда я ношу это, примитивные дисплеи мне ни к чему. – Он оглянулся на сулки-динамики у стены. – А вот тебе, наверное, будет интересно посмотреть, как эволюционировали мои куклы за последние сто дней.
Не трудясь удостовериться, действительно ли Данло испытывает такой интерес, он кивнул головой, и динамики включились.
Весь зал от пола до вершины купола тут же наполнился серебристыми фигурами величиной с крупных тюленей. Они парили в воздухе, сидели на шкафах, они проходили сквозь эти шкафы и другие предметы, как будто грубая материя не могла служить препятствием для существ, созданных из чистого света. Данло снова напомнил себе, что куклы – это всего лишь информационные структуры, хранящиеся во вселенском компьютере Ханумана, и голограммы, снующие по комнате, – лишь отражение этой искусственной жизни.
– Пожалуйста, не надо больше, – сказал Данло.
Хануман стоял не шевелясь, и Данло шарахнулся, когда одна кукла повисла прямо перед ним. Можно было подумать, что она его изучает. У кукол в отличие от людей или тех же тюленей не было лиц и глаз, и все-таки лица чувствовались, как будто каждая из них обладала своими уникальными личностными свойствами и особым выражением. Блики света, из которых складывались фигуры, действительно были уникальны в каждом случае, а игра серебристо-голубого и аквамаринового цвета выглядела как реакция на стимулы, о которых Данло мог только догадываться. Куклы изгибались, вздрагивали, и Данло чудилось, будто молекулы воздуха вибрируют под действием речи или других информационных волн. Он испытывал чувство, что куклы разговаривают очень странным и сложным способом – быть может, даже обсуждают его или смеются над ним. Или жалеют. Ему почему-то казалось, что они знают обо всем, что произошло между ним и Хануманом, и он ужасался при мысли, что эти куклы способны входить в реальную вселенную столь же легко, как Хануман входит в их мир.
– Хану… пожалуйста.
Куклы исчезли столь же внезапно, как и появились. Свет, из которого они состояли, угас, шкафы и компьютеры стояли как ни в чем не бывало, и в зале стало вдруг слишком темно, слишком тихо и слишком реально.
– Ты когда-нибудь задумывался о природе памяти? – спросил Хануман. – У этих кукол развилась превосходная память.
– Компьютерная память и человеческая – не одно и то же.
– Ты уверен?
Данло потер глаз и сказал:
– Я пришел не для того, чтобы смотреть на твоих кукол.
– Ты уверен?
– Раньше мы понимали друг друга так, что в словах почти не нуждались.
– Сказать тебе, о чем ты думаешь?
– Как хочешь, – пожал плечами Данло. Он видел, что Хануман изучает его лицо, и ожидал какой-нибудь остроты или горькой правды по поводу его, Данло, парадоксального стремления стать асарией. Но Хануман отвернулся и ничего не сказал. Тогда Данло отдал себе отчет в том, что бурлило на поверхности его сознания: он молился, чтобы Хануман отвернулся и промолчал. – Раньше ты знал меня как друг, а не как цефик, – сказал он.
Хануман все так же молча приблизился к своему вселенскому компьютеру.
– А я знал тебя, – продолжал Данло. – И думал, что всегда буду знать.
Хануман прижался лбом к черной сфере, звякнув алмазной шапочкой о кристалл, и опять ничего не сказал.
– Хану, Хану, и зачем я только пришел в этот безумный Город?
– Если бы ты не пришел в Невернес, – проронил наконец Хануман, – я замерз бы на площади Лави.
– Зачем вспоминать об этом сейчас?
– Потому что между нами стоит жизнь, и так будет всегда.
– Да… жизнь.
– А теперь между нами появилось еще кое-что. Этот путь богов, который мы с тобой видели яснее, чем кто-либо другой.
– Но Путь Рингесса… не мой путь.
– Не твой?
– Нет.
– Ты отрекаешься от той самой религии, которую сам помогал создавать?
– Я? Что же тогда сказать о вас с Бардо?
– Не будем забывать, что твое воспоминание вдохновило тысячи людей.
– Но я…
– Скоро их будут миллионы.
– Так много?
– А когда-нибудь миллионы миллионов. Ведь человеческому роду нет ни конца, ни края.
Данло медленно прошелся по комнате и сказал, взвешивая каждое слово:
– Путь… стал не таким, как был.
– Это естественно – все меняется.
– Но ведь новые рингисты практически покупают у Бардо свое членство!
– Ну и что же?
– То, что воспоминания купить нельзя.
– Возможно. Но если божки не пожертвуют чем-то дорогим для себя, например деньгами, они никогда не оценят привилегии быть рингистами.
– Привилегии? – выкрикнул Данло. – Я думал, что путь открыт для всех.
– Он и открыт. Просто для некоторых из нас он будет более славным, чем для других.
– Понятно.
Хануман сложил пальцы домиком у подбородка.
– Некоторых из нас в отличие от других выбрали для того, чтобы скопировать их воспоминания.
– И кто же эти избранные?
– Ты хочешь знать их имена?
– Да.
– Бардо, само собой. Ты, я, Томас Ран, Коления Мор.
– Кто еще?
– Еще, как тебе наверняка известно, я пригласил Тамару. Потом братьев Гур и еще семерых из калла-сообщества. Сурья тоже дала согласие…
– Сурья Дал?
– Она блестящая женщина, и ты это знаешь.
– Но она протестовала против калла-церемоний чуть ли не с самого начала. Мне кажется, память… внушает ей страх.
– Тем не менее она, похоже, вспомнила нечто важное.
– Неужели?
– Можешь сам рассудить, насколько правдиво ее воспоминание.
Данло посмотрел вверх. Окна в куполе потемнели и отражали слабый свет комнаты.
– Что это за воспоминание?
– Она вспомнила одну простую вещь, одну истину, которая может пригодиться любому, идущему по Пути: однажды бог явится среди людей и поведет нас навстречу нашей судьбе. Имя этого бога – Мэллори Рингесс.
– Она говорит, что вспомнила это?
– Разумеется.
– Но каким образом?
– Она говорит, что это заложено в наследственной памяти Эльдрии.
– Но Эльдрия покинула эту галактику пятьдесят тысяч лет назад. Откуда они могли знать имя… моего отца?
– Возможно, Эльдрия были величайшими скраерами всех времен, – улыбнулся Хануман. – И это память о будущем. Ты сам говорил, что в глубоком воспоминании времени не существует.
– Да, верно.
– Эльдрия, должно быть, вложили в геном человека всю свою память – и о прошлом, и о будущем. И она лежит, свернувшись, в наших хромосомах. Ты видел ее, и я тоже. Что такое Старшая Эдда, как не память богов?
Данло прошел мимо шкафов и столов и прислонился к одной из колонн. Высоко над головой ветер дребезжал железным переплетом окна и ледяной струйкой сочился вниз. Гранитная стена промерзла так, что обжигала холодом через камелайку и рубашку.
– Я думаю, что Старшая Эдда нечто большее, чем генетическая память, – сказал он. – Старшая Эдда – это нечто другое.
– Что другое?
– Единая Память, жизнь, которая мерцает во всем…
– Единая Память! Данло, ты, пожалуй, единственный истинно религиозный человек из всех, кого я знаю.
Чувствуя, как боль начинает пульсировать в голове, Данло потер глаза и виски.
– Что за ирония. Я думал, что покончил со всеми религиями.
Хануман подошел и стал прямо перед ним.
– Даже с рингизмом?
– С рингизмом в первую очередь. В нем для меня… больше нет радости.
– Нет радости? Для тебя, великого воспоминателя?
– В калла-церемонии нельзя обрести истинных воспоминаний. Она как яйцо талло, из которого высосали желток.
– Поэтому мы от нее и отказались.
– Поэтому ли, Хану?
– Этим вечером церемония пройдет уже по-другому.
– Да… еще одна церемония.
Хануман вдруг вскинул глаза вверх, как будто заметив кинжал, подвешенный над его головой.
– Если ты оставишь Путь, для тебя это будет трагедия.
– Но я должен.
– Ты уверен?
– Да.
– Когда ты успел принять это глупое решение?
Данло не хотел говорить, но гордость во весь голос кричала ему, что правда благословенна и должна быть сказана. И он ответил:
– Перед тем как прийти сюда, я не был уверен. Я еще не знал, как поступлю.
– А теперь знаешь?
– Да.
– И что же Данло Дикий намерен делать дальше? – Хануман смотрел ему прямо в глаза, но взгляд при этом оставался отсутствующим. – Цефик хочет знать.
Данло, прижимая ладонь к голове, сказал, что никогда больше не будет присутствовать на собраниях рингистов и каких-либо религиозных церемониях, но каждый вечер будет упражняться в мнемонике один, под руководством Томаса Рана.
Дни он будет посвящать математике, поскольку все еще намерен попасть во вторую экстрскую экспедицию и найти средство от страшной чумы, убившей его народ.
– Ты отчитался за все свое время, кроме ночей.
– Ты должен знать, где я провожу свои ночи. – Начав говорить правду, Данло уже не мог удержаться и рассказал Хануману о жемчужине и о своей помолвке с Тамарой.
Эта новость как будто совсем не удивила Ханумана. Он посмотрел на Данло с насмешкой и с жалостью.
– Она никогда за тебя не выйдет. Поверь мне, я этих шлюх знаю.
Оба застыли, не шевелясь. Молчание стало давящим и недобрым – казалось, ему не будет конца.
– Я пойду, – сказал наконец Данло. Давление в голове становилось мучительным, и когда он взглянул на дверь, острая боль стрельнула в глаз.
– Ну, вот ты и обиделся. Прости, я не хотел. Побудь еще.
Данло, не отвечая, потер шрам над глазом и пошел к двери.
– Ты не можешь предать своих друзей таким образом! – сказал Хануман.
Данло, словно от удара электрического тока, резко обернулся к нему и наставил на него палец.
– И это говоришь ты?
– Если ты бросишь Путь, то причинишь зло нам всем.
Данло сжал кулаки от гнева и досады.
– Во всяком случае, я прошу тебя никому не открывать наших секретов.
– Секрет есть секрет, – сказал Данло.
– Разумеется, но, пожалуйста, не говори ни с кем о Пути. И не рассказывай, что ушел от нас.
– Ты хочешь, чтобы я молчал?
– Разве это так трудно?
– Не трудно. Просто… неправильно.
Хануман бросил на него быстрый взгляд.
– Не позволяй своей любви к правде погубить все, что тебе дорого.
– Не понимаю, о чем ты.
Некоторое время Хануман молча всматривался в его лицо.
– Ты уже решил, что будешь высказываться против нас, не так ли?
– Я… пока еще не знаю.
– Прошу тебя, скажи мне ту правду, которую собираешься сказать всем остальным.
– Какую правду?
– Ту, которую твое лицо выдает, а твои губы отрицают.
– Ты заранее знаешь, что я скажу, – вздохнул Данло.
– Да. Ты сохранишь наши секреты, но будешь высказываться против нас – будешь говорить, что рингизм прогнил насквозь. Ты подумываешь о том, чтобы сообщить эту полуправду Тамаре нынче ночью. Но ты не должен. Нельзя говорить Тамаре о том, что ты видел здесь. Пожалуйста, не делай этого.
– Но мы рассказываем друг другу все.
– Сказав ей об этом, ты погубишь ее. – Голос Ханумана стал низким и хриплым; как будто он перебарывал кашель.
– Думаешь, человека так легко погубить?
– Послушай меня. Тамара увлечена идеей создать свою собственную религию. Она этим живет.
– Ошибаешься.
– Пожалуйста, поверь мне. Я видел то, что видел.
– Ты цефик, и ты видел ее лицо, но ни разу не заглядывал глубже.
– Да, я цефик и говорю тебе как цефик: если ты очернишь Путь в ее глазах, ты уничтожишь все, что существует между вами.
Данло не понравилось отрешенное выражение лица Ханумана при этих словах, не понравились страх и жалость в его бледных глазах. Тот походил скорее на скраера, видящего перед собой трагическое и неотвратимое будущее, чем на скрытного цефика.
– Понимаю, – сказал Данло. – Ты не хочешь, чтобы я увел у вас куртизанку.
– Не говори ей ничего. Пожалуйста.
– Я пойду, – снова сказал Данло.
Хануман улыбнулся и сказал, роняя слова, как ртутные шарики:
– Но мы еще не сделали запись твоей памяти.
– Я… не могу на это согласиться.
– Пожалуйста, Данло.
– Как ты можешь просить меня об этом?
– Могу, потому что ты мой друг.
– Разве друг стал бы просить друга… о невозможном?
– Ты пережил великое воспоминание. Я думал, ты захочешь поделиться им с другими.
– Но им нельзя поделиться!
– Так уж и нельзя?
– Нет.
– А если бы можно было, ты бы поделился?
– Н-не знаю.
– Может быть, ты хотя бы подключишься к одному из наших мнемонических компьютеров? Ознакомишься с теми воспоминаниями, которые мы записали?
– Зачем?
– Чтобы самому убедиться.
Данло потер шрам над глазом и медленно кивнул.
– Хорошо, как хочешь.
– Нам понадобится шлем.
Хануман, пройдя через комнату, открыл высокий шкаф красного дерева. В нижней части лежали кипы черепообразных шлемов, похожих на трофеи какого-то древнего полководца.
Но Хануману нужны были не они, а те, что стояли на верхних полках. Быстро перебрав их своими маленькими пальцами, он наконец сделал свой выбор. Кивнув, он взял шлем обеими руками и вручил его Данло.
– Никогда еще не видел такого. – Данло провел пальцами по выпуклой хромированной поверхности. В холодном зеркальном металле отразилось его искривленное лицо.
– Что-то не так? – спросил Хануман.
Данло, глядя то на него, то на шлем, вспомнил первое, чему учат послушников: никогда не надевать на себя шлем, назначения которого ты не знаешь.
– Он сделан на Катаве, – сообщил Хануман. – Красивый, правда?
В этот момент Данло услышал в коридоре легкие шаги и подумал, что кто-то подкрадывается к двери компьютерного зала, чтобы подслушать, о чем они говорят. Хануман, внимательно разглядывавший серебристые борозды шлема, видимо, не обратил внимания на этот слабый звук. Затем дверь распахнулась, и вошел Бардо в ярком, расшитом золотом парадном одеянии и с золотым кольцом на мизинце правой руки. Борода и волосы были тщательно подстрижены, причесаны и смазаны маслом сиху – он всегда одевался так перед наиболее торжественными церемониями. Поглядев на Данло и Ханумана, он пророкотал, как зимний гром:
– Ну что, записали вы его проклятую память?
– Нет, – ответил Хануман. Бардо, внезапно нависший над ним, как огнедышащий вулкан, явно озадачил его. Данло на миг подумалось, что Хануман заранее попросил Бардо прийти и подкрепить его аргументы, но если на тонком лице Ханумана отражалась хоть какая-то правда, этого быть не могло.
– Что так?
– Данло не хочет, чтобы его память копировали.
– Бога ради, почему?
– Спросите его сами.
Бардо, потянув себя за бороду, устремил на Данло печальный взгляд и произнес риторически:
– Ну почему мне всегда приходится выслушивать что-то плохое?
Пока Данло объяснял причины своего решения оставить Путь, стараясь никого не обидеть и воздерживаясь от обвинений, Бардо взял у него шлем. Перевернув его, он жалобно спросил:
– Почему ты, один из всех рингистов, оказался таким упрямым?
– Мне очень жаль, – сказал Данло.
– Мне следовало бы заметить, что ты разочарован, – вздохнул Бардо. – Но я был так чертовски занят…
– Мне очень жаль, – повторил Данло.
– Не можешь же ты вот так взять и бросить нас. Да знаешь ли ты, как это почетно – быть пророком среди божков?
– Нет, и можете мне не рассказывать.
– Но разве ты не хочешь услышать о будущем, которое тебя ожидает? Разве ты… – Говоря это, Бардо вертел в руках шлем. – Бог мой, а это что такое?
Он ткнул пальцем в нижнюю затылочную часть шлема, где сверкала печать Реформированной Кибернетической Церкви: цепочка эдических огней в форме лежащей на боку восьмерки.
– Это не наш шлем! – воскликнул Бардо.
– Верно, – улыбнулся Хануман. – Это шлем для очищения.
– Для очищения? Откуда он у тебя?
– Глупо, конечно, но я собираю такие вещи. – Хануман подошел к ряду из десяти стальных шкафчиков и открыл дверцу первого. Внутри было десять полок с десятью шлемами на каждой, очень похожими на очистительные.
– Так ведь это наши, мнемонические, – сказал Бардо.
– Они действительно очень похожи. – Хануман взял один шлем на сгиб руки и принес показать Данло и Бардо. – Но на мнемонических, конечно, никаких знаков нет.
Бардо, закусив усы, выхватил шлем у Ханумана, поднес его поближе к световому шару и провел пальцем по его основанию. На гладком металле печать кибернетической церкви действительно отсутствовала.
– Мы купили тысячу таких у катавских Архитекторов, – объяснил Бардо, обращаясь к Данло, – и заказали еще тысячу.
Оба шлема в руках у Бардо казались совершенно одинаковыми, точно два яйца талло, взятые из одного гнезда. Хануман улыбался своей пустой улыбкой, и Данло вспомнилась старая поговорка: «Наисвятейшие из всех компьютеров делают на Катаве».
– Проклятые Архитекторы ставят свою метку на всем, что они делают, но мы заплатили им за то, чтобы на этих шлемах печатей не было, – сказал Бардо. – Божкам, естественно, лучше не знать, что шлемы, которые они на себя надевают, – Архитекторские.
Данло, почти не слушая его, смотрел на Ханумана, а Хануман смотрел на него. Бардо бормотал себе под нос что-то о непомерно высокой цене, которую запрашивают Архитекторы. Данло и Хануман смотрели друг другу в глаза, чего давно уже не делали.
Бардо выпятил подбородок и спросил Ханумана:
– Почему ты выбрал для наших шлемов такую форму?
– В шутку, конечно, – сказал Хануман. Глаза у него были бледные, как меловой лед, и такие же холодные и туманные.
– В шутку?!
– Ну да. Архитекторы используют очистительные шлемы, чтобы калечить память, и мысль сделать компьютер по их образцу показалась мне забавной. Ведь наша задача – обеспечить людям самую глубокую память во вселенной.
Последовавшее за этим молчание продолжалось так долго, что сердце Данло успело сделать девять ударов. Потом Хануман добавил:
– Я как раз собирался показать Данло разницу между двумя шлемами.
Хану, Хану, правду ли ты говоришь?
Данло видел, что Хануман наблюдает за ним, и холод глаз Ханумана жег его глаза, и он не находил ответа на свой вопрос. Внутренний голос кричал, что Хануман ни за что не причинил бы ему зла, ни за что не возложил бы очистительный шлем на его голову. Ни один друг не поступил бы так со своим другом, даже если их дружба трещит, как старый морской лед под слишком тяжелым грузом.
О Хану, Хану.
Данло смотрел на своего лучшего друга и думал, что Хануман, возможно, и сам не знал, что сделает дальше.
– Ах-х. – Бардо сунул очистительный шлем прямо в лицо Хануману и явно удивился быстроте, с которой тот его перехватил. – Запри-ка его вместе с прочими экземплярами твоей коллекции. Не хватало, чтобы какая-нибудь богинька взяла и напялила его по ошибке.
Пока Хануман прятал шлем в один из шкафов, Данло заметил, что толстые щеки Бардо дрогнули в подобии улыбки.
Было видно, что объяснение Ханумана удовлетворило его, но видно было и то, что эта «шуточка» порядком встревожила Бардо. Он боится Ханумана, подумал Данло. Боится за себя.
Бардо побарабанил пальцами по мнемоническому шлему и сказал Данло:
– Мы хотели бы позаимствовать у тебя твое ощущение Эдцы. Особенно хотелось бы сохранить… э-э… мистический элемент твоего воспоминания.
Хануман стоял у своего вселенского компьютера, и неподвижность его позы говорила о глубокой задумчивости.
– Даже самая точная копия моего сознания сейчас вам ничего не даст, – сказал Данло. – Сейчас я далек от мнемоники.
– Думаю, это не имеет особого значения, – сказал Бардо.
– Но только в Единой Памяти, когда ты ее переживаешь, в тот момент, когда время останавливается… только во время воспоминания существует мистический элемент, который стоит сохранять.
– Почем ты знаешь, что стоит сохранять, а что не стоит?
– Все, что у меня есть теперь, – это память об Эдде. Память… о Единой Памяти.
– Ну вот – кто же может помнить это состояние лучше тебя?
Данло взглянул на Ханумана и подумал, что тот помнит если и не лучше, то болезненнее.
– Ничего, что есть в моей памяти, не может приблизить кого бы то ни было к Эдде.
– Но ты же так свободно говорил о своем воспоминании!
– Я не знаю, как это вышло.
Бардо почесал бороду.
– И красиво говорил – это потому, что ты привык говорить правду, даже тем, кто этого не заслуживает. Так вот, послушай своего друга, ненамного менее красноречивого, чем ты. Слова – это драгоценные камни в ночи. Слова – как созвездия, указывающие путь заблудшим. Слова способны пробуждать мистическое чувство – я очень хорошо это понял, когда услышал тебя. Я сам, как тебе должно быть известно, этому чувству не доверяю, но другие жаждут его испытать. Для них твои слова – золото. Твои слова – вот что нам нужно, Паренек. Хануман говорит, что ты помнишь почти каждое слово, которое произнес в жизни.
Бардо достал из кармана золотые часы с двадцатью пятью бриллиантами, образчик запретной техники, широко распространившейся в Городе после кончины Хранителя Времени, и сделал Хануману знак подойти поближе. Отдав ему мнемонический шлем, Бардо сказал:
– До церемонии осталось меньше двух часов. У меня нет времени уговаривать Данло. Сделай милость, уговори его сам. – Данло он сказал, взъерошив ему волосы: – А если он не сумеет уломать тебя сделать то, что нужно, придется мне потолковать с тобой наедине. Понял? Вот и ладно. Ну, мне надо поставить динамики. Орден нас так прижимает, что приходится их прятать – или по крайней мере не выставлять напоказ.
Он слегка поклонился и выплыл из комнаты. Дверь за ним захлопнулась, и Данло с Хануманом остались одни.
Хануман протянул Данло мнемонический шлем. Он молчал, но глаза его спрашивали: «Неужели ты мне не доверяешь?» А может быть, и так: «Неужели Данло Дикий испугается компьютера?»
Данло, по правде сказать, в самом деле боялся компьютеров. Именно из-за этого страха и из-за своей дружбы с Хануманом он заставил себя взять шлем. Быстрым движением он надел его на себя и попытался как-то уложить волосы под ним.
Хромовые наушники давили ему на виски. Шлем сидел плохо: волосы, даже собранные назад, были слишком густыми и непослушными, чтобы обеспечить хороший контакт между нейросхемами и черепом. Хануман сказал, что это не важно и что шелковая подкладка мнемошлема генерирует более мощное поле, чем обычный шелк. Данло, крайне не любившего совать свой мозг в какое бы то ни было электрическое поле, сильное или слабое, эта информация не утешила. В этом процессе его беспокоило все. Обод шлема давил ему на затылок, пережимая мускулы и артерии и усугубляя головную боль. Позади глаз дергало так, что он почти ничего не видел, но он все-таки посмотрел на Ханумана и улыбнулся. Потом кивнул, закрыл глаза и стал ждать, когда компьютер наполнит его воспоминаниями.
Образы, когда они явились, почти ничем не отличались от других сюрреальных или виртуальных образов. Контакт с памятью, записанной Хануманом, походил на вхождение в библиотечные киберпространства, а еще больше на участие в фабулистической драме. Хануман при создании своей мнемонической программы действительно пользовался помощью как аниматора, так и мастер-фабулиста. Данло с изумлением наблюдал события из жизни своего отца. Он, как медуза, будто бы плавал в тропическом море и видел, как агатангиты разбирают поврежденный мозг Мэллори Рингесса нейрон за нейроном и переделывают Рингесса в человека, способного стать богом; он «слышал» беседы Рингесса и Бардо; он «шел» по холодному берегу под лай тюленей и слышал, как эти великие мужи рассуждают о программировании личности, об управлении биологической программой, ведущей к ярости, ненависти и в конечном счете к смерти. Вся жизнь Рингесса, какой ее видел Данло, была посвящена освобождению от бессмысленности смерти.
Сотворение себя – вот величайшее из искусств.
Шлем подал эти слова на внутреннее ухо, Данло удивился тому, как похож отцовский голос на его собственный – вернее, на тот, каким голос Данло может стать с годами: глубокий, звучный, нежный, страстный и страдающий. Ирония в нем позабавила Данло, а нота воли и судьбы вызвала в памяти далекие звезды и галактики, где происходили неведомые Данло чудеса и трагедии. Отец говорил о сострадании, и оно же звучало в его голосе; его благородная речь вдохновляла и ласкала слух. Данло обычно ценил удовольствие, как признак всего хорошего и благословенного, но этому удовольствию он не доверял, как мораше – непрочному снегу, прикрывающему невидимые трещины. Он слишком много знал о цефиках и о том. что они умеют. Слишком хорошо знал, как кибершаманы манипулируют мозгом при помощи компьютера. Вот и теперь, отвлекаясь от манящего образа отца и заглядывая в собственное сознание, он прямо-таки видел, как шлем манипулирует им. Это чувствовалось как эйфория, как струя эндорфинов, омывающая нейроны. В определенных моментах речи отца (и при каждом упоминании имени Рингесс) он испытывал симптомы наркотического опьянения. Шлем стимулировал выделение пептидов и других белков, типичных для определенных настроений. Стоя под металлической скорлупой, давящей на его позвоночный столб, Данло попеременно испытывал изумление, благоговение, любопытство и даже радость. Эта радость, к его удивлению, вызвала у него такой смех, что на глазах выступили слезы и он едва устоял на ногах. Затем мистический поток серотонина, быстрый и холодный, настроил его на более возвышенный лад, а норадреналин, вызвав чудесную ясность и сосредоточенность, позволил взглянуть на мир поновому и ускорил работу мысли.
Образ Бога присутствует изначально во всем человечестве.
Каждый обладает им во всей полноте и нераздельности – все общество в той же степени, как отдельный человек.
Данло внезапно ощутил, что способен понять нечто великое. Божественное. В вещах, которые ему предстояло понять и вспомнить, недостатка не было. Бардо с Хануманом записали великое множество слов, образов, древних цитат, музыки, виртуальных чудес. К этому они присовокупили изобретенную ими доктрину, объясняющую, как отдельный человек может стать богом, а остальные – последовать его путем. Данло следовало впитать эту информацию столь же легко, как сухой снег поглощает воду. Его мозг был прекрасно подготовлен для восприятия этой ложной памяти. Шлем и теперь массировал его нейроны, выкачивая из мозгового ствола еще больше норадреналина и прочих веществ, укрепляющих память. Но его память не нуждалась в подкреплении. Она от рождения служила ему так, что ему всегда было легче запомнить, чем забыть. Очищение памяти от чего бы то ни было, даже от такой мелочи, как расположение прыщей на лице Педара в ночь, когда тот разбился, всегда требовало от Данло величайшего усилия воли. (И применения определенной методики, которой обучил его Томас Ран.) Именно воля в сочетании с мнемоническими методами предохраняла его теперь от струящегося в мозг потока образов. Улыбаясь и крепко зажмурив глаза, Данло успешно противостоял мнемоническому шлему и не боялся попасть в расставленную Хануманом ловушку.
Человек – это канат, протянутый между зверем и богом, канат над бездонной пропастью.
Хануман был, конечно, не первый, кто пользовался техническими средствами для промывки мозга религиозными настроениями и догмами. Николос Дару Эде еще три тысячи лет назад выпустил первые четыре тома «Алгоритмов», и толкование Хануманом Старшей Эдды во многом копировало архитектуру этого монументального труда. Его «Эдда» была скомпонована еще более плотно, чем «Видения», «Повторения» или последующие тома «Алгоритмов». Данло обнаружил, что у человека, надевающего мнемонический шлем, свобода передвижения в пространстве записанной памяти весьма ограничена. В этом отношении процесс был прямо противоположен подключению к библиотечному компьютеру: там пользователь кружил в ослепительно красивых информационных штормах, среди кристаллических структур знания, в полной мере наслаждаясь фрактальностью, фугой и теми внезапными открытиями, которые библиотекари называют гештальтом. Данло не требовалось его чувство ши, чтобы находить дорогу среди образов, из которых Хануман составлял свои трансчеловеческие драмы, – дорогу для него проложили заранее. Ее запрограммировали и продолжали программировать в то самое время, пока он улыбался и потел под серебристым шлемом.
Ты совершил свой переход от червя к человеку, и в тебе еще немало осталось от червя. Что до обезьян, то в человеке до сих пор обезьяньего больше, чем в них самих.
Данло открыл глаза и отключился от мнемонического шлема. Сделать это было нелегко. Хануман стоял рядом с плотно сжатыми губами и невидящими глазами. Кибершапочка на его бритой голове светилась тысячами пурпурных жилок. Данло понял, что Хануман заранее отбирает то, что подает ему в мозг, и, весьма вероятно, редактирует эту память момент за моментом. Должно быть, программа, как для таких вот персональных сеансов, так и для массовых церемоний, приспосабливается под каждого пользователя, чтобы обеспечить ему индивидуальные «воспоминания». А составляет ее Хануман, или Бардо, или другие кибершаманы.
Вселенная – это машина для производства богов.
Воспоминания, которые пришли к Данло вслед за этим, несколько отличались и от Старшей Эдды, и от истинного воспоминания, которое он испытал. Это была память других людей, слова и картины, скомпонованные фабулистом. Всех этих людей Данло хорошо знал и узнавал отпечатки индивидуальных тревог и самообманов Бардо и Сурьи с той же легкостью, с которой распознал бы тигровые следы на снегу. Одну «Эдду», холодную, твердую и чистую, вспомнил явно Томас Ран. Красные и синие точки позади сомкнутых век Данло сложились в изображение живого организма, огромного и прекрасного, словно кит, но живущего очень высоко над морем; его кожа светилась золотом в черноте космоса. Затем появились математические формулы, показывающие, что для организмов, приспосабливающихся к новой окружающей среде, скорость энергетического обмена варьируется в зависимости от квадрата температуры.
Поскольку низкие температуры гарантируют порядок, наиболее холодные виды климата являются потенциально самыми благоприятными для сложных форм жизни.
Вот Старая Земля перед сельскохозяйственным холокостом, какой ее увидел Бардо: первобытные зеленые леса, голубые океаны и белые, чистые, как снег, облака. Вот Хануманово пророчество о мертвом боге в 18-м скоплении Дэва и рассказ о великой войне, которую боги ведут среди звезд. А вот отзвук первого воспоминания Данло – то, что он сказал сразу по возвращении: «Только бог может поклоняться богу, и мы все – потенциальные боги». Данло посмеялся про себя, зная, что никогда не произносил слов «мы все – потенциальные боги». Это добавили Бардо с Хануманом, как вирус добавляет новую информацию в компьютерную программу или в живую клетку. Он посмеялся, видя, как просто вышивается Старшая Эдда, а потом тряхнул головой и в отчаянии скрипнул зубами.
Это агатангиты впервые распознали Мэллори Рингесса как потенциального бога. Они исцелили его смертельную рану и указали ему путь к бесконечному. Став богом, Рингесс отправился исцелять вселенную, и когда-нибудь он вернется в Невернес.
Данло захотелось сорвать с себя шлем и спастись бегством, но один образ привлек его внимание: отец в виде благородного юноши, с рыжими нитями в черных волосах, с сильным хищным лицом и холодными голубыми глазами, взирающими на звезды над Городом. Этот образ, плод воображения неизвестного фабулиста, заполнял теперь сознание Данло, разрастаясь в нечто великое и блистательное. Данло стиснул зубы так, что заныли челюсти. Изображение отца там, позади глаз, превращалось в его собственное, которое Данло мог увидеть в обычном посеребренном зеркале. Он понял, что Хануман играет с программой, смешивая бородатое лицо сына с лицом отца, как анималист смешивает разные типажи, чтобы получить новые. Глаза у этого нового персонажа были темно-синие, как жидкие сапфиры, и все время росли, делаясь огромными и таинственными, как луны. Сине-черные окна, полные звезд, глядящие во все стороны разом, вбирающие в себя всю вселенную.
Каждый мужчина, каждая женщина, каждый ребенок – это звезда, и каждый человек способен сиять светом богов.
Начинается, подумал Данло. Теперь он пустит в ход все свое мастерство, чтобы защелкнуть поставленный им капкан.
Восхождение от человека к богу совершает тот, кто вспоминает Старшую Эдду и следует по Пути Рингесса.
Воспоминания мелькали так быстро, что Данло совсем бы растерялся, если бы не использовал свое чувство времени для ускорения работы мозга. Почти инстинктивно он, словно находясь в кабине своего легкого корабля, вошел в замедленное время, а затем погрузился в электронные потоки компьютера.
Отдельные моменты времени отделялись от других и тянулись без конца, словно нить из кокона шелкопряда. Данло достиг электронного самадхи – компьютерная память сделалась его памятью, и сознание понеслось вдоль бесконечных разветвлений нейросхем, заряжаясь информацией. Странно, что Данло это удалось – ни один шлем не был запрограммирован на столь опасный вид симбиоза. Немало пилотов погибло в своих компьютерах (их было не меньше, чем бедных хариджан, нелегально использовавших электронные машины). Данло любил мистические стадии сознания, даже если они вызывались компьютером, и одно время искал такого экстаза, где только мог. Ему казалось, что он понял устройство Ханумановой ловушки: Хануман, по-видимому, заманивал его обещанием легкого электронного самадхи, как бы говоря: «Каждый раз, когда ты наденешь мой шлем, вся память и все сознание будут твоими».
Бесконечно долгое время это казалось правдой. Сознание Данло как будто расширилось, слившись воедино с компьютерным. Он сам как будто стал компьютером и не старался избегать компьютерных программ. Он целиком погрузился в экстаз чисто компьютерной деятельности. Он разросся в почти бесконечное поле включений и отключений, где в абсолютной темноте вспыхивали триллионы искр… Световые узоры, возникающие в нем, тут же распадались и сменялись другими, столь же прекрасными. Вся его работа сводилась к единственному вечному вопросу: да или нет? Этот вопрос заключался почти в каждом аспекте форм, цвета, звука, чисел, идей или эмоций. Он задавал себе этот вопрос миллион миллионов раз в секунду, и его компьютерное «я» кодировало информацию, преобразуя ее в память, и образы многочисленных «да» и «нет» укладывались в эту память. Информация перемещалась с места на место, сортировалась, сравнивалась, уничтожалась и росла так быстро, что заполнила все пространство памяти. Тогда Данло увидел Хануманову Эдду с совершенно новой точки зрения: он смотрел на нее, словно бог, разглядывающий под микроскопом весь мир одновременно, и его огромное новое сознание отдавало ему отчет во всем, что он видел. Как много он понимал – прежде с ним такого никогда не случалось. Не подключен ли шлем к более крупному компьютеру или целому блоку компьютеров, который Хануман где-то спрятал? Данло, как много раз до того, задумался о природе контакта сознания с компьютером и о природе самого сознания.
Хану, Хану, возможно ли, чтобы разум познал нечто большее себя самого?
Кровь бурлила в его шейных артериях, и он воспринимал чужую память, что раньше казалось ему невозможным. Может быть, действительно скопировать что-нибудь из своего великого воспоминания на шлем Ханумана? Пожалуй, вместе они могли бы создать почти точное подобие Старшей Эдды.
Боги творят; сотворение – это все, и ты есть Бог.
В этом призыве к созиданию и заключалась приманка. Данло казалось, что он может потрогать ледяные прозрачные стены Ханумановой ловушки и вырваться из нее на волю, когда захочет. Ему казалось, что он видел все, что стоило видеть, но шлем заглянул в его мысли и тронул их бледным огнем. Нейротрансмиттеры побежали по клеткам, поднимая в мозгу электрохимический шторм. Это было удовольствие выше всех удовольствий, экстаз, которого Данло никогда еще не испытывал. Он пошатывался, опьяненный этим внутренним огнем, а потом настал момент озарения, столь пронзительнщйу спорно вспышка молнии осветила его мозг.
Где та молния, что лизнет тебя своим языком? Где горячка, которой тебе нужно переболеть? Смотри, я показываю тебе бога внутри тебя: он эта молния, он эта горячка.
Данло топтался, ничего не видя, боясь упасть на какойнибудь шкаф. Он пытался справиться с дыханием, унять огненные волны блаженства, омывающие мозг.
Вот оно, настоящее электронное самадхи – то, которое кибершаманы приберегают для себя.
Гримасничая и скрипя зубами от избытка наслаждения, Данло подумал, что ничто во вселенной не может сравниться с этим самадхи. Но тут словно выключатель щелкнул, и он, тяжело дыша, вышел из эйфорического состояния. Тогда он вспомнил то, что не должен был забывать ни на миг: настоящую Старшую Эдду. Настоящее воспоминание не походило на электронное самадхи. В раю кибершаманов ты стоял на вершине горы, видя каждую трещинку и каждую блестку слюды в каждом камне мира; твое зрение приобретало такую широту и ясность, что ты анализировал световые волны, отражаемые каждой снежинкой и ледышкой вплоть до места, где край мира загибается в бесконечность. Но истинное воспоминание позволяло заглянуть в суть вещей, в тот внутренний свет, что побуждает все сущее тянуться к жизни. В истинном воспоминании молния не просто ослепляла тебя – ты сам становился молнией. Данло вспомнил, что значит видеть ясно и глубоко, что значит быть собой в самом глубоком смысле, и припомнил то, что говорил ему Старый Отец: «Поверхности блещут доступной пониманию ложью, глубины сияют недоступной пониманию правдой…» Хануман тоже должен был это знать.
Должен был знать, что он сам попался в ловушку своего сверкающего кибернетического рая.
– Нет, Хану, это не настоящая Эдда – это только имитация, – сказал Данло вслух, и слова отозвались вибрацией между шлемом и черепной коробкой. Собственный голос показался ему слишком нежным, слишком страстным, слишком страдающим. Следовало бы снять шлем сразу, но он только открыл глаза и посмотрел на Ханумана.
Перед глазами стеной стояла тьма, и легкость в голове мешала сориентироваться. Наэлектризованный мозг потрескивал, создавая ауру нехорошего предчувствия. Потом внезапно вспыхнул свет – молния, ударив в глаза, пробила мозг навылет.
Молния всегда молния, но на это раз Данло ощутил ее жар сильнее, чем свет. Нейротрансмиттеры, пронизывающие мозговые клетки – допамин, туарин и норэпинерфин, – теперь имели несколько иную пропорцию и концентрацию. На этот раз не было никаких красивых видений, не было чувства связи с сознанием намного больше твоего, не было удовольствия.
Была только боль – вся боль мира.
– Хану, Хану! – вскричал Данло, но никто, казалось, не слышал его. Данло знал, что не кто иной, как Хануман, программирует этот химический поток, и что спастись от мучений можно, попросту отключившись от компьютера. Но он не мог отключиться. Он застрял в огненном вихре, в кошмарном пространстве сродни скорее эпилептическому припадку или безумию, чем какому-либо виду самадхи. Данло схватился за голову и ушиб пальцы о шлем. Колени словно молотом раздробило, и он, корчась, упал на пол. Он стукнулся локтем и прикусил язык, но эта боль была ничто по сравнению с огнем в голове. Все клетки его мозга и тела пылали страхом и отчаянием перед абсолютностью небытия. Он охотно бы распался на миллион частей и все бы побросал в ледяное море, если бы это помогло погасить страшный огонь. Но тот разгорался все жарче, и Данло жгла боль, а внутри этой боли помещалась другая, и так без конца.
Данло, Данло, ты должен сгореть в собственно огне; как можешь ты желать обновления, не превратившись сначала в пепел?
Но всему когда-нибудь приходит конец. Данло умудрился сорвать шлем с головы и скорчился на полу, обливаясь потом и задыхаясь. Мало-помалу он осознал, что Хануман стоит на коленях рядом с ним и обтирает белым полотном его окровавленные губы. Он заглянул Данло в глаза, убедился, что тот пришел в себя, и помог ему сесть, но тут же отстранился и стал чуть поодаль. Слегка дрожащей рукой он подал платок Данло.
– Возьми – ты прикусил себе язык.
Данло вытер рот. Язык болел и поворачивался с трудом.
– Зачем ты это сделал, Хану?
Хануман, потрогав алмазную шапочку на голове, нагнулся за сброшенным Данло шлемом. Осмотрев помятую и поцарапанную хромовую поверхность, он ответил с холодной улыбкой:
– Это тоже была имитация. Что же – готов ты дать людям настоящую Эдду?
Спина и затылок Данло оцепенели. Впервые он ощутил боль Ханумана почти реально. Если электронное самадхи было лишь сверкающим отражением на поверхности Единой Памяти, виртуальный огонь в мозгу Данло должен был представлять собой только тень того, что испытал Хануман в ночь своего первого воспоминания.
О Хану, Хану. Я ведь правда не знал.
Данло кивнул на шлем в руках Ханумана.
– Я не знал, что память… может так жечь.
Хануман по-прежнему улыбался, но не было юмора в его улыбке.
– Это хитрая программа. Сам лорд Палл принимал участие в проектировании шлемов.
– Но ведь он с самого начала был против Пути!
– Верно, был.
– Значит, ты договорился с ним? И с Орденом?
– Мы убедили его, что глупо было бы Ордену относиться к Пути недоброжелательно.
– Понятно…
– Лорд Палл – величайший из цефиков. Он научил меня почти всему, что я знаю.
– Кто же кого соблазнил – ты его или он тебя?
– Никто никого не соблазнял. Самый влиятельный лорд Тетрады просто согласился с нашими доводами.
Данло потер ушибленный локоть.
– А как же лорд Цицерон?
– Я уверен, что лорд Палл договорится с лордом Цицероном – они ведь оба разумные люди.
– Понятно.
– Ведь это вполне разумно – разрешить членам Ордена заниматься мнемоникой?
Данло потер затылок и снова кивнул на шлем.
– Это не мнемоника.
– Почему? Мы даем людям лучшее, что есть в Старшей Эдде.
– В твоей интерпретации Эдды.
– Вообще-то большинство наших доктрин утвердил Бардо. Я просто подогнал воспоминания под эти доктрины.
– А как насчет твоего воспоминания, Хану?
Хануман обвел пальцем красную полоску по краям своей шапочки.
– Мы дадим им то, что я сказал в Огненной Проповеди – этого будет достаточно. Зачем им, беднягам, мучиться.
– Так, как мучился я?
– Я только хотел показать тебе, как тщательно мы должны отбирать воспоминания, которые копируем. Извини, если я причинил тебе боль.
– Ничего, – сказал Данло.
– Мы должны давать божкам лучшее, а не худшее.
– И подслащать это лучшее электронным самадхи?
– Это позволит им испытать мистическое чувство.
– Подредактированное тобой.
– Пожалуйста, не смотри на меня так. Ты должен знать, что слишком сильное удовольствие так же опасно, как слишком сильная боль.
– Опасно для кого?
– Для нас, конечно. Для божков. Потому мы и должны контролировать воспоминания.
– Ты не просто контролируешь, Хану. Ты подделываешь настоящую память.
– Но что это за настоящая память? Ты имеешь в виду ту, которую называешь Единой? Но как нам показать ее людям? Не все ведь обладают твоим чудотворным даром.
Данло потрогал перо у себя в волосах.
– Я думаю, что все.
– Нет, не все – потому мы и даем им твои слова, твою память, твое понимание. И немного кибернетического самадхи, чтобы дать им почувствовать вкус к чудесам.
– Нет, вы даете им суррогат вместо меда и блеск вместо золота. Никогда твоя имитация Эдды не будет реальной.
Улыбка Ханумана перестала быть пустой, а лицо выражало холодное, жестокое веселье.
– Реальность не нужна никому. Реальность уж слишком реальна – почему же еще люди ненавидят всех, кто открывает им правду?
Видя, что Данло не думает вставать, Хануман опустился на колени и присел на пятки, приняв учтивую, строго официальную позу. Сложив свои маленькие руки на коленях, он стал говорить, что людям необходимо познать более глубокие уровни сознания и выйти за пределы самих себя, но они не должны слишком углубляться и уходить слишком далеко. Большинство, преклонив колени под мнемоническими шлемами, будет удовлетворено, вкусив кибернетическое самадхи лишь слегка. Его, Ханумана, долг – отмерить им это блаженство с той же тщательностью, как повар добавляет чесночную эссенцию на противень, где жарится курмаш. Данло он казался циничным и искренним одновременно – знающим о мраке, наполняющем всю вселенную, и странно невинным, как церковный служка, который, стоя под эдическими огнями на церемонии расширения, вынужден размышлять о тайнах, непонятных для его юного возраста. Данло слушал его, сидя на холодном, как лед, полу.
Было что-то колдовское в том, как они оба сидели на ничем не покрытых каменных плитах, а ветер выл у шпилей собора и швырял в окна снегом. Кроме этих звуков, в зал проникали и другие: быстрые шаги по коридору, взволнованные приглушенные голоса, шелест шелковых одежд. Высоко над храмом и Городом гремели идущие на посадку ракеты и легкие корабли, уходящие в сторону Экстра. Под эти звуки Данло начал вспоминать. Он достал свою шакухачи и поднес ее к губам, но играть не стал. Хануман смотрел на бамбуковую флейту с тоской, страхом и ненавистью. Легкость Данло в обращении с мистической музыкой он ненавидел, пожалуй, не меньше, чем слова Данло о том, что предстоящая мнемоническая церемония – это измена всему естественному и благословенному. Данло сожалел об упреке, с которым это сказал: он все еще лелеял фравашийский идеал, предписывающий стать идеальным зеркалом всего сущего, и хотел бы отражать лучшую часть Ханумана, а не худшую. Но высший долг обязывал его говорить правду – так он думал, – и поэтому он не мог умолчать о великом зле, которое Хануман и Бардо собирались причинить населению Города. Он говорил, что йоги употребляют слово «самадхи» неверно, обозначая им искусственное состояние, лишь имитирующее истинное самадхи. Не желая ничего утаивать, он признался что любит электронное самадхи таким, как оно есть, но использование его для насаждения ложной Эдды – это манипуляция худшего сорта, сродни слелингу чужой ДНК и производству заражающих мозг вирусов.
– Шайда давать детям сладости, зная при этом, что сладкое заглушит их голод к полезным и благословенным вещам.
Самым же благословенным, по мнению Данло, была Единая Память, это чудесное мерцающее сознание, которое невозможно имитировать, поскольку оно не выражается ни в ощущениях, ни в мыслительной деятельности, ни в эмоциях; это не субъективная вселенная, какой ее видят древние очи богов. Единая Память, сказал Данло, – это естественное состояние, когда каждый атом твоего тела «помнит» свою связь со всеми элементами вселенной. Следовательно, реальность (и истина) есть то, что создается между вселенной и каждым живым существом.
Данло казалось, что он уже долго сидит в полумраке компьютерного зала и рассуждает о тайнах памяти. Глаза Ханумана светились в темноте озерами бледно-голубого огня. Он слушал Данло с напряженным вниманием, которое уничтожает время, и все-таки оба они сознавали, что время идет слишком быстро, приближая час новой мнемонической церемонии. Их торопливый обмен словами отдавал горькой сладостью последнего разговора. Данло заметил, что чем больше он говорит о Единой Памяти, тем больше волнуется и отчаивается Хануман. Его глаза выражали теперь предчувствие чего-то страшного. Он делался все более юным, и его впалые щеки, обычно такие бледные, вспыхнули румянцем. Он болезненно щурился, как будто заново переживая момент, когда впервые увидел солнце. Он был ребенком, вновь испытывающим страх и любовь к свету. Его рот раскрылся в подобии крика, и он поднес руку к глазам, защищаясь от взгляда Данло, от сострадания, с которым тот смотрел на него. Как же ему ненавистно быть любимым, подумал Данло. На самом деле Хануман ненавидел любовь Данло к воспоминаниям и к жизни, ту редкостную и дикую любовь, которую сам Данло называл «анасала». Больше всего ненавидел он ту естественность, с которой Данло открывался Единой Памяти. И вот, найдя в характере Данло ту часть, которую он мог ненавидеть искренне и безоговорочно, Хануман внезапно отвернулся. Теперь он походил на статую нейропевца, глядящего в себя. Контактерка у него на голове переливалась огнями и сверкала своей зеркальной поверхностью. Эта алмазная скорлупа отгораживала его от всяких слов и от сострадания, которым мог одарить его Данло. Хануман ушел в личную, известную только ему вселенную, и Данло ненавидел его за эту изоляцию. Он смотрел на гладкое, закрытое лицо Ханумана и видел только их взаимную ненависть. Эта ненависть присутствовала и росла с самого их знакомства, но теперь эта темная страсть, словно сверлящий червь, вылезающий из тела зараженного хибакуся после его смерти, вышла на свет и стала явной.
Он горит, и ему ненавистно гореть одному.
Данло внезапно понял более глубокую причину, по которой Хануман подверг его столь мучительной имитации: это было то извращенное сострадание, которое Хануман испытывал к нему и которое связало, их судьбы воедино. Данло закрыл глаза, и ему вспомнилось то, что говорила ему Тамара: что Хануман уничтожит любой объект своего сострадания, лишь бы не оказаться связанным с ним.
Не в силах больше выносить это, Данло вскочил на ноги и сказал:
– Я пойду.
Хануман тоже встал. Держа мнемошлем в левой руке, он склонился над ним и спросил:
– Ты не хочешь мне помочь?
Что-то в его голосе заставило Данло заподозрить, что Хануман просит о чем-то большем, чем простая запись памяти. В глазах Ханумана был страх перед каким-то великим событием или преступлением, которому еще предстояло совершиться, и Данло прошептал:
– Нет… я не могу.
– Пожалуйста, Данло.
– Нет, – сказал Данло таким же, выдающим страх, голосом.
Хануман, явно утратив всякую надежду, все-таки спросил еще раз:
– Ты не поможешь мне сделать то, что нужно сделать?
– Нет, – сказал Данло, и между ними воцарилось молчание, которому не было конца.
– Хорошо, ступай, – сказал наконец Хануман без всяких эмоций, и лицо его было мертвым, как луна. – Уходи, прошу тебя.
Данло помедлил немного и ответил:
– До свидания, Хану. Всего тебе хорошего.
Он чуть ли не бегом бросился к двери, но Хануман окликнул его:
– Знаешь что, будь поосторожнее с правдой. С теми, кто чувствует себя обязанными нести правду другим, всегда случается что-то плохое.
Данло вышел и двинулся по длинным коридорам сам не зная куда. Он встретил нескольких божков, которых Бардо разослал с поручениями. Их форменные золотистые одежды, означающие преданность идеалам рингизма, шуршали, когда они отвешивали Данло низкие поклоны. Войдя в собор, Данло увидел множество других божков, завершающих приготовление к церемонии. Они устанавливали подсвечники, зажигали свечи, расстилали маленькие красные коврики для коленопреклонений. Данло, горюя о том, что произошло между ним и Хануманом, и при этом чувствуя любопытство, решил остаться на церемонию. Он прошел через неф к лестнице, ведущей в центральную башню. Дверь на лестницу охранял мрачного вида божок. Данло не знал его, но божок знал Данло и пропустил его без всяких расспросов. В другое время Данло понесся бы наверх через три ступеньки, как привык делать в Доме Погибели, но ушибленный локоть сильно болел, и он стал подниматься осторожно, как пришелец из искусственного мира, никогда прежде не видевший лестниц. Под гулкое эхо своих шагов он одолел первый пролет. Он слышал, что на самой верхушке башни находится святилище Бардо, комната с большими закругленными окнами, выходящими на все четыре стороны Города. Может быть, Бардо и сейчас там – репетирует вечернюю проповедь или трахает какую-нибудь восторженную богиньку, которую лично посвящает в таинства Пути. Данло с улыбкой пожал плечами и свернул в темный коридор, где пахло старыми камнями и пеплом. Выйдя на хоры, он оказался над нефом. Это было похоже на выход в космос – весь великолепный интерьер собора открылся перед ним. Колонны вверху переходили в гранитные ребра, образующие свод, внизу, озаренный тысячами свечей, золотился неф. Данло уперся руками в перила и наклонился, чтобы лучше видеть. Снаружи галерею, на которой он стоял, украшали лепные христианские ангелы и другие священные фигуры. Сулки-динамики Бардо хитроумно укрыл за резными панелями на той стороне нефа.
Божки суетились вокруг алтаря, расставляя вазы с огнецветами. Одни с благоговейным видом наполняли знакомую золотую урну чем-то похожим на морскую воду. Другие везли по неровным плитам пола стальные тележки, нагруженные мнемошлемами. Шлемы раскладывались рядами, каждый точно посередине красного коврика. Когда они закончили, Данло быстро сосчитал шлемы: их было ровно тысяча.
О Хану, Хану, зачем ты сделал то, что сделал?
Не желая, чтобы его видели, Данло отошел от перил. Через некоторое время собор наполнился чудесной, божественной музыкой. Данло слушал эту музыку, идущую из сулки-динамиков, и вспоминал. Вскоре двери открылись, и люди, предъявляя стальные пригласительные карточки, стали входить и располагаться на ковриках. Среди них были и божки, одетые в золотистую ткань или имеющие на себе золотые украшения, и новенькие, пришедшие на церемонию впервые. Бардо пригласил даже нескольких мастеров и лордов Ордена, которые до сих пор пренебрегали рингизмом: Зондерваля, Элию ли Чу, Махавиру Нетие и, самое поразительное, Мариам Эрендиру Васкес, четвертого лорда Тетрады.
Они, как и все остальные, опустились на красные коврики, положив сверкающие шлемы себе на колени. Затем из задней двери вышел Бардо и занял свое место посреди алтаря. Он был великолепен в своей золотой ризе и черном бархатном плаще – воплощенное величие и доброжелательность. Он прочистил горло и произнес проповедь, наполнив собор громовыми раскатами своего баса. Закончив, он сделал знак Сурье Лал и другим высокопоставленным рингистам наполнить голубые чаши водой из урны. Многочисленные чаши по рядам передавались собравшимся. Данло смотрел, как те подносят их к губам, и скорбел о том, что первоначальная калла-церемония выродилась в это водохлебство. Между тем Бардо, пригубив собственную чашу, объявил:
– Мы знаем, что Мэллори Рингесс стал богом и что он еще вернется к нам. Это будет скоро, скорее, чем вы думаете. Если вы будете следовать его путем, ведущим в бесконечность, вам следует отказаться от старого образа мыслей и вспомнить Старшую Эдду.
При этих торжественных словах из сулки-динамиков полились световые волны. Сгустившись у алтаря, они сложились в изображение Мэллори Рингесса. Многие еще ни разу не видели сулки-картин, и в соборе раздались изумленные возгласы.
Фигура, имевшая слишком яркие голубые глаза и одетая в пилотскую форму (которую Мэллори Рингесс носил редко), казалась тем не менее вполне реальной. Виртуальный Рингесс смотрел на людей, стоящих перед ним на коленях, и улыбался. Затем он сошел с алтаря и зашагал по проходу, все так же улыбаясь, излучая мир и могущество и говоря необычайно звучным голосом о радости становления богом. Наконец он остановился и простер свои красивые руки, призывая паству возложить на себя шлемы и вспомнить Старшую Эдду. Тысяча пар рук подняла шлемы вверх, и тысяча голов покрылась блестящей металлической скорлупой. Данло сквозь перила балкона увидел, как из-за алтаря появился Хануман. На этот раз он ничем не стал прикрывать свою контактерку, и она сверкала, заливая его лицо жутким пурпурным светом. Он поклонился Бардо, образу Мэллори Рингесса и тысяче искателей, чьи взоры были теперь устремлены в мир, с которым Данло слишком хорошо ознакомился. Они застыли на коленях – неподвижные, с пустыми глазами. Мертвые лица одного ряда отражались в блестящих шлемах предыдущего, ряд за рядом до самого алтаря. Хануман взглянул на хоры и улыбнулся, как будто знал, что Данло там, и поклонился низко, без насмешки и без стеснения. Ему нужно было руководить церемонией. Он подключился к компьютеру у себя на голове, взгляд его обратился внутрь, и он ушел, как и все остальные.
Глава XXV КАТАВСКАЯ ЛИХОРАДКА
Мы смотрим на болезнь как на ошибку, которую лишь Правда Разума может исцелить.
Эдди, основательница «Христианской науки». «Наука и здоровье»Данло, верный своему слову, стал выступать против Пути Рингесса. В самые темные дни года, когда первые сарсары приходят с севера и сгоняют горожан с улиц, он обходил колледжи Академии и объяснял своим друзьям, мастерам и кадетам, почему он решил отречься от рингизма. Он говорил страстно, доходчиво и искренне, но недаром Старый Отец всегда повторял: «Правда исчезает в тот миг, когда ее высказывают, словно пар от дыхания». Данло вскоре обнаружил, что на каждого академика, которого он убедил не ходить на церемонии, приходится трое, жаждущих познать Старшую Эдду любым доступным им способом и готовых хоть сейчас преклонить колени под шлемами Ханумана. В целях борьбы с этим массовым религиозным поветрием Данло научился говорить убедительно и даже хитрить, что было совсем не в его натуре. Он превратил свой язык в бритвенное острие логики, чтобы резать под корень все несоответствия; он пользовался тайной цефической техникой, чтобы рассеивать сомнения и страхи; он даже пускал в ход фравашийские словесные наркотики, тщательно составляй фразы, способные создать у людей иммунитет против ураганной новой религии. Очень скоро люди стали прислушиваться к нему, а для рингистов он сделался большой помехой. Он, как-никак, был Данло ви Соли Рингесс, переживший великое воспоминание, сны бога. Все знали, что Хануман и Бардо его друзья – разве стал бы друг выступать против своих друзей, будь их путь действительно честен и не запятнан ложью? Ирония заключалась в том, что Данло, когда его влияние на членов Ордена усилилось, заслужил одобрение Ченота Чена Цицерона, которого Данло не выносил как человека фальшивого и неискреннего. Когда лорд Цицерон начал прозрачно предлагать ему свою дружбу – вернее, союзничество, – Данло вежливо стушевался, сославшись на то, что занятия математикой и мнемоникой не позволяют ему бывать на званых обедах. Не было еще такого, чтобы молодой пилот, еще не принесший присяги, отказывал своему Главному Пилоту. Данло опасался, что лорд Цицерон изыщет какой-нибудь предлог не посвящать его в пилоты, но это беспокойство не шло ни в какое сравнение с его тревогой за Ханумана.
Он почти совсем отчаялся. Ни разу еще после гибели племени деваки (даже в тот день, когда Данло узнал, что это его отец заразил деваки медленным злом) не испытывал он такой безнадежности по поводу другого человека. Отчаяние окрашивало все его слова и поступки цветом черным, как масло, которое скраеры втирают в свои пустые глазницы. Всякий, кто видел Данло, мог заметить, что он не спит ночей и забывает о еде. Он отощал, как волк в конце средизимней весны. Он предчувствовал какое-то несчастье, и все его мысли о будущем вращались вокруг Ханумана ли Тоша в алмазной шапочке и с безжизненными глазами. Своими предчувствиями Данло пытался делиться с Тамарой. Как-то ночью, после неспешной трапезы из кровоплодов и сыра, он сказал, что Хануман рвется к власти, и попросил ее не записывать свои воспоминания.
Она заверила его, что отменит назначенную встречу с Хануманом, но тут же и рассмеялась, как бы говоря: как я захочу, так и сделаю, и в ее смехе слышались темная музыка и гордость. Когда он наутро ушел от нее, началась метель – затяжная, хлещущая льдистым снегом. Данло надеялся, что непогода удержит Тамару у камина, где так уютно и безопасно.
Историческая сарсара 2953 года бушевала шестьдесят шесть дней почти без перерывов, захватив средизимнюю весну будущего года. Такой долгой бури еще не было в Городе, да и свирепостью она часто превышала все предыдущие. При обильном снегопаде сохранялись сильные морозы, и ветер дул с убийственной скоростью сто футов в секунду, замораживая всякого, кто имел глупость выйти на улицу с открытым лицом. От него гибли хибакуся у своих уличных костров, нищие хариджаны без семьи и крова и, конечно, аутисты – а несколько пришельцев просто сбились с дороги и замерзли посреди сугробов Галливарской площади в каких-нибудь пятидесяти ярдах от ярконского посольства. Мрачный темный сезон казался еще темнее из-за вьюги и снеговых туч, висевших над Городом. А на 74-й день глубокой зимы горожан ошарашило известие, заставившее их смотреть на своих соседей с опаской и подозрением: Ченот Чен Цицерон и еще двое членов Ордена слегли от болезни, чьи симптомы напомнили разрушительную Катавскую Лихорадку. Мастер-вирусолог, исследовав мозговые ткани лорда Цицерона, обнаружил, что тот действительно заражен редкой формой катавского вируса. Это был вирус памяти, бактериологическое оружие, созданное на Катаве давным-давно и считавшееся давно вымершим, – никто не мог догадаться, каким образом он пробрался в серое вещество лорда Цицерона. Но вирус пробрался, лорд Цицерон метался в бреду с пеной на губах, и очень скоро он начал забывать.
Первым делом он забыл математику, за которой последовали универсальный синтаксис и другие крупные блоки знания. Он забыл свою биографию и все, что касалось политики Ордена.
Затем он забыл свое имя, имена своих родителей и названия самых обычных вещей вроде бритвы или мыла. Три дня он брызгал слюной на послушников, которые ухаживали за ним и меняли его постельное белье, а потом забыл, как управлять мочевым пузырем и кишечником. Вирусологи сказали, что когда вирус доберется до его спинного мозга, он забудет, как надо дышать, и этим все кончится. Двое других заболевших специалистов – Анджела Наин и Янг ли Янг – забывали не с такой скоростью и не в таком объеме. Оставалась надежда, что они выживут и даже сохранят часть памяти. Поскольку ни вакцины, ни средства от этого вируса не существовало, всех троих держали в изоляции в комфортабельном хосписе Академии. К общему ужасу, вирусологи выделили сперму и вагинальную секрецию как векторы инфекции. Это открытие вызвало панику у степенных академиков. Выяснилось, что у праведного лорда Цицерона было много как любовниц, так и любовников, и Анджела Наин с Янг ли Янгом входили в их число. После срочного расследования, при котором всех членов Ордена заставили раскрыть свои сексуальные связи, вирусологи составили сложные деревья-диаграммы, показывающие, кто с кем спал. Половина Ордена честно блюла обед целомудрия, но почти вся вторая половина была связана незримыми сексуальными узами с лордом Цицероном.
По Борхе и Ресе быстрее всякой чумы распространился слух о том, что этот вирус проходит сквозь контрацептивные мембраны, как сверлящий червь через кость, но это была неправда. Вирусологи установили, что меры предосторожности, которые все разумные люди принимают перед совокуплением, вполне способны обезвредить вирус или по крайней мере помешать ему распространяться. В период, когда буря особенно свирепствовала и всю Академию обязали сдать образцы тканей для анализа в башню вирусологов, обнаружились только четверо зараженных, кроме первых трех. Эта новость почти у всех вызвала труднообъяснимую радость. Просто удивительно, как избавление от беды поднимает у людей настроение, невзирая на то что их повседневная жизнь остается столь же трудной и монотонной, как прежде. Данло, который никогда не боялся за себя, испытал облегчение, узнав, что никто из его друзей и коллег не пострадал. Особенно он беспокоился за Тамару, чья профессия состояла именно в том, чтобы заниматься любовью с мастерами и лордами Ордена. Он решил немедленно сообщить ей хорошую новость и совершил нелегкий переход по заваленным снегом улицам до ее дома. Не застав ее, он удивился. За последующие три дня он еще шесть раз наведывался в Пилотский Квартал, но дом был по-прежнему пуст и темен, как покинутая пещера.
– Скорее всего она нашла убежище в каком-то отеле, – сказал Данло Томас Ран во время их вечернего сеанса мнемоники. – Или сидит на квартире какого-нибудь мастера, боясь высунуть нос на улицу. Не о чем беспокоиться.
Но Данло все-таки беспокоился, а буря все не прекращалась, и его беспокойство переросло в страх. 82-го числа сарсара немного приутихла, и температура поднялась почти до нулевой отметки, но Тамара так и не вернулась домой. На многих других планетах Данло мог бы связаться с ней по телефону или радио, но в Невернесе подобной техники не существовало. (Во всяком случае, легально). Найти пропавшего или скрывающегося человека в таком огромном городе было почти невыполнимой задачей, но Данло, уверенный, что с Тамарой случилось нечто ужасное, рыскал по заснеженным улицам на лыжах, обыскивая все места, которые приходили ему в голову. Первым делом он отправился на Крышечные Поля, чтобы проверить, не покинула ли она Город. Когда порт-мастер заверил его, что ни одна женщина, похожая на Тамару, ни на одном корабле не улетела, Данло покатил по опустевшей Поперечной обратно в центр. Южнее Посольской улицы он свернул на широкую ледянку, ведущую к Консерватории куртизанок.
У ворот он попросил привратницу доложить начальнице, что он просит аудиенции. Мужчин в Консерваторию допускали редко, но Данло поклялся, что будет ждать на холоде, пока ворота не откроются. Он действительно стал спиной к ветру, терпеливый, как охотник, караулящий у тюленьей полыньи. Видя, что он того и гляди замерзнет на территории Общества, привратница сжалилась над ним и впустила в сторожку, куда для разговора с ним явилась одна из мегер. Красивая некогда куртизанка в вышитой красной пижаме расспросила Данло о характере его отношений с Тамарой. Когда он признался, что это была большая любовь, возможно, величайшая во вселенной, она сделала кислую мину, словно ее заставили съесть лимон, однако заверила Данло, что Общество обеспокоено исчезновением Тамары не меньше его. Она пообещала разослать послушниц по городским домам удовольствий, чтобы расспросить куртизанок – вдруг ктонибудь знает, где Тамара. Еще она сказала, что просмотрит список последних контрактов Тамары и наведет негласные справки у академиков Ордена.
– Если найти ее можно, она будет найдена, – холодно заявила мегера. – Но не думаю, чтобы ей после этого разрешили продолжать связь с пилотом, который даже присяги еще не принес.
Следующим местом, куда Данло направился, был дом Тамариной матери. Вероятность того, что Тамара вернулась в семью, была ничтожно мала, но Данло подумал, что у нее, больной или умирающей, могло все же возникнуть желание примириться с матерью. Селение Ашторетов находилось в самой отдаленной части города, над морем. В тесно застроенных кварталах жили многочисленные семьи Ашторетов, и Данло постучался в пять дверей, прежде чем нашел матрону, указавшую ему нужный дом – безобразный, лишенный души особняк у самой Длинной глиссады. Виктория Первая Ашторет приняла его в голом каменном холле, где, несмотря на отопительные решетки, стояла низкая, почти нулевая температура.
Это место походило скорее на шлюз космического корабля, чем на помещение, где можно беседовать о серьезных вещах.
Но достойная Виктория не собиралась приглашать Данло в дом. Она стояла перед ним в объемистой шубе и дышала паром, пока он излагал цель своего визита. Даже в шубе было видно, что она беременна – тридцать третьим ребенком, насколько помнил Данло. Высокая и статная, она держалась отчужденно, сложив руки на большом животе. Пополневшее из-за беременности лицо, несмотря на расчетливое и подозрительное выражение, оставалось живым и красивым – во многом даже красивее, чем у Тамары. Не проявив ни малейшего дружелюбия, она смерила Данло брезгливым взглядом, которым обычно встречают аутистов или бродячих магидов. В городе, где пилотов чуть ли не обожествляют, такое отношение могло бы взбесить (или позабавить) Данло, но он слишком отчаялся, чтобы проявлять подобные эмоции. Он просто стоял перед этой женщиной и ждал, когда она скажет, что Тамару не видела. Так и вышло. Поглаживая свой живот, она решительно отреклась от дочери.
– Этого мальчика будут звать Габриэль Тридцать Третий Ашторет, но в действительности он только тридцать второй. Моего десятого ребенка больше нет. Я забыла ее и на ваш вопрос могу лишь ответить, что не знаю никого по имени Тамара Десятая Ашторет. Я вынуждена так ответить, понимаете? Никто из моей родни не захочет больше ее знать. Спрашивайте о ней где хотите, но сюда женщина, которую вы разыскиваете, никогда не вернется. Никогда.
Достойная Виктория наверняка заметила, что Данло замерз и проголодался, но не предложила ему ни перекусить, ни выпить чего-нибудь горячего. Ей, как Архитектору высокого положения, запрещалось оказывать непосвященному даже такие простые знаки внимания. Однако жестокой она не была, и когда в открытую Данло дверь ворвался морозный ветер, предложила вызвать сани и даже оплатить их, поскольку у Данло не было денег. Для представительницы секты, известной своей бережливостью, это был геройский поступок. Данло, с поклоном поблагодарив ее, отказался и снова вышел в метель. Взяв себе за правило ничего не принимать на веру, он двинулся вдоль по улице, стуча во все двери и спрашивая, не знает ли кто Тамару Десятую Ашторет. Никто ее не знал. Ее действительно забыли здесь, сознательно изгнали из памяти.
85-го опять похолодало, и снег повалил с новой силой. В 2953 году на этот день приходилось начало Праздника Сломанных Кукол, когда на улице лучше было не показываться.
Этот праздник посвящался трауру по искусственной жизни, отмененной и уничтоженной много веков назад, но всегда находились фанатики-террористы, способные покуситься на жизнь человеческую. Слеллеры подкарауливали свои жертвы на ночных улицах и вонзали им в шею иглы, заражая их ДНК страшными вирусами; это делалось, чтобы выборочно «сломанные» таким образом люди испытали на себе боль кукол, когда тех сломали во всех компьютерных пространствах всех Цивилизованных Миров. Данло следовало бы в эти дни воздержаться от поисков Тамары, но тогда он даже не думал о слеллерах. Поздней ночью 85-го, посвятив много холодных и бесплодных часов обходу хосписов близ разных кладбищ, он вернулся в свое общежитие. Там, в холле у камина, ждала его посланница, молодая послушница Общества Куртизанок. Она сообщила ему, что Тамара нашлась, что она жива и хочет с ним встретиться. Послушнице велели проводить Данло к ней, в Консерваторию Куртизанок.
Услышав это, Данло вскинул кулаки и заорал от радости, не заботясь о том, что может перебудить все общежитие. Но послушница, одетая в нарядную шубку, сохранила серьезный и даже мрачный вид, вынудив его задать вопрос, который он не хотел задавать:
– Она… здорова?
– Она больна, – сказала послушница. – Я сожалею.
– Но скажите, пожалуйста… насколько это серьезно?
– Я не знаю. Если вы пойдете со мной, вам все объяснят.
Сбегав к себе за свежей маской (та, которую он носил весь день, обросла льдом), Данло пошел с послушницей к Западным воротам Академии. Оттуда они на коньках поехали по старой ледянке, соединяющей Академию с Хофгартенским кругом. Было уже очень поздно – слишком поздно и холодно, чтобы кого-то встретить, однако им то и дело попадались гуляки, возвращающиеся с вечеринок. Несмотря на их веселые голоса и клубы табачного дыма, в воздухе витала угроза. Лиц под масками или капюшонами нельзя было различить, и темнота стояла почти беспросветная. Все световые шары потушили. Остались только ледяные фонарики в форме домиков, храмов и других архитектурных сооружений – они висели на каждом здании. В тонких ледяных стенках светились синие, зеленые или алые огоньки, символизирующие искусственную жизнь. Улица должна была вся сиять этими огнями, но метель задула многие фонарики. Данло удивлялся, как это людям не лень зажигать их ночь за ночью и год за годом. Одолеваемый своими тревожными мыслями, он огорчался из-за присущей пламени недолговечности и обрадовался, когда они наконец пришли к воротам Консерватории. Каким бы тяжелым ни было состояние Тамары, он предвкушал, как снова улыбнется ей, и поцелует ее в лоб, и заметит, как участилось ее дыхание.
– Прошу вас следовать за мной и хранить молчание, – сказала его спутница, когда они прошли за ворота. – Послушницы сейчас заняты полуночными упражнениями.
Они шли мимо темных, заметенных снегом зданий. Данло нетрудно было молчать. Он слушал, как постукивают на холоде зубы послушницы и шелестит под маской его собственное дыхание. Ветер ненадолго утих, и над Консерваторией повисла давящая тишина. Данло думал, что послушница ведет его в хоспис или криологический пункт, но она, к его удивлению, указала ему дверь центрального корпуса.
– Это дом Матери. За сегодняшний день вы уже второй мужчина, которого она приглашает к себе.
Не постучавшись, она открыла дверь и проводила Данло по коридору в гардеробную. Взяв у него шубу, маску и ботинки, она разместила все это на сушилке, а взамен вручила ему вязаные домашние тапочки. Потом надела ему через голову черную шелковую мантию и сказала:
– У нас можно одеваться как угодно, но этот костюм необходим для разговора с Матерью – она желает встретиться с вами перед тем, как вы пойдете к Ашторет.
Данло кивнул, и девушка провела его в роскошно убранную комнату с камином. Роскошь – чрезмерная, на его взгляд, – отличалась, однако, хорошим вкусом и идеальными пропорциями. Это была самая красивая из комнат, которые Данло доводилось видеть в Невернесе. Он сел за мраморный столик, где взамен убранных шахмат накрыли чай. Послушница налила ароматный сорт чая в голубую чашку, поклонилась Данло с застенчивой улыбкой и пошла доложить о нем Матери.
Он успел выпить целых три чашки, но это заняло не так уж много времени, поскольку он глотал, как страдающий от жажды волк, обжигая себе рот и горло. Наконец послышались шаги, и дверь напротив камина отворилась. Две мегеры в красных пижамах ввели под руки старую женщину – это и была Мать, прославленная глава Общества Куртизанок. Поверх пижамы на ней было черное шелковое платье, все покрытое вышивкой. Каждая из мегер, управлявших Обществом, добавляла к этим узорам образчик своего рукоделия в знак уважения к Матери. Спутницы старушки усадили ее на мягкую кушетку рядом с Данло, водрузив ее ноги на подушку, и налили ей чаю.
Взбив подушки у нее за спиной и расправив веером ее платье, они поклонились Данло и вышли.
Мать, кивнул гостю, сказала:
– Меня зовут Хелена Туркманян, но ты можешь называть меня матушкой, если хочешь.
Данло с улыбкой поклонился ей. От нее и впрямь веяло материнским теплом, жизнью и нежностью, несмотря на преклонные годы. Она давно уже вступила в период своей окончательной старости – женщины из племени Данло до такого возраста никогда не доживали. Ее кожа, обвисшая на костях, пахла приятно, как всякая хорошо выделанная старая кожа.
Хрупкая, как птичка, она еще сохраняла немалую энергию, которая вся сосредоточилась в ее глазах. Глаза эти, красивые, ясные и бесконечно добрые, обладали, однако, твердостью алмаза. Данло, видя, как она смотрит на него, подумал, что она способна быть бесконечно преданной тем, кого любит, и бесконечно придирчивой в выборе этих немногих.
– Вы Мать всех куртизанок, да? – спросил он наконец.
– Да.
– И Тамара тоже зовет вас матушкой?
– С тех пор как стала послушницей – она всегда была вежливой девочкой.
– И теперь так называет? – спросил Данло тихо, глядя в свою пустую чашку.
– И теперь, – ласково улыбнулась Мать. – Она не так больна, как ты опасаешься.
Данло поставил чашку и потрогал белое перо у себя в волосах. Он остро сознавал, что Мать изучает его, слушает его неровное дыхание – возможно, даже считает пульс, наблюдая за бьющейся на горле артерией.
– Я очень за нее боялся, – признался он.
– Я сожалею, но должна также сказать тебе, что Тамара чувствует себя не так хорошо, как ты можешь надеяться.
Данло надавил на шрам над глазом, ожидая тех страшных слов, которые боялся услышать с самого исчезновения Тамары. И Мать сказала:
– Кажется, Тамара Десятая Ашторет утратила часть своей памяти. Два дня назад одна из наших гетер нашла ее бредущей по улице Музыкантов.
– Два дня назад? Почему же вы раньше за мной не послали?
– Извини, но сначала мы должны были позаботиться о Тамаре. Ее организм был обезвожен, она обморозилась, и ее, по-видимому, изнасиловали перед…
– О нет! – крикнул Данло, вскочив на ноги. – О нет.
Мать, подавшись вперед, накрыла его сжатый кулак своей мягкой старой ладонью. Это движение далось ей нелегко, и ее дыхание пресеклось.
– Сядь, пожалуйста, молодой пилот. Хочешь еще чаю? Я бы с удовольствием налила тебе, но те дни, когда я разливала чай, позади.
Данло сел, налил себе и поднес горячую чашку к губам, но пить не стал. Добрая улыбка Матери, казалось, убеждала его, что все будет хорошо. Он осознал, что все еще держит ее за руку, и закрыл глаза, потому что ему больно было держать их открытыми.
– Трагедия в том, – сказала Мать, – что мы, возможно, никогда так и не узнаем, что случилось с Тамарой. Она забыла почти все, что было в недавнем прошлом.
– Значит, это катавская лихорадка?
– Видимо, так, – кивнула Мать.
– Искусственный вирус. Оружие, созданное на Катаве шестьсот лет назад.
– Тебе знакомо это оружие, молодой пилот?
Данло открыл невидящие глаза, вспоминая.
– Да. Этот вирус однажды убил… близких мне людей.
– Не бойся за жизнь Тамары – от того, что произошло с ней, она не умрет.
– Но ее мозг поражен…
Мать соединила ладони, глядя на него строго, но сострадательно.
– Возможно, тебе станет легче, если я скажу, что инфекция прошла. Вирусолог, которого мы вызвали, ничего не нашел в ее мозгу и ее теле. В крови обнаружены антитела, побеждающие вирус, – и только. Вирус, вероятно, был уничтожен сразу после вторжения в организм. Такие чудеса случаются. Существует несколько миллиардов таких людей – в основном это потомки Архитекторов, которые пережили Войну Контактов. Они почти невосприимчивы к бактериологическому оружию. К ним относятся и Аштореты. Тамара тоже Ашторет, и она на моей памяти даже насморком никогда не болела. Вирус не нанес ее мозгу заметного вреда – это точно.
Я попросила трех акашиков снять картину ее мозга нейрон за нейроном, и они ничего не нашли. В сущности, она так же здорова, как ты или я.
– Но кое-что… она все-таки забыла?
– Не так уж много. Создается впечатление, что вирус выбирал определенные участки ее памяти.
– Но как это возможно?
– Это тайна, которую никто не может разгадать. Мы слишком мало знаем о памяти. Даже мнемоники не могут объяснить, как этот мерзкий вирус сотворил такое с Тамарой.
Данло помолчал, разглядывая шрамы на своих руках, и спросил:
– Что же он, собственно, сделал?
– Мне тяжело об этом говорить.
– Пожалуйста, скажите.
– В памяти так много всего.
– Пожалуйста, скажите мне, что случилось с Тамарой.
Мать изящным жестом обвела золотистые раковины алайи на каминной полке, фравашийский ковер, ледяные статуэтки в клариевых морозильниках.
– Если бы сюда проник червячник и перевернул все кверху дном, трудно было бы сказать с первого взгляда, чего не хватает, но видно было бы, что многих вещей нет. Только расставив все по местам, мы могли бы понять, что украдено.
– Значит, память Тамары в полном беспорядке?
– Нет – в том-то вся и трудность. Мы только день спустя поняли, что у нее проблемы с памятью. Ее разум все равно что комната, откуда тихо и с большой ловкостью умыкнули пару очень ценных вещей, какие-то мелочи, которые постороннему покажутся разве что любопытными безделушками, но для Тамары могут быть бесценны.
Данло сидел не шевелясь, как алалой, следящий за падучими звездами и ожидающий появления своих предков.
Он не слышал никаких голосов и не видел ничего потустороннего, но понимал, что пропавшая память Тамары имеет отношение к нему. Но несмотря на свое предчувствие, на абсолютный холод этого знания, удерживающий его глаза широко раскрытыми, он оказался не готов к тому, что сказала ему Мать.
– Молодой пилот, мне жаль говорить тебе это, но Тамара забыла, кто ты такой.
Глаза Данло, оставаясь широко раскрытыми, перестали видеть. Вернее, он видел, но предметы комнаты растворялись в слепящей тьме, которая отнимала у него дыхание. В ушах протяжно звонил большой колокол, пока звон не перешел в шипение и треск пламени. Данло не сразу понял, что Мать смотрит на него очень пристально, протягивая дрожащую руку к его лицу. Она с невыразимой нежностью коснулась его губ, и он услышал ее старый дрожащий голос, золотой инструмент сострадания, напомнивший ему, что он не один.
– Она забыла, что встречалась с тобой. Забыла о времени, проведенном вами вместе, о словах, которыми вы обменивались наедине.
Глаза матери блестели от слез, и Данло подумал, что дна сейчас заплачет, но она сохранила самообладание. Казалось, что какой-то частью сознания она наблюдает себя со стороны и играет в трагедии жизни – играет всегда, несмотря на боль, и наслаждается этой игрой.
– Она даже имя твое забыла. Не фамилию – она, конечно, знает, кто такой Рингесс, но не помнит, что у него есть сын.
– Значит, она забыла… все без остатка?
– Боюсь, что да.
– Я думал, что только смерть может заставить ее забыть об этом.
– Я знаю.
– Как же она-то сама справляется с этим?
– Неважно. Ей очень плохо.
– Должно быть, это ужасно, когда забываешь.
– Да. – Мать произнесла это с уверенностью старой женщины, чья память стала уже не та, как раньше. Потом она улыбнулась и сказала: – Зато как чудесно, когда вспомнишь то, что казалось бы, пропало навсегда.
Данло кивнул, как будто сам об этом думал.
– Ей говорили что-нибудь обо мне? О… нас?
– Я сама говорила с ней этим утром. Со мной была Нирвелли. Я ничего не знала о вашей связи и могла повторить лишь то, что сказала мне Нирвелли, то есть очень немногое.
– Да – мы старались держать это в секрете.
– Нирвелли знала, что Тамара в связи с каким-то кадетом – она сказала даже, что Тамара в него влюблена.
– Да. Это правда. Мы оба… были влюблены.
Мать улыбнулась Данло так, словно хорошо знала, как это бывает. Было видно, что Данло ей мил, как любимое дитя – и по-другому тоже.
– Когда я рассказала Тамаре об этой любви, она очень удивилась. Не потому, что ты кадет – она призналась, что могла бы и нарушить правила. Я лично, увидев тебя, сразу простила ей это нарушение. Удивительно другое: глубина ее любви. Нирвелли говорит, что видела это в Тамаре, а теперь и я вижу. Удивительно, как Тамара могла забыть «величайшую во вселенной любовь». Нет, не сердись, пожалуйста. В том, что я цитирую тебя, нет сарказма. Я верю, что в вашей любви было нечто великое. Разве все мы живем не ради любви? Особой любви, которой Тамару специально обучали. Любви, пробуждающей глубинные силы организма. Возможности создать новое существо. Это было ее призванием, ее мечтой. Многие из нас об этом мечтают. Удивительно, что она подошла так близко – а потом ничего. Каково-то ей знать, что она потеряла самое бесценное, что есть во вселенной, – и не сохранила даже памяти о том, что это было и что это для нее значило? Как будто в памяти образовалась черная дыра, и она всасывает Тамару в себя. Тамара смотрит на эту дыру и горюет. И мы, молодой пилот, тоже горюем – из-за нее. Из-за того, что могло бы быть.
Данло понурил голову, пытаясь представить себе, что значит забыть то, что было между ним и Тамарой, но не смог и сказал:
– Вы, конечно, напомнили ей о ее… призвании.
– Ты не понимаешь. О таком нельзя напомнить. Нельзя сказать.
– Да, пожалуй.
– Тамара забыла также многое из того, что умела. Не только мечта, но и техника, и вкус к творчеству, и страсть – все пропало. Она не способна заниматься нашим ремеслом в таком состоянии.
– Но ведь она может обучиться всему этому заново?
Мать скорбно задумалась, потрагивая морщины вокруг глаз.
Ей, должно быть, вспомнилось что-то заветное, и по лицу прошли отблески старых обид и удовольствий. Тихо и задумчиво она сказала:
– По сравнению с тем, что мы узнаем за всю жизнь, наше искусство – всего лишь песчинка. В ковре наших «я» это священное знание – лишь тончайшая из нитей. Ничтожная вроде бы малость, но с ней у Тамары отнялось все.
– Это должно было очень глубоко ее ранить.
– Это убивает ее. Убивает ее душу.
– Не может быть, – затряс головой Данло.
– И все же…
– Знаете, как говорят мнемоники? «Память уничтожить нельзя».
Лицо Матери преобразила внезапно милая улыбка.
– На это мы и надеемся.
– Тогда и я буду надеяться на это, – сказал Данло и подумал: «Надежда – правая рука страха».
– Тебе, наверно, не терпится увидеть ее.
– Да. Это так.
– Хорошо, ступай к ней, если готов. Поговори с ней, молодой пилот. Помоги ей вспомнить.
Больше Мать ничего ему не сказала. Они молча допили свой чай, чувствуя, что понимают друг друга. Две мегеры вскоре вернулись за Матерью. Данло поклонился ей, и она ответила тем же, а потом взяла его руку без перчатки в свои и сжала так крепко, что ее дряблая плоть затряслась до самых локтей. В ее старых глазах светилось довольство, даже счастье. Данло почувствовал, что больше не увидит ее, и сказал:
– Желаю вам всего наилучшего.
В его чашке еще плавали зеленые чаинки. Он снова попытался представить себе, что это такое – не помнить, и не удивился, когда чай показался ему вяжущим и очень горьким.
Глава XXVI ДАР
Память – душа реальности.
Поговорка мнемониковПосле очень долгого, как показалось Данло, перерыва пришла знакомая послушница и провела его по тускло освещенному коридору в комнату для гостей. Она помещалась на первом этаже, и ее всегда держали наготове для почетных посетителей, для мегер, возвращающихся в Невернес из своих миссий в Цивилизованных Мирах, и для таких, как Тамара, простых куртизанок, требующих особой заботы. Остановившись перед простой деревянной дверью, послушница взглянула на Данло, постучалась и доложила:
– Госпожа, к вам пришли. – Дверь открылась, и послушница сказала: – Позвольте представить вам пилота Данло ви Соли Рингесса.
Данло почти не обратил внимания на ее слова, потому что перед ним появилась Тамара в красном платье, с распущенными золотыми волосами. Одним взглядом он вобрал в себя темноту ее глаз, ее замешательство, багровые пятна на ее лице и руках. Переполненный радостью, он хотел обнять ее на алалойский манер и уже раскинул руки, но она выставила ладонь вперед и отступила, сказав:
– Пожалуйста, не надо. – И добавила, поклонившись послушнице: – Спасибо, Майя, ты можешь идти.
Та вернула поклон, бросила нервный взгляд на Данло и удалилась по коридору. Данло прошел за Тамарой в комнату, и дверь за ним закрылась, лязгнув металлом. В комнате стояли растения родом со Старой Земли – араукарии, кактусы, алоэ и другие, которых он не знал. Они освежали воздух, насыщенный исходящим от Тамары запахом пота. Здесь было слишком жарко для ее парадного одеяния, но она явно не считала удобным принимать Данло в пижаме или раздетой, как делала раньше, а он чувствовал неловкость оттого, что не мог не смотреть на красные обмороженные участки ее кожи.
– Тамара, Тамара, – сказал он. – Я искал тебя… искал повсюду.
– Мне очень жаль. Если бы я знала… Что вам предложить – чаю или морозного вина? Прошу вас, присядьте.
Уютная комната была ярко освещена и приспособлена для нужд пожилых женщин. Здесь стояла настоящая кровать, застланная вязаным шегшеевым покрывалом, туалет помещался в кабинке со стальными поручнями, домашний робот приносил нужные вещи с полок и столиков. У выходившего во двор окна стоял чайный столик и два стула с высокими спинками.
Тамара и Данло сели на них лицом друг к другу. Он предпочел бы устроиться на ковре у камина – неужели Тамара и это забыла?
– Извините, – сказала она, сцепив руки, – но разговор у нас будет не из легких. У вас передо мной преимущество. Мне столько рассказывали о вас, а я ничего этого не помню.
– Совсем ничего?
– Абсолютно.
Он недоверчиво посмотрел на нее. Его дыхание участилось, и ему померещилось, что волосы встают дыбом у него на затылке. Грудь сдавило, в горле стоял огненный ком, который нельзя было проглотить. Он надеялся, что Тамара, увидев его, что-то вспомнит – так внезапный порыв ветра оживляет в памяти веселые ночи у горючих камней, дружеские беседы и любовные игры. Он отчаянно надеялся на это – и она, как видно, тоже. Все ее милое подурневшее лицо выражало эту надежду. Она явно ожидала найти в его глазах что-то знакомое и утешительное, потому что внезапно отвела свои, потемневшие от горького разочарования. Он понял, что ничего не вышло, и от этого понимания ему захотелось закричать и вырвать собственные глаза. Они должны были узнать друг друга, как произошло в их первую встречу и происходило во время всех последующих встреч! Если бы даже они оба потеряли память, то должны были почувствовать, что знают друг друга миллион лет и не расстанутся еще миллионов десять. Но ничего этого не случилось. Глядя на Данло, Тамара его не видела. Что-то в ней (а может быть, и в нем) ослепло.
Ее ослепили, подумал Данло, и в нем вспыхнула ярость на вселенную, где могла произойти такая трагедия.
– Пилот, вам нехорошо?
Он сидел на своем мягком стуле, прижав к голове костяшки пальцев. Справившись кое-как с дыханием и обретя зрение, он выдавил из себя:
– Ты права… это будет нелегко.
– Могу себе представить, как это для вас болезненно.
– А ты… ничего такого не испытываешь?
– Нет, не думаю. Я чувствую только пустоту. Зато вы… что может быть больнее воспоминаний?
Он с улыбкой затряс головой.
– Все, что я помню о нас с тобой, благословенно. Это правда. Рассказать тебе?
– Говорят, у вас превосходная память.
– Мне бывает трудно что-то забыть.
– Хорошо, расскажите.
Он сглотнул три раза и начал:
– Ты научила меня одной игре – это телепатическая техника, напоминающая чтение лиц, и все-таки совсем другая. Нужно открыть свои клетки сигналам клеток другого. Это делается после любви – надо просидеть полночи в позе лотоса, неотрывно глядя друг другу в глаза, и тогда твои клетки становятся моими. Я становлюсь тобой. Мы проделали это однажды, помнишь? Был девятый день зимы, всю ночь шел снег, а утром ты поцеловала меня и сказала…
– Не надо, – вскинув руку, попросила Тамара.
– Мы нашли место, где мысли струятся, прежде чем превратиться в слова. И наши мысли полночи были одинаковыми. Как две реки, текущие рядом, без слов и без конца. Когда пришло утро, ты сказала мне одну вещь, которую только я…
– Пожалуйста, не надо больше.
Панические ноты в ее голосе остановили его.
– Но почему?
– Я решила, что вам лучше ничего мне не рассказывать.
– Но должна же ты знать. Ведь это ужасно, когда не знаешь.
– Конечно, я хочу знать. Но слушать очень утомительно. Я хочу вспомнить сама, если этому вообще суждено случиться.
– Я как раз этого и хотел – помочь тебе вспомнить.
– Вряд ли кто-то может помочь мне после того, что произошло.
– Такие способы есть. Память никуда не девается – она продолжает струиться, как свет. Мы сами закрываем перед ней двери и, оставаясь зрячими, сидим в темных комнатах. Это и называется «забывать».
– Есть двери, которые навсегда остаются запертыми.
– Неправда. Любую дверь можно открыть. Главное – подобрать ключ.
– Хотела бы я в это поверить. Хотела бы обладать вашей верой.
– Ты говоришь, что у меня есть вера, – улыбнулся он, – а ведь меня обвиняют в безверии.
– Неужели?
– Разве ты не помнишь?
– Тогда вы должны быть самым верующим из всех неверующих.
– Ты и раньше говорила мне то же самое.
– Правда?
– Да. Мне кажется, ты начинаешь вспоминать.
– Нет, просто наблюдаю…
– Всего лишь?
– Если я что-то и вспоминаю, то только вещи, которые говорили о вас другие.
– Ты уверена?
– Право же, это очень утомительно, – холодно ответила она.
– Извини. Теперь уже поздно, и…
– Дело не в этом. Просто на мне уже испробовали все эти мнемонические штучки, и они не помогли.
– К тебе приходил мнемоник?
– Да, Томас Ран – я думаю, вы хорошо его знаете. Он был здесь сегодня утром.
– Искал ключи?
– Ну да, ведь мнемоники именно этим и занимаются. Он пробовал ключевые слова, обонятельную технику, гештальт, ассоциативную память. Даже показал мне симуляцию, составленную каким-то анималистом – мы с вами вдвоем. Что-то вроде шока, чтобы пробудить память. Меня это действительно шокировало, но не так, как было желательно мастеру Рану.
Данло кивнул, и его взгляд случайно упал на чайный столик, черный и отполированный, как обсидиановое зеркало, но слегка захватанный пальцами. Там виднелось его слабое, полное беспокойства отражение. Вид собственного лица обычно забавлял Данло, но эта физиономия, потрясенная увечьем Тамары, не нравилась ему, и он прикрыл ее голой ладонью. По столешнице тут же побежали индиговые, светло-зеленые и красные полосы. Это, вероятно, было самумское изделие, прибор, с помощью которого цефики читают простейшие эмоции. Поверхность стола, сделанная из чистого мерцальника, переливалась самыми экстравагантными красками, словно глаза скутари. Потом она остановилась на одном цвете, самом неприятном из всех оттенков желтого. Данло не знал, какие цвета что обозначают, но то, что он испытывал в настоящий момент, было смесью досады и отвращения.
Он отнял руку от стола, который сразу же снова почернел, и сказал:
– Анималист, чтобы сделать эту симуляцию, должен был использовать наши изображения и голоса, верно? А потом уже выстраивать их в определенном порядке?
Он заметил, что Тамара смотрела на стол внимательно, как охотник, определяющий погоду по приметам на небе, и ни разу не коснулась его руками.
– Вы красивый мужчина, – сказала она, – а я куртизанка. Анималисты-нелегалы всегда воруют изображения таких, как мы, для своих симуляций.
– Но Томас Рас – не анималист.
– Да, но кто знает, какие у него знакомые?
– Может быть, это Бардо делал видеозаписи всех, кто приходил к нему в дом.
– Меня бы это не удивило.
– Да. Но ты говоришь, что эта симуляция не подействовала на твою память?
– Совершенно не подействовала.
– Возможно, в этих картинках отсутствует какой-то ключевой элемент.
– Томас Ран пришел к такому же выводу. И решил, что мне нужно увидеться с вами лично.
– Я надеялся… что ты меня узнаешь. Что мой голос покажется тебе знакомым.
– Мне бы очень этого хотелось.
– Выходит, я тоже потерпел неудачу.
Его голос, живой голос, исходящий из горла столь же естественно, как голос любого зверя, – вот что должно было послужить ключом. Отомкнуть ее память или, на худой конец, затронуть в ней какие-то глубокие эмоции.
Она осталась глуха ко мне, подумал Данло. Ее сделали глухой.
Тамара, откинув волосы назад, сказала:
– Ран попробовал даже дать мне каллы, но и это не помогло – мне просто не верится, что я имела раньше пристрастие к этому наркотику.
– Да, ты пила каллу однажды.
– Один раз не считается.
– Но калла позволила тебе… заглянуть в Единую Память.
– Я знаю. – Тамара зажмурилась и прижала пальцы к глазам. Она была на грани слез, но не позволила себе пролить их, словно мать-астриерка на похоронах своего ребенка. – Я знаю, что видела эту память, о которой все говорят. Видела очень ясно и могла бы переживать ее снова и снова, но теперь она ушла от меня. Осталось только слабое воспоминание о ней – очень слабое, как отсвет на небе после заката солнца. Я знаю, как это важно – важнее всего на свете, но не знаю, почему, и это меня угнетает. Я даже не ощущаю, что мне чего-то недостает, хотя и должна бы. Вот что пугает меня, пилот. Если я утратила нечто чудесное, то должна испытывать горе, ведь так? Что же со мной такое, если мне все равно? Если все равно, что мне все равно?
Она прижала кулаки к животу, и ее лицо покрылось восковой бледностью, как будто она наелась тухлого тюленьего мяса.
Данло заглянул ей в глаза, улыбнулся и сказал:
– Я не верю, что тебе все равно.
– Но мне должно быть все равно, понимаете?
Она положила руку на стол, и его поверхность приобрела стальной цвет. Данло тоже коснулся стола, и цвет, заколебавшись, перешел в жемчужно-серый. Он дотронулся до ее пальцев, и она не убрала руку. Сейчас между ними должен был бы пробежать электрический ток, подтверждающий, что его клетки созданы для слияния с ее клетками. Но ее ладонь осталась холодной и влажной, пальцы – безответными, как будто они оба просто стояли на ветру и ничего между ними не существовало.
Тамара, Тамара, безмолвно воззвал он, может ли ветер быть таким холодным?
Стол стал серым, как пепел; и они смотрели на него, не говоря ни слова.
Потом она убрала руку и села, покорившись судьбе, напомнив Данло изображение на одном из витражей в соборе Бардо: христианскую мученицу, готовую взойти на костер за свою веру.
Не ветер, но огонь, внезапно подумал он. Не холод, но горение.
Ее обмороженные руки выглядели так, словно их окунули в кипяток. Данло спросил, помнит ли она, как блуждала по улицам во время бури, и Тамара кивнула.
– Я помню, как думала, что надо бы найти обогревательный павильон. Снег слепил меня, и лицо горело от холода.
– Огонь – левая рука ветра, вспомнил Данло.
– Когда я спохватилась, что обморозила щеки, было уже поздно. Будь это в другом месте, я лишилась бы и пальцев и носа. Но криологи нашего Города лучшие во вселенной, если ты можешь позволить себе их услуги.
Данло побарабанил пальцами по столу и спросил:
– А с того момента, как тебя доставили сюда, ты все помнишь?
– Да, я уверена.
– Ну, а период перед тем, как тебя нашли?
– Ничего. Там дыра. Пропавший кусок времени.
– Сколько же времени у тебя пропало?
– Не могу сказать.
Он забарабанил быстрее, перенося пальцы справа налево.
– Но по ту сторону дыры память сохранилась, да?
– Разумеется.
– И что ты помнишь оттуда?
Она вздохнула, комкая рукав своего платья.
– Я понимаю, к чему вы клоните. Но это безнадежно – Томас Ран уже пытался восстановить хронологию. Дыр слишком много. Слишком много времени прошло. Я и в лучшие-то времена не могла припомнить в точности, что делала изо дня в день, больше чем за полгода.
Данло, который мог припомнить каждый день своей жизни начиная с четырехлетнего возраста, склонил голову в знак признания, что и такие дефекты возможны.
– Дыры в твоей памяти затрагивают период больше полугода?
– Во всяком случае, не меньше.
– Должна быть какая-то точка, с которой ты начала забывать.
– Мне кажется, что первая дыра поглотила почти всю ночь в доме Бардо.
– Ту ночь, когда мы познакомились?
– Да, наверное.
– Странно. – Стол перед Данло теперь загорелся бирюзой, переходящей в синеву.
– Это был мой третий или четвертый визит к Бардо. Я помню, как пила вино и болтала с холистом, с которым однажды имела контракт. Помню, как щелкали семена трийи, помню дым, помню, как познакомилась с Хануманом…
– Ты помнишь, как познакомилась с Хануманом?
– Да, конечно.
– Но это произошло всего за несколько минут до того, как я впервые тебя увидел.
Тамара прищурилась и со смущенным видом потерла затылок.
– Извините, но вас я не помню.
– Наши глаза встретились, и Хануман нас познакомил.
Она медленно покачала головой.
– Я помню карликовые деревца Бардо – я еще подумала, что у них неважный вид, – а потом я увидела, что Хануман стоит рядом. Он сам мне представился, что было очень смело для кадета: большинство из вас не решилось бы заговорить с куртизанкой. Но Хануман не такой. Никогда еще не встречала такого человека. Он был просто обворожителен.
Данло выждал мгновение и спросил:
– А потом?
– Потом ничего. Наверно, я встретила вас, и мы… мне сказали, что мы вышли вместе. Мне очень жаль, пилот.
– Больше из этой ночи ты ничего не помнишь?
– Только отрывочно, как будто я слишком много выпила. Нет, совсем не так, потому что оставшиеся фрагменты не затуманены, а прозрачны, как стекло – просто они разрознены. Я помню, как Хануман читал лица и что говорил при этом. Он это делал просто блестяще.
– Ты помнишь, как он читал лица. – Данло повторил это ровно и без эмоций, но стол, к его удивлению, сделался густо-аквамариновым.
– Ну да.
– И больше ничего?
– Что вы имеете в виду?
– Ты не помнишь, что мы стояли рядом, когда он это делал?
– Нет, правда?
– Мы держались за руки.
– Простите, но я не помню.
– А как Хануман прочел Сурью, помнишь?
– Помню только, что Сурья думала о Рингессе. Она преклонялась перед ним. А когда Хануман разгадал ее мысли, она и ему стала поклоняться.
– Странно, что ты помнишь все это, но ничего кроме.
– Мне очень жаль.
– Значит, ты забыла, как предупреждала меня насчет Ханумана?
– Зачем бы я стала это делать?
– В ту ночь Хануман испугал тебя, и потом ты тоже его боялась.
Тамара закрыла лицо руками, крепко нажав на веки, отняла их и взглянула на Данло.
– Не могу себе представить, что я могла бояться Ханумана.
– Ты не испытываешь никакого страха перед ним?
– Нет, не думаю. Я помню о нем только хорошее.
Данло оборвал свою барабанную дробь.
– Может, ты и о нем кое-что забыла?
– Это было бы только естественно – ведь многие мои воспоминания о нем определенно связаны с вами.
Как одни воспоминания связываются с другими, подумал Данло. И еще: Хану, Хану, что за судьба соединила нас с тобой, словно правую и левую руки?
Холод и ясность внезапно овладели им, заставив оцепенеть. Он смутно сознавал, что поверхность стола налилась голубизной, которая сменилась темной, почти черной синевой, затопившей его распростертые пальцы. Его поле зрения включало в себя множество вещей: окна в морозных узорах, свисающие с потолка каскады зелени, прелестное, гордое и озабоченное лицо Тамары – и еще одно, нематериальное, но от этого не менее осязаемое и реальное. Это последнее состояло из интриг, и честолюбивых помыслов, и ревности, и любви, и нитей судьбы, переплетенных туго, как в ковре, и из реальных событий, произошедших в пространстве-времени, в домах, построенных человеком, и на чистом морозном воздухе, омывающем этот мир. То, что видел Данло, было не мечтой и не воображаемой реальностью, а скорее идеальной картиной реальности, чем бы эта реальность в реальности ни была. Это явилось ему внезапно, во всей ясности и полноте, словно выпавший из мрака драгоценный камень. Оно блистало тысячами граней, из которых он мог четко рассмотреть лишь немногие: утрату Тамарой ее страха перед Хануманом; вирус памяти, созданный сотни лет назад на Катаве; очистительную церемонию Вселенской Кибернетической Церкви. Причина Тамариной болезни, вытекающая из этих фрагментов, ввергала его в изумление. Больше того, она вызывала у него дурноту, потому что он знал, что все открывшееся ему – правда.
Вселенная похожа на голограмму, вспомнил он. Каждая ее часть содержит в себе информацию о целом.
Всю жизнь он искал новый способ видения, а прозревать начал здесь, в этой тихой комнате, за стенами которой бушевала метель. В сущности, он должен был увидеть все это раньше, но любовь к Хануману ослепляла его. Теперь любви больше не было. Вернее, она, как правая рука с левой, соединилась с тем страшным чувством, которого Данло боялся больше всего на свете.
– Пилот, пилот, я сказала что-то, рассердившее вас?
Он сидел, стиснув дрожащие пальцы в кулак на столе, который теперь был темно-темно-красным. Голова болела, в горле саднило, и он боялся, что его глазные сосуды вот-вот лопнут.
Он уяснил себе, что сейчас по-настоящему близок к потере сознания или к удару. По бритвенному лезвию такого рода ему еще не приходилось ступать. С тем же успехом он мог и унять свою смертоносную ярость, но на миг позволил себе отдаться роскоши этого чистого, праведного гнева. В следующее мгновение он упал за грань физических эмоций, в область кошмаров и мук. Жуткие образы пылали в его мозгу. Он испытал момент ошеломляющей свободы, когда все возможно и все дозволено. Он хотел убить человека. Хотел выдавить дыхание из горла своего лучшего друга. Он хотел этого больше жизни, и был момент, когда он умер бы, лишь бы это осуществить.
Потом он увидел в столе свое темное отражение. Блестящая поверхность стала пурпурно-черной, цвета глубокого кровоподтека. Он грохнул по столешнице кулаком, расколов ее. Краски погасли, и он потер ушибленные костяшки.
Нет, не бывать этому.
– Пилот, пилот!
Тамара стояла над ним, положив руку ему на плечо. Она дотронулась до его лица медленно и осторожно, как зоолог до спящей кобры.
– Не бывать этому, – прошептал он сам себе. – Никогда.
– Пилот, прости меня, прости.
– Никогда не причиняй никому зла, даже в мыслях.
Безымянный палец опух и кровоточил – возможно, он сломал его. Данло пообещал себе, что никогда больше не позволит ненависти к Хануману одержать над собой верх. Если уж он не может избавиться от этой мерзости окончательно, он похоронит ее поглубже и оградит крепкой стеной. Как устрица, обволакивающая раздражающую ее песчинку слоями перламутра, он воздвигнет вокруг своего стремления к убийству множество стен, и каждая будет прозрачной и крепкой, как алмаз.
– Я еще ни одного человека не видела в таком гневе, – сказала Тамара.
– Прошу прощения. – Ее рука так хорошо холодила ему висок. Данло накрыл ее своей и улыбнулся. – Я рассердился не на тебя. Ты у меня никогда не вызывала гнева.
– Правда?
– Правда.
Он подумал, не рассказать ли ей о том, что увидел. Вот только поверит ли она в его обвинения против Ханумана? В то, что Хануман мозговой убийца и спеллер? И как он сам может в это верить?
Есть вещи, которые я никак не могу знать – и все-таки знаю.
Позже с помощью логики, фактов и всех ресурсов Ордена он проанализирует события, предшествовавшие несчастью с Тамарой, – но тогда у него не было ничего, кроме уверенности в своем новом зрении.
– В твоем лице столько ненависти.
– Да.
Он отвел руку Тамары от своей щеки и посмотрел на нее.
– Я никогда не видела ничего подобного – насколько я помню.
– Ненавидеть способен каждый. Даже ребенок.
– Судя по тому, что говорят о тебе другие, я никогда бы не подумала, что ты способен ненавидеть.
– Я… задумался. О том, что случилось с тобой.
Он и теперь, крепко держа ее за руку и сцепив зубы от боли в костяшках, продолжал думать о том, как Хануман изувечил ее, представляя себе его план от начала до конца. В начале были гордость, боль и непомерное честолюбие. Тогда, в самом начале, в башне цефиков, Хануман добился аудиенции у своего главы, недоступного лорда Палла, и они вдвоем задумали взять власть над Орденом в свои руки, используя для этого Путь Рингесса. Хануман пообещал лорду Паллу полную власть в Тетраде в обмен на обещание, что Орден не будет преследовать Путь и поддержит растущую церковь Бардо. Лорд Палл дал свое согласие без слов, с помощью жестов и мимики. Но Хануман понимал гораздо больше, чем Главный Цефик. Он видел, что лорд Палл клюнул на удочку новой религии. Что он уже предвкушает, как с помощью своей цефики, действуя через Ханумана, подчинит рингизм себе и воспользуется его мощной духовной энергией, чтобы оживить Орден. Лорд Палл воображал себе, что будет действовать совершенно бескорыстно и легально, хотя и тайно. В итоге он станет главой Ордена и негласным вождем новой вселенской религии, продолжая при этом направлять и контролировать Ханумана ли Тоша.
О Хану, Хану, как ясно ты понимал, что власть в конечном счете всегда зависит от того, кто кого боится.
После этого совещания, не оставившего следа ни в машинной, ни в человеческой памяти, кроме памяти этих двоих, Хануман отправился в Квартал Пришельцев, где у него имелись обширные и весьма опасные знакомства: червячники, воины-поэты и даже несколько спеллеров. Он воспользовался услугами генетика-нелегала, юркого человечка с висячими усами и искусственными глазами из драгоценных камней. Тот за огромные деньги снабдил Ханумана культурой вируса, выращенного шестьсот лет назад на Катаве. Эта пробирка, словно бутылка летнемирского вина, переходила от коллекционера к коллекционеру, и при каждой сделке цена ее возрастала. Хануман был первым, кто воспользовался этой древностью. Без зазрения совести он соблазнил одного из фаворитов лорда Цицерона, молодого человека по имени Янг ли Янг, и заразил его этим вирусом. Янг ли Янг передал вирус Ченоту Чену Цицерону, а через него еще троим академикам, и все они сразу же начали забывать. Хануман сделал это, чтобы исполнить свое обещание лорду Паллу, и для того, чтобы лорд Палл занервничал, и по еще более глубоким причинам.
Данло, резко поднявшись на ноги, спросил:
– Тамара, ты помнишь, как пошла к Хануману записывать свою память?
Она грустно покачала головой.
– Нет, ничего такого я не помню.
– Это должно было случиться как раз перед тем, как ты начала забывать.
– Но Хануман-то должен помнить, была я у него или нет.
– Верно, должен.
– Он ведь твой друг – когда я пропала, он должен был тебе сказать, что я недавно была у него.
– Это ты так полагаешь.
– Что ты имеешь в виду?
Данло подошел и положил руки ей на плечи.
– Мы уже не такие друзья, как были раньше.
– Извини, пилот, но разве так уж важно, была ли я у Ханумана перед тем, как вирус уничтожил мою память? Ты боишься, что я и его могла заразить?
– Нет, этого я не боюсь.
– В чем же тогда дело?
– Ты помнишь, как решила записать свою память? Помнишь свой опыт с Единой Памятью?
Она вдруг отпрянула от него.
– Да, я думаю, что захотела бы записать то, что поняла из Единой Памяти. Ты считаешь это тщеславием? Что поделаешь – говорят, я грешила этим.
Да, подумал Данло, ты была тщеславна и горда, и Хануман знал это не хуже меня. Хануман, человек многоплановый, держал это в уме, проектируя свой мнемонические компьютеры. Он заманил Тамару к себе в лабораторию, где держал свои блестящие шлемы. Он послал приглашение не только ей, но и самым блестящим умам Города. Разве могла она устоять против такого комплимента? Нет, не могла – и как-то поздно ночью отправилась к нему по доброй воле, хотя и знала, что это опасно. Данло, закрывая глаза, видел их встречу воочию. Вот Тамара входит в похожий на пещеру компьютерный зал, нервная, в заснеженной шубке, а Хануман низко кланяется ей и предлагает чашку горячего чая.
Она, воплощенное любопытство и решимость, принуждает себя довериться Хануману. Хануман льстит ей своим серебряным языком, и она приходит в восторг и в то же время настораживается, видя, как легко он ею манипулирует. А затем совершается преступление, о котором не знает ни один человек во вселенной, кроме Ханумана и Данло. Данло видел это перед собой так ясно, как будто был птицей, сидящей где-то под куполом компьютерного зала. Четкое изображение жгло ему глаза. Вот Хануман опускает зеркальную металлическую сферу на голову Тамары, дрожащей от предвкушения. Он говорит ей, что это мнемонический шлем, но это неправда. Это очистительный шлем, отмеченный печатью Реформированной Кибернетической Церкви. Дьявольский прибор, освобождающий грешников от их негативных программ. Хануман обнажает ее память и мозг, рисует компьютерный портрет ее личности. Для него в ее душе больше нет тайн. Он с легкостью отбирает нужные картинки ее памяти, чтобы составить из них потом эротический клип. Невидимое поле шлема распространяется по ее мозгу, отрывает электроны от родных атомов, растворяет дендриты, стирает уникальные образцы синапсов. Этот обратный импринтингу процесс занимает не слишком много времени. Несколько раз она вскрикивает «Данло, Данло!» – он знал это так же верно, как если бы слышал сам. Она зовет его, вспоминая в последний раз моменты своего прошлого, а потом сознание оставляет ее, и она затихает, и только молекулы воздуха да стены сохраняют память о том, что она сказала. Хануман отключается от руин ее разума в ужасе от себя самого, но довольный тем, что справился с почти невыполнимой задачей. Остается только ввести тонкую иглу ей в затылок, впрыснув ей в кровь уже обезвреженные вирусы. Потом он выводит Тамару в пустой собор Бардо и оставляет в холодном нефе, поруганную, с поврежденным сознанием.
– Тамара, мне кажется, что впервые ты начала забывать… в соборе, – сказал Данло со всей доступной ему мягкостью.
– Это Ран тебе сказал?
– Да, – солгал он. – Мастер Ран говорит, что ты помнишь, как оказалась одна в соборе.
Она сделала глубокий вдох и сказала:
– Иногда, выполнив свой контракт и слишком устав, чтобы ехать домой на коньках, я любила заходить туда. Поздно ночью, когда никого нет. Бардо велел божкам пускать меня, когда бы я ни пришла. Это хорошее место, чтобы подумать, побыть наедине с собой. Я помню, как лежала на одном из ковриков и смотрела на окна. Это было очень необычно, потому что я никогда не позволяла себе спать там, а медитирую я всегда сидя. Я помню, что смотрела на новое окно, которое вставил Бардо, – то, где Рингесс с разбитой головой умирает своей первой смертью. Ужасная картина. И я вдруг не смогла вспомнить, как попала сюда. Чувствовала только, что прошло порядочно времени – жуткое чувство, как будто умираешь не сразу, а по частям. Потом я попыталась вспомнить другие вещи, но их не было. Пропали все моменты, которые должны были быть в голове. Я знала, что они должны быть, но их не было. Тогда я, наверно, ударилась в панику. Я задыхалась, и голова так кружилась, что я еле держалась на ногах. На время я забыла даже, кто я. Не то чтобы я забыла что-то о себе – я помнила даже слишком много, – но я перестала ощущать себя. Зачем я вообще существую на свете. Тогда я, должно быть, и вышла на улицу. Я не могла идти домой, понимаешь? Не хотела оказаться среди знакомых предметов, пока не вспомню себя как следует.
Данло перехватил ее взгляд, и ему захотелось сказать ей, что она Тамара Десятая Ашторет, его нареченная, его радость, женщина, от которой у него когда-нибудь родится много детей. Ему хотелось многое сказать ей, но он просто смотрел на нее, стиснув челюсти, и молчал.
– Если я и собиралась записать свою память, то после моих блужданий по улицам это стало невозможным. Жаль, что Хануман не нашел меня до того, как вирус сделал свое дело – когда что-то еще, может быть, и сохранилось.
Данло зажал губу зубами, испытывая желания прокусить ее до крови, но сдержался и сказал:
– Тамара, этот вирус…
– Да, – прервала она, – какой нелепый случай. Кто бы мог подумать, что такое возможно. Должно быть, это просто судьба, а от судьбы не уйдешь.
Да, судьба, подумал он. Ее судьба переплелась с его судьбой, а его – с судьбой Ханумана. Он был уверен, что вирус не затронул ее мозг. Вирус был мертвый, безвредный, как вакцина. Хануман убил эту ДНК, чтобы у Тамары создались соответствующие антитела. Чтобы их обнаружили. Хануман знал, что когда у Тамары найдут амнезию, вирусологи начнут исследовать ее на катавскую лихорадку. Они обнаружат антитела и придут к выводу, что она действительно заразилась. Никто не заподозрит, что на нее обманом надели очистительный шлем.
Ее пожалеют и сочтут еще одной жертвой вируса, наряду с Янг ли Янгом и Ченотом Ченом Цицероном.
Глядя, как Тамара ищет в его глазах кусочки собственной судьбы, Данло понял, что ликвидация лорда Цицерона была самой мелкой из целей Ханумана. По сути дела, это была просто диверсия, прикрывавшая его истинные цели.
Зачем, Хану? Зачем?
Да затем, что Тамара боялась Ханумана и не доверяла ему – вот он и очистил ее от страхов. Она пользовалась уважением главы куртизанок, и Хануман повредил ее разум, чтобы она не сказала Матери ничего, что могло повредить ему или Пути Рингесса. Хануман по-прежнему надеялся перетянуть Общество на свою сторону – это был первый из его тайных планов.
Глядя на мелькающий за темным окном снег, Данло сказал:
– Не верю я ни в какую судьбу. Ты осталась такой же, какой была. Ничего не изменилось.
В самом деле, она во многом осталась той же Тамарой, которую он любил. Он знал, что Хануман не хотел уничтожать ее личность – хотел только быть уверенным в ее памяти. В этом состояла вторая часть его плана: убрать из ее головы образ Данло и все мысли о нем. Хануман ведь тоже любил ее – любил с той самой ночи в доме Бардо. Он все еще надеялся заключить с ней контракт – более того, он надеялся сохранить лучшее, что в ней есть, для себя.
– Вирус не мог затронуть самую глубину твоего «я», – сказал Данло.
– Хорошо бы.
– Ты просто забыла кое-что из того, что с тобой случилось.
– Это часть моей жизни, пилот.
– Но эту часть можно восстановить.
Ее лицо на миг просветлело.
– Какие добрые слова. Я, наверно, любила в тебе эту доброту.
– И не только ее.
– Я уверена, что в тебе много черт, достойных любви. Ты такой…
Данло затряс головой.
– Мы любили друг друга не только за хорошие качества. Это было нечто большее. Между нами была имаклана, любовная магия, которая возникает мгновенно и длится вечно.
– Этот миг, когда в кого-то влюбляешься, всегда опасен.
– Опасен, да, но и халла тоже.
– Халла?
– Ты и это слово забыла?
– Видимо, да.
– Халла – это… взаимосвязанность всех вещей. Тайный огонь, общий для всего сущего.
– Нет, не помню.
Данло на миг прикрыл глаза и сказал:
– Халла лос ни мансе ли девани ки-шарара ли пелафи пис ута пуруша.
– Я не понимаю этого языка.
Он перевел, взяв ее за руку:
– Халла те мужчина и женщина, которые зажигают друг в друге благословенный огонь.
– О нет. – Она отняла у него руку и вытерла ладонь о платье. – Огня такого рода следует избегать.
– Но ведь нет ничего благословеннее, чем любить другого?
– Влюбляться не значит любить другого. Влюбляясь, ты любишь саму любовь – состояние влюбленности.
– Любовь есть любовь. – Данло не хотел признаваться, что понимает обозначенную ею разницу.
– Странно, но Мать всегда предостерегала меня от влюблений. От любовного опьянения, как она говорила. Это все равно что упиться до бесчувствия: ты становишься слепой. Просто не хочешь видеть, что там у другого внутри. Лишь бы быть с ним рядом и вместе гореть.
Данло легонько обвел пальцем линию ее подбородка, сильно пострадавшего от мороза.
– Может быть, тебе тяжело это слышать… но я все еще пьян этим огнем.
– Я знаю.
– Пьян, но не слеп. У нас с тобой все было по-другому. Мы всегда видели друг друга.
– И сейчас я вижу того же человека, которого знала до болезни?
– Да. Я – все тот же я.
– Но я вижу тебя по-другому?
– Не знаю. Что ты видишь?
– Всего несколько мгновений назад в твоих глазах была ненависть. И отчаяние. Вряд ли я смогу выносить такое отчаяние, если буду рядом.
Он закрыл глаза, перебирая все трагедии, которые ему довелось пережить.
– В каждом из нас есть место для отчаяния.
– Наверно. Во мне точно есть. Поэтому мне так трудно видеть твое – оно у тебя такое безысходное.
Он снова хотел взять ее за руку, но она отступила, покачав головой.
– Прошу тебя! – сказал он.
– Мне страшно, пилот.
– Нет, не говори так.
– Я тебя боюсь.
Боль кольнула его над глазом, там, где у него всегда начинались головные боли – внезапно, как молния, раскалывающая небо над спящим городом. Прижав ладонь ко лбу, он понял, какой была третья последняя цель Ханумана, конечная точка, к которой сводились все его планы. Этой точкой был он, Данло Дикий. Хануман хотел преподнести ему самый драгоценный из даров: поделиться с ним частью своей души, заставить его прозреть, выжечь у него в мозгу незаживающую рану. Любовь, ненависть, извращенное сострадание – вот что руководило им, когда он уничтожал лучшую часть Тамариной памяти. Он совершил это страшное дело для того, чтобы Данло, как и он, воспринимал вселенную через страдание.
Хану, Хану. Нет.
Он поймал себя на том, что бормочет вслух «нет, нет; нет».
Ему хотелось коснуться пальцев Тамары, ее волос, ее темных глаз, налившихся слезами, но он не мог шевельнуться, как будто кто-то двинул его в солнечное сплетение клюшкой или локтем, вышибив из него дух. Он пошатнулся, выбросив вперед руку в поисках опоры. Рука нащупала чайный столик, и Данло оперся на него, опустив голову и пытаясь восстановить дыхание. Столешница вспыхнула ослепительным белым светом, заполнившим всю комнату. Тамара, ахнув, закрыла лицо руками и отвернулась. Данло, хмурясь, тоже заслонил глаза. Он чувствовал себя ребенком, брошенным на морском льду, потерявшимся мальчиком, который смотрит в бьющий ото льда свет, ища надежды на спасение. Потом он и вправду стал ребенком, и его взгляд устремился к бесконечно далекому горизонту. Ему было около двух лет, и он стоял один на кладбище выше пещеры. Он стоял на твердом хрустящем снегу совсем один, и это было странно, потому что вокруг собрались Хайдар, Чокло, Чандра и все остальное племя. В кругу, образованном ими, на носилках из китовой кости и белых шегшеевых шкур, лежало тело его любимого брата Арри. Ночью Арри умер от кишечной горячки и теперь лежал под ясным голубым небом голый и одинокий. Чандра помазала его пахучим тюленьим жиром, и все его коричневое тельце блестело, как полированное дерево. Арктические маки, красно-рыжие, как солнце, покрывали его голову, грудь и ноги.
Хайдар и все остальные молились за душу Арри, произнося слова, которые Данло не понимал. Окончив молитвы, Хайдар припал к Чокло, рыдая и говоря о том, как он любил своего старшего сына. Данло все это время стоял рядом, слушал и усваивал новое слово: анаса. Это слово обозначало любовь и страдание вместе, и Данло каким-то образом это понимал.
Сильнее всего мы любим то, с чем расстаемся, и разлука причиняет нам страдания. Когда пришел его черед положить огнецветы в волосы брата и попрощаться с ним, Данло упал на него и обхватил руками так, словно они опять боролись и Арри дал ему победить. Он был слишком мал и не мог понять, что когда-нибудь их с Арри души будут гулять вместе по ту сторону дня. Хайдару пришлось отрывать его от Арри. Было так холодно, что слезы замерзли бы прямо на глазах, будь те открыты. Но они были крепко зажмурены и горели, и он стоял над чайным столиком, не в силах выносить слепящий белый свет. Данло выпрямился и убрал руку со стола. Комната сразу поблекла. За окном по-прежнему летел снег. Мокрые глаза Тамары покраснели, и ее пробирала дрожь. В другое время он бы с легкостью утешил бы ее, но теперь она стояла, скрестив руки на груди, холодная и неподвижная, как ледяная статуя. Данло не мог прикоснуться к ней, хотя ему отчаянно хотелось запустить пальцы в ее волосы и поцеловать ее в лоб. Это было все, чего он хотел в этот момент.
Любить значит гореть, и пока влюбленные вместе, их соединяет сладчайшая во вселенной боль – анаса. Но когда они расстаются, эта боль превращается в муку. Хорошо, что хотя бы Тамара избавлена от нее. (Или просто ее не сознает.) Но его Хануман одарил огнем, и отныне он всегда будет гореть тоской по невозможному.
– Тамара, – сказал он, – того, что сейчас происходит, может и не быть.
Она села на свое место очень осторожно, чтобы не задеть стол, и попыталась улыбнуться.
– Что было, то было. Ты не можешь изменить прошлое.
– Но я могу вспоминать его.
– Возможно, было бы лучше, если бы ты мог забыть.
– Нет. Совсем наоборот.
Она, должно быть, уловила проблеск надежды в его глазах и спросила:
– Что ты имеешь в виду?
Может, ирония бытия в том, что каждому человеку хотя бы раз в жизни приходят в голову немыслимые вещи. Каждый из нас хотя бы раз делает то, что всегда считал невозможным.
Данло встал, прижимая к губам костяшки пальцев, весь во власти отчаянной мечты, и сказал:
– Может быть, существует способ восстановить твою память – ты не думала об этом?
– Нет. Не хочу тешить себя ложными надеждами.
– Я помню каждое слово, которое ты мне говорила, помню температуру твоего тела при каждом твоем прикосновении. Эту память можно перенести в компьютер, а потом впечатать ее тебе. Я знаю одну печатницу, которая помогла мне, когда я появился в Городе. Она и тебе поможет.
Тамара недоверчиво уставилась на него.
– Ты хочешь вставить свою память мне в мозг?
– Да, чтобы ты могла вспомнить.
– Ты так хорошо все помнишь?
Эти воспоминания пылали у него в мозгу багровыми рубинами.
– Томас Ран говорит, что у меня почти идеальная память.
– Возможно, она действительно идеальна – для тебя.
– Тамара, я…
– Если бы это ты потерял память, захотел бы ты восстановить ее таким путем?
– Н-не знаю. – По правде говоря, он не мог представить себе, что какие-то части его памяти могут исчезнуть. – Но что мы можем сделать еще?
– Нам ничего не нужно делать. Все, что ты помнишь, и то, как ты это помнишь, – это твоя память, а не моя.
Обогнув стол, он подошел к окну и стал царапать ногтем по замерзшему кларию – казалось бы, наугад. Лишь отойдя на шаг, он понял, что бессознательно изобразил на окне серебристую талло. А ведь Хануман, подумал он, мог и сохранить память, которую удалил из мозга Тамары. Это было больше чем ложная надежда. Разве стал бы Хануман выбрасывать нечто столь ценное? Возможно, он вложил память Тамары в Старшую Эдду и уж наверняка захотел бы узнать, какие секреты Тамара знает о Данло Диком. Хануман собирал знания и секреты, как некоторые любители, эгоистично, ради собственного удовольствия собирают произведения искусства; возможно, он пересматривает сцены, похищенные им из памяти Тамары, снова и снова, в уединении потайного виртуального пространства.
Он повернулся к Тамаре и спросил:
– Ну а если можно будет найти твою собственную память? И вставить ее обратно?
– Мою? Но ведь ее больше нет.
Данло не хотел пока говорить ей о Ханумане.
– Предположим – это просто такая игра – предположим, что Архитекторы правы и вселенная действительно компьютер, который записывает каждое событие в пространстве-времени. Что, если события твоей жизни можно достать из компьютера? Если Бог – в самом деле компьютер, способный хранить…
– Но разве такое возможно? – перебила она.
Это возможно, подумал он, потому что память обо всем заложена во всем. Но Тамара, не дожидаясь его ответа, улыбнулась самой себе и сказала:
– Нет, не могу я играть в такие игры.
– Но вся память…
– Пожалуйста, пилот, не надо.
Она встала, подошла к нему и взяла его руку в свои. Это явно далось ей нелегко, потому что руки ее дрожали, а глаза смотрели страдальчески и неуверенно. Но она, приняв, очевидно, какое-то решение, сжала его пальцы и сказала:
– О пилот, ты не понимаешь. Ты так добр, что пытаешься помочь мне – по-моему, я все еще люблю тебя за твою доброту. Но я не хочу больше, чтобы мне помогали вспоминать. Я не за этим звала тебя сегодня.
– Тогда… зачем же?
– Чтобы попрощаться. Сказать, что между нами не может больше быть ничего общего.
Он стиснул ее руку и уставился на ее покрасневшие пальцы, вжигая неповторимый узор их кончиков в свою память.
Он смотрел на ее руки так, будто надеялся, что сейчас из них появится неожиданное, счастливое будущее. Он долго скраировал так, и ему хотелось закричать: почему, почему?
– Это трудно объяснить, – сказала она. – Но я не могу жить ради прошлого, каким бы оно ни было. Не могу оплакивать себя еще при жизни. Не могу и не стану. Разве недостаточно того, что есть сейчас? Я – всегда я и всегда буду собой. Собой и своей памятью. Вот оно, настоящее чудо, понимаешь? Я не могу портить его надеждой на то, что когда-нибудь проснусь и вспомню то, что забыла.
Данло задумался и сказал:
– Я мечтал… что мы будем жить друг для друга.
– Мне жаль, пилот.
– Но если мы будем встречаться каждый день, то…
– Прости, но нам лучше не встречаться больше.
– Никогда?
– Никогда.
Она расстегнула воротник своего платья, опустила туда руку и, прошуршав шелком, достала жемчужину, которую он подарил ей. А потом плавным движением сняла кулон через голову.
– Я хотела показать тебе это. – Ее палец задержался на слезовидной поверхности жемчужины.
Данло всегда любил смотреть, как перламутр меняет цвет от серебристого до густо-пурпурного и радужно-черного.
– Она великолепна, – сказал он.
– И очень необычна – такая у меня только одна.
– Конечно. Такие жемчужины, наверно, большая редкость.
– Это ты мне ее подарил? – спросила она. Не дожидаясь ответа, она раскрыла его пальцы и втолкнула жемчужину в ладонь, к самой линии жизни. Та показалась Данло странно тяжелой – тяжелее, чем ему помнилось.
– Я всего лишь кадет – разве я мог позволить себе такой подарок?
– Не знаю.
– Я ее в первый раз вижу.
– Ну что ж, извини тогда. – Она потрогала шнурок, сплетенный из блестящих черных волос, и посмотрела на буйную гриву Данло, спадающую ниже плеч.
– Она тебе нравится? – спросил он.
– Она прелестна. Она была на мне, когда я начала забывать – там, в соборе. Не могу вспомнить, кто мне ее подарил.
Он заглянул в ее темные влажные глаза и увидел в каждом зрачке отражение жемчужины.
– Может быть, еще вспомнишь… когда-нибудь.
– Может быть.
Он сжал жемчужину в кулаке, чувствуя, как она впивается в кожу, и держал так, пока мускулы предплечья не начали ныть. Тогда он протянул руки вперед и снова надел кулон Тамаре на шею.
– Если она тебе нравится, ты должна оставить ее у себя.
Она нагнула голову и взглянула на него.
– Я позову послушницу, и она проводит тебя к выходу.
– Ничего, я сам найду дорогу.
– Нет, так не годится. В доме Матери всех гостей провожают до самой двери.
– Тогда, может быть, ты сама меня проводишь?
– Хорошо.
Зная, что в вестибюле будет холодно, она прошла к гардеробу за накидкой. Когда она закуталась в пахучий новый мех, Данло в последний раз взглянул на чайный столик и хлопнул по нему раскрытой ладонью. Поверхность осталась черной и мертвой, лишенной красок.
– Я готова, – сказала Тамара. Он не мог себе представить, что больше не увидит ее, и стол вдруг зажегся слабым золотистым светом.
Они вместе шли по тихим коридорам, молча и не глядя друг на друга. Она привела его обратно в гардеробную, где он надел парку и ботинки, и они прошли через холл к входной двери.
– Давай попрощаемся здесь, – сказала она.
Он кивнул и сказал:
– До свиданья.
Она с трудом, преодолевая напор ветра, открыла дверь и клубы снега ворвались в холл.
– Прощай, пилот. Всего тебе хорошего.
Он задержался на пороге, упершись в дверь плечом. Он хотел сказать ей что-то очень важное. Снять перчатку, коснуться ее моргающих от ветра глаз и сказать, что им еще не раз суждено встретиться. Но сам по-настоящему не верил в то, что это правда. Не мог поверить. Взглянув на белое холодное лицо Тамары, он вспомнил, что обмороженная кожа навсегда сохраняет чувствительность к холоду, низко поклонился ей и сказал:
– Прощай, Тамара.
Он вышел в бурю, и ледяные иглы тут же впились ему в лицо. Дверь тяжело и глухо захлопнулась за ним. Он посмотрел на ее темную массивную глыбу и повторил:
– Прощай, прощай.
Глава XXVII МОРЖОВЫЙ КЛЫК
Самосоздание – вот величайшее из искусств.
Николос Дару Эде, «Путь человека»Глубокой зимой свет над Городом становится слабым и странным. В ясные дни, когда солнце едва проглядывает красной полосой на горизонте, небо бывает лишь наполовину светлее, чем ночью, и на нем видны звезды. Если же в это темное время года начинается буря, то день вообще пропадает. Светать уж точно не светает, поскольку свет не может пробиться сквозь сплошную завесу туч и стелящий снег. Когда на улице бушует сарсара, грань между днем и ночью стирается, и бесполезно бодрствовать всю ночь, дожидаясь рассвета. Только большой упрямец или глупец может на это решиться, но именно так коротал унылые, полные отчаяния часы после прощания с Тамарой Данло ви Соли Рингесс. Он катился по Старому Городу, пока не обессилел и не сбился с дороги, а после, полузамерзший, ввалился в обогревательный павильон на безымянной улице. В этом утлом убежище, под свист ветра, он ждал, следя, как мрак из черного становится свинцовым и серебристо-серым. Время тянулось бесконечно. Он полагал, что находится где-то около собора Бардо, и собирался ворваться туда, как только дверь откроется, найти Ханумана, поговорить с ним, упросить его, пристыдить – все что угодно, кроме прямого физического насилия, лишь бы он согласился вернуть Тамаре память.
Но ожидание оказалось тщетным. Когда наконец занялся день – холодный серый хаос туч и снега, – Хануман отказался увидеться с ним. Все последующие дни Хануман тоже сидел запершись в своем компьютерном зале, не видя никого – ни Данло, ни Бардо, ни божков, приносивших к его двери подносы с едой и питьем. Данло высадил бы эту дверь, но около нее всегда стояли на страже двое рингистов. Они были новообращенные и к Данло относились недружелюбно. Они информировали его, что Хануман пребывает в пространстве памяти одного из компьютеров, где переживает великое воспоминание – величайшее из всех, которые когда-либо знал человек.
– Ей-богу! – вскричал Бардо на четвертый день, когда Данло опять пришел к Хануману. – Если он не откроет эту чертову дверь, я сам ее выломаю!
Но ничего такого Бардо не сделал. Он не хотел выступать против Ханумана открыто, да еще из-за Данло. Он не утратил своих теплых чувств к Данло, но его бесило, что тот покинул его церковь.
– Пожалуй, тебе не стоит больше приходить сюда, Паренек. Этот собор предназначен для рингистов или тех, кто хочет стать ими. Ты, конечно, Рингесс, но ведь это не одно и то же, а?
– Нет, – признал Данло, – не одно и то же.
– Могу я спросить, зачем тебе так приспичило увидеть Ханумана?
– У меня для него… новости.
– Насчет Тамары?
Данло стряхнул с волос мокрый снег.
– Да – а как вы узнали?
– Нирвелли рассказала мне, что с ней случилось. Мне очень жаль, Паренек. Бедняжка, она была такая умница и ничем этого не заслужила. Горе, горе. Но скажи, пожалуйста, зачем тебе нужно сообщать эту дурную новость Хануману? Я слышал, что вы теперь уже не такие близкие друзья.
Данло заверил, что они по-прежнему друзья, к чему Бардо отнесся с подозрительностью человека, покупающего огневит у программиста-ренегата. Данло подумал, не сказать ли ему всю правду о том, как Хануман украл у Тамары память, но Бардо больше не пользовался полным его доверием. Бардо в этот период был слишком поглощен мечтами о Бардо. Даже если он и Пошел бы на раскол своей церкви, то все равно не сумел'бы заставить Ханумана вернуть Тамаре похищенное.
– Хочу надеяться, что вы продолжаете дружить, – сказал Бардо. – Дружба – это золото. От друзей так легко не отказываются, а? Вот и я хочу посоветовать тебе, как друг другу: оставь Ханумана в покое на время. Нужно время, чтобы, скажем так, все взвесить. Чтобы поразмыслить, возможно. Понимаешь? Ты Рингесс и должен быть нашим – будет слишком грустно, если нам придется закрыть перед тобой дверь.
В тот день Данло решил посоветоваться с мастер-акашиком. Может быть, стоило рассказать, что Хануман с помощью Архитекторского шлема вычистил из памяти Тамары информацию, которую скорее всего хранит в одном из своих компьютеров. Данло хотел, чтобы Хануман подвергся проверке акашиков, чтобы они использовали свои компьютеры, обнажили его мозг и заставили его открыть, где он держит украденный им жемчуг. Однако Данло казалось, что он поступит низко и вероломно, если войдет в похожий на крепость корпус акашиков, склонится перед каким-то незнакомым мастером и обвинит Ханумана. Пусть Тамара сидит взаперти в старушечьей комнате, где пахнет араукарией и мазью против обморожений, пусть он, Данло, жаждет мщения, пусть Хануман его предал – он его таким образом предать не мог.
При этом Данло хорошо понимал, что и Хануман, и Тамара происходят из Архитекторских семей, а потому оба имеют право очищать и быть очищенными. Это установлено еще тысячу лет назад. Это, собственно говоря, вопрос религии. Если акашики подойдут к делу со всей строгостью, они, возможно, решат, что Хануман никакого преступления не совершал. И даже сделают Данло выговор за то, что он связался с куртизанкой и с подозрительной новой религией. Акашики, как известно, ко всем религиям относятся отрицательно.
«Но ты, Хану, ввел вирус в ее благословенное тело! – твердил Данло про себя. – И ты же заразил этим вирусом Главного Пилота, а уж это – шайда из шайд!»
Спеллинг, то есть введение посторонней ДНК в человеческий организм, – действительно тягчайшее преступление. Но законы Ордена предусматривали, что только мастер одной из профессий может вызвать другого человека на суд акашиков без достаточных доказательств; у Данло же доказательств вообще не было, если не считать озарения, которое он испытал во время встречи с Тамарой. Он сам не понимал, что произошло с ним в ту ночь. Чем это было – галлюцинацией или приступом ясновидения, сном наяву или виртуальным воспроизведением реальности? А может быть, он открыл какой-то новый метод восприятия сродни скраерскому или мнемоническому. Данло знал одно: его видение было правдивым. Он знал, что прав относительно Ханумана – но что, если он все-таки заблуждался?
О Хану, Хану, что есть истина?
В конце концов Данло так и не пошел к акашикам. Даже сам Главный Акащик не смог бы заставить Ханумана вернуть Тамаре память. Только Данло мог это сделать. Он должен был как-то загладить разделившую их обиду и внушить Хануману чувство истинного сострадания, иначе Тамара никогда не вспомнит свою жизнь и свое настоящее «я».
Данло вернулся к себе в общежитие и почти сутки провел в раздумьях, без еды и питья. Он лежал на сбившейся меховой подстилке почти неподвижно, с открытыми немигающими глазами. Тот, кто случайно заглянул бы в его замерзшее окно, мог бы подумать, что он умер. Часть его действительно умерла, другая не хотела больше жить, но третья шептала ему, что Тамара еще может исцелиться. В то самое время, когда мрак внутри него сгущался, в страшную пору между смертью и утром, этот шепот становился все громче. В конце концов он перерос в рев, заглушающий бушующую за окном бурю. Данло вспомнил слова, брошенные ему небрежно, как снежок, Джонатаном Гуром два дня назад. Гур сказал, что Бардо собирается под Новый год устроить празднество в честь последнего путешествия Мэллори Рингесса, и это будет грандиозное событие для всех последователей пути. Для прочих (а также для диссидентов вроде братьев Гур) этот праздник представлял собой издевку над церемониями, отмечающими конец Праздника Сломанных Кукол. «Можно ли считать совпадением то, что твой отец покинул Невернес 99-го числа? – спросил Джонатан у Данло. – Раздача подарков, которую задумал Бардо, уж точно не совпадение: ведь наш праздник должен перещеголять все остальные».
Итак, в самый священный из дней Праздника Сломанных Кукол, когда Архитекторы Бесконечной Жизни подносят друг другу богатые дары, завернутые в разноцветную бумагу, рингисты тоже переймут этот древний обычай. Это послужит символом дара, который Мэллори Рингесс преподнес человечеству, указав всем путь к божественному состоянию, которого никто толком не понимал. Мысль о подарках вспыхнула в сознании Данло, как новая звезда, и его отчаяние как рукой сняло. Он вспомнил о моржовом клыке, который нашел на обратном Пути с Ависалии. Он с самого начала собирался вырезать из кости шахматную фигуру и подарить ее Хануману. В течение тридцати дней этот план оставался расплывчатым, а иногда и вовсе забывался, но сейчас Данло прямо-таки взвился с постели и засмеялся в приступе радостного ожидания. В уме у него возник образ, ясный, как дерево на фоне неба. Данло рассматривал его со всех сторон сразу, запечатлевая его в памяти.
Этот образ он воплотит в реальность. Из простого куска кости он вырежет бога. Это будет не просто шахматная фигура, призванная заменить Хануману недостающую, – Данло создаст скульптуру, воплощающую в себе всю боль и страсть богов. Хануман одарил его огнем, а он взамен подарит ему решение фундаментальной проблемы жизни, способ, дающий возможность погасить любое пламя. Хануман, приняв этот дар в свои руки, ощутит истинный вес любви, и его сердце, дрогнув, раскроется. Он вернет Тамаре память, и их былая дружба восстановиться – такова была последняя, отчаянная надежда Данло.
Осушив три чашки чая (ему очень хотелось пить), он принялся за работу. То, что теперь была середина ночи, не волновало его; он занимал одну из немногих отдельных комнат Ресы и дикого не боялся побеспокоить. Комнатушка была крошечная – в ней помещались только спальные шкуры, сушилка, чайный столик и сундучок, полученный Данло еще в послушниках. Последний стоял под окном. Данло откинул крышку на хорошо смазанных петлях. Внутри лежало все его имущество, весьма немногочисленное, учитывая то, что из послушников он уже перешел в кадеты. Под запасной паркой, одеждой, коньками и камелайками хранилось все, чем он дорожил: материнский алмазный шар; две книги, которые дал ему Бардо; фигурка снежной совы, сделанная им на пути в Невернес; наконечник его старого медвежьего копья. Там же иногда лежала и шакухачи. На самом дне, в мешочке из старой тюленьей кожи, Данло держал резчицкий инструмент, который был ему дороже всего на свете, не считая белого пера у него в волосах: это связывало его с детством, с родным племенем, с миром скал, деревьев и зверей. Данло развязал мешочек и с тщательностью ювелира, работающего с огневитами, разложил на спальнике скребки, резцы, долото и тесло. Он достал пилку, попробовав ее на большом пальце, и выложил чеканы. Чеканов у него было пять, и каждый был предметом его гордости. Два подарил ему Хайдар в одиннадцатый день рождения – приемный отец сделал их из редких, похожих на алмазы камней и снабдил рукоятками из китовой кости. Три других Данло смастерил сам из кремня и осколочника. Лезвия, все разной ширины, легко затачивались или заменялись при износе. Поступив в Ресу, Данло уже заменил два из них – не потому, что они пришли в негодность, а потому, что нашел материал получше кремня. Решив отращивать бороду, он взял свою бритву с алмазным лезвием (ту самую, которой брил Педара) и аккуратно разломал ее на кусочки, из которых два использовал для чеканов, а из третьего сделал очень острый круглый нож. Набор инструментов завершал молоточек, гладкий речной камень, хорошо укладывавшийся в ладонь. Почти всю работу Данло должен был совершить с его помощью, постукивая им по рукояткам чеканов. За этим этапом последует гравировка, а после изделие надо будет отполировать, для чего у Данло имелось кусочки песчаника и грубой кожи. Известно, что кость не станет живой, пока ее не отполируешь так же гладко, как новый белый лед.
Закончив приготовления, Данло помолился за дух моржовой кости и достал из сундука клык длиной с его руку, тяжелый и плотный, с густым запахом, напоминающим о море.
Старая кость долго мокла в соленой воде и приобрела теплый сливочный цвет с прожилками из янтаря и золота. Данло взял тесло и начал скалывать эмаль. Кремневое лезвие издавало пронзительный скрежет. Данло строгал длинными быстрыми взмахами, направляя их к себе и захватывая всю длину клыка, чтобы кость не раскололась. Он сидел, поджав ноги, и скоро его колени и мех покрылись длинными костяными стружками.
Очистив клык как следует, Данло вытер лоб, стряхнул стружки и пилкой разделил кость на пять кусков равной длины. Ему нужна была только одна фигурка, но он никогда еще не выполнял столь сложной задачи и вполне мог испортить пару заготовок, прежде чем изваять своего бога.
Он испортил целых четыре, прежде чем взяться за последнюю. Первые две дали трещину, как только он начал работать чеканом. Кость для резчика – самый приятный из всех материалов: ощущение жизни, которое она дает, с годами только усиливается; но старея, она затвердевает, и пороки, свойственные всему живому, часто дают о себе знать глубокими трещинами. Весь фокус мастерства резчика состоит в том, чтобы не затронуть эти изъяны и сделать так, чтобы естественная крепость кости служила им поддержкой. Возможно, было бы лучше, если бы Данло нашел новый клык, мягкий, белый и хорошо поддающийся обработке. В новой кости, если ее выдержать на воздухе около года, появляются цветные прожилки, дающие такой же блеск, как разлитое на льду тюленье молоко. Но эта нежная окраска Данло была как раз ни к чему.
Его фигура не должна была отличаться от остальных шахмат Ханумана – пилота, инопланетянина и цефика, – которые от старины потрескались и приобрели слабый золотистый оттенок. Бог Данло должен был подходить к ним не только цветом и пропорциями, но и стилем. Между тем ярконский стиль был труден для копирования – изобилующий деталями, но не вычурный, реалистический, но с трансцендентальным чувством, намекающим на идеал. Талантливая резчица, автор шахмат, наделила черного бога и обеих богинь разными сочетаниями безмятежности, сострадания, радости и силы.
Особенно поражала черная богиня, чье лицо выражало одновременно гнев и восторг и которая казалась всеведущей, как статуи Николоса Дару Эде, стоящие почти у всех кибернетических церквей. Данло не мог найти ни одного недостатка в этой превосходной работе, но в себе он искал нечто большее – образ, который, быть может, не сумел бы воплотить.
Испортив третью и четвертую заготовки, он совсем отчаялся.
Эти куски не раскололись – он решил эту проблему, придав им черновую форму не молотком и чеканом, а немилосердно визжащим напильником для точки коньков. Но, приступив к тонкой обработке, он оба раза поспешил и сделал глаза бога слишком глубокими. Он взялся за пятую заготовку, пообещав мысленно, что не будет спешить. Он представит себе форму и размер каждой частицы кости, прежде чем удалить ее, либо совсем не будет резать.
Так он начал ваять своего последнего бога, и этой работе не было конца. Мгновения текли за мгновениями и складывались в дни, но Данло не замечал хода времени. Иногда, если в глазах возникала резь и руки начинали дрожать, он укладывался на шкуры и дремал, прижимая к себе кость, как ребенок куклу. Где-то раз в сутки он выходил из комнаты, чтобы плотно поесть, и возвращался свежий и подкрепленный. Часами он сидел скрюченный и работал, зажимая босыми ногами своего бога. Одним из чеканов он снимал крупинки кости, пока спину не сводило и ноги не синели от холода. В худшие моменты его затея казалась ему безнадежной. Дерзость собственного замысла пугала его, а порой и забавляла, но неизменно вызывала в нем изумление, и он продолжал свой труд.
Он знал, что если сложившийся в нем образ верен и будет виден ясно, он сможет его осуществить. Дело было только за тем, чтобы освободить бога из его костяной тюрьмы. Он жил, этот бог, где-то внутри убывающей костяной чурочки. Там жили все боги, все богини и все люди, мужчины, женщины и дети, которым когда-либо предстояло появиться на свет. Данло видел их всех, одного внутри другого – так суровая:архитекторская матрона заключает в себе веселую новобрачную и все прочие молодые версии самой себя. Все мужчины, если смотреть на них правильно, очень походили друг на друга. Одного отличали курчавые волосы, куча забот и вера в то, что нет Бога во вселенной, кроме Эде; другой был наполовину птицей и обладал неземной красотой Элиди, но между ними существовала общность и тесная связь. И как же легко было превратить одного в другого! С какой жуткой легкостью задумчивый ребенок преображался в печального! Одним нажимом резца Данло превращал горе в довольство. Он отделял от кости стружку не больше обрезка ногтя, миллиарды триллионов атомов падали на пол, чуть заметно и необратимо меняя лик бога. Если бы он мог работать более тонким инструментом, удаляя каждый раз одинединственный атом, он наверняка воплотил бы все существующие в природе формы.
Он думал об этом, изумляясь тайне личности и сознания.
Свет в его комнате горел ночь за ночью, и в голову приходили странные мысли: что, если бы какой-нибудь великий бог способом, известным только богам, стал бы ваять его самого атом за атомом? Что, если бы богиня наподобие Тверди медленно меняла пигментацию его волос, длину костей, контуры зубов?
Остался бы он собой? А если нет, то почему? Да, но допустим, что она вложила в его мозг новые воспоминания и он помнил бы, что ел за ужином рис с шафраном и чесноком, хотя на самом деле ел курмаш – изменило бы это в нем чтонибудь? Данло был уверен, что нет. Да, но предположим, что она заменит все его воспоминания одно за другим – так минералы, пропитывая поваленное дерево, превращают его в окаменелость. Предположим, он в своих воспоминаниях ел бы молодое искусственное мясо и носил на голове контактерку.
Если бы богиня силой своего искусства провела его разум и плоть через почти бесконечный ряд форм, еще более волевых и самодостаточных, разве не преобразила бы она Данло Дикого в совершенно другую личность? В чем, если вдуматься, заключается разница между ним и таким, как Хануман ли Тош? В самых страшных своих кошмарах он боялся стать похожим на Ханумана; он давно подозревал, что бледный страдальческий облик Ханумана в какой-то мере служит его собственным отражением. Теперь, постукивая тонким алмазным чеканом по кости, он понимал, как это возможно. Ему открылось нечто совершенно чудесное из области сознания: если бы он становился Хануманом или кем-то другим постепенно, атом за атомом, он не почувствовал бы ни разницы, ни того, что в нем погибло нечто важное. Он проснулся бы однажды, погляделся в зеркало вселенной и стал бы не собой. Куда бы в таком случае девалось его настоящее «я» – то глубокое «я», которое не умирает? Продолжало бы оно по-прежнему жить в нем, какую бы устрашающую форму он ни принял? Внутри инопланетянина, краба, червяка, прокладывающего свои ходы в лишенной света толще снега? Внутри всех вещей? В чем она, истинная, неизменная суть кого бы то ни было? И если брать более узко, что такое душа и судьба божественного животного, которого иногда называют человеком?
У Данло не было окончательного ответа на эти вопросы – вернее, не было изящного афоризма, который он мог бы сформулировать как философскую истину. Он часто вел с Хануманом такие вот головоломные споры, которым не было конца.
Теперь он должен представить своему другу аргумент другого рода – не из слов, а из моржовой кости, убедительный для рук, глаз и сердца. И Данло продолжал ковырять кость своими острыми орудиями. Так он работал семь дней, а вьюга била в его окно, унося с собой незримые молекулы стекла. К восьмому дню бог был почти закончен. Благородная фигура поднималась из языков пламени – Данло вырезал пьедестал столь искусно, что трудно было сказать, лижет пламя ноги бога или вливается в них, превращаясь в плоть и питая бога мощью огненной стихии. Поза и выражение лица фигуры сводились к одному вопросу: что остается, когда человек становится богом? Ответ заключался в сведенных мускулах бога, от раскрытых рук до мучительно искривленной шеи. Этот ответ Хануман должен был понять каждой клеткой своего существа. Жизнь сознается через боль, а боги – самые сознательные существа, которых когда-либо знала вселенная.
Вся история свидетельствовала об этой обостренной сознательности. В самом начале, при рождении вселенной, все было сосредоточено в одной точке, бесконечно тяжелой и бесконечно горячей. Не было ни радости, ни боли, ни тьмы, ни света. А затем, за триллионную долю секунды, появилось все.
Фундаментальные частицы материи – струны, инфоны и другие ноумены – кристаллизовались из первичной космической энергии, как снежинки из облака. Очень быстро, за одно беспредельное, вечное мгновение, когда вселенная, взорвавшись, расширялась со скоростью света, плазма охладилась и образовала более крупные соединения – кварки, электроны, фотоны и нейтрино. Но должно было пройти полмиллиона лет, прежде чем появились первые стабильные атомы, и еще миллиарды, прежде чем эти атомы научились соединяться в молекулы жизни. И самое удивительное, что хаотически блуждающие атомы водорода впоследствии образовали существо, способное любить, смеяться и страдать, смеяться над собственными страданиями и страдать от любви к жизни.
Вся история состоит из охлаждения материи и распада первичного огненного единства, но есть в ней также и подъем осознания жизни. Теперь галактики неисчислимы, и в одной только галактике Млечного Пути пылает на фоне ночи пятьсот миллиардов звезд. А сколько теперь существует людей, никто в точности не знает. Каждый мужчина и каждая женщина – это холодный остров сознания, дрейфующий в космосе. Каждый из них мучается отчуждением от другой жизни, отчаянием, одиночеством и острым пониманием того, что его страдания прекратит только смерть. Это удел самосознания, удел человека. Волк или сова, поглощенные звуками заснеженного леса, могут наслаждаться тем, что они здоровы и жизнь их не тяжела, но человек, смотрящий в будущее с надеждой на радость, – никогда. Существует мнение, что боги выше человеческих страданий. Говорят, что боги, обладая умами огромными и совершенными, как компьютеры, не могут обезуметь от голода, ревности или от стыда при виде того, как дряхлеют и распадаются их тела. Данло, уверенный, что никогда не видел бога во плоти, понимал божественные проблемы, как никто другой. Боги могли умирать – находка Зондервалем мертвого бога у звезды по имени Слава Ханумана подтверждала это вне всяких сомнений, но даже эсхатологи не понимали, что это могло означать. А ведь боги, которым открыта вся вселенная, должны бояться смерти больше, чем когда-либо боялся человек. Для существа, способного прожить миллион лет, смерть – это величайшая трагедия, которой нчжпо избежать любой ценой. Для богов смерть – полное ничто, уничто жение бесконечных возможностей, лежащих перед ними. Весь смысл становления богом – это бессмертие, власть и расширение личности. Ни одно живое существо не обладает таким самосознанием, как бог, и никто лучше его не понимает, что такое одиночество. Многие, наверно, воображают, что боги, стремящиеся к жизни без пределов и без конца, стоят к Богу ближе всех других существ. Но все обстоит как раз наоборот.
Снежный червь и льдинка, хрустящая под сапогом хариджана, ближе к нему. Вся история – это бегство от смерти, и никто не бежит от нее быстрее богов. Они бегут к группе галактик Девы и Айондельскому скоплению, где звезды бьются, как прибой, у холодного, мерцающего края вселенной. Но ни один бог еще не избавился от страданий таким путем. И ни один, хотя многие пытались, не сумел полностью освободиться от тела и от власти материи. Ибо боги тоже сделаны из атомов, и каждый их атом некогда пережил величие и экстаз рождения вселенной, которые не забывает никогда. Все боги горят тоской по бесконечному, по моменту творения, где жизнь и смерть едины. Вот она, боль богов. Вот их вечная тоска и мука: горящее сознание жизни, которая растет и растет без конца и предела.
Данло был одним из первых людей, понявших это по-человечески. Своим чеканом он пытался внедрить это сознание в каждую часть тела своего бога, особенно в его глубоко несовершенное лицо. Но этого было мало. Хануман во многом понимал страдальческий аспект божественного разума лучше, чем он. И Данло продолжал работать над ликом бога, действуя круглым лезвием и бритвой с осторожностью канатоходца. Лицо – дверь души, говорят алалойские матери детям, желая обуздать в них наиболее эгоистические эмоции. Данло знал о душе кое-что, чего не знал Хануман. Да, боль будет всегда, и никто не избегнет огня ненависти, горя скорби и отчаяния. Но каждый при этом носит в себе память о небесном огне, чье сияние ярче всякого другого пламени. Об огне, чье прикосновение освежает душу и утоляет самую свирепую жажду. Жар и холод, огонь и лед, начало и конец – Данло обладал даром видеть единство противоположностей и воплощать его в своей резьбе. В гримасе прекрасных уст бога экстаз сочетался с мучением. Так выглядит мужчина в корчах сексуального оргазма и отец, который, подняв взор к небу, держит на руках холодное изломанное тело своего сына; довольство того, кто сотворил жизнь на миллионе планет, неразлучно с болью того, кто видел гибель миллиарда звезд. Данло работал, и глаза его бога зажигались смехом, безумием и полным пониманием того, что есть любовь, которая превыше всякой любви и ненависти, Данло потребовалось все его мастерство, чтобы выразить эти страсти. Он сам не верил, что его руки способны на это, и порой ему, обессиленному и одержимому, казалось, что это духи Древних направляют его. Мальчиком, сидя у горючих камней в ночи глубокой зимы, он много раз видел, как старейшины его племени режут фигурки из дерева или кости. Сейчас он подражал легкости их старых мозолистых пальцев, их уверенности и силе, но прежде всего их терпению. Он всего себя вкладывал в лик бога. Морщинки вокруг глаз он наносил самым острым своим резцом, между двумя ударами сердца, чтобы рука не дрогнула. Бесконечно медленно он выводил наружу главное свойство бога, которое про себя называл страшной красотой. Когда Хануман увидит бога, эта красота должна поразить его до глубины души. Он должен взять фигурку в руки и сказать: вот бог, непрерывно пьющий огонь из собственного неисчерпаемого источника для того, чтобы иметь силу питать другую жизнь. Вот тот, кто ратует за жизнь вопреки всем страданиям и злу, тот, чья страшная воля направлена ко всему плодородному, дикому и сильному, и его лицо – мое лицо.
Данло закончил наконец с резьбой и взялся за полировку.
Поначалу он не был уверен, насколько эта фигурка воплощает увиденный им образ, но по мере полирования собственная работа все больше удовлетворяла его. Внутренний образ был, конечно, реализован не идеально, но ни одно произведение искусства не может быть совершенным. Данло надеялся, что бог вышел «такой, как есть», или «ловалоса», как отзываются алалои о скульптурах, передающих истинный дух живого существа. Он очень устал, но продолжал работать с куском песчаника весь день, останавливаясь только, чтобы сдуть скопившуюся в складках костяную пыль. Гладкость полировки он оценивал одними глазами. Алалои считают ребячеством трогать скульптуру пальцами до окончательной ее отделки. Но вот он прошелся от основания до макушки лоскутом кожи и решил, что труд его завершен. Он поискал взглядом, куда бы поставить бога: весь пол был усыпан костяной стружкой и белой пылью.
Двигаясь, как скрюченный ревматизмом старик, Данло поставил фигурку на сундук под окном и лишь тогда потрогал ее.
Он прижал свои горячие, покрытые волдырями пальцы к кости, ставшей ледяной от гуляющих вокруг сквозняков, и подивился ее сливочной гладкости, ее светящейся красоте. Он коснулся глаз бога, длинного носа, напрягшихся мускулов горла, и улыбнулся перед тем, как повалиться на шкуры. Ему показалось, что бог вернул ему улыбку, а потом засмеялся и заплакал над ним, но тут он провалился в глубокий сон, который длился и длился без конца.
Глава XXVIII СЛОМАННЫЙ БОГ
Ты таков же, каково твое глубокое, движущее желание.
Каково твое желание, такова твоя воля.
Какова твоя воля, таково твое деяние.
Каково твое деяние, такова твоя судьба.
Упанишада БригадараньякиДанло так и не узнал никогда, сколько же он проспал – он потерял меру времени. Когда он проснулся, свет все еще горел, и на улице было темно. Буря притихла, и ветер только вздыхал временами, как больной ребенок. Даже не взглянув на градусник за окном, он понял, что стало теплее. Кое-кто подумал бы, что сарсаре конец, но он-то знал, что она просто набирается сил и ветер скоро сорвется с окрепшей яростью.
Время передышки, самообмана и залечивания старых ран. Он боялся выходить на улицу в такую погоду, но один из соседей по общежитию сказал ему, что сейчас ранний вечер 99-го дня глубокой зимы. В этот самый миг, когда он сидел в своей комнатушке, глядя на сделанного им бога, праздник Бардо, вероятно, уже начался. Часть его сознания приказывала ему надеть парку и поспешить к собору, но он медлил, словно жених перед свадьбой. Он запорошил пылью волосы и бороду и весь пропах потом и тюленьим жиром – поэтому он принялся мыться и сушиться. Он даже причесался, что было для него весьма необычным актом. Убедившись, что перо Агиры держится крепко и красиво между ухом и плечом, он надел чистую камелайку и парку, наточил коньки, натянул ботинки и долго расхаживал взад-вперед, хрустя осколками кости. Потом он завернул своего бога в лоскут белой нерпичьей кожи, которую его приемная мать когда-то долго жевала, придав ей чудесную клейкую мягкость. Сверточек он положил во внутренний карман парки. Он смаковал каждое свое действие так, словно смотрел драму, программируемую момент за моментом мастером-анималистом. Наконец, не сумев придумать, что бы еще такое сделать, он открыл дверь, прошел по коридору и вышел в метель.
Дорога к собору была недолгой, холодной и памятной. Настала последняя, самая священная ночь Праздника Сломанных Кукол. Четырнадцать ночей назад, когда он шел к Тамаре, улицы освещались десятками тысяч ледяных фонариков. Теперь их поубавилось, поскольку начался ежегодный ритуал их уничтожения. Группы Архитекторов ортодоксальных церквей в красных масках шатались по улицам, разбивая хоккейными клюшками или палками все попадающиеся им фонари. Данло старался избегать их, но ему то и дело встречались компании из трех, четырех или сорока человек. Весь Старый Город полнился криками и звоном разбиваемого льда. Огни гасли один за другим, делая конькобежное движение опасным. У каждого третьего здания Данло спотыкался о фонари, превратившиеся в груды битого льда. На некоторых улицах было черным-черно и разило спиртом – не спиртным вроде пива или виски, а чистым метанолом, которым Архитекторы-нелегалы поливают одежду покойников. В эту ночь Данло сторонился всякого насилия, но где-то в Городе гибли Архитекторы Бесконечной Жизни, обороняя свои фонари, а их противники обливали спиртом их тела и поджигали, освещая ночь языками голубого огня.
Для Архитектора любой из многочисленных эдических сект нет судьбы страшнее, ибо мозг, превращаясь в красное желе, уже не может быть сохранен в вечном компьютере. Архитекторы страшатся этой бесповоротной смерти, и все же каждый год, в первое новогоднее утро, на заброшенных ледянках находят шесть или семь обугленных трупов. Данло посчастливилось ни разу не наткнуться на эти религиозные разборки, но порой на перекрестках он чуял вонь горелой плоти. Он не мог понять, с какой стороны идет этот запах, потому что порывистый ветер дул то с востока, то с юга, то с севера. Его налеты каждый раз заставали Данло врасплох, словно ножи хулиганов. Вот такой же переменчивый ветер обморозил Тамаре лицо и едва не убил ее. Ветер преследовал Данло по извилистым улицам, становясь все крепче с каждым шагом и поворотом.
Добравшись до ступеней собора, Данло промерз до костей, и один глаз не хотел открываться. Он подумал вдруг, что его замысел спасти Тамару (и Ханумана) совершенно безнадежен.
Может быть, он повернул бы обратно к общежитию, если бы не ветер. Ветер, точно стена льда и памяти, надвинулся на него и погнал вверх через три ступеньки, к большим западным дверям собора.
Наверху его остановили двое божков, красивые юноши, преисполненные важности в своих золотых одеждах. Они выставили ладони навстречу Данло и потребовали у него приглашение. Данло признался, что не имеет такового, и назвал свое имя. Можно было подумать, что он произнес волшебное слово. Один из божков, пониже ростом, впился глазами в его исхлестанное ветром лицо.
– Вы оказываете нам честь, пилот. Бардо очень надеялся, что вы вернетесь. Жаль, что вы пропустили праздник, но Бардо все еще там, и многие из ваших друзей тоже. Позвольте вашу шубу.
Данло достал из кармана бога и скинул парку. Неф собора сиял тысячами свечей. Толпящиеся в нем люди, около двухсот человек в золотых одеяниях, казались маленькими и незначительными под огромными витражами. Бардо завершил наконец свой проект по замене старых стекол новыми, и даже скульптуры вдоль стен заменил изображениями Бардо, Леопольда Соли и дамы Мойры Рингесс, а также Балюсилюсталу и других агатангиток, которых многие считали почти столь же божественными, как сам Мэллори Рингесс. Данло эти выполненные роботами изваяния показались посредственными, но он был единственным в соборе, кто обращал на них внимание.
Все остальные сгрудились вокруг алтаря группками по пятьдесять человек. Бумага валялась повсюду – десять тысяч клочков золотой фольги усеивали каменный пол, шурша под ботинками Данло. Он пропустил не только праздничную церемонию, но и раздачу подарков. Пока он прихорашивался, рингисты, собравшиеся здесь со всего Города, развернули свои пакеты и разошлись. Теперь в соборе осталась только элита.
Данло шел по проходу и видел хорошо знакомые лица: Томаса Рана, братьев Гур, Сурью Сурату Нал, Колению Мор, Нирвелли, Мариам Эрендиру Васкес. Присутствовали также Шерборн с Темной Луны, Лаис Мотега Мохаммад, Делорес Лайтсон и другие. Некоторых он не знал, например трийского торгового магната и инопланетную куртизанку, стоящую рядом с Бардо.
Народу, по правде говоря, было слишком уж мало. Он надеялся вручить Хануману своего бога сразу после церемонии, в суматохе обмена подарками. Надеялся перехватить Ханумана где-нибудь за колонной, поговорить с ним наедине и посмотреть на его лицо, когда он развернет нерпичью кожу. Теперь Хануман стоял в кругу своих поклонников, и к нему нельзя было подойти незамеченным.
И Данло продолжал шагать по проходу, единственный человек здесь, одетый в черное. Он перешагивал через кучи шуршащей фольги. Именно шорох золотой бумаги заставил Мариам Эрендиру Васкес посмотреть в его сторону. За ее взглядом последовало еще десять, потом сто, и наконец все присутствующие обернулись к Данло. При этом они как-то сразу примолкли, как будто только что говорили о нем – но это вряд ли могло быть так, потому что их увлажненные глаза были полны восторга после контакта с Ханумановой Старшей Эддой. В руках они держали украшения, коробочки с семенами трийи, вышитые платки и другие ценные вещицы. На руках у всех блестели золотые кольца, которые Бардо раздал им еще раньше. Бардо, богато одаривший каждого рингиста, упивался своей щедростью и величием момента. (Его довольство усугублялось остаточными эффектами электронного самадхи.) Возвышаясь над всеми в своей золотой, усеянной черными алмазами ризе, он взмахнул рукой, засмеялся и крикнул:
– Данло ви Соли Рингесс! Ты вернулся к нам!
Данло вошел в толпу у алтаря. Он чувствовал себя камнем, брошенным в море – так все расступались перед ним, смыкаясь позади золотыми волнами.
– Какая ночь, Бог мой! – взревел Бардо, и это «Бог мой» покатилось от окна к окну, наполнив весь собор; уж не для того ли Бардо выбрал это здание, подумалось Данло, чтобы наслаждаться раскатами собственного зычного голоса. – Жаль только, что ты опоздал. Это был великолепный праздник – торжество истинного воспоминания.
Последние рингисты расступились перед Данло, и Бардо раскрыл ему объятия. Но Данло, сохраняя дистанцию, ответил учтивым поклоном. Он смотрел мимо Бардо, на застланные красным ковром ступени алтаря, где стоял Хануман в золотой парче и алмазной шапочке, обтягивающей его бритую голову, как вторая кожа. Он, в свою очередь, поклонился Данло. Его голова благодаря добавочной высоте двух ступеней приходилась чуть выше головы Бардо.
– Здравствуй, Данло, – сказал он.
Нейросхемы внутри его шапочки светились, как миллионы червяков, окружая его голову пурпурным ореолом. Лицо тоже светилось – но не от электронного самадхи или какой-нибудь другой разновидности кибернетического блаженства. Он смотрел на Данло, полностью сосредоточившись, и в его окрашенных пурпуром глазах читалось страшное понимание. Он сразу понял, что Данло стало известно о насилии, учиненном им над памятью Тамары. Он смотрел на Данло и знал об этом, и знал, что Данло читает это знание в его глазах.
– Здравствуй, Хануман. – Данло поклонился, не глядя ему в глаза. В центре его зрачков он увидел страх, сила которого превращала зрачки в черные космические дыры. Между ними больше не было секретов – осталась лишь правда того, что совершил Хануман. Потом взгляд Ханумана замкнулся, ушел в себя, и Данло стала видна только ненависть – но он не знал, к кому она обращена.
Хану, Хану, я не должен тебя ненавидеть, подумал он.
– Я сожалею о том, что случилось с Тамарой, – тепло и с сочувствием произнес Хануман. Многие придвинулись ближе, чтобы лучше слышать его. – Мы все разделяем твое горе.
Какой-то механик улыбнулся Данло, избегая, однако, смотреть ему в глаза. Так же обстояло дело и с остальными. Охотно выражая ему свое сочувствие, они тем не менее относились подозрительно к столь странному виду несчастья и смотрели на него, как на зараженного тайной болезнью. Оживив в памяти свой последний разговор с Тамарой, Данло сказал Хануману:
– Ты говоришь так, как будто она… умерла.
– Совсем напротив, – ответил Хануман. – Часть ее души, глубокая и таинственная, сохранилась. Сегодня мы все стали свидетелями этого чуда.
У Данло перехватило дыхание.
– Какого чуда?
– Ах, Паренек. – Бардо подступил поближе, своим брюхом оттесняя Данло вверх, на первую ступень алтаря. – Надо было сказать тебе раньше. Хануман успел записать кое-какие воспоминания Тамары еще до ее болезни. Ее воспоминание об Эдде отличается красотой и страстностью – сегодня мы имели возможность в этом убедиться. Счастье твое, что ты знал такую женщину.
Данло не хотелось сейчас смотреть на Бардо. Он потер лоб и сказал Хануману:
– Значит, она приходила к тебе… и ты записал ее память?
– Да. – Хануман улыбался, и лицо его было как закрытая дверь. – У нее была прекрасная душа, и она всегда была рада поделиться с другими лучшим в себе.
Он боится, подумал Данло. Он боится чего-то, но не того, что я обвиню его здесь, при всех.
– Я знаю, как ты любил ее, – тихо продолжал Хануман. – Потерять ее для тебя, должно быть, то же самое, что потерять целый мир. Потерять собственную жизнь.
– Да. – Данло прижал пальцы к глазу – тому, который всегда предвещал головную боль.
– Если бы ты присутствовал на церемонии, это ранило бы тебя, я знаю, но помогло бы услышать в себе голос Тамары, увидеть Эдду ее глазами. Знай, что эта часть Тамариной души теперь никогда не умрет. – Хануман улыбнулся людям внизу, и его голос излился на них, как мед: – Что такое Путь Рингесса, как не средство исцелить раны человечества? Рана, которая никогда не заживает.
Данло заглянул Хануману в глаза, ища эту рану, но увидел только отражение собственного страдальческого лица. Он мысленно пообещал себе, что будет сдерживаться. Не даст излиться гневу и обиде вопреки всем издевкам и извращенному сочувствию Ханумана. Он потер свое саднящее горло и сказал:
– В Тамаре теперь многого недостает.
– Чего недостает, Данло?
Данло, сжимая в кулаке бога, посмотрел вокруг. Здесь было слишком много людей, и стояли они слишком близко. Он слишком остро чувствовал их приглушенные голоса, их любопытные взгляды, их пот и пахнущее мясом дыхание. Он приблизился к Хануману, чтобы разговор получился более интимным, но Нирвелли, Бардо и еще пять человек последовали за ним.
– Части… ее характера, – выговорил Данло. Собственные слова казались ему пошлыми, и он едва мог говорить. – Ее эмоций, ее идеалов… того, как она видела себя.
– Не та ли это часть, которую ты когда-то называл «лицом»?
– Да. Она самая.
– Но разве не этим иллюзорным чувством собственной личности ты всегда пренебрегал? – Хануман говорил на публику, намеренно пронзая при этом сердце Данло. – Разве это не то «я», которое умирает вместе с телом, в то время как более глубокое «я» остается жить?
– Да. Я никогда не понимал, что означает лицо на самом деле.
– Но теперь понимаешь?
Данло, несмотря на толчею вокруг, показалось, что они с Хануманом одни в соборе.
– Смерть есть смерть, и ее незачем бояться, – сказал он. – Но пока жизнь продолжается, драгоценность лица нельзя выразить никакими словами.
Сурья Дал со своими красными глазками и крошечным ротиком стояла на одну ступеньку ниже Ханумана. С обожанием улыбнувшись ему, она сказала:
– Когда-нибудь мы будем защищены от всех возможных несчастий. Дело богов – защищать и хранить.
– Хранить… как информацию в компьютере? – спросил Данло.
Хануман, кивнув Сурье и Бардо, сказал:
– Данло всегда сомневался, что память можно сохранять таким образом.
– Я сомневался во многом, – признал Данло.
– Он сомневается, – сказал Хануман Нирвелли и другим, стоящим внизу. – Даже он, Данло ви Соли Рингесс, великий воспоминатель, испытывает сомнения. Он хотел бы верить – но вот вопрос: что возможно сохранить, а что нет? Да, Хану – что есть истина?
– Сохранить можно все, – сказала Нирвелли. Эта черная красавица с чудесным голосом пользовалась любовью других рингистов и могла, очевидно, говорить от лица всех присутствующих, исключая Данло. – Путь рингиста в том, чтобы хранить.
Бардо, занеся ногу на ступеньку и указывая перстом ввысь, заявил:
– Когда-нибудь Рингесс вернется в Невернес. Если бы это свершилось завтра, он вернул бы Тамаре память. Он ведь бог, ей-богу! Он заглянул бы в ее несчастный мозг, поправил пару нейронов, и она бы мигом вспомнила себя.
– Таков Путь Рингесса, – сказала Сурья.
Бардо взмахнул рукой, как бы рассеивая сомнения, которые он сам мог питать относительно проповедуемых им догм.
– Путь Рингесса в том, чтобы избавлять людей от страданий. Путь Рингесса в том, чтобы сделаться богом, не имеющим изъянов и не знающим границ. Кто из нас не узрел этого сегодня в Эдде? Когда мы все достигнем божественного состояния, страдания больше не будет – мы всю разнесчастную вселенную избавим от боли и зла.
Данло посмотрел вокруг, желая проверить, кто согласен с Бардо, а кто нет. Томас Ран, холодный, отстраненный и непроницаемый, как всегда, стоял в своей всегдашней серой форме, и даже цефик недогадался бы, о чем он думает. Что до братьев Гур с бесовски лукавыми лицами и горящими от каллы глазами, то ни они, ни вечно жаждущие члены их сообщества явно не принимали речи Бардо всерьез. Они стояли отдельной кучкой в стороне от алтаря, и многие из них с трудом удерживались от смеха. Зато Мариам Эрендира Васкес, Рафаэль Мендели и все остальные, очевидно, ждали, что Бардо, Хануман или даже Данло скажут еще что-нибудь; они стягивались к алтарю, как косяк пака к яркому камню или раковине на дне моря.
– Нет, – внезапно сказал Данло.
– Что нет? – спросил Бардо, стоящий чуть ниже его, сопя и теребя свою бороду.
– Что молодой пилот хотел сказать? – подхватила Сурья.
Хануман между тем взошел наверх и встал у алтаря. Вокруг него в голубых вазах пылали тысячи огнецветов.
– Я думаю, что Данло смотрит на божественное состояние не так, как мы, – произнес он. – Мы все должны помнить, кто его отец.
А помню ли я, кто мой отец?
Данло задумался об этом, стоя на верхней ступеньке и глядя на всех этих людей внизу. Они смущенно переглядывались и перебрасывались нервными словами. Они явно чувствовали себя неуверенно, как будто видели в Данло воплощение его отца или по меньшей мере вестника, которого тот послал им.
Хануман смотрел на них властным взглядом чародея. Данло почему-то подумалось, что в этот момент решается все будущее рингизма. И поэтому он сказал, выбирая слова с бесконечной осторожностью:
– Это так. Боги больны страданием. Оно сводит их с ума. Вы не можете представить себе их боль.
Хануман слегка повел большим пальцем, что на цефическом языке знаков говорило: «А ты можешь?»
Сурья, должно быть, заметила этот жест и сказала, опустив углы губ:
– Может быть, молодой пилот скажет нам, что значит быть богом?
Данло, в свою очередь, тоже сделал целый ряд знаков так, чтобы их не мог видеть никто, кроме Ханумана. Вслух он сказал:
– Для бога самая страшная человеческая мука – не более чем одна-единственная снежинка, кольнувшая веко, капля воды в бесконечном океане.
Хануман кивнул, как будто только и ждал этого момента, и подошел к столу, где сверкала, как зеркало, золотая урна.
Обведя взглядом своих единоверцев, он улыбнулся им с видом цефика, собирающегося поделиться каким-то своим секретом. Затем быстрым движением засучил рукав и опустил руку в урну. Когда он вынул ее обратно, с нее капала вода.
Хануман поднес палец ко рту и уронил одну-единственную каплю себе на язык. Люди у алтаря заволновались – они, видимо, забыли, что в урне не калла, а всего лишь морская вода. Хануман, взяв урну обеими руками, запрокинул голову и сделал большой глоток. Бардо незамедлительно пришел в ярость, усмотрев в этом еще один из блестящих символических жестов Ханумана, если не прямое святотатство. Но не успел он вскарабкаться по ступеням, чтобы сделать Хануману выговор, урна вернулась на стол, а Хануман, указывая пальцем на Данло, изрек своим серебряным голосом:
– Зачем ты пришел сюда? Ты хочешь помешать нашей судьбе осуществиться только потому, что она сопряжена с болью?
– Нет. – Данло слышал, как воет ветер вокруг шпилей собора. Одно из окон, плохо пригнанное к металлическому переплету, дребезжало при каждом порыве. – Я пришел, чтобы подарить тебе одну вещь.
И Данло поднялся на алтарь к Хануману. Бога он все это время держал в левом кулаке. Если Сурья и заметила, что в руке у него что-то есть, то подумала, наверно, что это носовой платок или замша для протирки коньков. Даже Хануман, от которого мало что ускользало в поведении или одежде людей, явно недоумевал. Ботинки Данло зарылись в мягкий красный ковер. Он оставлял за собой глубокие отпечатки и комочки мокрого снега. По обе стороны от Ханумана горели алые и ярко-розовые огнецветы, источая тяжелый сладкий аромат.
Данло протянул Хануману бога на раскрытой ладони, спрашивая себя, как же тот теперь поступит.
– Он принес ему подарок! – воскликнул кто-то.
Хануман, медленно и осторожно приблизившись, взглянул Данло в глаза и перевел взгляд на пакетик из нерпичьей кожи.
Затем он схватил сверток, как белка орех бальдо, и отошел обратно к столу.
– Что это? – осведомился Бардо, который, стоя у края алтаря, с ахами и вздохами теребил свои усы.
– Данло принес мне подарок, – объяснил Хануман. На мгновение он лишился своего самообладания – казалось, что жест Данло его ошарашил, но через это просвечивал тайный восторг. Он смотрел на Данло с грустью, все так же держа пакетик в руке.
– Разверни же его, – сказал Бардо.
– Но я уже раздал все свои подарки. У меня ничего не осталось для Данло.
– Ты уже подарил мне самое драгоценное, что есть на свете. – Данло говорил без всякой иронии, но сознавал, что в его голосе слышатся гнев и боль. – Свою дружбу. Свою любовь. Свое… сострадание. И рану, которая никогда не заживет.
Их глаза встретились, и между ними заструилось глубокое понимание, как будто оба их мозга соединились посредством зрительных нервов. В этот миг Хануман ничего не сумел бы скрыть от Данло, и Данло от него тоже – в особенности то, что ему хорошо известен мотив Хануманова преступления.
Я знаю почему, думал он. Я знаю, что ты знаешь, что я знаю, что…
Хануман стоял, явно не решаясь развернуть подарок. Затем, под взглядами двухсот рингистов, он осторожно распеленал кожаную обертку, явив бога во всем его совершенстве.
Вот чего ты боялся: что я знаю, почему.
– Что это? – спросил кто-то.
– Похоже на шахматного бога, – сказал Бардо.
– Покажи его нам!
Хануман отшвырнул кожаный лоскуток и, держа бога за основание, поднял его над головой.
– Это чтобы заменить твоего недостающего бога, – пояснил Данло.
Бардо поднялся на алтарь, чтобы лучше видеть – красивые вещицы ручной работы всегда интересовали его.
– Где ты его купил? Это ведь ярконская работа? Просто чудо – ему, наверно, цены нет!
Многие зрители тоже выражали свое восхищение, но другие молча созерцали прекрасный лик бога.
– Я сам его сделал, – сказал Данло. – Нашел моржовый клык и вырезал его. Деваки научили меня резать по кости.
Хануман тоже смотрел на бога, не в силах отвести от него глаз. Он вертел фигурку так и сяк в мерцании свечей, горящих в золотых подсвечниках. Огоньки, обводя плавные костяные линии, играли на страшном лице бога.
– О Данло, – сказал Хануман.
Он смотрел на бога, а Данло – на него. Понимал ли Хануман, что этот дар – не только предложение мира, но и синтез двух взглядов на вселенную? Он должен был понимать. Должен был видеть, что между стремлением гореть и стремление вспомнить существует связь. Страшный огонь жизни и чистые воды Старшей Эдды в конечном счете созданы из той же субстанции, и Хануману придется смириться с этим конечным парадоксом существования.
– Никогда еще не видел ничего подобного. – Костяшки у Ханумана побелели – так крепко он держал бога. Ему следовало бы поклониться Данло, но вид бога что-то глубоко затронул в нем, и его лицо приобрело столь ненавидящее и яростное выражение, как будто Данло положил ему в ладонь горячий уголь.
– Я надеялся, что он подойдет к другим твоим фигурам.
– Можем ли мы рассматривать это как добрый знак твоего возвращения на Путь?
Данло сглотнул, преодолевая сухость в горле:
– Сожалею, но нет. Это просто подарок.
– Что ж, прекрасная вещь.
– Я надеялся на то… что он тебе понравится.
– Он не просто прекрасен – это плод вдохновения.
Данло увидел в глазах Ханумана былое безумие, и мускулы его живота напряглись, словно в ожидании удара.
– Этот бог чем-то похож на твоего отца, – сказал Хануман.
– На отца?
– На Мэллори Рингесса, чье вдохновение всех нас ведет за собой.
Данло с десятифутового расстояния посмотрел на бога новыми глазами. На его длинный нос, глубокие глазницы, на чувственный рот, выражающий одновременно жестокость и сострадание. Внезапно и он увидел то, что видел Хануман.
Шахматный бог походил на Мэллори Рингесса в молодости, еще до того, как тот переделал себя под алалоя. Данло, не сознавая, что он делает, почти случайно изваял подобие свовт го отца.
– Я не знал этого, – сказал он, глядя на свои красные, покрытые волдырями пальцы. Не странно ли, что все то время, когда он работал над богом, его руки знали то, чего не понимал разум?
– Да, тебя посетило вдохновение, – произнес Хануман, – но это вдохновение ложное.
– Но Хану…
– В бытность свою человеком Мэллори Рингесс отличался страстным характером. Уж если он любил, то любил. Если он плакал, его слезы сожгли бы глаза человеку более мелкого калибра. Мы все это знаем. Но Рингесс-бог выше подобных эмоций. Свои страдания он оставил позади. Понимаешь, Данло? Ты даришь нам человека, а не бога.
– Нет-нет, Хану, ты не…
– Значит, не понимаешь. И никогда не понимал.
Они оба почти кричали, перекрывая ветер, который обрушился на собор, как океан. Ветер ревел и тряс окна – казалось, что цветные стекла вот-вот посыплются вниз. Но Данло лишь смутно осознавал возможность этой катастрофы – все его чувство сосредоточилось на Ханумане. Видя, что буря все равно заглушает его голос, он перестал кричать и иерешел на шепот. Хануман никак не мог расслышать его, но, должно быть, прочел по губам, что он говорит:
– Если боги действительно обладают такой властью, сделай Тамару прежней.
– Разве я бог, Данло? – отозвался Хануман, тоже шепотом, чтобы никто, кроме Данло, не слышал его.
– Но она страдает – она пытается вспомнить себя и не может.
– Я знаю.
– Помоги мне. Пожалуйста.
Щеки Ханумана внезапно вспыхнули, как будто Данло ударил его по лицу.
– Тридцать дней назад я просил о помощи тебя, но ты не помог мне.
– Я… не мог.
– А я не могу помочь тебе.
– Ты мог бы достать копию Тамариной памяти из своего компьютера. Мы впечатали бы ее, и Тамара вспомнила бы.
– Нет. Это невозможно.
– Но почему, Хану?
– Потому что ее память уничтожена. Я не собирался сохранять ее – ты знаешь, почему.
Хануман потряс богом, направленным на Данло, словно обвиняя его в преступлении еще более тяжком, чем кража памяти. Данло понял, что надеялся тщетно – он просто еще раз отгородился от вселенной мечтами, вместо того чтобы ухватить реальность текущего момента. Теперь остался только ветер, сотрясающий хрупкие окна, и потоки холодного воздуха. Осталась ненависть. Он смотрел на Ханумана, а Хануман на него, и что-то темное и первобытное струилось между ними, туда и обратно.
Я не должен его ненавидеть, думал Данло. Не должен.
Тем не менее он ненавидел. Это неудержимо нарастало в нем, захлестывая мозг при каждом ударе сердца. Он думал, что огородил свою ненависть стеной, но стена рушилась, и ненависть хлестала наружу, словно зараженная кровь из раны.
Данло затряс головой, вонзив ногти в ладони. Бардо, стоящий рядом, гаркнул:
– Что ты говоришь? Что тут происходит, во имя Бога?
Сбоку взметнулся золотой шелк, но Данло смотрел прямо перед собой. Он сознавал, что Бардо надвигается на него, но не мог оторвать глаз от глаз Ханумана.
– Что ты такое сделал? – прошептал Хануман. Он держал бога перед собой обеими руками, как будто собирался переломить его пополам.
– Нет! – крикнул Данло, но голос его потерялся в пустоте собора. Ему показалось, что и сам он падает в пустоту, черную и бездонную, как подземная пещера. Он не слышал ничего, кроме убийственного ветра, который выл вокруг и свистел в трещинах. Люди ежились, обхватывая себя руками, но Данло пылал, как охваченный горячечным жаром ребенок. Горели руки, живот, голова, и глаза жгло от вида блестящего кусочка моржовой кости в маленьких руках Ханумана.
Нет, нет, нет.
Казалось, что Хануман собирается с силами, чтобы сломать бога. Его руки сжались в кулаки. В глазах стояли слезы, любовь и безумие, как будто ему невыносимо было смотреть на Данло – но ни один из них не мог отвести глаз. Всю жизнь он старался создать вокруг себя оболочку железной воли и почти преуспел в этом. Теперь между ним и вселенной осталась только одна связь.
– Что ты делаешь? – где-то за миллион миль прокричал Бардо.
Хану, Хану, нет.
Между ними струился непрерывный поток ненависти и любви, и вот этой любви, превыше которой нет ничего, Хануман не мог вынести. Его глаза на миг вожглись в другие глаза, и он увидел вселенную такой, какой Данло видел ее, и отдал себе приказ сломать бога. Его воля была очень сильна. Будь у него под рукой очистительный шлем, он стер бы из собственного мозга всю память о Данло, но шлема не было – была только шахматная фигура, шесть дюймов моржовой кости, которую он сжимал в своих дрожащих кулаках.
– Неужели сломает? – ахнул кто-то.
Данло смотрел, как Хануман борется с твердой старой костью. Бардо и другие рингисты, вероятно, не верили, что ее можно сломать, но Хануман укрепил свои руки многолетними упражнениями в боевых искусствах, а внутри фигурки имелся изъян. Данло во время работы постарался спрятать эту длинную извилистую трещину, но знал, что она существует.
– Смотри!
Хруст, потом щелчок – и Хануман переломил бога надвое.
Зубчатый излом прошел по его животу, и в Данло тоже что-то сломалось. Видя, как разлетаются во все стороны крошечные белые осколки, он шагнул к Хануману, чтобы убить его. Рев, стоящий в его ушах, заглушал ветер. Что-то звало его взять Ханумана за горло и давить, пока тот не умрет. Память о Тамаре нашептывала ему страшные вещи. Потом он услышал голос своего отца и отца его отца – всех своих предков, мужчин и женщин, вплоть до первой бактерии, которая вела свои неведомые отчаянные битвы в океанах Старой Земли, миллиарды голосов внутри него кричали, выли и смеялись, пронизывая ткани его сердца и мозга. И все эти голоса, сливаясь, складывались в память о жизни и любви к смерти. Каждая клетка в его теле горела волей к разрушению и смерти. Он чувствовал, как эта страшная воля расплавленной лавой вливается в его руки, как она вспыхивает молнией позади его глаз. На какой-то миг он почти ослеп. Поле зрения сузилось так, что он мог видеть только Ханумана, скрежещущего зубами от только что совершенного усилия и глядящего на него с отчаянием. Он видел обломки бога в его руках. Лицо Ханумана светилось изумлением, ненавистью, торжеством и стыдом. Тогда Данло стал слышать другие голоса: крик своего маленького сына, и тихий плач дочки, и плач миллиардов прапраправнучек, целую вечность дожидающихся своего рождения. Эта память тоже заключалась в нем – память о будущем, которое мог создать только он. Он видел, как его руки смыкаются вокруг горла Ханумана, останавливая приток воздуха и крови. Видел, как Хануман бьется в его руках, словно рыба, расставаясь с жизнью. И мертвого Ханумана, распростертого на алтаре со сломанной шеей или с головой, размозженной золотой окровавленной урной, которую он, Данло, держал в руках.
Данло заносил ногу, чтобы шагнуть к Хануману, и тот тысячу раз умирал в его широко раскрытых глазах, глядя на него с любовью и страхом. Невозможно было избежать этих смертей и смерти вообще, ибо она была вокруг него, застывшая во времени. Все вещи, даже трепещущие и разбухающие от жизни, на самом деле были мертвы. Мертвы были алалойские племена – Данло видел скрюченные тела, лежащие в снежных хижинах, или истекающие кровью в ярко освещенных пещерах, или разбросанные тысячами в мировых льдах. По направлению к Экстру, где звезды пылали, больные собственным светом, ежесекундно умирал миллион человек. Скоро все звезды догорят и умрут, и каждый человек в галактике будет сожжен, изломан и мертв. Ничто не спасет их – ни лекарства, ни медитации, ни вера в спасительную технику богов. Так устроена вселенная. Такой она будет всегда. Сейчас перед ним стоит частица вселенной по имени Хануман ли Тош, глядя на него с яростью и ненавистью. Хануман сделал движение руками, и костяная фигурка навечно разломилась пополам. За это Данло сейчас убьет его. В животной ярости он разорвет Хануману горло или вышибет ему мозги. Из чистой ненависти и воли к уничтожению он ускорит неизбежную смерть Ханумана, и это будет правильно. Ветер призывал его убить Ханумана, и звезды тоже, и каждый живой атом во вселенной.
НЕТ!
Данло, сделав шаг через алтарь, осознал себя как носителя смерти. Как можно было ненавидеть так полно и глубоко и в то же время так ясно видеть себя ненавидящим?
Я – это не я. Я – это тот, кто видит меня, кто видит то, что он видит.
При этой мысли поле его зрения расширилось, как у птицы, прорвавшейся сквозь пелену облаков. Он увидел Ханумана, изо всех сил пытающегося сломать бога; и Ханумана, любующегося дикостью Данло, глядя на него с чувством любви к своей судьбе; и Ханумана, настраивающего себя на убийство Данло в тот момент, когда бог переломится и Данло бросится на него. Он увидел много вещей сразу: Бардо, устремившегося к нему, и брюхо Бардо, колышущееся, как море.
От одного из цветков в вазе около Ханумана отделился лепесток и падал, алый, трепеща в воздухе. Повсюду был свет: фотоны многотысячных свечей стукались о каменные колонны, отскакивали в темные углы и взлетали золотыми потоками к окнам собора. Окон в нефе было восемьдесят два, но одно особенно притягивало к себе. На нем изображалось прощание Мэллори Рингесса с Бардо перед уходом из Города и вознесением на небеса. Его рука касалась лба Бардо и его залитых слезами щек, а глаза из серовато-голубого стекла изливали на Бардо тихий благословящий свет.
Тело Рингесса было составлено из стекол разного цвета; при каждом порыве ветра эти стекла терлись друг о друга, и окно прогибалось внутрь.
Нет!
Бог в руках Ханумана сломался, и в этот самый миг ветер вышиб переплет окна. В первый момент никто не осознал этого, кроме Данло. Только он увидел, как сыплется на алтарь фиолетово-сине-золотой дождь. Многие осколки, все еще скрепленные вместе, падали целыми сверкающими листами. Тяжелый стальной переплет, еще заключающий в себе фрагменты прощания Рингесса с Бардо, летел, словно гигантский молот, прямо на алтарь. Ветру понадобился только миг, чтобы выбить окно. Понадобится десятая доля секунды, чтобы звон разбитого стекла и свист ворвавшегося внутрь ветра дошли до слуха людей внизу, и еще больше, чтобы их нервы сработали и они посмотрели вверх.
– Нет! – закричал Данло.
Он сделал шаг к Хануману. Он видел, как вылетело окно, но между картиной и звуком прошла целая вечность. Он видел самого себя на алтаре, одержимого ненавистью, как хищная птица. При этом зрение, которым он видел себя со стороны, помещалось уже не в его глазах и не в его животе, а в настенном орнаменте или между ребер свода, или кружило в холодном пространстве нефа. Десять тысяч стеклянных осколков падали, выписывая красивые, сапфировые и розовые параболы. Стальной переплет летел на алтарь по идеальной параболе.
Данло без всякой математики видел, что тяжелый стальной прямоугольник пересекает пространство, занятое головой Ханумана. Через двадцать семь сотых секунды он вышибет Хануману мозги, и тот умрет.
Хану, Хану, ты должен умереть.
Еще доля секунды – и звук смерти наполнил собор, а двести пар глаз устремились на падающее стекло. Только Хануман, единственный из всех, не смотрел вверх. Он держал в руках сломанного бога, не отрывая глаз от Данло.
Данло, Данло.
Правда вселенной гласила, что Хануман должен умереть.
Данло знал, что его собственная воля к ненависти – тоже правда, как правда (или будет когда-нибудь правдой) и то, что галактики за Гончими Псами и многие другие должны умереть. Все эти правды он видел впервые и знал, что очень близок к тому «да», которое так долго было его целью. Но неожиданно перед ним сверкнула другая истина, которую он не, хотел признавать. Она была написана на лице Ханумана, в его отмеченных смертью глазах, в том, как Хануман, не отрываясь, смотрел на него.
Это я создал его, подумал Данло.
Каждым своим словом, поступком, идеалом и символом веры он создавал в Ханумане желание стать выше. Своей любовью, своей дикостью, даже звуками своей флейты, которые Хануман никогда не мог выносить, он гнал его к темной внутренней двери, которая открывается во вселенную. Данло сам распахнул эту дверь, словно ребенок, которому самая свирепая буря нипочем. И Хануман, боясь замерзнуть насмерть, вынужден был захлопнуть ее. Данло видел, как Хануман ждет у этой закрытой двери – ждет, чтобы он, Данло, пришел и открыл ее еще раз. Так можно ли убивать этого человека со сломанной душой, которого Данло создал сам, вложив в это столько любви и боли?
– Нет, нельзя, – прошептал он. – Нет.
При этом слове вселенная совершила оборот. Ненависть внезапно покинула Данло – или, может быть, преобразовалась в более глубокую эмоцию. Он сделал к Хануману шаг, а потом еще десять умопомрачительно быстрых шагов. Он почти подлетел к Хануману, стремясь сохранить ему жизнь. Лишь десятые доли секунды отделяли их от удара оконного переплета, но этого было достаточно, чтобы навеки изменить будущее. Данло сшибся с Хануманом в вихре кулаков, коленей и вырвавшегося наружу дыхания, оттеснив его назад. В тот же миг рама врезалась в алтарь позади Данло, стреляя стеклом во все стороны. Она пробила в красном ковре зияющую рану и раздробила камень. Весь собор содрогнулся, словно от взрыва бомбы. Повсюду градом сыпалось стекло. Данло напирал на Ханумана, оттесняя его еще дальше. Хануман, несмотря на скрежет стали и бешеный натиск Данло, как-то устоял на ногах. Он оторвался от Данло и нанес ему удар – коленями, глазами, зажатыми в кулаках половинками сломанного бога.
– Бог мой, да ты убьешь его!
Данло, падая на Ханумана, увидел летящую ему в лицо зазубренную кость. Он мог бы перехватить руку Ханумана или по крайней мере отдернуть голову, но он все еще пытался удержать Ханумана, и его равновесие было нарушено. Он падал и ждал, что его голова вот-вот полыхнет взрывным светом, но удара так и не последовало.
– А ну, тихо!
Бардо, оказавшись позади Ханумана, обхватил его своими ручищами. Тот отчаянно лягался и долбил своей алмазной шапкой Бардо по челюсти, но вырваться так и не сумел. Извиваясь и размахивая кусками бога, он сильно искромсал Бардо одежду. Данло, упав на него, прижал его к животу Бардо, и на миг они сцепились все трое. Данло ухватил Ханумана за запястья и подтянул его руки к груди. Хануман почти утратил возможность двигаться. Его дыхание било Данло в лицо горячими, порывистыми толчками. Данло подождал, пока безумие не ушло из глаз Ханумана, а потом отпустил его, отошел и стал ждать, что тот будет делать.
– Что это с тобой? – Бардо тоже отпустил Ханумана и теперь разглядывал руины алтаря. Повсюду валялись разбитые вазы и помятые цветы, и все было усыпано стеклом. Покореженная золотая урна лежала в центре, и вода текла на ковер.
Многие из стоявших вокруг пострадали от осколков падающего стекла – и теперь они стонали, кричали и в полном смятении смотрели то на Данло, то на Ханумана.
– Мой бедный витраж, – сокрушался Бардо. – Какое горе. – Потом он вспомнил о сострадании и закричал: – Кто-нибудь ранен? Бога ради, у вас там все в порядке?
Каким-то чудом серьезных ранений не получил никто, но из-за выбитого окна все дрожали от холода. Северный ветер, ворвавшийся в проем, обжигал холодом и посыпал рингистов снегом.
– Ну и холодина, – сказал Бардо. – Лучше нам всем, пожалуй, пойти в башню и закусить немного.
Но никому в этот момент не хотелось выпивать или закусывать. Праздник закончился, когда был сломан бог, и некоторые рингисты уже потихоньку пятились к дверям, а другие переговаривались тихими, нервными голосами.
– Данло ви Соли Рингесс! – возгласил вдруг пришедший в себя Хануман. Он подошел к Данло, держа руки так, чтобы и он, и все остальные могли видеть половинки шахматной фигуры. – Я не могу принять твоего дара: ты больше не рингист, и вещь, которую ты сделал, не отражает сути Пути Рингисса.
С этими словами он бросил обе половинки на алтарь. Они стукнулись об осколки стекла и катились долго, пока не остановились. Бардо, ужаснувшийся такому обращению с ценной вещью, нагнулся и подобрал их.
– Да ведь Данло жизнь тебе спас! – сказал он Хануману.
Данло стоял неподвижно под летящим на него снегом. Он не сводил глаз с Ханумана, но при этом сознавал, что Сурья и другие переговариваются, пытаясь объяснить себе то, что сейчас наблюдали:
– Принес обет ахимсы… да, но какое совпадение, что Хануман сломал бога как раз когда окно… я не верю в случайные совпадения.
Позднее рингисты всех Цивилизованных Миров увидят в том, что окно разбилось, руку бога, как будто Мэллори Рингесс, не одобрив своего образа, способствовал его уничтожению. Люди еще много лет будут говорить об этом чудесном стечении обстоятельств – но сейчас Хануман обращался к Данло и Бардо, и всеобщее внимание было поглощено более насущными делами.
– Это так. Данло спас мне жизнь. – Хануман смотрел на Данло так, словно ненавидел его за это. – Я никогда этого не забуду, как не забуду и того, что он был моим другом.
– Он спас тебе жизнь, – повторил Бардо, сунув сломанную фигурку в руку Ханумана. – Он мог бы погибнуть вместо тебя!
Хануман повернулся к нему и указал на стекло, засыпавшее алтарь.
– Если бы это окно закрепили как следует, Данло не пришлось бы проявлять такого самопожертвования и демонстрировать свою верность ахимсе. Но вы непременно хотели, чтобы этот витраж был готов к празднику, хотя многие из нас находили, что Рингесс на нем изображен недостаточно хорошо.
Бардо густо побагровел, однако промолчал и только пробормотал, глядя на алтарь:
– Ох, горе, горе.
Хануман посрамил его несколькими словами в присутствии двухсот человек. При этом он провел хотя и ложную, но параллель между работой Данло и тщеславным замыслом Бардо увековечить на витраже не только Рингесса, но и себя. Гений Ханумана заключался в умении проводить такие вот параллели и внушать своим последователям веру в желаемую реальность.
Я создал тебя, думал Данло. Я сам устроил такое будущее.
Он закрыл глаза, обдумывая жесточайшую из истин: время, как река, течет только в одном направлении, и будущее, когда оно настанет, уже нельзя переделать.
– В спешке, стараясь избежать осколков, я чуть не ударил тебя, – сказал ему Хануман. – Извини.
Большинство рингистов слишком поддалось панике при падении окна, чтобы заметить, что в действительности произошло между Данло и Хануманом. Но некоторые, как видно, поняли, и Хануман, не мешкая, принялся подправлять их память о случившемся.
– Извини меня, Данло, – повторил он. Показав всем сломанного бога, он сложил половинки вместе. Даже стоящему близко Данло трудно было различить трещину, разделившую бога надвое.
Хану, Хану.
Хануман продолжал, демонстрируя спектр разнообразных эмоций:
– Расстояние между любовью двух друзей столь же ничтожно, как пространство между двумя половинками этой шахматной фигуры.
Внезапно, словно выполняя одно из упражнений своего боевого искусства, он вскинул руки над головой, разведя их в стороны. Теперь половинки бога разделяло около трех футов.
– Но расстояние между тем, кто идет по Пути Рингесса, и тем, кто им не следует, столь же велико, как расстояние между звездами.
Я оставил ему жизнь, думал Данло, и не могу сожалеть об этом.
– Данло, – сказал Хануман, вручая ему сломанного бога, – я сожалею, что не могу принять твой дар.
– Мне тоже жаль, – сказал Данло, дохнув паром. Маленькие снежинки жалили ему глаза, и лицо горело от холода. Каждая клетка его тела застыла, однако продолжала гореть – гореть от тайного дара Ханумана, который он никогда не сможет забыть.
– А теперь тебе лучше уйти, – сказал Хануман, заслоняясь рукой от снега. – Буря вернулась, а в такой поздний час трудно будет найти сани.
– Что ты такое говоришь? – бурно дыша, вмешался Бардо. – Не много ли ты берешь на себя, прося Данло уйти?
Хануман, поклонившись в сторону своих единоверцев, в свою очередь спросил:
– По-вашему, будет прилично, если они в такую ночь разделят общество с человеком, отвергающим наш Путь?
Все теперь смотрели на Бардо, и Хануман тоже уставился на него, как кот на мышь – прямо в глаза.
– Да, так, пожалуй, не годится, – сказал Бардо.
– Тогда нам, вероятно, следует попросить Данло уйти.
Бардо помедлил, потеребил бороду и сказал:
– Ладно, скажи ему. – Он улыбнулся Данло слабо, как будто издали, с оттенком сожаления, и Данло не мог взять в толк, какие чары навел на него Хануман.
– Хорошо. – Хануман обратил к Данло глаза, лучащиеся светом и самим собой. – Я прошу тебя уйти.
– Как хочешь, – с поклоном ответил Данло.
– И не возвращайся больше. Не нужно, чтобы ты приходил сюда.
– Вам тоже следовало бы уйти. – Данло обвел взглядом Лаиса Мотегу Мохаммада, Томаса Рана и Рогану Чанг, делясь с ними самым большим своим страхом. – Вам всем. Путь Рингесса – повальная болезнь, которая вот-вот охватит всю вселенную. Она погубит вас. Уходите, пока еще не поздно.
Он сошел с алтаря, позванивая осколками стекла. Люди, как и прежде, расступились, давая ему дорогу. Они смотрели на него с чем-то похожим на благоговение, но к этому примешивались гнев и вина, как будто они чувствовали себя обязанными повернуться к нему спиной и не встречаться с ним взглядом. Некоторые из них с помощью ватных тампоном и тюбиков клея, за которыми послал Бардо, обрабатывали друг другу раны и вытирали кровь с одежд; другие смотрели на Ханумана, не зная, как им быть. Под самой аркой входного портала Данло оглянулся. Хануман стоял один на алтаре. Снег кружился вокруг него, преломляя огни свечей и обводя его золотым ореолом. Его твердое, непроницаемое лицо кричало: «Никогда, никогда больше не возвращайся сюда!» Данло смотрел не только через пространство нефа, но и сквозь время. Собор был заполнен тысячами людей, которые раскачивались, и пели, и кричали в экстазе. Горели свечи, но основной свет шел через витражи красивыми, изумрудно-голубыми полосами. Сам Данло стоял на алтаре рядом с Хануманом, омываемый этим прекрасным светом – в черной пилотской форме, высокий, могучий и преисполненный сострадания, но он был не собой, а кем-то другим, имеющим лишь самое малое сходство с тем человеком, которого знал как Данло Дикого. Это скраерское видение прошло так же быстро, как и возникло, и Данло сказал себе, что ноги его больше не будет в соборе. Он в последний раз поклонился Хануману, но тот его не видел. Алмазная контактерка у Ханумана на голове казалась издали блестящим черепом. Отныне и навеки он будет заключен в собственной черепной коробке; он словно яркая звезда, которая уже начала сокрушительный путь внутрь себя, в черную дыру сознания, из которой нет возврата.
Это я создал его, подумал Данло.
Повернувшись, чтобы выйти вон, он почувствовал, как впаиваются в ладонь края сломанного бога, и спросил себя, зачем он все это затеял.
Глава XXIX ДАНЛО МИРОТВОРЕЦ
Сначала ты умный и потом тоже умный, а в промежутке полоумный.
Фравашийская поговорка (из высказываний Ошо-Дурака)Первый день средизимней весны 2954 года принес с собой тьму и снежную круговерть, которым, казалось, конца не будет. Никто, кроме скраеров, не мог предвидеть, что этот новый год станет историческим и судьбоносным, столь же поворотным в эволюции Ордена, каким был 908-й, или Темный Год, или 2326-й, когда Дарио Смелый открыл мертвые звезды Экстра. Даже Данло не мог знать, что странные происшествия в соборе Бардо повлекут за собой целую лавину событий, из-за которых историки-радикалы впоследствии переименуют 2954 год в «Первый» и переделают календарь.
Большие перемены начались с малозначительного, казалось бы, факта: лорд Палл, по настоянию обеих встревоженных Коллегий – Главных Специалистов и Мастеров, – изгнал Ханумана ли Тоша из Ордена. Хануман, сломав костяного бога, оскорбил чувства слишком многих людей и привлек к себе слишком много внимания. Он нарушил сразу несколько канонов наряду со своей профессиональной этикой, и лорд Палл закрыл перед ним доступ во все орденские библиотеки и рестораны, а самое главное, запретил ему появляться в стенах Академии. Духовно Хануман давно уже расстался с Орденом, поэтому официальное отлучение не вызвало в нем ни особых сожалений, ни стыда. Втайне он, должно быть, даже радовался тому, что его освободили от данных им обетов, позволив формировать новую религию по своему усмотрению. Он, конечно, притворялся взбешенным, но при этом они с лордом Паллом продолжали вести свою подспудную игру. Неизвестно, намеревались ли они уже в то время сделать рингизм религией Ордена, но со своими общими врагами явно разделывались вместе. Десятого числа, когда Бардо проектировал новый витраж вместо того, что разбился в новогоднюю ночь, Хануман предложил ему простой, но хитроумный план реорганизации церкви. Ближний круг Пути, согласно этому плану, должен был получить официальный статус. Все рингисты, записавшие свои воспоминания о Старшей Эдде в компьютер, отныне получали наименование «Старших». Бардо питал здоровое недоверие ко всему, что исходило от Ханумана, однако этот замысел льстил его тщеславию. Он уже видел себя в роли первосвященника вселенской церкви, раздающего титулы и бенефиции наиболее верным своим сторонникам. (Ему не пришло в голову, что очень скоро прыщавые юные кадеты в своих золотых одеждах начнут раскатывать по Городу, требуя, чтобы к ним обращались «Старший Лаис» или «Старший Кику» – причем эти требования будут относиться даже к пожилым мастерам, насчитывающим несколько жизненных сроков.) Поэтому он одобрил предложение Ханумана и стал продолжать подбор своих цветных стекол. Вследствие этого лорда Мариам Эрнедиру Васкес, одного из лучших специалистов Ордена, стали называть «Старшая Мариам», что ее и погубило. 44-й канон Ордена, разрешая его членам выбирать себе любую религию, запрещал им занимать официальные посты в каких бы то ни было церквах, культах или идеологических движениях. Лорд Палл в своем безжалостном указе, ошеломившем весь Орден, сослался на букву этого канона и подверг изгнанию лорда Васкес, а также Томаса Рана, Хуанга ли Вуда и еще нескольких видных мастеров, которые, видимо, порядком ему досаждали.
Из четырех лордов прежней Тетрады (Ченот Чен Цицерон тихо скончался в своей постели вскоре после наступления нового года) только лорд Николос противостоял теперь намерению Одрика Палла стать единоличным главой Ордена.
И тут Главный Цефик нанес свой завершающий, блестящий удар. 19-го числа он созвал Коллегию Главных Специалистов и предложил поставить на голосование вопрос об отправке экспедиции в Экстр, Много лет фракция преданных ему лордов тянула с принятием этого решения. Эта группа, насчитывающая около двадцати стариков, опасавшихся, что Орден разделится надвое и будет ввергнут в хаос, неизменно голосовала против предоставления подобной экспедиции необходимого ей количества легких и больших кораблей. Но в ночь на 18-е на секретном совещании в башне цефиков лорд Палл угостил их столь крепким и редкостным чаем, что их страх как рукой сняло. Лорд Палл привел им свои доводы и дал определенные обещания. Он указал им на то, что экстрская экспедиция привлечет к себе всех недовольных и подрывных личностей, от которых все будут рады избавиться. Он напрямую предложил старым лордам представить ему списки тех, кого они считали наиболее достойными отправиться в это опасное для жизни путешествие. Он сказал, что такая чистка оздоровит Орден, не ослабляя его. Но самого большого расцвета их вечный Орден достигнет, когда во главе его станет кто-то один. Итак, на следующий день Коллегия собралась в своем холодном, пронизанном сквозняками здании, чтобы решить судьбу миллиардов звезд и триллионов людей, живущих в этом секторе галактики. Сто девятнадцать лордов проголосовали тайным порядком, и великая Вторая экспедиция в Экстр наконец-то стала реальностью. Пока лорды, сидя за своими столами, обменивались ликующими или удивленными репликами, лорд Палл встал и обратился к ним.
Впервые за пятьдесят лет он соизволил высказаться вслух, не прибегая к знакам.
– Милорды, – проскрежетал он, – я предлагаю, чтобы миссию возглавил Николос Сар Петросян. Более достойной кандидатуры нам не найти.
Чтобы возглавить миссию, лорду Николосу, естественно, пришлось покинуть свой пост в Тетраде, что он вскоре и сделал. Опасаясь оставить Орден под властью автократического правителя – ведь именно лорд Николос организовал восстание против Хранителя Времени двадцать лет назад, – он, однако, всегда мечтал основать среди раздробленных звезд Экстра вторую Академию. Планирование экспедиции он завершил с той же быстротой и решительностью, которая когда-то привела к смещению Хранителя Времени. Семьдесят дней небо над Городом пылало ракетным огнем и полнилось раскатами грома: челноки грузили на десять больших кораблей, кружащих по орбите, роботов, компьютеры, библиотечные фонды, различную сборочную технику и многое, многое другое. Кроме десяти грузовых, в черноте над атмосферой дожидались пассажиров еще три корабля. Для путешествия на них лорд Николос отобрал эсхатологов, механиков, холистов, историков и даже цефиков – в общей сложности тысячу мастеров и адептов, представлявших все профессии Ордена. Многие из этих мужчин и женщин уже покидали Город во время Пилотской Войны. Многих предложил лорд Палл, составивший длинный список неугодных ему членов Ордена, в том числе знаменитых пилотов, ставших во время войны на сторону Мэллори Рингесса: Елену Чарбо, Аджу, Ричардесса, Аларка Утрадесского и, возможно, самого великого из всех живых – Зондерваля. Однако первым в списке лорда Палла значился молодой пилот, ничем еще себя не проявивший. Лорд Николос, должно быть, удивился, увидев имя Данло ви Соли Рингесса впереди всех остальных, и долго, видимо, думал, не вычеркнуть ли его: ведь Данло был всего лишь кадетом и вряд ли мог благополучно провести легкий корабль через запутанные, неведомые пространства Экстра. Но три довода решили дело в его пользу. Во-первых, он почти закончил курс обучения, а во времена кризиса, согласно традиции, установившейся во время Войны Контактов, способных кадетов могли посвящать в пилоты еще до официального выпуска. Во-вторых, на лорда Николоса произвели впечатление пыл и красноречие, с которыми Данло высказывался против Пути Рингесса. Лорд Николос обладал разумом безупречным и чистым, как зимний воздух; ему следовало бы родиться несколько тысяч лет назад, в Век Разума, столь велико было его недоверие к темным, влажным, интуитивным человеческим энергиям. По странной иронии, он считал Данло поборником рационализма, ненавидящим, подобно ему самому, все, что имеет отношение к религии и оккультизму. Путешествие в Экстр обещало стать войной разума против разрушительных для галактики доктрин Архитекторов Старой Кибернетической Церкви. Данло, закаленный в горниле фравашийской языковой философии, враг всяких верований и систем веры, был именно тем человеком, которому лорд Николос, как ему думалось, мог доверять. Наконец, лорд Николос полагал, что Данло, как сын и внук великих пилотов, сам когда-нибудь станет великим. Поэтому в конце концов он оставил Данло в экспедиции. Таким-то путем, по воле случая, по воле судьбы, по воле недоразумения, Данло после восьми лет ожидания приготовился покинуть город Невернес.
Он принес свою присягу второго числа ложной зимы. Поскольку в тот день он был единственным кадетом, посвященным в пилоты, церемония проходила скромно, в маленькой комнате без окон и мебели, хотя и в помещении Зала Пилотов.
На голом каменном полу лежал тощий ковер, смахивающий на подстилку нищего, монотонность холодных серых стен нарушали портреты Главных Пилотов. На северной стене между Леопольдом Соли и Ченотом Ченом Цицероном висело изображение Мэллори Рингесса. Пустому месту рядом с фальшиво-благородной физиономией лорда Цицерона предстояло впоследствии украситься портретом нового Главного Пилота, Сальмалина Благоразумного, тощего, немногословного человека, которого назначили на этот пост всего десять дней назад: Одной из его первых обязанностей явилось посвящение Данло в пилоты. В присутствии двух других пилотов он провел эту церемонию быстро, словно гость на инопланетном банкете, обязанный что-то сказать или отведать неаппетитное блюдо. Чопорный и угрюмый в своей черной форме, он возвышался над Данло, который, стоя на коленях, приносил присягу.
Затем лорд Сальмалин вручил Данло черное алмазное кольцо и произнес:
– Этим кольцом посвящаю тебя в пилоты. – Больше ничего сказано не было – ни поздравлений, ни ободряющих слов. Сальмалин поклонился, повернулся и оставил Данло, еще не осознавшего, что его мечта наконец сбылась, в одиночестве.
Следующие десять дней, когда весенние бури сменились более теплой и ясной погодой, он ходил по Городу и прощался с людьми. Ему надо было посетить многих: Мадхаву ли Шанга, Ригану Таль, Джонатана и Бенджамина Гур и других.
В годы своих религиозных изысканий он знакомился с аутистами, щипачами, странствующими воинами-поэтами и с представителями еще дюжины сект. Почти всех их он находил в Квартале Пришельцев и говорил им, что скоро покинет Невернес надолго – возможно, навсегда. К его удивлению, прощание оказалось очень трудным делом. Обходя своих старых учителей, в том числе мастера Джонатана, который в Экстр не летел, он раскатывал между корпусами Академии и наслаждался игрой солнца на шпилях, красотой старинной кладки музыкой летящих по льду коньков. От одного приятеля он узнал, что Томас Ран переселяется в квартиру рядом с собором Бардо. Поэтому он совершил свой последний визит в башню мнемоников, где мастер Ран паковал в простой деревянный ящик наркотические средства, иглы и спирали. Их последняя встреча вышла неловкой и печальной. Данло показал Рану свое пилотское кольцо, и тот сказал:
– Поздравляю, Данло. Надеюсь только, что ты продолжишь изучение мнемоники, даже когда меня не будет рядом. Поверь мне, из тебя может получиться отменный мнемоник.
Данло попрощался с ним, не сказав, что после той ночи в соборе потерял свою страсть к мнемонике. В темные бесконечные дни великой бури золотая дверь в Единую Память захлопнулась перед ним с такой силой, что он боялся никогда уже не найти к ней ключа.
Двенадцатого числа ложной зимы он встретился с Бардо на улице Тысячи Баров. Бардо, не желая, чтобы его видели с Данло, выбрал для встречи темный бар, больше похожий на логово зверя, чем на место для беседы двух друзей. У старинной стойки, над чашкой черного кофе с ликером, Бардо заверил Данло, что они по-прежнему друзья, хотя их дружба и пострадала из-за Пути Рингесса. Извиняться он не стал, намекнул лишь, что полностью поглощен текущими событиями – вернее, что играет шахматную партию космического масштаба, слишком важную, чтобы просто перевернуть фигуры и уйти.
Данло сомневался в том, что Бардо еще способен уйти добровольно, но тот притворялся, будто полностью контролирует себя, чего отроду не умел делать. Все, что говорил Бардо в тот вечер, было сплошным притворством, самообманом и ложью. Вину за все церковные трудности он возлагал на Ханумана с его непомерным честолюбием, вместо того чтобы посмотреться в задымленное зеркало за стойкой (или в любое другое зеркало) и найти источник своих бед там. Выпороть бы этого Ханумана хорошенько, как ездового пса, заявил Бардо, – тогда Дуть действительно привел бы к спасению все человечество.
– Это Хануман все испортил. – Бардо пил только кофе, но казалось, что он сильно под хмельком. – Но что я могу поделать? Пригрозить ему отлучением? Да, да, конечно, это самое и следовало бы сделать – только я уже это сделал. То есть пригрозил ему. А он в ответ пригрозил мне. Нет, не беспокойся – ничего страшного. Надеюсь. Он пригрозил, что порвет с Путем, учредит собственную поганую церковь и уведет с собой половину моих рингистов. Половину? Три четверти, девять десятых – какая разница? Он пригрозил уничтожить то, что я создал. Поэтому я должен найти способ его контролировать. Это настоящий религиозный гений, чтоб ему. Ты знаешь, что куртизанки согласились наконец примкнуть к нам? Все их чертово Общество! Благодаря ему. Без него я пропал бы – и с ним пропадаю. Ах, Бардо, Бардо, что ты наделал! Ты слушаешь меня, Паренек? Помнишь, как я предупреждал тебя, чтобы ты не дружил с ним? Мне бы послушаться собственного совета. Что-то с ним не так. Есть в нем что-то нехорошее, даже зловещее. Ты знаешь, что он виделся с Тамарой в ночь перед тем, как она будто бы подцепила этот проклятый вирус? Перед тем, как этот вирус будто бы лишил ее цамяти? Я подчеркиваю: «будто бы». Понимаешь, почему? Да? Ну конечно. Теперь мне ясно, что произошло тогда в соборе. Ты мог бы убить его, а вместо этого спас. Почему? Из-за своего обета? Или потому, что не мог доказать, что он совершил это гнусное преступление? Верно, доказательств нет, но они должны где-то быть. Я найду их, вот увидишь! И тогда… тогда… тогда тебе будет уже все равно, так ведь?
– Не в этом дело. – Данло отпил кофе и толкнул ногой стальную продольную подпорку, слушая, как она звенит. То, что Бардо пронюхал о преступлении Ханумана, почти не удивило его.
– Идея мщения не привлекает тебя?
– Нет.
– Это плохо. И то, что случилось с Тамарой, тоже хуже некуда.
– Ты ее видел, Бардо?
Бардо долго молча теребил усы, а потом сказал:
– У меня для тебя плохие новости. Я слышал от куртизанок, что она покинула Город. Вышла из Общества, отказалась от своего призвания. Никто не знает, куда она отправилась – куда-то к звездам. Жаль – ты, наверно, хотел зайти к ней перед стартом.
– Нет… мы с ней уже попрощались.
– Может, она еще вернется.
– Может быть.
– Ах, бедная Тамара. Бедный Данло. – Бардо расправил бороду, глядя в зеркало за стойкой. Его лицо приобрело грустное, мечтательное, полное жалости к себе выражение. – Бедный Бардо. Что-то с нами будет? Ты думаешь, это все равно, но нет. Все имеет свое значение – я, ты, Хануман ли Тош, Путь. Ты сомневаешься в том, что путь стать богами действительно существует для нас? Он есть. Я видел его. Старшая Эдда, Мэллори Рингесс. Его гений. Его жизнь. Его судьба. Его путь. Понимал ли я когда-нибудь, зачем он все это делает? Нет. Не он ли побудил меня основать эту треклятую религию? Если бы он только остался в Городе. Но когда-нибудь он вернется. Я обязан в это верить, правда?
Данло улыбнулся ему сквозь облака дыма и кофейных паров.
– О Бардо… я буду скучать без вас.
– Горе, одно только горе. – Бардо, с грохотом поставив кофейную кружку на стойку, обнял Данло и похлопал его по спине. – Эх, Паренек, Паренек.
– До свидания, – сказал Данло.
– Удачи тебе. – Бардо крепко пожал ему руку, глядя на черное кольцо у него на мизинце. – Лети далеко и счастливо, пилот.
Три дня спустя Данло совершил еще одну прогулку по Городу. Повинуясь приятной для него симметрии, свою последнюю прощальную встречу он посвятил первому наставнику, которого встретил в Городе, – фравашийскому Старому Отцу.
Старый мудрый инопланетянин, будучи большим ценителем иронии, предложил встретиться на том самом берегу, где Данло чуть не проткнул его копьем много лет назад. В пасмурный день ложной зимы Данло спустился кДаргиннийским Пескам и стал ждать Старого Отца у кромки моря. Стоя на твердом песке с вкраплениями пакового льда, он долго смотрел на темные воды Зунда. Потом сзади, издалека, донеслось слабое пение флейты. Данло обернулся и увидел белую фигурку, бредущую к нему через дюны. Это был, конечно, Старый Отец, никогда не носивший ничего, кроме собственного шелковистого белого меха. Когда он подошел поближе, Данло увидел, что его артрит усилился – длинные конечности фраваши совсем окостенели, и он шел по черно-белым пескам так, будто ступал по битому стеклу. Несмотря на испытываемую им боль, его рот улыбался, а чудесные золотые глаза, устремленные на Данло, сияли, словно два солнца.
– Ах-ха! Вот он, Данло Дикий, не такой уж и дикий теперь. Ты изменился – стал мужчиной. Так, все так.
Внешность Данло действительно подверглась большим переменам. Он сбрил свою бороду, и лицо его стало гладким, как орех бальдо. Он остриг свои длинные ногти. Потом он спрятал белое перо Агиры на груди вместе со сломанным шахматным богом, материнской алмазной сферой и другими памятками – и обрезал волосы. Но несмотря на все эти новшества и на все, что произошло с ним после гибели деваки, он по-прежнему не мог считать себя полноправным мужчиной.
– Я рад тебя видеть, почтенный, – сказал он. – Если я изменился, то ты все тот же.
– Ах-х. Еще больше такой же, чем был.
– Надо было нам встретиться поближе к твоему дому. Тебе, наверно, тяжело было столько пройти.
– Ох-хо, тяжело. – Старый Отец почесал черными ногтями свой большой двойной член и потрогал бедра. – Когда я был моложе, я пытался избавиться от боли, просто сидя и ничего не делая. Но от этого я только сильнее ее сознавал. Поэтому давай пройдемся по берегу, и ты расскажешь мне о своей боли, чтобы я позабыл о моей. Славный день для прогулки, правда?
Рука об руку, как два краба, сцепившиеся клешнями, они двинулись вдоль кромки воды. С моря дул свежий ветер, в воздухе висел запах соли и гниющего дерева. Еще здесь пахло птичьим пометом, раздавленными раковинами и старым мокрым мехом. Они шагали через хрустящие водоросли и плавник, и Данло рассказывал Старому Отцу обо всем, что произошло между ним и Хануманом ли Тошем. Рассказ получился длинный. Даже своим крабьим шагом они дошли почти до края Даргиннийских Песков, где начинались скалы дальнего Северного Берега. Ветер гнал по небу облака, и снежные вихри сменялись проблесками солнца. Мелкий снег, который Данло прежде назвал бы шишеем, кружился в воздухе и испарялся, не долетев до земли. Данло не мог понять, жарко ему или холодно, а вот Старый Отец чувствовал себя полностью в своей стихии. Ни снег, ни брызги прибоя не досаждали ему.
Он с удовольствием зарывался мохнатыми ногами в твердый песок, оставляя следы крупнее медвежьих. Слушая рассказ Данло о том, как Хануман сломал сделанного им бога, Старый Отец играл с песком, блаженно подергивая маленьким черным носом,
– Ах-ох, ты хорошо сделал, что не нарушил обет ахимсы.
Данло, глядя на бьющие о берег волны, сказал:
– С того момента, как я отдал Хануману бога, я все время сомневался, правильно ли поступаю.
– Ах. Никогда не причиняй вреда другому, даже в мыслях.
– Но я пожелал ему зла. Я представил его… мертвым.
– О-о?
– Я хотел убить его.
– Но вместо этого спас ему жизнь. Так, все так.
– Да – это так.
Старый Отец улыбнулся, наполовину прищурив один глаз, присвистнул и сказал:
– Не надо себя осуждать, о нет! Ты спас ему жизнь. На поле брани ты остался человеком ахимсы, и за это я воздаю тебе честь.
Ударение, сделанное Старым Отцом на спасении жизни Ханумана, не рассеяло сомнений Данло. Напротив, слова фраваши легли словно соль на рану, раздиравшую Данло надвое.
Большим пальцем Данло потер кость над глазом – головная боль почти не оставляла его.
– Мне сдается, ты все так же любишь причинять священную боль.
– Ох-хо, ангслан! Разве я перестал быть фраваши?
– Ты остаешься им больше, чем прежде, почтенный.
– А ты, я вижу, – по-прежнему человек. Эта твоя новая религия ничего в тебе не изменила. – Старый Отец подставил лицо под солнечный луч, широко раскрыв оба глаза. – По традиции мы, фраваши, должны делать людям подарки. Когда-то, на этом самом берегу, я подарил тебе кое-что – помнишь?
Данло, кивнув, нагнулся и достал из кармана шакухачи. Он держал ее так, что солнце светило и на нее.
– Ага! Ну а теперь я подарю тебе еще кое-что.
Старый Отец, если не считать его блестящего меха, был совершенно гол, и в его длинных красивых пальцах тоже ничего не было. Следовательно, он, говоря о подарке, имел в виду не музыкальный инструмент и не какой-либо иной предмет из дерева, кости или камня.
– Это титул, который носят некоторые фравашийские Отцы. Я дарю его из своих уст твоему слуху. Я буду звать тебя Данло Миротворец и это имя подходит тебе, ох-хо.
– Спасибо – но я не чувствую себя способным творить.
– Ах-х.
– И мира во мне нет.
– Ох-х.
– По крайней мере я не могу примириться с тем, что сделал.
– Ты хочешь сказать – с этой религией, которую все называют Путем Рингесса?
Данло, имевший в виду не совсем это, сказал:
– Я выступал против Пути, знаешь?
– Я так и думал. Многие Миротворцы – великие ораторы.
– Боюсь, что мои речи принесли только вред.
– Не причиняй никому вреда, говорит ахимса. Но освобождение людей от веры – священная задача.
– Эта вера в то, как мой отец стал богом – я уничтожил бы ее, если бы мог. Все веры уничтожил бы. Все религии.
Старый Отец стоял тихо, прищурив оба глаза – казалось, он смотрит через Зунд на горы, чьи снежные вершины пропадали в ватных облаках.
– Будь осторожен, пилот, – сказал он наконец. – Существует единство противоположностей: чем сильнее ты хочешь что-то уничтожить, тем крепче связываешь себя с этим.
– Но не ты ли учил меня противостоять всем верованиям?
– Хо-хо… научил на свою голову.
Данло смотрел, как набегают и откатываются волны. Был отлив, и море понемногу отступало. Небо совсем затянулось тучами, и воды Зунда стали темными и мутными, как взболтанное старое вино. Слушая далекий лай тюленей и крики чаек, Данло понимал, что одна из глав его жизни закончилась.
Ему нечему было больше учиться у инопланетных философов, мечтателей или мнемоников. Здесь, на этом холодном берегу, он попытается по крайней мере видеть вселенную голой, без всякой веры. Он заставит себя, хотя Старый Отец и думает, что жить так человеку не под силу.
– Данло, Данло.
Старый Отец с улыбкой прикоснулся к его флейте, как будто прочел его мысли.
– Не можешь же ты отказаться совсем от всего. А как же твоя ахимса?
– Ахимса – это не вера. Ахимса – это то, что я есть.
Старый Отец печально свистнул и сказал:
– В нашу первую встречу ты говорил, что хотел бы отправиться к центру вселенной. Благородная идея, ведь верно?
– Нет… это детские фантазии. У вселенной нет ни центра, ни края.
– Однако ты летишь в Экстр.
– Да.
– Ох-хо – чтобы найти средство против чумы, убившей деваки?
Старый Отец с несвойственным ему волнением промурлыкал странный мотивчик, который Данло ни разу еще не слышал. Фраваши совсем зажмурил правый глаз, но левый шарил по лицу Данло, как лунный луч.
– Да, раньше я верил, что медленное зло можно победить, – признался Данло. – Верил, что алалоев можно спасти.
– Кроме того, ты хотел стать асарией.
– Это ваше слово. Согласие со всем – это фравашийский идеал.
– Но больше не твой, ах-хо?
Данло подошел поближе к воде, и волны лизали его ботинки.
– Проблема в том, что принять нужно все.
– Это так…
– Видишь? – Данло указал на прибрежные скалы, гранитными иглами вонзившиеся в небо. Их покрывал перистый зеленый мох и помет чаек, строящих свои гнезда. – Все это так прекрасно – и так несовершенно. Запятнано шайдой. Горы, я, даже ты, – это ко всем относится. От этого не уйти. Думаю, что Хануман понял это яснее, чем полагается.
– И ты не можешь простить его за это?
– Не его – себя.
– Ах-х.
– Раньше я надеялся. Что выход можно найти в воспоминаниях. Путь… к невинности.
– Значит, ты не нашел ответа в Старшей Эдде?
– Одно время я думал, что нашел. Я был очень близко. Но… нет. Шайда – путь человека, который убивает других людей. У Ханумана была возможность стать поистине великолепным человеком. А я этого человека… убил.
– И думаешь, что примириться с этим нельзя.
– Прости, почтенный. Я, наверно, тебя разочаровал.
– Как раз напротив, – с загадочной улыбкой молвил Старый Отец.
Они стояли друг против друга на мокром песке и улыбались. День клонился к вечеру, и тучи на западе, над океанскими глубинами, приоткрыли огненную полосу на горизонте.
Небо плавилось в огне, и море тоже зажглось багрецом и золотом. Фраваши не любят находиться под открытым небом, когда стемнеет, и Старый Отец приготовился уходить. Он в последний раз потрогал флейту Данло и просвистал короткое благословение (а может быть, непристойную песенку – у фраваши ведь ничего не поймешь). Потом раскрыл оба глаза во всю ширь и спросил:
– Как же ты будешь жить теперь, пилот? Ох-хо, что ты будешь делать?
Данло указал на восточный небосклон, где мигали в просветах туч первые звезды.
– Там живут боги. Может быть, и отец мой где-то там. Я найду его, если сумею, – не его, так другого. Хануман однажды задал мне вопрос – теперь его должен задать я. Я спрошу богов, можно ли было создать вселенную иначе – чтобы она была халла, а не шайда. Боги знают. Они творят постоянно и должны знать.
Данло сказал, что скоро отправится во вселенную – не для того, чтобы достичь ее центра или найти лекарство от болезни, которая не поддается лечению, а просто потому, что он пилот Ордена и должен выполнить свою миссию. Звезды гибнут, и если от мирового зла нет средства, то уничтожение целой галактики еще можно остановить.
Старый Отец ответил на это странным образом. В его глазах, хотя и открытых, не было света, как будто сознание ушло из них и поднялось в небо. Он стоял в трех футах от Данло, но казалось, будто он смотрит на него сверху, одновременно вглядываясь в себя. Рот его сложился в грустную улыбку, говорившую о смутных болезненных воспоминаниях или о видении какого-то далекого будущего. От него веяло холодом. Казалось, что он хочет что-то сказать Данло, но у фравашийского Старого Отца не нашлось слов:
– Становится поздно, почтенный, – сказал Данло.
Великий прилив сознания вернулся наконец в глаза Старого Отца, и тот тихонько свистнул.
– Ох-х, да – пора прощаться. Может быть, нам долго еще не придется гулять вместе.
Данло склонил голову, глядя на черно-белый песок у себя под ногами.
– Мне кажется… я больше не вернусь сюда.
– Тогда я и тебя попрошу подарить мне что-нибудь на прощание.
– Что же я могу тебе подарить?
Старый Отец взглянул на флейту.
– Может быть, песню?
– Какую… песню?
– Что-нибудь твоего собственного сочинения. Что-нибудь странное и дикое, но мирное. Ведь ты Данло Миротворец, ох-хо!
Данло улыбнулся, пожал плечами, прижал холодный мундштук флейты к губам и стал играть. Протяжные тихие ноты полились над берегом. Приходилось дуть сильно, чтобы ветер не унес музыку прочь. Это была очень простая мелодия, повторявшаяся снова и снова, с легкими вариациями в каждом такте. Он мог бы играть ее вечно, не приходя ни к какому заключению или кульминации, но в ней чувствовались стремление к полноте звука, намекавшее на бесконечные возможности. Старый Отец слушал мелодию, полузакрыв глаза и держа голову неподвижно, в позе фраваши, запоминающего музыкальное произведение. Музыка, по всей видимости, очень нравилась ему. Когда стало ясно, что Данло останавливаться не намерен, Старый Отец, дождавшись паузы, коснулся его лба и сказал:
– Ох-хо, мне надо идти, но ты играй. Ха-ха, для этого ты и родился.
Этими словами Старый Отец простился со своим любимым учеником, а после свистнул, улыбнулся, засмеялся и поплелся обратно к своему дому. Его смех, звучный, бьющий через край и полный сочувствия, долго еще слышался над берегом, совсем, как ни странно, не мешая музыке.
Сумерки сгущались, а Данло стоял один у воды и играл на флейте. Недолгое время спустя стало совсем темно и холодно.
Ветер развеял тучи, и небо из темно-синего сделалось черным, как пилотская форма. Повсюду, на востоке и западе, на юге и севере, мерцали звезды. Данло смотрел на эти холодные огни, и его музыка терялась в световых расстояниях вселенной.
Созвездия, знакомые ему с детства, немыслимо далекие, казались в то же время почти столь же близкими, как освещенные ими волны у его ног. Он играл, и последний вопрос Старого Отца отзывался в нем эхом: что же он теперь будет делать?
Слушая долгий, темный рокот океана, он ждал ответа. Он мог ждать вечно, ибо это были чудо и тайна океана, мерцающего под звездами, вечно ожидающего, вечно такого же, но и вечно меняющегося, вечно зовущего, вечно изумляющего новыми звуками, видами и созданиями. Несмотря на темноту, Данло слышал крики морских птиц – чаек, гагар и топориков, и серебристых талло, и других хищников, вылетающих ночью.
Зазвучала редкая песнь снежной совы. В несбыточности этого звука, которого он жаждал превыше всех остальных, и в громовой тишине моря он получил свой ответ. Он будет играть свою песню и никакую другую. Будет, не закрывая глаз, смотреть на все, что делал в прошлом. Он создал Ханумана, и это правда вселенной, слишком ужасная, чтобы ее отрицать.
А Хануман создал его. Трудность заключается и всегда будет заключаться в том, чтобы сказать «да» таким изломанным, ненавидящим созданиям. Но если у него достанет сил и мудрости, он сможет сделать одну простую вещь: принять акт созидания как таковой. Принять чудо, состоящее в том, чтобы просто жить. Жизнь – это все, вспомнил он. Когда-нибудь он опять сможет смеяться или найдет свое завершение в любви, но пока довольно будет просто жить, все дальше и дальше, без конца.
Он стоял у кромки воды, окруженный прекрасной ночью, подняв лицо к звездам, и играл на своей флейте. Все играл, и играл, и играл.
1
Меланоциты – содержащиеся в коже клетки, способные под действием ультрафиолетовых лучей вырабатывать темный защитный пигмент меланин, окрашивающий кожу при загаре.
(обратно)2
Айямен – искаженное «I am man», т.е. «я человек».
(обратно)3
Старшая Эдда – собрание древнескандинавских саг. Здесь – первоисточник, ключ к истине. – Здесь и далее примеч. пер.
(обратно)4
Хариджан в старой Индии – неприкасаемый.
(обратно)5
Акаша – в индийской философии эфир, где записывается все когда-либо происходившее в мире.
(обратно)6
В. Блейк, «Тигр». – Пер. С. Маршака.
(обратно)7
Perdido (исп. ) – потерянный, заблудший.
(обратно)8
Хибакуся – пострадавший от ядерного взрыва в послевоенной Японии.
(обратно)9
Изречение из Упанишад об идентичности Атмана, просвещенного человека, Брахману, высшему существу.
(обратно)10
С. Кольридж, «Кубла Хан». – Пер. К. Бальмонта.
(обратно)11
Г. Кантор (1845–1918) немецкий математик, основоположник теории множеств.
(обратно)12
С. Кольридж, «Сказание о Старом Моряке». – Пер. Н. Гумилева.
(обратно)13
Э. Хемингуэй, «По ком звонит колокол».
(обратно)14
Рок (древнегреч.).
(обратно)15
Ахимса – древнеиндийское учение о недопустимости насилия.
(обратно)16
См. Х.Л. Борхес «Тлен, Укбар, Orbis Tertius». – Примеч. ред.
(обратно)17
Хариджаны (староинд.) – неприкасаемые.
(обратно)18
Пер. О. Румера.
(обратно)



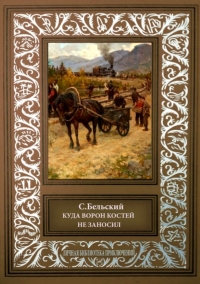

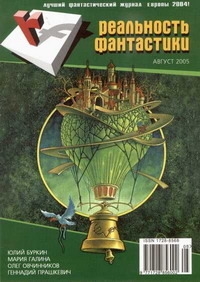
Комментарии к книге «Реквием по Homo Sapiens. Том 1», Дэвид Зинделл
Всего 0 комментариев