Фанни Альбертовна Тулина Воображала
Киноповесть
Сначала кадр просто белый.
Потом камера отъезжает, белое пятно смещается, открывая кусок кирпичной стены, снова перекрывает экран, смещаясь в другую сторону. Камера продолжает отъезжать, и теперь видно, что пятно это — часть безупречно белой брючины.
Обладательницу белых брюк зовут Воображала, она сидит в проеме открытого окна — небрежно, боком, поставив на подоконник одну согнутую в колене ногу и чуть покачивая другой. Ей на вид лет двенадцать. Кроме белых брюк на ней голубовато-серые мокасины и темно-оранжевая футболка, на левом плече приколот голубой бант-эполет с оранжевой каемкой. У Воображалы густая шапка светло-рыжих волос, словно пронизанных солнечным светом, загорелое лицо с очень светлыми глазами неопределенно изменчивого цвета и ослепительная улыбка. Она качает ногой и грызет яблоко, улыбаясь и глядя вдаль и вниз. От улыбки на ее щеках играют ямочки.
Доев яблоко, она прицельно щурится с хитрой улыбочкой (левым краешком рта, чуть вытянув губы) и бросает огрызок.
Камера стремительно отъезжает и падает вниз, отслеживая его полет.
Окно, на котором сидит Воображала, расположено этаже на пятнадцатом очень накрученной высотки (большие блочные окна, террасы, плющ, голубые ели по бокам от зеркальных дверей фойе).
Огрызок падает точно в ведерко с мусором, ведерко звякает.
Камера немножко подает назад, показывая пожилого дворника в оранжевой униформе. Дворник смотрит на ведерко безо всякого удивления, потом переводит взгляд наверх. Снисходительно улыбается, качая головой. Похоже, к подобному он давно уже привык.
Смена кадра
Оранжевая футболка со спины, рыжая макушка, белые брюки туго обтягивают тощую верткую задницу. Шум улицы.
Воображала на скейте, она движется легко и быстро, почти танцуя, камера отстает, оранжевая футболка и белые брюки мелькают уже где-то совсем далеко, без сопротивления проскальзывая сквозь густую толпу, словно капелька ртути среди тяжеловесных и неповоротливых гаек. Камера следует за стремительной рыжей каплей, постепенно приближаясь, но догоняет лишь в каком-то дворе, у спортивной площадки. Воображала замедляет движение, чтобы посмотреть, как гоняют в дворовой футбол полдюжины мальчишек разного возраста.
Мяч, брошенный неудачно, летит в ее сторону, она ловит его одной рукой. Игроки оборачиваются, только что полные злого азарта лица их расцветают улыбками, несколько голосов орут восторженно, перебивая друг друга:
— Воображала!!!
— Привет, Воображала!!!
— Воображала, играть будешь?!
— Воображала, кажи класс!!..
Улыбка Воображалы становится самодовольно-снисходительной, она спрыгивает со скейта и «кажет класс».
Грязный желто-серый мяч летает вокруг ее стремительного тела, словно привязанный, она играет с ним руками, ногами, головой, грудью, корпусом, за спиной, не глядя, она бросает его, не целясь, и ловит, не замечая, и под конец посылает в единственную на площадке баскетбольную корзину сложным тройным рикошетом.
Смеется, вытирает ладони о белые брюки, прыгает на скейт.
Мальчишки на площадке с завистливым восхищением смотрят ей вслед.
Они все, как один, пыльные и грязные, мяч тоже грязный, но на белоснежных брючках и яркой футболке Воображалы не осталось ни пятнышка.
Какой-то салажонок лет шести-семи в кепке и длинной растянутой майке спрашивает:
— А почему вы ее так обзываете?.. Она задавака, да?
Над ним смеются. Сосед натягивает кепку ему на нос.
— Сам ты… задавака! А она — Воображала, ясно?!
Смена кадра
Школьный коридор.
В коридоре, перед дверью одного из кабинетов — группа ребят, среди них Воображала. У всех, кроме нее, настроение явно не праздничное. Только на ней даже в темном мрачном коридоре сохраняется отпечаток какого-то другого освещения, словно кусочек летнего дня, солнечного и яркого, намертво прилип к ее рыжей шевелюре.
Худая девчонка рядом с Воображалой (вечно недовольное лицо, узкие вельветовые брючки в цветочек, темный блузончик с претензиями, обесцвеченная челка) смотрит на дверь без энтузиазма, скулит ноющим голосочком:
— Воображаю, как это больно…
Крупным планом — искренне недоумевающее лицо Воображалы:
— Зачем? Лучше вообразить, что это щекотно!
Из-за двери доносится сдавленное хихиканье.
Голос медсестры, недовольно:
— Следующий!
Смена кадра
Воображала натягивает оранжевую футболку.
Школьный спортзал, часть которого временно переоборудована под нужды плановой медкомиссии при помощи разнокалиберных столов и перегородок. За раздвинутой ширмой — шведская стенка, на полу маты, спортоборудование сдвинуто в угол.
За одним из столов что-то пишет медсестра. У другого стоит врач, смотрит на Воображалу хмуро и слегка озадаченно. Та улыбается и говорит скороговоркой:
— Спасибо-до-свиданья!
У нее это выходит одним словом.
Врач — дядька глубоко за сорок, явно переживающий кризис среднего возраста — лицо замотанное и остервенелое, в глазах тоска, лоб гармошой, и залысины уже вполне себе на этом лбу утвердились и торят дорогу к затылку. Улыбчивая и слишком радостная пациентка его раздражает, он смотрит ей вслед недовольно и почему-то растерянно. Хмурится. Вид у него неспокойный, словно он то ли никак не может поймать ускользающую мысль, то ли мучительно пытается что-то вспомнить.
Медсестра фыркает, говорит, продолжая писать:
— Дети сегодня какие-то ненормальные! Словно им не прививки делали, а пятки щекотали! Никакой серьезности. Впрочем, вокруг этой Конти всегда что-нибудь… Я не удивлюсь, если это она и сегодня…
— Конти? — у Врача взлетают брови. — Не может быть…
Он смотрит на захлопнувшуюся дверь, потом — на свой стол. На столе — открытый журнал регистрации. Крупным планом — имя и фамилия в последней графе.
Виктория Конти.
Врач говорит, но уже не так уверенно, словно пытаясь убедить сам себя:
— Этого просто не может быть…
Его голос перекрывает доносящийся с улицы смех.
Врач смотрит в окно. Во дворе играют дети, среди них мелькают белые брюки и оранжевая футболка.
Крупным планом — лицо Врача, сосредоточенное, нахмуренное, со сжатыми губами. Резкий взгляд из-под сдвинутых бровей прямо в камеру. Голос что-то решившего для себя человека:
— Дайте-ка мне ее карточку…
Ретроспекция
Салон движущейся легковой машины (камера на уровне лобового стекла). На улице пасмурно, дождь, по заднему стеклу бегут капли. За стеклом время от времени мелькают размытые неяркие огни города.
В салоне звучит тихая музыка, слева — плечо шофера в форме. На заднем сиденье — молодая, хорошо одетая женщина. Лет двадцать пять, не больше, светло-серый жакет, белый свитер, светлые волосы небрежно собраны назад, выбившаяся прядь все время падает на лицо, женщина постоянно отбрасывает ее привычным движением головы. Она красива, но устала и раздражена, курит длинную сигарету в светлом мундштуке — пальцы у нее тоже длинные и светлые.
Слева от нее, прямо за шофером, — девочка лет двух-трех. Стоит коленками на сиденье, обернувшись к заднему стеклу и положив локти на кожаную спинку. На ней светло-оранжевый комбинезончик-шорты и белые колготки. Волосы у нее такие же светлые, как и у сидящей рядом женщины, на макушке — крупный голубой бант с оранжевой каемкой в тон комбинезончику. Девочка тянется рукой к бегущей по стеклу капле. Проводит пальцем по стеклу, прослеживая ее короткую дорожку. Голос женщины — усталый, с ноткой раздражения:
— Сядь нормально, кому сказали? Горе ты мое…
Но в голосе нет той особой персонально направленной злости, с которой лучше не спорить, да и усталости в нем куда больше, чем раздражения — и потому девочка игнорирует этот голос, продолжая ловить прозрачных змеек.
Крупным планом — бегущие по стеклу капли. За ними — вечерний город, неясно и размыто, в быстром движении.
Смена кадра
Крупным планом — бегущие по стеклу капли. За ними — неясно и размыто — вечерний город. Но движения нет, это уже не стекло машины.
Камера отъезжает и показывает просторную комнату — мебель светлой полировки, светлый ковер, световые панели на потолке и светлых стенах, окна квадратные, полукруглый эркер. Мельком — журнальный столик у одного из окон, на нем ярким пламенем светятся лежащие алые гвоздички и стоит светло-коричневая ваза.
Камера скользит по обстановке, меняя фокус, и останавливается на стоящем у огромного зеркала мужчине в темно-сером плаще и черных брюках.
Камера показывает зеркало от окна, через столик (нерезко), мужчина со спины тоже сначала не в фокусе, резко — его отражение. Он высокий, черноволосый и кареглазый, с подвижным волевым лицом. Видно, что он знает, чего хочет от жизни, и привык добиваться желаемого всегда и во всем. Он вполне доволен своим внешним видом, своей работой, своей квартирой — да и жизнью своею в целом он тоже весьма доволен.
Диссонансом по цвету и стилю — приклеенный скотчем к зеркалу яркий журнальный разворот, фото явного папарацци. Трое на берегу реки. Черноволосый мужчина улыбается в камеру слегка принужденно, молодая женщина в белом купальнике смотрит неприязненно и надменно из-под светлой челки, девочка в голубых шортиках сидит на зеленой траве. Ее лицо наполовину закрыто оранжевой панамкой. Часть заголовка, крупные буквы: «Эдвард Конти и его вторая…»
Мужчина перед зеркалом берет шляпу, оглядывается и замечает цветы на столе (резкость переходит на гвоздики, они на первом плане, потом камера наплывает на вазу и тут же откатывается назад, — ваза уже в руках у мужчины, видны только эти крупные руки с безупречными ногтями и посверкивающими запонками на манжетах). Руки ставят вазу в раковину и включают воду. Струя возникает мгновенно, словно стеклянный прут, живое стекло разбивается в брызги боком светло-коричневой вазы.
Но вместо звуков льющейся воды слышны отдаленные сигналы машин, смутные звуки ночного города, скрип тормозов, звуки движения и дождя, тихая музыка, что уже звучала в салоне машины и устало-раздраженный голос светловолосой женщины, голос, в котором усталости больше, чем раздражения:
— Я кому сказала — не трогай!..
Камера потихоньку отъезжает, теперь видны стоящие в вазе гвоздики и обстановка кухни.
Кухня тоже выдержана в светлых тонах, но не бежевых, как гостиная, а скорее розовых, местами даже откровенно красных, как, например, красные ромбы на кафельных плитках, оранжево-алые кастрюльки на полках и что-то светло-бордовое на полу. Гвоздики кажутся здесь гораздо более уместными, чем в гостиной.
Конти мельком глядит на часы и протягивает левую руку к крану, одновременно правой берясь за край вазы.
Голос женщины:
— Я кому сказала…
Конти выключает воду и поднимает вазу.
Визг тормозов.
Женский крик.
Ваза неловко цепляется за край раковины, наклоняется. Выскальзывает из пальцев, медленно падает.
Женский вибрирующий крик продолжает звучать на фоне визга мокрой резины по асфальту. Грохот удара, скрежет ломаемого металла, звон стекла. Крик сначала теряется в звуках аварии, потом начинает снова нарастать, вибрируя и становясь все выше и выше.
На светло-бордовом ковре расползается темно-вишневое мокрое пятно, оно увеличивается, незаметно занимает весь экран, становится более насыщенным, почти черным.
Смена кадра
Женский крик усиливается, становясь окончательно неживым и незаметно переходя в вой сирены «скорой помощи». В правом верхнем углу черного экрана появляется светлое пятнышко, слабый серый огонек, оно растет, перемещается к центру, и камера вылетает из черного туннеля в дождливый вечер.
Сирена продолжает звучать, камера вместе со «скорой» стремительно проносится по мокрым улицам, влетает на больничный двор (быстрый обвод фасада, светящихся окон, стоящих и отъезжающих автомобилей, — и камера возвращается к приехавшей машине, но уже немного со стороны).
У машины — короткая деловая суета, обрывки фраз:
— Давление?..
— Давление падает…
— Противопоказания не отмечены…
— Проверьте еще раз…
Санитары с носилками, рядом — девушка, несущая капельницу, быстрым шагом (камера на уровне носилок, вид немного снизу). Распахнутые двери, яркий свет в коридоре, жмущиеся по стенкам встречные медсестры. Свет становится все ярче, последний поворот, еще одни двери, белый стол, столики с инструментами, какие-то медицинские агрегаты. (Камера быстро проходит по спирали вверх, цепляет операционные лампы — наполовину включенные — и возвращается к столу, но уже не снизу, а немного сверху, и теперь видно, что на этом столе что-то очень маленькое, гораздо меньше взрослого человека).
Свет усиливается до ослепительной вспышки, чей-то гаснущий голос:
— Давайте наркоз…
Смена кадра
Свет медленно гаснет, становится прерывистым.
Это мигалка на крыше патрульной машины.
(Камера отъезжает, дает общий план.)
Улица города, мокрый асфальт, в серовато-сиреневых мокрых сумерках режет по глазам ядовито-желтая форма патрульных. На первом плане — временное ограждение и знак объезда. Самого места аварии не видно, его загораживают машины дорожно-патрульной службы и «скорой». Мигалка на крыше «скорой» погашена, в движениях копошащихся рядом медиков нет обнадеживающей торопливости. Один из них курит у лобового стекла. Двое возятся рядом с открытыми дверцами.
Здесь уже никто никуда не спешит.
Камера придвигается к санитарам, теперь видно, что они укладывали в машину черный полиэтиленовый мешок. Другой такой же лежит прямо на мокром асфальте. Молния на нем расстегнута. Рядом, на корточках, — молодой врач. Поднимает голову, говорит, обращаясь к курильщику:
— Давай еще разок, а? Ну просто, на всякий пожарный…
Курильщик пожимает плечами, прижимается плотнее к машине, стараясь спрятаться от дождя. Молодой врач вздыхает, встает, сворачивает и убирает в машину какие-то провода, вздыхает еще раз, наклоняется, тянет за кольцо (слышен характерный звук закрывающейся молнии, камера надвигается, чернота закрывает весь экран.)
Смена кадра
Характерный треск открывающейся молнии, крупным планом — разъезжающиеся черные зубчики. Камера отъезжает, становится виден кусок стены, руки, а потом и весь Эдвард Конти. Он по-прежнему в темно-сером плаще, сидит на кушетке у стены, лицо бледное и растерянное, шляпы нет, от идеальной прически не осталось и следа. А черная молния — это молния кожаного бумажника, который он теребит в руках — то откроет зачем-то, то закроет.
Наконец, убирает бумажник, трет пальцами лоб.
Вскакивает навстречу вышедшему хирургу — тот снимает маску, улыбается успокаивающе, говорит неуверенно, словно продолжая убеждать сам себя:
— Ей страшно повезло, практически нет никаких внутренних повреждений, а остальное — заживет, у детей заживает быстро… В конце концов, главное ведь, что жива осталась и скоро будет здорова…
Тон у него явно противоречит словам, сочувственный и почти испуганный.
Это тот же самый Врач, что делал прививку Воображале, только на десять лет моложе — а по виду так и на все двадцать. Он устал и небрит, под глазами темные круги, но морщины на лбу только-только намечены, ни на какие залысины нет и намека, а главное — он еще не растерял умения сопереживать и чувствовать себя виноватым, когда никакой вины вроде бы и нет.
За окном ночь постепенно выцветает, превращаясь в раннее утро.
Смена кадра
За окном светло.
Резкий телефонный звонок, шум голосов.
Врач стоит у окна, держит в руках телефонную трубку. Лицо у него недовольное, прошлая небритость превратилась в короткую ухоженную бородку.
— Да, это я… Да, я понял, кто это… Ну что вы от меня хотите, я просто хирург… Да, делаем все возможное… Нет, гарантировать не могу… Это живой организм, как тут что-то можно гарантировать! Я вообще ничего не могу гарантировать, тем более… Да, все возможное, и невозможное тоже… Да, если привезете — обязательно учтем его мнение, но особой необходимости… Нет, еще рано судить… Подождите хотя бы, пока снимут швы…
Смена кадра
Темный коридор. Дверь кабинета. Тот же Врач, но видно, что прошло довольно много времени. Бородка его уже успела основательно отрасти и закурчавиться — аккуратненькая такая, можно даже сказать — солидная. Да и прическа теперь другая, волосы подстрижены короче и зачесаны назад. Может быть, именно это придает его внешнему виду легкую агрессивность. Несильную, но вполне ощутимую. И в тоне его больше нет ни следа былой неуверенности и сочувствия.
Врач возится с ключами, запирая дверь кабинета, говорит немного раздраженно, поглядывая в камеру через плечо — брови высокомерно приподняты, взгляд чуть свысока:
— А чего вы, собственно, хотели?.. Я нейро-хирург, а не косметолог! Мы и так сделали все возможное… Да ее же пришлось буквально по кускам собирать, где тут было думать о…
Пожимает плечами, добавляет с усилившимся раздражением:
— Обратитесь к специалистам, в администрации вам дадут адреса. Но я бы на вашем месте не торопился, дождался окончательного выздоровления… Зачем заранее впадать в панику, может, там половина сама собой рассосется, известны же случаи… Организма молодой, восстанавливается легко, это в нашем возрасте, знаете ли, а у нее… Ткани еще мягкие, быстро растущие… Ну, и физиотерапия, конечно… Я бы на вашем месте просто подождал. Полгода — не такой уж большой срок, дайте организму отдохнуть, у нее же и так там шов на шве…
Врач уходит по темному коридору. Он идет очень быстро, можно подумать даже, что убегает, но голова его поднята гордо и независимо, а незастегнутый белый халат бьется за спиной, словно накрахмаленные крылья.
Конти смотрит ему вслед.
У него странное выражение лица — очень спокойное. Очень-очень спокойное, даже слегка застывшее в этом спокойствии.
Больница живет своей жизнью — по коридору проходят люди, кого-то провозят в инвалидном кресле, пробегает молоденькая медсестра со стопкой затребованных кем-то папок. У окна две пожилые женщины в не слишком свежих белых халатах — то ли медсестры, то ли санитарки, то ли просто дежурные. Говорят о чем-то своем (камера фокусируется на них, приближается).
Одна из женщин замечает медленно идущего по коридору Конти, расширяет глаза, толкает другую локтем в бок, шипит краем губ:
— Глянь-глянь, отец пошел! Да вот же он, куда ты смотришь?!..
— Тот самый?.. Ужас-то какой, ой-ты, господи!.. — вторая моргает подслеповато, качает головой в мелких фиолетовых кудряшках. Поджав тонкие накрашенные губы, добавляет: — Горе-то какое!
Но любопытства в ее голосе намного больше, чем сопереживания. Первая морщится, словно разжевала лимон. Шипит сквозь зубы, глядя вслед Конти почти злорадно:
— Я всегда говорила — зря тогда запретили эвтаназию. Как же — негуманно, нарушение прав человека!.. Вот теперь и… уж лучше бы сразу, вместе с матерью… Она же вся переломанная… Вся, просто живого места… Как ей теперь с такой-то вывеской?.. А если еще и дурочкой останется?! Нет, уж лучше бы сразу…
— Ай, не скажи! — вторая опять трясет фиолетовыми кудряшками, в голосе ее последние капли сочувствия исчезают под мощным наплывом зависти, — Это же не мы с тобой — это же сам Конти! С их-то деньжищами — и не сделать своей доченьке новой мордашки? Как же! Сейчас из любой уродины тебе такую конфетку склепают — будьте нате! Только плати. Мало ли, что она не реагирует… логопедов наймут, профессоров там всяких… С их-то деньжищами!.. Выучат, вылечат, и личико подштукатурят, и ножки удлинят — сейчас все можно! Если деньги есть.
Первая смотрит в окно.
На улице яркое солнце отражается в лужах. Ярко-зеленая трава на газонах и еще по-весеннему полупрозрачные деревья.
Черная машина с тонированными стеклами — у самых дверей. Шофер предупредительно распахивает дверцу. Конти, помедлив, садится.
Беззвучно захлопывается дверца, машина медленно трогается.
Первая санитарка смотрит вслед уезжающей машине. Говорит очень тихо:
— А я бы все равно не хотела — вот так… Даже со всеми ихними деньжищами впридачу…
И вторая не находит, что на это ответить, сразу теряя весь свой напор. Только поджимает губы и опять встряхивает фиолетовыми кудряшками…
Смена кадра
Камера движется вдоль темно-серой стены, на стене — пара кашпо с яркими неживыми цветами, какие-то выцветшие плакатики разъяснительно-предупредительного содержания о вреде курения, алкоголя и чего-то там еще. За коротким коридорчиком — просторный холл зоны ожидания. Мягкие кожаные диваны, телевизор, аквариум, столики с журналами.
Людей в зоне ожидания не слишком много — пожилая женщина с недовольным выражением лица, рядом с ней — толстая девочка лет семи, она ест банан, очень сосредоточенно и целеустремленно, с видом человека, занятого чрезвычайно важным делом. Перед каждым новым укусом пухлые губы на миг застывают, а потом резко смыкаются — решительно и неотвратимо. Вот она открывает рот очередной раз — и замирает, забыв про свое важное дело и буквально вытаращив глаза на что-то, пока находящееся за кадром. Женщина одергивает ее, но и сама исподтишка бросает в ту сторону любопытные взгляды, поджимает губы.
Камера отъезжает. На следующем диванчике за аквариумом — девушка с глянцевым журналом, мальчик в очках и старушка. Девушка перестает читать, мальчик моргает, снимает очки, начинает их протирать, старушка просто смотрит — смотрит жадно, в упор..
Мимо них проходит Конти (высокий, очень прямой и напряженный), ведя за руку девочку лет трех. (Девочка со спины, белые колготки, оранжевое платье, голубой бант с оранжевой каемкой). Девочка прихрамывает, и поэтому Конти идет медленно. Но Конти все равно предпочитает не брать ее на руки, словно от этого зависит что-то важное.
Сидящие в холле смотрят им вслед. На лицах — нездоровое любопытство, интерес и отвращение, что-то неуловимо одинаковое, несмотря на разные оттенки…
Камера скользит вдоль ряда этих лиц, сначала медленно, потом слегка ускоряя движение.
Смена кадра
Ощущение непрерывного движения — сначала вдоль стены, потом в открывшиеся двери.
В кабинете движение не останавливается, его продолжает встающая навстречу вошедшим полная женщина-врач, она глядит только на Конти, игнорируя девочку, качает головой:
— Сожалею, но Виталий Павлович просил передать, что не видит смысла продолжать процедуры, за последнее время улучшений не зафиксировано, так что ничем больше не можем вам…
Камера, продолжая движение, делает разворот к дверям, двери раскрываются…
Смена кадра
Двери раскрываются, на них накладываются другие раскрывающиеся двери — другие двери другого кабинета.
Старик за столом (высокий, худой, нескладный), все время смущенно хмыкает:
— Сожалею, что вы… хм… проделали такой… хм… путь…
Выбивает пальцами дробь на столешнице.
Пока он говорит, камера делает быстрый объезд кабинета, на секунду задерживается на девочке у окна.
Девочка смотрит в окно. Окно выходит на Дворцовую площадь, вид немного сверху, этажа с четвертого. Вокруг Александрийского столпа — шумный митинг. Бьются транспаранты, конный отряд блюстителей порядка пытается прорваться сквозь толпу. Камера меняет фокус, теперь резко видно стекло, мутно — панораму. По стеклу бегут крупные капли — на улице идет дождь.
Смена кадра
На улице дождь. Капли бегут по стеклу.
Молодой женский голос говорит на не очень твердом, излишне правильном русском:
— Мы были бы рады, но правила устанавливаются не нами, и если вероятность благополучного исхода менее тридцати процентов…
Камера меняет фокус. За окном (видно, что это первый этаж) — старая улочка маленького европейского городка, угол ажурной решетки, старый фигурный фонарь, лепнина на стенах.
Камера отъезжает.
Девочка по-прежнему смотрит в окно, она и одета почти по-прежнему — платье, хоть и другого фасона, но тоже оранжевое. Камера делает объезд кабинета, явственно направляясь к дверям. Цепляет Конти и молоденькую, очень серьезную девушку за столом. Девушка продолжает говорить:
— Существует еще Совет Учредителей, и если вы обратитесь лично, может быть…
Но камера уже в очередном коридоре.
Движение нарастает, пока еще очень медленно, почти незаметно. Вдоль стены сидят какие-то люди, они оборачиваются, отвлекаются от своих дел, на лицах — все те же страх и нездоровое любопытство.
Смена кадра
Новый кабинет.
Девочка (со спины) сидит на высоком белом стуле с ажурной спинкой, ее ноги в белых колготках и светло-голубых туфельках далеко не достают до пола. Рядом с ней — маленький юркий человечек в белом халате и с гривой таких же белых волос. Он вертит сухонькими ручками ее голову, мнет лицо, поворачивает, приподнимает, щупает кожу. Ему для этого даже не приходится наклоняться. Наконец, поднимает голову, пожимает плечами:
— Боюсь, что не могу вам ничем…
(Все это — очень быстро, камера только успела объехать их с девочкой вокруг и вновь устремилась к дверям, окончания слов уже не слышно).
Вновь коридор, движение убыстряется, лица у стены почти сливаются.
Лица — другие.
Но выражение на них — то же самое…
Смена кадра
Снова кабинет.
Профессор с бородкой разглядывает черные пластинки рентгеновских снимков, складывает их в стопочку, кладет на стол, руки у него жесткие, с твердыми пальцами. Говорит что-то по-немецки, коротко и отрицательно. Пожимает плечами.
Лицо у него отстраненно-скучающее.
Смена кадра
Крупным планом — снимки.
К ним тянется пухлая рука.
Камера отъезжает назад.
Но не делает попытки устремиться к двери.
И вообще, в этом кабинете есть что-то необычное. Может быть — то, что Конти сидит на стуле (до сих пор его показывали только стоя).
Может быть — раскрытые окна, в которые врывается слабый шум прибоя — окна выходят прямо на пляж, по которому разбросаны какие-то беседки, скамейки, зонтики и шезлонги, а чуть подальше — еще пара одноэтажных домиков. Может быть — сам врач, толстый китаец неопределенного возраста.
Или то, что этот китаец улыбается…
По контрасту с Конти, одетым в темно-серый костюм при галстуке и накрахмаленных манжетах, на китайце что-то легкое и легкомысленное (белые полотняные брюки и майка с короткими рукавами).
Китаец откладывает снимки. Пожимает плечами. Продолжает улыбаться. Голос у него мягкий и слегка виноватый:
— Я врач, а не Господь Бог…
Но движения к двери не возникает, этому мешает доносящийся из окна смех и шум прибоя. Звуки вдруг становятся громче, привлекая внимание, камера переходит на окно и девочку (со спины).
Девочка смотрит в окно.
За окном — пляж, море, солнце. Несколько загорелых молодых людей играют в ручной мяч. Шум прибоя и смех становятся несколько тише.
Голос китайца, заканчивающего фразу:
— … именно ко мне?.. В Питере и под Арзамасом есть пара неплохих клиник, я уже не говорю про Южно-Сахалинский Центр, почему бы вам…
Камера возвращается в кабинет. На лице Конти — жесткая невеселая улыбка, китаец понимает ее без слов, его тон несколько меняется:
— О-о… Но и в Европе есть неплохие специалисты… Вы не были в Копенгагене?.. О-о… хм-м… Ну, а в Южной Словении?.. Этот Иртрич… говорят, он просто творит чудеса…
Конти продолжает улыбаться, лицо у него закаменевшее, неживое. Китаец еще сильнее меняет тон, теперь он непривычно серьезен и уважителен:
— Даже так… Тогда… — замолкает на минуту, жует губы, трет лысину тем движением, каким другой поправлял бы волосы. Добавляет после паузы, задумчиво, но решительно:
— Тогда вот что я вам скажу…
Шум прибоя усиливается, заглушая его слова, камера вновь переходит на окно, приближается, объезжает.
Окно теперь расположено не в кабинете, а на полуоткрытой веранде, одна сторона ее открыта, на двух торцевых — большие окна, они тоже открыты. На веранде — стол с остатками завтрака или просто легкого чая: кофейник, чашки, тыквенные семечки в плоской вазе, фисташки, тонкие бутербродики. У стола — три стула, на двух, друг напротив друга, — Конти и китаец. Конти уже без пиджака, галстук сбит, рубашка немного помята, прическа растрепана. Он курит, по его облику и горке окурков в пепельнице на столике (на секунду — ее крупным планом) видно, что прошел уже не один час.
Третий стул немного отодвинут от стола к боковому окну. На нем, коленками на сиденье, стоит девочка, положив локти на подоконник и глядя в окно. Шум прибоя (человеческих голосов и смеха с пляжа больше не слышно).
Китаец говорит, и шум прибоя время от времени перекрывает его слова:
— …уяснить, что вам, собственно, надо? Надо ли вам, чтобы она выиграла конкурс на мисс Вселенную, или же вам просто надо, чтобы она была счастлива? В первом случае — я опять повторяю вам то, что вы уже слышали, и н только от меня…
(Шум прибоя)
— …что такое красота? У разных культур на этот вопрос разные взгляды. Нет абсолютных и всеми во все века признаваемых эталонов. То, что казалось прекрасным вчера, завтра может вызвать лишь…
(Шум прибоя)
Камера уходит с веранды. Скользит по пляжу, мимо рекламного плаката какой-то фирменной джинсы — «Ты — это то, что ты носишь!», голос китайца:
— …Мы — это то, что мы носим, будь то одежда или тело. И, главное, — как носим. Любой, самый изысканный вечерний туалет можно носить так, что он покажется грязной тряпкой. И можно выглядеть принцем в застиранных джинсах…
(Шум прибоя)
Во время этого и дальнейшего разговора камера движется по пляжу, потом по воде, на солнце. Солнце постепенно становится менее ярким, отступает, касается воды. Камера возвращается на пляж. Уже вечер, на пляже никого, кроме Конти, китайца и девочки.
Конти и китаец вынесли на пляж стулья с веранды, от них по оранжевому песку тянутся длинные ярко-синие тени. Девочка сидит прямо на песке. Волосы ее растрепаны ветром, бант развязался. Она зачерпывает песок голубой туфелькой и смотрит, как он высыпается.
Она сидит к нам лицом, но лицо это в тени, да и не видно его из-под спутанных светлых волос.
— …Воображение — великая сила. Мы такие, какими себя представляем, это верно процентов на восемьдесят. Или, что еще более верно — мы такие, какими представляют нас окружающие. Говорите человеку ежедневно, что он свинья — и рано или поздно он захрюкает…
(Шум прибоя)
— …и что вы думаете? Тюрьмы там действительно забиты теми, кто родился в среду. Потому что им с пеленок внушалось — раз уж ты родился в среду, то тебе судьбой предначертано стать преступником и никакой другой возможности…
(Шум прибоя)
— …Вспомните сказку про Золушку. Знаете, что именно превращало ее в принцессу? Не крестная фея с ее платьем и волшебными туфельками, не карета с лакеем и даже не принц — это все внешняя атрибутика, станьте принцессой, и все это у вас появится автоматически. Ее преображала уверенность в себе. Внутренняя уверенность, вера, если хотите…
(Шум прибоя)
— …Уверенность в себе способна любую дурнушку превратить…
(Шум прибоя)
— …Конечно, она никогда не станет топ-моделью, но при наличии уверенности в себе любой физический недостаток может выглядеть просто милой и пикантной особенностью. А вырастить ее такой…
(Шум прибоя)
— …Сложно, да… Трудно… Не стану вас обманывать — это будет очень трудно. Придется многое поменять в вашем ближайшем окружении, я не только жилье имею в виду, потратить много времени и сил… Вам придется изменить сам образ жизни, не говоря уж… (шум прибоя)
— …Не в городе, нет, ни в коем случае! Это первое, что просто необходимо… в городе, особенно большом, вы не сможете, мегаполис засасывает. Поначалу будет казаться, что все в порядке и вы вполне справляетесь, а потом станет поздно… Только свой дом, где-нибудь в глуши, без соседей… только свои, проверенные люди, и никаких посторонних контактов, пока она… (шум прибоя)
— …А я и не говорил, что это будет просто! Но вы все-таки подумайте, слишком ли это большая цена… Мне почему-то кажется, что не очень. Во всяком случае — для человека, который сумел пробиться к самому Иртричу без трехгодичного предварительного ожидания… Попробуйте… В конце концов — что вы теряете?..
Камера наплывает на солнце, солнце желтеет, тускнеет, подергивается дымкой.
Смена кадра
Мутно желтое тусклое солнце сероватого городского дня. Вид из окна высотного дома — того самого дома, из первых кадров. Камера захватывает руку с сигаретой (камера на уровне глаз курильщика).
Конти затягивается, выпускает дым красивой струйкой.
Вдруг камеру закрывают маленькие ладошки, в темноте звучит заливистый детский смех.
Камера выныривает из темноты назад, захватывая целиком стоящего у окна Конти и вскарабкавшуюся на стул и подоконник девочку. Конти оборачивается, подхватывает девочку на руки, кружит по комнате. Девочка смеется.
Камера приближается, пытаясь поймать ее лицо, но девочка смеется, трясет головой…
Голос Конти (тон отчаянно-решительный):
— Какая же ты у меня красивая!!!..
И в этот момент камере наконец удается поймать ее лицо.
Эхом продолжает звучать: «Красивая… красивая… красивая…»
Ее лицо больше всего похоже на лоскутное одеяло из-за множества разномастных шрамов и шрамиков разной длины. На нем не видно ни бровей, ни ресниц. Шрамы по-разному стягивают кожу, поэтому внешний угол левого глаза сильно приподнят к виску, а внутренний угол правого опущен, из-за чего глаз кажется вывернутым. Губы тоже перекошены по диагонали в незакрывающейся гримасе так, что видны мелкие неровные зубы.
И, хотя девлчка смеется, лицо это остается совершенно неподвижным…
Смена кадра
Конти открывает дверцу домашнего бара, улыбается:
— Заходите, заходите! Володя не слишком Вас напугал? Он иногда перегибает… Мы сегодня чисто мужской компанией, так что я за бармена. Что предпочитаете? Пиво? Что ж, в такую жару самое правильное… Так что там насчет диспансеризации, я как-то не совсем понял по телефону…
На его лице — выражение легкой заинтересованности, насмешливое такое и чуть снисходительное, словно он знает нечто, неизвестное собеседнику.
Голос его затихает, ответ Врача вообще не слышен, перекрытый звуками холла, по которому движется камера. Стук старинных часов с маятником, легкая ритмическая музыка (в мелодии отдаленно угадывается намек на «поп-корн», свободная вариация), шелест занавеси на окне. Обстановка темная, добротная, тяжелого неполированного дерева. У окна — огромная пальма, под потолок. Много пустого пространства, мебель расположена вдоль стен, деревянная лестница на второй этаж. Камера следует по ней, но не поднимается до конца, останавливается на полпути, показывая открытую дверь в кабинет.
В отличие от полутемного холла первого этажа, кабинет ярко освещен, полоса света падает из открытой двери на лестницу, голоса говорящих становятся громче, и не только потому, что Конти повышает голос:
— Уверяю вас, что вы заблуждаетесь…
— А я уверяю вас, что это исключено.
Голос Врача тоже слышен явственно, хотя говорит он негромко.
— Технически невозможно засекретить легальную операцию такого масштаба, пусть даже не будет публикаций, но слухи обязательно должны быть, хотя бы в профессиональных кругах, у меня все-таки богатый опыт… И, однако же…
— Повторяю — вы заблуждаетесь.
— Не понимаю, к чему это упрямоство?! Согласен, поначалу причины держать все в тайне, может быть, и были. Может быть! Операция явно была нелегальной, я уже говорил, возможно, проводивший ее хирург был когда-то дисквалифицирован. Возможно, у него не было диплома или лицензии, может быть, его считали шарлатаном или даже преступником. Видите? Я вполне это допускаю! Но ведь прошло столько лет!.. Никто не собирается предъявлять ему обвинение, наоборот! Человек, сумевший сотворить такое чудо, не должен оставаться в неизвестности! Мы должны помочь ему! У меня есть связи… Человек, сумевший хотя бы один раз в своей жизни провести подобную операцию…
На пару секунд музыка становится громче. Резкий скрип двери. Полосу света перекрывает выдвинувшийся откуда-то сбоку массивный силуэт. Подчеркнуто спокойный голос Конти:
— Володя, этот человек уже уходит. Проводите его, пожалуйста.
— Вы меня не так поняли! Я просто хотел…
— Благодарю вас, Володя…
Смена кадра
Конти берет с заднего сиденья автомобиля портфель, аккуратно прикрывает дверцу с тонированными стеклами. Начинает подниматься по длинным широким ступеням — неторопливо так подниматься, со вкусом.
— Послушайте, нам надо поговорить!
Конти ускоряет шаг.
Врач выныривает откуда-то сбоку, бежит рядом, пытается заглянуть в лицо. Говорит торопливо:
— Не понимаю вашего упрямства!.. Хорошо! Пусть!.. Я хирург, мне трудно поверить, но — пусть! Пусть не было операции, пусть, но ведь что-то же было, ведь было же?!.. Нетрадиционные методики, хелеры или кто там еще, я понимаю, да, понимаю, хотя мне и трудно поверить в подобное, но — пусть… Я даже в шаманство могу поверить — пусть, если оно работает, почему бы и нет… Но зачем отрицать очевидное? Зачем скрывать?!!
Не обращая на него ни малейшего внимания, Конти проходит через предупредительно распахнувшиеся зеркальные двери. Кивает охраннику.
Охранник, привстав, озадаченно меряет Врача цепким взглядом. Делает в его сторону движение подбородком, неуверенно спрашивает у Конти, остановившегося у дверей лифта:
— Это — с вами?
Конти еле заметно усмехается, качает головой.
— ЭТО — не со мной.
Охранник встает окончательно, и словно бы даже становится шире в плечах и выше ростом. Оттесняемый к прозрачным с этой стороны дверям Врач повышает голос:
— Послушайте, это же и в ваших интересах!.. Я ведь все равно докопаюсь, наверняка сохранились архивы!..
Смена кадра
Из окна своего кабинета Конти наблюдает, как перед ажурной решеткой ворот Врач объясняется с ребятами из охраны. Ребята вежливы, но непреклонны. Не оборачиваясь, Конти говорит возникшему в дверях кабинета то ли охраннику, то ли дворецкому:
— Приготовьте машину через час и предупредите краснослободских, кто там дежурит… Я поживу какое-то время на даче.
Охранник, молча кивнув, исчезает. Звучат первые такты «Воздушной кукурузы» — сигнал мобильника.
Конти отворачивается от окна, берет со стола трубку.
Смена кадра
Воображала лежит на спине на подоконнике в расслабленной позе, болтает ногой, смотрит, щурясь, в яркое небо. Руки закинуты за голову. Телефонную трубку она прижимает к уху плечом.
— Привет!.. Ага, кто же еще… Я к тебе тут намылилась — не возражаешь?.. Ну-у-у, папка, какая школа! Каникулы же… Покупаемся, рыбу половим… Да брось ты, ты что — так сильно занят, что даже на пару дней… Да скучно здесь, все разъехались…
Смена кадра
Конти смотрит в окно.
Врача перед решеткой уже нет, но охранники все еще стоят у ворот, о чем-то переговариваются, то и дело поглядывая то по сторонам, то в сторону дома.
Конти перекладывает телефон в другую руку, говорит задумчиво:
— Тоська, а ты бы не хотела куда-нибудь слетать, а? К морю, например… недельки так на три… Или в горы… Помнишь, ты на Алтай вроде хотела?.. А дней через пять-шесть и я бы к тебе…
Смена кадра
— Папка, у тебя что — проблемы?!
Воображала уже не лежит на подоконнике — она сидит на нем, поджав под себя ноги и готовая в любой момент вскочить. Она не встревожена ничуть и уж тем более не испугана — скорее, обрадована.
— Тогда я приеду, да?! Сегодня же, прямо сейчас, да?!..
У Конти на этот счет оказывается, похоже, мнение диаметрально противоположное. Воображала выслушивает длинную трубочную тираду почти молча, только вставляя иногда, через долгие паузы и скучнея на глазах:
— Ну что ты, в самом деле!.. Ну что я — совсем, что ли, маленькая?.. Ой, да ладно тебе!.. Ладно, ладно, не буду… Ну я же сказала… Ты точно уверен, что никаких проблем?.. И с Анаис?.. Ладно, ладно… Обещаю… Сказала же — обещаю!.. Не, не хочу… Одна, говорю, не хочу… Я лучше тут покисну, а как ты со своими несуществующими проблемами разберешься — вот тогда и… Ладно, ладно, пока.
По мере разговора она потихоньку расслабляется, и к концу уже снова лежит на подоконнике — правда, на этот раз на животе, и ногами в воздухе болтает обеими.
Вертит отключенный телефон в руках, смотрит на него задумчиво. Пожимает плечами, говорит сама себе:
— Ладно, ладно, обещала ведь!.. Большому мальчику — большие игрушки!
Хихикает, вспомнив что-то свое. Одним плавным движением перекатывается на спину. Закидывает руки за голову. Смотрит, щурясь, в яркое небо.
Смена кадра
— Малая Ахтуба, вторая терапевтическая…
Врач стоит в таксофонной будке, опираясь плечом на прозрачный пластик закругленной стенки. Стоит он так явно давно — поза удобная, почти расслабленная.
— Да нет, Эдвард Николаевич, я отлично знаю, куда именно я звоню, я просто хотел успеть сообщить самое главное, пока вы не бросили трубку… Вторая городская больница на Рабочей, номер дома не помню, там еще такой смешной заборчик и елочки… Я был там. И что любопытно — они таки хранят архивы за последние тридцать лет… Интересные у вас дочери, Эдвард Николаевич… Особенно младшенькая… Да, и в нашей семнадцатой я тоже был, с Александром Денисовичем у нас нашлись общие знакомые, разговор получился весьма занимательный… Чего я хочу? Странно… Мне кажется, вы меня совсем не слушали… Я с самого начала хотел с вами просто поговорить. Просто поговорить, понимаете? И сейчас я хочу этого даже больше, чем раньше. Особенно после разговора с Никитенко… Нет, вы ошибаетесь, это меня совсем не устроит… Нет, дело не в сумме, я хочу просто поговорить… Точнее, я хочу попытаться вас убедить в необходимости… ну, вот так бы с самого начала, совсем ведь другое дело! Да, благодарю вас, мне это вполне подходит… Хорошо, договорились.
Врач аккуратно вешает трубку, торжествующе подмигивает своему отражению в черном пластике панели. Показывает ему два больших пальца.
Смена кадра
На черный пластик, смутно отражающий какие-то малопонятные фигуры, падает треугольная бирка ядовито-желтого цвета с привязанным к ней светящимся пластмассовым черепом. В центре треугольника просверлена широкая дырка, на лбу у черепа — черные цифры. Звуки дискотеки приглушены парой дверей, но все еще вполне отчетливы.
Рука с черным лаком на заостренных ногтях сгребает номерок, заменяя его оранжевой ветровкой.
— Ты что — уже уходишь? Рано же!
Воображала натягивает ветровку перед огромным треугольным зеркалом в черно-желтой раме. Пожимает плечами.
— Скучно тут.
Рядом с зеркалом отираются шестеро ребят приблизительно ее возраста, три девчонки — как бы сами по себе, и трое же парней — тоже как бы сами по себе.
— Да брось ты! — неуверенно возражает густо намазанная черно-белым девочка в узких блестящих брючках и с обесцвеченной челкой, — Сейчас еще наши придут, будет весело…
— Не будет, — голос у Воображалы куда более уверенный, можно даже сказать — весомый. Она не просто говорит — она словно прислушивается к чему-то, что-то решает, и, наконец, кивает удовлетворенно, в чем-то сама с собою согласившись. — Здесь весело сегодня уже не будет.
Личико накрашенной под оголодавшего вампира девочки огорченно вытягивается. Она спрашивает с какой-то странной надеждой:
— А ты сейчас домой или…
— Не знаю… — Воображала задерживается в дверях, — Пройдусь, наверное, по набережной, посмотрю… Может, в «Коли-Вали» загляну, там обещали сегодня что-то любопытное… там видно будет. Пока!
— Пока-пока… — крашеная отвечает отстраненно, думая о чем-то другом.
— Везет же некоторым! — шипит ее соседка с коротким ярко-оранжевым ежиком на макушке и огромными сережками-бабочками в пол-уха. — Ее отец совсем не контролирует, одну на недели оставляет, живи-не хочу! и даже дома когда, никаких наездов, хоть всю ночь шляйся — и ничего! Вот же повезло с родаком… А мне стоит на десять минут опоздать — так такой ор подымается! И хоть бы ценила — так нет же! Скучно ей!
— Ну так что? — лениво подает голос один из парней, — Заходим, или вы до утра тут топтаться будете?
— Лучше пойдем отсюда, — решительно мотает мерцающей челкой третья девочка в черном топике и блестящих облипающих брючках, — У нее нюх. Если сказала, что здесь сегодня уже ничего интересного не будет — значит, и на самом деле не будет ничего… Лучше, действительно, по набережной погуляем, там сейчас красиво…
— И бесплатно! — оживляется еще кто-то из парней.
— Или в «Коли-Вали», что ли, заглянуть?.. — продолжает Светящаяся Челка мстительно, — Там хоть и дороговато, зато интересно будет, раз она так сказала… У нее — нюх!
— Это точно! — подтверждает третий парень, со вздохом отлепляясь от стены, — Мы с ней в параллельных учимся. Сколько раз замечал — стоит ей где-нибудь появиться — и все сразу становится очен-но даже интересным! Особенно на уроках… У нас физкультура совмещенная…
Все три девчонки, синхронно обернувшись, одаривают его одинаково уничтожающими взглядами. Потом синхронно фыркают и так же синхронно отворачиваются. Переглядываются, кивают друг другу решительно:
— Так, значит — в «Коли-Вали»?
— В «Коли-Вали»!..
За их спинами медленно закрывается массивная темная дверь.
Ретроспекция 2
Камера отъезжает от лестницы — лестница покрыта пока еще совсем новеньким ковром — и вновь дает панораму холла. Он практически не изменился, разве что уже знакомая мебель выглядит несколько поновее, шторы на окнах другие да пальма в кадке совсем маленькая, еще не доросла и до подоконника.
У серванта — он выглядит странно из-за отсутствия стекол и зеркальных стенок — стоит Фрау Марта. Это пожилая женщина в темном строгом платье. Седые волосы убраны под простую белую наколку. Держится она с чопорным достоинством и непоколебимой уверенностью, пыль с серванта вытирает с видом королевы.
Наверху хлопает дверь, слышны резкие, злые шаги (камера рывком переходит на лестницу), по ступенькам быстро спускается молодая девушка с некрасивым озлобленным лицом. Она на высоких каблуках, к тому же в обеих руках у нее по сумке, а на плече — еще одна. Сумки большие, так называемая «мечта оккупанта», набиты небрежно, а та, что на плече, даже не застегнута, из нее торчат какие-то женские шмотки, свисает длинный желтый шарфик.
Может быть, девушка эта и выглядела бы вполне ничего в другое время, но сейчас висящая на плече сумка перекашивает ее фигуру набок, а красные пятна ярости отнюдь не добавляет привлекательности ее столь же перекошенному злобой лицу.
— Не напугаете! — кричит она куда-то наверх, срываясь на визг, — Не те времена!
В холле пытается поправить подбородком сползающий ремень сумки, замечает расстегнутую молнию. Отпускает сумки из рук, роняя их на пол, третью швыряет на стол. Закрывает молнию, прихватив шарфик. Движения резкие, злые. Голос у нее тоже резкий и неприятный, лицо красное и не очень умное. Замечает Фрау Марту, и теперь уже обращается не к лестнице, а к ней:
— Я в суд пойду! Нет такого закона, чтобы за правду вышвыривать человека на улицу!
Она резко дергает молнию, но та не поддается, мешает застрявший шарфик. Девушка нетерпеливо дергает еще раз, шипя что-то сквозь зубы, потом силы ее внезапно оставляют, и она падает на стул, всхлипывает, трясет головой, бормочет жалобно:
— Господи, и было бы за что?!.. Ведь ни разу!.. Ни разу!..
По лицу ее текут мелкие злые слезы. Фрау Марта — по-прежнему молча и невозмутимо — ставит перед ней тонкую фарфоровую чашку, над чашкой поднимается парок. Со второго этажа доносятся звуки пианино — неуверенной рукой, практически одним пальцем, там пытаются наиграть «Воздушную кукурузу». Сбиваются, начинают сначала.
Девица поднимает голову, ее настроение вновь изменилось, губы искривлены, глаза зло сужены. Она шипит с ненавистью:
— У-у, ведьма психованная!.. — переводит ненавидящий взгляд на Фрау Марту, морщится, — Все вы здесь психи! Вот и нянькайтесь сами со своей психованной уродиной, а с меня хватит! Да я и за миллион не останусь в этом сумасшедшем доме! Вы еще умолять будете! Вы еще на коленях…
Вскакивает, сдергивает со стола сумку, задев чашку, подхватывает вторую сумку с пола и ковыляет к двери. (Наверху продолжают наигрывать «Воздушную кукурузу», сбиваются, начинают сначала). Фрау Марта невозмутимо убирает чашку и вытирает пролитый чай. Крупным планом — ее руки, ритмично двигающиеся по поверхности темного неполированного дерева…
Смена кадра
На фоне темного неполированного дерева — фотография в пластиковой рамке. Любительский снимок — Фрау Марта держит за руль яркий велосипед, на котором сидит девочка в оранжевом свитере и белой юбочке. Девочке на вид лет пять.
На секунду прорывается голос врача:
— Послушайте, ну что вы мне… Я не понимаю, какое отношение…
Его обрывает грохот захлопнувшейся двери. Фоном, приглушенно — быстрый «Чижик-пыжик» на пианино, плавно переходящий в уверенную «Воздушную кукурузу».
Ретроспекция 3
Крупным планом — руки Фрау Марты. Они больше не вытирают стол, они на него опираются. Твердо так опираются. Непоколебимо. Камера на уровне крышки стола, и поэтому видно, что на нем между руками Фрау Марты что-то лежит, что-то маленькое и плоское. Слышны приглушенные всхлипывания. Камера медленно отъезжает назад, звучит голос фрау Марты — сразу ясно, что это именно ее голос: суровый, сухой, негромкий и властный:
— Вы были ознакомлены с правилами поведения в этом доме? Отвечайте, когда Вас спрашивают!..
Молодой женский голос, дрожащий, запинающийся:
— Д-да, м-мэм…
— И денежная компенсация тех мелких неудобств и ограничений, которые от Вас требовались, была признана Вами вполне удовлетворительной?
— Н-но, мэм…
— Я спрашиваю — да или нет?
— Д-да, м-мэм.
— И у Вас никогда не возникало претензий по поводу Вашего не совсем обычного контракта?
— Но, мэм!..
— Да или нет?
— Н-нет, м-мэм…
— Тогда как прикажете понимать вот это?!.
Всхлипывания становятся громче. Теперь камера отъехала достаточно далеко, чтобы можно было видеть, что дело происходит не в холле, а в одной из верхних комнат, скорее всего — в кабинете или в библиотеке (по стенам расположены высокие книжные шкафы, у одного из которых жмется обладательница молодого голоса. Она действительно очень молода — гораздо моложе той, что грозила судом. Да и выглядит эта девушка куда более приятно, хотя в данный момент и пребывает она в крайней степени отчаяния — теребит белый передничек и размазывает по личику косметику).
— Тогда как Вы могли принести сюда ЭТО? Полагаю, Вы и сами понимаете всю непростительность подобного поведения.
Фрау Марта негодующе вздрагивает, передергивает плечами. Направляется к двери. Девушка бежит за ней:
— Но, мэм!!!
— О Вашем проступке немедленно будет…
Их голоса гаснут, отрезанные массивной дверью. Щелкает замок. С лязганьем дважды проворачивается ключ. Рыжий персидский котенок, все это время наблюдавший за людьми из массивного кресла, вспрыгивает на стол, трогает лапой вызвавший такое возмущение предмет. (Камера движется к столу — медленно и немного сверху).
Это зеркальце.
Обычное маленькое карманное зеркальце. В нем отражается котенок. И окно. И пыльные деревья за окном. И кусочек яркого неба…
«Воздушная кукуруза» на секунду становится громче и резко обрывается.
Шум города.
Смена кадра
В круглом зеркале отражаются пыльные деревья и кусочек яркого неба. Вдруг все это перекрывает рыжая макушка Воображалы, она поднимает голову, глядя прямо в зеркало (крупным планом — ее улыбка).
Камера отъезжает, круглое зеркало — зеркало мотоцикла в витрине между парой очень приличных и очень скучных манекенов. Воображала смотрится в него прямо с улицы, через стекло.
Она стоит у самой витрины, легко опираясь одной ногой на скейт и развлекаясь со своим отраженным двойником — показывает ему язык, шевелит бровями, вытягивает губы трубочкой. Замечает манекены.
Морщится недовольно и кисло — манекены ей явно не нравятся. Потом задумчиво поднимает брови, улыбается хитрой половинчатой улыбочкой, не оборачиваясь, осторожно косит глазами по сторонам и, убедившись, что никто не обращает на нее внимания, снова переводит взгляд на манекены — на этот раз прицельно, слегка сощурившись, как и в случае с огрызком.
Визг тормозов.
Легкая дрожь изображения.
Воображала быстро стреляет глазами влево-вправо с видом человека нашкодившего и не желающего попадаться, но отнюдь не раскаивающегося. Отталкивается от бордюра ногой и, быстро набирая скорость, исчезает за углом.
Манекены в витрине изменили все, начиная с одежды и кончая позами.
Куча черной кожи, заклепок, цепей, боевая раскраска вышедшего на тропу войны щелочного панка, люминесцентно мерцают щетки волос и вживленные вибриссы, у того, что слева, появились трехсантиметровые клыки, а из ширинки вырос огромный фиолетовый мухомор вида весьма многозначительного. Проходящая мимо бабка в малиновых шортиках и с выкрашенной благородной зеленью тощей косицей покрепче перехватывает сумку на колесиках и плюется.
Вслед за Воображалой за угол быстро проходит человек в темном костюме. Прежде, чем скрыться, он на секунду оборачивается.
Это Врач…
Смена кадра
Воображала на скейте катит вдоль улицы — легко, красиво, словно танцуя. Если толпа на тротуаре становится слишком плотной, она выезжает на проезжую часть и так же легко скользит между машинами. Возникает такое впечатление, что они просто расступаются перед ней.
У моста натянуто ограждение и выставлен усиленный наряд городских патрульных. Но ощущения послеаварийной нервозности и напряжения нет, тут царит атмосфера скорее праздничная — играет веселая громкая музыка, звучит смех, прогуливаются странно и ярко одетые люди и не только люди.
Воображала бросает скейт и подныривает под ограждение как раз рядом с невозмутимым стражем порядка. Музыка сразу становится громче, словно она пересекла какую-то невидимую стену.
На секунду оранжевая футболка Воображалы теряется в общей массе ярко и экстравагантно одетых людей, рыжая голова мелькает где-то у самой ограды моста. Ограда широкая и плоская, больше похожая на высоко поднятую скамейку или даже дорожку. Миг — и Воображала уже стоит на ней.
Быстрая панорама моста с уровня стоящего на перилах человека.
Мост очень длинный — не меньше километра — плоский и довольно широкий. Он протянут над огромным то ли оврагом, то ли карьером, то ли руслом пересохшей реки. Народу на мосту много, народ этот странен. Здесь ярки не только одежды — у некоторых людей голубые или зеленые лица, а другие и на людей-то похожи мало.
Мельком — Врач, о чем-то спорящий с городовым у ограждения. Рядом — человекообразный робот, блестящий корпус, глаза-лампочки. Мельком — вид на застраиваемый потихоньку овраг, дальше — выход к большой реке или морю, набережная, силуэтом на фоне воды — военный катер на постаменте.
Над мостом бьется на ветру длинное полотнище, на нем алые буквы: «Луна-сити — 150!»
Некоторое время Воображала сосредоточенно разглядывает эту надпись, потом лицо ее светлеет, расплывается в знакомой улыбке с прицельным прищуром. Она оглядывает окрестности с понимающим заговорщицким видом, и вокруг нее словно рассыпаются солнечные зайчики. Краски приобретают контрастность и дополнительную яркость, небо темнеет, наливается синевой, рядом с солнцем проступают яркие звезды. По мосту проходит, переваливаясь на трех ногах и радостно щебеча, ушастый пришелец; на него никто не обращает внимания.
Воображала делает стойку на руках, болтает в воздухе серыми мокасинами. Вид немного сверху, камера меняет фокус, и теперь видна панорама под мостом. Там проходит узкоколейка и растет бурьян. Слева от железной дороги — стройка, огораживающий ее забор с моста кажется просто бордюрчиком. На секунду сквозь музыку прорывается отдаленный шум, но только на секунду — мост настолько высок, что даже подъемный кран на стройке не доходит и до середины опор.
Там, далеко внизу, верхом на огораживающем стройку каменном заборе сидит мальчишка в шортах, худой и загорелый до черноты. Вернее, это он раньше просто сидел верхом на заборе, а теперь тоже делает стойку на руках, подрыгивая босыми ногами.
Воображала замечает мальчишку, высокомерно морщит курносый нос и плавным прыжком возвращается на ноги. Ее движения немного замедленны, словно в рапиде или под водой — или при пониженной гравитации. На заднем плане, медленно вращаясь, проплывает летающая тарелка — классическая такая, серебристая и приплюснутая, с выступающим ободком и круглыми иллюминаторами. На фонарном столбе — местами ободранная листовка: «Превратим Луна-сити в город образцовой…»
У столба стоит молодой парень в темно-синем рабочем комбинезоне с кинокамерой в опущенных руках. Он резко выбивается из праздничного фона, и не столько даже из-за темного цвета спецовки, сколько из-за такого же мрачного выражения лица. Чуть пританцовывая, Воображала приближается к нему по перилам. На лице ее сияет улыбка, от каждого движения рассыпаются по серому бетону легкие отблески.
Парень смотрит мимо.
Воображала останавливается, улыбаясь уже персонально ему и чуть наклонив к плечу рыжую вихрастую голову.
Парень смотрит мимо, глаза его пусты.
Воображала надувает губы, на лице — выражение радостной сосредоточенности, недоверия и азарта. Словно у записного дуэлянта, тихо сходившего с ума от скуки в пансионате для ветеранских вдов, — и вдруг обнаружившего летящую ему прямо в лицо перчатку.
Воображала отступает на шаг, еще на шаг, чуть приседает, наклоняется, пытаясь поймать его взгляд. Наконец ей это удается, восторженный жест вскинутых рук — есть контакт! Воображала выпрямляется, продолжая удерживать парня взглядом — он автоматически поднимает и поворачивает за ней голову — и УЛЫБАЕТСЯ.
Если раньше она улыбалась просто так, от хорошего настроения, весело и бездумно разбрызгивая вокруг солнечные зайчики, то теперь ее улыбка бьет наповал с силой дальнобойной лазерной винтовки, ослепляя, сбивая с ног и размазывая по асфальту. Даже свет на какую-то долю секунды становится ярче, а музыка — громче и резче.
На парня улыбка Воображалы не производит ни малейшего впечатления. Он смотрит вроде бы и на нее — но вряд ли видит.
Воображала выпячивает подбородок, Шевелит губами, смотрит исподлобья. Потом прицельно щурится, поводит плечами, опуская голову и напрягаясь. Замирает на миг, похожая на закрученную до предела пружину — голова втянута в плечи, руки вдоль тела, кулаки стиснуты, ноги чуть согнуты в коленях, — потом распрямляется.
Резко, рывком, вперед и вверх. Улыбки не видно, вообще не видно лица — лишь вспышка света, и в этой вспышке растворяется и мост, и Воображала, и даже звуки скрипят и запинаются, как при падении скорости на старых магнитофонах, музыка переходит в скрежет, потом поднимается до визга и, наконец, выравнивается.
После вспышки мир кажется бесцветным и тусклым.
Серое небо, серый бетон моста, серое лицо парня с кинокамерой. Даже Воображала какая-то поблекшая и выцветшая, очень бледная, глаза широко распахнуты, губы закушены, пальцы растопырены — вид почти несчастный.
На какую-то долю секунды кажется, что ничего не вышло, но потом краски начинают обретать прежнюю яркость, и на лице парня проступает робкая неуверенная улыбка. Он поднимает камеру.
Воображала — уже совсем-совсем прежняя Воображала, самоуверенная и сияющая, — кокетливыми щипками оттягивает футболку на несформированной пока еще груди — сразу оказывается, что не такая уж она и несформированная, — и принимает позу, явно подсмотренную на модной глянцевой обложке. Смеется. Видя, что камера все еще нацелена на нее, делает колесо, потом еще одно.
И замечает, что внизу, на заборе стройки, нахальный пацан продолжает ее передразнивать.
Воображала ухмыляется снисходительно, косится на оператора и делает сальто с места. Но короткий взгляд вниз убеждает ее, что сальто с места можно с таким же успехом сделать и на заборе стройки.
Оператор забыт. Да и какой тут может быть оператор, простите, когда нагло попираются основы и устои?!
Воображала разбегается тремя длинными летящими прыжками и крутит двойное сальто. Но выражение «что, съел?» на ее подвижном лице очень быстро сменяется выражением «но мы так не договаривались!» — назаборный ее соперник, похоже, опять оказался на уровне. Воображала крутит носом и барабанит пальцами по бедру. Потом с новым выражением смотрит на эти самые пальцы — они отбивают ритм звучащей на мосту мелодии. Ухмыляется половинчато и ехидно, вслушивается всем телом — движением плеч, головы, рук и ног, даже изменчивым выражением лица, щелкает пальцами в такт — музыка становится громче, быстрее, ритмичней — и начинает…
Мальчишка на заборе некоторое время растерян. К тому же там, внизу, не слышно динамиков. Но сдаваться он не привык, и вот уже повторяет ее движения, сначала неуверенно и криво, но потом все точнее и точнее.
Воображала закусывает губу, меняет рисунок танца, ускоряет темп — вместе с ней ускоряется и музыка.
Мальчишка держится на уровне.
Темп еще выше, теперь уже рвется ритм, ломается сама канва, музыка переходит на 45-ую скорость. Воображала крутится все быстрее, смеется беззвучно, ее движения сливаются в туманный силуэт, становятся почти неразличимыми для глаз. Сохраняется лишь направление — вперед вдоль моста.
Движется внизу вдоль забора и ее конкурент.
Движется камера в руках оператора, движется сам оператор.
Движется, разворачиваясь, стрела подъемного крана с подвешенным к ней жилым блоком…
Внезапно мальчишка оступается и с трудом удерживает равновесие. Останавливается, восторженно вертит головой, вскидывает руки, сдаваясь, показывает два больших пальца. Снова вертит головой. Возможно, даже восторженно цокает языком или что-то кричит, но наверху этого, конечно же, не слышно. Воображала самодовольно дергает подбородком — то-то же, шкет, знай наших!
Раскланивается, отставив ножку с оттянутым носочком и оттопырив мизинчик левой руки. Она ничуть не запыхалась, на белоснежных брюках ни складочки, ни пылинки, и даже яркие волосы растрепаны не больше, чем всегда.
Вспоминает про оператора, выдает ему еще одну ослепительную улыбку, манерно складывает на груди руки и бросает вниз хвастливый взгляд — «а у меня еще и вот что есть!».
Перестает улыбаться.
Оступается, неловко взмахнув руками и шатнувшись назад. Лицо ошарашенное.
Крупным планом — расширенные глаза, на лице — удивление и детская обида. Впечатление такое, что ее неожиданно и сильно ударили, причем ударили тогда, когда она меньше всего этого ожидала.
Резкое движение камеры — туда, куда она смотрит.
И, очень близко, во весь экран — щербатая улыбка загорелого до черноты мальчишки на фоне надвигающегося жилого блока…
Резко развернувшись назад и вверх, камера едва успевает поймать тот момент, когда кажущаяся отсюда крохотной фигурка отрывается от перил моста. На секунду — яркий бело-оранжевый силуэт словно зависает на фоне темно-синего неба…
Смена кадра
Повтор последних кадров, но уже с уровня моста. Воображала делает пружинистый шаг к внешнему краю перил и — сходу, резко, одним толчком, — посылает себя вперед.
Так прыгают в воду пловцы, только руки у нее на отлете…
Ретроспекция 4
Смена музыки.
Резкий танцевальный ритм сменяется негромким наигрышем «Воздушной кукурузы» — играют уверенно и твердо, но пока еще безо всякого творчества. Так может играть старательный ученик с хорошо поставленной рукой.
Дождливый серый день, молодая женщина в шляпке садится в такси, шофер держит над ней зонтик, укладывает в багажник два чемодана и объемистую сумку. Взгляд немного сверху, как бы с уровня второго этажа.
Голос Конти:
— Эта уже четвертая. Четверо за полгода…
Слышно, как он вздыхает. Голос фрау Марты произносит неодобрительно:
— Молодежь… — умудряясь вложить в это короткое слово все приемлемое для идеального слуги осуждение, не доводя его при этом до занудно-банального: «Я же Вас предупреждала!».
Фрау Марта и Конти стоят у окна в комнате на втором этаже, смотрят, как отъезжает машина.
— Хорошо, — в голосе Конти усталая обреченность, — Хорошо, делайте, как считаете нужным.
Фрау Марта не задирает нос и даже не выпячивает самодовольно сухонький подбородок, как наверняка поступила бы на ее месте менее опытная служанка, одержав эту маленькую победу. Она лишь еле заметно кивает и продолжает спокойным тоном:
— Я сегодня же договорюсь. Но все равно понадобится не менее двух дней… Еще раз переоформить ваш билет?
Конти медленно качает головой, не отрывая сосредоточенного взгляда от окна. Фрау Марта слегка хмурится, говорит нерешительно:
— Ну что ж… Два-три дня… Пожалуй, мы с Марком вполне могли бы… — но в голосе ее гораздо меньше уверенности, чем того требуют обстоятельства.
Конти продолжает задумчиво качать головой.
— Это было бы просто непорядочно с моей стороны, я и так вам стольким обязан…
Фрау Марта поджимает губы.
Слегка.
Она может себе это позволить — Конти все равно смотрит в окно, да и думает явно о чем-то своем. Фрау Марта отлично это видит краем глаза, потому и позволяет себе слегка поджать губы и с выражением безграничного терпения приготавливается ждать вразумительного ответа столько, сколько окажется нужным. Пожалуйста-пожалуйста, хоть до второго пришествия, мы люди маленькие.
Конти внезапно поворачивается. Говорит как о давно решенном:
— Она поедет со мной.
На лице фрау Марты проступает крайняя степень почтительного неодобрения.
Смена кадра
Желтое солнце на темно-синем небе.
Солнце и звезды.
Мост.
Грохочущие динамики.
Оператор в спецовке бросается к перилам, не отрываясь от камеры. Общее замешательство. В рапиде, взятая снизу на фоне темной синевы — яркая фигурка с раскинутыми руками.
Чей-то растерянный крик: «Что случилось?».
Ретроспекция 5
Узкоглазый швейцар в стилизованном наряде самурая, улыбаясь и сверкая в поклонах залакированной до стеклянного блеска ритуальной прической с выбритыми полосками, распахивает тяжелую дверь. Внешним видом швейцара и россыпью иероглифов на двери экзотика ограничивается — холл отеля имеет вполне западный вид, да и одеты остальные служащие куда менее традиционно. Портье (серый костюм, белая рубашка, галстук, пробор) начинает улыбаться и кланяться еще издали, кладет на стойку старомодный регистрационный журнал:
— Вот здесь, прошу вас… Благодарю вас!
Конти задерживается у стойки, носильщик с чемоданами проходит к старинному лифту с решетчатыми раздвижными дверями. За ним идет девочка лет шести, ее видно лишь со спины. Светло-рыжие волосы сколоты на затылке голубым бантом с оранжевой, в тон блузки, каймой. Белые шортики, белые носочки, голубые сандалики.
В лифте она оборачивается, но створки уже закрываются, на лицо ее ложатся тени от решеток, путаница движущихся темных и светлых пятен, больше ничего не различить…
Смена кадра
Камера надвигается на двери, двери распахиваются. Это двери номера. Входит Конти с огромным меховым тигром в руках, улыбается:
— Смотри, Тори, что я тебе…
Замолкает, перестает улыбаться.
Камера стремительно разворачивается, скользит панорамой по вполне европейской обстановке — обезличенно-белая мебель, стекло, зеркала, множество мелких светильников на шарнирах, пушистые ковры светлых тонов, напротив окна — странный мобиль, серебряная фольга и хрустальные подвески находятся в непрерывном движении, сверкая искрами и тихонько позванивая.
По инерции камера проскакивает мимо бело-оранжевой фигурки у стены.
Возвращается.
Зеркала.
Поправка — огромное зеркало. И много маленьких.
Поправка — зеркало во всю стену между диваном и встроенным телевизором.
Девочка в белых брюках и оранжевой футболке стоит рядом с ним, почти прижавшись лицом к стеклу. Она кажется еще меньше рядом с таким огромным зеркалом.
Легкий шорох — это падает на пол мягкая игрушка. И звенят подвески мобиля.
Зеркало во всю стену.
Звон.
Все стены зеркальные, звон, и с каждой секундой звон нарастает, а зеркал становится все больше и больше.
И перед каждым — замершая распластанная фигурка.
Звон нарастает, начинает вибрировать.
Воображала медленно оборачивается. (Поворот не доведен до конца, повторяется, ускоряясь, и опять возврат…) Звон достигает высшей точки, обрывается со звуком лопнувшей струны.
Воображала оборачивается.
Ее лицо на полуфазе, размыто и нечетко — какое-то время оно с улыбкой и без шрамов, в следующий миг такое, как на самом деле, больше похожее на сшитую из кусочков белой кожи карнавальную Маску Смерти, эти периоды укорачиваются вместе с затуханием отзвука лопнувшей струны, переходят в стремительную дрожь, сливаются в одно. Оно тоже сначала нечетко, потом улыбка побеждает, озаряет комнату яркой вспышкой и медленно затухает.
Воображала снова лицом к зеркалу, ласково проводит по нему рукой, говорит с тихим восторгом:
— Красивая штука, правда!?..
В зеркале отражаются хрустальные подвески мобиля. Они дрожат, переливаются, камера сосредоточена на них, отражение Воображалы становится нечетким и пропадает.
Смена кадра
Подвески мобиля слабо мерцают в свете бра.
За огромным окном — ночь. У окна — сервировочный столик с остатками ужина. На краю — переполненная пепельница, мятые окурки разбросаны между тарелок. Некоторые еще дымятся.
Конти сидит в большом кресле, курит. На Воображалу смотреть избегает.
Воображала сидит на кровати, поджав ноги, тянет сок из пакета через соломинку. Она сидит полубоком, распущенные волосы падают на лоб, лица не видно, только острый подбородок. В ее руках попискивает какая-то электронная игрушка.
Тишина внезапно нарушается глухим стуком, Конти вздрагивает. Это Воображала ставит опустевший пакет на столик, откладывает игрушку, тянет вкрадциво:
— Пап, а пап… а ты мне такую штуку купишь?
Конти не отвечает, его взгляд прикован к лежащему на ковре пушистому тигру. Воображала водит пальчиком по спинке кровати, в голосе ее появляется просительная интонация:
— Па-а, ты за весь вечер ни слова мне не сказал! Ты что — сердишься?
Конти молчит, продолжая курить. Не удержавшись, бросает на дочь вороватый взгляд, но лица не видно, только спутанные рыжие прядки, и он снова смотрит на плюшевого тигра.
Воображала глядится в зеркало, говорит с обиженным недоверием:
— Но ты же не должен сердиться! Я ведь хорошо себя вела, правда? Я же совсем ничего не делала… А ты сегодня даже ни разу не сказал, что я красивая!
Конти вздрагивает, роняет сигарету…
Смена кадра
За окном — глубокая ночь большого города. Мигание неоновых реклам, черное беззвездное небо, черные громады домов с редкими пятнами светящихся окон. На подоконнике сидит Конти, курит, зажигая одну сигарету от другой, смотрит в ночь. В номере полумрак и тишина, только чуть позванивают мягко мерцающие подвески мобиля.
Воображала спит, свернувшись на огромной кровати, разметавшиеся по подушке волосы в полумраке кажутся темными, лицо повернуто к стене. На затылке лежит ярким пятном свет маленькой лампы. Конти долго смотрит на это яркое пятно — единственное яркое пятно в темной комнате, — во взгляде его растет напряжение, с забытой сигареты осыпается на пол столбик пепла. Наконец Конти решается — осторожно встает, крадучись, подходит к кровати, наклоняется.
Но Воображала спит, уткнувшись лицом в подушку, и только от уха змеится по шее светлый тонкий шрам.
Конти смотрит на этот шрам, протягивает руку, но тут же отдергивает. Пожимает плечами, устало трет лоб, улыбается криво, но с облегением.
Выключает свет…
Смена кадра
Яркое солнечное утро. Конти выходит из ванной с полотенцем через плечо. Он в приподнятом настроении, от вечерних страхов не осталось и следа, улыбка легкая и беззаботная, походка танцующая. Замирает, глядя мимо камеры (та разворачивается, прослеживая его взгляд).
Воображала все еще спит, но теперь она лежит на спине и лишь поднятый локоть закинутой за голову руки мешает увидеть ее лицо.
Конти больше не улыбается. Он насторожен и напряжен. На цыпочках приближается к кровати со спящей Воображалой, осторожно наклоняется.
Крупным планом — ее лицо, мозаика разнокалиберных шрамов. За прошедшие годы они существенно побледнели и стали еле заметны, но перекос глаз и рта еще больше усилился, верхняя губа из-за него выглядит слишком короткой и не закрывает мелких неровных зубов.
Конти выпрямляется, затвердевая лицом.
Осторожно делает шаг назад.
Но недостаточно осторожно, потому что задевает мобиль. Десятки сверкающих подвесок немедленно приходят в движение с мелодичным перезвоном. Воображала потягивается, глубоко вздыхает и открывает глаза.
Звон усиливается до пронзительности, начинает вибрировать.
Ее лицо дрожит, стремительно меняясь, секунда — старая маска, секунда — новое, с улыбкой, без шрамов. Дрожь убыстряется, постепенно сходя на нет вместе с затихающим звоном.
— Привет! — говорит Воображала, садясь на кровати и сонно поводя плечами. Оборачивается к зеркалу. На секунду там мелькает отражение ее настоящего лица, потом стекло подергивается рябью, успокаивается. Ее улыбка становится еще шире, хотя казалось, что подобное уже невозможно, взлетает требовательно указующий пальчик:
— Хочу такую!!! Ты ведь купишь мне, правда?
Камера надвигается на зеркало, заостряя внимание на фигурной резьбе по краю, потом отступает.
Смена кадра
Крупным планом — фигурная резьба по краю большого — во всю стену — зеркала. Свет несколько приглушен, обстановка в комнате другая, да и сама комната другая, это явно не гостиничный номер. На столике — книжки вперемешку с игрушками, на спинке стула висят небрежно брошенные белые колготки, на сиденье — ботинок с роликовым коньком.
Это комната Воображалы, на третьем этаже, под самой крышей.
Из-за приоткрытой двери доносится захлебывающийся восторгом голос врача — камера потихоньку идет на звук, минует дверь, пересекает узкую площадку, заглядывает через перила вниз.
Конти и Врач сидят за тяжелым столом темного неполированного дерева в кабинете. Дверь в кабинет по-прежнему открыта, и их хорошо видно. Вернее, целиком видно лишь сидящего Конти, Врач же то появляется в зоне видимости, то снова исчезает, мечась от стола к окну, размахивая руками и попеременно хватая себя то за бороду, то за остатки шевелюры.
— Вы не понимаете, да вы просто не можете понять!!! Феноменально! В столь юном возрасте! В мировой практике не было ничего подобного! Это же не просто экстрасенсорика! Это даже не локальные магико-гипнотические проекции Месмера и уж тем более не технические иллюзии Коперфильда, подобный уровень уникален! Она же воздействует на саму реальность! Я бы ни за что не поверил, если бы не видел собственными глазами! Активная самотрансформация объекта уже сама по себе уникальна! А то, что это происходит без участия сознания, и даже просто им не замечается… Это не может не завораживать! Это же власть — не глупая власть королей или президентов, нет, власть настоящая, власть стихийная и безграничная, власть не только над людьми и предметным миром — власть над самими законами природы! Да такой власти не мог себе представить ни один император! Калигула был несчастен, потому что хотел луну. А представьте на минутку, что луну захочет Ваша дочь?.. А если не луну?.. Страшный риск! Невероятный! Но, вместе с тем, и шанс, может быть — наш единственный шанс! Посмотрите на мир вокруг! Озоновые дыры, кислотные дожди, с каждым годом все больше больных детей, вечером опасно выйти на улицу, детская преступность, психические расстройства — это что, так уж вам нравится? Нет, конечно, просто раньше возможности не было… А ваша дочь… Растущая, развивающаяся, обладающая силой невероятной мощности… Если ее направить на правильный путь… Но страшно даже представить себе, на что может оказаться она способной при неправильной мотивации!.. Подобная сила — и в неумелых руках… Наркоман с ядерным чемоданчиком — и то не так уж и страшен по сравнению… А если она еще и осознает свою безграничную власть!?.. Детям свойственна немотивированная жестокость, они при этом даже не злы — просто не способны предвидеть последствий, осознать значение. Это не страшно, когда рядом есть взрослые, когда они контролируют, устраняют опасность, исправляют нанесенный ребенком вред. Но способны ли вы контролировать? Способны ли вы проследить каждый — я подчеркиваю, КАЖДЫЙ! — ее поступок, даже самый незаметный и безобидный на первый взгляд, и не просто проследить, а просчитать все возможные его последствия? Способны ли вы устранить нанесенный ею вред? Даже в том идеальном случае, когда сумеете этот вред обнаружить?.. Нет, с этим никак не справиться в одиночку! И о чем вы только думали, когда подстраивали эту штуку с зеркалом?!
У Конти очень усталый вид, и чем большим энтузиазмом разгорается Врач, тем большая безнадежность проступает в выражении лица самого Конти. Наконец он поднимает голову, морщится, глаза у него совсем больные.
— Это была случайность, — говорит он устало. — Я просил без зеркал, а они перепутали номера… Какая опасность, о чем вы? Тоська хорошая девочка. Послушная. Вы же ее совсем не знаете…
Врач ощетинивается, как рассерженный кот. Нависает над столом, шипит:
— А вы сами-то ее знаете, да? Можете с чистой совестью дать гарантию, что ее способности не будут обращены во зло? Молчите?! Скажите откровенно, вам за эти годы ни разу не было страшно?..
Конти молчит, опускает голову, кладет подбородок на сцепленные пальцы. Крупным планом — его глаза.
Ретроспекция 6
Тихая «Воздушная кукуруза» сменяется дребезжанием музыкального автомата, гулом неясных голосов, приглушенным звоном стекла.
Камера отъезжает, и видно, что теперь Конти несколько моложе и без усов. Он сидит у стойки бара на высоком крутящемся табурете, перед ним — наполовину пустой стакан. На соседнем табурете сидит мужчина лет сорока, вроде бы и прилично одетый, но весь какой-то помятый. Помятый пиджак висит, как с чужого плеча, жеваный галстук сбился на сторону, рубашка перекошена и даже лицо словно только что достали из бака с приготовленным в стирку бельем и решили еще денек поносить. Все равно никаким суперсильным порошком не отстирать с него вечно недовольное выражение записного нытика, так чего напрягаться? Он и сейчас ноет, выбрав Конти в качестве собеседника и нисколько не смущаясь абсолютной его безучастностью — лишь бы ныть не мешал.
— … такие засранцы, просто вылитая мамочка, и все время — дай, дай, дай! Словно я их печатаю! Гадство вечное, и без того весь день эта нудиловка, шеф скотина, все ему не так, другие — что, лучше, что ли?! Так нет же, выбрал мальчика для битья! Все видят, что я добрый и безотказный, вот и пользуются. Домой идешь, думаешь — отдохну! Как же, размечтался! Дома то же самое, мамаша ее — стерва, так и строит из себя великомученицу, что я ни сделаю — все в штыки… А хабалка эта, моя дражайшая… Тоже — та еще… Нет, чтобы поговорить о чем-то, в кино там сходить… стерва!.. Вечно в бигудях и халате, и все время жрет, и куда в нее столько лезет! И все время так смотрит, словно я — насекомое. И детей своих так же воспитала, они меня и в грош не ставят! Целый день ради них пашешь — и хоть бы спасибо сказали, хоть бы поговорили с папочкой по-человечески! Нет, только — дай! Наушники напялят — и разговаривай сам с собой, пока не свихнешься. Так и сидишь весь вечер, в телек уткнувшись…
Над стойкой висит небольшой телевизор. На экране идет шоу-конкурс на «Мисс Чего-то там», много музыки, ярких красок, красивых улыбающихся девушек в купальниках. Сначала они даны мельком — ни лиц, ни фигур толком не разобрать, лишь сияют одинаковые голливудские улыбки, но потом одна приближается, занимает собою весь экран.
Смена кадра
Выбранная девица мелькает в разных ракурсах — в фас, в профиль, в полный рост…
Быстрая трель «Воздушной кукурузы».
Голос Воображалы спрашивает с интересом:
— Она тебе нравится?
Камера отъезжает от телевизора, который стоит на фигурной подставке в большой гостиной первого этажа дома Конти. Конти смотрит конкурс на очередную мисс, развалившись в огромном мягком кресле, забросив ногу на ногу и покачивая шлепанцем. Макушка пальмы достает почти до середины окна, молодой рыжий кот лениво точит о ее ствол когти. Воображалы не видно.
Конти задумчиво выпячивает подбородок, оглядывая девицу на экране. Говорит:
— Да-а… Тут ты права, экземплярчик, что надо!
— Ты хотел бы такую? — спрашивает Воображала быстро и с какой-то странной интонацией.
Эта интонация заставляет Конти развернуться — резко, вместе с креслом.
Воображала сидит прямо на темном пушистом ковре, ей лет девять. Рядом с ней, у самой стены, стоит одна из «мисс», та самая, с экрана — в позе манекена, с голливудской улыбкой, в купальнике, с лентой-номером через плечо. Продолжая улыбаться с очень тупым выражением на кукольном личике, делает книксен.
Конти стонет сквозь зубы, говорит, сдерживаясь:
— Тося, я уже давно не играю в куклы, даже в такие большие и красивые. Куклы не интересны даже тебе, а уж я-то тем более давно не ребенок…
— Большая кукла — большому мальчику? — пробует пошутить Воображала, вопросительно улыбаясь, но Конти не принимает тона, говорит холодно:
— Виктория, убери эту гадость.
— Не понимаю… — Воображала хмурится, она явно растеряна. Выпятив подбородок, придирчиво разглядывает «мисс», пожимает плечами. Щелкает пальцами («мисс» делает несколько манерных телодвижений, меленькими шажочками вертится вокруг своей оси), обиженно спрашивает:
— В чем дело? Чем она плоха?
Конти закрывает глаза, явно считая про себя до десяти. Выражение лица в стиле: «О, Боже, пошли мне терпенья!». Говорит раздельно и веско:
— Тося, она — НЕНАСТОЯЩАЯ.
— А-а, только-то! — быстро и с облегчением откликается Воображала, — Ну, так это не трудно…
В ту же секунду раздается отчаянный женский визг.
«Мисс» больше совсем не напоминает манекен, ее кукольное личико перекошено диким ужасом. Да и одета она теперь несколько иначе, хотя и не менее соблазнительно — в ажурный черный комбидрез с массой серебристо-черных кружев по краю узеньких трусиков-уздечки и лифчика «Анжелика». На ногах вместо конкурсных модельных туфель на шпильках — домашние пушистые тапочки с меховыми помпонами. Глаза дико вытаращены, прическа растрепана, потому что она отчаянно трясет головой, продолжая истошно верещать и размахивать руками, словно отпихивая кого-то невидимого.
— Так лучше? — спрашивает Воображала ехидно, морщится от очередного, наиболее пронзительного взвизга, щелкает пальцами. Визг обрывается.
— Это нечестно! — говорит Конти.
Он уже стоит, напряженно выпрямившись, лицо затвердевшее, голос звенит.
— Нечестно и подло. Ты же давала слово! Тебе бы понравилось, если бы с тобой — вот так?!.. — резкий жест головой в сторону «мисс», которая все это время продолжает трястись и открывать рот, но уже беззвучно. Громкий голос Конти служит для ее истерзанных нервов последней каплей, она замирает на миг и с ангельски-умиротворенным выражением кукольного личика наконец-то отправляется в обморок на пушистый ковер.
Воображала смотрит на нее уже без улыбки, говорит хмуро и виновато, с некоторой долей удивления:
— Я никогда не думала… Не думала про это — ТАК. Извини. Больше не буду.
Лицо ее напряжено.
Пушистый ковер пуст.
Смена кадра
Общее замешательство на мосту.
Люди что-то кричат, лезут к перилам, среди них — робот, проявляющий при этом мало свойственную роботам повышенную эмоциональность. Он дергает себя за голову, словно пытаясь ее оторвать, наконец ему это удается, металлическая голова с грохотом падает на асфальт, под ней оказывается другая, вполне человеческая, растрепанная, потная и растерянная.
Музыка запинается, скрежещет, потом динамики глохнут совсем. За мостом откуда-то сверху в кадр опускается летающая тарелка. Теперь она гораздо ближе и видно, что это всего лишь картонный макет метров двух в диаметре, от него тянется трос к находящемуся выше кадра вертолету, слышен шум винтов.
Голос, искаженный и усиленный мегафоном, требует ответа непонятно у кого, срываясь на крик:
— Почему посторонние на площадке?!..
Ретроспекция 7
Треск вертолета усиливается, переходит в треск игрального автомата. Автомат расположен в углу бара, на нем играет прыщавый тощий юнец. Брюзгливый голос вечно недовольного соседа Конти все еще тянет:
— …посторонний! Хоть бы поговорили по-человечески, так нет же… Только дай… Хоть домой не приходи!.. Как раскроешь двери — так сразу и начинается…
Смена кадра
Конти открывает двери из полутемной прихожей и зажмуривается от яркого света.
За дверью теперь находится не привычная уже обстановка холла первого этажа — темная мебель, ковер, телевизор, кресла и бар. Они открываются в сад или парк со множеством цветов и журчащих фонтанчиков. Прямо на земле расставлены подносы с фруктами и восточными сладостями, разбросаны шелковые подушки. Среди них лежат, стоят, сидят и прохаживаются не меньше пары дюжин девушек в полупрозрачных восточных костюмах гаремного покроя. Они смеются, болтают друг с другом, играют на музыкальных инструментах или танцуют.
Среди них не сразу замечаешь Воображалу, она сидит на каменном поребрике одного из фонтанов боком, поджав одну ногу и болтая другой. Увлеченно читает книжку, положив ее на колено поджатой ноги. Оторвавшись, чтобы перевернуть страницу, замечает Конти и радостно машет ему рукой.
Все остальные девушки тоже синхронно оборачиваются в его сторону, одинаково улыбаются, тянут руки, шипят. У них удлиняются зубы, искажаются лица, а руки все тянутся, тянутся, тоже удлиняясь и прорастая острыми загнутыми когтями…
Конти еле успевает захлопнуть дверь.
Смена кадра
Наплывом — раскрывающиеся двери.
В вестибюль врывается свист вьюжного зимнего ветра, он метет поземку по засыпанному снегом склону горы. На заднем плане просматриваются вершины других гор.
Прямо на снегу сидит Воображала, на ней оранжевый свитер и голубой шарф с оранжевым кантом, белые брюки сливаются с белым снегом. Улыбаясь Конти, она лепит снежок, раскрытая книжка лежит рядом, ветер листает страницы.
— Лови! — кричит Воображала и швыряет в камеру снежком.
Смена кадра
Наплывом — раскрывающиеся двери.
За ними — джунгли. Яркая тропическая зелень, огромные влажные цветы, крики диковинных птиц или зверей. Где-то неподалеку слышно журчание небольшого водопада, брызги воды драгоценными камнями сверкают на темных листьях, в воздухе дрожат крохотные радуги. С резким криком и громким хлопаньем крыльев над головой Конти пролетает сквозь открытые двери яркий тропический попугай. Пролетая, с достойной лучшего применения меткостью прицельно гадит на лацкан. Конти вздрагивает, морщится и обреченно достает платок.
Смена кадра
Конти открывает двери.
Вернее, он только чуть толкает их, и они распахиваются сами с неприятным свистом утекающего в пустоту воздуха.
За ними — чернота.
Сначала, после ярких красок джунглей и ослепительной белизны горного хребта, она кажется абсолютной, но потом в ней проявляются и становятся постепенно все ярче отдельные светящиеся точки, одна из которых гораздо ярче других и больше похожа на раскаленную монетку.
Это Солнце, а остальные огоньки — звезды или планеты.
За дверью — глубокий космос.
Конти пытается захлопнуть двери, но это ему удается не сразу, напор уходящего воздуха слишком силен, он мешает сомкнуть створки, отжимая их к стенам, сносит и затягивает в черную пустоту вешалку, какие-то мелкие предметы с полок, разворачивает тяжелую подставку для обуви…
Наконец Конти удается закрыть двери, он прислоняется к ним спиной, руки у него дрожат, взбитые ветром волосы стоят дыбом, глаза круглые и остекленевшие.
Смена кадра
Конти открывает двери.
За ними — чернота.
Не холодная, сосущая чернота глубокого космоса — просто ночь. Тянет дымом. Двери выходят на пустырь, где-то далеко-далеко отсвет пожара.
Из темноты, пошатываясь, выходит Воображала. Ее лицо перемазано сажей и залито слезами, волосы в пепле, оранжевая рубашка порвана, на безупречных ранее брюках грязные разводы, коленки почти черные. Всхлипнув, она отбрасывает обгорелую книжку и бросается Конти на шею, повторяя сквозь слезы:
— Не хочу! Не хочу! Не хочу!..
Двери за ее спиной захлопываются, отсекая ночь и зарево, Воображала еще раз судорожно всхлипывает и повторяет уже тише:
— Не хочу, слышишь…
Смена кадра
— … не хочу, понимаешь, совсем не хочу! Это же просто ужасно, когда человеку совсем не хочется возвращаться домой! — говорит трагическим тоном вечно ноющий сосед Конти в баре. В голосе его проскальзывают самодовольные нотки истинного мазохиста. Вздыхает, глядит на часы, меняется в лице. — Черт! Никогда бы не подумал… Как время-то летит… — Он торопливо сползает с табурета, торопливо допивает пиво, торопливо хлопает Конти по плечу, — А, была не была, все равно на всю жизнь тут не спрячешься!
Конти поднимает голову и смотрит, как он уходит — так же торопливо и недовольно, как и говорил.
Стакан Конти по-прежнему наполовину пуст. Лицо у него бледное, глаза затравленные…
Смена кадра
На мосту теперь уже вся киногруппа — актеры, статисты, гаишники, — прилипла к перилам.
На проезжей части топчется, оставшись в одиночестве, ушастый трехглазый пришелец. Он моргает всеми глазами попеременно и растерянно щебечет. Он единственный здесь — настоящий (или ненастоящий, это смотря с какой точки зрения это дело разглядывать).
У перил — разноцветные личности, якобы роботы, странно одетые люди и деловитые парни в синих рабочих комбинезонах со съемочной аппаратурой. Некоторые из них истинные профи и продолжают снимать происходящее, стараясь поймать и запечатлеть как моно больше ярких обрывков эмоций толпы — настоящих, не сыгранных. Расталкивая людей, сквозь толпу быстро и уверенно пробирается опоздавший. Вот он раздвигает парочку каких-то разноцветнолицых и оказывается у самых перил.
Это Врач.
Смена кадра
Воображала мягко соскакивает на узкий (в один кирпич) забор.
Словно спрыгнула она со ступеньки или низенького крылечка, а не с чудовищной высоты.
Мальчишка замер в паре шагов в нелепой позе и с отвисшей челюстью. Он грязен в той самой степени, в которой только и может быть грязен представитель молодого поколения, все утро проведший в раскопках среди строительного мусора. Воображала плавно выпрямляется, стряхнув с безукоризненно чистых белых брюк невидимую пылинку, и с сияющей улыбкой отвешивает мальчишке затрещину, от которой тот кубарем летит с забора. Воображала рыбкой ныряет следом, только мелькают в воздухе белые подошвы ее мокасин. Так прыгают в воду с невысокого трамплина, так она сама прыгнула с моста несколько секунд тому назад.
Над забором стремительно и с обманчивой плавностью проплывает жилой блок. Он просто огромен, и теперь, когда до него рукой подать, видно, что из него во все стороны торчат длинные, остро заточенные спицы арматуры, делая его похожим на утыканный иголками кусочек поролона. Он проплывает точно в том месте, где только что стоял мальчишка, с коротким и неприятным скрежетом чиркая нижней гранью по кирпичному забору…
Ретроспекция 8
Конти с банкой колы в одной руке и дипломатом в другой заходит в приемную перед своим кабинетом. Удивленно вздергивает брови — за столом секретарши пусто, зато у окна толпятся человек семь, на их восторженно-удивленные лица ложатся разноцветные отблески.
— В чем проблема, Женечка? — спрашивает он насмешливо, ставя дипломат на ее компьютер, предварительно убрав с него чашку кофе, — Опять митинг в защиту чего-то там или демонстрация против чего-то тут?
Женечка оборачивается, экзальтированно всплескивает ручками:
— Эдвард Николаевич, Эдвард Николаевич, там такая радуга!.. — и, видя его недоумение, добавляет восторженно — Она танцует!!!
Конти подходит к окну (перед ним вежливо расступаются) и меняется в лице.
— Женечка, меня до обеда не будет.
— Эдвард Николаевич, а как же…
Тяжко бухает дверь, обрывая испуганный женечкин писк.
На улице люди стоят, запрокинув головы, останавливаются машины, низко-низко, буквально руку протяни, танцует над запрокинутыми лицами северное сияние — такое, каким его рисуют в мультфильмах. С тихим шорохом срываются на асфальт разноцветные искры. И на всем — карнавально-праздничные световые переливы. Словно кто-то вдруг решил превратить весь город в дискотеку со светомузыкой, только забыл включить звук.
Конти единственный, кто бежит, лавируя между людьми и машинами. Он единственный, кто не смотрит вверх.
Смена кадра
Еще из холла на первом этаже видно пробивающееся из-под двери комнаты Воображалы ослепительное сияние.
Конти одним прыжком взлетает по ступенькам, распахивает дверь — и слепящий свет заливает все вокруг. Он ярок настолько, что почти физически ощутим как давление, сквозь него почти ничего невозможно разглядеть, лишь крутятся разноцветные всполохи, проскакивают длинные молнии, вспениваются светящиеся вихри. Фигурка Воображалы смутно угадывается еще более ослепительным контуром у стены, вокруг нее закручиваются молнии — разноцветными бешеными спиралями.
Голос Конти, полный холодной ярости, перекрывает шипение и свист разрядов:
— Виктория Эдуардовна! Чем это Вы тут занимаетесь?!!
Интенсивность свечения резко падает, и теперь видно, что от Воображалы действительно остался один полупрозрачный силуэт, сквозь который отчетливо просматриваются обои. Больше всего она напоминает недодержанную очень контрастную фотографию, тени на которой проявились черными пятнами, без всяких там полутонов, а светлые места просто отсутствуют. Кажется, что стоит ей закрыть глаза — и она совсем исчезнет.
— Ой!.. — говорит она виновато и растерянно, и становится виден рот, черным провалом в окаймлении ярких губ, — Папка… Ты же должен был только завтра…
Голос ее еле слышен за треском электрических разрядов. Вихри раскручиваются в длинные световые ленты (среди цветов преобладают голубой и оранжевый), ленты сплетаются в полупрозрачный кокон, формируют фигуру. Некоторое время уже обретающая материальность Воображала еще сохраняет прозрачность, но световые ленты продолжают втягиваться в нее, их почти не осталось в комнате, и вместе с ними к ней возвращаются краски.
Становится заметно, что здесь она гораздо моложе, чем та, что была на мосту, и даже та, что кидалась снежками или читала книжку в гаремном саду вурдалаков. Ей лет семь, не больше, она лишь чуть младше даже той, что впервые увидела свое отражение в зеркале отеля.
Белые шортики, белые носочки, сбившийся голубой бант с оранжевой каемкой. Она стоит в углу, вжавшись в него спиной, пойманная на месте преступления, растерянная и виноватая. На белом лице четко проступают шрамы.
Громко тикают ходики.
Смена кадра
Громко тикают ходики.
Воображала с несчастным видом стоит в углу, но теперь она стоит, уткнувшись в угол носом — она наказана. Вся ее поза должна говорить, да нет, не говорить — кричать, просто-таки вопиять обязана о глубочайшем раскаянии — носки вместе, пятки в стороны, руки как у арестованного — в замке за спиной, голова понурена. Но все впечатление портит хитрый взгляд, бросаемый ею время от времени через плечо.
Она следит за Конти.
Конти ходит по комнате из угла в угол (камера тоже следит за ним, лишь изредка захватывая стоящую в углу Воображалу). Конти говорит — сердито, быстро, помогая себе энергичной жестикуляцией, когда слов не хватает:
— Ты когда-нибудь видела, чтобы я это делал? Или кто-то другой? Хоть когда-нибудь? Хоть кто-нибудь?!! С тобой же погулять стыдно выйти! Я уж не говорю про гостей! Что ты в прошлый раз натворила с тетей Кларой?! А?!! Взрослая девица, а ведешь себя, словно… И не стыдно? Не маленькая ведь, должна бы уже… Понимать должна бы уже, что можно, а что — нет. Ты ведь не писаешь в трусики, правда? А почему? Только потому, что в мокрых штанах ходить неприятно? Или все-таки есть что-то еще? Пойми, это же просто неприлично! Такая взрослая девочка — и вдруг такое выдает…
Камера переходит на Воображалу. Та вздыхает и рисует пальцем на обоях бабочку, за пальцем тянется двойной оранжево-голубой след. Нарисованная бабочка оживает, переливаясь радужными красками, расправляет крылья. Воображала испуганно оглядывается — не видел ли Конти? — краснеет и торопливо закрывает бабочку ладошкой. Из-под пальцев упрямо пробивается цветное пламя.
Воображала закусывает губу, оглядывается через плечо, глаза у нее несчастные. Спрашивает, чуть не плача:
— Ну хотя бы дома-то можно? Если тихонько…
Конти замолкает посередине фразы.
На секунду, не более. Потом говорит почти обрадованно:
— Н-ну, я думаю, дома — можно… Если тихонько. Когда никого нет, и вообще… Но — только дома!
Ретроспекция 9
Конти (на нем тот костюм, что был в баре) открывает тяжелые дубовые двери из вестибюля в холл первого этажа.
Он открывает их с такой осторожностью, словно они заминированы, а сам он из тех саперов, что хотят безо всяких фатальных ошибок прожить долго и счастливо до глубокой старости.
Открыв двери, он не вламывается беспечно в холл, о нет, — он настороженно замирает на пороге, он долго и внимательно прислушивается и присматривается, обводя помещение внимательным взглядом, словно и на самом деле ищет следы минирования или хотя бы притаившегося за шкафом саблезубого тигра.
Но ни динамитных шашек, ни голодных хищников со скверным характером в помещении не обнаруживается, и вообще обстановка там на удивление домашняя и нетронутая — ковер на полу, телевизор на месте, мебель выглядит вполне безобидно, умиротворяюще журчит вода, добавляя обстановке безмятежности и спокойствия.
Но Конти — воробей стреляный, его на умиротворенной мякине не проведешь! Он переступает порог на цыпочках, словно выступивший на свою первую тропу войны начинающий ирокез — шаги бесшумны, фигура напряжена, глаза настороженно обшаривают окрестности. Вдруг взгляд его натыкается на что-то весьма неожиданное, и лицо принимает несколько озадаченное выражение. Он делает пару осторожных шагов к заинтересовавшему его предмету, лицо по-прежнему озадаченное.
Это фонтан.
Он торчит прямо посреди холла с наглым видом, словно хочет этим доказать, что находился здесь всю свою жизнь, и находиться где-то там еще не имеет ни малейшего желания. Круглый бетонный бассейн метров трех в диаметре и ничем не завуалированная ржавая металлическая трубка, чуть смещенная от центра, потому что в центре это сооружение украшено гипсовой девицей с обломками весла. Из трубки течет жидкая и довольно ржавая струйка, это ее умиротворяющее журчание мы слышали раньше (при переводе камеры на фонтан журчание становится громче).
Конти приближается к фонтану.
Он еще насторожен, но уже не так напряжен, как раньше. Видно, что какой-то там фонтан никак не входит в категорию того, из-за чего он так нервничал, открывая двери. Он недоверчив и удивлен, но не испуган, так как явно ожидал чего-то куда более масштабного. Брови его приподняты в веселом недоумении: «Как, и это — все? Мельчаем, однако!».
Окончательно расслабившись, он обходит вокруг фонтана, глядя на гипсовую уродину почти с любовью. Что-то насвистывает. Пытается сунуть в воду палец, и еле успевает его отдернуть от щелкнувших в миллиметре зубов — в воде живет кто-то мелкий и злобный, не терпящий вторжения на свою территорию.
Но даже это не в состоянии испортить Конти настроение. Он смеется, тряся оцарапанным пальцем, грозит им девушке с веслом. Потом подмигивает ей, как старой приятельнице, с которой у них есть совместные секреты, и достает из бара пузатую бутылку и бокал. Выражение лица довольное и предвкушающее («Это надо отметить!»).
Налив себе половину бокала, ставит бутылку на место.
Улыбается.
И в этот миг откуда-то сверху раздается мяукающий плач новорожденного…
Конти замирает, роняя бокал в фонтан — там сразу же возникает подозрительная возня, вода закипает, а со дна доносится явственный хруст пережевываемого стекла, — и мигом теряет всю свою самоуверенность. Словно потомственный команч, обнаруживший на фамильном томагавке печать: «Сделано в Китае».
Крик ребенка повторяется с новой силой, обрывается, но остается какой-то слабый звон, он почти незаметен, но с каждой секундой становится все явственнее.
Конти взбирается по лестнице на второй этаж медленно, как паралитик, на заплетающихся ногах, тяжел цепляясь за перила. Дверь в кабинет открыта, квадрат яркого света падает в коридор. Сам кабинет выглядит непривычно. Стол теперь выдвинут на середину и завален книгами. Некоторые из них открыты, другие сложены стопками или просто разбросаны по полу.
Здесь собраны анатомии всех размеров и уровней сложности, от учебника для седьмого класса до «Медицинской патологической» Резерфорда, «органическая химия» высовывается из-под Дарвиновской «Теории происхождения видов». Большая медицинская энциклопедия лежит, раскрытая, на самом верху этой кучи, ее огромные страницы закрывают полстола. На них брошена детская косынка — алая, в черный горох, по краям отороченная легкомысленными кружавчиками.
Именно на этой косынке, лежащей поверх страниц энциклопедии, и расположилось очаровательное черноволосое и черноглазое новорожденное существо, болтающее в воздухе пухлыми розовыми ножками и сосредоточенно пытающееся загнать в рот кулачок.
(Звон и свет нарастают…)
Ликующая Воображала выныривает из-под стола с какой-то книжкой, тычет пальцем в раскрытую страницу, кричит восторженно, перекрывая нарастающий звон:
— Я ее не украла! Да! Я сама ее сделала! И она — настоящая!!! Настоящая, понимаешь?! Не кукла, не макет! Я придумала ее по всем правилам! Как положено! Каждый хрящик, каждую клеточку! Она настоящая!.. Настоящая…
Усилившийся звон перекрывает ее слова. Все это время камера не отрывается от лежащего на столе ребенка, но свет тоже нарастает до вспышки, и уже ничего не разобрать, только белая ослепительная пелена и невыносимый звон…
Смена кадра
Звон падает, но не до конца, остается где-то на самой границе сознания остаточным напряжением. Сквозь него уже слышна «Воздушная кукуруза» — быстро, уверенно, негромко. Освещенность тоже снижается до нормального уровня.
Стол абсолютно пуст и отодвинут к стене. Конти (с усами и очень усталый) встает, тяжело о него опираясь. Говорит, глядя в окно:
— Нет.
(Во время последующего разговора звон временами нарастает, потом снова снижается, но не исчезает совсем, снова усиливается, волнами, ритмично, неостановимо…)
Некоторое время слышен только этот звон, потом Врач взрывается негодующим криком:
— Что значит — «нет»?!! Вы же не понимаете! Просто не понимаете! О, Господи!.. Вы же обыватель! Простой обыватель! Неандерталец, в руки которому попал компьютер! Что может сделать с компьютером неандерталец? Разве что ударить по голове другого неандертальца! Почему, ну почему сенсационные, прямо-таки эпохальные открытия вечно оказываются в руках неандертальцев!?
Улыбка у Конти невеселая:
— Полагаю, вам больше не о чем говорить… с неандертальцем.
Врач неожиданно снова бросается в атаку с отчаянием человека, у которого отбирают только что найденный им выигрышный лотерейный билет. Он хватает Конти за лацканы пиджака, жестикулирует, суетится, вцепляется пальцами в редкую шевелюру.
Но все-таки пятится.
Пятится, сначала — из кабинета, потом — по лестнице, через холл, оттесняемый устало молчащим Конти к входной двери.
И все это время он не перестает бормотать, быстро, бессвязно:
— Вы не понимаете, Боже мой, просто не понимаете! Такой шанс! Раз в сто лет! Что там сто… тысячи… Еще никогда не было возможности лабораторного исследования… Вы не понимаете, вы просто не можете понять всего значения… вклада… влияния… У меня есть связи… Мы вошли бы в историю, такое не забывается, хоть это-то вы понимаете!? В конце концов, это же просто опасно, смертельно опасно для неспециалиста! Ей не будет плохо, поймите, ее права никто не собирается ущемлять! Нельзя зарывать таланты в землю, это просто нечестно! Нечестно и по отношению к ней самой, и по отношению к другим людям, к вашим соседям, которые ничего не подозревают… Как вы можете смотреть им в глаза, зная, что в любой момент… Я понимаю, столько лет… Вы уже привыкли один… Сразу это нелегко… Но я не тороплю! Подумайте!.. Прошу вас, подумайте как следует! Я еще приду, и тогда мы поговорим!..
Последние слова он уже буквально кричит со ступенек крыльца. Конти отряхивает руки, говорит негромко:
— Не советую.
— Вы еще пожалеете! Поймете, что я был прав, и пожалеете! Но будет поздно!..
Дверь захлопывается.
Смена кадра
Железобетонная плита с прорытым под ней лазом, пыль, песок, какие-то ржавые железяки, высокий бурьян. Издалека доносится приглушенный расстоянием шум моста — музыка, усиленные мегафоном команды, шум работающих машин. Камера отступает, легко взбираясь по крутому обрыву, становятся видны и другие плиты, составляющие забор стройки. Сквозь лаз ужом протискивается Воображала, отряхивается по-собачьи, легко взбирается по крутому склону. У самого верха останавливается, с вызовом выпятив подбородок и глядя куда-то поверх камеры. На ней по-прежнему ни пятнышка, ни пылинки, волосы растрепаны не больше обычного, улыбка сияющая.
Голос врача полон безграничного восхищения (камера отступает, захватывая их обоих, врач сидит на лежащей плите, смотрит на Воображалу снизу вверх. В руках у него ее скейт):
— Привет. Здорово прыгаешь!
Воображала самодовольно фыркает:
— А я вообще все делаю здорово! Хобби у меня такое. Но ведь иначе и не стоит, правда? Мы знакомы?
— Это как сказать… Я-то тебя знаю, а вот ты меня вряд ли помнишь, ты тогда была еще совсем крохой… Слушай, мне надо с тобой поговорить. Ты меня совсем загоняла! Больше недели за тобой следил, все момента удобного искал, а сегодня понял, что могу так до пенсии бегать — и все с тем же результатом. Шустрая ты больно. Решил — посижу здесь. Повезет — и ты вылезешь именно в эту дыру. Как видишь — повезло. Как ты думаешь — такое везение стоит отметить?
Воображала восторженно распахивает глаза, рот до ушей:
— Вы за мной следили!? Класс!!! Как за юной принцессой-наследницей! Или даже шпионкой! Черт, почему мне такое раньше в голову не пришло? Вы меня украсть хотите, да? С целью выкупа! Или продать в Ближние Эмираты, в публичный дом, правда?! Или вы просто маньяк? Приличным девочкам запрещено разговаривать на улице с незнакомыми маньяками! Где же ваша отравленная карамелька? У каждого маньяка обязательно должна быть наготове отравленная карамелька! Если он себя уважает! А вы себя уважаете? Я ее съем — и засну, как Белоснежка! Правда, там яблоко было, но не важно… А знаете, приличным девочкам запрещено брать отравленные карамельки от незнакомых маньяков…
— А «Мечту Снежной Королевы»?.. — спрашивает врач вкрадчиво.
— О?..
— А если маньяк не незнакомый? «Мечту Снежной Королевы» приличная девочка может принять от давно знакомого маньяка?
— О, маньяки нынче круты! Знают, чем искушать наивных приличных девочек! О «снежной королеве», пожалуй, стоит подумать. А вы точно знакомый маньяк? Не врете?
— Там еще есть и «Сон в зимнюю ночь»…
— Мда, кто же устоит пред таким-то искушением! Ваша взяла, господин маньяк! Но вообще-то больше всего я люблю «Белокурую мулатку» с фисташками и изюмом.
— Заметано!
Смена кадра
Крупным планом — стеклянная вазочка с целой горой шоколадного мороженого, накрытых огромной шапкой взбитых сливок.
Камера отступает, в поле зрения попадают сначала круглый стеклянный стол, затем Воображала в огромном крутящемся кресле, и, наконец, вся обстановка кафе. Кафе уличное, открытое, в сквере перед громадным зданием библиотеки. Вместо вывески — табличка с названием улицы. Название несколько неожиданное, с претензией — «Порт-Саида». Само кафе тоже с претензией — круглые столы и стойка из толстого стекла, вместо пластиковых легких стульчиков — вращающиеся кресла. За пыльными клумбами — проспект. Толпа на остановке за сквером. Отдаленный шум.
Воображала играет в «леди», эта игра доставляет ей массу удовольствия: «Пожалуйста, будьте так любезны, я вас не очень затрудню…» Врач уважителен, предупредителен и восхищен чрезмерно, до безобразия льстив и патологически приветлив. Воображала откровенно забавляется.
Врач возвращается к столу с двумя чашечками кофе, садится в полупрозрачное кресло. Говорит с многозначительной улыбкой:
— Фисташек у них нет, но… Но ведь это не проблема? Правда? — и подмигивает самым непристойным образом.
Воображала складывает губки бантиком, говорит скорее кокетливо, чем смущенно:
— Только вы не смотрите…
Камера быстро обводит кафе и возвращается к столу под мерный перестук падающих с вазочки на стол орешков. Улыбка у Воображалы немного испуганная и, одновременно, торжествующая (она понимает, что сделала что-то не совсем подобающее, но ничуть об этом не жалеет). Ее подбородок выпячен вперед даже с некоторым вызовом, глаза прищурены.
Реакция Врача — выше всяких похвал. Несколько секунд он, затаив дыхание, смотрит на вазочку, потом переводит полный благоговейного обожания взгляд на Воображалу, шепчет с восторженной торжественностью:
— Виктория, вам кто-нибудь уже говорил сегодня, что вы — чудо?!
— Нет, — жмурится Воображала самодовольно, — сегодня не говорили. Но я и так знаю!
— Мне надо тут… на секундочку — говорит Врач, страдальчески морщась. — Я мигом, ты не уходи, ладно? — и выскакивает в стеклянные двери. Воображала насмешливо смотрит ему вслед, потом переводит взгляд на рассыпанные по столу фисташки. Приподнимает бровь. Откидывается на спинку кресла с довольной задумчивой улыбкой. Болтает ногой. Оттолкнувшись, прокручивается в кресле пару оборотов. Похоже, что Врач зря волновался — она польщена и заинтригована, и увести ее отсюда можно разве что под конвоем.
Врач возвращается очень быстро — вазочка не опустела и наполовину. Бегом пересекает дорожку между клумбами, взлетает на отделяющие территорию кафе ступеньки, тревожно вглядывается в полумрак под навесом. На лице — напряжение и с трудом сдерживаемый страх, губы закушены.
При виде чинно поедающей мороженое Воображалы он расслабляется и облегченно вздыхает. Садится в свое кресло, залпом выпивает остывший кофе, повторяет радостно и уверенно:
— Ты — чудо!
Воображала кивает, не отвлекаясь от сложного процесса одновременного поглощения всех компонентов десерта и кофе. Она выковыривает кончиком ложки изюминку, потом цепляет кусочек мороженого, приклеивает к нему фисташку и покрывает все это сливками. Потом ложка отправляется в рот, после чего к вазочке не возвращается, а быстро ныряет в чашку с кофе, пока мороженное не успело растаять во рту. Потом следует непродолжительное смакование, и процесс повторяется. Кажется, она способна заниматься этим целую вечность. Но Врач не торопится. Он просто смотрит на нее с многозначительной улыбкой и ждет. Вид у него довольный до непристойности.
Водя по краю опустевшей вазочки ложкой, Воображала искоса бросает на врача осторожный взгляд и, наконец, решается:
— А-а… Вы? — спрашивает она неуверенно, запинается, но все-таки упрямо продолжает: — А вы фисташки… Л-любите?..
Врач улыбается ей ободряюще и говорит, делая вид, что он не понимает, но так, чтобы было понятно, что это он просто делает вид:
— Люблю, конечно. Только с пивом, лучше темным и живым, но такого у них тоже нет…
Воображала улыбается, глядя в стол, потом поднимает глаза. Вид у нее смущенный и довольный. Врач произносит с восторженной торжественностью:
— Ты не просто чудо! Ты — УНИКУМ! Ты знаешь об этом?
— Угум-м… — отвечает Воображала, улыбаясь еще шире, хотя это и казалось уже невозможным. Теперь она похожа на сытую ленивую кошку, разомлевшую у батареи. Камера отступает, захватывая столик. На нем, кроме пустых креманок и чашек, тарелочка с орешками и большая стеклянная кружка темного пива. Врач смотрит на Воображалу с выражением почти плотоядным.
— А что ты еще умеешь?
— Н-ну… — Воображала ведет себя как женщина, которой только что отпустили комплимент малопристойного содержания — ей и приятно вроде бы, и неловко как-то, и страшновато, что знакомые услышат, и уходить не хочется. Оглянувшись украдкой — не обращают ли на них внимания другие любители мороженого? — она сводит пальцы рук домиком. На концах сомкнувшихся пальцев загораются огоньки, словно искры проскакивают. Воображала с улыбкой разводит руки, оставляя пальцы широко расставленными. Между ними в воздухе растягиваются светящиеся двухцветные нити. Воображала, высунув от сосредоточенного напряжения кончик языка, быстро крутит кистями, закручивая нити в спираль, вытягивая, гоняя волнами от руки к руке. На лицо ее ложатся двухцветные блики, отражаются в стеклянной поверхности столика, дробятся, сливаются. Воображала растягивает эту маленькую самодельную радугу по краю столика, замыкает в кольцо. Теперь мерцает весь стол, и загорелые руки ее кажутся почти черными на его фоне.
Воображала чуть склоняет голову набок, смотрит из-под спутанной челки, говорит жарким шепотом:
— А вы?.. Что-нибудь… А!?.
Она выглядит возбужденной, довольной и упрямой, и сейчас очень похожа на девочку, требующую показать ей неприличную картинку. Врач перестает улыбаться, говорит серьезно и грустно:
— Когда я сказал, что ты — особенная, я ведь не шутил…
Шум улицы становится громче, перекрывает его слова, грохочет игральный автомат в углу.
Ретроспекция 10
Грохот усиливается, изображение начинает дрожать, сверху сыпется какой-то мусор, пыль, сухая штукатурка. Яркая неоновая вспышка рвет полумрак, чуть позже грохот и лязг перекрываются сильным раскатом грома.
Старческие аккуратные руки, вооруженные пушистой метелкой, сметают со стола в аккуратный совочек насыпавшийся мусор.
Фрау Марта с совком и метелкой идет к окну, ее лицо по-прежнему невозмутимо и спокойно, но движения несколько замедленны и неуверенны, как у моряка на палубе во время шторма. За окном вспышки молний следуют одна за другой, грохот сливается в сплошную канонаду, разряды впиваются в землю совсем рядом, словно кто-то очень большой и злобный пытается исхлестать дом светящейся плеткой, но от ярости все время промахивается. Ветер рвет занавеску в открытом окне.
Фрау Марта аккуратно ссыпает мусор в керамическое ведерко у стены, закрывает окно. Гром теперь звучит гораздо глуше, но зато явственнее становится шум самого дома, и шум этот тоже необычен — лязг, стук захлопывающихся дверей, дребезжание и звон стекла, скрипы, какие-то глухие удары и потрескивания. Изображение снова начинает дрожать, с потолка опять сыпется мусор и штукатурка. Дрожит, чуть подпрыгивая, графин на столе, ему вторят тоненьким надрывным звоном подвески люстры. Дрожь обрывается резким толчком, графин падает со стола и разлетается сотней осколков, они ярко сверкают в полумраке, отражая заоконные молнии. На некоторое время восстанавливается относительная тишина, гром за окном лишь служит ей фоном.
— Что случилось? — у Конти испуганный голос. Он стоит на ковре в грязных ботинках и плаще, с которого на ковер ручьями течет вода, поля у шляпы обвисли.
Фрау Марта берет эту шляпу и плащ, аккуратно стряхивает воду и несет в темную прихожую. Ее голос, звучащий из темноты, невозмутимо спокоен:
— Помните того мальчика из гимназии, ну, ушастенького такого? Он ее еще в кино водил. И все время — на Ваши фильмы… Помните?
— Н-ну? — Конти без шляпы и плаща выглядит еще более потерянно и беззащитно, смотрит в темный проем двери, в котором исчезла Фрау Марта, с опаской и недоумением. Вздрагивает и отшатывается, когда подошедшая к нему со спины непонятно откуда Фрау Марта снимает с него шарф и тоже уносит в прихожую. Дергается было следом, но опять отшатывается — Фрау Марта возникает из темноты неожиданно, белый передник и белое непроницаемое лицо. Невозмутимо проплывает к столу, на котором оставила метелку, сметает вновь просыпавшийся мусор в совок, стоящей рядом со столом щеткой туда же сметает осколки графина. Направляется к окну и голосом ровным, словно идет разговор о погоде, сообщает:
— Сегодня она вообразила, что он ее бросил…
У Конти округляются глаза, он пытается что-то сказать, но в этот момент очередной толчок, сильнее прежних, сотрясает старый дом. Что-то падает, разбивается, с потолка срывается крупный пласт штукатурки, Конти хватается за притолоку, лицо у него белое, глаза безумные. Вдыхает клубящуюся пыль, заходится кашлем. Кричит, чуть не плача:
— Но это — почему?! Если она всего лишь… Просто… Если не на самом даже деле, то — почему?!!
Дрожь и грохот потихоньку стихают. Фрау Марта относит мусор к керамическому ведерку (ведерко почти полное). Оборачивается и смотрит на Конти с выражением максимально дозволенного неодобрения. Губы чуть поджаты, левая бровь чуть приподнята, голова слегка наклонена влево, словно у старой птицы.
Видя, что ее осуждающее лицо не производит на Конти должного вразумляющего впечатления, она еще чуть поднимает брови, смиряясь с неизбежным, и поясняет:
— Она же всерьез это вообразила…
Конти смотрит на Фрау Марту диким взглядом. Фрау Марта смотрит в окно. На сухом лице ее появляется что-то, похожее на тень улыбки. Смутное, еле уловимое, но все-таки… И когда она добавляет, голос ее звучит почти гордо:
— Бросил, конечно… Куда ему было деваться-то, если она — всерьез вообразила?..
Смена кадра
Яркая вспышка молнии переходит в ровное сияние неоновой рекламы на другой стороне улицы.
Крупным планом — лицо Воображалы. И лицо это стоит того, чтобы его дали именно крупным планом. Впервые с того момента, когда грызет она яблоко на подоконнике, на лице ее нет и намека на улыбку. Более того, выглядит оно так, словно его хозяйка сгоряча попыталась проглотить яйцо целиком. Вместе со скорлупой. И, судя по всему, яйцо это принадлежало кому-то из отряда страусиных…
Глаза у Воображалы вытаращены, рот открыт и перекошен, лицо вытянуто. Назвать ее состояние удивлением — все равно, что назвать Гималаи холмистой местностью, а Тихий Океан — водоемом. Вроде бы и верно, но вот как-то масштаб не учитывается…
Наконец Воображала закрывает рот, моргает, сглатывает. Ее сдавленный голос больше похож на полузадушенный хрип:
— Как это — никто не умеет? Вы смеетесь?..
Звучит это почти жалобно. Стеклянный столик начинает слегка дрожать, тонко звенят креманки, темнеет.
Смена кадра
За темным окном сверкает молния, отдаленный раскат грома перерастает в грохот разрушающегося дома, с потолка сыпется очередная порция штукатурки, падает какая-то балка.
Воображала лежит на койке, уткнувшись лицом в подушку. Она полностью одета — белые брючки, оранжевая футболка, рыжий затылок. Конти стоит посреди ее комнаты, уперев руки в бока и широко расставив ноги для устойчивости. Эта предосторожность отнюдь не лишняя, поскольку вокруг него бушует ураган разрушения, летают игрушки, книги, падает мебель. Но он продолжает стоять, не шелохнувшись, словно остров в бушующем море, самой своей неподвижностью выражая презрение к происходящему вокруг него, и полный такого же презрения голос его легко перекрывает грохот и грозу:
— … Ай, как красиво! А умно-то как, просто слов нет!.. Тори, посмотри вон туда… Нет, ты посмотри! Там луна висит, причем довольно низко. Почему бы еще и ее не грохнуть? А? Для количества? А то на том берегу, пожалуй, осталась пара недоразрушенных зданий… Грубо работаешь, Тори! Не точно, без изюминки. Подумаешь — гроза и землетрясение! Мелковато… А цунами — слабо? А то ведь не все догадались, что наша детка капризничать изволит, и что держать себя в руках эта деточка так и не…
Договорить он не успевает — с тихим жалобным стоном на него обрушивается огромная люстра — бронзовые шары и полусферы на длинных цепочках и коромыслах, масса зеркальных ассиметричных подвесок. Конти вскидывает голову, но уклониться не успевает — один из тяжелых шаров летит прямо на камеру. Темнота, гулкий удар (как в колокол) и медленно затухающий в воздухе отголосок. Потом темнота немного светлеет, но изображение не появляется. Голос Конти, гораздо менее уверенный и какой-то слабый, словно после наркоза. Он говорит, чуть запинаясь:
— Как бы ни было плохо… Никогда! Понимаешь? Никогда… Это некрасиво. Плохо мне — значит, пусть… всем, да? Всем чтобы плохо, раз мне? Подло ведь… Подло… Нельзя так. Ты видела хоть раз, чтобы я или кто-либо из моих друзей так срывал свое горе на окружающих?..
Внезапно появляется изображение — руки Воображалы снимают с камеры влажную салфетку, до этого закрывавшую обзор. Воображала идет к столу, выжимает салфетку в стоящую на нем большую супницу. Рядом стоит пластмассовое ведерко с колотым льдом. Воображала берет несколько кубиков, заворачивает их в салфетку и возвращается к Конти. Мельком — раскрытое окно, за ним — яркий солнечный день, о недавних безобразиях напоминает лишь яркость свежеумытой зелени и груды мусора на полу в гостиной.
Конти полулежит на диване. Левая сторона его лица припухла и потемнела, он продолжает говорить, следя за Воображалой правым глазом:
— Я хоть раз навоображал каких-нибудь гадостей ни в чем не повинному человеку? Просто так, со зла, потому что настроение плохое? Ты видела хоть раз, чтобы кто-нибудь из моих знакомых устроил вот такой погром? И тебе не стыдно?..
Воображала кладет салфетку со льдом ему на лицо, закрывая глаза. Смотрит вокруг. Улыбка у нее виноватая. Конти продолжает говорить:
— Ты видела хоть раз, чтобы хоть кто-нибудь…
Резкий звук лопнувшей струны. Воображала вздрагивает, оборачивается. Конти повторяет с той же интонацией:
— Ты видела хоть раз, чтобы хоть кто-нибудь…
Словно пластинка с трещиной. Губы его смыкаются на миг, а потом снова:
— Ты видела хоть раз…
ХОТЬ РАЗ…
Смена кадра
Воображала, слегка ссутулясь, сидит у столика. И поза, и выражение ее лица изменились — нога на ногу, локти на стол, ногти левой руки выбивают по стеклянной поверхности быстрый ритм. Из-под спутанной рыжей челки она неторопливо обводит взглядом прищуренных глаз посетителей кафе. Выражение ее лица все время меняется — озадаченность, недоумение, сожаление, восторг, какая-то нехорошая радость (с этаким прицельным прищуриванием), и снова растерянность, почти испуг. Она то улыбается, то хмурится, то поджимает губы, то вытягивает их, то прищуривается, то строит быстрые гримаски. Но одно выражение сохраняется практически неизменным — это выражение жгучего интереса. Словно она не просто видит этих людей впервые — нет, словно она впервые видит людей вообще, и само их существование в природе жутко ее удивляет.
И забавляет…
Камера переходит на врача, и успевает поймать на его лице точно такое же выражение — выражение жгучего интереса. Но уже в следующую секунду его смывает восхищенная улыбка.
— И Вы тоже… не можете?
— Увы и ах! — врач разводит руками. Улыбка меняет его лицо, делая мальчишески беззащитным и располагающим.
— Бедненький! — сочувственно тянет Воображала с интонацией бывалой куртизанки, выслушавшей признание в импотенции. Улыбка Врача несколько тускнеет. Поморщившись, он быстро просит:
— Покажи еще что-нибудь.
— Отец всегда говорил, что это неприлично… — говорит Воображала задумчиво. Она не отказывается, скорее, просто рассуждает сама с собой, думает вслух. Врач фыркает:
— Родители всегда действуют из самых лучших побуждений! Они не хотят, чтобы их дети были изгоями, отщепенцами, они лишь добра им желают! Общая трагедия всех вундеркиндов. Белых ворон всегда бьют, и свои, и чужие, а какой родитель захочет такой судьбы для своего любимого чада? У маленькой Жанны Д'Арк отбирали деревянные сабли и солдатиков, от Софочки Ковалевской запирали учебники в старом шкафу, Кюри говорили: «Опомнись, физика — не женское дело, от нее портится цвет лица!» Моцарту повезло, он в особой семье родился, в той семье были свои понятия о том, что обычно, а что — нет. А вот родись в той семье Эйнштейн — и теорию относительности пришлось бы придумывать кому-нибудь другому, потому что моцартовские родители из него добросовестно сотворили бы музыканта, пусть и посредственного, но зато такого, как все! Вот и твой отец — тоже. Из самых лучших побуждений… Если бы он мог заставить тебя совсем не воображать — он бы сделал это. Для твоего же блага, понимаешь? Но он не мог, а он человек умный, и сам отлично понимал, что никогда не сможет. Вот он и упирал на то, что так не принято себя вести, что взрослые этого не делают, что твои способности нужно прятать. И его можно понять: представь себе реакцию, ну, например, твоих преподавателей, если они узнают, что ты можешь натворить с оценками в журнале!?
Воображала хихикает, улыбка у нее довольная. Врач добавляет уже спокойно:
— Настоящий талант невозможно удержать никакими запретами. Ты просто не могла быть такою, как все. Как бы тебе не внушали, что другою быть неприлично…
Воображала опять хихикает, неопределенно поводит бровями, говорит медленно:
— Н-ну… я не маленькая… Давно уже. И давно уже убедилась, что все и всегда втихаря занимаются очень даже неприличными вещами… И не только втихаря. Потому что любая неприличная вещь на поверку оказывается вещью очень даже приятной, — добавляет мечтательно, — и чем неприличнее — тем приятнее..
Врач обескураженно хмыкает, замечает осторожно:
— Довольно цинично.
Воображала, улыбаясь, качает головой, поправляет:
— Откровенно. Это многие путают.
Некоторое время врач смотрит на нее, задумчиво сузив глаза. Похоже, она сказала сейчас нечто, заставившее его пересмотреть свою дальнейшую тактику, и вот он лихорадочно пытается сообразить, стоит ли следовать уже продуманным курсом, или же все-таки рискнуть в свете открывшихся обстоятельств. Наконец решается:
— Хорошо, тогда я тоже буду циничен. Хочу, чтобы ты все знала с самого начала, и тогда уже решала, с открытыми глазами, понимаешь? Я… Я хочу предложить тебе сделку!
— Сделку?
— Да, сделку. Мы с тобою можем друг другу сильно помочь. Тебе давно пора заняться своим уникальным даром всерьез, исследовать его специфику, возможности, найти, наконец, практическое применение — не всю же свою жизнь ты собираешься заниматься этими полудетскими шалостями?! Но самой тебе с этим не справиться — нужен специалист, наблюдатель, аналитик, короче — профессионал. Чем я хуже любого другого? Уверяю тебя — не хуже! В Военно-Медицинской Академии я входил в десятку лучших. У меня есть еще кое-какие связи. И опыт, а это тоже немаловажно. В конце концов, я знал тебя еще до проявления этого дара, я знаю, с чего все начиналось… Ну, во всяком случае, догадываюсь… Конечно, твой отец знает тебя еще лучше, но он отпадает автоматически — он не сможет стать беспристрастным наблюдателем. Нет, ну сама посуди — я тебе подхожу по всем параметрам, лучшего и желать нельзя! А мне… Для меня ты вообще — драгоценный подарок судьбы. Ты — мой шанс, понимаешь? Может быть, последний… Скоро вокруг тебя будет не пропихнуться… Как только о твоем даре станет известно… Вернее, как только в него поверят. А я полагаю, что это случится достаточно скоро, с твоими-то возможностями… Но я был бы первым, понимаешь? В самом крайнем случае, если бы даже и не удалось надолго примазаться к твоей славе, то уж на парочку-то открытий я бы тебя раскрутил как-нибудь-то уж, а?! У тебя же их — как блох у бродячей собаки! И что — стало бы жалко парочки для бедного старого маньяка, которому даже пенсии не положено по причине моральной неустойчивости? Да, я не альтруист. И, наверное, не слишком честный человек. Моей первой мыслью при виде тебя было: «Вот идет твой шанс на Нобелевскую премию, и ты будешь трижды дурак, если не разобьешься в лепешку, чтобы этот рыжий шанс стал именно ТВОИМ шансом»! Короче, очень тебя прошу — не говори «НЕТ», иначе мне придется падать на колени и делать прочие глупости, а это в моем возрасте чревато артритом и психушкой!
— Пол в этом кафе просто отвратительный, пожалей брюки! — Тон у Воображалы несколько покровительственный, на ты она переходит легко и естественно, даже не заметив этого, — Хотя, конечно, твои слова о «всяких глупостях» звучат весьма… — она хмыкает, встряхивается, продолжает уже деловым тоном, — Так что там насчет сделки?
— Я помогаю тебе — ты помогаешь мне. Справедливо?
Несколько секунд Воображала делает вид, что сосредоточенно взвешивает все «ЗА» и «ПРОТИВ», потом важно кивает:
— Думаю, вполне.
— Тогда — по рукам?
— По рукам! Что требуется от меня?
— Что всегда предшествует появлению нового товара?
— Реклама?
— Умничка!
— Ты собираешься меня… продавать?
— Не тебя и не продавать. Просто показать всем, что ты есть, и что ты кое-что умеешь. Что-нибудь зрелищное и яркое, запоминающееся… Для солидных исследований нужны деньги, и большие деньги, а для этого надо собою заинтересовать того, у кого такие деньги имеются… Ну как, сможешь сбацать что-нибудь этакое?
— Хорошо… — тянет Воображала задумчиво. Внезапно глаза ее расширяются, Улыбка становится хитрой и довольн6й.
— Хорошо! — Повторяет она решительно с мстительным злорадством, — Я, пожалуй, сделаю одну штуку. Очень красивую штуку… Я ее уже делала как-то раз, но тогда мне не дали довести ее до конца…
Она откидывается на спинку прозрачного кресла, разминает кисти рук. Врач вскакивает, оглядывает темное помещение кафе, морщится, нервно ломает пальцы:
— Не здесь… Давай там… На улице!
Напряжение в его голосе возрастает. Он хватает ее за руку и почти силой выволакивает из-под навеса. Это выглядело бы грубо, если бы не умоляющий голос:
— Ну давай, пожалуйста! Только, чтобы это было красиво и мощно! Ты уж постарайся!
Вечерний проспект с односторонним движением. В сиреневых сумерках ярко сияет рекламный щит у остановки троллейбуса на противоположной стороне. На самой остановке — кучка народу, человек семь-восемь. Прохожих немного, все спешат. Пара черных удлиненных машин стоит у тротуара за остановкой, в их зеркальных стеклах отражаются скользящие мимо автомобили. Между их черными скошенными боками на низеньком поребрике сидит оборванный подросток с сигаретой в грязных пальцах.
— Я постараюсь… — говорит Воображала и смыкает кончики пальцев. Улыбка у нее сейчас отстраненная, словно думает она о чем-то своем, голова склонена набок. Разведя руки, она растягивает голубовато-оранжевые светящиеся нити — они ярко горят в незаметно наступивших сумерках и чуть потрескивают случайными искрами. Скрутив резким движением кистей рук эти нити в яркий жгут, Воображала ловко цепляет его зубами и, скосив на врача насмешливый взгляд, рывком головы перекусывает-обрывает. Теперь с ее пальцев свисают неровные обрывки, они качаются, мерцают, сплетаются, удлиняются, подчиняясь малейшим движениям пальцев, вяжут ажурное светящееся кружево. Кружево разрастается, вскипает пенными волнами, закручивается в спиральные вихри и вдруг взрывается с легким хлопком.
В первый момент после яростно-ослепительного кипения кажется, что все кончилось. Но глаза привыкают, и становится ясно, что это не так. Огненный шквал не исчез, он просто растекся, размазался, растворился в сиреневых сумерках. Полупрозрачные стены домов полны мерцающими огнями, пылают контуры фонарей, из-под колес спешащих мимо машин разлетаются волны огня и огнем горят следы немногочисленных прохожих. По небу беззвучными всполохами растекаются полосы северного сияния, на ветках деревьев, антеннах и ажурных прутьях балконных перил переливаются огни Святого Эльма.
Напряжение растет. Теперь уже, кажется, мерцает сам воздух, у любого движущегося предмета, будь то человек или машина, появляются длинные зеленовато-светящиеся шлейфы, словно в ночном море, где каждая капля горит холодным пламенем. Воображала вытягивает полупрозрачные руки над головой — между ними проскакивает длинная искра, потом другая, третья, искры сливаются в сплошной разряд.
Все больше людей останавливается, запрокинув голову, и на лица их ложится разноцветно-мерцающий отсвет. Теперь уже не понять — утро, день или вечер, на темно-фиолетовом небе распускается переливчатой аркой оранжевая радуга, и разноцветный светящийся дождь барабанит по асфальту, превратившемуся в темное зеркало. Между вскинутыми руками Воображалы с сухим потрескиванием сияет Вольтова дуга, а сама она давно уже стала полупрозрачной, проницаемой, словно набросок тушью — легкие тонкие штрихи по светящемуся фону.
Взвизгнув тормозами, останавливается машина, ее заносит, разворачивает поперек улицы. Какие-то люди появляются на балконах, распахиваются окна и нарастает смутный тревожный звон, он начался незаметно, а теперь усилился и перекрывает музыку кафе и уличные шумы, и даже шипение плазменного разряда, что держит Воображала в своих ладошках.
Подросток на противоположной стороне тротуара сосредоточенно смотрит на опустившуюся у его босой ноги оранжевую снежинку. Она размером с хорошее яблоко и больше похожа на светящегося ежика, чем на добропорядочную плоскую снежинку, и он некоторое время хмурится в явном недоумении. Потом переводит взгляд на зажатый в пальцах окурок и понимающе ухмыляется. Звон нарастает, и нарастает напряжение света. Теперь уже длинные искры проскакивают не только между металлическими предметами, они дрожащими раскаленными проводочками сшивают стены домов, деревья, машины, окутывают стремительной огненной паутиной замерших на тротуарах людей, сплетаясь в тонкое неверное кружево, обманчиво-прекрасное, готовое, казалось бы, рассыпаться от малейшего движения или даже просто от ветра, но тут же возникающее вновь, быстрое, почти неуловимое, сияющее, и нарастающий звон начинает казаться звоном этих сотен тысяч огненных струн, перетянутых до боли, до стона золотых нитей, готовых вот-вот лопнуть, взорваться, рассыпаться золотым фейерверком.
И — прозрачный силуэт со вскинутыми над головой руками, не силуэт даже, просто контур, очерченный по яркому фону еще более ярким, переходящим в абсолютный пересвет где-то на уровне локтей…
И — залитый ослепительным бестеневым светом тротуар, каждая трещинка на нем проступает неестественно резко — смятый фантик, бумажный стаканчик, пуговица, треугольный осколок стекла, окурок в губной помаде… Залитая этим же светом фигура врача — необычно плоская, словно вырезанная из картона, никаких тебе полутонов-рефлексов, только белое и черное, — одна рука рвет галстук, другая то ли тянется вперед, то ли отталкивает что-то, рот открыт. Видно, что он, задыхаясь, что-то кричит, но слов не слышно за усиливающимся звоном. Звон незаметно переходит в женский голос — высокий, звенящий, нечеловеческий, но завораживающе прекрасный. Он вытягивает из хрустального звона полукрик-полупесню без слов, на одной, до мурашек по коже высокой ноте…
Врач, шатаясь, делает пару шагов к Воображале, словно против шквального ветра. Он пытается схватить ее за плечо, но рука проходит сквозь очерченный пламенем контур и натыкается на витринное стекло. Он отдергивает руку. Трясет головой, что-то почти беззвучно кричит, машет обожженной рукой.
Силует подергивается стремительно крутящейся дымкой, полувой-полузвон чуть приглушается, сквозь него прорываются отдельные слова:
— … Вика!.. не надо… атит… ика…
Воображала стремительно обретает материальность, улица линяет, словно опущенная в кипяток акварель, фантастическая раскраска сползает с нее, как неумело наложенный макияж с пэтэушницы. Звон сходит на нет. Воображала — теперь уже совсем-совсем настоящая и материальная до больше некуда — смыкает руки, сдавливая вольтову дугу в маленькую шаровую молнию и швыряет ее в асфальт. Негромкий взрыв и вспышка служат своеобразным финальным аккордом и лишь подчеркивают наступившие после них сумерки и тишину. Тишина абсолютна — через пару секунд невольные зрители начнут приходить в себя, ахать, хватать друг друга за плечи и задавать дурацкие вопросы типа: «Ты видел!?» или «Что это было?!» Еще через пару минут они начнут чиркать зажигалками, переступать с ноги на ногу, греметь мелочью в кармане, хлопать дверями подъездов и говорить, говорить, говорить — с кем угодно и о чем угодно, лишь бы забыть об этой тишине, возникшей на пару секунд, пока все еще смотрят вверх, туда, откуда только что падал светящийся дождь…
И в этой тишине Воображала говорит неуверенно, нервно пожав плечом:
— Ну, вот… что-нибудь в этом роде… Как ты думаешь — подойдет?..
Врач кивает, с трудом оторвав взгляд от черной воронки в асфальте. Над воронкой поднимается дымок. Лицо у врача бледное, но почти спокойное.
Интроспекция
Дребезжание игрального автомата. Взгляд на ту же самую сцену, но со стороны, метров с тридцати. Из того кафе, где круглые столики из толстого стекла. Голос, похожий на голос Воображалы, но более низкий, произносит с какими-то новыми незнакомыми интонациями:
— А ничего, однако… Впечатляет. Я думала — хуже будет. Было, то есть…
Она сидит за столиком кафе, с интересом наблюдая за происходящим. Она выглядит старше, выше, увереннее — вполне взрослая молодая женщина трудноопределимого возраста. Модная короткая стрижка, неброский макияж, темные очки. Волосы слегка тонированы, блейзер скорее бежевый, чем оранжевый. Ее спутница сидит спиной к камере, виден только затылок — прямое каре, гладкое и блестящее, заколка в виде черной ракушки в крупный алый горох над левым ухом. Она молчит, ничем не выражая своего отношения к происходящему.
Разноцветные всполохи потихоньку сходят на нет. Остановившаяся было поперек дороги машина заводится, с визгом разворачивается и уезжает. Где-то наверху захлопывается окно. К остановке подходит троллейбус. Зазевавшиеся пешеходы ускоряют шаг, на остановке возникает короткая сутолока. Когда троллейбус отходит от остановки, на ней не остается никого. И вообще разбитая на клумбы площадка перед проспектом как-то очень быстро пустеет, на ней остаются лишь двое — растерянно оглядывающийся врач и Воображала.
— Нет, ну ты только посмотри!.. Это же надо, а?! В каком-нибудь занюханном Ньюблингтоне здесь бы уже давно были ребята из телецентра и хотя бы половины проинформированных этим засранцем газет — просто так, на всякий случай, а вдруг за поступившим сигналом что-то да есть! А у нас — хоть бы один паразит почесался!.. Великая сила — менталитет. Нет, ты смотри — ну хоть бы кто-нибудь поинтересовался — а что тут, собственно, происходит?.. Специфика выживания, любопытство отсеялось как неблагоприятная мутация. Разве что серые братья в красных шапочках припожалуют… О! Легки на помине!
Откуда-то из-за угла выруливают две машины с мигалками, дорожный патруль и оперативная. Тормозят у бровки.
— … Типичная ошибка стимула и игнорирование менталитета. А еще врач, называется. Жалко девочку… Верит, правда, во всякую чушь, но это скоро пройдет, а так вроде…
Из оперативной машины вылезают двое и неторопливо идут прямиком к нарушителям спокойствия. Нехорошо так идут, целенаправленно. Дорожники предпочитают наблюдать с проезжей части.
— Что-то мне этот пейзаж перестает нравиться… суровая правда жизни — оно, конечно, но скучно мне как-то от этой правды. Нет, ты как знаешь, а я подобного допустить не могу. На фиг эту ошибку стимула. Если гора не идет к Магомету — то пора Магомету менять менталитет…
Приятный до тошноты типично рекламный голосок сообщает доверительно:
— … в случае обнаружении дефекта некачественный менталитет подлежит замене в любой торговой точке объединения в течение пятнадцати секунд с момента приобрете…
Смена кадра
Гаснущие вспышки. Дымок над свежей воронкой в асфальте.
— Ну вот… — говорит Воображала неуверенно, — что-нибудь в этом роде… Как ты думаешь — подойдет?..
Врач не успевает ответить — тишина взрывается криками, шумом, топотом. Словно из-под земли вырастает целая толпа увешанных разнообразной съемочной аппаратурой молодых людей, мелькают вспышки блицев. Дверцы одинаковых автомобилей на противоположной стороне улицы хлопают почти синхронно, и точно так же, почти синхронно, уверенно раздвигают образовавшуюся толпу квадратными плечами две шкафообразные личности.
— … Вы пользуетесь световыми эффектами?.. Это рекламная кампания?.. Вы применяете воздействие на психику? Если да, то какого рода?.. Товары какой фирмы…
Крашеная длинноносая девица сует микрофон Воображале прямо в лицо, та отшатывается, из-за ее спины выныривает врач, сияя дежурной улыбкой. Чей-то визгливый крик из задних рядов:
— Против чего вы протестуете?!
Врач вскидывает руки над головой, устанавливая относительную тишину:
— Никаких политических мотивов, никаких протестов. Моя юная коллега позволила себе небольшую разминку в целях привлечения вашего внимания.
— Вы используете волны? Или все-таки химию? Как насчет ущерба здоровью и собственности? Налогоплательщики желают быть информированы… — голоса отдаляются, они говорят со все более и более заметным акцентом, потом и совсем переходят на английский. За кадром — хихиканье, короткая перебранка:
— Мда, похоже — переборщила…
— Сойдет!..
— Ты думаешь?
— А, нехай!..
Смена кадра
— Никаких рекламных трюков, никаких фокусов или психотропных воздействий. Никакого вреда для здоровья, уверяю вас как дипломированный медработник с более чем двадцатилетним стажем. Все, что вы сейчас видели — самое настоящее, без обмана, можете пощупать. Пробная демонстрация паранормальных способностей моей юной коллеги. Способности эти, сами видите, потрясающие, но изучены пока слабо. О практическом применении мы пока не думали, но если у кого-то из вас возникнут идеи — будем рады…
— Как вы это делали?
— Как она это делает — хотели вы спросить? Отвечу честно — не знаю! И никто пока не знает! Можете считать это благоприятной мутацией, утраченным в процессе эволюции атавизмом или просто чудом — сути это не изменит. Делает — и все! Но ведь как делает! Сами могли убедиться…
— Вы хотите нас убедить, что виновником всех этих… э… аномальных атмосферных явлений является эта… хм-м… этот ребенок?.. — в голосе умеренная вежливость, откровенный скепсис и неистребимая профессиональная привычка работать на публику, на костистом породистом лице — профессиональная скука. Да и нацеленная на это породистое лицо многообъективная аппаратура дает понять, что перед нами не простой газетчик или даже журналист, а звезда какого-нибудь телеканала, комментатор или даже ведущий. — Простите, но не кажется это Вам и самому несколько… хм-м… притянутым за уши?
Врач вытягивает шею, словно стараясь получше рассмотреть говорившего, и становится очень похож на сделавшего стойку фокстерьера. У него даже глаза вспыхивают в свете переносного прожектора, как у охотничьей собаки, заметившей дичь.
— Вы настаиваете на проведении повторной демонстрации?
— Не хотелось бы быть назойливым, но… думаю, что и нашим зрителям это было бы интересно. Если, конечно, Ваша юная… м-мм… подруга… не растратила все свои чудесные способности на продемонстрированный фейерверк… — сарказм в его голосе становится гораздо явственнее.
Врач что-то говорит Воображале, та, улыбаясь, кивает. Сводит растопыренные пальцы перед грудью, разводит медленно — кто-то негромко выругался, вспышки щелкают как сумасшедшие. Воображала скатывает из светящихся нитей небольшую шаровую молнию и протягивает ее на ладошке требовавшему контрольной демонстрации телекомментатору. В абсолютной тишине слышно лишь легкое потрескивание светящегося шарика и гудение камер.
— Вы хотели потрогать? Не бойтесь, напряжение здесь не очень высокое, не больше двухсот…
Криво улыбаясь, комментатор (вокруг него и Воображалы сразу возникает пустое пространство) протягивает руку, но дотронуться до светящегося шарика не успевает — между ним и его рукой проскакивает длинная искра. Комментатор с воплем отдергивает руку, с его вставших дыбом волос срываются быстрые искры, металлические заклепки на куртке светятся голубоватым неверным огнем, по черной коже пробегают всполохи.
— Извините! — Воображала выглядит искренне смущенной, — Эти шарики всегда такие нестабильные! Ничего, я сейчас еще один сделаю!
— Нет-нет! Т-то есть, меня вполне удовлетворил предыдущий! — Комментатор поспешно машет руками и даже слегка дергается, пытаясь спиной втереться в толпу. Кто-то смеется. Щелкают блицы. Поверх головы Воображалы врач кому-то кивает и рядом с ними тут же материализуются шкафообразные личности в длинных пальто.
— Они отвезут тебя в госпиталь, я сам немного задержусь и все улажу. Ты меня там подождешь, хорошо?! — говорит врач быстро и тихо в ответ на вопросительный взгляд Воображалы, и, уже громко, в толпу:
— Больше никаких демонстраций и никаких комментариев! До пресс-конференции! Сегодня в три часа дня в конференц-зале Военно-Медицинской Академии моя юная коллега ответит на все ваши вопросы…
Камера следит за Воображалой — ее уверенно то ли сопровождают, то ли конвоируют сквозь толпу молчаливые охранники. В машине один занимает место рядом с Воображалой, другой садится за руль. Захлопывается дверца, отсекая последние слова врача. Какой-то шустрый репортер пытается сфотографировать Воображалу сквозь тонированные стекла, машина уезжает.
Ей вслед с отстраненным выражением смотрит сидящий на бордюре грязный подросток.
Запоздалые блики щелкают, камеры торопятся заснять отъезжающий автомобиль, на лицах репортеров — разные степени любопытства и разочарования. Губы врача еле заметно кривятся, он стоит на ступеньке перед кафе и поэтому кажется на голову выше остальных. Он ловит взглядом требовавшего повторной демонстрации комментатора и еле заметно ему улыбается. Это о многом говорящая улыбка, которой могут обмениваться люди, только что совместно провернувшие трудную, но очень выгодную обоим работенку. И комментатор отвечает ему такой же слабой понимающей улыбочкой, но в его улыбочке больше цинизма.
За спиной врача в кафе им беззвучно аплодирует похожая на Воображалу женщина в черных очках и бежевом блейзере…
Смена кадра
Белая стерильная комната, явно больничная палата. Белая стена крупным планом, камера медленно движется вдоль нее, задевает бок длинного медицинского агрегата, похожего на саркофаг. На нем прикреплена табличка, но надписи не разобрать, слишком мелко.
Голос Воображалы за кадром — растерянный, почти отчаянный:
— Но я не могу!
Камера рывком перемещается вдоль палаты, резко разворачивается, захватывает группу людей в одинаковых белых халатах. Люди разные — и по возрасту, и по выражению лиц. Некоторое время камера прыгает по лицам — заинтересованным, недоверчивым, скучающим, ехидным, недовольным — и, наконец, фиксируется на Воображале. Она в центре. (Тоже в белом халате, он ей велик, рукава закатаны, волосы слегка приглажены — ярко-рыжее пятно на стерильно-белом фоне).
Она тоже мечется взглядом по лицам, дергает головой, пытается объяснить:
— Вы не понимаете! Это же не фокус, р-раз — и все! Я же не могу вообразить то, чего не знаю! А что я знаю о костном туберкулезе!? Или о церебральном параличе?!! Я же не медик!.. Чтобы этим заняться, — она машет головой куда-то за край кадра, — я должна понимать, что именно там не в порядке, понимать, понимаете? И точно знать, каков именно должен быть этот самый порядок… Представляете, сколько мне для этого прочесть надо? Тонны!..
Крупным планом ее лицо, выражение почти испуганное, улыбка виноватая. Чей-то насмешливый голос:
— Ну, что я вам говорил? Убедились?..
Лицо врача, он морщится, смотрит на часы.
— Жаль… — в его голосе нет растерянности или неуверенности, просто констатация неприятного факта, — Да, было бы неплохо сразу предъявить практические результаты, но раз нет — так нет, обойдемся…
Отыскивает скептически настроенного коллегу взглядом, произносит с легким презрением:
— Надеюсь, того, что было в лаборатории, Вы отрицать не станете?.. — делает короткую паузу, но так как никто, похоже, возражать не собирается, продолжает, — Пошли, уже без пяти…
Они идут к белой двери мимо белых медицинских боксов, установленных по периметру комнаты. Воображала — последней, вид у нее виноватый. Чей-то успокаивающий голос:
— Серега, ты не прав… Привести ребенка в палату умирающих и требовать от него чуда!
Воображала спотыкается, путаясь ногами в длинном халате, хватается рукой за спинку бокса. Крупным планом — рука и табличка рядом с ней. Теперь надписи видны отчетливо, это что-то типа бирки или упрощенного медграфика. Сверху мелким черным шрифтом фамилия и имя, ниже — непонятные значки в несколько рядов. А в самом низу — крупные красные цифры. 13–26…
Воображала выпрямляется, глядя на эту табличку. По инерции делает несколько шагов, поворачивая голову. Взгляд ее по-прежнему прикован к табличке. Останавливается.
Ретроспекция 11
Крупным планом табличка. Но теперь она желтая, а не белая, и цифры синие. Голоса выходящих из палаты людей отдаляются, доносятся словно сквозь вату. Крупным планом — лицо Воображалы. Она хмурится, сощурив один глаз и закусив нижнюю губу. В ватной тишине очень ясно и ненатурально за кадром звучит ее совсем еще детский голос:
— Что такое 13–26?
И ему отвечает другой, принадлежащий старому, усталому и очень грустному человеку:
— Тройное проклятие. Так его называют… Легко запомнить, правда? Три раза по тринадцать. Поражение костного мозга… Метастазы… Другими словами — лейкемия. Запущенная стадия…
— Она что — умирает? — в голосе закадровой Воображалы удивление, даже недоверие.
— Боюсь, что да… — ее невидимый собеседник вздыхает.
Воображала фыркает, говорит скорее раздосадованно, чем обеспокоенно:
— Но ведь я — НЕ ХОЧУ!..
…Топот детских ног, резкий разворот камеры на дверь. Воображала лет десяти (голубые гольфы, белые шорты, оранжевая майка, бант сбился, болтается над ухом) быстро идет по длинному коридору, накинутый на плечи бледно-голубой халат развевается за ее спиной на манер средневекового плаща. У одной из палат ей приходится задержаться — санитары вывозят из нее высокие носилки, накрытые простыней, под которой угадываются очертания тела. Последний из них, выходя, прикрывает дверь и переворачивает висящую на ней табличку с фамилией и номером тыльной стороной вверх. С обратной стороны эти таблички пустые, с маленьким красным кружком посредине.
Улыбка Воображалы становится злой, глаза сощуриваются. Упрямо вздернув подбородок, она ускоряет шаг.
Смена кадра
Распахнув тяжелую дверь, десятилетняя Воображала врывается в кабинет:
— Папа! Тот человек сказал, что фрау Марта… — в ее голосе обида, непонимание и неверие. Конти встает из-за стола, оборачивается, роняя книгу. Он не говорит ничего, но его вид достаточно красноречив, чтобы Воображала замолчала на полуслове, заморгала растерянно. Конти отводит глаза, молча подходит к ней и так же молча гладит по голове, ероша яркие волосы. Пальцы его дрожат.
Лицо Воображалы передергивается яростной гримаской. Она резко выворачивается из-под этой руки, яростно встряхивает головой, поднимая волосы дыбом (они встают непримиримым почти панковским хохолком). Маленький кулак с такой силой обрушивается на столешницу, что с грохотом падает стоявшая на столе вазочка, опрокидывается подставка для карандашей, рассыпается какая-то конторская мелочь, на пол летят блокноты, бумаги, папки. Голос Воображалы тих и вкрадчив, но от этого лишь отчетливее звучащее в нем обвинение:
— И ты. Вот тут. Вот так. Просто. Сидишь. И — все?!!
Конти вздрагивает, как от удара, выпрямляется, расправляя плечи (лицо у него измученное), говорит очень тихо, но твердо:
— Я ничего не могу сделать, Тори. Ни-че-го…
— Да ты и не пытался!..
Воображала трясет головой, хочет сказать что-то еще, но от ярости не находит слов, снова бьет кулачком по столешнице. Это ей кажется явно недостаточным, и она, схватив одной рукой крышку стола за угол, резко переворачивает его и легко швыряет в противоположный угол комнаты тяжелую дубовую тумбу, словно та пенопластовая. Ворвавшийся в окно ветер вздымает парусами тюлевые полупрозрачные занавески, подхватывает разлетевшиеся бумажные листки, кружит их, словно осенние листья, засыпает ими пол кабинета, наметая на упавшем столе маленький бумажный сугроб. Шум прибоя. Спокойный голос Воображалы:
— Что такое лейкемия?
Листки сыплются с потолка большими квадратными снежинками. Конти качает головой.
— Тори, не все выходит так, как мы хотим…
— Можешь не отвечать, — голоса Воображала не повышает, только глаза суживает и упрямо выдвигает подбородок, — Я все равно могу посмотреть в словаре.
— Ты ничего не поймешь!
— Посмотрим.
— С этим не справляются специалисты, а ты хочешь вот так, наскоком?! Не сходи с ума! — Конти идет, пригибаясь, сквозь бумажный буран вдоль книжных полок, занимающих всю стену от пола до потолка, — Ты не представляешь, сколько ты для этого должна хотя бы прочесть! Тонны!!! Да к тому же и не просто прочесть — осознать, запомнить, научиться управлять и исправлять… Ты не успеешь.
— Посмотрим, — повторяет Воображала, быстро листая маленький толстый словарь. Наконец находит нужную страницу, в победной полуулыбке вздергивает верхнюю губу, смеется беззвучно. С громким щелчком захлопывает словарь и прицельно щурится, осматривая книжные полки. Взгляд у нее плотоядный, улыбка нехорошая. Щелкает пальцами, стремительно ускользая из кадра. Конти поднимает брошенный словарь, выпрямляется — лицо обреченное, брови трагически приподняты. Говорит в пространство:
— Люди годами учатся…
— Ха! — голос Воображалы доносится откуда-то сверху. Короткий ответо сопровождается звуками — шорохом, скрипом, постукиваниями. Едва не задев Конти, сверху падает большая книга в темном переплете. Камера вздергивается, захватывая балансирующую на верхней ступеньке стремянки Воображалу. Между левым плечом и подбородком у нее зажаты штук восемь пыльных разноформатных фолиантов, подмышку засунут еще один, а правой свободной рукой она пытается дотянуться до невероятно толстой книги, выделяющейся своим размером даже среди явно энциклопедических изданий. Ее пальцы скребут по тисненому корешку, цепляют обложку, сдвигают книгу на несколько сантиметров, срываются, дергают снова. Наполовину выдвинутая книга вырывается из ее руки и тяжело падает на пол, раскрываясь при этом. Камера прослеживает ее падение и продолжает показывать крупным планом перелистывающиеся по инерции страницы. Через некоторое время становится ясно, что инерция здесь не при чем — в кадре появляется маленькая ладошка, придавив страницу на пару секунд для детального изучения. Потом пальцы соскальзывают вдоль текста вниз, страница перелистывается. Другая. Третья. Четвертая. Страницы меняются, меняется формат и качество бумаги. Слышен шелест целлофана и хруст. Потом на какой-то миг на страницу ставится пластиковый стаканчик с колой и толстой полосатой соломинкой. Когда через несколько секунд и перевернутых страниц его ставят опять, он уже пустой, и поэтому падает, его нетерпеливо отбрасывают.
Листы продолжают мелькать, формулы и схемы начинают существовать отдельно от страниц, самостоятельно роятся в воздухе, возникают на стенах, на полу, путаются, слипаются, возникают снова. Их сменяют какие-то путанные полуабстрактные рисунки из скрученных плоских лент. Ленты рвутся, путаются, свиваются в косички и спирали, распадаются на отдельные коротенькие ячейки или секции из нескольких ячеек. Их движения ускоряются, сливаясь в сплошное мелькание. Сквозь это мелькание осторожно и неслышно проходит Конти с подносом. На подносе кола, бутерброды и пакетики чипсов. Отодвинув ногой кучу пустых стаканчиков и упаковок, ставит поднос на пол рядом с раскрытой книгой.
Воображала сидит среди кучи разбросанных книг и мусора, по-турецки поджав ноги и оперевшись локтями на верхнюю из книг, сложенных столбиком перед ее острыми коленками. Подбородок ее лежит на стиснутых кулаках, брови нахмурены, глаза закрыты. Она грызет ноготь на указательном пальце, на Конти не обращает ни малейшего внимания, скорее всего — просто не замечает. Конти выходит так же тихо, как и зашел. Перед тем, как закрыть дверь, гасит свет.
Теперь светящиеся ленточки мелькают на темном фоне, обстановки почти не видно, так, смутно, силуэтом — Воображала. Ее голова опускается все ниже, локоть правой руки соскальзывает с книги. Формулы и ленты продолжают мелькать, становятся тоньше, ярче, в их движении появляется ритм, зарождается музыка. Сначала она смутная, еле уловимая, но постепенно звучание усиливается, и хаотичные дрожания лент упорядочиваются все больше, синхронизируются, становятся похожими на танец. Музыка слышна все громче и отчетливей, постепенно в ней начинает угадываться победный бравурный марш. Формулы органично сплетаются с лентами, образуя плетенку длинного туннеля, камера, все убыстряя движение, скользит по нему. Вдали появляется светлое пятнышко, оно разгорается, становится ярче и больше, музыка все громче, и усиливается звон. Камера вылетает на ослепительно яркий свет — и все обрывается.
Без всякого там постепенного угасания — просто словно обрезали. Свет до нормального уровня пригашивается скачком, словно просто выключили слепящий прожектор.
Смена кадра
Сегодняшняя Воображала в белом халате у белой стены. Белая табличка на боксе. Красные цифры на ней — 13–26.
— Подождите! — кричит Воображала в затянутые белыми халатами спины. Говорит тише: — Я сделаю… Вот этого.
В дверях — легкое замешательство. Чей-то длинный свист. Врач проталкивается в палату, смотрит на табличку, спрашивает неуверенно:
— Думаешь?
Воображала отвечает безмятежно-горделивой улыбкой и тыкает его кулачком в живот — не дрейфь, мол! Звучит уже знакомый бравурный марш, в нем явственно набирают силу фанфары. Лицо Воображалы крупным планом.
Смена кадра
Лицо Воображалы крупным планом, улыбка снисходительная и несколько недовольная, взгляд куда-то в сторону (вероятно, в сторону окна — на лицо ее падает свет, глаза приобретают льдистую прозрачность. Звуки марша удаляются, их перекрывает шум возбужденной праздничной толпы).
На какое-то время камера сосредотачивается на ее лице (очень крупный план). Воображала прислушивается. Потом усмехается, дергает головой, сбивая настройку. Вместе с рыжей волной ее волос в кадре мелькает что-то ярко-синее, потом снова появляется ее лицо, теперь освещенное наполовину (освещение заметно изменилось, контраст между светом и тенью стал ярче и жестче, тени углубились, смазывая детали). Воображала с явным интересом оглядывает себя, выпячивая губы, наклоняет голову (некоторое время в кадре видна лишь ее рыжая непривычно аккуратная макушка). Поднимает укоризненный взгляд куда-то выше камеры, покачивает головой, вздыхает и с обреченным отвращением рывком натягивает чуть ли не на самые брови ярко-синюю облегающую шапочку.
Эта шапочка сделана из блестящего эластичного материала, закрывает уши и на лбу изгибается пингвиньим мысиком, выступающим до самой переносицы. Над этим мысиком светится золотистая дубль-w, от ушей к затылку топорщатся узкие золотистые же крылышки.
Камера постепенно отступает (или это сама Воображала делает шаг назад), в кадр попадают другие подробности ее странного костюма — облегающий шею до самого подбородка воротник, соединяющий шапочку с эластичным полутрико-полукомбинезоном (тугим, блестящим и обтягивающим ее плечи, словно вторая кожа). Комбинезон, как и шапочка, ярко-синий, по плечам тянется золотая полоска. Когда Воображала поднимает руку, поправляя выбившуюся из-под шапочки непослушную прядку, видно, что такая же золотая полоска охватывает ее запястье широкой манжетой.
Воображала косит из-под шапочки злым глазом, говорит мрачно:
— Ладно, пошли…
Резко разворачивается, распахивает створки балкона. Шум толпы становится громче, отчетливей, переходит в восторженный рев, когда она делает несколько шагов и попадает в перекрестье направленных откуда-то сверху прожекторов. Ярко вспыхивает золотая подкладка плаща и золотые же сапоги-чулки до колен. Узенькой полосочкой — золотые плавочки поверх ярко-синих лосин.
Воображалу заслоняет спина врача, выходящего на балкон следом за ней, камера тоже начинает двигаться вперед, огибает их, разворачиваясь (на секунду, панорамой — заполненная людьми площадь, разноцветные воздушные шарики, цветы, транспаранты), вновь разворачивается к ярко освещенному балкону. Но теперь уже — с расстояния и немного снизу.
Яркий контраст золотого света и чернильно-синих теней, вскинутые в приветствии руки, ослепительные улыбки. Врач — в строгом черно-белом, на шаг позади, триумф скромной гордости, словно у швейцара в Швейцарском банке.
Камера приближается. Теперь видна некоторая ненатуральность позы Воображалы — она слишком долго держит вскинутые руки, плечи напряжены, лицо тоже, улыбка вблизи больше похожа на оскал. Губы ее чуть заметно шевелятся. Становится слышно, как она монотонно ругается свистящим шепотом, продолжая отчаянно улыбаться:
— … Идиотизм!.. Дебильство!.. Модельера за такие шуточки урыть мало!.. Какого черта им еще надо!?.. Превратили черт знает во что, обрядили, как… крылья эти дурацкие!!!.. Я им кто? Девочка из мюзик-холла!?..
— Сделай им молнию, — шепчет врач, не меняя торжественно-удовлетворенного выражения застывшего лица.
— Молнию, да?! — шипит Воображала, яростно скашивая глаза в сторону врача, — Ты думаешь, это так просто, да? Вот возьми и сделай, если такой умный! Знаешь, сколько она энергии жрет?!!
Слышно, как врач фыркает:
— Раньше думать надо было! Сама приучила, кто теперь виноват? — и другим тоном, настойчиво, — Дай ты им молнию, не отстанут ведь!
— Молнию им… — шипит Воображала, но тон у нее сдавшийся. Она уже не сопротивляется, ворчит просто по инерции, — Ладно уж…
Глубоко вздыхает, перестает скалиться. Лицо ее расслабляется, улыбка становится почти естественной, левый глаз сощуривается. Слышен явственный треск, ее лицо (крупный план) освещается пронзительно-голубым неровным светом. Треск усиливается, с шипеньем рассыпаются сверху длинные искры. Восторженный рев толпы, треск, шипение, злая улыбка Воображалы. Глаза ее закрыты, на белом лице мечутся голубоватые неоновые отблески. Лицо очень бледное. Свет становится все ярче, шум толпы нарастает, дробится, тембр его снижается, растягивается, переходит в самый низ нотного регистра. Яркая вспышка.
Смена кадра
Издалека — сине-желтая фигурка на балконе, голубая молния в руках. Изображение замирает, меняет цвет, постепенно выцветая до черно-белого, тускнеет. Голос Воображалы, раздраженный и насмешливый:
— «Девочка-Молния»! О, Господи!.. Слушай, я не пойму — они действительно идиоты или все-таки притворяются? Мода такая, что ли… одно название хуже другого!
Рука Воображалы сминает газетную страницу с фотографией. Камера отступает, давая панораму комнаты, больше всего напоминающей рабочий кабинет. Темная официальная мебель, огромный письменный стол, темные шторы на окнах (за окнами — день). Врач (уже в обычном своем полуспортивном костюме) сидит на краешке стола. Стол совершенно пустой, если не считать черного телефона и серых мокасин Воображалы.
Воображала полулежит во вращающемся кресле поперек, забросив ноги на крышку стола и катая из скомканной газеты шарик. Одета она по-прежнему в облегающее трико, только лосины словно бы поблекли и выцвели до светло-серебристого оттенка, да поверх майки натянут грязно-оранжевый свитер.
— Какого черта им потребовалось делать из меня гибрид Коперфильда с Кашпировским?! Да еще и сахарных соплей развели… Неужели самих не тошнит? — в голосе Воображалы нет злости, только искреннее удивление.
Врач фыркает, пожимает плечами:
— А не фиг было на стадионах выступать! Да еще не где-нибудь…
— Так ведь они сами пригласили.
— Конечно-конечно, а ты сразу и побежала! Как же ж — Моськва!.. Говорил же — не высовывайся… Открыла бы кабинетик, сенсорила бы себе потихоньку, раз уж удержаться не можешь… А теперь ни на что, кроме этой фигни, времени не остается…
— Ну, не скажи… — Воображала смущенно улыбается, — Что бы ты там ни говорил, но сделать счастливой такую массу народа — это, черт возьми, все-таки не фигня!..
— Фигня-фигней. Просто достаточно большая фигня…
— Костюмчик дурацкий…
— Да ладно тебе!.. обычный суперменский костюмчик, к тому же ты в нем очень даже неплохо выглядишь.
— Ха!. Неплохо — и только. Какой кошмар! — Воображала хмыкает, потягивается, меняя позу, — Устала я что-то сегодня…
Бросает бумажный шарик. Он падает на середину стола, по инерции катится, замирает, наткнувшись на черный бок телефонного аппарата.
Врач следит за его движением, повернув голову. Спрашивает:
— Ты все еще хочешь ему позвонить?
Воображала вскидывает на него глаза, но он по-прежнему смотрит на шарик. Шарик светлый, он очень четко виден на фоне черного телефона и темной полировки. Воображала улыбается, глядя на врача, (крупным планом — ее лицо). Ее глаза все время меняют цвет — они то янтарно-теплые, почти оранжевые, то свинцово-серые, то безмятежно-голубые, фарфоровые, как у куклы.
Сейчас они светлые. Очень светлые, но не прозрачные. Словно поверхность ртутного озера, тяжелая, вечно подвижная, по-хамелеоновски меняющая окраску и не позволяющая заглянуть в глубину.
— Зачем? — спрашивает Воображала, продолжая улыбаться.
Звонит телефон. Резкая пронзительная трель.
Смена кадра
Секундная пауза — и трель повторяется. Черный телефонный аппарат крупным планом. В кадре появляется крупная мужская рука, снимает трубку. Незнакомый мужской голос произносит устало:
— Дежурный по отделению слушает… Да… А, ну да… Нет, не обязательно, спасибо, что сразу позвонили… Да, конечно, следует официально оформить… В любое удобное вам… Да, конечно, всего доброго…
Камера разворачивается, показывая дежурную часть отделения милиции. Сидящий за столом аквариума лейтенант морщится, кладет трубку.
— Жарища! — говорит полный мужчина с подтяжками поверх голубой форменной рубашки. Он сидит на краю стола и обмахивается газетой. Это тот же номер газеты, что и скатанный Воображалой, с ее фотографией. — Если так пойдет и дальше… Что-нибудь дельное?
Он вопросительно поднимает брови, скашивает глаза на телефон и даже перестает обмахиваться газетой. Он похож на толстого ленивого кота, увидевшего мышь под самым носом. Лейтенант снова морщится, машет рукой:
— А, чушь. Конти звонил.
— Что мы ему — метеоры!? Три дня прошло!
— Да нет, в том-то и дело… Михалыч, ты его заявку оформлял?
— Ну, я…
— Радуйся — одним глухарем меньше. Отзывает он свое заявление. Говорит, позвонила ему его потеряшка откуда-то чуть ли не из-под Мурманска. Укатили с дружками… Ты же знаешь эту современную молодежь.
Михалыч вытягивает губы в беззвучном свисте:
— Ничего себе прогулочка!.. А он уверен, что это была именно она?
— Тебе что — больше всех надо? Нашлась — и слава богу! У тебя вон и без того с писаниной завал, шеф уже предупреждал…
— Так уверен он или нет?
— Н-ну… Говорит, что уверен. — лейтенант произносит это очень осторожно. Отпихивает телефон. Закуривает. Михалыч некоторое время смотрит на него, потом опять вытягивает губы в трубочку. Но на этот раз беззвучный свист гораздо длиннее.
— В конце концов, — говорит лейтенант, отводя глаза, — это больше не наше дело…
На лице Михалыча — сложная гамма чувств откормленного амбарного кота, упустившего мышь — угрызения совести борются с явным облегчением, а природная лень — с чувством профессионального долга. Наконец он вздыхает, смотрит на фото в газете, говорит раздраженно-заискивающе:
— Да уж… Молодежь сегодня… Вот мы в их годы…
Смена кадра
Крупным планом — фотография. Газета словно пожевана. Видно, что ее сначала скомкали, а потом аккуратно разгладили. Разъяренный голос Воображалы:
— Всякому терпению бывает предел!..
Камера быстро отодвигается, показывая кабинет Воображалы. Сама Воображала, кипя от бешенства, стоит у стола, сжимая в охапке кучу журналов:
— Я простила им этот идиотский костюмчик! Я стерпела Леди Вольт — ладно, пусть будет Леди Вольт! Я стерпела Метательницу Грома! Электрогерлу и Укротительницу Молний! Но это… Это уже чересчур! — она швыряет журналы на стол, — Электра!.. Черт возьми!.. Сравнить меня — МЕНЯ!!! — с этой древнегреческой психопаткой!!! — она бросает на груду бумаг яростный взгляд, те вспыхивают ярким бездымным пламенем, сгорая почти моментально. Воображала поднимает глаза (теперь она смотрит прямо в камеру). Говорит неожиданно спокойно:
— С этим пора кончать…
— Разрядилась? — спрашивает врач осторожно-насмешливо, — А то еще можешь спалить содержимое мусорной корзины.
Воображала хмыкает, дергает плечом.
— Ладно уж… — сгребает полусгоревший мусор, смущенно рассматривает испачканные пальцы. Смеется. С размаху прыгает в крутящееся кресло, забрасывает ноги на подлокотник, крутится, оттолкнувшись от стола носком мокасина. В ее голосе — явственные горделивые нотки:
— Вчера я добила вээмэшную кафедру. А они даже и не поняли, что в их базе кто-то поковырялся! И, заметь, — ни одной леталки… Кстати, с тебя мороженное — я все-таки поняла, как можно убрать ту хромосому у даунов… А знаешь, кто заявился сегодня с утра, пока ты благополучно дрых? Коллеги твои бывшие. Ну эти, из Академии. Хочешь посмеяться? Они просили меня уехать. Даже протекцию предлагали. Вплоть до вызова в Москву или Стокгольм. Не понимаю только — почему именно в Стокгольм?.. Даже денег предлагали… Дурачки!..
Она смеется почти нежно:
— Они до сих пор не понимают, что один город — это только начало. Я уже и сейчас потихоньку начинаю контролировать пару соседних областей… Ничего, тяну! Я тут медицинскую статистику просмотрела — это же просто ужас! Жизни не хватит… Впрочем, насчет жизни можно и поспорить… Жизнь-то — ее ведь и продлить можно, почему бы и нет? Как ты думаешь?
— Не зацикливайся, — в голосе врача энтузиазма несколько поменьше, чем снега в Зимбабве, — У нас и так на здравоохранение отведено по три с половиной дня каждую неделю.
— Кстати, о днях… Сегодня ведь вторник, да?
— Ну, вторник, — подтверждает врач неохотно, сквозь зубы. Энтузиазма в его голосе еще меньше.
Воображала разворачивается лицом к камере, тычет обвиняющим пальцем:
— Что ты затеял сегодня?!
Врач морщится, вздыхает покорно:
— Хорошо, пусть будет так…
— Что значит «Пусть будет»? Какая очередная пакость будет мною обнаружена?
— Не вали с больной головы на здоровую! — взрывается врач, — Ты что, забыла, КТО ты?! И если тебе так уж приспичило, чтобы я по вторникам устраивал тебе всякие неожиданные сюрпризы — не мне, знаешь ли сопротивляться!.. Но и не тебе меня обвинять!
Воображала не улыбается (ее настороженное лицо крупным планом).
— Ты кого-то ждешь. Кого? Ну!?
Врач явно хочет ответить что-то малопечатное, но не успевает — в дверь впархивает молодая девица с типичной внешностью секретарши (мини-юбка, жевательная резинка, макияж, полнейшая невозмутимость на фарфоровом личике):
— Там пришли двое из Кабинета Президента. Говорят — им назначено…
Воображала с интересом рассматривает врача, не обращая внимания на секретаршу. Говорит задумчиво:
— Знаешь, рассуждая о практическом применении прикладной телепатии, я все больше склоняюсь к мысли о просто-таки назревающей необходимости лично опробовать ее действие, невзирая на некоторый моральный протест…
Врач вздрагивает. Секретарша переводит на него равнодушный взгляд:
— Прикажете впустить или пусть подождут?
Воображала продолжает в упор смотреть на врача, который нервничает все больше и больше. Она явно играет в «страшного босса» — сидит в кресле, сгорбившись, забросив ногу на ногу и покачивая мокасином из стороны в сторону, смотрит исподлобья, выбивает ногтями ритмичную дробь по подлокотнику и нехорошо улыбается. Костюм на ней уже другой — безукоризненная бело-голубая тройка (пиджак на два тона темнее брюк с острыми стрелками, а жилет — на два тона темнее пиджака), оранжевая рубашка, манжеты которой на дюйм выступают из рукавов пиджака, и надвинутая на самые брови белоснежная шляпа типа «шериф». В свободной от постукивания руке она вертит судейский молоточек, описывая им полукруги, словно маятником. Огромная люстра, расположенная точно над головой врача, начинает вдруг мелко дрожать, позвякивая подвесками. Врач бросает на нее нервный взгляд, говорит с преувеличенной обидой:
— Ну и ладно!! Ну и пожалуйста! Я и вообще могу уйти!..
Делает быстрый шаг назад, одновременно разворачиваясь с почти неприличной торопливостью.
Дверь захлопывается у него перед самым носом — с разгона он налетает на нее всем телом, замирает на секунду, распластанный, с поднятыми руками и вывернутой вбок головой, словно цыпленок табака, потом обмякает, кулаки разжимаются, опускаются плечи. Глубоко вздохнув и засунув руки в карманы, он разворачивается на каблуках. На лице — смирившаяся обреченность.
— Так сказать им, чтобы обождали? — повторно спрашивает невозмутимая секретарша, с непоколебимым спокойствием наблюдаая эту сцену и продолжая жевать резинку.
Молоточек описывает полный круг и с оглушительным треском опускается на столешницу:
— Введите! — восторженно рявкает Воображала.
Двое появляются в светлом дверном проеме практически одновременно. Два абсолютно одинаковых черных силуэта (в кабинете окна полуприкрыты тяжелой темной шторой, а из приемной им в спины бьет ослепительный искусственный свет). На какой-то миг они выглядят пугающе безликими, нереальными, но вот равнодушная секретарша захлопывает за ними дверь и страшноватое впечатление исчезает, перед нами просто двое мужчин, совсем и не похожих друг на друга. На них добротные серые костюмы — тоже не слишком одинаковые, один из них со стрижкой ежиком и квадратной челюстью, другой — просто лысый, полный и улыбчивый.
— Здравствуйте, — говорит он, протягивая Воображале пухлую ручку, — Меня зовут Геннадий Ефремович, можно просто дядя Гена… — он расплывается в широкой улыбке.
Смена кадра
Тонкие холеные пальцы крупным планом. Бархотка с костяной ручкой полирует покрытый бледно-голубым лаком ноготь. Еще более крупный план — ноготь отполирован до зеркального блеска, в его похожей на елочный шарик поверхности отражаются размазанные искорки. Фокус меняется, сосредотачиваясь на этих огоньках, они приближаются, становятся четче, распадаются на отдельные фрагменты (ногти и бархотка, соответственно, расплываются, исчезая из кадра). Теперь в кадре — перевернутое и деформированное отражение приемной — странно изогнутые лампы дневного света на потолке, перекошенное окно, искривленные панели стен.
Звук открываемой двери, шаги, радостный голос Воображалы:
— … Вы знаете, я еще ни разу не бывала на засекреченной военной базе! Это так интересно!..
Четыре исковерканные фигуры проходят мимо окна, изображение переворачивается, и камера успевает поймать их спины прежде, чем за ними захлопывается дверь.
Смена кадра
Шум прогреваемых турбин. Помещение, напоминающее кают-компанию, — круглые иллюминаторы, круглые столики и кресла, ножки привинчены к металлическому полу, ковровая дорожка. Переборки, выступающие от стенки метра на полтора, делят салон на своеобразные небольшие отсеки — столик, четыре кресла, телевизор на угловой полочке. В поле зрения камеры наискосок — один из таких отсеков и часть другого. Три кресла пусты, в четвертом вертится Воображала — трогает обивку, выглядывает в иллюминатор, крутится, болтает ногами, восторженно сообщает скучающему у перегородки спецназовцу:
— Я никогда не летала на спецсамолете! Здорово, правда!?
Спецназовец не отвечает, смотрит мимо.
Рев турбин усиливается, салон начинает слегка дрожать. Входит один из тех, что заходили к Воображале в кабинет — бритый с каменным лицом. Он садится в кресло напротив Воображалы, защелкивает пряжку ремня, поднимает на Воображалу взгляд — тяжелый, неодобрительный.
— Я в первый раз лечу на военном самолете! — радостно сообщает теперь уже ему Воображала. Он не отвечает на ее улыбку, говорит без выражения:
— Пристегнитесь.
Воображала хмыкает, достает из-за спины два ремешка с пряжками, крутит их и с торжественным выражением лица защелкивает замок.
Щелчок очень громкий, металлический, больше похожий на лязг захлопнувшегося капкана. Впечатление это усиливается тем, что из спинки и подлокотников стремительно выдвигаются металлические захваты и с быстрым пощелкиванием смыкаются, приковывая Воображалу к креслу от пяток до шеи. Спецназовец у входа передергивает затвор автомата. Турбины взревывают в последний раз, и гудение их становится равномерным, дрожание корпуса прекращается. Прикованная к креслу Воображала выворачивает голову, пытаясь посмотреть одновременно на бритоголового в кресле и охранника у переборки (в момент трансформации кресла переборка становится сплошной, окончательно отгораживая находящихся в отсеке от остального мира). Говорит восторженным шепотом, недоверчиво:
— Это похищение, правда!?
Лицо у бритоголового по-прежнему каменное, спецназовец смотрит в сторону. Улыбка Воображалы становится еще шире, в голосе — ликующее предвкушение:
— Класс!!! А глаза мне завязывать будут!?
Смена кадра
Ровный гул турбин, свист рассекаемого воздуха. Немного снизу — летящий самолет необычного внешнего вида (немного скошенные крылья, нечто неуловимо-военное). Серое небо, белые стремительные полосы проносящихся мимо облаков. Сквозь треск помех слышен голос пилота:
— … Выходим из зоны облачности… Повторяю — коридор Б-12 курсом на…
Его перекрывает восторженный голос Воображалы:
— Представляете, меня еще ни разу не похищали! Это так здорово!..
Мужской голос с тоской:
— Да дайте же ей наконец эскимо, может, заткнется!?.
— Я не люблю мороженое без кофе и фисташек! Здесь есть фисташки?
Небо. Рваные облака. Военнный самолет.
И — три три сближающихся инверсионных следа.
Пока еще — далеко.
Растерянный голос пилота:
— Ракеты… Ничего не понимаю…
В отдаленный гул турбин вплетается тонкая визжащая нотка, становится явственнее, усиливается.
— Нас обстреливают да? Меня еще никогда…
Мужской голос с отчаянием:
— Дайте же ей, наконец, кофе!!!
Резкая прерывистая сирена тревоги. Ее перекрывает вопль пилота, в его голосе больше раздраженного изумления, чем мы страха:
— Ракеты, чтоб им сдохнуть!!! Они что там — все с ума посходили?!!
Три инверсионных следа растут, слегка изгибаются. Они совсем нестрашные — словно по голубой шолковой наволочке кто-то провел лезвиями, и в разрезы теперь лезет пух.
Сирена становится оглушительной, перекрывает все остальные шумы. На секунду сквозь нее прорывается ликующе-восторженный вопль:
— Класс!!! В меня еще никогда…
И — тишина.
Ватная, абсолютная, словно звуки просто отрезало. В этой тишине на том месте, где только что был самолет, расцветает беззвучное ватное облако взрыва, словно самолет был перезревшей хлопковой коробочкой, которая теперь раскрылась. Поначалу облако это ярко-зеленого цвета, потом яркость выцветает, теплеет, переходя в мягкое оранжевое свечение. Картинка застывает и окончательно обесцвечивается, превращаясь в фотографию на газетной странице. Крупным планом — заголовок под снимком: «А город подумал…». Голос комментатора:
— После неоднократных предупреждений по захваченному террористами самолету был открыт предупредительный огонь, но по странному стечению обстоятельств одна из ракет оказалась оснащенной…
Камера отступает от стола, на котором лежит газета, обводит комнату. Комната явно детская, обои с персонажами мультиков, разбросанные игрушки, свесившийся со стула черно-красный детский комбинезончик. Вот разве что покрывало на кровати (мельком, не задерживаясь) яркое, черного шелка, в крупный красный горох. Комната не пуста — камера останавливается на девочке лет шести.
На стоящем у окна стуле на коленках, положив руки и подбородок на широкий подоконник, стоит и смотрит в окно Анаис. Поза очень похожа на любимую позу Воображалы, но принять ее за Воображалу невозможно — у нее короткие черные волосы, блестящие, как шелк, и подстриженные в очень ровное каре, волосок к волоску. Да и одета она иначе — черное платье-резинка в крупный красный горох, черные колготки-сеточка и сетчатые же перчатки выше локтей, красные лаковые туфельки на каблуке. Голос комментатора:
— … проводит тщательное расследование причин, позволивших произойти столь возмутительному…
Шум отъезжающей машины. Анаис отворачивается от окна, делает несколько неуверенных шагов. Видно, что туфли на шпильках ей велики. Шатаясь, она добирается до кровати, дергает покрывало — алые кружочки покрывают его лишь на две трети, оставшийся край абсолютно черный.
Анаис садится на пол, подтягивает черный край к себе левой рукой. В правой ее руке зажата открытая губная помада, ею она начинает дорисовывать красные кружки на покрывале.
Некоторое время она сосредоточенно занимается этим делом (камера потихоньку приближается). А потом вдруг резко оборачивается прямо в камеру.
У нее очень светлое, почти белое, лицо (непроницаемое выражение маленького Будды), обрамленное аккуратной черной челочкой, ярко-алые, лаково блестящие губы и удлиненные черные глаза — чуть приподнятые к вискам, тоже густо подведенные. Пару секунд она просто смотрит в камеру с непроницаемым выражением, а потом чуть улыбается краешком губ и слегка подмигивает…
Смена кадра
Врач, пошатываясь, вылезает из такси, говорит помогающей ему ярко раскрашенной и малоодетой девице:
— Солнышк-ко, я б-бы с уд-довольствием-м… но н-не могу. Н-не м-могу, п-поним-маешь…
Девица фыркает, выражается непечатно. Врач, не обращая на нее внимания, пытается попасть ключом в замочную скважину, говорит в пустоту:
— Н-не сегодня, понимаешь… сегодня меня убивать будут… да… Так вот. Такие, значит, дела…
— Да кому ты сдался, козел! — говорит девица и уходит, рассерженно постукивая каблучками.
Врач, кое-как справившись с замком, заходит в дом. В подъезде полутемно, и он опять долго возится перед дверью — уже на своей площадке. В прихожей темно, но в комнате достаточно освещения от рекламных огней и фонарей за окном. Не зажигая света, врач нетвердой походкой подходит к бару, долго возится с дверцей и так же долго — с плоской бутылкой. Наконец наливает высокий бокал, медленно выпивает до половины (не залпом, а просто глотками, словно воду). Продолжая стоять спиной к центру комнаты, поворачивает голову и говорит устало через плечо неожиданно трезвым голосом:
— Сколько можно тянуть? Только не прикидывайтесь, что вам нравится сидеть в моем продавленном кресле. Пришли стрелять — так стреляйте, черт вас возьми, а не хотите — так выметайтесь отсюда!..
Вспыхивает свет. Мужской голос говорит негромко и спокойно:
— Сначала я хотел бы кое-что узнать…
При звуке этого голоса врач вздрагивает и оборачивается, на лице — изумление. Говорит растерянно:
— Забавно… Я никак не предполагал, что это будете именно вы…
Смена кадра
Экран телевизора, программа «Информ». Молоденькая блондиночка читает монотонным голосом:
— … что же касается расследования, проведенного нашими корреспондентами по факту халатности на полигоне Капустина Яра, то наиболее вероятной представляется версия, не исключающая возможности целенаправленной и заранее подготовленной диверсии, в связи с чем возникает резонный вопрос…
Врач выключает звук (дикторша продолжает беззвучно шевелить накрашенными губами), встает, вынимает из бара очередную бутылку. Очень осторожно наполняет два бокала. Сидящий по другую сторону стола мужчина поднимает голову. Это Конти. Перед его сцепленными руками на столе лежит полицейский пистолет.
— Она всегда была послушным ребенком… — говорит Конти очень тихо, — Всегда… Она всегда делала то, что от нее хотели… И становилась тем, кем ее хотели видеть… А я ведь так и хотел… Какой же отец не мечтает, чтобы дочь была послушной и доброй! Сильной — да, но не жестокой. Сильные — они не бывают жестокими, любая жестокость — она от слабости. Я виноват. Должен был понимать, что люди — разные. Должен был научить… Не всех можно слушаться. Должен был сразу понять, что ты за…
— Выпьем, — говорит врач, поднимая бокал.
Секунду Конти смотрит на него, потом берет свой бокал. Говорит спокойно, как о давно решенном.
— Я должен был убить тебя сразу. Еще тогда… Это было бы правильно.
— Правильно, — соглашается врач, торжественно кивая, — Давай выпьем за это!
Они синхронно поднимают бокалы, салютуя друг другу, молча пьют. Конти — залпом, врач — медленно, мелкими глотками, как воду.
— Кто-то крикнул — «ракета!»… — говорит Конти, задумчиво ставя бокал и беря пистолет, — Кто-то наверняка это крикнул… — он прицеливается, — А Тоська — девочка послушная…
Выстрел — не громче хлопка пробки из-под шампанского, взрыв разбитого телевизора, Конти задумчиво рассматривает дымок из глушителя, добавляет:
— Послушная и доверчивая.
— Забавно… — говорит врач, — Я ведь знал, что меня убьют… Они тогда просто забыли, но я-то знал, что обязательно вспомнят. И не спрячешься. Бесполезно ведь, ежу понятно, куда от них спрячешься? У них всюду свои люди… Да и какой из меня нелегал на старости лет! Долго ли я смог бы бегать? Только растянуть агонию, в конце концов все равно ведь поймают. Ждать… Это гораздо хуже — ждать… Даже напиться не получается, я пробовал. Ни-фи-га…
— … Кто же еще мог поверить в то, что мне дадут «Нобелевку»? Я сам не верил, пошутил просто. А она — поверила. Она всегда верила моему вранью. И вранье становилось правдой. Всегда… И кто-то наверняка крикнул — «Сейчас эта дура в нас врежется!..»…
— … Пьешь, пьешь — и ничего. Только голова болит. Думаешь, я испугался? Нет. Просто тошно…
— … Однажды она вообразила себя французской маркизой. Мне тогда пришлось срочно учить язык — она не понимала по-русски. Ни слова!.. И манеры… Это не притворство, нет, так притворяться невозможно. Просто я сам ее так воспитал. Сам виноват…
— Но все-таки одного я не понимаю — почему именно вы?
— Сейчас уже поздно. Может быть — и тогда было уже поздно… Знаешь, когда мне надо было тебя убить? Десять лет назад… Мне тогда ужасно этого хотелось, ты стоял у кабинета, такой молодой, такой наглый, такой благополучный… Хотя, может быть, уже и тогда было бы поздно.
— … Никак не ожидал. Нет, ну в самом деле! Кто угодно другой, но вы?.. Вам-то какой резон? Не понимаю…
— … Это не месть… Просто так будет правильно. Хотя, может, и месть. Но все равно — правильно. Я должен… Хотя бы это. Тебя и тех… других… Которые… Ты их знаешь. А, значит, узнаю и я. Так будет правильно…
— Правильно, — кивает согласно врач, наливая еще, — Выпьем.
— Выпьем, — соглашается Конти.
— Но все-таки — почему?
— А? — Конти хмурится, сосредоточенно пытаясь вникнуть в суть вопроса.
— Почему именно вы?
Конти некоторое время сосредоточенно думает, говорит уже куда менее уверенно:
— Думаю, так будет правильно.
Врач некоторое время обдумывает этот ответ, потом начинает смеяться. Тычет пальцем в расстрелянный телевизор:
— Так вы что — тоже поверили в эту лажу?!!
Смена кадра
В узкую кабину движущегося лифта втиснуты пятеро. В центре — сияющая Воображала. На ней тюремная роба в голубоватую вертикальную полосочку с оранжевым ромбом на груди, ноги в таких же полосатых брючках широко расставлены, руки скованы наручниками, на глазах — черная повязка. Голова гордо поднята, вид довольный до неприличия. По бокам от нее два спецназовца при полном параде и вооружении, за ними, у самой задней стенке — еще двое.
Лифт останавливается, двери открываются с непривычным шипением, на стоящих в нем падает резкий желтоватый свет. Один из спецназовцев толкает Воображалу дулом автомата в спину. Они выходят из лифта (Воображала впереди, конвой — приотстав на шаг), оставшиеся двое несколько задерживаются — им мешает врач.
Он безвольно обвис у них на руках, поэтому его раньше и не было видно из-за спин впереди стоящих…
Смена кадра
Открывающаяся дверь в кабинет без окон с кучей малопонятной аппаратуры и огромным экраном во всю заднюю стену (на экране — огромное полукруглое помещение с рядами экранчиков вдоль стен, невысокие сплошные столы с терминалами, в большинстве пустые, за некоторыми — люди в одинаковых серых комбинезонах). Из-за узкого стола навстречу входящим с радостной улыбкой поднимается Дядя Гена, протягивает приветственно пухлые руки, делает пару шагов. Останавливается. Перестает приветливо улыбаться. Лицо его наливается кровью, глаза вылезают из орбит, рот округляется. Похоже на то, что первоначальное его желание поприветствовать вошедших уступило место желанию кое-что сказать, однако осуществить это намерение ему стало весьма затруднительно по причине перебоев с дыханием.
Первые два спецназовца синхронно толкают Воображалу в спину дулами укороченных автоматов, Дядя Гена пятится, ошалело смотрит, как другая пара невозмутимо вволакивает безвольное тело врача и бросает его в стоящее у стола кресло. Сглотнув, Дядя Гена обретает, наконец, возможность говорить. Голос у него сдавленный:
— Эт-то… что?!!
Спецназовец поводит дулом, указывая на обвисшего в кресле врача и сияющую Воображалу, которая заинтересованно прислушивается:
— Сопротивлялись при задержании…
— К-каком задержании?!! Вы что, с ума сошли?! — шипит Дядя Гена, лицо у него предынсультное, — Снять немедленно!!!
Один из растерявшихся спецназовцев снимает с Воображалы повязку и наручники. Двое других пристраивают в кресле врача, по-прежнему не подающего признаков жизни. Воображала с интересом осматривается, замечает врача, дергает спецназовца за камуфляжную штанину — тот испуганно оборачивается:
— Любезный, кофе, пожалуйста. И побыстрее!
После чего то ли прыгает, то ли падает в пустое кресло и разваливается в нем, по-мужски закинув ногу на ногу (ботинок на колене). Щелкает пальцами, поторапливая.
Вконец ошалевший спецназовец зачем-то отдает честь и торопится к двери. На переднем плане Дядя Гена грудью наскакивает на того, кто говорил о сопротивлении и с яростным шепотом теснит его к той же двери:
— Вы что себе позволяете? Вам что приказано было?! Простого дела доверить нельзя!!! Что на вас нашло?!
У двери возникает небольшая заминка, поскольку каждый из спецназовцев спешит первым покинуть кабинет разъяренного начальства, а дверь достаточно узкая. Со свирепым выражением на багровом лице Дядя Гена буквально выдавливает их сквозь эту узкую дверь и с треском ее захлопывает, после чего оборачивается, быстро натягивая на лицо приветливую улыбку. Поскольку общее свирепое выражение все еще сохраняется, а цветом лицо это больше напоминает стоп-сигнал, зрелище получается впечатляющим.
Смена кадра
Четыре спецназовца растерянно топчутся у захлопнутой двери, переглядываются. Тот, что говорил о сопротивлении, хмыкает, спрашивает смущенно (непонятно, то ли остальных, то ли себя самого):
— И правда… Что это на нас нашло-то, а?..
Смена кадра
Темное пятно занимает весь экран. Легкое непрекращающееся позвякивание. Голос Воображалы полон искреннего и нешуточного потрясения:
— Ну ни фига себе!!!
На черном фоне проступают смутные нерезкие огоньки — ореольчиками, как от фонарей сквозь мокрое стекло. Уменьшаются до ярких точек, обретают резкость, камера отодвигается, теперь черный экран с россыпью звезд занимает не больше четверти кадра, сместившись в верхний правый угол. Сбоку в кресле сидит вялый врач, вцепившись обеими руками в огромную чашку с горячим кофе. Он еще не совсем пришел в себя, волосы растрепаны, взгляд дикий. Руки у него дрожат, ложечка в чашке отзывается на эту дрожь тонким непрерывным звоном.(При попадании врача в кадр звон на некоторое время усиливается). Голос Дяди Гены:
— Теперь ты понимаешь, что мы просто вынуждены хвататься за любую возможность, времени слишком мало…
Камера продолжает движение, показывая Воображалу (она стоит, сильно подавшись вперед, уперевшись обеими руками в крышку стола и сосредоточенно глядя на экран).
— Ни фига себе!.. — повторяет она уже тише. Оттолкнувшись руками, резко выпрямляется, разворачиваясь в противоположную от экрана сторону (камера следует за ней и продолжает ее движение туда, где у пульта стоит Дядя Гена).
— Так какого же дьявола — резкий жест в сторону находящегося уже за кадром экрана, — Никто ничего об этом?!..
Дядя Гена с грустной улыбкой пожимает плечами:
— А ты можешь вообразить, что начнется, когда об этом узнают?..
Воображала смущенно хрюкает, говорит с коротким смешком:
— Да нет, знаете ли, вот как раз этого я бы воображать не хотела!..
Она бросает еще один взгляд на экран, потом решительно разворачивается к Дяде Гене:
— Я сделаю все, что смогу… Но я должна знать — ЧТО именно я должна делать и КАК именно это нужно делать, понимаете?..
Смена кадра
Звук внезапно пропадает. Видно, как Дядя Гена, энергично кивнув, начинает что-то говорить, потом показывает на дверь. Воображала улыбается, мотает головой. Врач отставляет чашку на столик, неуверенно поднимается с кресла. Камера теперь дает их немного сверху, по экрану идут помехи. Треск принтера. Чье-то фальшивое насвистывание. Дядя Гена и Воображала, продолжая разговор, выходят из кабинета, врач — за ними. Пару секунд в кадре пустой кабинет, потом через весь экран протягивается огромная рука, заросшая рыжей шерстью, щелкает переключателем — в кадре возникает длинный коридор, двое охранников у стеклянного тамбура, со спины — Воображала, Дядя Гена и врач. Воображала и Дядя Гена проходят сквозь шлюз первыми, не останавливаясь — им просто набрасывают на спины белые халаты. Врача тормозят охранники.
Камера подается назад, теперь видно, что все это происходит на экране одного из мониторов слежения, перед которыми сидит охранник в такой же синей форме, как и те, у шлюза. Он смотрит на экран, нам видны лишь выбритый концентрическими кругами квадратный затылок, мощная шея и плечи пятьдесят восьмого размера. Он еще раз щелкает переключателем, картинки на трех нижних мониторах меняются. Один дает что-то объясняющего невозмутимым охранникам врача, другой — общую панораму коридора. На третьем — Воображала и Дядя Гена лицом, крупным планом. Дядя Гена о чем-то говорит, Воображала смеется, надвигается на камеру, выходит из резкости. Над ее плечом (далеко, мельком) прозрачная стенка тамбура, врач колотит по ней кулаком и что-то кричит, по обе стороны от него два невозмутимых охранника…
Хлопает дверь, шаги, мужской голос:
— Ромик, ты в курсе — что за переполох? Крокозябре удалось заманить в это болото кого-то стоящего?
Ромик оборачивается от мониторов. У него вполне соответствующие рукам и затылку низкий лоб и квадратный подбородок. Нос тоже не подкачал ни размерами, ни формой, напоминающей успешно мутировавшую картошку. И на этом носу как-то очень к месту смотрятся изящные очечки в тонкой золотой оправе. Словно кирзовые говнодавы на стройных ножках элитной манекенщицы.
— Ага! — говорит он, радуясь непонятно чему.
Вошедший морщится и устраивается на соседнем вертящемся табурете. Это худой маленький человечек, огромным носом и гривой черных волос, напоминающий то ли индейца, то ли ворону (сзади волосы стянуты в хвост, свободно висящий до костлявой задницы, а по бокам пара выбившихся прядок мотается обвисшими крыльями, что тоже усиливает сходство). Разобрать цвет глаз невозможно — слишком глубоко они прячутся. Лицо недовольное, движения нервные, вид изможденный а голос такой, что вызывает у любого собеседника желание немедленно дать обладателю голоса в морду — независимо от того, что именно этим голосом произносится.
— Судя по размеру переполоха — это явно кто-то из великой семерки. Фон Зеецман, я угадал? Нет, нет, не подсказывай! Сам угадаю. Осико отпадает, он идейный… Лоис?.. Хм… Вряд ли. Он же псих! — человечек вглядывается в мониторы, хищно пошевеливая длинным костистым ноом, словно принюхиваясь, — Так-так-так, полезли в биохимию, значит, Рысенко тоже отпадает. А по какому типу была первичная обработка? Рука пентагона? Антисемитский заговор? Происки масонов?
Ромик, довольно улыбаясь, качает головой. Острое личико его собеседника вытягивается:
— Неужели «Комитет девяти»?
Ромик поджимает пухлые губы и опять качает головой. Но не выдерживает и сообщает:
— Вторжение инопланетян!
— Вторжение?.. — тупо переспрашивает воронообразный субъект и сглатывает.
— Ага! — подтверждает Ромик с безмятежной довольной улыбкой.
— Ни фига себе!!! — взрывается субъект с чисто Воображаловской интонацией, — Да ты хоть понимаешь?!! Вторжение!!! Да на моей памяти… Это же… Кого же, черт побери, он сумел зацапать?!! Неужели самого…
В этот момент сразу несколько мониторов крупным планом дают Воображалу. Воронообразный субъект замолкает на полуслове, только таращится на экраны и беззвучно разевает рот. Потом закрывает глаза и спрашивает с преувеличенным спокойствием:
— Меня обманывают глаза, или это действительно…
— Ага! — подтверждает Ромик радостно.
Воронообразный открывает глаза. Лицо его печально, почти скорбно, в голосе трагическая отрешенность (ни дать ни взять — ослик Иа из Винни-Пуха):
— И вот из-за этой сопливой трюкачки-шарлатанки поставлена на уши вся работа трехсот восьмидесяти специалистов высочайшего класса, не считая всяких там лаборантов и программистов четырнадцатого порядка, каждый из которых, между прочем, имеет звание не ниже…
— Ага! — снова повторяет Ромик радостно и добавляет тем же тоном, — А ты знаешь, сколько дает эта сопливая трюкачка на своих сопливых ладошках?
Воронообразный презрительно фыркает:
— Обычная статика! — тут же, заинтересованно, — Ну и сколько?
Вместо ответа Ромик стучит ногтем по шкале сбоку одного монитора. Воронообразный щурится, наклоняясь. Короткое молчание. Воронообразный медленно выпрямляется. Спрашивает уже совсем другим голосом:
— Если я правильно подсчитал нули…
— И-мен-но! — радостно кивает Ромик, сияя довольной улыбкой.
Смена кадра
На пороге пункта слежения — Дядя Гена и Воображала. Оба сияют. Дядя Гена одной рукой по-хозяйски приобнял Воображалу за плечи, другой (еще более по-хозяйски) обводит помещение, улыбка у него лоснящаяся и самодовольная.
— Это Роман, это Алик, восходящее, между прочим, светило отечественной науки! Рекомендую подружиться, вам вместе работать. Знакомьтесь, ребята, это Виктория, наш новый консультант.
Воображала успевает лишь улыбнуться — хозяйская рука уже ненавязчиво подталкивает ее в сторону коридора. В коридоре белые стены (на мониторе), голос Воображалы:
— Да нет, вы не понимаете, человек — это ужасно сложно… Это же нужно собирать каждую клеточку, как конструктор, только конструктор на молекулярном уровне, понимаете? И не дай Бог ошибиться — весь узел запорешь! Нет, это такая возня, я однажды пробовала — и зареклась, проще уж по-старинке, девять месяцев…
По экрану бегут помехи. Ромик стучит по стеклу ногтями. Голос Воображалы:
— … Да нет, в том-то и дело, что нельзя, это будет совсем не то — фуфло, макет, не настоящее, понимаете?.. Н-ну, может и будет, но только как робот, если заложить в него заранее такую программу и только в пределах программы, понимаете? Он все равно не будет человеком. Пустышка, ходячая кукла, большой оловянный солдатик, кому это нужно?..
Ромик нажимает на паузу. Короткий смешок…
Смена кадра
Яркая вспышка плазменной дуги пригашивается тонированным бронестеклом до голубоватого мерцания. Воображала поднимает растерянное лицо от окошечка, смотрит немного выше камеры:
— Но я ведь абсолютно ничего не знаю о… — щелкает пальцами, пытаясь подыскать точное название, не находит, обводит быстрым движением кисти круг, — Обо всем этом… Чем же я могу им помочь?
— О, это как раз не проблема! У нас прямой выход на пару дюжин лучших технических библиотек, и при желании ты в любой момент можешь получить любую информацию… — голос Дяди Гены полон энтузиазма и дружелюбия, — А пока… Почему бы тебе просто не вообразить, что у этих славных ребят получилось… Ну, то, сейчас у них совсем не получается?
Камера (вслед за Воображалой) обводит взглядом лабораторию. Белые стены, шлюз вместо дверей, плазменная печь с боковыми окошечками из черного стекла, несколько человек в белых балахонах и защитных очках. Все заняты своими делами, лишь один из них смотрит на Воображалу жадно и неотрывно, как сладкоежка на большой кусок шоколадного крема. Защитные очки висят у него на груди, улыбочка кривоватая.
Это Алик.
Воображала поднимает взгляд на Дядю Гену (камера меняет фокусировку, четко — Воображала, задний план лаборатории нерезок, смутные движения смутных теней).
— Вы полагаете — это может сработать?..
Фокусировка снова меняется, среди одетых в белое фигур возникает короткая суета. Бешено жестикулируя, они сбиваются в кучу у одного из тонированных окошек.
Все, кроме одной.
Алик по-прежнему стоит у белой стены и смотрит на Воображалу. Взгляд у него голодный…
Смена кадра
Воображала поднимает голову, во весь экран — ее восторженная улыбка. Смотрит немного вверх, повыше камеры:
— Эти так здорово! Представляете, я еще ни разу не работала при таких температурах! Ужасно интересно. Но… — ее улыбка становится несколько виноватой, — Я ведь совсем не разбираюсь в доквантовой физике… И в генетике — не так, чтобы… Это же черт знает сколько времени пройти должно, пока я все это усвою и пойму наконец, чего же вы от меня хотите!
Камера дает общую панораму лаборатории. Воображала сидит у рабочего терминала, на ней белый халатик (верхняя часть халатика явственно отливает оранжевым). Дядя Гена и Алик, тоже в халатах. Дядя Гена пожимает плечом:
— Зачем торопиться? Это же… хм… не школа, домашних заданий с тебя никто не спрашивает. Было бы желание — пожалуйста, вникай, усваивай! Хоть год, хоть три — никто не торопит. В конце концов, надо же и тебе становиться академиком, зачем же из народа выделяться… А с «Эмили-35» сделай, как раньше, тебе же это не трудно?
— Не трудно… — улыбка Воображалы тускнеет, — Только я бы хотела и сама… ну хоть что-нибудь… Это ведь так интересно… Понимаете?.. — (к концу фразы голос у нее почти жалобный).
— Как же не понять, — в голосе Дяди Гены сквозь общую доброжелательность проступает явственное осуждение, — Конечно, тебе хочется поиграть, это вполне естественное желание для твоего возраста. Но, видишь ли, детка, как бы тебе попонятнее объяснить… Это ведь не игра. Совсем не игра! Это все очень и очень серьезно. И в то время, когда ты будешь развлекаться, там, далеко, будут гибнуть люди. Из-за того, что у нас нет надежной защиты! А защиты этой нет только потому, что кое-кто еще не наигрался… — осуждение наливается холодом, превращаясь потихоньку в праведное негодование. Воображала пристыженно втягивает голову в плечи, шепчет виновато:
— Я понимаю… — пытается снова улыбнуться, но это уже не та улыбка.
Появляется медсестра, катит перед собой на тележке какие-то приборы с кучей датчиков. Алик оживляется:
— Ты не возражаешь, если мы прикрепим к тебе вот это? Не бойся, больно не будет! — его доброжелательная улыбка плохо вяжется с плотоядным блеском глаз.
Смена кадра
Врач резко ставит полный стакан на стол, расплескивая жидкость. Говорит зло:
— Я пьяный, да! Но — не дурак! Я ничего тебе не скажу!
— Тоже мне, тайну нашел! — Конти — без пиджака, в расстегнутой рубашке — пытается поймать в прицел жужжащую вокруг лампочки муху. Стреляет. Звон разбитой лампочки, жужжание продолжается. — Наш родной комитет, как бы он сегодня не назывался. Больше-то некому!.. — Опять стреляет. Фарфоровый звон разбитой вазы, жужжание продолжается. — Этим и должно было кончиться. После того, как ты стал ею торговать направо и налево… Эй, все сюда, хотите кусочек чуда?!..
— Э-э, минуточку! Я, по крайней мере, был честен! Я корыстен? Да, я корыстен! И горжусь этим! И никогда не поверю тем, кто кричит о своей бескорыстности — у них наверняка есть какая-то своя, более глубокая, корысть так кричать! А я честно говорю, что в первую очередь всегда буду стараться для себя! А там — как масть ляжет. И меня никто не убедит, что это — плохо! Во всяком случае, не Вы. Потому что Вы далеко не святой. Что, съели? Вы такой же, как я, только умеете лицемерить. Держать такое чудо исключительно для домашнего употребления — это как называется?! Все равно, что радугу спрятать в бутылку!..
Смена кадра
Воображала в виртуальном шлеме увлеченно играет в какую-то электронную игру — руки дергают манипуляторы, губы беззвучно шевелятся. (На шлеме — выливающаяся из бутылки радуга).
Алик и Дядя Гена удовлетворенно наблюдают за ней с порога комнаты. Комната нарочито детская, обои с Микки Маусом, огромные мягкие игрушки разбросаны по полу, на ногах у Воображалы — мягкие тапочки в виде голубых ушастых щенков (каждое ухо — с хорошую подушку).
— Видишь, как это просто? — Говорит Дядя Гена с ноткою превосходства.
— Как и все гениальное! — подобострастно откликается Алик, скалясь.
— Как успехи?
— О, после того, как удалось выявить взаимосвязь с Альфа-тонусом, остальное — дело техники. Сейчас мы моделируем различные способы как усиления, так и подавления ее Альфа-тонуса через работу с соседними ритмами, и, надо отметить, результаты обнадеживающие… Правда, подавление ведет к снижению общего тонуса и негативно сказывается на ее… э-э… возможностях, но…
Дядя Гена движением руки отметает возражения.
— Это не так страшно. Мы обязаны научиться ее контролировать, это самое важное сейчас… Остальное потом наверстаем…
Воображала, доиграв, снимает шлем, некоторое время тупо смотрит перед собой, глаза пустые. Дядя Гена надевает на лицо отеческую улыбку, голос приторно сладок:
— Тебе понравились игрушки?
Воображала поворачивает голову, ее лицо становится осмысленным, расплывается в улыбке:
— О, да! Очень! Но я хотела бы еще…
— Ну вот и отлично, детка, закажи все, что хочешь.
— Эй, но послушайте, но я хотела бы…
Но слова повисают в пустоте — Дядя Гена и Алик уже вышли в коридор. Воображала, свирепея, смотрит им в след, лицо ее перекашивается.
— ДЕТКА?!!
Во весь экран — ее разъяренное лицо. Камера еще приближается — теперь видны лишь ее злые глаза. Она явно хочет сказать что-то еще, но не успевает. Внезапно глаза ее округляются, вытаращиваются в полном обалдении и скашиваются куда-то к кончику носа. Вернее (камера отступает), к огромной яркой соске-пустышке, торчащей во рту…
Обалдение сменяется омерзением, прожевав вместе со скрипящей резинкой пару невнятных ругательств, Воображала сплевывает пустышку и вскакивает на ноги.
— Эй, послушайте!..
Она бросается к двери, путаясь в тапочках, запинается об огромного розового пингвина, падает.
Смена кадра
Коридор, по которому приближаются к камере Дядя Гена и Алик. Алик что-то говорит, быстро и сбивчиво, стремительно жестикулируя и время от времени заглядывая Дяде Гене в лицо. Из открытой двери за их спинами выскакивает Воображала в одном тапочке, прыгает на одной ноге, дрыгает другой, сбрасывая оставшийся тапок, на ней — белые ползунки, оранжевая распашонка и белый слюнявчик с огромной оранжевой морковкой.
— Эй, послушайте! Спасибо за игрушки, конечно, но когда же мне наконец поставят настоящий рабочий комп и дадут доступ в…
Дядя Гена и Алик оборачиваются, дядя Гена (благожелательно):
— Детка, скажи Верочке, она все запишет и сделает.
— Не ходи босиком, — авторитетно добавляет Алик, — Простынешь.
И они уходят за кадр.
— ДЕТ-КА?.. ПРОС-ТЫ-НЕШЬ?.. — повторяет Воображала скорее растерянно и обиженно, чем возмущенно, говорит еще раз, но уже не так уверенно:
— Эй, послушайте…
Замолкает. На ее лице — покорно-обреченное выражение, во рту опять бело-оранжевая соска. Печально глядя вслед уходящим, Воображала по стеночке сползает на пол, сплевывает соску, шмыгает носом. Лицо у нее несчастное.
Смена кадра
Воображала сидит за лабораторным столом, голова опущена, руки безвольно лежат на белом стекле, у локтей и запястий видны расплывшиеся синяки. На ровный звуковой фон (гудение аппаратуры, ритмичные пощелкивания, позвякивания и потрескивания) накладываются быстрые шаги, с шелестом на стол перед Воображалой шлепается стопка распечаток. Голос Алика преувеличенно жизнерадостен:
— Ну-ка, детка, давай поработаем!
Воображала медленно поднимает голову. Вид у нее помятый, улыбка блеклая, на висках синяки, под глазами тени. Сквозь шумовой фон приближается, нарастая, неприятное пластмассовое постукивание и шорох резиновых шин по линолеуму. Становится неестественно, пугающе, громким. Воображала морщится. В кадре появляется медсестра с какой-то аппаратурой на тележке и кучей гремящих датчиков в руках, начинает умело и профессионально-быстро лепить их Воображале прямо на синяки. Воображала дергается, срывает датчики, отшвыривает провода:
— Не хочу!..
Но все это как-то вяло, неубедительно. Выходка ее больше похожа на детский каприз, чем на настоящий протест. Обиженно надув губы, трет синяки. Берет распечатку. Медсестра невозмутимо поднимает датчики с пола, быстро и профессионально крепит их на отмеченные синяками места.
Воображала морщится, но больше не сопротивляется. Улыбка вялая.
Смена кадра
(происходит под оглушительный выстрел, поскольку глушитель сгорел давно и окончательно).
Выстрел сопровождается жалобным хрустальным звоном и монотонным бормотанием ругательного характера. Причем мелодичный всхлипывающий перезвон хрустальных осколков продолжается еще некоторое время после выстрела, постепенно стихая. Судя по качеству и продолжительности звучания, приказавший долго жить сервиз рассчитан был на немалое количество персон и к дешевым не относился. Наконец звон и ругань стихают.
Остается одно победное жизнеутверждающее жужжание.
С потолка на черном проводе свисает одинокий зубчатый осколок фаянсового абажура в желто-оранжевую полосочку. Вокруг этого осколка с торжествующим жужжанием бомбардировщика, успешно отбомбившегося по заранее намеченным целям, летает муха. Конти следит за ней с отвращением. Говорит прочувствованно:
— Вот ведь зараза в бронежилете!
Врач у бара гремит пустыми бутылками. Вытряхивает на пол еще несколько штук, выпрямляется, пораженный:
— Слушай, мы что — все это вчера выжрали?!!
Конти кивает. Неторопливо, спокойно, чуть приподняв бровь — в чем, мол, проблема? Врач осторожно трет лицо, осматривает пустые бутылки. Конти щелкает курком. Врач болезненно передергивается, говорит с надеждой:
— Соседи милицию вызовут…
— Не-а! — Конти делает небрежную отмашку пистолетом, из-за разлохмаченного глушителя напоминающим морду терьера. Говорит радостно:
— Все твои соседи сейчас отдыхают на Канарах.
— На Канарах? — тупо удивляется врач, — Все?
— Ну, может, и не все, — примирительно соглашается Конти. Уточняет:
— Кто-то на Канарах, кто-то — в Крыму, кто-то — в Париже. Кому что нравится. Знаешь, один старый хрыч с пятого этажа захотел в Воркуту. Интересно, зачем ему Воркута?.. А Фриманы вообще себе новую квартиру вытребовали. Забавно… Я почему-то был уверен, что уж они-то захотят навестить историческую родину…
— Фриманы? — повторяет врач, и вид у него еще более тупой.
— Ну да! — улыбка Конти очень похожа на улыбку Воображалы. Прежнюю улыбку прежней Воображалы.
— Дом, кстати, я тоже купил. Чтобы не мучиться. В жилконторе были страшно рады — он же убыточный…
Врач со стоном опускается на пол у стены, прижимается щекой к холодной крашеной панели, закрывает глаза.
— Приятно быть очень богатым, — говорит Конти негромко, сам себе, — Это многое упрощает.
Врач еще раз тихонько стонет. Говорит сквозь зубы, убежденно:
— Пристрелить меня следовало бы именно сейчас. Из милосердия…
Конти пожимает плечом:
— Патроны кончились…
Задетая его ногой пустая бутылка, гремя, катится по паркету. На ее горлышке дрожит зеленый отблеск. Крутится, прыгает вверх-вниз…
Смена кадра
Маленький зеленый огонечек дрожит, прыгая вверх-вниз по шкале. Характерное гудение работающего медоборудования. Голос Алика:
— Нет, ты только посмотри сюда! Ты где-нибудь видел подобное?!! А ведь я ввел ей в четыре раза меньше, чем любой лабораторной крысе, каплю в море, ни один нормальный человек даже бы и не чихнул!.. Нет, ты только глянь!..
В лаборатории четверо — Воображала, молчаливая медсестра, Алик и один из его коллег — с бесцветными ресницами, бежевыми кудряшками над оттопыренными ушами и доброй улыбкой маньяка. Несмотря на внешнее несходство, они с Аликом чем-то неуловимо похожи. Может быть, тем плотоядным восторгом, с каким следят оба они за бешеными скачками зеленого огонечка по черной шкале.
Воображала полулежит в медицинском кресле, высоком и белом, напоминающем собою некую гибридную зубоврачебно-гинекологическую разновидность медицинских кресел. Ее голова откинута на специальную высокую спинку, руки безвольно лежат на подлокотниках, голые ноги под коленками приподняты полукруглыми распорками. На ней — грязно-серые плавки и выцветшая майка. Кожи ее практически не видно из-под покрывающих все тело сплошным слоем клейких лент с датчиками. Десятки тянущихся в разные стороны к аппаратуре проводов делают ее похожей на паука, запутавшегося в центре собственной паутины. Глаза ее закрыты.
— А ты представляешь себе картинку, если дать полную дозу?.. — голос у Алика мечтательный, глазки масляные. Маньяк облизывается, вздыхает тоскливо:
— Крокодил никогда не позволит… Он с нею носится, как с фельдмаршальской дочкой… Вспомни, как он тянул с разрешением и на такую-то малость! И это он еще про барбитураты не знает…
Глаза у Алика гаснут, лицо несчастное. Он смотрит на Воображалу с тоскою несправедливо обижаемого ребенка, у которого злые дяди отбирают большую конфету. Вздыхает:
— А представляешь, какой мог бы быть эффект при введении пентотала!?
А если при этом еще дать слабое облучение, да еще переменный ток на лобные доли…
— Не трави душу!..
— А в качестве катализатора я бы использовал стугестирин…
Маньяк жмурится, сглатывает, не выдерживает:
— А я бы на первом этапе лобные доли не трогал, только конечный эффект портить. Гораздо интереснее повозиться с подкоркой. И ток сделать не просто переменным, а синусоидно-циклическим, и добавить точечное воздействие кислоты на нервные центры… Просверлить черепушку местах в шести-семи, и поочередно так, тихохонько… Блеск! Предварительно, конечно, проведя лоботомию.
Они говорят в полный голос. Воображала не шевелится.
— Послушай, а ты никогда не задумывался над тем, как скажется на ее способностях ампутация мозжечка? Должно получиться нечто весьма любопытное…
— Крокодил не позволит… — снова вздыхает маньяк, в сомнении качая головой. — Он даже против обычных галлюциногенов-то рогом уперся, а ты — ампутация…
Алик смотрит на него с задумчивой улыбочкой.
— Но ведь до своего возвращения он поручил ее нам…
— Но это — только до возвращения, а потом… Если ей шкурку попортить — он с тебя самого три спустит.
— Да брось! Она у нас будет в полном порядке! — машет рукой Алик, — Прикажем — все, что надо, обратно вырастит, она же у нас девочка послушная!..
— Кузя ругаться будет…
— Для Кузи главное — чтобы она работала, а остальное его не волнует.
Подумав, маньяк качает головой и говорит нерешительно:
— Но сначала я бы все-таки сделал лоботомию…
Смена кадра
…- То, что у меня никогда не бывает похмелья — тоже ее работа, — Конти покручивает на пальце пистолет, не выпуская из поля зрения жужжащую муху. Та по периметру облетает потолок, и взгляд Конти движется за ней, как приклеенный. Голос задумчиво-отстраненный, на лице — суровая решимость.
— И голова у меня никогда не болит. И зубы. И вообще… Был однажды, правда, некоторый… хм… перегиб… несгибаемый такой. Но я ей доходчиво объяснил, что маленьким девочкам не следует совать свой нос… хм… куда не следует. И больше — никаких недоразумений. Она ведь всегда была послушной девочкой. И очень старательной. С самого раннего возраста… Всегда выполняла то, что от нее хотели… «Вынеси мусор!» — пожалуйста. «Почисти зубы!» — извольте. «Сотвори чудо!» — нет проблем… И всегда — с небольшим перебором. От старательности… Однаждды я оставил ее на сутки одну дома… Уходя, попросил немного прибраться… Я имел в виду игрушки. На сутки! Знаешь, что она сделала? Капитальный ремонт. И так — во всем. Так что этих придурков из Комитета мне где-то как-то даже и жаль… Они ведь не понимают, насколько надо быть с нею осторожным. Понимают, конечно, что надо быть осторожными, но вот НАСКОЛЬКО именно… И когда пройдет первая эйфория, обязательно найдется какой-нибудь трус… О, найдется, трусы — они везде есть… — который ее испугается. Всерьез. А Тоська — девочка послушная… И старательная…
Все это время Конти неторопливо прицеливается, потом опускает пистолет, потом снова прицеливается, заглядывает в дуло, морщится, кладет пистолет на пол, тщательно прицеливается пустой рукой (закрыв один глаз и медленно пошевеливая указательным пальцем, изображающим дуло), и, наконец, говорит:
— Паф!
Жужжание обрывается (звук, словно порвали резинку или лопнула леска). С легким шлепком трупик мухи падает на белую бумажную скатерть. Конти смотрит на него с некоторой долей легкого недоумения на лице.
Смена кадра
Два одетых в серое охранника идут по полутемному коридору. Один из них Ромик, второй незнаком, но больше похож на студента-гумманитария с небольшим спортивным уклоном (ничего серьезного, так, баскетбол или там лыжи с коньками на полулюбительском уровне). Он высок, худ, лицо имеет желчно-ехидное, а форма на нем выглядит так, словно он из нее давно уже вырос.
Коридор при полупогашенном по ночному времени освещении напоминает тюремный. Гулкое эхо шагов. Мрачное впечатление усиливается темно-серой униформой и ровным рядом одинаковых дверей — лишенных ручек, плотно закрытых, с глазками-окошечками.
У одной из дверей студент притормаживает, заглядывает в окошечко. Ромик топчется рядом, спрашивает со скрытой тревогой:
— Что там?
— Спит… — Студент выпрямляется, пожимает плечами, зевает. Добавляет равнодушно, — Алик говорил — завтра будет резать. У Кузи дочка заболела, его не будет несколько дней, вот они и обрадовались… — фыркает мстительно — То-то им потом Крокодил влепит!..
Они идут дальше. Ромик оглядывается, говорит неуверенно:
— Знаешь, а мне с ней как-то не по себе… Как ту ее плазменную дугу вспомню… Ну как она может позволить себя резать, если умеет такое?!.
— Глупости, глупости, — студент успокаивающе похлопывает его по плечу, — Не очкуй раньше времени, Алик не дурак, они ее так обработали, что тут забудешь, как маму звали, а не то, что какие-то там дуги… — они удаляются по коридору, голоса постепенно затихают, — ее прощупали вдоль и поперек, уж что-что — а это они…
В кадре под их затихающие голоса появляется утрированно-детская комната Воображалы. В комнате розовый полумрак, горит ночник в виде Микки Мауса. Воображала лежит на спине очень ровно, почти неестественно прямо, руки вдоль тела, глаза закрыты.
Голоса стихают. Появляется легкий гул, как от проходящего невдалеке поезда, с мелко дрожащей стены срывается распятие.
Воображала открывает глаза. Садится в кровати (резко, одним движением). Скрещивает на груди руки. Ее волосы со сна встрепаны больше обычного и торчат небольшими рожками, глаза на секунду загораются оранжевым пламенем, улыбочка неприятная…
Внезапно дрожь и гул стихают. Воображала озирается, сует палец в рот. Обнимает себя за плечи, надувает губы, всхлипывает. Резко встает, отбросив в сторону одеяло.
Смена кадра
Огромный мультяшечный колобок, хищно оскалясь, пожирает ягода за ягодой большую кисть винограда, после каждой издавая мерзкое электронное хихиканье, и старательно уворачиваясь от шныряющих вокруг разными траекториями красных и зеленых мошек. Слопав последнюю ягоду, самую крупную и отливающую синим, колобок внезапно вытаращивает и без того крупногабаритные глаза, синеет и сам, опрокидывается на спину, сучит всеми шестью ножками и разражается траурным визгом.
Голос Ромика обрадованно:
— А нечего всякую падаль в рот тащить! Двигайся давай, теперь моя очередь.
Камера разворачивается лицом к сидящему за игрой студенту. За его спиной — помещения пульта слежения. Студент послушно освобождает место перед экраном. Ромик с азартом потирает руки и оживляет сдохшего было колобка, после чего говорит, явно продолжая ранее начатую тему:
— … И тогда эта лапочка кладет свои ножки мне на плечи и начинает таким вот образом… — облизнувшись, Ромик на секунду отрывается от игры и бросает взгляд поверх компьютера. Замолкает. Лицо его вытягивается, приобретая насыщенный красный цвет и несколько смущенное выражение.
— О, черт!.. — говорит он с интонацией застигнутой у кабинета венеролога монашки. Камера разворачивается к дверям.
У двери стоит Воображала в своей детской оранжево-голубой пижамке и слюнявчике. Вид у нее несчастный — бровки домиком, надутые губки, подбородок поджат, глаза на мокром месте.
— Ну вот! — объявляет она в пространство с покорной тоской всеми несправедливо обижаемой сиротки Марыси. И надутые ее губки начинают дрожать, личико сморщивается. Горько вздохнув, она несколько раз удрученно кивает головой, всхлипывает, добавляет с обвиняющим надрывом и уже близкими слезами:
— Даже вы!!!
Личико ее окончательно уподобляется хорошо пропеченному яблоку, речь переходит в маловразумительный скулеж. Воображала садится на пол, безутешно тряся головой и размазывая по щекам крупные, как виноградины, слезы. На Ромика и студента она больше не обращает внимания. Те же, после секундной оторопи, бросаются к ней, растерянно суетясь, делая массу лишних движений и одновременно выкрикивая всякие глупости типа:
— Детка, ты что?! — Что у нас случилось!? — Кто обидел нашу маленькую?! — Хочешь конфетку? — Кто у нас такой нехороший?! Вот мы сейчас его!.. — в ответ на что Воображала начинает рыдать уже в голос, громче и отчаяннее, с подвыванием и судорогами, пару раз даже ударившись со всего размаха затылком об стенку.
Присевший рядом с нею на корточки студент пытается удержать ее за плечи, сует свою руку между ее головой и стенкой.
— У нее истерика! — растерянно ставит диагноз Ромик. Воображала подвывает, согласно и дробно молотя об пол пятками со скоростью хорошего отбойного молотка в умелых руках.
— Без сопливых!.. — огрызается студент, одной рукой продолжая удерживать Воображалу за плечи, а другой пытаясь прижать к полу ее коленки, — Принеси воды!
— Может, ей укольчик? — кричит Ромик неуверенно.
— Рехнулся?!! Без санкции!?
— Меня никто не лю-у-у-уби-и-и-и-ит, — выдает Воображала дурным голосом, прервав на секунду рев и выбивание пятками дроби, чтобы тут же продолжить с удвоенной энергией колотиться затылком об стенку. Вконец растерянный студент наваливается на нее всем телом, не переставая при этом бормотать:
— Ну что ты, глупенькая! Кто тебе это сказал? Все тебя любят! Как же тебя не любить, такую хорошую девочку?.. Только плакать не надо… Баю-баюшки-баю… не ложися на краю… — на этот же мотив — Где же этот идиот… ох, хотел бы я узнать… он водички принесет… — срываясь — Только не надо плакать!..
Воображала хрипит под ним полузадушенно, выгибается дугой.
— Ты что это вытворяешь!? — орет вбежавший со стаканом воды Ромик, — Извращенец!! Слезь с нее!!!
Студент отшатывается от Воображалы.
— Идиот! Я же ее просто держал!
— Держал он! Видел я, как ты держал! Стакан лучше держи. На минуту оставить нельзя!!
В этот момент Воображала, до этого тихо и спокойно плакавшая на полу, с отчаянным рыданьем бросается студенту на шею. Тот вздрагивает и замирает — в правой руке у него переданный Ромиком стакан с водой, а одной левой явно недостаточно для успешного отражения атаки Воображалы, которая, вцепившись в его плечо мертвой хваткой, продолжает безутешно рыдать. Но теперь уже рыдания ее носят гораздо более упорядоченный характер. Да и желания колотиться затылком о близлежащие поверхности она более не выказывает.
Ромик выпрямляется, смотрит на них сверху вниз, замечает ехидно:
— Так-так-так… На секунду оставить нельзя!.. Знаешь, сколько сейчас дают за растление малолетних?
Во взгляде студента — беспомощная ненависть.
— Идиот! — шипит он, сверкая глазами, — Я пытаюсь убедить ее, что мы ее любим, помог бы лучше!..
— Говори только от своего имени, извращенец! — Ромик чопорно поджимает губы, осуждающе качает головой. Студент пытается испепелить его взглядом. Шипит:
— Помог бы лучше!..
Вдвоем они переносят Воображалу на узкий диванчик. Студент с выражением идущего на костер мученика садится рядом, поскольку отцепить Воображалу от его воротника не удается даже совместными усилиями. Машинально выпивает воду из стакана, кричит испуганно:
— Да любят тебя, любят!.. Чего привязалась?..
— Не-ет! Я здесь никому не нужна-а-а! Я здесь чужа-а-ая! Домой хочу-у-у! К папе!..
Ромик со студентом переглядываются в явной панике. Похоже, теперь они обеспокоены по-настоящему. Ромик садится на корточки у дивана, гладит Воображалу по вздрагивающим плечикам:
— Зачем нам к папе? К папе нам не надо. Папа у нас нехороший. Такую хорошую девочку обижал! Играть не давал. В угол ставил. Нет, не надо нам к папе… Зачем нам к нему? Нам и здесь неплохо…
— Плохо!!! — гнусит Воображала, с упрямой вредностью младшего и любимого чада, повышая тональность и начиная потихоньку подвывать. Ромик быстро меняет тактику:
— Плохо? Почему же нам тут плохо? Кто посмел обидеть нашу девочку? Кто такой нехороший?! Вот мы его!! Мы его накажем — и все снова станет хорошо!
— Плохо! — несговорчиво выпячивает губки Воображала. Но всхлипывает уже тише.
— Почему же плохо? — преувеличенно удивляется Ромик, — Все тебя любят, игрушки — любые, конфеты там, мороженого — сколько влезет…
Воображала выпячивает подбородок, отпускает студента (тот быстро отодвигается на безопасное расстояние), провозглашает мстительно:
— Вы все меня дурой считаете! Да-да, все! И вы тоже! А я не дура!!! — ее губы вновь опасно кривятся, голос срывается в обиженную зловредность:
— Все папочке расскажу! Что я, не вижу, что ли?! Нашли дурочку, да?! Вы же меня ни в грош не ставите! Только вид делаете! Но ни один!.. Ни один из вас!.. Только и слышу — иди, поиграй!!! И все время смеетесь! Что я, не понимаю, что ли, что вы надо мной смеетесь?!..
— Вот и неправда, вот и неправда, ты сейчас злишься — вот всякую ерунду и болтаешь, а когда успокоишься — самой стыдно будет. Кто это тут над тобой смеется?! Что ты выдумываешь? Все тебя очень уважают, ценят, все условия тебе создали… Считают ценным сотрудником… А ты сейчас ведешь себя, как избалованный ребенок…
— Вранье! Вранье! Вы все время между собой о чем-то говорите, а стоит мне подойти — сразу замолкаете! Что я, не вижу, что ли?!
— Детка, но это же абсурд! Что мы можем от тебя скрывать?!
— Вам виднее!
— Это случайные совпадения! Тебе просто кажется! Если бы ты спросила — тебе бы наверняка сразу же все рассказали, у нас нет и быть не может никаких секретов…
— О чем вы говорили, когда я вошла?
— ??
— Вы сказали, что мне ответят, если я спрошу. Вот я и спрашиваю. О чем вы говорили с дядей Сеней, когда я вошла? Вы о чем-то говорили, но сразу же замолчали, я видела!..
— Когда ты вошла… — растерянно переспрашивает Ромик. Он явно не помнит. Зато хорошо помнит отсевший на край дивана студент по имени Сеня, хихикает нервно и сдавленно. Но Воображала серьезно настроена провести следственный эксперимент немедленно.
— О ногах, — напоминает она. Добросовестно хмурится, стараясь быть предельно точной, и добавляет, — И еще о манерах…
— О, Господи… — хрипит Ромик полузадушенно. Судя по голосу и выражению вмиг перекосившегося лица — он тоже вспомнил. В углу дивана заходится от беззвучного хохота студент, и наступает черед Ромика бросать на него беспомощно-убийственные взгляды.
— Понимаешь… — говорит Ромик растерянно и замолкает. Вытирает испарину со лба. Лицо у него такое красное, что светлые брови и узкие ниточки баков, тянущиеся до самого подбородка, выглядят совсем белыми, словно нарисованными мелом. Вид у него несчастный и жалкий, но Воображала жалости не знает.
— Так что же там было о ногах?
Так и не дождавшись ответа от вконец уничтоженного Ромика, она преисполняется презрения и цедит:
— Я так и знала! Речь шла о моих ногах, да?! Опять говорили про меня какие-нибудь гадости! Все вы такие!.. — губы ее опять дрожат, глаза заволакивает слезами, в воздухе начинают мелькать разрозненные пока еще искры.
— О, черт! — призывает на помощь Ромик диаметрально противоположные ранее призываемым силы, поскольку эти самые ранее призываемые вмешиваться, похоже, не спешат. Лицо у него беспомощное…
Смена кадра
Негромкий храп. Приглушенный шум улицы. Тихий голос Конти — он разговаривает сам с собой:
— … И даже тогда это было лишь то, чего я от нее хотел… или ожидал, какая разница… Это я теперь понимаю. Боялся, конечно, — он смеется тихо, почти беззвучно, — О, как же тогда боялся!.. На работе чуть ли не сутками сидел, в барах тянул до последнего, на улицах часами околачивался, возвращался пешком — лишь бы еще хоть на немножко оттянуть. Но на самом-то деле… На самом-то деле не того я боялся, что приду — а там опять черт знает что… — опять беззвучно смеется, — Нет, если честно, то это тоже страшно, и еще как! А кому было бы не страшно? Хотел бы я посмотреть на такого… Но это — не тот страх. Не настоящий… и потом- это все было даже забавно. Не скучно. Есть, по крайней мере, о чем вспомнить… Н-да… Веселые были деньки. А настоящий-то страх другим был. Совсем другим… Больше всего на самом-то деле я тогда боялся того, что однажды приду — а дома все в порядке…
Посмеиваясь, он встает из-за стола. Потягивается, хрустя суставами. Бормочет с иронией, растягивая слова:
— В ПО-ОЛНОМ ПОРЯ-ЯДКЕ! Тишь да гладь. Как у людей…
Замолкает. Перекатывается с пятки на носок. Говорит уже совершенно серьезно:
— Вот ведь ужас-то…
Встряхивается, подходит к окну (шум улицы становится отчетливей). Некоторое время молча смотрит в окно (шум улицы нарастает и откатывает волнами, вечернее солнце окрашивает улицу в сине-оранжевые тона). Оборачивается, говорит задумчиво, с неожиданной заинтересованностью:
— Забавно, но меня не оставляет назойливое ощущение, что все это уже было… Дежавю. Как в старом водевиле… Все всегда повторяется…
Пока он говорит, шум улицы накатывает волнами, временами совсем перекрывая его голос. Иногда он качает задумчиво головой или беззвучно смеется. Неожиданно шум обрывается, и последние его слова звучат непривычно отчетливо в неожиданной тишине:
— Только роль другая…
Смена кадра
Приглушенно звучат тамтамы, их ритм то нарастает, приближаясь, то откатывает, становясь еле различимым.
Голос Ромика — голос человека, доведенного до предельного отчаяния:
— … Просто мужские разговоры!!!
Опираясь огромными ручищами о крышку стола, он практически нависает над сидящей на стуле Воображалой, но выглядеть при этом умудряется вовсе не угрожающе. Скорее жалобно. Рядом с ним — студент, и он уже не смеется.
Воображала сидит на стуле с неприступным и гордым видом, губы ее презрительно поджаты, подбородок независимо вздернут, руки скрещены перед грудью в демонстративном жесте отрицания. Вместо пижамки и слюнявчика на ней бежевая рубашка с более темным геометрическим узором и кожаной шнуровкой на груди, вдоль спины и по рукавам до локтей — длинная кожаная бахрома. Время от времени всполохом прорывается яркая расцветка, и одновременно возникает над рыжими волосами индейский головной убор из перьев, а на непроницаемом лице проступает боевая раскраска. Отдаленно звучат тамтамы.
— Понимаешь, — говорит Ромик, чуть не плача, — Есть такие анекдоты, которых не рассказывают девочкам… не только маленьким девочкам, нет! Что ты! Даже очень взрослым и уважаемым девочкам… И возраст тут не при чем, понимаешь! Просто не принято… И вовсе это не означает, что над ними смеются… А даже если и смеются — то это не над ними, понимаешь?! Просто это такие анекдоты… А над анекдотами все всегда смеются, понимаешь?..
Не меняя позы, Воображала меряет его презрительным взглядом. Раскраска проступает ярче, отдаленная дробь тамтамов явственно приближается. На голове студента появляется ковбойская шляпа с воткнутой в нее индейской стрелой, на шее — красный платок. Бряцая шпорами огромных ботфорт, Ромик отступает от Воображалы, подходит к студенту — тот с отвращением пытается развязать сложный узел шейного платка, говорит с тихой паникой:
— Если Крокодил застанет ее в таком состоянии — нам труба. Он не будет разбираться, кто виноват…
Ромик кивает, вид у него затравленный:
— У тебя есть идеи? Я спекся. Она просто ничего не желает слушать, как об стенку горох…
Студент хмурится, вытаскивает из-за пояса два старинных шестизарядных кольта, говорит задумчиво и веско:
— Делать что-то надо…
Решительно сдирает с шеи платок, сбрасывает на пол проткнутую стрелой ковбойскую шляпу — разнообразием Воображала их не балует. Ромик смотрит на две одинаковые шляпы с отвращением, тянет просительно:
— Может, я все-таки глушак врублю? Ну, на всякий пожарный…
— Пожалуй, что и можно, только на малой мощности, — студент отвечает рассеянно, он явно думает о чем-то другом, продолжает хмурится. Ромик обрадованно щелкает переключателем.
Антураж Дикого Запада пропадает, смолкают тамтамы. Теперь сидящая на диване с ногами Воображала похожа не на попавшего в плен к бледнолицым собакам индейского вождя, а просто на смертельно обиженного ребенка. Студент смотрит на нее задумчиво, говорит Ромику:
— Ты прав, в таком состоянии ее не прошибить, слушать не станет… Нужно ее встряхнуть как следует, пусть выкричится… хорошо бы, чтобы заплакала, тогда вообще все сработает. Ладно, с богом…
И — Воображале, громко и агрессивно:
— Да, черт возьми, мы говорили о ногах! Не о твоих кривых макаронинах, разумеется! У тебя не такие ноги, чтобы о них хотелось лишний раз поговорить! Мы говорили о Юлькиных ногах, ясно?! В конце концов, я взрослый человек, почему я не могу поговорить о том, о чем мне хочется!? И я не обязан перед тобою отчитываться! И разрешения у тебя спрашивать, о чем мне можно говорить, а о чем нельзя, тоже не намерен!! Ясно!!?
Воображала оскорбленно фыркает, прерывая молчание:
— Вранье! Все вранье! У меня ноги не кривые! А вы и вчера замолкали! И раньше! Не могли же вы всегда обсуждать ее жирные ляжки!
— Не твое собачье дело! — кричит студент обрадованно, — Имею полное право обсуждать любые ноги тогда, когда хочу!
— А вчера с самой Юлькой чьи ноги ты обсуждал? — Воображала тоже переходит на крик.
— Не твое собачье дело! Есть у тебя твои игрушки — вот в них и играй! А во взрослые игры не лезь! Ясно?!..
— Игрушки?!! — Воображала вскакивает, опрокинув на пол подушки с диванчика, — Мне предлагают играть в игрушки?!! И когда?!! Сейчас!!! Когда дорога каждая пара рук, каждая минута, когда под угрозой существование самого человечества — они спокойно обсуждают женские ляжки, а мне предлагают играть в игрушки!!! Знаете, кто вы? Вы вредители! Враги народа! Убийцы в белых халатах! Я выведу вас на чистую воду!!!
Она потрясает перед лицом явно ошарашенного таким поворотом дела студента маленьким кулачком, лицо фанатичное, глаза безумные. Студент резво отпрыгивает за стол, шипит сквозь зубы, обреченно:
— Боже, вот влипли!.. Хотел бы я посмотреть на его крокодильское преподобие! Как бы ему вот такое понравилось?! Не мог масонами ограничиться!!!
Воображала пытается дотянуться до него через стол, ее пальцы хищно скрючиваются, руки становятся похожими на лапы стервятника, зубы оскаливаются (клыки заметно увеличены). Но студент старается перемещаться так, чтобы между ним и Воображалой всегда находился стол, а стол этот слишком широк, и дотянуться через него ей не под силу. На замершего у мониторов очень бледного Ромика Воображала вообще не обращает внимания. Вся ее ярость направлена на студента, зайцем прыгающего вокруг стола. Она кружит за ним, как тень, смотрит ненавидяще, тянет скрюченные пальцы с загнутыми когтями, шипит:
— Изуверы! Предатели рода человеческого! Наймиты инопланетных монстров! Но я до вас доберусь! Это вам так не пройдет! Я сразу вас раскусила! Вы не случайно отстраняли меня от работы! Пытались усыпить бдительность при помощи мороженого! Не выйдет, господа хорошие! Распечатки, да?!! Все время — одни распечатки!!! Никаких больше распечаток!!!
Студент истерично смеется. Всхлипывает, опять смеется. Говорит Ромику (голос высокий, нервный):
— Узнаешь лексикончик?! Старая задница!..
У Ромика белые даже глаза. Он что-то шепчет одними губами, потом повторяет немного громче:
— Сеня, она свихнулась… Окончательно. Я видел, я знаю, работал с такими… Черт, Алика же предупреждали насчет барбитуратов…
Воображала делает в его сторону быструю отмашку когтистой лапой. Ромик взвизгивает уже в полный голос, отпрыгивая за край стола:
— Она свихнулась, Сеня, сделай что-нибудь!!
Воображала резко оборачивается с озадаченным видом. Замирает и все остальное, словно на стоп-кадре — прячущийся за столом Студент, Ромик в нелепой позе и с открытым в беззвучном крике ртом. Упавший со стола пластиковый стаканчик неподвижно завис в воздухе, выплеснувшийся кофе застыл амебообразной резиновой кляксой. В движении остается одна Воображала. Вернее — уже не одна. Она как бы раздваивается — одна ускользает за кадр, а вторая начинает корчить дикие рожи, волосы ее встают дыбом, из ушей валит дым, глаза дико вытаращиваются и начинают вращаться каждый сам по себе, уши удлиняются, заостряясь, из угла перекошенного рта вываливается полуметровый язык…
— Не верю! — говорит совершенно спокойно первая Воображала.
Рыжее чудище, уже совершенно ни на что не похожее, начинает трястись и визжать, одновременно отращивая десятисантиметровые клыки и такие же когти, быстро сует руки а-ля Фреди Крюгер Воображале прямо в лицо. Жест не угрожающий, а, скорее, заискивающий, почти детский — а-вот-посмотри-что-у-меня-есть!
Воображала смотрит скептически, потирает подбородок. Монстр вопросительно повизгивает. Воображала обходит его вокруг, осматривая со всех сторон критическим взглядом, выпячивает нижнюю губу, трет в задумчивости подбородок. Монстр следит за ней с опаской, вывернув голову на 180* и пытается вилять свежеотращенным хвостом. Хвост рыжий и очень лохматый, упруго загнутый кверху, как у длинношерстной борзой (все это время Ромик и студент находятся в застывшем состоянии, неподвижными отпечатками на заднем плане, а стаканчик с кофе так и не долетел до пола).
Воображала двумя пальцами брезгливо поднимает рыжий хвост за самый кончик, качает головой, отряхивает руки, роняет неодобрительно:
— Чушь собачья…
Монстр поскуливает, взлаивает даже, снова нерешительно виляет хвостом. И тут же отчаянно взвизгивает — Воображала безжалостно отрывает этот самый хвост. Срывает со своего монстрообразного дубля рыжие лохмы, оказавшиеся на поверку париком, кусками обрывает слоистую маску с лица, обламывает когти, при помощи невероятно огромных клещей выдирает вставную челюсть — короче, приводит вторую свою ипостась в нормальный вид. Одергивает рубашку, поправляет волосы, говорит удовлетворенно:
— Вот так-то лучше будет… Обойдемся без лишней экзотики. Внимание! МОТОР!
(Общая закадровая суета, женский голос: «Кадр такой-то, дубль такой-то». Щелчок. Мужской голос: «Поехали!»).
— Она свихнулась! — взвизгивает Ромик, отпрыгивая за край стола. Воображала оборачивается. Никаких клыков-когтей, личико обиженного ангелочка: бровки домиком, губки бантиком, глаза огромные и печальные.
— Я поняла… — говорит она тихо и грустно, — Это не вы… Это я… То есть, это вы думаете, что я… Вы меня считаете ихней шпионкой, правда? Поэтому и не доверяете…
Огромные глаза переполняются слезами, крупные капли градом катятся по щекам. Воображала садится на пол, скорбно покачивая головой:
— Злые вы. Уйду я от вас…
— Это я отсюда уйду! — говорит студент с тоской, — Лучше уж автостоянки охранять… В спецназе — и то спокойнее было!..
Смена кадра
Ночь. Черное небо с яркими крупными звездами над черной степью. Треск цикад. Одна звездочка, расположенная ниже остальных, медленно перемещается вдоль горизонта, постепенно сползая все ниже и увеличиваясь. Превращается в маленький круглый огонек. Треск цикад усиливается, превращается в треск приближающегося мотоцикла, огонек пару раз мигает и останавливается. Треск неуверенно приглушается, переходя в неторопливое постукивание холостого хода. Свет фары, мазнув полукругом по степи и ослепив на миг, пригашивается — ее перевели на ближний. Треск цикад.
Внезапно, совсем рядом с камерой вспыхивает еще одна фара, мигает пару раз и гаснет, лишь в самой ее глубине остается слабое красноватое свечение. Взревывает мотор, свет дальней фары приближается, выхватывая из темноты грунтовую дорогу, кустики засохшей травы, колесо мотоцикла и ногу в кожаном остроносом сапоге. Нога неподвижна.
Приблизившись вплотную, второй мотоциклист глушит мотор и гасит фару. Треск цикад. Из темноты смутно проступают силуэты двух мотоциклов на фоне чуть более светлого неба. Молчаливые фигуры в седлах почти неподвижны. Один курит, огонечек сигареты то ярко вспыхивает, то почти гаснет. Потом, прочертив огненную дугу, падает в пыль. Мотоциклист сдвигает шлем на затылок, его лицо смутно белеет в темноте.
— Да нету здесь ни фига! Нету! Дохлый номер… — голос у него совсем мальчишеский.
Второй молчит, закуривает новую сигарету. Огонек зажигалки освещает руки в черных перчатках и острый упрямый подбородок. Губы чуть улыбаются, остальное скрыто под черным пластиком шлема. Вытянув сигарету в две быстрые затяжки, он говорит, чуть растягивая слова:
— Хочешь свежий анекдот?
— Ну?
— Вика замели.
— Не смешно.
— Да не, в натуре… Он сказал, что видел патруль. Не простой/ в камуфдяэе и без знаков различия. Ну и решил приколоться. А они оказались ребятами без юмора. По-моему, забавно… — отбрасывает окурок, сплевывает, уже другим тоном, уверенно, — Это где-то здесь. Рядом. Надо лучше искать.
Резко взревывает мотор (камера отступает, приподнимаясь). Огонек стремительно движется по черной земле. Чуть помедлив, за ним устремляется и другой. Догоняет, и дальше они перемещаются вдвоем. Затихающий треск моторов переходит в треск цикад.
Смена кадра
Воображала, танцуя, идет по коридору. Кружится, раскинув руки, что-то в такт напевает. Лицо сияющее, голова запрокинута, глаза закрыты. Звучит ее бравурный марш, синий плащ вьется за спиной как крылья (на ней костюмчик «леди Вольт»). Продолжая кружиться и не открывая глаз, плавным и точным движением заныривает в свою комнату (марш звучит теперь приглушенно, словно из-за двери).
От двери пункта слежения ей вслед смотрят истерзанные студент и Ромик. Они растрепаны и исцарапаны, грязные и мокрые халаты висят тряпками, на шее у Ромика — обрывок ковбойского платка, у студента из оторванного с мясом кармана торчит сломанная стрела. Он пытается закурить, но подряд ломает третью сигарету. Глаза дикие.
— А не слишком ли? — спрашивает Ромик неуверенно. Студент опять пытается прикурить, на этот раз роняет зажигалку. Руки у него дрожат все сильнее. Он морщится, качает головой. Голос хриплый:
— Там двенадцатый уровень сложности. Что она может понять?..
— А… вдруг?
— Не глупи. Пусть побалуется… или ты что — хочешь, чтобы она — ОПЯТЬ?!!
Ромик содрогается всем телом. По его лицу видно, что он совсем этого не хочет.
Смена кадра
Уже знакомая дежурная часть. Но теперь за столом сидит Михалыч, и видно по его уныло-терпеливому лицу, что выполнение функций дежурного не относится к числу его самых любимых занятий. Лейтенант на этот раз выглядит гораздо веселее, поскольку в данный момент является лицом практически неофициальным, что и подчеркивает свободной позой, удобно устроившись на краю стола. Разгневанный человечек потрясает перед ними стопкой отпечатанных листов:
— … что характерно, это нельзя даже назвать просто хулиганством!.. Это же форменная дискредитация личности! И что характерно — намек на мою профессиональную несостоятельность! При этом — злостная порча оборудования! Что характерно! Из-за этого вируса 157 человек сегодня не могли работать! Пришлось вызывать целую бригаду специалистов… Что характерно — они до сих пор не смогли устранить! Форменный бандитизм! Да если бы только этот вирус! Что характерно — повсеместно ведь, понимаете?! Повсеместно!!
Михалыч смотрит страдальчески, говорит успокаивающе:
— Хорошо, хорошо, я это понял… Теперь хотелось бы понять, что вы от нас хотите конкретно? Поймать этих хакеров? Хорошо, мы будем их ловить… Но обещать, что поймаем, я вам, откровенно говорю, не могу. Нету у нас специалистов. Ну нету! Ни аппаратуры, ни специалистов. Вот я, например, даже представить себе не могу, как их можно ловить… Вы видели наш компьютер? Ваше счастье, что не видели. Эти модели были списаны как морально устаревшие лет десять назад. Чтобы не выкидывать, подарили милиции. А мы что? Мы даже спасибо сказали, раньше-то и таких не было, на двоечке пахали, если свет был, и радовались, что не надо все это от руки писать. Так что сами понимаете… Мы по старинке. Традиционно… Так что вопросы у меня тоже будут традиционные. Подумайте, кто из Ваших коллег мог бы сотворить эту… грубую шутку? Не торопитесь, хорошенько подумайте…
— Коллеги! — человечек презрительно фыркает, — Сказали бы уж лучше — завистники. Было бы правильнее! Что характерно, любой бы из них был бы только рад, если бы кто-то другой… Но самому… Вряд ли. Сам редактор не смеет править мой материал! Что характерно! Да-с! Только просит вежливо! И — всегда на мое усмотрение! А эти гаденыши будут безнаказанно…
— Хорошо, хорошо, — Михалыч успокаивающе поднимает ладони, лейтенант откровенно забавляется, пользуясь тем, что находится за спиной разгневанной акулы пера. — Мы обязательно проверим Ваших коллег. И, если окажется…
— При чем тут эти, с позволения сказать, коллеги?! Что вы мне тут ерунду-то городите?! Что характерно, это же какая-то новейшая технология! Да будь у любого из них ТАКИЕ возможности… Нет, это не наши… Уж лучше тогда конкурентов проверьте. Что характерно, кому-то должен быть очень выгоден срыв этого номера! Вы хоть представляете себе, какие это деньги?!
— А этот срыв… он обязателен?
— Конечно! Что характерно, они отлично знают, что я не дам согласия на правленый без моего ведома материал! Это был бы прецедент, понимаете?! А моя статья тоже обязательна, что характерно, анонс уже был, интерес подогрет. Нет, они все хорошо рассчитали, что характерно. Газета не может выйти без моей статьи, а я не могу согласиться на проведенную без моего ведома правку. Иначе потом такое войдет в правило. А мне это надо?
— Послушайте, я, конечно, не специалист… — вид у Михалыча несчастный, как у ленивого и достаточно мудрого кота, которого слишком активные и недостаточно мудрые хозяйские дети пытаются использовать вместо половой тряпки, — Мне не совсем понятно, в чем проблема? Если редактор согласен именно с Вашим вариантом, то кому какое дело до этих шутников? Перепечатайте заново…
— Да в том-то и дело, что я не могу перепечатать ЭТО! — человечек со всего размаха шлепает на стол пачку листов, — Я пытался! Всеми способами! На разных машинах! Но у нас в редакции — ни одной НОРМАЛЬНОЙ машины! Все с этой вирусной придурью! Все! Что характерно!
Михалыч крякает. Чешет волосатую грудь. Искоса бросает злой взгляд на радостного лейтенанта. Говорит осторожно:
— Техника — оно, конечно… того, этого… хорошо, одним словом. Но она имеет обыкновение… хм-м… ломаться. И, раз уж так… хм-м… вышло… Почему бы Вам просто не взять ручку и не… хм-м… исправить? По старинке, от, так сказать, руки, а?
Выражение лица у него при этом сочувственно-добродушное и очень терпеливое, словно разговаривает он с душевнобольным или умственно отсталым. Акула пера несколько секунд смотрит на него, наливаясь тихой злобой, шипит ядовито:
— Умный, да?! — неожиданно сует пачку гранок и маркер Михалычу, кричит с ненавистью, — На! Сам попробуй!!! От руки!!! По Старинке!!!
— Гражданин, а вот за оскорбление при исполнении… — с полтычка заводится лейтенант, и даже встает, делая намек на движение в сторону зарвавшейся акулы, но Михалыч вдруг говорит изменившимся голосом:
— Ша!..
Негромко вроде бы, говорит. Но оба оборачиваются к нему. Камера крупным планом выхватывает замазанный черным кусок текста, над которым от руки написано «Электра», и успевает поймать тот момент, когда по буквам проходит легкая рябь, слово разрывается на два, изменяясь. Теперь почерком Михалыча над зачеркнутой фразой написано «Леди Вольт».
Чей-то вздох. Удивленный свист. Кто-то говорит растерянно:
— Ничего себе!..
Михалыч очень серьезен. Тяжело выбирается из-за стола, подходит к боковому столику с допотопной (еще даже не электрической) печатной машинкой. Говорит задумчиво:
— Это вам не компутер, сюда вирус и милицейской дубинкою не загонишь…
Долго усаживается, вставляет лист. Зашедший случайно опер, занимавшийся до этого своими делами помощник и еще какие-то люди, кто в форме, кто в штатском, постепенно группируются у него за спиной. Видно, как его толстые пальцы двигаются по клавиатуре, набирая «стерва электрическая». На белом листе — черные буковки «Леди Вольт». Пальцы мечутся по клавишам, быстрый набор чего-то совсем уж длинного, тянущего, скорее, на пару предложений. На белом листе — удвоившаяся надпись.
— Вот видите? — говорит акула пера устало, и становится видно, что никакая это не акула, а просто насмерть перепуганный карась со вставной очень зубастой челюстью.
В дверях возникает растерянная машинистка с листком.
— Ребята, тут какая-то ерунда получается… Я отчет оформляла, по делу Конти… Ну, помните, с потеряшкой, он-то заявление отозвал, а с контроля сразу не сняли… И, похоже, что-то с машиной. Вроде бы не сломалась, но… Как только доходит до имени…
Она замолкает испуганно, потому что все резко оборачиваются к ней. Голос Михалыча мягок и обманчиво ленив:
— Ну так и что же там с именем?
— Вы будете смеяться! — обиженно говорит машинистка, выставляя перед собой лист, как щит, — Знаете, что получилось?
После короткой паузы, почти все, почти хором:
— Леди Вольт!
Машинистка (растерянно):
— А как вы догадались?..
Михалыч (один, неизвестно к кому обращаясь):
— Черт! И что нам с этим теперь делать?..
Смена кадра
На сером экране компьютера два коротких синих слова. По ним проходит быстрая рябь, теперь на экране возникает вокруг слов белая рамочка. Да и слова другие — «Конец программы».
Несколько секунд Воображала продолжает смотреть на экран, лицо у нее напряженное, почти злое, глаза сощурены. Встряхивает головой, трет пальцами виски. Задевает прицепленные датчики, машинально отдирает их. Пока еще — машинально, беззлобно, просто с раздражением, как досадную помеху. Медсестра невозмутимо подхватывает провода и пытается прилепить датчики на место. Воображала второй раз их отбрасывает, напряженно думая о чем-то своем. Медсестра с таким же невозмутимым видом пытается прикрепить их опять.
Воображала резко разворачивается, и медсестра отлетает к дальней стене, сшибая на пути людей и приборы. Лицо у нее удивленное.
С разных сторон к Воображале бросаются сразу несколько человек, она отшвыривает их взглядом. У нее золотисто-желтые глаза, сильно увеличенные клыки и манера по-волчьи подтягивать верхнюю губу. Она стоит, втянув голову в плечи и засунув руки глубоко в карманы брюк (расцветка нестерпимо-яркая, ядовитая, почти светящаяся). А вокруг взрываются мониторы, падают шкафы, вихрем закручиваются какие-то документы, серпантинные ленты распечаток, осколки стекла, обломки мебели. Начинает звучать сирена…
Смена кадра
Ночной лагерь джайверов. Пара навесов из наброшенных на составленные «шашалом» мотоциклы курток. Остальные спят прямо под открытым небом, вповалку, на земле. У догорающего костра — маленькая фигурка, она сидит лицом к огню, видна лишь черным силуэтом. Камера объезжает костер, и теперь в его неверном свете становятся видны алые горошины на черном костюме.
Анаис смотрит в огонь, улыбаясь.
Вдруг поворачивает голову — над степью встает далекое зарево.
Сначала беззвучно, потом нарастает гул, переходит в отдаленный грохот, грохот нарастает, земля под ногами дрожит…
Лагерь джайверов просыпается стремительно, но как-то деловито, без особой паники, словно они давно ждали чего-то подобного. Никто не кричит, не мечется заполошно и бестолково. Движения людей стремительны, но не бессмысленны, чьи-то руки быстро расхватывают куртки и рюкзаки, почти одновременно заводятся моторы, десятками вспыхивают фары, срываются с места тяжелые машины. Прямо по костру, рядом с Анаис, проносится мотоцикл, искры из-под колес летят фейерверком. Гул потихоньку стихает, некоторое время еще слышен удаляющийся шум моторов. В поспешно брошенном лагере — никого, кроме Анаис. Она смотрит вслед джайверам, улыбаясь чуть снисходительно. На лице ее — отблески зарева.
Свет усиливается, новый порыв ветра, грохот. Анаис зажмуривается, не переставая улыбаться — загадочно и чуть снисходительно.
Смена кадра
Грохот продолжается — это грохот вышибаемой двери. Она падает вовнутрь комнаты, в клубах пыли через нее ловко перепрыгивают ребята в пятнистых комбинезонах. Мгновенно рассредоточиваются.
Конти смотрит на них обиженно, морщится:
— Вот же гадство!.. Заметь — именно тогда, когда кончились все патроны… — качает головой, смеется беззвучно, протягивает руки с сомкнутыми запястьями, как для наручников, — Вяжите! Но попрошу отметить добровольное…
Идущий прямо на него мордоворот аккуратно отодвигает огромной лапой его со своего пути, не прерывая движения. Другой толчком ладони усаживает обратно на кровать со словами:
— Посиди, отец, про тебя нам приказа не было…
Конти переводит растерянный взгляд на врача, тот вжимается в стенку, протрезвевший в момент и наглеющий от страха:
— Я никуда не пойду!
— Ну, это-то как раз вовсе и не обязательно, — успокаивает его Конти философски, — Они тебя вполне и здесь кончить могут. Какая им разница?..
Один из громил оборачивается неодобрительно. Информирует:
— Велено живым. И вежливо.
Пару секунд Конти смотрит на них непонимающе, потом, хохоча, валится на кровать, давится сквозь смех:
— Нашелся!.. Я же говорил! Нет, ты понимаешь, да?! Все-таки нашелся, хотя бы один!.. А Тоська, она… девочка послушная!..
Смена кадра
Грохот. Клубящаяся пыль. Вой сирен.
Воображала идет по коридору в вихре взрывов и грома. Перед ней все взрывается, за ней — рушится. Падают огромные балки железобетонных перекрытий, трескаются стены, мыльными пузырями вспучиваются бронированные панели, оседают камни. Сквозь грохот временами прорывается бравурный марш.
Проблеском — десятилетняя Воображала в белом халате идет по коридору больницы. Легко, почти танцуя (в бункере у нее походка более тяжелая а лицо — более злое).
Вой сирен. Мигание аварийной системы. Шипение вырывающейся из порванных труб воды и перегретого пара — то ли разрушена какая-то лабораторная коммуникация, то ли включилась противопожарная система.
Дядя Гена быстро идет по коридору, почти бежит. Коридор перекошен, тучи пыли, оторванные панели, висят рваными космами перепутанные провода, растрепанные кабели, обломками костей торчит арматура. Что-то искрит. Под ногами хрустит стекло.
Рядом семенит Ромик, лицо несчастное.
— Идиоты! — шипит Дядя Гена, перепрыгивая через крупный обломок чего-то — чего именно, теперь уже установить невозможно. Ромик чуть не плачет. Бормочет с отчаяньем:
— Но кто бы мог подумать!.. Двенадцатый уровень!.. Там и из наших-то не всякий… Она же не специалист!..
— Сборище идиотов! Вы бы ее досье почитали! Она в генной инженерии с шести лет! Если она не специалист, то кто?!!
Грохот, дым. Земля начинает трястись. Чей-то сорванный крик:
— Прорыв Периметра!! Все отсюда!.. Быстро!..
Смена кадра
Грохот. Ночь. Рев моторов. Треск пулеметных очередей. В полумраке — быстрые тени, мигающие фары. Шум низко летящих вертолетов. Зарево разрастается, красный цвет усиливается, перекрывает все остальные, наливается пронзительной карминовой яркостью, застывает.
Голос диктора:
— На западе области вероятны проливные дожди…
Появляется бархотка на тонкой костяной ручке, полирует алый ноготь.
Голос диктора:
— Министерство обороны в лице генерала Щукеракова категорически отрицает вероятность какой-либо связи вчерашнего землетрясения с несанкционированным проведением испытания нового вида вооружений на печально знаменитом полигоне Капустина Яра. С такой же категоричностью отвергает генерал и высказанное на страницах печати предположение о возможной аварии на этом полигоне, объясняя введение в области военного положения временной мерой в свете проведения плановых учений, однако представители оппозиции настаивают на достоверности находящейся у них информации, при этом отказываясь, однако, от обнародования…
В кадре появляется кисточка и ставит на алый ноготь аккуратную черную точку.
Смена кадра
Грохот. С потолка сыплется мусор.
Проблеском — десятилетняя Воображала идет по белому коридору. Бравурный марш. Двери сами распахиваются при ее приближении.
Проблеском — Фрау Марта сметает мусор со стола в совок, неодобрительно качает головой.
Пыль висит плотными клубами, перемигиваются тревожные сигналы. Приглушенный вой сирены где-то вдалеке. Кто-то кашляет, кто-то ругается. Из клубов пыли выныривает Дядя Гена, спрашивает кровожадно:
— Где Алик? Где этот кретин?!
— В изоляторе…
Появляется Ромик, вид у него еще более несчастный, если такое возможно. Всхлипывает, передергивается. Поясняет:
— Она заставила его съесть обеих крыс и м-м… м-морскую свинку… Живьем…
— О, Господи, — Дядю Гену передергивает. Потом, очевидно, вспомнив и осознав до конца, он передергивается уже по-настоящему и спрашивает, резко меняясь в лице:
— Что — тех самых?!!
И — уже совсем другим тоном:
— О, Господи!!!
Ретроспекция 12
Фрау Марта разливает чай. Голос Воображалы (ей лет семь), игриво:
— Пап, а правда, Фрау Марта похожа на женщину-вамп?..
Конти с деланным удивлением поднимает брови, смотрит на Фрау Марту с демонстративной пристальностью. Фрау Марта невозмутимо разливает чай. Так же невозмутимо, хотя и немного невнятно, спрашивает:
— Я могу идти?
С произношением у нее что-то не в порядке, но манеры по-прежнему безукоризненны, выдержка отменная. Получив разрешение, с подносом идет к двери. На пороге оборачивается через плечо. Улыбается.
И сразу становится ясна причина дефекта произношения — ее клыки сделали бы честь любому вампиру. Похоже, семилетняя Воображала довольно смутно представляет себе, как именно должна выглядеть женщина-вамп.
Смена кадра
Грохот. Бравурный марш.
Воображала прорывается сквозь вихрь зеркальных осколков (не понять — бункер или больница, да и не важно). Ощущение неудержимости, почти всемогущества. Нет на свете ничего такого, что могло бы ее сейчас остановить. Одним прыжком преодолевает лестничный пролет, халат — крыльями за спиной. Ударом руки проламывает кирпичные стены, словно они из картона. Воздух наэлектризован, вокруг нее возникает, потрескивая, светящийся ореол. Протискивается сквозь бронированные двери — в броне остается оплавленная дырка по форме ее тела. Вой сирены.
Чей-то спокойный голос:
— Включайте генератор!
Робкое возражение:
— Но установка не опробована, и вся ответственность…
Щелчок. Низкое гудение.
Воображала в прыжке со всего размаха налетает на каменную стену. Ее по инерции протаскивает вдоль, разворачивает. Бравурный марш рассыпается на отдельные звуки, обрывается жалобным всхлипом.
Проблеском — идущая по коридору больницы десятилетняя Воображала тоже словно налетает на невидимую стену. Замирает. Потом в абсолютной тишине что-то беззвучно кричит — видно, как открывается рот, — и бросается бежать по длинному пустому белому коридору. Вдоль бесконечного ряда стерильно чистых окон слева и закрытых одинаковых дверей справа. В самом конце коридора одна дверь открыта. Рядом — маленький человечек с каталкой…
Ближе, ближе, еще ближе, изображение дрожит, мечется, почти ничего не видно…
Воображала в бункере еще раз пытается пробить кирпичную стену, так легко подававшуюся ранее под ее кулаками. Но на этот раз стена остается целой — Воображала налетает на нее сначала плечом (на этот раз — в полной тишине), потом ударяется спиной, хватает ртом воздух, сползает на пол…
Десятилетняя Воображала в больнице останавливается у открытой двери. Словно тоже опять налетает на стену. Санитар вывозит из палаты отключенный реабокс. Задержавшись, переворачивает табличку на двери пустой стороной вверх. Пустой белый лист с красным кружком посередине. Белизна заливает кадр. Нарастающий звон.
Смена кадра
Воображала сидит на белом полу у белой стены. Футболка ее по цвету почти не отличается от стены, а брюки — от пола, волосы тоже словно присыпаны пудрой. Вид безразличный.
От людей в бункере ее отгораживают несколько слоев бронестекла, из-за чего изображение нечеткое, словно плывет.
У пульта — Дядя Гена и какой-то незнакомый техник. Техник нервничает, вертится, разрываясь между чинопочитанием и опасением выпустить Воображалу из поля зрения хотя бы на секунду, бубнит через плечо:
— Поляризованное излучение, блокируя негативные действия объекта путем подавления альфа и сигма ритмов, одновременно снижает и практическую ценность объекта как такового фактически до нуля. Таким образом, ситуация патовая. Технически мы в состоянии увеличить интенсивность более чем впятеро… — щелкает переключателем, отводит рычаг до упора влево. Воображала окончательно обесцвечивается, сползает на пол, подтягивает колени к груди, съеживается, — Обратите внимание на характерную позу зародыша! Это очень показательно, подсознательная демонстрация полной беспомощности характерна для любых… Но, в сущности, в ступоре объект не представляет интереса даже как… э-э… собственно, объект. А стоит нам снизить напряжение от оптимального хотя бы на двадцать процентов… — новое движение рычага. Волосы и футболка Воображалы приобретают ярко-оранжевый цвет. Плавным и каким-то очень хищным движением она приподымается на четвереньки, мягко вскидывает голову. Глаза у нее тоже оранжевые и очень-очень злые, улыбочка неприятная. Бронестекло начинает мелко и противно дрожать, покрываясь рябью.
— Сами видите… — техник пожимает плечами и возвращает рычаг в прежнее положение. Воображала последний раз вяло оскаливается, быстро выцветая, но глаза ее уже потухли и потому выглядит это неубедительно.
— Она не идет на контакт, ни на каком уровне, мы за эти дни испробовали практически все возможности…
Техника прерывает смех. Смеется врач. Он стоит между двумя охранниками, на скуле — длинная свежая ссадина, мятый костюм в пыли, улыбка вызывающая. Обращается он персонально к Дяде Гене, остальных просто игнорируя:
— Послушайте, а в чем, собственно, проблема? Нет человека — нет проблемы, а? Так почему бы вам не попробовать ее просто…
Ромик за спиной Дяди Гены меняет позу, техник бросает на него быстрый взгляд. У Дяди Гены каменеет лицо.
Врач заходится от смеха, бьет себя по коленкам.
— Пробовали! Зуб даю — пробовали!.. А не вышло!.. не вышло, да?! Не идет на контакт, ха! Правильно, очень даже логично с военной точки зрения — если не удалось сразу пристукнуть, можно попытаться и поговорить. А не вышло — тут и про меня можно вспомнить. Я что, я — человек маленький… Можно приласкать, можно выгнать, можно обратно позвать — прибегу, обрадованный. А вот хрен! Не буду. Ясно?
Опять смеется. Дядя Гена морщится, камера переходит на обесцвеченную Воображалу — та сидит, по-прежнему равнодушно глядя прямо перед собой.
Звук удара. Смех превращается в судорожный вдох. Очень спокойный и очень отчетливый голос врача:
— А вот это вообще не довод. Даже с военной… точки зрения…
Дядя Гена морщится опять. Короткая возня. Хрип. Звук упавшего тела…
Смена кадра
Перед огромным зеркалом горят две такие же огромные свечи. Тягучая, вязкая музыка, между свечами смутно проступает отражение танцующей Анаис. Она теперь совсем не похожа на ребенка — фигурка вполне сформировавшаяся, — но и взрослую женщину она тоже напоминает мало. Скорее она похожа на девушку-эльфа, или ожившую статуэтку из черного стекла, изящную и хрупкую. Черная ткань, тугая и лаково блестящая, затягивает ее от лодыжек до подбородка, открыты лишь кисти рук и лицо. Лицо невозмутимо, улыбка чуть снисходительна. Руки словно живут своею собственной жизнью, они похожи на бледных ночных бабочек с яркими алыми точками по краям крыльев. У них свой танец, сложный и ритмичный.
Одна из свечей падает и гаснет. Анаис продолжает танцевать. В полумраке почти незаметна ее улыбка…
Смена кадра
Лязг замка. Воображала поднимает голову (глаза бледно-желтые, клыки, оскал).
Двое в пятнистой форме швыряют на середину камеры врача. Рубашка на нем порвана и в пятнах, пиджака нет, лицо разбито в кровь. Он остается лежать почти неподвижно, только вяло переворачивается на живот и утыкается лицом в пол. От его пальцев и щеки на белом пластике пола остаются красноватые полосы.
Некоторое время Воображала просто смотрит на него, продолжая скалиться. Потом осторожно приближается, опускается на корточки.
Вид у нее озадаченный.
Ретроспекция 13
Разъяренный Конти влетает в комнату, потрясая флажками морского семафора (сигнал «следую своим курсом»):
— Твои выходки?!!
Воображала (ей лет десять, приблизительно как и в больнице) хмыкает смущенно, говорит с фальшивым энтузиазмом:
— Красивые, правда?!
— Ты мне идиоткой-то не прикидывайся, — говорит Конти уже спокойнее, — Зачем?
Воображала тут же переходит в атаку:
— А чего она сама?!!! Первая!!!
— Чего — «Она сама»?! — Конти снова начинает закипать, повышает голос, — Да ее не видно и не слышно! Она вообще по сравнению с тобой…
— А чего она молчит!!!
Пауза.
Конти открывает было рот, но ничего не говорит. Воображала бухтит потихоньку, осторожно выдержав приличествующую случаю паузу:
— Тоже мне… партизанка! Дочь Монтесумы!.. с ней, как с человеком, а она… — продолжает уже обычным голосом, смущенно и обиженно-обвиняюще одновременно, — Я думала — она обидится. А ей, представляешь, понравилось!..
Смена кадра
Бункер. Сидя на корточках, Воображала вытирает кровь с лица врача мокрым платком. Врач открывает мутные глаза, некоторое время тупо смотрит прямо перед собой. Потом взгляд его приобретает осмысленность, глаза расширяются от ужаса. Он отшатывается от Воображалы, что-то бессвязно бормочет, быстро и неразборчиво. Воображала тянется положить ему на лоб мокрый платок, он отталкивает ее руку, уворачивается. Задыхается, хватает ртом воздух. Закрыв глаза и собравшись с силами, говорит отчетливо, словно выталкивая слово по слогам:
— Не-на-ви-жу…
Смена кадра
Дежурная часть.
Открытая дверь в кабинет. В кабинете Михалыч запирает сейф, сгребает из ящиков стола в портфель разную канцелярскую мелочь. Выражение лица философское (как у кота, получившего от хозяев взбучку за то, что задавил амбарную крысу в хозяйской спальне). Проходящая по коридору секретарша задерживается у двери кабинета, спрашивает, качнув жиденькой папочкой:
— Это то, что не забрали гебешники. В архив?
Михалыч смотрит на легонькую папочку тяжелым взглядом. Вытягивает губы трубочкой. Говорит задумчиво:
— Оставь пока.
Подошедший лейтенант садится на край стола, пальцем толкает положенную секретаршей папку, говорит осуждающе:
— Тебе что, больше всех надо?
Михалыч молча жмет плечом. Сует папочку в портфель, защелкивает замок.
— Дело закрыто. Да и вообще — не наше оно, это дело-то, гебешники забрали, сам же видел…
Михалыч не отвечает, молча запирает стол, оглядывает кабинет — не забыл ли чего. Лейтенант смотрит насмешливо:
— Эх, старшина, старшина, никогда ты не будешь майором! Мало тебе, что на месяц к патрулю прикрепили, так ты опять нарываешься!..
Ретроспекция 14
Конти (осторожно, но с легкой угрозой):
— Опять твои штучки?
Воображала (ей лет девять) кричит скандально, с надрывом:
— Да при чем тут я?!! Я ее и пальцем!!! Да я вообще!!!..
— Ладно-ладно, знаю я, как ты можешь «вообще»… — Конти мнется, потом все-таки спрашивает, хотя и неуверенно:
— А… тогда… Ну, в самом начале… когда ты ее делала… Ты не могла случайно, а? Нет, не нарочно, что ты, просто, понимаешь, случайно что-нибудь не так соединила… Человеческий организм — штука сложная, а ты-то тогда еще совсем мелкая была…
Воображала с видом оскорбленного достоинства скрещивает руки на груди. Молчит. Через гордо выпяченную грудь натянуто три флажка — знака семафорной азбуки «следую своим курсом».
По холлу проходит Анаис (ей три года). Походка уверенная, на ребенка она уже похожа мало — черные чулочки, алые туфельки, черные нитяные перчатки. Очень аккуратное каре, ярко-алые губы. На Конти и Воображалу, которые, замолчав, провожают ее взглядом, она не обращает внимания. Но на верху лестницы оборачивается через плечо. Быстрый взгляд, легкая полуулыбочка.
— Можно подумать, — бормочет Воображала, обращаясь к стенке, но так, чтобы Конти слышал, — Что мне здесь доверяют! Можно подумать, что со мной здесь хоть кто-нибудь считается! Можно подумать, что мое мнение для вас хоть что-нибудь, да значит!.. Можно подумать, я не знаю, что тут некоторые таскали кое-кого по врачам уже полгода, а меня спросить соизволили только сейчас!..
Флажки трепещут на натянутом от плеча к плечу тросике, словно от ветра. Конти вздыхает, говорит виновато:
— Ладно бы — просто не говорила… Но ведь она и не плачет даже!.. дети всегда кричат, пока маленькие, это нормально. Им так положено. А она — ни разу…
Воображала непримиримо вскидывает подбородок:
— Ну, один-то раз она орала, и еще как! Так что ничего я тогда не напортачила, все по высшему классу, до последней клеточки!..
— Но почему же она тогда молчит?!
Воображала фыркает. Чеканит с ехидной мстительностью:
— Вот у нее и спроси!..
Смена кадра
Лежащий на белом полу врач судорожно вздыхает, разлепляет спекшиеся губы, не открывая глаз, просит:
— Пить…
В кадре появляется кружка-поильник с длинным носиком. Врач пьет, давясь и задыхаясь. Вода течет по лицу, глаза закрыты.
— Который час?
— Утро… У меня нет часов, но, если хочешь точнее, я могу посмотреть у кого-нибудь из охраны…
Договорить Воображала не успевает — врач широко распахивает глаза, лицо его искажается:
— Ты?!! — Глаза безумные. Отшатывается, вжимаясь в стену, бормочет быстро, в полубреду, — Ты, конечно, конечно же ты, кто же еще, Боже мой, за что, за что, что я тебе такого сделал?!!..
Начинает биться затылком о белый пластик стены, на губах — розовая пена.
Воображала тоже испугана, отодвигается к противоположной стене, втягивает голову в плечи, моргает. Кружка с грохотом летит на середину камеры, с таким же грохотом распахивается дверь. Двое в пятнистых комбинезонах грубо хватают врача, тащат к двери. Он начинает выть, выворачивается у них в руках, его волокут. От двери, извернувшись, он кричит Воображале:
— За что?! За что?! Что я тебе сделал?!..
На своих конвоиров он не смотрит, только на нее — с ужасом и отчаяньем, пока за ним не захлопывается дверь.
Все происходит так быстро, что по полу еще продолжает катиться брошенная кружка — очень громко в наступившей тишине…
Смена кадра
Анаис идет по бункеру.
Она очень изящна и, как обычно, совершенно безвозрастна. Во всяком случае, выглядит никак не на свои пять-шесть лет. Черные колготки-сеточки, алые туфли на высоком каблуке, алая юбка, узкая и длинная, с разрезом и широким черным поясом. Черно-алая шляпа, вуалетка, перчатки. Все — подчеркнуто новенькое, броское, кукольное. По бункеру идет не ребенок, и даже не маленькая женщина — живая кукла, красивая, изящная, ненастоящая…
Ее не замечают.
Не замечают, но предупредительно расступаются и словно бы нечаянно открывают перед ней нужные двери.
В том числе — и тяжелую металлическую дверь в белую камеру, где стены усилены несколькими слоями бронестекла…
Воображала сидит у стены, свесив голову на грудь. То ли спит, то ли просто устала. Врач лежит лицом вниз на полу в полуметре от нее. Анаис аккуратно обходит его, останавливается рядом с Воображалой.
Воображала поднимает голову.
Некоторое время они молча смотрят друг на друга, Анаис — с легкой снисходительной улыбочкой, Воображала — с быстро меняющимся выражением, безучастным поначалу, потом раздраженным, озадаченным, и, наконец, радостно-удивленным.
Анаис чуть заметно дергает подбородком в сторону двери.
Проблеском — корабль. Шум моря. Белые паруса наливаются розовым, потом — алым. Секундная задержка камеры — на центральной мачте три флажка морского семафора. «Следую своим курсом».
Наложение изображений и шумов. Сквозь накатывающие волны видно, как Воображала встает, делает шаг вперед. На алом шелке парусов проступают аккуратные черные горошины, цвет парусины постепенно светлеет, вызолачивается до ярко-оранжевого. Плеск воды о деревянный борт, шум прибоя накатывает. Стихает.
Легкий стон. Шорох.
Воображала оборачивается, обрывая сдвоенность изображений и шум моря. Опускается на корточки. В ее руках — кружка-поилка.
Врач неподвижен, дышит ровно.
Воображала растерянно оглядывается, но Анаис в камере уже нет. В бронестекле мигают отблески разноцветных огоньков с пульта. Сначала они красно-оранжевые. Потом красные гаснут…
Ретроспекция 15
Мигают красно-оранжевые огоньки разложенной на полу новогодней гирлянды. В углу — большая пушистая елка, уже частично украшенная. У стола — Конти с ложки кормит Анаис — той года полтора. Черные ползунки в алый горох, кружевной слюнявчик, невозмутимое личико с очень яркими губами и черной обводкой вокруг узких глаз.
Конти говорит вполголоса:
— Когда же ты у нас заговоришь-то, а?..
Воображала (ей около восьми, голубая бескозырка, оранжевая тельняшка), сидя на полу, нанизывает на шнурок морские сигнальные флажки. Растягивает низку:
— А это?
Конти бросает косой взгляд:
— Ложусь в дрейф, жду инспекцию, дайте подтверждение, приветствую.
Воображала, закатив глаза, падает на пол, хохочет.
— В дрейф ложусь, я сказал, а не на пол!..
Воображала хохочет еще сильнее, дрыгает ногами. Хватает горсть флажков, швыряет пару вверх, ловит их ногами на ребро:
— А это?
Конти косится:
— Если перевернуть — то это будет Новембер Чарли. Ну, что-то типа СОС.
Воображала делает большие глаза, сочувственно кивает головой и говорит торжественно:
— Бульк!.. А если так?
Взлетевшая охапка флажков рассыпается, зависает, вытягивается, как по ниточке. Обматывает елку длинной спиралью. Конти критически осматривает флажки. Хмыкает:
— Бред собачий. Хотя вон там — предупреждение о неприятеле, пожелание счастливого пути и отказ навигационной системы. А слева — заверение о неприкосновенности вызываемых на переговоры парламентеров, усиление срочности и карантин.
— А так?..
Вторая спираль закручивает вокруг елки оставшиеся флажки, три шнура повисают на стенах. Оставленная без присмотра Анаис достает из коробки с украшениями самый большой шар — алый в черную крапинку.
— А, не знаю… — Конти собирает со стола детскую посуду на поднос, сдвигает в угол, — Займись лучше шариками, пока Анаис их все не раскокала.
Воображала оборачивается, смотрит сначала на Конти, потом на Анаис, говорит со странной интонацией:
— Она — не раскокает…
Конти не замечает напряжения в ее голосе — он занят откатыванием стола к стенке. Пожимает плечами:
— Но ведь и не повесит же!
Воображала фыркает многозначительно:
— Это уж точно!..
Звучащее в ее голосе неодобрение замечает даже Конти, оборачивается:
— Как тебе не стыдно! Она же маленькая!..
— Маленькая, маленькая… Всегда она у тебя маленькая! А я, между прочим, в ее годы…
— Не бухти! Ты в ее годы тоже была не подарок!
— Все равно не честно! Пускай бы день она маленькая, день я, а то все время она, да она… — продолжая ворчать, ногой сдвигает оставшиеся на полу флажки. Их три.
— А это?
Конти смотрит. Трет подбородок. Кривится:
— А-а-а… Следую своим курсом… Мерзкий сигнал. Приказ ни во что не вмешиваться.
— Почему?
— Почему, почему…Потому что приказ! Следую, понимаешь ли, своим курсом согласно полученному приказу, и плевать, тонет там кто-то или нет… Не приставайте с глупостями, курсом своим я следую…
Некоторое время Воображала думает.
— В смысле — до лампочки? Пошли все на фиг?
— В смысле…
— Но ведь это подло, разве нет? Их потом накажут, да? Ну, если поймают, конечно!
— В том-то и штука, что не накажут. Приказ у них был такой — курсом своим следовать, ни на что не отвлекаясь.
— Даже если вдруг пожар?
— Даже.
— А люди погибнут?..
— А приказ?
— А… это, ну… совесть все-таки?..
— Но ведь все-таки — приказ?..
— Нехорошо как-то…
— А вот это, кстати, еще вопрос… Может быть — и не хорошо. А, может быть — очень даже хорошо. Что хмыкаешь — думаешь, вру? Думаешь — так не бывает. Ладно, представь — идет человек, торопится очень. Яма с водой, в яме котенок тонет. Кричит, надрывается, маленький такой, жалко… А человек мимо проходит, спешит очень. Это как — хорошо?
— Нет, конечно!
— А человек — врач. Он спешит к больному ребенку. Мальчик маленький, глупый, пуговицу проглотил, задыхается… Врач остановился, спас котенка. А мальчик задохнулся. Хорошо?..
— Нет, конечно…
— Так все-таки — хорошо то, что он мимо прошел, приказ имея, и котенка не спас, или плохо?
Воображала думает долго. Хмурится, молчит, теребит нижнюю губу, упрямо вертит головой. Наконец — авторитетно и безапелляционно:
— Надо было успеть! И котенка, и мальчика. Он же врач! Значит, должен был все успеть!.. — и зевает широко, с хрустом.
— Э, да ты спишь уже!
— Неправда! Вовсе я даже и не сплю!
— А пора бы! Времени-то сколько, знаешь?
— Новый Год же!..
— Новый Год завтра. А сегодня еще старый. Так что — шагом марш!.. Эй, заодно и Анаис забери!
Воображала мстительно фыркает, над ее головой взмывают три флажка. Гудит, имитируя пароходную сирену, крутит плечами, словно гребными колесами, «чух-чух-чухает» и уходит, ехидно скалясь через плечо.
Анаис с шариком в руке смотрит на Воображалу и Конти с легкой снисходительной улыбочкой — так взрослые смотрят на расшалившихся детей…
Смена кадра
Белый пол камеры. Врач открывает глаза, и тут же снова их зажмуривает, сморщившись:
— О, Господи!..
Говорит со стоном:
— Опять ты. Конечно. Я так надеялся, что это просто обыкновенный тривиальный ночной кошмар… А это — ты…
Воображала сидит в углу, лицо равнодушное, глаза сощурены. Замечает спокойно:
— Ребра я срастила, руку — тоже. Синяки сами пройдут, лень возиться было…
Врач смеется, приподнимаясь у стены:
— Конечно! Ну да, конечно!.. Как же иначе… А я-то, дурак… Теперь понятно… — он осторожно вертит головой, проверяет подвижность рук. Бросает на Воображалу острый неприязненный взгляд, — Ничего личного, правда? Справедливость торжествует…
— Мог бы, между прочим, и спасибо сказать. Как вежливый человек.
Врач усмехается хищно, и нет в этой его усмешке ничего веселого.
— Дело не во мне, правда? Я-то все голову ломал — за что же ты меня так… А тебе ведь все равно было, правда? Я просто вовремя под руку подвернулся… Вот и все. Не повезло. Бывает… Я понимаю. Скверное настроение — оно у всех бывает… Только не все могут срывать его на тех, кто случайно подвернулся под руку. Тем более — так.
— Я не совсем понимаю.
— Все ты понимаешь… Уверен, ты никогда не обрывала мухам крылышки. И кошек за хвост не дергала. Ведь не дергала же, да?.. Ну, ответь, не дергала?!
— Не дергала. При чем тут кошки?
— Пра-авильно! Тебе это просто неинтересно было, правда? Да и зачем самой пачкаться, когда можно чужими руками? Да и что такое — кошки!? Мелко это. Гораздо интереснее, когда с людьми… И, главное чтобы — чужими руками…
— Не понимаю…
— Брось!.. Я-то, дурак, думал, что это ты меня ненавидишь. Меня, лично, понимаешь? Все понять пытался — за что… А дело не во мне, все гораздо проще. Объект не важен, важно действие. Не я, — так тот же Ромик… Или Алик. Впрочем, Алика ты уже… Хоро-ошие игрушки, правда?! Только ломаются быстро… Но это не важно. Их же полно вокруг, подобных игрушек-то!.. Но раз уж я подвернулся — можно и меня. Игрушка как игрушка, ничем не хуже других. Вполне можно пожалеть… Но сначала… Для того, чтобы игрушку можно было ПОЖАЛЕТЬ, ее ведь нужно предварительно подготовить… Чего ее жалеть, если она новенькая да целенькая? Если ей не больно?.. Поэтому-то и нужно сначала ее… подготовить.
Вздрагивает, щурится. Улыбка жесткая. Говорит размеренно и отчетливо, словно припечатывая каждую букву:
— Довести до нужной кондиции…
Смеется сквозь зубы, морщится. Воображала неподвижна. Смотрит на него широко открытыми глазами. Она слегка напугана, но больше — растеряна. У врача глаза дикие, лицо постоянно дергается, голос быстрый, сбивчивый, снижающийся до свистящего шепота:
— Эти идиоты думают, что сами тебя сюда загнали!.. Нет, представляешь, они ведь всерьез так думают! Смешно, правда?.. Но я-то знаю… — хихикает, грозит Воображале пальцем. Внезапно становится очень серьезным, почти злым, — И ты — ты тоже знаешь…
У Воображалы странное выражение лица. Кажется, что она готова заплакать.
— Не понимаю…
Врач хихикает, подмигивает, грозит пальцем. С неожиданной яростью:
— Врешь!!! Все-е ты понимаешь! Ты, и только ты. С самого начала. Я не сразу понял… А они — так и вообще ничего не поняли… И не поймут уже! Но я… Я слишком хорошо тебя знаю. Слишком долго был рядом… Слишком много видел.
Внезапно успокаивается, переворачивается на спину, смотрит в белый потолок. Говорит задумчиво и грустно:
— Иногда я думаю — а есть ли я вообще? В смысле — на самом деле? Сам по себе… Или я — тоже просто тобою выдуман?..
Интроспекция
Конти стоит у притолоки. Поза напряженная, лицо застывшее, непреклонное. Смотрит в сторону. Голос сухой и жесткий. Говорит ровно и тихо:
— Пусть я чего-то не понимаю. Можно же объяснить. Я всегда старался играть по правилам. Во всяком случае — до тех пор, пока существует такая возможность… Я и сейчас постараюсь. Но для этого я должен знать, в чем заключаются эти самые правила. Это же вполне логично, правда?
Я никогда ничего не просил. Ни у кого. Тем более — у тебя. Забавно. Знаешь, мне было бы понятнее, если бы у тебя были бы ко мне какие-то требования… Претензии там… обиды. Но ведь — нет, правда?.. Ни обид, ни претензий, ни требований… Ни-че-го. Ладно… Давай поговорим как деловые люди. Бартер. Ченч. Услуга за услугу. А?..
Молчание.
— Не хочешь. Ну что ж. Хорошо. Правильно, конечно. О нам с тобою чем можно говорить… Какие там сделки, о чем это я!.. Смешно даже. Это я так, пытался сохранить честь мундира. Да и что я бы мог тебе предложить?.. Глупо. Знаешь, одно время я ведь пытался найти для тебя что-нибудь важное, ценное, действительно нужное, заинтересовать… Долго пытался. А теперь уже поздно.
Я проиграл. Слышишь? Какие там сделки на равных… Мы никогда не были на равных. Мне нечего тебе предложить. Я сдаюсь. Ты сильнее, я признаю это. Глупо не признавать…
Но — на правах более сильного — помоги!..
Я просто… прошу. Прошу о помощи. Ты можешь, я знаю… Хочешь, чтобы я унижался? Я буду унижаться. Только скажи — чего ты от меня хочешь?! Скажи хоть что-нибудь!!!
НУ ЧТО ТЫ МОЛЧИШЬ!!?..
Смена кадра
— Неправда! — голос Воображалы звонок и напряжен, — Это все неправда! Ему нечего было бояться! Это же просто смешно! Я никогда не делала ничего, что могло бы дать повод!.. Ничего из того, что Вы тут наговорили! Бояться меня?!! Смешно!..
Она даже переходит на «Вы», то ли от растерянности, то ли обороняясь. Врач тоже на взводе, его голос напряжен не менее и так и сочится ядом:
— О, какая милая оговорочка — это твое «Я»! «Я не делала», «Я не давала», «Я ни разу»!.. Только ведь тебе-то и не надо — самой. Самой — это же не так интересно, правда? — врач хихикает, качает головой, — Это же просто с ума сойти! Жить рядом с таким каждый день, годы и годы… И деться-то некуда… И ведь он же наверняка — все понял… Давно уже понял… Я — и то догадался… А сколько я тебя знаю?.. без году неделя. А он — всю твою жизнь… Конечно же, понял. Но — деться-то некуда! Смешно!.. — Смех переходит в стон. Врач трясет головой, бормочет быстро с закрытыми глазами, — С утра до вечера, и так без конца, рядом, рядом, о, Боже, тут поневоле уйдешь в работу, больше-то некуда ему было уйти, бедному… — длинный всхлип. Лицо у Воображалы похоже на белую маску в ореоле ярко-рыжих волос. Черты неподвижны, живут лишь глаза. Врач смеется, качая головой, продолжает, все убыстряя темп:
— Очень удобно, а что? Всегда чужими руками, пай-девочка, умница-скромница… и, разумеется — только из самых лучших побуждений, как же мы о побуждениях-то забыли, всегда исключительно только из самых лучших, и никак иначе! Иначе нельзя, всегда только из самых лучших и благородных, тебе же со стороны всегда виднее, что для любого из нас лучше, со стороны всякому виднее, вот только что он может, этот самый всякий, кроме как дать совет, которому все равно никто и никогда… — раскрывает глаза. Говорит внезапно охрипшим голосом, — Но ты… Ты-то у нас — не всякий. Ты — можешь… Ты — можешь ВСЕ…
Пауза.
Лицо Воображалы — белая маска на фоне белой стены. Смех врача:
— Еще бы ему не бояться! До судорог! До обморока! До щенячьего визгу!!!
— Неправда!!! — Воображала почти кричит. Лязг замка. Врач давится смехом, мотает головой в сторону открывающейся двери:
— Вот опять ты затыкаешь мне рот! И — что характерно — опять не сама. Опять ЧУЖИМИ РУКАМИ! Правда — штука малоприятная, да?
— Это — неправда!
— У тебя двойка по физике, — неожиданно меняет тему врач, поднимаясь навстречу охранникам почти удовлетворенно (те напоминают декорации или роботов из плохого спектакля, ничего личного или примечательного, движения подчеркнуто автоматические и замедленные). В голосе врача больше нет насмешки, он резок и презрителен: — Почему?
Рыжие волосы, белая маска. Упрямый подбородок, растерянный взгляд:
— Ты сам знаешь…
— Не знаю!
Глаза сощурены, подбородок вперед:
— Потому что физик — сволочь!
— Неправда!!! Это просто тебе взбрело в голову, что он — сволочь!!! Я знал его раньше, до того, как ты с чего-то там навоображала себе…
Лязг захлопнувшейся двери.
Тишина.
— Это неправда… — говорит Воображала очень тихо. Упрямый подбородок дрожит.
Смена кадра
Крупным планом — лицо Фрау Марты, произносящей с мрачноватой гордостью:
— Бросил, конечно. Куда он денется? Она же это всерьез вообразила…
Нарастающий звон.
Смена кадра
Сквозь звон — умоляющий голос Конти (он сидит на корточках перед шестилетней Воображалой, лицо несчастное):
— Тори, что ты говоришь… она не такая…
Воображала топает ножкой. Капризно-обвиняющий голосок маленькой принцессы:
— Почему ты мне не веришь?! Я же лучше знаю!..
Звон нарастает до нестерпимости. Звук лопнувшей струны.
Смена кадра
Белая камера. Очень тихий и какой-то шелестящий голос Воображалы:
— Это неправда…
Ее почти не слышно. На неподвижном лице очень странно лежат тени, делая его похожим на сшитую из мелких лоскутков маску. Углы рта и глаз у этой маски слегка перекошены…
Смена кадра
Лязг захлопывающейся двери. Врач падает на пол лицом вниз (картина уже привычная).
Осторожно подтягивает под себя руки, приподнимается. Подтягивает ноги, садится. Поза осторожно-напряженная. Поводит плечами, поворачивает голову, прогибает позвоночник. Усмехается невесело:
— А ты, похоже, учишься держать себя в руках. Что ж, спасибо и на этом…
На Воображалу он не смотрит.
Она сидит в углу, очень прямая, лицо застывшее, глаза сощурены. Голос ровный, отрешенный, скорее задумчивый, чем угрожающий:
— Всегда пожалуйста. Ладно, допустим. Убедил. Я — извращенка. Моральный урод. Садистка, любящая живые игрушки. А ты — мое очередное развлечение… Забавные у меня, однако, вкусы… Ну, ладно, допустим, на безрыбье и пони — носорог. Но что мешает мне в таком случае сделать свое развлечение более приятным? Ведь стоит мне только захотеть — и ты станешь куда более интересной игрушкой. Благодарной за помощь. Глядящей на меня с немым обожанием. Готовой умереть за возможность целовать пыль у моих ног… Я что-то забыла? Не важно. Ведь так оно и будет, стоит мне только захотеть… И самое смешное в этом то, что ты ведь действительно будешь мне благодарен. Искренне. От всего сердца. Так что же мешает мне просто напросто захотеть?..
Лицо врача твердеет. Он смотрит на нее, не мигая. Пауза быстрая, еле заметная, Воображала первая отводит взгляд. Врач продолжает на нее смотреть, все больше мрачнея. Говорит очень тихо:
— Это — чушь. Ты и сама отлично знаешь — что. А то, другое… Не смей, слышишь?!
Воображала вздрагивает, оборачивается (испуганно, словно ее поймали на чем-то смутно нехорошем). Врач продолжает очень тихо, почти шепотом, и непонятно, чего больше за его яростью — ненависти или страха:
— Ты ведь знаешь, чего они хотят, правда? Знаешь… Еще бы ты не знала… Ты ведь у нас ВСЕ знаешь… Не смей, слышишь!!!..
Смена кадра
— Да не собираюсь я!!! — Воображала кричит, разворачивается, ударяя себя кулаками по бедрам, — Что я, не понимаю, что ли?!!
Врач тоже кричит:
— О, ты всегда все понимаешь! И всегда действуешь только из лучших побуждений! И что в итоге?!! Ты вокруг посмотри! Нет, ты уж посмотри!!! Бред собачий! Оживший кошмар! Глупо оживлять кошмары! Но еще глупее идти у них на поводу! Не смей, слышишь!?
— Убирайся к дьяволу!!!
Голос Воображалы срывается на визг. Лязг двери. Врач замолкает, глядя на вошедших с выражением скорее торжествующим, чем испуганным. Воображала напрягается, выцветает. Вошедшие растерянно топчутся на пороге, переглядываются неуверенно. Уходят. Воображала смотрит на дверь, врач — в угол.
Воображала передергивает плечами, засовывает руки в карманы. Бросает на врача виноватый взгляд, говорит жалобно:
— Но я же вовсе не так хотела, вообще-то… Я просто хотела немного помочь, раз уж… Просто помочь.
Врач смотрит в угол. Голос усталый:
— Знаю.
Пауза.
Врач смотрит на дверь.
— Помнишь того умиравшего туберкулезника? Из Калача… ты должна его помнить, он же был одним из первых…
Некоторое время Воображала молчит. Потом поднимает голову:
— Корейца? У него еще была такая смешная машина…
Она замолкает, смотрит на врача с пробудившимся интересом. Почти с надеждой. Но врач тоже молчит, и надежда гаснет. Остается лишь интерес, да и тот слабеет, смазываясь по мере того, как длится пауза. Лицо Воображалы вытягивается. Врач молчит. Она запрокидывает голову, сглатывает:
— Он… умер?
— Нет, он не умер…
Пауза на этот раз не такая длинная.
— Он оказался из «Желтых пантер»… Помнишь, в сентябре, взрыв на вокзале…
На этот раз пауза дольше. В ярком неоновом свете запрокинутое лицо Воображалы кажется голубоватым.
— Были… другие?
— Не знаю. А ты можешь поручиться, что не было?..
Пауза.
Воображала медленно склоняет голову на плечо. Поднимает брови:
— Я могу сделать так, что все всё забудут… — она делает общий жест, — Все и всё… Или нет, даже лучше — я могу сделать так, словно этого всего вообще не было! — ее лицо загорается, — Это не так уж и сложно. Если постараться — я могу все исправить. Не только то, что сейчас, но и раньше. Никто ничего не вспомнит. Не было ничего! Просто газетная утка! Нет, правда, я смогу!.. Или вдруг вспомню, что тогда, в Калаче, просто проехала мимо той больницы, не стала ничего… я ведь не хотела поначалу там останавливаться… Или во мне вдруг взыграла расовая нетерпимость. Да. Именно. А потом я проверю. Каждого из тех, кому помогала. А потом…
— А потом кто-нибудь из тех детишек, благополучно избежав напалмового дождя на том вокзале, прирежет соседа по парте. Или вырастет — и станет киллером.
— Я прослежу за ними. За всеми. И этого не случится.
— За всеми?
— Конечно! — Воображала встает, закидывает руки за голову. Лицо почти счастливое. Врач остается сидеть, смотрит снизу вверх:
— А если у кого-то из них случится свой автобус с динамитом?.. Вернее, благодаря тебе, не случится… За этими, новыми, ты тоже проследишь?..
— Обязательно! — Воображала расцветает. Улыбается даже. Прохаживается по камере, заинтересованно осматривает стены, и особенно — дверь. Что-то насвистывает.
— На это жизни не хватит.
Довольное фырканье. Со значением:
— У меня — хватит!..
— И даже если…
Улыбка Воображалы становится еще шире и удовлетворенней:
— И-мен-но!..
— Ты станешь тюремщиком.
Фырканье. Насвистывание воздушной кукурузы.
— Ты посадишь их в клетку. Ты лишишь их свободы выбора.
— Ничего подобного. Я просто не дам им убивать.
— Только — убивать?.. А все остальное — пожалуйста?..
— Для начала — и этого хватит. А там — посмотрим.
— А решать, что им можно, а что нельзя, будешь, конечно же, ты?
— Конечно. Раз уж они все такие идиоты, что не могут сами понять!
— А тебе не кажется, что ты берешь на себя слишком много?
— Ну почему же?.. Как раз нормально. Пусть живут долго и счастливо, а я о них позабочусь.
— М-да… Я-то думал — передо мной всего лишь кандидат в новые фюреры, а ты повыше метишь… Не страшно? Одного такого, между прочим, распяли…
— Ну, это было в мрачном средневековье. А в Древней Греции, к примеру, их всех очень даже уважали!
— На Олимп захотелось?
Пауза.
Воображала смотрит на врача с удивлением и даже каким-то оттенком жалости:
— А у тебя что — есть на примете какая-нибудь другая кандидатура на эту роль? Более подходящая?..
Пауза.
Воображала задумчиво теребит прядку волос, поднимает брови, улыбается, склоняет голову к плечу:
— В конце концов, кто-то же должен… И если не я, — то кто?.. А тот, кто там сейчас… Ты что, будешь утверждать, что он идеально справляется со своими обязанностями?.. Чушь! У меня получится лучше…
Врач скалится, голос его полон убийственного сарказма:
— Всеобщая любовь и братство под крылышком святой Виктории?!
Воображала невозмутимо пожимает плечом:
— Почему бы и нет?
— Тебя будут бояться. И ненавидеть.
Пауза. Медленно, с намеком:
— Стоит только мне захотеть — и не будут…
Пауза.
— Все — не будут? без исключения?
Воображала перестает улыбаться. Скрещивает руки на груди.
— Без.
— Но кое-кто будет помнить, что боялся и ненавидел. С этим — как?
Воображала мрачнеет. Повторяет упрямо:
— Захочу — и не будет.
— Правильно… Зачем такое помнить? Пусть помнит только про любовь. И почитание. И не забывает время от времени поклоняться…
Воображала фыркает, улыбка кривая, но упрямая. Мотает головой, с вызовом вздергивает подбородок:
— А что?! Неплохая, между прочим, идея!..
Морщится, меняет тон:
_ Да нет, конечно, ты прав. Так не годится… Но можно же что-то придумать. Всегда можно что-то придумать… Ну, например, буду богом по совместительству, чем плохо? И никто ничего не будет знать! Вы оба все первыми забудете, я уж постараюсь. Ты еще будешь приходить к нам на выходные, трепать меня по щеке на правах старого друга семьи и угощать мороженым. А я больше не буду дурой. Вы ничего и не заподозрите, я буду очень осторожной. Буду учиться в школе. Как все. Такая игра, наверное, будет даже интереснее, чем в открытую…
— Но ты-то сама… Ты-то сама будешь помнить.
Пауза.
На этот раз — очень долгая.
Воображала вбирает в грудь воздуха, собираясь что-то возразить. Но ничего не говорит. Выдыхает осторожно. Улыбка высокомерно-неприязненная. Врач продолжает — тихо, почти шепотом:
— Будешь помнить. Все время. Помнить. Что все это — ложь. Фальшивка. И выхода нет. Можно только притворяться и дальше. Все время — притворяться. Потому что иначе — уже никак… А всемогущество — оно ведь палка о двух…
Воображала с перекошенным лицом швыряет в стенку непонятно откуда взявшуюся огромную фарфоровую вазу, разноцветные осколки ярким фонтаном разлетаются по камере:
— Да знаю я!!!
Сникнув, садится у стены на пол.
— Ладно. Убедил. Хотя и жалко — когда еще такая роль подвернется!.. Ай, ладно, мороки тоже до фига, была халва…
Ерзает, устраиваясь поудобнее (локти на коленках, подбородок на переплетенных пальцах). Пол камеры теперь разграфлен на черно-белые клетки, врач в черном сидит в одном углу, Воображала — в другом, оранжевой футболки не видно за белыми коленками. Рядом с ней громко тикают шахматные часы. Воображала протягивает руку, нажимает на кнопку. Тиканье смолкает.
— Но ведь я могу и иначе. Проще. Гораздо проще. Как с тем автобусом… Думаешь — так труднее?.. Не-а! Это память исправлять труднее, а в жизни все проще. Даже напрягаться особо не надо, факторы там всякие учитывать… Совсем. Р-раз! И — всё. Никаких кошмаров. Никаких богов. Я и сама забуду всю эту чушь, которую тут навоображала…
Пауза. Осторожный вопрос врача:
— Думаешь — это поможет?
— …
— Ну вот видишь… Ты и сама понимаешь. Пара месяцев. Или лет. И все повторится. Ты не сможешь быть такою, как все. Ты даже притвориться такою не сможешь. Ты — другая…
Проблеском
Тонкий детский голосок:
— Папа, фрау Марта похожа на женщину-вамп, правда?
Сидящий за обеденным столом Конти роняет вилку прежде, чем начать с преувеличенным усердием всматриваться.
Проблеском
— Привет!
Стоящего у лестницы Конти ударяет между лопаток яркий мяч. Он оборачивается, вздрагивает, роняет портфель:
— П-привет…
Лицо растерянное.
Проблеском
Конти стоит у дверей дома. Тянется к ручке. Замирает. Опускает руку. Садится на ступеньки, закрывает лицо руками…
Проблеском:
— Папа, у меня для тебя сюрприз!!!
Конти дергается, глаза расширены, лицо затравленное.
Смена кадра
Громкое тиканье шахматных часов (во весь экран). Голос врача (в нем явственно звучит усталая и почти привычная неприязнь):
— Вот поэтому-то ты до сих пор и здесь… Все остальное — чушь собачья. Отговорки. Да ты и сама это понимаешь, ты же не идиотка. Раз до сих пор здесь — значит, понимаешь… Просто ведешь себя, как страус — сунула голову в песок и думаешь, что все в порядке и никто-то тебя, бедную, не видит…
Голос его гулко отдается от серых стен, сложенных из крупных камней. Высоко под потолком — узкое окошко с допотопной решеткой, сквозь нее виден кусочек неба. Камера теперь напоминает глубокий каменный мешок или башню, в ней нет ни углов, ни дверей. Голос Воображалы, такой же усталый и неприязненный:
— Заткнись…
Беззвучный смех врача, больше похожий на кашель. Крик чайки за окном.
— Голову в песок — это очень удобно… Но так нельзя — всю жизнь. Не получится… И когда-нибудь ты наберешься смелости признаться самой себе, что убегать тебе больше некуда. И вот тогда… Именно тогда. Ты станешь работать на них. На свой оживший кошмар. Как они и хотели. Но тольк — уже вполне осознанно…
За узким окошком — пронзительно-яркое небо. Шум прибоя. Яркое солнце.
Мельком — две лежащие валетом фигурки глубоко на дне мрачного каменного колодца. Гулкий звук падающих капель. Голос Воображалы:
— Я могу вернуть все к самому началу…
Шум прибоя. Ослепительный блеск прямо в камеру, потом тускнеет, дробится, рассыпается брызгами на мокрых камнях.
Смена кадра
Трехлетняя Воображала играет на песке туфелькой. Голос китайца:
— Выбор за вами… Но в любом случае вам придется постараться…
Крик чайки. Она — как белый штрих на ярко-синем небе. На узкой полоске ярко-синего неба в крупную клетку, окаймленной серым камнем.
Смена кадра
Изнутри башня залита оранжевым предзакатным светом, окошко теперь кажется почти черным. Голос врача:
— … И все повторится опять… — оранжевый свет. Чернильные тени. Воображала сидит у каменной стены, голова запрокинута. Пальцы автоматически перебирают оранжевый песок.
— … Может быть, уже повторялось… И не раз…
Звук падающих капель. Чайки больше не видно в окне. Небо светлеет, выцветает, становится неотличимым от стен. Оранжевый свет тускнеет. Голос Воображалы тих и бесцветен:
— Но ведь я могу и не притворяться. Я могу все… В том числе — и на самом деле стать такою, как все.
Звук лопнувшей струны. Трехлетняя девочка на ярком песке резко вскидывает голову.
Смена кадра
Салон движущейся автомашины. Маленькая девочка в светлых колготках и красном платьице стоит на коленках на заднем сиденье. За стеклом — ночная дорога. Идет дождь. Раздраженный голос женщины:
— Сядь нормально, кому сказали?!
Девочка оборачивается, послушно устраивается на сидении. Она мало похожа на Воображалу — слишком спокойная, слишком послушная, слишком аккуратная, слишком темный оттенок платья и волос. В салоне полутемно, лица не разобрать.
Машина останавливается.
— Ну что ты там копаешься?
Хлопает дверца, раздраженный голос женщины слегка приглушен. Девочка послушно сползает с сиденья, оказывается на свету. Поднимает голову.
У нее лицо Анаис.
И неизменная еле заметная улыбочка…
Камера надвигается на стекло машины, залитое дождем.
Смена кадра
Залитое дождем оконное стекло. Вид на ночной город немного сверху, где-то с уровня пятого-шестого этажа. Огни реклам, строчка фонарей вдоль дороги. Очень тихо.
Смена ракурса
У огромного, во всю стену, окна стоит Воображала. Смотрит на мокрую улицу. Ее лицо смутно отражается в темном стекле. Огни расплываются, сливаясь, отражение становится отчетливым. Оно еле заметно улыбается, не размыкая губ. Ярко-рыжие волосы гаснут, не отражаясь, светлое личико в стекле обрамлено сгустившейся темнотой. Стекло затуманивается — Воображала дышит на него, протягивая по черному фону непрозрачную серую полосу. Пальцем рисует на ней три флажка в ряд. Серая полоска быстро тает, исчезая, нарисованные флажки пропадают, вновь проступает отражение. Что-то в нем не так, но рассмотреть отчетливо не удается — Воображала снова дышит на стекло, и на туманной полоске проявляются нарисованные ранее флажки. Воображала стирает их рукой. Говорит вполголоса:
— Чушь собачья… — оборачивается, взметнув складками оранжевого мушкетерского плаща. В церемонном поклоне снимает оранжевую шляпу с голубым пером:
— Туше, монсьёр!
Фыркает весело. Глаза сияют, улыбка безмятежна. Словно и не было военного бункера и серой башни.
— Конечно, не смогу! Ты прав. Даже представить такое… — она передергивает плечами, опять фыркает, выпячивает грудь, — Я ведь исключительная. Неповторимая. Единственная. На том стоим и стоять будем! И никогда я не смогу перестать в это верить, хоть тресни. Это же в природе человеческой, в свою исключительность верить. Так что ничего не попишешь…
Она щелкает пальцами, и на них оранжево-синим цветком распускается неоновая бабочка. Шевелит светящимися крылышками, переливается. Словно огонек свечи. Воображала смотрит на нее задумчиво, голос ее меняется:
— Когда-то я пыталась объяснить им, что я тут не при чем… Они ведь и сами всё это могут. Все. Без исключения. Стоит им только поверить. По-настоящему поверить. Но они не верили. Теперь я думаю — хорошо, что они мне не верили. Представляешь, что было бы, если бы они все-таки смогли?.. Только они одни, пока другие не могут… Ж-жуть… Нет, все-таки хорошо, что у военных так туго с верой, даже с верой в себя самих. И, потом, если уж делать ТАК — то всем, без исключения. Иначе просто нечестно получится… Но такого не бывает, все сразу вообще не смогут в такое поверить, вот ведь в чем штука! Н-да, проблемка, однако…
— Собираешься облагодетельствовать всех и сразу? — врач лежит на боку, подперев голову рукой, смотрит на Воображалу снизу вверх, голос ехиден, — Так сказать, наследить в Истории. Ню-ню…
Воображала смотрит на бабочку. Бабочка машет крылышками — ритмично, словно танцуя. На лице у Воображалы мерцают сине-оранжевые отблески.
Врач громко щелкает пальцами. Воображала вздрагивает, вскидывает брови:
— А?.. — вид у нее растерянный и немного смущенный, взгляд непонимающий. Моргает, решительно протягивает врачу бабочку:
— Держи!
С пальцев ее срывается сине-оранжевый лучик, ударяет в поднятую врачом ладонь. На ладони сжимается в шарик, расправляет сине-оранжевые крылья. Врач смотрит на бабочку недоуменно, потом переводит взгляд туда, где только что стояла Воображала. Лицо его меняется — он ПОНИМАЕТ. Вскакивает, бросается к окну.
У окна никого нет, рамы открыты, ночной город внизу — нерезко и мутно, словно его затягивает туманом. Рванувшийся к окну врач с размаху налетает на стену — окно не настоящее, оно просто нарисовано на белой штукатурке. Слой побелки с рисунком осыпается, оплывает, его затягивает серым бетоном стены. Врач стоит лицом к сплошной бетонной стене…
Лязг открывающейся двери. Врач, почти не шевелясь, слегка поворачивает голову в сторону вошедших. У него странное выражение лица — торжествующее и презрительное одновременно и вместе с тем — устало-удовлетворенное лицо человека, успешно выполнившего очень трудную и ответственную работу…
Смена кадра
Лагерь джайверов. Пустырь на краю города — массив высотных домов где-то у горизонта, какие-то полуфабричные строения чуть ближе. Степь. Выгоревшая трава. Пасмурный вечер.
Два мотоцикла стоят с зажженными фарами. Один лежит на боку, еще один наклонен под странным углом. Фары затянуты разноцветными пленками. Лучи их образуют световую сетку. Два мотоцикла кружат внутри этой сетки в медленном танце. Джайверы лежат вповалку прямо на пыльной траве. Кто-то толкает ногой один из стоящих мотоциклов, тот заваливается набок, вертится колесо с закрепленной на нем фарой, оранжевый луч вклинивается в световую сетку, рвет ее, закручивая водоворотом. Ритм бесшумного движения мотоциклов убыстряется, стремительно мелькают оранжевые блики. В темнеющем небе словно продолжение лучей разгорается сине-оранжевая полоса. Кто-то взвизгивает.
Смена кадра
Воображала идет по ночному городу. Дождь. В мокром асфальте отражаются неоновые иероглифы реклам. Набережная какой-то реки, мокрые деревья, ажурные решетки. За мостом и домами, мельком — Эйфелева башня. На мосту — широкие стеклянные двери, не ведущие никуда — за ними все тот же мост.
Воображала легко толкает их, входит в ярко освещенное пустое помещение станции канатной дороги (шум дождя и гул машин обрываются). Поскрипывая, движется трос, увозя в темноту пустые сиденья. Воображала садится в одно из них, ее медленно выносит за пределы освещенного помещения, в темноту и дождь. Вернее — уже снег. Небо впереди светлеет, очерчивая контуры гор. Светает. Воображала закрывает глаза, встречный ветер ерошит ее светлые волосы, треплет флажки над тросом.
Три флажка морской сигнализации…
Смена кадра
Настенный коврик с котенком. Над ковриком — три флажка. Звонит телефон. Он красный, блестящий, стоит на маленьком столике. К столику подвинут стул, Анаис стоит коленками на сиденье и, высунув от сосредоточенности кончик языка, ставит на красный пластик аккуратные черные горошины тушью для ресниц.
Телефон звонит.
Смена кадра
Воображала, закрыв глаза, прислонилась к стеклянной будке таксофона. Лицо бледное, мокрые волосы прилипли ко лбу, на макушке медленно тают снежинки. В трубке слышны гудки. Скрипит трос.
Воображала тянется повесить трубку. Хлопает дверь. Быстрые шаги. Конти хватает телефонную трубку — красную, в черные крапинки:
— Алло! Тори?! Тори, это ты?!..
В трубке гудки. Анаис еле заметно улыбается, рисуя алые горошины на черном столике…
Смена кадра
Воображала идет по стеклянному коридору. Зеркальные плиты под ногами. Анфилады распахивающихся дверей. Ветер.
Вереница разных залов — то заполненных музыкой и людьми, то пустых и гулких. Обрывки маршей, вальсов, рока, четкий стук метронома; индийская свадьба, новогодний маскарад, торжественная месса в католическом соборе, салон взлетающего самолета. Каждый раз за каждой новой открытой дверью — что-то новое.
Воображала идет по проходу между пассажирскими креслами самолета. Открывает дверь в кабину пилотов.
За дверью — кабинет. Книжные полки. Окно. Маленький телефонный столик — черный, в крупный алый горох. Рядом с ним, лицом к окну — человек. Он оборачивается, делает шаг:
— Тори?!!
Ветром захлопывает дверь. До нее — шага три. Конти распахивает ее почти в то же самое мгновенье.
За ней — коридор второго этажа.
С высокого подоконника за ним, улыбаясь, наблюдает Анаис.
Смена кадра
С шипеньем открываются двери автобуса. Воображала выходит на мост. Ветер. Ночь. На мосту — никого. Воображала останавливается у перил. Ветер треплет запутавшуюся в ее волосах нитку серпантина. Мимо с грохотом и воплями проносятся джайверы, на переднем мотоцикле стоит полуголая девчонка с бенгальским факелом, огонь в ее руках рассыпает искры длинным сине-оранжевым шлейфом, словно комета. Отблесками окрашивает Воображалу, она идет на свет.
Фейерверки взрываются вокруг нее. Секунду спустя — уже где-то далеко внизу. Она идет по поребрику крыши.
По странным черным ступенькам.
По стеклянным плитам, под которыми — пустота.
Черная пустота. И — редкие огоньки. Стекло еле заметно мерцает под ее ногами. Камера отступает — Воображала идет по гребню огромной стеклянной волны, та чуть изгибается, закругляясь книзу. В ее черную глянцевую поверхность беспорядочно вкраплены холодные огоньки, словно кто-то бросил горсть светлячков на полупрозрачный холм.
Серебристое свечение впереди приближается, оказывается аркой, затянутой влажно мерцающей пленкой. Воображала рвет ее с неприятным треском.
И оказывается на мосту…
Смена кадра
Врач, прихрамывая, входит в кабинет Дяди Гены. В кабинете полно людей, они сгрудились вокруг стола с терминалом. За пультом — человек в следящем шлеме. Щиток закрыт, руки вслепую мечутся по клавишам. На двенадцати экранах дробится изображение.
Ромик подобострастно пододвигает к столу кресло, попутно вытряхнув из него сонного типа в белом халате. Врач садится, закуривает. Наливает себе кофе в чью-то чашку. Дядя Гена толкает ему пепельницу. Смотрит при этом с сомнением. Особенное сомнение у него вызывает сине-оранжевая бабочка, что нацеплена у врача на отворот нагрудного кармашка.
Бабочка обычная, пластиковая, раскрашенная ядовитыми, почти светящимися анилиновыми красками (на пару секунд бабочка — крупным планом, четко видно, что это просто пластмасса). Дядя Гена с большим трудом отрывает от нее взгляд.
Начинает осторожно:
— Я не хотел бы ставить под сомнение…
Врач морщится. Смотрит со снисходительным отвращением:
— Поверьте специалисту хотя бы на этот раз.
Бабочка на отвороте его кармашка шевелит пластмассовыми крыльями — медленно, ритмично, завораживающе. То свернет, то развернет…
Смена кадра
Огромная неоновая бабочка на плече Воображалы медленно шевелит крыльями — то свернет, то развернет. Воображала стоит на мосту, спиной к перилам. Ветер треплет обрывок плаката: «Превратим Луна-сити…» Откуда-то ударяет луч света, скользит вдоль моста, упирается в Воображалу. Воображала легко вспрыгивает на перила, ослепительно улыбается в пустоту. Начинает танец.
Глаза ее закрыты. С точностью до последнего жеста она повторяет то, что уже делала здесь раньше. Но на этот раз без музыки, без соперника, без зрителей.
Ночь.
Тишина.
На мосту никого.
Только луч следует за ней, как приклеенный. Скоро к нему присоединяется второй — немного под углом. Потом с противоположной стороны третий, беря ее в перекрестье.
Тишина. Только легкие хлопки резиновых подошв о бетон. Темп убыстряется. Теперь лучи не успевают за ее скоростью, то один, то другой отстают, беспомощно шарят по небу, пытаясь поймать стремительную фигурку…
Наконец, теряют совсем.
Чей-то голос:
— Куда она делась? Ведь вот буквально только что…
Рев моторов. Фары шарят по пустому мосту.
Смена кадра
Воображала медленно идет, загребая ногами серую пыль. Пыль взлетает неторопливо, и оседает медленными фонтанчиками, словно серебряная пудра в глицерине. Над головой Воображалы — сплюснутый серебристый диск в полнеба — Земля в три четверти.
Воображала подходит к краю серой скалы и шагает в черноту.
Там — далеко-далеко, — светится желтая полоса…
Смена кадра
— Сигнал опять потерян!
— Ничего, пусть побегает, — в голосе врача — интонации опытного рыболова, вовремя стравливающего леску.
Смена кадра
Воображала подходит к странной стене, вдоль которой тянется не менее странная горизонтальная лента чего-то типа желтой светящейся пластмассы (больше всего напоминает длинную лавку шириной метра в два и в ладонь толщиной, о длине сказать что-либо трудно — в обе стороны лавка эта тянется далеко за пределы кадра). К стене эта лента прикреплена не вплотную, хотя и повторяет ее изогнутость — их разделяет еще метра два.
Воображала садится на ленту (та чуть вздрагивает, слегка покачиваясь), отталкивается ногой. Лента скользит вдоль стены, все быстрее, быстрее… Воображала ложится на спину, болтая ногой.
Камера отдаляется, становится ярче заметен изгиб стены. Изгибается и лента, словно обод вокруг цилиндра. Даже не цилиндра — огромной сферы. Сфера удаляется, стремительно уменьшаясь, приобретает легко узнаваемые очертания светящегося шарика со знаменитыми кольцами…
Треск помех. Голоса:
— … Опять поймали пеленг… но…
— Что — но?
— Сигнал запаздывает.
— На сколько?
— Послушайте, это может оказаться бредом, но расстояние до Сатурна как раз…
Вой сирены.
Смена кадра
День. Пасмурно. Воображала стоит у перил моста. Мимо идут люди. Ветер треплет ее волосы. Машины, сутолока, шум. Голос врача:
— Где она сейчас?
— На мосту.
— Ну вот видите!..
— И все-таки я бы…
— Послушайте, у меня образование. И опыт. Куда она денется?
— А если она обо всем догадается?
— Ну и что? В том-то и прелесть, что это ничего не изменит. Я ей не врал, понимаете?.. Вижу, что не понимаете… А вот она — понимает. Потому что она — честная девочка. И честность ценит, — смех, — Честность — это ведь стра-ашное оружие!..
— Но она звонила домой!
— Звонила. И все-таки — она на мосту. Честность — штука непобедимая! Жаль, что вы этого так и не поняли. Никакая лапша с масонами и звездными войнами не сравнится по убойной силе…
Смена кадра
Серый пасмурный день. Мост. Голос врача:
— Я ведь прав, а, Тори?
Воображала вскидывает голову, улыбается криво. Щелкает пальцами, вырубая звук (затухающий голос: «О, смотрите, кажется, начинается!..»).
Встряхивается. Встает на перилах. (Вокруг — снова ночь, откуда-то сверху в нее упирается луч прожектора). Усиленный мегафоном голос, металлический звон:
— Смертельный номер! Только один раз! Только сегодня! Любое ваше желание! Фирма гарантирует!..
На ее руках расцветает яркая неоновая бабочка — многолепестковый цветок.
Воображала делает несколько шагов по перилам к группе остановившихся прохожих. Интонации прирожденного рекламного агента:
— Есть же в этом мире что-то, чего бы вам хотелось? Самое безумное, самое несбыточное! Вот Вы, чего бы вы хотели больше всего на свете? Да, да, именно Вы! Денег? Славы? Счастья?..
Чуть наклоняется, мажет рукой сразу нескольких человек по плечам. Сине-оранжевый огонечек пятнает каждого. Еще несколько шагов.
— Чего ты хочешь? Быть красивой? Держи! — яркий мячик летит в быстро увеличивающуюся толпу, — Удачи? Держи! Таланта?.. Карьеры?.. Любви?..
Смена кадра
Суета у экранов. Шум. Опрокинутые стулья.
— Что там происходит?!!..
Смена кадра
Отдаленный вой сирены. Дежурная часть. Лейтенант с тоскливым выражением лица прижимает к уху телефонную трубку. Время от времени вставляет: «Разумеется… Конечно… Обязательно…», не забывая при этом усердно кивать. Наконец осторожно кладет трубку на аппарат.
— Что сказали? — спрашивает Михалыч лениво и многозначительно. Он сидит на диванчике в позе достаточно расслабленной, чтобы сразу становилось понятно — начальник здесь сегодня не он, а он — так, погулять вышел.
Лейтенант мнет пальцами худое лицо.
— Ладно, ладно, за мной бутылка. Сказали усилить наблюдение, но ни в коем случае не вмешиваться. При этом — не допустить никаких эксцессов… Интересно — как они это себе представляют?..
Закуривает. Добавляет уже спокойнее:
— Радиации, вроде, нет… И то хлеб.
— А что есть?
— Есть большие неприятности. Это, во всяком случае, точно. По приблизительным подсчетам — там тысяч сорок. И еще прибывают. Да, а вот это тебя может заинтересовать — там странное свечение. Типа радуги. Только двухцветной. С трех раз угадаешь — что это за цвета?..
— С одного. Спорим?
Лейтенант смеется:
— Хватит с тебя и одной бутылки!
Михалыч тоже улыбается, вздыхает, встает, поправляя ремень.
— Ладно, я пошел.
— Куда?
Михалыч смотрит на лейтенанта страдальчески.
— Искать горшок с золотом.
Смена кадра
Воображала бежит по перилам, к ней тянутся сотни рук. Шум, крики, суета. Разноцветные мячики кружатся вокруг нее стремительным вихрем, рассыпаются брызгами. Ее голос, звонкий и отдающий металлом, перекрывает общий гам:
— … Гонщиком? Пожалуйста! Никогда не болеть? В чем проблема! Пожалуйста! Держите! И ты! И ты! Хватит всем! Только сегодня! Любое желание! Только ваше! Только сами! Я не стану за вас!.. Никому, ничего! Только — сами! То, чего Вы хотите! Именно Вы! Только Вы! Только — сами!..
Шум отдаляется. Издалека и немного сверху — вид на запруженный толпой мост. Автомобильная пробка, прожектора, крохотная светлая фигурка в ореоле мельтешащих огоньков.
Все это — через стекло машины. Скрип тормозов, шипение рации, голос Михалыча:
— База, это шестнадцатый. Я у моста. И мой тебе совет — пришли тральщиков…
Раскрываются дверцы уазика (шум становится сильнее). Голос Михалыча:
— Пошли, глянем, что ли…
Смена кадра
Сине-оранжевый мячик ударяет прямо в камеру, растекается по экрану полупрозрачной лужицей. Ромик трогает экран пальцем, отдергивает руку. Кончики пальцев его продолжают слабо светиться. Врач задумчиво фыркает:
— М-да, весьма впечатляюще!..
Дядя Гена молчит.
Ромик рассматривает свои светящиеся пальцы, проводит ими по камуфляжной форме, оставляя на ней яркие полоски. Полоски ширятся, потихоньку расползаясь по ткани.
— А что? — говорит врач, — Тоже метод, ничуть не хуже… Эффектнее зато. Она же у нас любит дешевые эффекты. Хотя я, признаться, думал, что она выберет что-либо более традиционное. Не зря же ее все время возвращало на мост… Но можно и так. Красиво. К тому же, с ее-то живучестью, что-либо более традиционное могло бы и не сработать…
— Идиот.
Пауза.
— Что?..
— Идиот, — повторяет Дядя Гена очень тихо, — Неужели ты не понимаешь, чего НА САМОМ ДЕЛЕ хотят большинство из них? Во всяком случае — молодежь… Ты посмотри на них! Белые джинсы стали последним писком моды. Рыжие парики… Даже школьную форму вынуждены были сделать оранжево-голубой — они не носят иных цветов… Они все хотят быть похожими. Даже этот!!!
Резкий обвиняющий жест в сторону Ромика. Теперь все в комнате смотрят на него. Смотрят по-разному.
Ромик вздрагивает, улыбается смущенно и виновато, пожимает плечами. Вокруг него — легкое сине-оранжевое свечение, волосы явственно отдают рыжиной.
— Мы имели одну проблему, а теперь их будут сотни! Да что сотни — тысячи! Сотни тысяч!..
На заднем плане кто-то другой воровато прижимает руку к экрану…
Смена кадра
На мосту — всеобщее безумие. Люди напирают, лезут на перила. Голос Воображалы больше не слышен, хотя она еще мечется где-то там, в самом центре, откуда взлетают фонтанами разноцветные яркие мячики.
Ребята в камуфляже тщетно пытаются организовать оцепление, их сминают, отбрасывают друг от друга.
Группа джайверов наблюдает за всем этим с безопасного расстояния, передавая по кругу сигаретку.
— Пари? — лениво говорит один из них. Остальные переглядываются, разбивают с улыбочками. С улыбочками же смотрят, как он подымает свой мотоцикл, что-то проверяет, подкручивает, надвигает шлем, салютует, полуобернувшись. На полном газу слетает с верхней набережной к самому мосту.
Там не проехать — дорога плотно забита машинами, настолько плотно, что их крыши выглядят отсюда узорным мозаичным панно. Но джайвер и не пытается проехать, как все нормальные люди. Используя наклонный газончик вместо трамплина, он с разгона прыгает через пробку. Слегка задевает по крыше задним колесом четвертую машину, по пятой скользит уже основательно, но от падения удерживается, а с крыши шестой выруливает прямо на широкие перила моста…
Смена кадра
Еще дальше, еще выше. Хорошо видны заинтересованно наблюдающие за мостом джайверы, сам мост — мельче и хуже. На крыше девятиэтажного здания стоит Анаис, смотрит вниз, улыбается.
Смена кадра
Верхняя набережная. Джайверы. Рев мотора обрывается. Визг тормозов.
— Спасибо, — говорит Воображала, сползая с заднего сиденья. Она вымотанная и серая, даже голос бесцветен, — Чего ты хочешь?..
Один из джайверов, вздыхая, снимает шлем. Подставляет лоб. Трюкач отвешивает ему щелбан, остальные улыбаются одобрительно.
Трюкач оборачивается к Воображале:
— Садись, поехали.
Та качает головой. Упрямо:
— Денег?..
Кто-то смеется. Кто-то комментирует: «Прокурит… Не, потеряет!.. Какая разница…»
— Ну ладно, я устала и плохо соображаю… Но чего-то же вы все-таки хотите?
Теперь уже смеются все. Трюкач повторяет настойчивее:
— Поехали.
Воображала морщится, щурится презрительно, говорит сквозь зубы:
— Ладно, допустим… отрицатели чертовы. Карьера и места в правительстве вам, допустим, до фени… — голос ее почти равнодушен, — Нобелевская премия и лауреатства там всякие тоже до… этой самой… А если — машины? И не какие-нибудь, а от «Хиккори»?.. А?
Смех стихает. Воображала смотрит вниз. Уазик с мигалкой неторопливо выруливает на пандус. Неторопливо, но верно.
Оборачивается, торопясь:
— Значит, машины… Машины, которые не ломаются, которым не нужен бензин, послушные, быстрые, нет, не просто быстрые — самые быстрые, непопадающие в аварии… Короче, сами придумаете. Сами… За вас я тоже не буду. Только… Один подарок. Просто так. На память. Чтобы здоровье не портили. Короче — вечный кайф и безо всяких последствий, лучше, чем от любой дури, как там у классика — возможность торчать, избежав укола… Если сами захотите, конечно… Опять — если только сами… Ладно!
Яркая вспышка. Все вокруг заливает ослепительный свет. Вскинутые руки, зажмуренные глаза. Визг тормозов. Голос Михалыча:
— Да выруби ты фары, нет ее здесь, не видишь, что ли?!
Хлопает дверца, свет снижается до нормального уровня. Растерянный молодой басок:
— Но ведь только что была…
Совсем еще молоденький водитель вылезает из уазика, моргает растерянно. Фары пригашены, и в их свете светлые волосы его светятся оранжевым.
Джайверы потихоньку начинают шевелиться. Трюкач стаскивает шлем, смеется чему-то, трясет головой. Волосы у него ярко рыжие.
Высокий тип, усатый и рыжий, машет какой-то корочкой, выходя наперерез:
— Ребята, вы просто не туда заехали. Здесь все под контролем…
Михалыч садится в машину. Выключает пищащую рацию. Закуривает. Спрашивает тихо:
— Вовчик, почему ты рыжий?..
Юный водитель смеется. Говорит неожиданно свободно, со знакомыми интонациями:
— Михалыч, родной, ты бы лучше на себя посмотрел!..
Смена кадра
Рыжий Ромик хохочет в углу кабинета. Дядя Гена скользит по нему полным отвращения взглядом. Потом поворачивается к Врачу. Смотрит задумчиво, почти ласково…
Смена кадра
Анаис идет по перилам моста. Улыбаясь, разглядывает оставленный толпой мусор. На мосту никого.
По пустой лестнице с набережной медленно скатывается сине-оранжевый мячик. Замирает на ступеньке — как раз под ее ногами. Мимо не торопясь, почти вальсируя, проезжают джайверы. Балдежные улыбки, закрытые глаза, рыжие волосы.
Анаис смотрит им вслед, улыбаясь.
Смена кадра
Михалыч кладет трубку на рычаг.
— Ну это уж, знаете ли, перебор… Левик, свяжись с аварийкой. Опять на мосту черте что… Если я правильно понял — нам кран понадобится… И бригада грузчиков.
Смена кадра
Джайверы отдыхают на смотровой площадке верхнего парка. Мотоциклы составлены в центре, двое сидят на корточках рядом с ними, что-то привинчивают. Остальные полусидят-полулежат прямо на траве по всей площадке. Девчонка лет десяти плавно изгибается на газоне под одной ей слышную музыку. Под ее ногами снуют в траве светящиеся переливчатые насекомые размером с ладонь. Трюкач сидит на верхушке фонарного столба и старательно пилит провод тупым ножом. На его руках перчатки разного цвета — синяя и оранжевая. В небе длинной вереницей проплывают розовые слоны, ритмично размахивая ушами. Асфальт тоже розовый, но более холодного оттенка, ближе к сиреневому. Трава на газоне фиолетовая. Джайверы перехихикиваются — на нормальный смех у них уже нет сил.
Далеко-далеко внизу, над мостом, кружит вертолет, мигают фонари ремонтников, надсаживающий рев моторов, чей-то далекий голос:
— … Если только взрывать, да и то не ручаюсь…
На перилах моста — трехметровый прозрачный кокон, что-то вроде прозрачной телефонной будки-стакана или гнезда регулировщика на перекрестке. Внутри смутно угадывается что-то яркое…
— Что там? — лениво интересуется кто-то из джайверов.
— А, туфта!.. Не отвлекайте. — Трюкач снова начинает теребить провод. Летят искры.
— Жа-а-а-аль… — тянет танцующая девчонка, — Это было… забавно…
Снимает с волос резинку. Вешает на руль мотоцикла. На резинке — два шарика, синий и оранжевый. Рядом кто-то кладет на сиденье сине-оранжевый шлем. Другой шлем ловким броском насаживают на фару. Кто-то смеется.
— Думаю, это тоже будет забавно!
— Ага. Но и было неплохо.
— Да ладно…
— Но ведь — жалко…
— Жалко у шмёлки и пчелика знаешь где?..
Чей-то двухцветный шлем катится по траве, останавливается у колеса оранжевым боком кверху.
— А сработает?..
— С Лошариком же сработало, так пуркуа бы и не па и тут?..
— Но там же мультик был! А тут в реале.
— А в чем разница?
Смех.
— Поехали!
Сверху падает провод, искря и извиваясь. Задевает один из мотоциклов. Разряд, взрыв, мгновенное зеленое пламя.
Джайверы окружают кучу искореженного металла. Вернее — то, что находится рядом с нею. Удивленный голос:
— Надо же!? Получилось…
— Я же говорил — будет забавно!
— А все-таки жалко…
— Эй, смотрите-ка! — голос встревоженный. Мгновенная пауза. Интонации меняются.
— Получилось, да не совсем…
Рядом с почерневшим и перекореженным металлом на траве, вернувшей себе первоначальный зеленый цвет, лежит скульптура из хорошо промороженного снега. Узнаваемая грива волос и йтболка с выпуклым кантом, только все это белое, искристое и очень холодное даже на вид.
Чей-то длинный свист.
— Может, энергии мало?
— Да при чем тут энергия…
— Может, мы плохо хотели? Эй, послушайте — кто-нибудь отвлекся, что ли? Не бойся, убью небольно!
— Так. Без паники. Основное получилось, с остальным справимся…
— А точно — все собрали?..
Пауза. Склонившиеся было над скульптурой джайверы распрямляются, переглядываются.
— КТО ЗАЖИЛИЛ?!!!
— Трюка-а-а-ач?!!
Трюкач по-прежнему сидит на столбе. Его перчатки ярко выделяются на фоне почерневшего старого дерева. Джафверы смотрят на него снизу вверз, посмеиваются.
— Ай-яй-яй, Трюкач, и как тебе только не ай-яй-яй?!
— Колись, жадина!!!
Кто-то фыркает, и почти сразу смех охватывает всю группу.
— Злые вы! — говорит Трюкач, соскальзывая в траву и стаскивая с рук сине-оранжевые перчатки, — Уйду я от вас!..
Теперь ржут в голос. Кто-то поднимает провод, слизывает с него длинную искру. Протягивает сидящей на обугленной траве Воображале. Она все еще очень бледная, но больше не напоминает скульптуру из снега. Просто очень бледная девочка в выцветшей футболке и застиранных до белизны джинсах. Она берет провод и екоторое время сидит, жадно глотая электричество — и постепенно обретая прежний цвет. Затем выплевывает кончик провода. Спрашивает жестко:
— Ну?
Танцевавшая на газоне девочка спускается перед ней на корточки, спрашивает заискивающе:
— Воображала, кажи класс, а?..
— Ч-то?..
По зеленой траве к самым ногам Воображалы подкатывается мяч — черно-белый, футбольный. Воображала смотрит на него, все еще не понимая.
— Ты классно тогда с мячом. И на мосту, помнишь? — Нам Трюкач рассказывал…
Трюкач делает с места сальто, дрыгая в воздухе босыми ногами. Падает. Сообщает проникновенно:
— Это было что-то!..
У него щербатая улыбка.
Проблеском — мальчишка на заборе, под мостом… Юный наркоман на бордюре у черной машины… Пацаны во дворе с баскетбольной площадкой, один оборачивается… Нахальные глаза, щербатая улыбка, одно лицо…
— Я хочу научиться так же! — решительно завершает девочка и подталкивает мяч.
— Не понимаю… — Воображала растерянно трясет головой, — Но вы же могли и сами. Без меня. Увас все было…
— А-а… — девочка презрительно морщится, — Это не то. Туфта. Не настоящее, понимаешь?
— И не так забавно! — произносит кто-то очень серьезно.
Воображала округляет глаза. Моргает. Говорит неуверенно:
— Ну, если так… То, наверное…
— Так научишь, да?..
— Злые вы…
Общий смех.
Смена кадра
Внизу — шум моторов, скрежет.
— Если рвать — то только вместе с мостом…
Голос Михалыча с тоской:
— Не на проезжей же части-то, в конце-то концов… Кому мешает?.. Ну и оставьте вы ее в покое! Пусть стоит! Что, других забот, что ли, нету?!
По толстому стеклу проскакивают сине-оранжевые искры. Из глубины загадочно улыбается застывшая в фарфоровой неподвижности Анаис…
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg

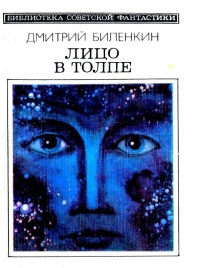
Комментарии к книге «Воображала», Светлана Альбертовна Тулина
Всего 0 комментариев