Иду по Арбату, и ноги мои топчут желтое месиво. Третий день продолжается снегопад, покрывая улицы и переулки во всей Москве скрипучим блестящим ковром. По щиколотку уже. Как его ни вычищай — все равно нападает еще больше.
Столица опустела. Люди разъехались кто куда: в теплые страны, в штаты, в Швейцарию, к пирамидам Египта и стенам Китая, на кипры, ямайки, гавайи и бермуды. К черту на самые кончики рогов. В места, о которых они, так или иначе, слышали, про которые рассказывали всякие байки по телевизору. Правильно: давайте-ка, разгромите все Дисней-Ленды! Там и пригреетесь, когда раж пройдет.
Две девчонки лет десяти важно протопали мимо, разглядывая какие-то косметические фитюльки, которых было у них в сумочках столько, что хватило б для раскраски порядочного аэродрома.
— Я точно знаю, мой лак лучше. Потому что у тебя наклейка зеленая, а у меня красная, — заявила одна.
— Ну и что, — подумав, ответила ее подруга. — Зато у меня пудры больше.
Надо же, а у нас, в первопрестольной, быстро народ успокоился; я-то думал, еще недельку-другую будут с ошалелыми глазами носиться по городу — ан нет. Почти все смылись. Набили брюхо и сразу зрелищ захотелось…
В башке чертовщина какая-то вертится! Точнее, пока еще в голове.
Почему-то кажется, что я затравленное чудовище, оставленное подыхать в желтом лабиринте. Его стены — это дома, пол — асфальт, а свод — стальная плоскость зимнего неба, и все покрыто желтоватой пыльцой. Ходы запутанны и приводят к тупикам или черным озерам с бело-синими лебедями, которые сделаны из тетрадных листочков в линеечку. Они не выгибают свои треугольные шеи, исписанные, с фиолетовыми подтеками от растаявших букв, они плывут, гонимые ветром, утыкаются в берег, кружатся в небольшом вихре. И снова, и снова — до тех пор, пока черную рябь озер не стянет янтарная накипь льда. Тогда бумажные лебеди застывают и превращаются в жалкие фигурки из денежных купюр, то тут, то там торчащие изо льда. На сморщенных от холода шеях уже нет синих букв, на них только цифры и номера…
— Что, буржуй, кончилась пора хлебосольная! Некем теперь командовать?! — Прохожий злобно плюнул мне на пальто и сыто ухмыльнулся.
Я отвернулся. Пусть. Он ненависть свою природную вымещает, как волк, понявший, что у охотников внезапно кончились патроны и его никто не пристрелит. Он — зверь, яростно рвущий багровые флажки, которых он прежде так боялся…
С неба сыплются желтые, отливающие металлическим блеском снежинки; они с еле слышным звоном стукаются друг о друга и уверенно падают на землю. Цвет этого снега не ярко-желтый, а мягкий, какой-то даже… обтекаемый, что ли, но если крохотную снежинку двумя пальцами взять, чтобы рассмотреть поближе, то можно заметить, что она ничем не отличается от обычной, только вся переливается и не тает. А еще она такая тоненькая и острая, что об нее можно запросто порезаться.
Это мутно-червонное крошево под ногами хрустело и разлеталось. Высотные дома, магазины, пустые проезжие части — все было покрыто им. Красиво и жутко. Желтая Москва.
А вот, рядом с мертвыми лебедями, расщелина в скале. Это вход в грот. Забегаешь, чтобы спрятаться и переждать зиму, а там уже народу видимо-невидимо! Снуют туда-сюда. И вдруг кто-то тебя толкает, и ты, оступившись, начинаешь скатываться вниз по широкому тоннелю. Откуда ни возьмись под ногами оказываются ступеньки — пытаешься удержать равновесие на них и тоже не можешь. Они двигаются. Падаешь лицом вниз, и жесткие подошвы наступают на твою спину; особенно больно бывает, когда пройдет женщина, и каблучок-иголочка проколет кожу и мышцы. Больно! Встрепенешься, попробуешь встать и ужаснешься дрожанию земли. Там, в глубине, здоровенные сороконожки бегают по извилистым проходам, приостанавливаясь возле скоплений людей, которые десятками взбираются на подземных монстров верхом и путешествуют, читая по пути газеты. Интересно смотреть, как эти люди в гротах и пещерах проходят один сквозь другого, даже не замечая суеты… И вдруг подземелье начинает заполняться желто-зеленой вонючей жижей. Сороконожки встают на дыбы, давя паникующих людей и разлетаясь на отдельные звенья! Все бегут, карабкаются вверх, чтобы не захлебнуться…
Какая-то старуха столкнулась со мной и, отшатнувшись, долго вглядывалась в мое лицо.
— О, нехристь! — вдруг закричала она, пятясь назад. — Нет в тебе Бога, нет! Это ты все устроил, ты! Верно, и небеса купил, чтоб конец света раньше времени затеять! Нехристь! Дьявол…
Старуха, крестясь и проклиная меня, заковыляла прочь в янтарную мгу.
Ну вот, еще и дьяволом обозвали в придачу ко всему. Обидно то, что когда находишься в стороне от толпы: ниже нее, выше, впереди или отстаешь, — когда люди о тебе ничего не знают, то почему-то обязательно приписывают плохие качества. Всегда пририсовывают остроконечный хвост и копыта. Только они судят, глядя из своих маленьких коробочек, жалуясь на судьбу, которая неблагосклонна к ним, они клеймят, не имея и тени сомнения в своем ограниченном умишке. С их низкой точки зрения, пожалуй, и нельзя представлять мир иначе. Но они судят и рубят, не удосуживаясь приподняться хотя бы на цыпочки, чтобы взглянуть чуть дальше соседского затылка.
Я поймал на лету затейливую золотую снежинку и, держа ее на раскрытой ладони, любовался искусством неизвестного мастера, наделившего свое произведение филигранной неповторимостью. Долго любовался — она же все равно никогда не растает…
Как они все зашевелились, как задвигались в то утро!
Когда стал падать этот необычный снег, как резво бросились они его собирать! Кто-то с ведрами выбежал, кто-то с сумками-чемоданами всякими, некоторые с дипломатами. Они набивали все емкости, что только могли отыскать вокруг себя: от трехлитровых банок до чугунных ванн, — они таскали снег пригоршнями в квартиры, пробовали его на зуб, ограждали веревочками свои территории, они дрались за спорные кусочки, старались своровать как можно больше у соседа, сгрести поближе к себе, отхватить побольше, побольше… А что уж тут говорить о водителях бульдозеров! Этим бравым засаленным ребятам в тот день завидовали лучшие люди страны. Бульдозеристы, энергично ворочая рычагами, нагребали к своим подъездам такие исполинские кучи снега, что работай они так усердно каждую зиму, городские улицы блестели бы, словно зеркало.
Стоило только начаться этому диковинному бурану, как люди побросали все и стали нагребать, сгребать, выгребать, загребать, перегребать… Они просто-напросто боялись, что вот-вот перестанет идти этот желтоватый снег. А мне отчего-то казалось, что он не закончится никогда.
Выбравшись из грота на площадь, стоишь на четвереньках и отхаркиваешь противную тягучую слизь, набившуюся в нос и в горло, брезгливо стряхиваешь с себя светло-желтую пену. С непривычки щуришь на свету глаза. Встаешь и, спотыкаясь, бежишь прочь от зловонной расщелины, из которой бьют дымящиеся потоки жижи, вынося безжизненные тела тех, кто не успел. Внизу многие тонут, но там тепло. Там нет этой пронзающей метели, терзающей лицо и руки шквалом впивающихся снежинок! Они желтыми ядовитыми иглами насквозь пронзают тебя! Ты стонешь, ложишься и стараешься прижаться как можно плотнее к каменной дороге, прячешь глаза и злишься от беспомощности. Иглы проносятся прямо над тобой, иногда жалят. Здесь, наверху, во время бури нельзя вставать во весь рост…
Я очень богатый человек. Да, да, я не оговорился. Не был богатым, а богатый. Хоть и не собираю золотую крупу, тоннами валящую из серо-лиловых туч, низко и тихо крадущихся над нами. Не обманом, не жестокостью я нажил свой капитал, я не убивал никого и не имел к такого рода делам никакого отношения, я лишь смог привстать на цыпочки и узнал чрезвычайно много. Почувствовал, испытал, понял гораздо больше, чем положено, — а это и есть богатство.
Ведь вы сейчас не видите завораживающей красоты матово-желтой краски, льющейся с неба. Нет! Вы видите дождь из денег! Вы с глупой одержимостью ловите кружащиеся динары, доллары, иены, марки, песо, гульдены, кроны, франки, фунты и рубли. Вот это нужно вам, чтобы быть лучше и выше — мера стоимости, средство обращения и сбережения.
Только ни один из вас не станет богаче, собрав килограмм, тонну или тысячу тонн золота. Потому что вы не знаете его настоящую цену. Не зря именно золото стало первым из открытых человеком металлов, ведь оно встречается в первозданном виде, его не нужно вычленять. И этой кажущейся простотой вкупе с манящим блеском и доступностью, вскружившей голову многим поколениям, оно покупает вас. Но сколько бы у вас ни было золота, вы не будете богаты, потому что очень немногие люди умеют владеть им. Наоборот.
— А-а, сволочь! — хрипло заголосили нетрезвые мужики, пытаясь схватить меня за рукав. Я дернулся и пошел быстрее.
— Гад! — послышалось вслед. — Иди сюда, выпей горлодерки нашей! Трусишь?..
Я подбросил вверх горсть желтоватого снега и рассмеялся. Хоть мешками вались злато из облаков, все равно они денатурат глушить будут! Магнаты чертовы!
Почему сейчас пошел этот снег? Зачем? Именно эти вопросы занимали меня, как ни странно. Меня совершенно не интересовало «откуда он мог взяться?», «как такое вообще может быть?», «это же противоречит законам природы! Как так?»
Зачем? — вот что я не мог понять. Черт подери все ваши утопии вместе взятые! Ну нельзя же нас уравнять, как ни крути. Они останутся бедными, изрезав до крови язык и набив щеки золотым снегом, а я не перестану быть одиноким, слившись с этой толпой. Никогда. Они считают это благодатью божьей, ну разве что, кроме старухи, которая меня дьяволом окрестила, а это на самом деле издевательство какое-то! Им весело, представляете!
А может быть, и я бы радовался, жри я всю жизнь гречку и выращивай трех детей на пенсию матери и зарплату учителя русского языка? Да, наверное. Но мне не суждено было жить так. Мне было уготовано плакать, а не бегать с по-детски выпученными глазами и радоваться нелепому призраку счастья…
Вьюга утихла. Золотые иглы больше не дырявят тело, можно приподняться и размять задубевшие суставы. Вокруг тишина; оглядываешься и видишь, что ты опять на берегу озера с лебедями. Но буря сделала из них растерзанные клочья бумаги. Они не поплывут теперь никогда! Если желтый лед, который сковал их ошметки, растает, то они распластаются по воде, разбухнут и скоро сгниют. А сейчас, как ни странно, на обрывках этих белых лебедей снова кое-где видны неровные буковки, выведенные детской рукой.
Разбитые, не складывающиеся в слова.
Кажется, начинаю понимать: этот желтоватый снег выпал, чтобы напомнить нам о том, кто мы, и как живем. Они потом тоже поймут, что не стали богаче. Попляшут и поймут. А я… Мне теперь страшно и одиноко. Пожалуй, так было всегда, но этот ненавистный звенящий буран полоснул сверкающими гранями своих снежинок по тому, что я пытался спрятать. Просто мне больно теперь, а им будет больно после…
Металлическая пластинка попала в глаз и порезала веко. Я зажмурился и выругался, растирая лицо. По щеке сползла вниз красная капля, рядом пролетела желтая снежинка, возле станции метро чей-то женский голос беспечно пропел:
Синий-синий иней Лег на провода…Неужели вы не понимаете, что наступила зима! Дело, конечно, привычное, но ведь эта зима не кончится! Этот желтоватый снег будет долго падать, обильно засыпая те места, откуда вы его сгребаете. И чем больше вы его соберете, тем больше выпадет! Может, вы и впрямь не понимаете?..
Я остановился.
Я закрыл глаза.
А желтые крупинки все равно летят.
Это очень странная и напряженная картина, когда из темных туч падает золотой снег, танцуя в морозном воздухе мириадами острых кусочков. И город медленно погружается в желтую лаву, на дно раскаленного жерла вулкана… Город тонет в сером пепле туч.
Люди, весна же приходит только тогда, когда тают снега! А золото, как известно, не тает…
Уже темнеет. Прогуливаюсь после работы возле Новодевичьего монастыря. Озеро, что находится в двух шагах от высокой стены, давно замерзло.
Над ровным льдом висит запнувшаяся тишина. Повсюду виднеются разбросанные тетрадные листы в линейку. А около маленького мостика, заметенного снегом, торчит покосившийся шест с приколоченной табличкой, на которой пожелтевшей краской написано: «Лебедей не кормить».
2001, Самара


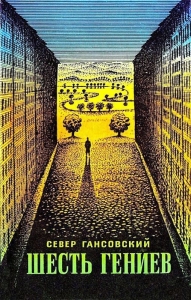


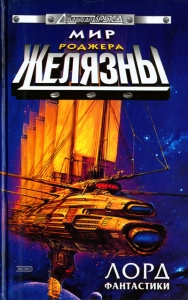
Комментарии к книге «Желтоватый снег», Сергей Викторович Палий
Всего 0 комментариев