МИХАИЛ МИХЕЕВ МИЛЫЕ РОБОТЫ (сборник)
ОТ АВТОРА
Фантастика для автора — это, прежде всего, размышление о будущем.
Заглядывая в будущее, мы надеемся увидеть его радостным и светлым. Это естественно, это лежит в основе нашей натуры — мы оптимисты и всегда склонны больше верить в хорошее, нежели в плохое. Мы также знаем, что все, чему мы радуемся сегодня, — это плод наших совместных усилий. И все, к чему мы стремимся в будущем, тоже явится не само собой, а в результате упорного коллективного труда.
Технический прогресс невообразимо расширил возможности людей. Их могущество растет с каждым днем.
И поэтому очень важно, чтобы все достижения человечества не стали предметом спекуляции и запугивания.
Между тем, в капиталистическом мире это неизбежно.
Залог нашего светлого будущего в умелом и продуманном освоении природы, в столь же продуманном развитии техники, науки и культуры. И здесь фантастика позволяет развивать любую научную или общественную проблему в любом направлении и как угодно далеко — вплоть до абсурда! Фантастический жанр дает возможность любую проблему исследовать и оппозиции: «a что будет, если…» И это позволяет прийти к любопытным построениям.
В нашем мире сказочно быстро развивается и совершенствуется медицина. Ученые заглядывают в самые потаенные уголки человеческого мозга и уже могут вызывать простейшие эмоции, воздействовать на психику.
Все сложнее становятся опыты, и все больше растет ответственность ученых за результаты их поисков. Что получится, если достижения медицины попадут в руки близорукого или аморального ученого? Автор и попытался ответить на эти вопросы рассказами «Машка» и «Бактерия Тима Маркина».
Развитие фантастического сюжета легко привести и к шутке, и к гротеску. Автор не думает, что это умаляет серьезность разбираемых проблем, и пользуется шуткой, как доказательством «от обратного», в рассказах «Утюг», «Счетная машина и ромашка».
Человечество обживает свой дом, свою Планету, приспосабливая ее к своим вкусам и неудержимо растущим потребностям. Среди полей и лесных массивов появляются буровые вышки, запахи цветов вытесняются запахами нефти и бензина. Появляются химкомбинаты, бумкомбинаты, закладываются новые шахты — человеку так много всего нужно! Вырубаются вековые леса, на их месте прокладываются асфальтовые дороги и вырастают многоэтажные кварталы городов. Человек теснит природу по необходимости.
И не всегда делает это разумно.
Хочется привести образные слова хорошо известного и печатающегося у нас ученого-натуралиста Джеральда Даррела:
«…мы получили в наследство невыразимо прекрасный и многообразный сад, но беда в том, что мы никудышние садовники. Мы не позаботились о том, чтобы усвоить основные правила садоводства, С пренебрежением относясь к своему саду, мы готовим себе в не очень отдаленном будущем мировую катастрофу, не хуже атомной войны, причем делаем это с благодушным самодовольством малолетнего идиота, стригущего ножницами картину Рембрандта…»
Так обстоит дело за рубежом.
Нигде не заботятся о своем саде больше, чем в нашей стране. У нас есть все возможности гармоничного сосуществования Природы, и Человека. Но даже и у нас возникают проблемы: вспомните газетные дискуссии о судьбах наших рек, озер и лесов.
Пользуясь упомянутым приемом фантастики: «а что, если?..», автор и написал рассказ «В Тихом Парке».
Конечно, это не пророчество. Автор, лично, не считает такое будущее неизбежным и так же, как читатель, верит, что на нашей Земле всегда будут расти настоящие деревья и цвести живые цветы…
ДАЛЕКАЯ ОТ СОЛНЦА
КОТОРАЯ ЖДЕТ
1
В белом небе возникнет стремительный след, Будет спуск протекать по спиралям крутым, Я вернуть постаревшим на тысячу лет И таким же, как прежде, почти молодым…[1]Город праздновал День Планетолетчиков.
Его многомиллионное население вечером вышло па улицы. Люди заполнили парки, бульвары, стадионы. Толпами стояли у громадных экранов уличных телевизоров. Сидели за столиками закусочных автоматов. Просто бродили по зеленым аллеям бульваров, слушали музыку.
И ждали…
Все свои сообщения Совет Звездоплавания обычно приурочивал к этому дню…
Разноцветные, юркие, как мыши, электробусы бесшумно сновали по улицам. Их было множество, но пешеходы безбоязненно пересекали улицы — скорость электробусов была невелика. Постановление о снижении скорости ввели сравнительно недавно. Человечество умнело быстро, но мудрым делалось медленно и не сразу дошло до истины: глупо убыстрять темп своей жизни до такой степени, что каждую секунду рискуешь эту жизнь потерять. Рациональная планировка городов, разумные условия общественной жизни избавляли горожан от необходимости совершать ежедневные многокилометровые поездки.
Люди постепенно отвыкали от излишней суеты и торопливости и научились ходить пешком.
Впрочем, кто очень спешил, мог спуститься в метро. Город протянулся более чем на сто километров, по подземный электропоезд пробегал это расстояние — с тремя остановками — за пятнадцать минут…
Городские аэродромы ежедневно принимали и отправляли около сотни воздушных кораблей. Трассы их проходили далеко за городом. Шум реактивных моторов уже не беспокоил горожан, небо было ясное и чистое, ни один дымный след не перечеркивал его голубизну.
Нарушать этот порядок разрешалось один раз в год, в День Планетолетчиков, и единственному в мире кораблю…
Он летел медленно, тускло поблескивал в лучах заходящего солнца, — старый огромный планетолет. Из его кормовых дюз с грохотом вырывались длинные красивые языки пламени, но сам он плыл тихо и спокойно, как старинный дирижабль. Он шел не на тяге реактивных моторов — мощные вертикальные винты, невидимые с земли, поддерживали его в воздухе и двигали вперед.
Грохочущее пламя из дюз было декоративным.
Да и сам планетолет оставался только праздничной декорацией. Закопченный, изъеденный космической пылью, с обгорелыми и помятыми дюзами — старый ветеран эпохи начала освоения Космоса. Когда-то на нем люди впервые долетели до Марса и вернулись обратно. По тем временам это был трудный и опасный полет.
Сейчас на Марс еженедельно ходили грузо-пассажирские корабли, и школьники писали сочинения на тему: «Что я видел на Марсе».
За прошедший век люди побывали на многих планетах солнечной системы. Новые, современные звездолеты уже штурмовали бездны Галактики. Звездолетчика покидали Землю и надолго терялись в бесконечном океане Космоса. Их терпеливо ждали па Земле. Некоторых не ждали. На гранитном обелиске Вечной Славы прибавлялись начертанные золотом новые имена…
Уже поздно вечером динамики передали сообщение Совета Звездоплавания. Оно было кратким, категорически ясным и, как всегда, породило много разговоров, беспокойств и сомнений.
Каждому жителю Земли стало известно, что через месяц с Центрального Космодрома в далекий поиск в глубины Галактики отправится новейший звездолет «Поток». Он проведет в пути десять лет, но вернется, когда по земным часам пройдут уже два с половиной столетия.
Экипаж звездолета — двенадцать человек.
Командир корабля и его заместитель — опытные космонавты, уже побывавшие на планетах солнечной системы. Остальные десять человек — молодежь, воспитанники Высшей Школы Звездолетчиков…
2
Он ушел. Туда, в синеву… В небо ввинчены тополя, По антеннам струится ток, Вслед бежит по орбите Земля, Словно хочет позвать: «Сынок!»Высшая Школа Звездолетчиков… Единственная школа на Земле, которая готовила космонавтов для особо трудных полетов. Это была самая суровая из школ… однако желающих попасть в нее находилось много.
Предварительные медицинские комиссии ежегодно обследовали несколько сот человек. Из них Специальная комиссия при Высшей Школе отбирала ровно пятьдесят для зачисления на первый курс. Принимались юноши с отличными способностями, с отменным здоровьем и безукоризненно настроенной нервной системой. На нервную систему и волевые качества обращалось особое внимание. В прошедшие века — судя по старинным романам — часто употреблялись слова: «железная воля… нервы крепости стали…» Такие определения не были в ходу среди членов Специальной комиссии. Они знали, что прочности всех земных материалов давно высчитаны и занесены в соответствующие таблицы; пределы возможностей нервной системы человека не поддавались точному измерению. Часто там, где разрушалась легированная сталь космолетных кораблей, воля и выдержка человека оста» вались несокрушимыми.
С первого года обучения в Школе Звездолетчиков начинались тренировки, проверки волевых качеств курсантов.
Испытания на суперцентрифугах…
Испытания в кабинах секундных ориентировок…
Испытания в камерах вибрационных, тепловых, звукошумовых…
Испытания в самой безобидной, самой тихой и самой страшной камере полной изоляции, где исключались все внешние раздражители и где через несколько суток — менее недели — человек мог сойти с ума.
Это была школа суровых и даже жестоких дисциплин. Иной она быть и не могла. Она готовила к поединку, к схватке с самым безжалостным, самым коварным чудовищем Вселенной — Бесконечностью Космоса. И человек — микроскопический кусочек пульсирующей протоплазмы — мог противопоставить неизмеримой Бесконечности Космоса только неизмеримую мощность своего Духа. И часто он побеждал…
Испытания… занятия… тренировки… Тренировки… испытания… занятия… После первого курса оставалось полтора—два десятка человек. Они обычно заканчивали школу.
Вот из них-то и были отобраны десять лучших — экипаж звездолета «Поток».
Каждый получил значок звездолетчика — завиток голубого пламени, перечеркнутый золотой стрелой.
Через месяц они покинут Землю. Умчатся в неведомое и вернутся в будущее. Расстанутся с Землей на два с половиной столетия. С родными и близкими — навсегда.
Тридцать дней им было дано на прощание с людьми.
По суровой традиции Школы никто таких слов вслух не произнес. Но каждый из десяти об этом подумал…
3
Возвращается человек. Пыль на нем неземных дорог. Человек задумчив, как снег. И, как смерть любимой, жесток.Он шел по аллее городского парка. Он казался таким же, как все, как многие его сверстники. Молодой, широкоплечий. Обыкновенное лицо. Спокойные — очень спокойные — губы и глаза. На отвороте спортивной куртки маленький эмалевый значок — завиток голубого пламени, перечеркнутый стрелой.
Такие же, как и он, юноши и девушки бродили взад в вперед по аллеям, собирались в кучки, шутили, танцевали на полянках под музыку карманных приемников. Много было детей. Они бегали по лужайкам, возились в траве, кричали и визжали — то есть вели себя так, как дети во всем мире, во все времена.
Все менялось — расы, культуры, цивилизации. Менялось поведение взрослых людей, и только дети всегда оставались детьми.
Маленький человечек, в погоне за мячом, нечаянно наскочил на юношу в спортивной куртке, ударился о его колено и заплакал.
Юноша подхватил его на руки:
— Не плачь! — сказал он.
— Мне больно, — пожаловался малыш.
— Но ты — мужчина. А мужчины не плачут.
Юноша говорил очень серьезно. Малыш посмотрел на него и перестал плакать. Потянулся пальчиком к отвороту его куртки.
— Это что?
— Это — значок.
— Дай мне. Я тебе отдам за него мячик. Юноша взглянул на мячик, лежавший у ног.
— Я позабыл, как в него играют.
— Он прыгает, — объяснил малыш. — Он знаешь как прыгает!
Молодая женщина шла по аллее и беспокойно глядела по сторонам.
— Томик! — звала она. — Томик, где ты?
— Я здесь! — закричал малыш. — Мама, я хочу вот такую звездочку. Попроси, чтобы он подарил ее мне.
Мать с улыбкой взглянула на гоношу и тут же узнала его лицо, знакомое по журнальным портретам.
Испуганно метнулась вперед и выхватила сына.
— Нет! — крикнула она, прижимая сына к груди. — Нет, нет!
На нее оглянулись. Она тут же опомнилась.
— Простите меня… — от смущения даже слезы выступили на ее глазах. — Простите, пожалуйста.
Но юноша и не обиделся. Он понял. Твердость характера не уменьшает тонкости интуиции. Матери, как и дети, не меняются во времени…
Он поднял мячик, подал его замолчавшему в растерянности малышу и прошел мимо. Но его уже узнали и окружили шумные молодые люди.
Юноша шутил и улыбался вместе со всеми. Он был такой же, как и они. Только у него был значок на отвороте куртки. И это отделяло от них. Все знали, что через месяц он уйдет. Уйдет навсегда, станет легендой. Те, кто окружает его сейчас, умрут, исчезнут, а он все будет жить… Нелегко это представить, трудно об этом думать, а тем более говорить.
Он был с ними, но его уже не было.
— Ты привезешь мне оттуда подарок? — вдруг спросила задорная черноволосая девушка. Вокруг замолчали.
— Конечно привезу, — тут же нашелся юноша. — Я привезу тебе щеночка. Лохматого щеночка из созвездия Малого Пса.
Чувство юмора — талант, с ним нужно родиться. Специальная комиссия по подбору курсантов особо отмечала наличие этого качества: там, в пустынях Космоса, хорошая шутка бывает так же нужна, как защитный скафандр…
Хрупкая ясноглазая девушка, с цветком бессмертника на белом платье, проходила мимо. Черноволосая окликнула ее.
Девушка с бессмертником глядела на юношу.
— Это он, — оказала ее подруга.
— Я знаю.
— Ты с ним встречалась?
— Он давно живет в моей комнате.
— Что ты говоришь…
— Его фотография стоит на моем столе.
— Ах, вон что… Зачем?
— Я разговариваю с ним каждый день.
— Чудачка… Он улетает. Через месяц.
— Я знаю. Мне его жаль. Он так одинок.
— Ну, девушек и товарищей вокруг него много.
— Вокруг много, а с ним никого нет. Все знают, что он улетит. Он улетит, и у него на Земле не останемся ни любимой, ни друга… Познакомь меня с ним.
— Ты хочешь влюбиться?
— Я люблю его давно. Он улетит, а я все равно буду любить. И он будет знать, что на земле остался человек, который любит его и ждет.
— Он тебе не поверит.
— Поверит, я знаю,
— Ты сумасшедшая… подумай, что говоришь. Двести пятьдесят лет. Ты три раза успеешь умереть.
— Нет.
— Что — нет?
— Я буду его ждать.
4
У него не дрожит рука, И спокоен бровей разлет. Он пришел к ней через века И опять на века уйдет… Теплая трава мягкая, как шелк.Шелестят невидимые в ночи листья серебристых тополей.
С черного купола неба мириады звезд смотрят на землю, и двое с земли смотрят на них.
Ласковые девичьи волосы зацепились за завиток голубого пламени.
— Я такая счастливая, что тебя люблю. Больше мне ничего-ничего не нужно. Я только хочу, чтобы ты взял мою любовь с собой Туда. Я знаю, вам не разрешают брать ничего лишнего. Но мою любовь ты возьмешь, Хорошо?
— Хорошо. Возьму.
— Она большая, как этот мир… и она не весит ничего. Ты легко спрячешь ее вот здесь… под значком, там ее никто не заметит. Даже твой командир… Ты будешь вспоминать о ней изредка, и тебе, может быть, не так будет трудно.
— А ты, что ты оставишь себе?
— О, мне останется еще много. Я буду тебя ждать… Ты улыбаешься?
— Нет, я не улыбаюсь.
— Значит, ты мне веришь?.. Я буду тебя ждать… Очень ждать…
Мягкая, как шелк, трава. Над головой Млечный Путь из пылающих звезд…,
Первый день и первая ночь… второй день и вторая ночь…
Его значок звездолетчика был известен всюду, во всех уголках земного шара, им нигде не отказывали ни в чем.
Они брали двухместный турболет, летели, на крохотные островки Тихого океана. Купались в мохнатом зеленом прибое, ели жареных осьминогов. Спали тут же в тростниковых хижинах на берегу. Соленый ветер шумел лиственной крышей, дерзко врывался в хижину и замирал у их изголовья.
Девятый день и девятая ночь… десятый день и десятая ночь…
Они входили в сумрак индийских храмов, где свирепые каменные боги смотрели в далекое будущее пустыми глазницами. По ночам в джунглях ревели павианы. Она не могла уснуть, лежала с открытыми глазами. Слушала, как рядом бьется его сильное спокойное сердце, и улыбалась счастливо во тьму.
Двадцать пятый день и двадцать пятая ночь…
Они жили в палатке на берегу сибирской горной реки. Слушали вечный ропот ее на порогах. Ели неспелые орехи, и губы их потом долго хранили скипидарный привкус кедровой смолы. Каждое утро поднималось солнце, и каждый вечер оно стремительно опускалось за горизонт. Миллионы часов на земле неустанно отсчитывали крупинки времени, утекающего в Ничто…
Время текло быстро, как вода из разбитого сосуда. Наконец, на дне его не осталось ничего.
Солнце поднялось и опустилось в двадцать девятый раз…
— В шесть часов мне нужно быть на корабле.
— Я знаю.
— В восемь часов отлет.
— Я не забыла… Я помнила об этом все двадцать девять дней.
Последний раз прижалась к его груди. Щеку что-то укололо вдруг, больно, очень больно. Она улыбнулась себе и прижалась еще сильней.
— Иди! — сказала она.
— Ты придешь на космодром?
— Конечно.
— Прощай…
— До свидания, мой хороший…
Он бережно распутал ее локон, зацепившийся за значок.
И ушел.
Она осталась одна на пороге открытых дверей.
Только в Бесконечности Космоса нет ни начала, ни конца. Но все отмерено на Земле…
5
В белом небе растет стремительный след, И виски от космической пыли как дым… Это мир постареет на тысячу лет, Это я остаюсь навсегда молодым… Космодром опустел.Погасли клочья пламени на каменных плитах. Ветер развеял серо-дымчатое облако, ушедшее в зенит. Только па экранах радаров командного пункта еще подрагивало светлое пятнышко.
Потом исчезло и оно.
Техники разобрали обожженные стартовые фермы. На их месте положили стальную плиту с памятной датой, — с этого места стартовал в будущее звездолет «Поток». Ждите его, потомки!
Прошел год… другой… третий… Неутомимо мчалась по орбите Земля. Осенние ветры сдували с памятной плиты бледно-розовые бессмертники.
А космодром продолжал свою обычную работу. Улетали корабли в очередные рейсы — на Марс, на Венеру, на Луну. Люди расставались на десятки лет и встречались после долгих разлук. Много перевидел горя и радости межпланетный вокзал.
Однажды Председатель Совета Звездоплавания заглянул на командный пункт космодрома. Старый космический волк, сгорбившийся от тяжестей стартовых перегрузок, многие годы провел он в ледяных безднах Космоса, где чувство восторга жило рядом с ужасом. По-прежнему его тянуло Туда, но летать он уже не мог, — приходил на космодром встретить товарищей или проводить своих учеников в первый полет.
Он заметил в отдалении, возле памятной плиты звездолета «Поток», светлую девичью фигурку. Навел в ее сторону стереотрубу.
— Это она?
— Она, — ответил дежурный.
Все работники космодрома знали историю любви этой девушки. Слышал о ней и Председатель Совета. Тогда он не принял ее всерьез. Мало ли какие обещания дает молодежь в эти смешные юные годы…
— Все еще ждет, — улыбнулся дежурный. Он был самоуверен и красив, его чаще и сильнее любили, нежели он сам, и для него это было обычным положением вещей. — Ждет. Два с половиной столетия. Смешно!
Под суровым взглядом Председателя Совета он смутился и замолчал.
Тяжелыми шагами старый космический пилот вышел с командного пункта. Направился к своему электробусу. Остановился.
— Смешно… — повторил он угрюмо. — Умные стали очень!..
Девушка сидела недвижимо, сложив руки на коленях. На стальной плите лежали цветы бессмертника. Она не слыхала, как Председатель Совета ласково опустил руку на ее склоненную голову.
Она не плакала. В ее чистых глазах не было ни горя, ни тоски. В них было ожидание. Она ждала, как ждут того, кто сказал, что вернется через час.
Председатель Совета присел рядом.
Девушка ответила на его вопросы бесхитростно и просто. Да, она любит его. И не хочет думать, разумно это или нет. Она любит, а любить для нее — это ждать.
Председатель Совета молчал. Он поверил девушке — да, она будет ждать. Они были похожи — старый космический пилот, отдавший Космосу жизнь, и совсем юная девушка, отдавшая Космосу любовь. Но он был стар и мудр, он глядел на нее и думал. Пройдет не так уж много лет — и поблекнет ее юное милое лицо. Появятся морщинки на губах. Поседеют, поредеют ласковые русые волосы… Сгорбится тонкая фигурка, потухнут глаза… А она по-прежнему будет приходить сюда и ждать… жалкая смешная старушка.
Но разве можно позволить любви стать смешной?
Внеочередное заседание Совета шло необычно. Рядом с Председателем сидела девушка. Члены Совета выслушали ее внимательно, без улыбок. Желание ее могло показаться смешным и глупым, если бы чувство не было таким ясным и большим.
Не, колеблясь, наивно и бесстрашно она поставила ото самое земное человеческое чувство против неумолимой логики фактов.
Она бросила вызов Времени, а у Времени еще не выигрывал никто.
Члены Совета понимали это лучше, чем кто-либо другой. Тем не менее они решили помочь девушке. Остановить Время нельзя. Но они смогут задержать Смерть.
Наука давала им эту возможность.
Это был сложный и смелый эксперимент. Рискованный — девушка могла умереть. Члены Совета сознавали свою ответственность и приняли на себя неизбежность риска, — его было столько же, сколько у пилота, отправляющегося в неизведанный полет. Жертва велика, но велика была и цель.
Любовь — это молодость. Члены Совета обещали девушке сохранить юность па два о половиной столетия.
Пусть она сохранит любовь.
В загородном парке, в окружении вечнозеленых деревьев, стоит Пантеон. Невысокий полукруглый купол на мраморных колоннах. По фронтону надпись:
ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЖДЕТ.
Внутри под куполом — саркофаг. В изголовий саркофага факел — вспыхивает и гаснет розовое пламя… Машинное отделение в глубоких подвалах под Пантеоном — моторы, регенераторы, холодильники. Запас атомного горючего на два с половиной столетия.
Саркофаг прозрачен. Он наполнен чем-то голубоватым, струящимся как дым.
В саркофаге лежит девушка. Глаза ее закрыты. Она лежит каменнонеподвижная, в глубоком сне. Редко-редко бьется сердце… и в такт его ударам вспыхивает и гаснет розовое пламя в факеле, показывая, что девушка жива.
Идут года…
Умер старый Председатель Совета. Уже нет людей, которые построили Пантеон. А в саркофаге спит девушка, такая же юная, какой была. Лежит на космодроме плита из бронзовой космической стали.
Давно оборвалась связь со звездолетом «Поток». Пылинкой затерялся корабль среди неведомых миров и пустынь. Никто не знает, вернется ли он.
Но не гаснет пламя факела у изголовья саркофага…
В ТИХОМ ПАРКЕ
Он так и назывался — Тихий Парк.
Планировка его была самая старомодная — кусты, узкие аллеи, цветочные клумбы, удобные покойные скамейки. Не было ни стереомузыки, ни танцевальных кругов, ни спортивных площадок. Только фонтаны на перекрестьях аллей; тонкие струйки воды опрокидывались в бассейны с мягким шелестом, который не нарушал, а наоборот, подчеркивал тишину.
Как и все остальные парки, он был пластмассовый.
Специалист-ботаник не нашел бы в парке ни одного живого растения. И трава на газонах, и цветы на клумбах, и кустарники — все это было искусственное, все было сделано на Заводе декоративного искусства, по эскизам художников-декораторов из специальной, запрограммированной саморастущей пластмассы.
Двойная стена пластмассовых деревьев отгораживала парк от шумящего многомиллионного города.
Из городских жителей только древние старики еще смутно помнили, как выглядели живые цветы. По их мнению, искусственные растения в парке походили на настоящие так же, как мраморная статуя — пусть самая прекрасная! — походит на живого человека. Но таких людей осталось уже мало, и посетителей парка вполне устраивали искусственные растения, которые казались более красивыми, чем настоящие. Там были цветы, которые могли складывать и распускать свои чашечки и даже пахли), ароматные эссенции изготовлял Завод прикладной синтетики… Были цветы, которые распускались только по ночам, лепестки их флюоресцировали в темноте — этого уже не могли делать живые цветы.
Песок на аллеях, конечно, тоже был пластмассовый, из упругого пылеотталкивающего метабистирола.
Даже воздух… Специальные установки кондиционирования увлажняли его, обеспыливали, обогащали кислородом, и уже такой облагороженный воздух подавался на аллеи парка. Громадные насосы, фильтры, увлажнители находились глубоко под землей, шум работающих механизмов не нарушал тишины.
Тишина была самая настоящая. Это признавалось всеми и считалось главной особенностью парка.
То, что он был пластмассовый, — это не удивляло никого.
Садовод такому парку не требовался. Но установки кондиционирования, а также сложная электроника запрограммированной пластмассы нуждалась в уходе и регулировке. Человеку такое занятие показалось бы нетворческим и поэтому скучным.
За всем природоподобным, но искусственным хозяйством парка следили два таких же искусственных, но человекоподобных робота.
Серийный технический робот РТ-120 считался специалистом по электронике и автоматике. В его метапластиковые пальцы были вмонтированы всевозможные датчики, индикаторы, миллиампервольтметры, и он мог обнаружить и устранить повреждение в электрической схеме во много раз быстрее, нежели человек.
Но РТ-120 разбирался только в технике и ничего не смыслил в искусстве. Если почему-либо ветка кустарника или цветок на клумбе начинали нарушать общий рисунок — тут он уже сообразить не мог. Поэтому декоративными работами заведовал другой робот — ЭФА-3, специально сконструированный для этой цели в опытном цехе Института Кибернетики.
В опытном цехе конструкторами работали женщины, и ЭФА-3 в общих чертах походила на РТ-120, но ростом была поменьше и сделана не из черного метапластика, а из более упругого коричневатого полистирола. Она имела две локационные антенны, вместо одной, хотя по электрическим данным этого и не требовалось — конструктором-художником внешнего вида ЭФА-3 тоже была женщина…
В Тихом Парке особенно хорошо было по вечерам.
Когда над грохочущим городом повисало ослепительное зелено-розовое зарево ночных светильников, аллеи парка заполнялись тихими сумерками.
Подсвеченные струи фонтанов бросали вокруг дрожащие голубые сполохи, дальние уголки парка освещались только слабым свечением флюоресцирующих цветов.
К причальной колонке у входа в парк подплывали огромные городские аэробусы.
Высадив пассажиров на площадку лифта, аэробус уносился неслышно дальше, как детский воздушный шарик, гонимый ветром.
Приехавшие спускались в парк и по одному, по двое исчезали в сумерках аллей.
Сюда приезжали не развлекаться — для развлечений имелись другие места, — сюда приезжали просто посидеть и помечтать в тишине и одиночестве, или не спеша поговорить с хорошим товарищем о каких-либо житейских, но душевно необходимых делах.
Заглядывали сюда и влюбленные.
Здесь было где уединиться, спрятаться от чужих глаз, выключиться на время из суматохи громадного города, где на каждом квадратном километре площади, застроенном высотными зданиями, жили полмиллиона человек…
Скамейка ничем не отличалась от настоящей — она даже резалась ножом, но в ней не было ни единой белковой молекулы; скамейку отлили на Заводе Общественного Оборудования из алюмонатрипластика, сырьем для которого служила глина.
На скамейке сидели двое… настоящие люди, сложное сочетание живых клеток, в свое время стихийно синтезированные неживой природой из хаоса белковых молекул; люди, которые — уже не стихийно — создали весь этот окружающий их искусственный мир.
Они впервые приехали в Тихий Парк, Впервые выключились из толчеи городской жизни, где всегда нужно было что-то делать, где что-то ежеминутно владело их вниманием, управляло их поступками. Впервые они очутились наедине, в темной тишине аллеи, предоставленные только самим себе. Почувствовали себя растерянно и никак не могли начать разговор.
Ветви искусственного кустарника нависали над их головами. Она протянула руку, подергала за листок, хотела оторвать и не смогла.
И сказала тихо:
— Прочная…
Он тоже потрогал листок и сказал еще тише:
— Да, полимерная пролиллаза… предел разрыва шестьдесят кг на квадратный миллиметр.
— Это не пропиллаза, — робко возразила она. — Это — дексиллаза. Пропиллаза гладкая, а эта — бархатистая.
Он не понял:
— Какая?
И смутился.
— Бархатистая, — повторила она. — Ткань была такая — бархат, мягкая и пушистая.
Он не хотел спорить, но и согласиться не мог. И сказал расстроенно: пропиллаза тоже бывает пушистой… когда в основе дихлор-карболеновая кислота.
Она посмотрела на него с робким сомнением. Потупилась и сказала:
— Ща карболене… пропиллазу не запрограммируешь… — и тут же добавила радостно: — Хотя, можно поставить усилитель Клапки-Федорова…
Он тоже обрадовался:
— Конечно! — сказал он. — И пустить токи в релаксации…
— И программу записать на пленку, — добавила она.
Они исчерпали тему и говорить опять стало не о чем.
Он долго и мучительно раздумывал и наконец спросил:
— Ты что делала вчера?
Она оживилась.
— Вечером, в двадцать ноль-пять ходила в зал концертов цветомузыки. Играли желто-розовую симфонию в инфра-красном ключе Саввы Ременкина.
— Хорошо?
— Не знаю… Видимо, у меня спектр зрения сдвинут в сторону фиолетового восприятия, за четыреста миллимикрон… Я ничего не поняла. Люди вокруг улыбались, а мне было грустно… Я думала, что ты придешь.
Он заволновался.
— Я хотел… только задержался. В лаборатории установили новый диполятор, и вчера мы свертывали пространство.
— Почему вы свертывали его вечером?
— Мы начали днем, свернули почти кубометр, а потом в диполяторе лопнул мезодатчик и мы никак не могли раскрутить пространство обратно.
— Оставили бы так.
— Ты же знаешь, что пространство держать свернутым нельзя. Может произойти временной парадокс.
— Пусть происходит.
— Что ты! Потеряется целый кубометр…
— Подумаешь, один кубометр у бесконечности. Никто бы и не заметил.
— Конечно, никто бы не заметил. Только наш профессор заявил, что мы не имеем права так бесхозяйственно обращаться с бесконечностью. Пришлось раскручивать пространство вручную, вот мы и крутили до вечера. Хорошо, что потом Бинель нашла в утиле старый мезодатчик.
— Значит, Бинель тоже… раскручивала…
— Разумеется. Она же наш мезопрограммист.
— Так я и знала…
— Послушай… ты не права. Мы с ней работаем вместе и только…
Она отвернулась. Он беспокойно задвигался на скамейке.
— Я же тебе верю… — сказал он. — Я не спрашиваю, с кем ты тогда была в автомате. Что это за молодой человек?
— Это… это не молодой человек. Это мой отец.
— Вот как? Я думал, у тебя нет отца.
— Он недавно вернулся из экспедиции к Большой Медведице.
— Сколько же времени его не было?
— Восемнадцать земных лет.
— Он такой молодой.
— Они летели на субсветовой скорости. Сейчас он моложе меня на один год.
Легкий, но холодный ветерок — настоящий, далекий гость с семидесятой параллели — проник за деревья, зашелестел искусственными листьями.
На ней было легкое платье без рукавов. Она невольно поежилась.
— Тебе холодно?
— Немножко. Мама говорит, что у меня плохо усваивается витамин группы «В», поэтому нечетко работает центр теплорегуляции, и я мерзну чаще других.
Он продолжал беспокоиться.
— На самом деле, холодный ветер. Не понимаю, почему здесь не устроили би-поле над скамейками, для микроклимата.
— Вероятно, много потребуется энергии.
— Подумаешь, над каждой скамейкой полусфера в десять квадратов. По восемь на десять в пятой джоулей на квадрат.
— Ты забываешь про деревья, их тоже придется накрывать би-полем.
Тут он наконец вспомнил про свою куртку. Снял ее, накинул на ее плечи.
— Спасибо, — сказала она. — А ты?
— Мне не холодно.
Но он подвинулся ближе, она прижалась к его плечу, и они закрылись вместе одной полой и притихли.
Ее щека коснулась его щеки. Время остановилось для него, как останавливалось оно в днполяторе, когда свертывали пространство. Ему хотелось сидеть так вечно…
Она думала о другом и спросила:
— Ты меня любишь?
— Что? — переспросил он. — Ах, ты в том смысле?.. Кажется, люблю.
— Почему — кажется?
Он замялся.
— Ну… это слово, как я помню, выражает общее состояние…
Она нетерпеливо завозилась у его плеча.
— Вот и вырази свое общее состояние.
— Я не знаю, как сказать.
— Ты же читаешь художественную литературу.
— Там нет таких слов. Разве только в старинных романах. Но кто же сейчас говорит теми словами.
Она вздохнула легонько.
— Старинными словами тебе говорить не хочется. А своих у тебя нет. Мне так захотелось, чтобы ты сказал какие-нибудь старые слова.
— Зачем?
— Не знаю, — сказала она грустно. — Наверное, такие слова приятно слышать…
Он разволновался, задвигался, растерянно поморгал.
— Хорошо! Я скажу. Подожди, сейчас… — он помедлил, потом заговорил быстро и сбивчиво: — Мне всегда скучно без тебя… всегда трудно без тебя… Я всегда хочу тебя видеть. Я, кажется…
— Кажется…
— Нет, просто… я не хочу без тебя жить!.. Хорошо?
— Хорошо, — сказала она и улыбнулась чуть. — Почти так же, как у Диккенса…
Незаметные в темноте, по соседней аллее прошли два робота.
РТ-120 шагал методично и размеренно, каждый шаг его был равен метру и делал он один шаг в секунду.
ЭФА-3 была ниже его, зато ножки ее двигались быстрее, и она не отставала от своего спутника.
Она остановилась первая.
Повернула в сторону сидящих на скамейке хорошенькие решетчатые ушки очень похожие на кухонные шумовки, но ничего не поняла.
— Ты слышишь, что они говорят?
Слуховые локаторы РТ-120 были несравнимо чувствительнее. Он отрегулировал усиление и без труда разобрал все слова.
— Он сказал, что, кажется, любит ее. Что такое «любит», ты не знаешь?
— Конечно, знаю, — ответила ЭФА-3.
— Объясни мне.
— Ты не поймешь.
— Я попробую понять.
РТ-120 подключил к киберлогике схему сложных понятий. Он еще ни разу ею не пользовался, и схема работала нечетко. Тогда он увеличил напряжение питания. На предохранителе защелкали голубые искорки.
Запахло озоном и изоляцией.
— Ну тебя! — сказала ЭФА-3. — Выключись, а то сгоришь. Я прочитала про. любовь в справочнике.
— И поняла?
— Поняла. Почти все… — ЭФА-3 пощелкала переключателями эмоции, просто так, без надобности. Что они еще говорят?
РТ-120 прислушался.
— Он сказал, что не хочет без нее жить. Как это так?
— Помолчи! — тихо сказала ЭФА-3. — А что он делает?
РТ-120 включил инфракрасные видеоанализаторы.
— Он обхватил ее руками за плечи, будто она падает.
— Как интересно! — сказала ЭФА-3. — Покажи, как он это сделал.
РТ-120 обхватил ЭФА-3 стальными руками.
— Тише, тише! — воскликнула ЭФА-3. — Отпусти, сейчас же.
Она отступила на шаг.
— Посмотри, что наделал. Смял правый локатор. Теперь я потеряю слуховую ориентировку. Разве так можно!
— Я не знал, что ты такая непрочная, — оправдывался РТ-120. — Ничего, в институте тебе поставят новый локатор.
— Для меня нет запасных деталей. Я же экспериментальная модель, не то, что ты.
— Локатор помялся совсем немного, — сказал РТ-120. — Я его выправлю сам.
Он щелкнул переключателем, и на его пальце появилась отвертка. Осторожнее! — сказала ЭФА-3. — Не поломай.
Но повреждение на самом деле оказалось невелико.
Да и локатор был не таким уж сложным, чтобы в нем не мог разобраться ремонтный робот РТ-120, запрограммированный талантливыми инженерами Завода Высшей Кибернетики…
Маленькая девочка шла за мамой к остановке аэробуса. Возле цветочной клумбы девочка остановилась.
— Мама! — сказала она. — Можно мне сорвать вон тот цветочек?
— Что ты, разве его сорвешь. Он там крепко держится.
— А как же раньше рвали цветы?
— Кто тебе это сказал?
— Дедушка Дим, который учил меня спектромузыке.
— Дедушке Диму уже сто пять лет. Он рвал цветы, когда был маленький, как ты. Сейчас таких цветов нет. Даже я никогда не рвала цветы.
Девочка расстроилась. Пока дожидались аэробуса, она стояла молчаливая и печальная. Вокруг нее было множество цветов, но она не хотела на них смотреть.
— Когда я вырасту большая, — сказала она, — я обязательно найду цветы, которые можно будет рвать.
— Не выдумывай глупости! — ответила мама.
ДАЛЕКАЯ ОТ СОЛНЦА
Третья планета Солнечной системы имеет в составе атмосферы кислород… есть все условия для существования белковой жизни… возможно наличие разумных существ…
Из первого справочника для астронавигаторов Планеты Энн1
Над Городом шел дождь.
Мелкие капельки, освещенные неярким, из-за облаков, солнцем, беззвучно опускались на чешуйчатые купола домов, на пенолитовый гранит уличных переходов и пешеходных дорожек, на сферические крыши городских аэробусов, на лица прохожих, на прозрачный водопластик накидок и непромокаемых плащей.
Обычно дожди над Городами Планеты проходили ночью. Но, раз в декаду, Служба Погоды внезапно перегоняла облака с загородных полей и лесных массивов, и такие неожиданные дожди приносили на улицы Городов веселую сумятицу, которая приятно нарушала некоторую монотонность искусственного климата.
Никто уже не расстраивался от того, что промочил ноги, простудные болезни исчезли много поколений тому назад.
2
В Институте Инженеров Хорошего Настроения только что закончились лекции.
— Дождь! — крикнул кто-то. — В Городе дождь!
Биполярные двери распахнулись во все стены. Толпы студентов заполнили просторные аллеи институтского парка.
С сине-фиолетовой листвы деревьев звучно шлепались крупные капли, легкие одежды сразу промокли, налипли на плечи. Но всем было весело, и никто не хотел уходить. Включили мелодинер, и под электрическую музыку юноши и девушки импровизировали под дождем на темы, которые давались им в лекциях по Танцевальной Пластике.
Мокрый аэробус стоял пустой у причальной колонки.
Внезапно возникший гул перекрыл разом и шум дождя и музыку мелодинера. Что-то тяжелое обрушилось сверху на деревья, ломая и расшвыривая ветки, и рухнуло на аллею, среди танцующих.
К счастью, никто серьезно не пострадал. Только одна девушка вскрикнула и затрясла обожженной рукой.
На аллее, вдавившись в песок, лежал большой — в два обхвата — раскаленный шар. Дождевые капли вспыхивали па нем белыми шипящими облачками пара.
Плачущую девушку увели подруги.
Кто-то протянул к шару ладонь, ощущая излучаемое тепло.
— Метеорит?
— Нет, — сказал другой. — Не похоже.
Мелодинер выключили. Любопытные подошли ближе, окружили черный загадочный шар.
— Смотрите, смотрите!
По темно-вишневой поверхности шара пробежали светлые трещины. Посыпалась окалина. Оболочка шара вдруг начала раскрываться, как чашечка огромного цветка. Показалась веточка радиоантенны.
В это время над аллеей появился Патрульный Диск и опустил па шар экранирующее поле защиты.
3
На орбите Третьей Планеты Патрульный Диск № 24 принял дежурство у Патрульного Диска № 21, которому пора было возвращаться на зарядку энергобункера, а экипажу на отдых на родную Планету Энн.
Сменный пилот Патрульного Диска № 24, прощаясь, помигал лазером вслед улетевшим товарищам. Подогнал скорость Диска применительно к скорости патрулируемой Планеты. И пошел над нею на высоте двадцати ее диаметров. Опускаться ниже не следовало, можно было попасть в поле зрения мощного телескопа или в луч радара и возбудить у жителей Третьей Планеты ненужное любопытство.
Дежурный штурман сидел на своем месте у пульта звуковизора. Слушал через автомат-переводчик многоязычный радиоголос Планеты. Опустив на ее поверхность узкий луч локатора, следил за ее жизнью, чужой жизнью, столь непонятной ему. Хотя любой из жителей Третьей Планеты ничем не отличался от него.
Штурман не заметил ни момента запуска межпланетной станции, ни места, откуда она стартовала. Да и трудно было заметить, очень много поднималось с Третьей Планеты ракет; ракет специальных и исследовательских, ракет, которые выносили на орбиты спутники, служившие научным целям и другим, ненаучным делам.
Но автолокатор засек станцию, когда она, развив вторую космическую скорость, покинула орбиту Планеты. Штурман передал ее координаты пилоту.
Расчетный автомат тут же скорректировал угол поворота, необходимого для перехвата космической станции, и увеличил скорость Патрульного Диска. На переднем лезвии рассекателя заструилось бледно-голубое пламя, оно стремительно вытянулось длинным языком, и экипаж Диска утонул в упругом пластике противоперегрузочных кресел. Станция пересекала курс, пришлось делать огромную петлю, но автомат точно привел Диск в место встречи. Нагнав станцию, пилот включил ручное управление и пошел следом, немного в стороне от нее, чтобы не попасть в створ сигналов, которые связывали станцию с местом запуска, откуда направляли ее полет.
Станция развернула решетки солнечных батарей. Штурман услышал, как она передала свое первое сообщение.
Автомат-переводчик принял радио с Третьей Планеты. И стало известно, кто запустил станцию, куда она направляется и что от нее ждут.
— Это не к нам, — сказал штурман пилоту. — Это на другую Планету.
И Патрульный Диск вернулся на свою прежнюю орбиту над поверхностью Третьей Планеты.
4
Внеочередное Обсуждение в Совете Трехсот закончилось.
Члены Совета в молчании покинули зал. В молчании разъехались. После Обсуждения не было принято обмениваться мнениями.
Верховный Сумматор вышел последним.
Он выслушал полярные высказывания Членов Совета, суммировал различные взгляды и предложил решение. И оно было утверждено.
Совет принял и утвердил Особое Задание. Ото было рискованным. Выполнение его связывалось с опасностью, смертельной опасностью для участников. Но другого пути никто не нашел.
Верховный Сумматор мог сейчас очутиться дома, не затратив на это особого труда, даже не нарушив ритма своих размышлений. Но размышления были невеселые. В душе Верховного Сумматора остались неуверенность и сомнения, ему хотелось от них избавиться, хотя бы на время.
Поэтому он избрал самый древний и самый успокаивающий способ передвижения — пошел домой пешком.
Минуя лифт, он спустился по лестнице в вестибюль.
Автомат Службы Погоды предупредил, что идет дождь. Мокнуть Верховному Сумматору не хотелось — никаких восторгов от этого он уже не получал. Поэтому он сразу прошел в угол, к вещевому ретранслятору, где хранилась уличная одежда.
Как и полагалось — угол был пуст. Только овал стереозеркала матово поблескивал на стене — Верховный Сумматор в него даже и не взглянул. Он протянул руку в пустой угол, и па руке, возникшая из пустоты, повисла накидка из веселого разноцветного водопластика.
Верховный Сумматор недовольно бросил накидку обратно в угол, и она исчезла.
Вещевые ретрансляторы изобрели сравнительно недавно: в Технике Быта то и дело появлялись разные новоустройства. Верховный Сумматор всегда считал, что трудно придумать что-либо удобнее простого стенного шкафа, где осязаемые вещи висят на виду, где всегда знаешь, что ты берешь. Однако ретрансляторы избавили дома и вестибюли общественных зданий от груд хранимой одежды. Он согласился, что это ценное изобретение, но привыкнуть к нему так и не смог.
Верховному Сумматору пришлось мысленно уточнить, что же ему требуется, и тогда он получил из ретранслятора темную одноцветную накидку с капюшоном и натянул ее на плечи.
Дверей на улицу у вестибюля не было. Вход закрывала непрозрачная пленка силового поля. Оно было настроено на биочастоту каждого из Членов Совета. Верховный Сумматор прошел через поле, как через мыльный пузырь.
Биполярные двери тоже были поставлены недавно, они оказались удобнее прежних дверей с их автоматически раздвигающимися створками. Но привыкнуть к новым дверям он тоже не успел и, каждый раз, проходя через неощутимую, но ясно видимую пленку силового поля, невольно закрывал глаза и наклонял голову.
Он спустился по пологим полукруглым ступеням и зашлепал мягкими подошвами по мокрому пенолиту пешеходной дорожки. Он шел, заложив руки за спину, провожаемый шепотом и взглядами прохожих. Самый известный и самый старый житель Планеты. Он прожил немыслимо долгую жизнь, триста восемьдесят циклов — почти три жизни нормального планетянина. Он уже и забыл, сколько раз Академия Здоровья проводила ему Регенерацию, которая частично обновляла и восстанавливала клетки старого тела. Давно уже у него работают чужие пересаженные почки, чужая печень, чужой желудок. И сердце, сердце тоже не его, а неизвестного ему юноши-астролетчика, который погиб при аварии корабля. Это его молодое сердце бьется сейчас в этой старой груди. Хорошее, сильное сердце!.. Оно еще пригодится кому-нибудь, когда он, Верховный Сумматор, сможет, наконец, перестать жить.
Давно потеряна радость ощущения своего бытия. Он уже как-то просил у Совета разрешения отправиться в Институт Последнего Дня, где его старое тело распылили бы на атомы.
Совет отказал ему в просьбе.
Его голова, его мозг — нервные клетки которого нельзя ни регенерировать, ни заменять — хранит знания, собранные за три поколения. Его опыт, его мудрость, его непогрешимая логика, его дар предвидения нужны Планете сейчас. И сейчас более чем когда-либо.
Все, что он предсказывал еще два поколения тому назад, свершилось…
Тогда из первой межпланетной разведки вернулся Патрульный Диск. Покрытый язвами метеоритных ударов, обожженный пламенем атмосферных слоев, дымящийся Диск опустился на ракетодром. Он привез видеозаписи, которые сделал, облетая по орбите их далекую соседку — Третью Планету.
Было созвано специальное Обсуждение в Совете Трехсот.
В глубоком молчании просмотрели Члены Совета на видеоэкранах картины жизни Третьей Планеты.
Верховный Сумматор сказал:
— Итак, мы убедились, что наши астрономы оказались правы — Третья Планета населена. На ней есть Разум, хотя жители ее еще ведут себя неразумно. В их атмосфере много кислорода, вероятно, поэтому у народов такая буйная горячая кровь. Они много времени тратят на войны и междоусобицы. Их культура и наука пока отстают от нашей на несколько поколений. Но у них много энергии и пылкая фантазия, у них обязательно появятся космические корабли, и они начнут разведки окружающих планет. Мы еще не готовы к встрече с ними. Здесь много причин как морального, так и чисто биологического порядка. Вероятно, каждый понимает, о чем я говорю. На Третьей Планете не знают, что мы существуем, и мы должны, на время, спрятаться от них. Мы не имеем права ошибиться, это может стоить жизни нашим поколениям.
Совет принял решение.
В атмосфере распылили миллиарды объемов ионизированной воды и за облачным занавесом скрылись от любопытных взоров астрономов Третьей Планеты.
Чтобы поддерживать облачные массы, требовались колоссальные затраты энергии. На несколько циклов были выключены все подсобные потребители, вся освободившаяся мощность энергосистем пошла на распыление воды, ионизацию и устройство защитной пелены. Строились сложные установки для управления облачными массами, пришлось создавать станции искусственного климата, а это требовало новых и новых затрат. Некоторые Члены Совета считали все это ненужным — бездна Космоса, разделяющая планеты, казалась им надежной защитой…
И вот сегодня первая автоматическая станция, пробив ионизированный занавес, опустилась на поверхность Планеты Энн. Правда, она не успела послать сообщение — Патрульный Диск вовремя накрыл ее силовым полем экрана.
Третья Планета начала разведку дальнего Космоса…
Верховный Сумматор незаметно добрел до своего дома, так и не избавившись от своих тревожных мыслей и сомнений.
5
Он снял мокрую накидку, бросил ее в ретранслятор. Она исчезла не сразу, а растаяла постепенно, как струйка дыма в воздухе. Верховный Сумматор подумал, что пора сообщить в Бюро Обслуживания, чтобы заменили разрядившиеся энергодатчики, он все время забывает об этом.
В его рабочей комнате стоял простой пластмассовый стол и старинное мягкое кресло.
В этом кресле сидел еще его отец. Верховный Сумматор заменить кресло не пожелал, хотя Бюро Обслуживания предлагало ему новое, современное, с биорегулировкой, которая могла по желанию менять форму, степень упругости, превращаться в спальное ложе и во многое другое. Самый старый человек на Планете… ему позволительно быть кое в чем старомодным.
Верховный Сумматор привычно расположился в кресле, вытянул ноги и сразу почувствовал, как он устал. Устал не физически, он свободно прошагал бы и не такой путь, молодое сердце астролетчика работало уверенно и надежно. Устала его голова. Он устал думать. Изнашивались, распадались клетки мозга, их нечем было заменить. И его колоссальная память уже с трудом и не сразу выдавала нужные сведения. Не изменяла ему только логика мышления; интуиция позволяла Верховному Сумматору решать задачи, перед которыми были бессильны счетно-анализирующие машины Планеты.
Он закрыл глаза. Привычным усилием воли выключил сознание. И окружающий мир, полный забот и тревог, перестал для него существовать.
Верховный Сумматор спал.
Планета Энн продолжала заниматься своими неотложными делами. Бюро Погоды перегоняло облака с Городов на лесные массивы. На Главном Космодроме готовились к испытанию нового Космического Диска на антигравитационной подушке. Институт Проблемной Механики устанавливал машину для свертывания пространства. В Академии Микробиологии спешно искали вакцину против четыреста тридцать пятого вредоносного вируса, обнаруженного в атмосфере Третьей Планеты…
Верховный Сумматор спал. Но сон его был беспокойным.
Сегодня, на Обсуждении в Совете Трехсот, он сказал:
— Рано или поздно народы Третьей Планеты и Планеты Энн встретятся. Две цивилизации сольются в одну и дадут друг другу лучшее, что имеют. Будет один народ на обеих Планетах, одни цели познания мира, одна жизнь. Это произойдет еще не скоро. Но мы должны начать к этому готовиться. Поэтому Патрульному Диску нужно опуститься на поверхность Третьей Планеты и нить Особое Задание…
Верховный Сумматор открыл глаза.
Он не сразу понял, что заставило его проснуться.
Тихий девичий голос где-то за стеной читал нараспев старинную, когда-то всем известную, а сейчас уже позабытую балладу:
…Рыбы, милые рыбы,
Из чужого холодного мира…
Верховный Сумматор повернулся в кресле. Под его взглядом стена посветлела, по ней побежали радужные пятна, и вот она стала прозрачной.
Невысокие пушистые кустарники окружали площадку, засыпанную белым кристаллопластиком. На площадке стоял громадный шар-аквариум. Разноцветные кистеперые рыбы плавали среди сине-фиолетовых водорослей и тыкались в прозрачные стенки шишковатыми безобразными мордами.
Рыб кормила девушка.
Из маленького ведерка, стоящего у ног, она брала щепотки корма и бросала его в воду. Голос ее был еле слышен за стеной. Его хватило только на то, чтобы разбудить тревогу в сердце Верховного Сумматора. И он понял, что тревога и заставила его проснуться.
Девушка бросила последние крошки. Отряхнула ладони и, отступив от аквариума, заложила руки за спину.
Так же, как обычно делал он, Верховный Сумматор…
Как давно он не видел ее. Она много времени пробыла в Изоляторе Биоинститута, где ей делали прививки против смертоносных микробов и вирусов Третьей Планеты. Длительные и тяжелые процедуры. И опасные… Бедная девочка! Похудела, взгляд усталый, под глазами протянулись морщинки. Все это нужно!.. Нужно ли?..
Что-то опять заболело и заныло в груди. Конечно, это не сердце, оно не могло болеть, такое молодое здоровое сердце…
Девушка обернулась тревожно.
Но стена уже опять была непрозрачной…
Что ж, он сам предложил Совету Трехсот ее, как переводчицу для Особого Задания. Он считал, что имеет право подвергать риску ее жизнь, так как это была и его жизнь, его кровь, переданная через два поколения. Он объяснил Совету, что она рискует не более, чем весь экипаж Патрульного Диска.
Но Верховный Сумматор рассказал Совету не все…
6
Патрульный Диск долго шел над самой поверхностью Третьей Планеты.
Пилот придерживался затененной ночной стороны. Лучи пограничных радаров, несомненно, обнаружили диск; чтобы сбить наблюдателей с толку, штурман то и дело выбрасывал в воздух облачка ионизированного газа, тогда экраны радаров пересекали длинные светящиеся полосы, по которым трудно было судить о характере летящего предмета.
Сменный пилот достал из отсека, где лежали запасные части для двигателя, два комплекта одежды с неудобными застежками в виде круглых шайбочек — такую одежду носили все жители Третьей Планеты.
Экипаж диска точно знал, что нужно каждому делать.
Они понимали, чем рискуют.
Понимали и необходимость риска.
И если беспокоились, то только о том, чтобы выполнить Особое Задание как можно лучше. Задание потому и называлось Особым, что за всю историю планеты оно выполнялось впервые.
Диск замедлил скорость и медленно плыл в темноте над громадным материком — самым большим материком Третьей Планеты.
Штурман включил инфравизор. Леса… леса… широкая длинная полоса воды… цепочка огней поперек… берег… плещет волна, шумит ветер в вершинах деревьев.
Скамейка под деревьями…
Двое сидят па скамейке.
Штурман долго вслушивался в монотонное бормотание автомата-переводчика. Потом взглянул на пилота.
Диск наклонился на ребро, скользнул вниз…
Ветер дул на берег.
Короткие и крутые волны речного моря накатывались на песок. Качались верхушки разлапистых сосен.
В лесу было совсем темно. Светлый «Москвич» за кустами боярышника походил на притаившегося зверя. Конечно, в машине сидеть было бы теплее, но там пахло бензином, Аня терпеть не могла этот запах.
На скамейке под соснами показалось вначале холодно. Но вскоре скамейка согрелась, Аня сбросила туфли и легла, положив голову на колени Васенкову. Она попыталась спрятать ноги под юбку, но сумела только прикрыть колени. Тогда Васенков протянул руку. Ладонь его была большая, ее хватило, чтобы закрыть ступни ног. Стало немножко теплее.
Аня притихла и лежала не шевелясь. Было хорошо так лежать и ни о чем не думать. Но рядом был Васенков, и не думать о нем тоже было нельзя.
— Васенков, — сказала она. — Ты что делаешь? Он сидел, запрокинув лицо к темному в созвездиях небу.
— Смотрю.
— Куда смотришь?
— Смотрел на тебя. Теперь смотрю на звезды.
— А куда смотреть интереснее?
Васенков улыбнулся, прижал ладонью подошвы. Ногам стало совсем тепло. Аня повернула лицо.
— Я тоже буду смотреть. Это что за звезда?
— Альдебаран, в созвездии Тельца.
— А это?
— Я не пойму, куда ты показываешь.
— Ну, вот… вот!
— Это — Андромеда.
— А, это та, туманность?
— Созвездие. Туманность не разглядишь.
— Далеко до нее?
— Порядочно. Больше полумиллиона световых лет.
— Ух ты! Васенков, а как ты это все знаешь? Ты же не астроном, а физик.
— Ну, интересуюсь, всем понемножку. Читаю популярную литературу.
— Популярную и я читаю. Вот, скажем, где эти самые… ну, Сейшельские острова?
— В Индийском океане.
— Вот — знаешь! Я про них читала недавно. А где они есть, не запомнила. А ты все помнишь. Наверное, потому, что ты способный, а я простая, посредственная… зато я тебя люблю больше, чем ты меня. Гораздо больше.
— Почему ты так думаешь?
— Потому, что сильнее любить уже нельзя… А где Венера?
— Венеры сейчас не видно.
— А она все летит.
— Кто летит?
— Автоматическая станция.
— Летит. Скоро садиться будет.
— А телекамера на ней есть?
— Вот не знаю.
— Как же ты этого не знаешь? А хорошо, если бы была.
— Там тоже смотреть нечего.
— Почему нечего?
— Условия для органической жизни не подходящие. Температура и все прочее. Кислорода нет. Хотя толком еще никто ничего не знает.
— Вот видишь, не знают! А вдруг… представляешь, сидим мы, смотрим, что станция передает, и на экране такая симпатичная… неорганическая…
— Ящерица!
— Сам ты ящерица. Фу… скажет! Аня приподнялась на локте, вдруг толкнула Васенкова и вскрикнула.
— Ты чего?
— Смотри, смотри!
Васенков послушно задрал голову.
— Пролетело что-то! — воскликнула Аня. — Вот отсюда — туда.
— А чего ты испугалась? Сова, наверное. Или летучая мышь.
— Нет, нет! Большое, круглое…
— Ты еще про летающее блюдце расскажи.
— Васенков, я серьезно. Ох, боюсь! Поехали отсюда. Заводи своего «Москвича». Подожди, не оставляй меня здесь одну!
Аня наспех надела туфли и побежала следом за Васенковым к машине.
Васенков уже изучил сварливый характер и капризы своего старенького автомобиля и обычно находил с ним общий язык. Но на этот раз, безрезультатно повизжав стартером, он откинул крышку капота и убедился, что пробило катушку зажигания. Неисправность была, по шоферским понятиям, редкостная и уже по всем статьям непоправимая — катушку зажигания не ремонтируют.
Станция пригородных электричек была неподалеку. Васенков не стал терять времени и, бросив свой экипаж в кустах, успел посадить Аню на последний ночной поезд в город, а сам вернулся на берег.
Небо сплошь затянуло тучами, в лесу стало совсем темно, и Васенков кое-как разыскал в кустах свою машину. Он забрался на сиденье, собираясь вздремнуть до утра. Просто так, чтобы лишний раз убедиться, включил зажигание и стартер.
Мотор заработал как ни в чем не бывало.
— Вот, черт! — Васенков даже не обрадовался. — Водитель-любитель. Анюте хоть не рассказывай, засмеет.
Прогревая мотор, он включил свет и увидел на скамейке, где они только что сидели, две мужские фигуры в светлых костюмах и шляпах. Они встали и, прикрывая лица ладонями от слепящего света фар, направились прямо к машине.
Покрой их широкоплечих пиджаков и широких брюк с отворотами был явно довоенный.
Васенков удивился.
Откуда бы это? Сейчас, кажется, даже эскимосы и те носят миниюбки и джинсы. И что они делают тут ночью, на берегу. Для купания, пожалуй, холодновато…
Светлые костюмы разделились. Один пошел справа, другой слева, как бы беря машину в кольцо. Неужели…
— Глупости! — отмахнулся от такой мысли Васенков. Сейчас попросят довезти их до ближайшей станции или гостиницы. Он опустил стекло и высунул голову.
* * *
Много времени спустя, когда он лежал в больнице, и после того, как выписался из нее, Васенков тщетно пытался вспомнить: что же произошло потом. Вот он покрутил ручку, опуская стекло, высунул голову из машины…
Далее был мрак, пустота, черное небытие…
7
Сознание вернулось сразу.
Васенков почувствовал, что лежит на спине, вытянувшись на чем-то упругом, хотя и не очень мягком. Руки были вытянуты вдоль тела; шевельнув пальцами, коснулся бедер и понял, что он совсем обнажен.
В больнице?
Совсем близко, возле глаз поблескивала гнутая прозрачная поверхность, похожая на крышку. Васенков догадался, что лежит в чем-то похожем на саркофаг. Мимо лица проплывали струйки зеленоватого дыма, будто кто курил рядом папиросу. Но дышалось легко — зеленоватый дым не имел запаха.
Через прозрачную крышку был виден потолок комнаты, матово-белый, освещенный изнутри и покрытый странным узором, похожим на рыбью чешую.
Да, на больницу это не походило!
Голова работала отлично, мысли были ясные и отчетливые. Васенков помножил двадцать четыре на тринадцать и понял, что он не бредит, а видит все это воочию. И прозрачный саркофаг, и комната, и струйки зеленоватого дыма — все это было необычным и удивительным, однако удивительнее всего было то, что он принимал все окружающее как самое обычное, повседневное, будто он проснулся в своей комнате, на своей постели.
Он повернул голову.
И опять он не удивился, хотя мог бы заверить честным словом, что никогда в жизни не видел такого лица. На первый взгляд это было обычное девичье лицо, и все же оно чем-то отличалось от всех лиц, которые он видел до этого и даже если и не видел, то мог бы нарисовать в своем воображении. Может быть, в этом повинны глаза девушки: темно-голубая радужная оболочка их была значительно увеличена, по сравнению с привычной, нормальной, взгляд их казался глубоким и загадочным, и Васенков вспомнил невольно рафаэлевскую Сикстинскую Мадонну — только могучее воображение художника могло создавать такие неземные и в то же время такие человеческие глаза.
Через прозрачную крышку девушка спокойно рассматривала Васенкова, и внезапно он так отчетливо представил себе, как он лежит перед ней, беспомощный и голый, как червяк.
Он смутился, покраснел.
Девушка подняла голову.
Губы ее шевельнулись, она что-то сказала — крышка приглушила звуки.
Мужчина стоял с другой стороны и поодаль — Васенков мог разглядеть его всего, с ног до головы. Он был одет в светлую просторную одежду, похожую на дачную пижаму. Частая сетка старческих морщин покрывала его лицо. Он тоже смотрел на Васенкова, и глаза его были такие же необычные, как у девушки. Только взгляд их показался Васенкову холодным, даже враждебным. И лежать под таким взглядом было уже не столько стыдно, сколько унизительно.
Васенков шевельнулся нетерпеливо.
Мужчина не торопясь повернулся, подошел к стене… и исчез. Он не вышел через дверь, там не было ни прохода, ни дверей — чистая гладкая стена. Васенков видел ее хорошо. Казалось, мужчина просто прошел через нее. Это было не удивительно, а просто непонятно.
«Тут что-то не так!» — подумал Васенков.
В это время крышка саркофага сдвинулась и запрокинулась набок. Хлопья зеленоватого дыма растаяли в воздухе.
Васенков приподнялся, подобрал под себя ноги и сел.
Комната напоминала не то лабораторию, не то медицинский кабинет. Длинный узкий стол, на котором сидел Васенков, сильно походил на хирургический; тянулись к столу резиновые шланги и провода, матово поблескивали на тумбочках циферблаты незнакомых приборов. Васенков еще раз взглянул на стену, в которой исчез мужчина, и по-прежнему ничего там не разглядел. И вообще в комнате не было и следа каких-либо окон или дверей — белые гладкие пластмассовые стены и чешуйчатый светящийся потолок.
Сознание Васенкова работало чуть лениво, как после хорошего сна. Девушка стояла рядом и продолжала разглядывать его спокойно, как больного, пришедшего в себя после наркоза. Васенков и сам бы подумал, что лежит где-то в больнице — мало ли каких кабинетов ни настроили в клиниках. Вот только эти стены… Да и сама девушка уж никак не походила на медсестру.
Пижаму бы принесла, что ли!
Он не успел ничего сказать, девушка молча кивнула головой и направилась в угол. Васенков, конечно, поглядел ей вслед. Она была одета в короткий, похожий на купальный, халатик. На загорелых ногах были затейливые плетеные сандалеты без каблуков.
Она совсем недолго задержалась в углу, где ничего не стояло и ничего не висело, тем не менее вернулась оттуда с одеждой. Молча подала ее Васенкову и отступила на шаг.
Васенков ожидал, что оно уйдет или отвернется хотя бы. Не мог же он одеваться, когда она смотрит! Он хотел спуститься со стола на противоположную сторону, но там висела крышка.
Черт знает что!
Он нахмурился, и на лице у девушки появилось легкое недоумение, она даже моргнула растерянно. Потом повернулась спиной.
Давно бы пора сообразить!.. Он быстро разобрался в одежде, нашел брюки, сунул в них разом обе ноги и спрыгнул на пол. Брюки оказались впору — он был узок в бедрах. Но куртка явно не налезала на плечи. Он сильно повел руками, ожидая, что тонкая ткань пижамы расползется по швам. Но куртка, как стальная кольчуга, только врезалась в тело, стесняя движения. Васенков хотел ее снять, но никак не мог зацепить пальцем рукав.
Тогда девушка протянула руку, дернула за рукав и куртка снялась. Девушка унесла ее обратно, в тот же угол. На этот раз Васенков смотрел во все глаза. Угол на самом деле был пуст, плавно сходились две стены — и все. Она бросила куртку в угол. Куртка исчезла. Вместо нее в руках появилась другая.
Васенков сильно моргнул. Тряхнул головой.
Здорово походило на фокусы Кио, хотя заниматься ими здесь вроде бы и не было надобности…
Новая куртка оказалась даже свободной. Пуговиц и застежек каких-либо Васенков на ней не нашел. Полы куртки просто прилипали одна к другой, как намазанные клеем. И это оказалось даже удобнее пуговиц.
Он посмотрел на свои босые ноги и увидел на полу сандалеты. Такие же плетеные, как у девушки. Откуда они появились, он не заметил. Когда спускался со стола, их, похоже, не было.
Он пригладил волосы и повернулся к девушке.
— Здравствуйте! — сказал он.
— Здравствуйте! — ответила она, слегка нараспев. — Как вас называют?
— Зовут, — поправил Васенков.
Сонное оцепенение проходило медленно, и удивляться он начал уже потом.
8
Он не спрашивал ничего.
Девушка рассказала все сама.
Она говорила минуты две, не более, и как ни фантастично было все, что Васенков услышал, он поверил в это сразу.
Да, он находился на обитаемой Планете. Девушка назвала ее Планета Энн. Разумеется, это ничего не говорило Васенкову, но девушка пока не сообщала никаких астрономических ориентиров, по которым можно было понять, что это за планета. Условия жизни на ней были схожи с земными, и населяли ее, естественно, разумные существа, внешне почти не отличающиеся от земных людей. А если судить по этой девушке, то таких на Земле, по мнению Васенкова, еще пришлось бы поискать.
Точного ее имени он, как ни старался, произнести не мог. На их певучем языке это звучало нечто вроде Ллииинн. Простая длительность звука, как мог заключить Васенков, коренным образом меняла значение слова. Непривычное ухо его не различало таких тонкостей, поэтому он попросил разрешения называть ее просто Линн.
Она кивнула согласно, хотя и улыбнулась чуть. Возможно, это слово обозначало что-либо па их языке, но она не стала объяснять.
Линн свободно говорила по-русски и по-английски — в специальном Институте по изучению Третьей Планеты преподавались именно два этих языка.
Вопросов, разумеется, у Васенкова было множество. Однако он считал, что узнает все в свое время, а пока старался не быть излишне любопытным. Меньше всего ему хотелось походить на малограмотного простачка, попавшего в окружение технических чудес.
Конечно, чудес здесь не было. Было тонкое владение тайнами строения материи. Высочайшая, доведенная до совершенства техника — и все! Васенков это так и принимал. Он считал себя способным инженером и, тем не менее, многого объяснить себе не мог. Это действовало на самолюбие, и он не хотел выражать своего удивления вслух.
А удивительного было сколько угодно!
Например, эти стены!
В комнате, в которую они попали из лаборатории, также не было ни окон, ни дверей. Линн просто подошла к стене… и шагнула прямо в нее, как будто стена была из неощутимого, хотя и видимого вещества. Васенков, идя следом, оторопело замешкался. Линн оглянулась, он шагнул поспешно, и стена тут же сомкнулась за его спиной. Он обернулся, потыкал в стену пальцем, взглянул на Линн… и ничего не спросил.
Комната была вначале пуста. Столик и две мягкие скамеечки появились незаметно, не то из-под пола, не то из стены — он даже не заметил, откуда именно.
— Сейчас я буду вас кормить, — сказала Линн. — Вы хотите есть?
Васенков подумал.
— Что-то не пойму. А я долго к вам летел?
— Не очень?
Она уклонилась от точного ответа, он не стал, переспрашивать.
Легонько, одним пальцем Линн толкнула легкий столик к стене. Потом прямо из стены достала тарелочку, за ней другую… третью… Васенков отвернулся, присел на скамеечку и уставился на потолок.
По чешуйчатой поверхности потолка побежали, вздрагивая и переливаясь, разноцветные зелено-голубые сполохи, похожие на игру северного сияния… и Васенков услыхал музыку. Он повертел головой, пытаясь определить, откуда она доносится, и тут же догадался, что музыка рождается внутри него, в его сознании, вот от этих зелено-голубых мельканий. Он закрыл глаза — и музыка стихла.
Цветовая психотехника!
И Васенков даже обрадовался, что хоть что-то из увиденного смог понять и объяснить.
Линн подкатила к нему столик и начала снимать крышки с тарелочек. Кушанья выглядели весьма необычно, но пахли вкусно. Зато столовый прибор мало чем отличался от земного. Васенков с удовольствием взял в руки вилку — нехитрую четырехзубую конструкцию из приятного золотистого металла. И подумал, что если даже здесь не сконструировали ничего, что могло бы заменить вилку, то это значит, она и на Земле просуществует еще долго, пока люди не сотворят какие-либо питательные таблетки или не начнут выдавливать съедобную пасту из тюбиков прямо в рот, как космонавты.
Тарелочек перед Васенковым стояло много, и он не знал, с чего начать. Как бы ни оправдывало его незнание местных обычаев, ему не хотелось выглядеть смешным. Линн и тут догадалась о его затруднениях. Ничего не говоря, она начала есть сама. Поглядывая на нее, Васенков подвинул к себе тарелочку с чем-то похожим на вермишель. По вкусу еда напоминала рыбу. Съел котлету, похожую на мясную, но это оказалось не мясо.
Немного освоившись, он просто подвигал к себе одну тарелочку за другой и запивал чем-то, похожим на крюшон.
А потом Лиин толкнула столик, и он уехал сквозь стену.
Когда столик вернулся, на нем стояла большая круглая ваза, как будто хрустальная. Через ее края на стол свешивались большие фиолетовые цветы странной формы, с четырьмя клиновидными лепестками и ярко-золотистыми длинными тычинками. Кажется, цветы были настоящими — в вазу была налита вода.
Васенков устроился поудобнее на скамеечке, вытянул ноги… и вдруг почувствовал, как скамеечка под ним шевельнулась, задвигалась.
— Не пугайтесь, — сказала Лини.
И Васенков понял, что сидит в мягком покойном кресле и руки его лежат на подлокотниках.
— Вам удобно? — спросила Линн.
Спинка его кресла, словно живая, качнулась взад… вперед, как бы отыскивая наилучшее для Васенкова положение.
— Спасибо! — сказал он. — Мне уже хорошо.
9
Линн молчала.
Васенков выжидательно сложил руки на коленях. Он не собирался начинать разговор. Он не напрашивался в гости, и, коли уж его сюда привезли, пусть объяснят сами, зачем он здесь понадобился. И если здесь считают, что это начало контакта двух культурных миров, двух цивилизаций, то, прямо говоря, начало плохое. При таком уровне культуры можно было придумать что-либо умнее похищения…
Линн протянула руку и взяла из чашки цветок. У цветка оказался длинный, как у кувшинки, стебель, он прочеркнул по столу мокрую полосу. Потом Васенков явственно почувствовал, что Линн смотрит на него. И ему показалось — он даже как-то ощутил это, что Линн уже знает, о чем он думает и о чем хотел бы узнать и говорить. И хотя ему нечего было стесняться ни своих мыслей, пи будущих слов, он почувствовал неловкость не за себя, а за Линн, словно уличил ее в подглядывании в замочную скважину.
Он насупился и покраснел. И Лини тотчас опустила глава.
— Извините меня! — сказала она тихо.
Васенков только вздохнул.
— Я не буду больше так делать, — продолжала Линн, — не сердитесь.
— Ничего, — сказал Васенков. — Я уже не сержусь. Он поднял глаза к потолку и прислушался к музыке. Непонятные мелодии набегали, сменяли одна другую. Казалось, музыка пытается подстроиться к его настроению… он вздрогнул от неожиданности, услыхав звуки Четвертой симфонии Чайковского, до того она показалась неуместной в этом неземном пластмассовом мире. И тут же симфонию сменили певучие неторопливые созвучия. Васенков прислушался с любопытством… чуть бы потише! — и музыка послушно притихла.
Положив руки на стол, Лини перебирала сине-фиолетовые лепестки цветка. Золотистая пыльца пачкала ее пальцы. Она уже не смотрела на Васенкова.
Он решил, что ему незачем повторять свои вопросы вслух.
Лини начала говорить сама.
Она негромко и слегка нараспев произносила слова, изредка останавливаясь, очевидно, подбирая нужное ей выражение на чужом, малознакомом ей языке, и Васенков не мог не признать, что она справлялась со своей задачей хорошо.
— Я согласна, — сказала она, — мы привезли вас сюда без вашего согласия, мы поступили не очень… — она запнулась.
Васенков великодушно пришел ей на помощь:
— Не очень хорошо, — подсказал он.
— Не очень хорошо, да, — послушно повторила Лини. — Это плохой начал… плохое начало, — поправилась она сама, — для контакта двух цивилизаций.
Она повторила слова, которые он еще не успел произнести, улыбнулась чуть виновато. «Как они это умеют? — подумал Васенков. — Парапсихология!..». Он нервно постучал по подлокотнику кресла пальцами, хотел спросить. Но Линн по-прежнему не смотрела на него, и он не спросил.
За все время разговора она ни разу не подняла на него глаза.
— Встреча с вами, — продолжала Линн, — это еще не начало контакта. Это случайная встреча. После нее… после нее все останется как был… как было. Вы ничего не будете о нас знать.
— Почему? — спросил Васенков.
И подумал: «А как же я? Я-то ведь уже знаю… Куда же денут меня?».
Но эта мысль мелькнула и исчезла, не вызвав особенной тревоги. Почему-то Васенков был уверен, что с ним здесь ничего плохого не может случиться.
— Вы боитесь нас? — спросил Васенков.
— Да, — согласилась Линн. — Мы боимся, потому что многого еще не понимаем. Вся история вашей Планеты — это войны и войны без конца. Мы не можем без страха смотреть на экранах картины ваших сражений. У нас не было этого. Мы сражались только с природой, которая всегда была к нам… немилостива. У вас все шло иначе.
«Да, у нас все шло иначе!»… — подумал Васенков.
— У вас много, очень много хорошего, — продолжала Лини. — Нам бы очень хотелось встретиться. Но это время еще не пришло. Мы должны подготовиться к встрече. Поэтому Верховный Совет Планеты — Совет Трехсот решил познакомиться с представителем вашего мира. И вот вы здесь.
— На Земле более трех миллиардов представителей. Почему ваш выбор пал именно па меня? Или это произошло случайно?
— Не совсем. Вы гражданин страны, которая особенно настойчиво ведет разведку окружающих планет, — сказала Линн.
Васенков хотел быть объективным:
— Американцы тоже ведут.
— Да, мы знаем, — согласилась Линн. — Но вы, русские, первыми начали строить общество будущего, нам легче вас понять. Поэтому мы выбрали вашу страну. Нужен был представитель этой страны, который мог бы ответить нам на вопросы.
— Вот как? — сказал Васенков. — Мне будут задавать вопросы? Кто, вы?
— Нет. Совет Трехсот.
— О чем же?
Линн помолчала.
— Вы не знаете? — спросил Васенков.
— Примерно знаю. Лучше будет, если вы услышите их на Совете. Мы запишем на диктографе ваши ответы, ваши мысли, ваши эмоции и попытаемся составить представление о вашем земном характере.
— Чем же наш характер так непонятен?
— Своей нелогичностью. Здесь, у нас, наши дела, наши поступки всегда подчиняются логической необходимости: так нужно! Вы у себя на Планете часто говорите: Я так хочу! И делаете поступки, совершенно непонятные для нас.
— Пожалуй, это будет нелегко вам объяснить, — сказал Васенков. — А вы не считаете, — не утерпел он, — что скучно и утомительно все время жить по закону так нужно?
— Может быть, — согласилась Линн. — Но мы не привыкли жить иначе.
— Значит, — решил уточнить Васенков, — основное, что мешает встрече, — это неустройство наших домашних дел?
— Не только это, — сказала Линн. — Есть опасность более грозная. Ваши микробы.
— Микробы?
— Много поколений тому назад мы у себя на Планете уничтожили все инфекционные болезни и полностью потеряли способность вырабатывать иммунитет. Вы можете свободно жить среди нас, дышать нашим воздухом. Но мы уже не можем дышать тем воздухом, которым дышали вы. Эта комната, в которой мы сидим, изолирована от атмосферы Планеты специальным полем биозащиты.
— Неужели я так опасен? Вы же окуривали меня вашим газом.
— Это была только поверхностная обработка экзоном. Она не сможет уничтожить всех ваших микробов. Все поры вашего тела наполнены вирусами, большинство из них смертельны для нас. Вы один способны погубить все население нашей Планеты.
— А как же вы сидите со мной? — спросил Васенков.
— Я проходила специальную процедуру иммунизации против ваших болезней. Это очень трудно… и очень неприятно. И она все-таки тоже не защищает полностью.
— Ну, а люди, которые меня сюда привезли?
— Пилоты, выполнившие Особое Задание, — пояснила Лини. — Они тоже проходили иммунизацию.
— Они дышали воздухом моей Планеты. Они остались живы?
Линн не ответила.
Она оторвала от цветка лепесток, положила его на стол. За ним рядом другой… третий.
На цветке остался один лепесток.
— Неужели? — только и мог сказать Васенков.
— Да, — кивнула Линн. — Последним погиб сменный пилот. Он успел усадить вас в противоперегрузочное кресло, включить кислород… На космодром Диск привели уже автоматы.
— Отчего же они умерли?
— Вирус сто девяносто второй. Вы называете его — грипп. Для вас это простой насморк. Для нас пока это — смертельная болезнь.
— Подумать… У вас такая техника, медицина… А пилоты умирают от простого гриппа. Неужели вы не могли найти вакцину?
— Наши медики думали, что нашли. Процедура иммунизации защищает от многих болезней, но не от всех. Одних вирусов гриппа на вашей Планете более двухсот. Это наши медики обнаружили столько. А сколько их на самом деле, не знает никто.
— Значит, — решил уточнить Васенков, — находясь в моем обществе, вы рискуете заразиться каким-либо неведомым вирусом? Почему вы не отгородитесь от меня вашим полем биозащиты?
Склонив голову, Лини разглаживала на коленях последний оставшийся на цветке лепесток.
— Мне нельзя… отгородиться от вас… полем биозащиты, — наконец сказала она.
— Но почему? — настаивал Васенков. — Вы таким образом проверяете надежность новой вакцины? Или еще чего-нибудь?
Лини тихо вздохнула.
— Не спрашивайте меня.
— Это что, секрет?
— Не сердитесь… Хорошо, я объясню. Поле биозащиты изолирует полностью. Я перестаю чувствовать вас, а мне это важно. Не просто уловить вашу мысль, ее возникновение, ее развитие. Я тогда лучше понимаю вас… — Помолчав, она добавила убежденно: — Мне очень нужно верно понять вас.
— Очень нужно… — повторил Васенков. — Ну, а я? После того, как я буду вам не нужен, куда вы денете меня?
— Вас отправят обратно, сразу после Совета.
— А вы не боитесь, что я у себя на Планете раскрою вашу тайну?
— Нет.
— Вы возьмете с меня слово?
— Тоже нет.
— Не понимаю тогда, — нахмурился Васенков.
— Просто у вас в памяти сотрут все воспоминания, начиная с того момента, как вы очнулись под колпаком биообработки.
— Вот оно что… — Васенков задумался. — Любопытно, конечно, как это вы сделаете. А у меня, случайно, не сотрут чего-либо моего, земного? Знаете, мне не хотелось бы кое-что забывать.
— Вашего не тронут. Только то, что связано с нами.
— Это сотрут все?
— Все!
— И даже вас?
Васенков сказал это с улыбкой.
Но Линн не улыбалась.
Она, впервые за все время разговора, подняла глаза, они были чуть печальны.
— Меня сотрут в первую очередь.
Она смяла в руке цветок с единственным лепестком. Потом медленно раскрыла ладонь. Ладонь была пуста. Цветок исчез. Васенков подумал, что Линн уронила его на пол, и взглянул под стол. Под столом тоже не было ничего.
Васенков откинулся па спинку кресла. Оно уже не казалось ему таким удобным и мягким. Он почувствовал, что устал, устал от чудес, от разговора с Линн, от ее неземных и прекрасных, до боли непривычных глаз.
И почувствовал, что ему хочется домой, на свою родную, понятную Планету Земля.
— Сейчас начнется Обсуждение в Совете Трехсот, — сказала Линн.
10
Слабо разбираясь в нейробиологии, Васенков все же знал, что даже медики не могут толком объяснить, что такое память и где она помещается. Поэтому он плохо представлял себе, как это можно в хитрых закоулках его мозга, среди миллиардов нервных клеток, хранящих информацию, разыскать нужные и стереть в них записи, как стирают ненужную строчку в рукописи.
И вот он убедился, что это возможно.
Он был на Обсуждении в Совете Трехсот. И уже не помнит, что он там говорил.
Единственно, что осталось в памяти, — огромный зал, с высокими сводами. Стены расходятся под углом, образуя сектор круга. Он сидит в кресле, в вершине угла. Линн стоит за креслом, совсем близко, он чуть слышит ее дыхание.
Перед ним на скамейках, выгнутых по все удлиняющимся дугам, сидят Члены Совета. Он уже не помнит их лиц. Он не понимает, как сюда попал.
Только что они сидели в комнате. И после слов Линн стены комнаты начали светлеть, по ним заструились дымчатые пятна. Пятна исчезли, за ними растаяли стены, и вот он увидел этот зал.
Впереди всех на отдельном кресле сидел мужчина с морщинистым, старческим лицом. Опустив на грудь голову, он не глядел ни на кого и был неподвижен, как статуя. Внезапно он поднял ладонь, и движение в зале затихло. Губы его шевельнулись. Силовое поле биозащиты не пропускало ни звука.
Линн сказала за спиной:
— Верховный Сумматор спрашивает: готов ли Гражданин Третьей Планеты отвечать?
— Да! — сказал Васенков. — Готов!
Потом, как очнувшись после сна, он увидел себя опять в комнате. Рядом не было Линн, не было столика с цветами. Не было кресла — Васенков сидел на широком и мягком ложе. Внутреннее чувство подсказывало ему, что с того момента, как ему задали вопрос, прошло около часа.
Что произошло в это время?
О чем его спрашивали? Что он отвечал?
Все уплыло из памяти, как утреннее сновидение. Васенков вдруг сообразил, что уже плохо помнит и тот момент, как он очнулся под колпаком биообработки и увидел лицо Линн. Кто-то могущественный хозяйничал в тайниках его мозга, перелистывал его память, как книгу, смывая многие строки. Пока Лини была рядом, Васенков ни о чем не беспокоился, одно ее присутствие как бы заверяло, что с ним ничего плохого не случится.
Он не знал, почему и когда она покинула его.
— Линн! — позвал он. — Линн!
И ему стало не по себе.
Он поднялся, взволнованно прошелся по комнате. Постучал в пластмассовую стену кулаком.
— Линн!..
Свет в комнате начал меркнуть. Темно-зеленое зарево задрожало на потолке. Комната наполнилась зыбким сонным туманом. Васенков упрямо тряхнул головой, но зеленые волны уже топили, захлестывали сознание.
Он устало опустился на ложе.
Багровые мятущиеся полосы побежали по стенам. Васенков закрыл глаза… над головой закачались темные вершины сосен… он услыхал, как зашумели волны речного моря… под его рукой маленькие ступни Ани, и ему хорошо, и ничего не хочется делать, ни думать, ни говорить…
11
Светлым лучиком через черную пустоту пробился знакомый просящий голос:
— Васенков! Ну, проснись… открой же глаза, милый…
Чьи-то руки коснулись его лица, тут голос стал ясным, хорошо слышимым, и Васенков почувствовал нестерпимую радость и улыбнулся прежде, чем открыл глаза.
Он увидел потолок, покрашенный известкой, — были заметны даже следы от кисти, а в углу, там, где проходили трубы отопления, расплылось темное пятно. Потом все закрыло лицо Ани, плачущее и смеющееся одновременно. Она опустила голову на плечо, и тогда он увидел знакомого бородатого врача местной больницы — совсем недавно Васенков устанавливал кардиограф в его кабинете.
— Доктор, — сказал Васенков. — Я рад вас видеть, доктор. Как работает ваша техника?
— Что я вам говорил? — повернулся врач к кому-то за своей спиной.
Васенков почувствовал, как горячие слезинки покатились по шее за воротник рубашки. Волосы Ани лезли ему в рот, он убрал их и поцеловал ухо, которое оказалось возле его губ.
— Больной в порядке, — сказал врач, — Сейчас мы все узнаем.
Но Васенков так ничего и не мог рассказать.
Его «Москвич» нашли утром в кустах, на берегу речного моря. Зажигание было выключено, но ключ торчал в щитке. Прибывший автоинспектор без хлопот отогнал машину по адресу. Васенкова дома не оказалось. Не было его и в институте. Аня уже в милиции рассказала о событиях прошедшего вечера. Она упомянула и о «летающем блюдце», но никто не принял этого сообщения всерьез.
Васенков нашелся на седьмой день.
…Два обских рыбака, вернувшись после утреннего осмотра переметов, обнаружили в своей избушке незнакомца. Он лежал на их постели и был не то без сознания, не то спал, но так крепко, что добудиться его не могли, Не могли и сообразить, как он попал к ним в избушку в наглаженных брючках и начищенных ботинках, хотя избушка находилась среди зарослей, в добром десятке километров от ближайшей пристани.
— Вот мы с Василием и подумали, — рассказывал рыбак дежурному районной милиции, — что этого парня не иначе как с самолета к нам скинули. С парашютом, значит. А то как бы он, такой чистенький, к нам добрался. Может, трахнулся обо что, вгорячах не заметил, а потом уже сознание потерял. Одет-то не по летному — брючки, рубашечка. Сомнительно нам стало… Значит, его Василий сейчас там на мушке пока держит, вдруг очнется. А я в лодку, и к вам.
Катер рыбнадзора быстро доставил милиционера к рыбакам.
Незнакомец продолжал спать. В кармане его куртки нашли удостоверение шофера-любителя…
Пока Васенков попал в свою больницу, его несколько раз переносили на руках, из рыбацкой избушки в катер, затем на машину, на самолет, опять на машину — он так и не проснулся.
Аню в больницу пригласил врач.
Васенков пришел в себя сразу, как только она назвала его по имени.
Его история поначалу весьма заинтересовала следователя. Потом выяснилось, что объяснить все случившееся похищением, с целью выведать у Васенкова какие-либо государственные тайны, не было оснований. Он не имел отношения ни к секретным изобретениям, ни к другим подобным делам. Васенков пытался помочь следователю, как мог. Но последнее, что он помнил, это двое мужчин в светлых костюмах довоенного покроя. Старомодность костюмов сбивала с толку, а других подробностей Васенков не помнил.
Вероятно, и поныне в архиве следственного отдела лежит тоненькая папка с кратким пересказом случившегося и заключением следователя, что дело прекращено за отсутствием каких-либо дополнительных материалов…
12
…На чешуйчатом потолке медленно погасло темно-зеленое зарево. Багровые мятущиеся сполохи побежали по стенам. Комнату затопил розовый дрожащий туман. Багровые вспышки становились все резче и резче, нестерпимо-томительное беспокойство овладело сознанием.
Тонкая белая фигура прошла через стену и присела рядом с ним на ложе.
— Аня!
Огромные неземные глаза заглянули в лицо. И тогда он откинулся назад и сказал: нет! нет!..
* * *
— Васенков!
Он проснулся.
Через шторы на окнах в комнату проникал слабый свет начинающегося утра. Аня трясла его за плечо.
— Хм… Ты что? — стряхивая сон, спросил Васенков.
— Напугал меня. Говорил что-то во сне.
— Говорил… Что говорил?
— Не поняла. Будто звал кого-то.
Васенков сильно потер лицо. Внимательно осмотрел потолок. Он сам не знал, зачем ему понадобился потолок. Потом повернулся к Ане.
— Приснилось что-то… А ты чего поднялась? Рано еще, спи… жена.
Он запнулся на непривычном пока слове.
— Я уже выспалась. Я так полежу.
Аня свернулась клубочком у него под боком. В комнате было тепло и тихо. Далеко на проспекте прогудела машина. Забормотало радио на кухне, передавая последние известия. Васенков прислушался. Протянул руку, включил самодельный транзистор на тумбочке у кровати.
— …совершила мягкую посадку на Венеру… — сказал приемник, хрипнул и замолк.
— Вот, черт!
Васенков взял транзистор в руки, нетерпеливо постучал по нему пальцами.
— …при спуске станция передала сведения… давление… кислорода… углекислоты… температура…
Не выпуская приемника из рук и временами поколачивая его, Васенков и Аня дослушали сообщение.
— Значит, необитаемая, — сказала Аня.
— Выходит, так…
— Жаль. Мечту жаль… А может, все же кто-нибудь живет там, а?
— Органической жизни, как видно, нет. Температура высокая. Можно в порядке фантазии предположить существование разумной жизни на другой основе. Не углеводородный белковый, а, скажем, кремниевый мир.
— Кремниевый?.. Это вроде как каменный?
— Да, вроде.
Аня повозилась возле плеча Васенкова.
— Вот бы тебе такую… кремниевую жену.
— Что ты! — сказал Васенков. — Ну зачем мне кремниевую.
И он поцеловал ее теплую и румяную щеку.
13
Теперь Верховный Сумматор кормил рыб сам.
Бросив последние крошки, он отряхнул руки. Заложил их за спину. Долго стоял поникший и бездумный. Смотрел, как плавают в аквариуме разноцветные рыбы, тычутся в прозрачные стенки уродливыми носами.
…Рыбы, милые рыбы,
Из чужого холодного мира…
То, чего он боялся, свершилось.
Он уже начал было надеяться. Но потом она умерла…
Он медленно побрел в свою комнату. Устало опустился в кресло. Ему не хотелось ничего делать. Не хотелось ни о чем думать.
Особое Задание… Четверо уже отдали за него жизнь.
Верховный Сумматор наклонился к столу и включил диктограф. И в который раз уже услыхал голос, сильный уверенный голос. Незнакомый язык, но он уже знал его перевод:
— …Человечество Земли прошло долгий и кровавый путь своего развития… — он хорошо говорил, этот юноша, он понравился всем и даже ему, Верховному Сумматору. — …Было много ошибок, общественных катастроф и еще много трудного впереди. Но уже отыскана дорога, которая может, — которая должна! — привести наши разноязычные народы к вечному миру и содружеству. Моя страна, мой народ не причинят вам вреда, за это я готов поручиться жизнью. Но я не могу говорить так от имени всех стран нашей Планеты. Поэтому поступайте, как подсказывает вам ваш опыт и ваша мудрость…
Верховный Сумматор поднял глаза. Потолок посветлел и исчез, и над ним раскинулась мутно-серая пелена облаков. Но он как бы смотрел через объектив деполяризатора и видел чистое, темно-синее небо в гроздьях созвездий.
И там, невысоко над горизонтом, мерцала крохотная голубоватая звездочка — далекая Третья Планета. Пока далекая…
БАКТЕРИЯ ТИМА МАРКИНА
Дуракам и грамота вредна.
(Пословица)Спрашивать Тима Маркина, зачем он вывел эту дьявольскую бактерию, было все равно, что спросить бога, для чего тот создал комаров.
Дураком он не был — я говорю про Тима Маркина, разумеется. Кое в чем он разбирался. Микробиологию, например, знал куда лучше любого из нас, и биографию какой-нибудь там сонной трипанозомы, вероятно, помнил подробнее, нежели свою собственную. За микроскопом он мог просиживать сутками и тем Самым до смерти надоедал нашей препараторше, которая из-за него никогда не могла вовремя прибрать лабораторию.
В конце четвертого курса Тим Маркин выступил на кафедре с докладом. Он рассказал нам о своих работах и наблюдениях по культивации микробов в искусственных средах.
Мы не очень любили Тима Маркина, но доклад его прослушали с великим интересом, как какой-нибудь приключенческий роман: поговорить о микробах он умел.
Вот тогда-то заведующий кафедрой микробиологии профессор Янков и произнес свои знаменитые слова, которые потом я вспоминал не один раз.
— Вы очень способный юноша, Маркин, — сказал профессор Янков, — больше того, у меня никогда еще не было студента, который бы умел крутить ручки у микроскопа лучше, чем это делаете вы. Еще раз вы доказали и мне и всем присутствующим, что микробиологию знаете, я бы хоть сейчас мог вас освободить от защиты диплома. И все же… — тут профессор Янков сделал продолжительную паузу, — и все же, я не уверен, что вы не сделали ошибки, решив изучать медицину, а не, скажем, археологию. Вы, конечно, не понимаете меня?.. Я так и думал… Вы, Маркин, работаете ради одного любопытства. Оно у вас огромно и помогает вам находить оригинальные пути и методы к открытию незнаемого. Но медику одного любопытства мало. Глядя в микроскоп, он должен видеть не только микробов, но за ними и страдающее человечество. А вот этого страдающего человечества вы, как мне кажется, не видите. Не хотите видеть.
И Тим Маркин, и все присутствующие выслушали это с вежливым вниманием. Нам было по двадцать с небольшим, вежливости нас успели научить, но мудрыми мы, конечно, не были. Поэтому сочли слова старого профессора излишне сентиментальными, чтобы принимать их всерьез.
Тим Марким, я уверен, не помнит их и сейчас, даже после всего того, что случилось…
Я уже говорил, что, несмотря на свои таланты, он среди нас симпатиями не пользовался.
Только на это были свои причины.
Человек, как известно, существо общественное и живет среди себе подобных. Чтобы не так уж часто наступать друг другу на ноги, пришлось выработать правила общественного поведения, условные, как правила уличного движения, но и такие же необходимые.
Повинуясь этим правилам, мы говорим «здравствуйте» и «спокойной ночи!», уступаем место женщине, спрашиваем, кто последний в очереди, и не перебиваем приятеля, когда он по забывчивости в третий раз рассказывает один и тот же анекдот.
Все эти условности воспитываются в нас с детства и привычным кодом укладываются в сознании.
У Тима Маркина такого кода не было.
Не потому, что он правила отрицал. Он о них просто не думал. Он вообще мало думал о вещах, которые не мог сунуть под микроскоп. Рассеянный и невнимательный к людям, он щедро наступал на соседские мозоли. От того, что делал он это без умысла, соседям легче не было. Находиться рядом с ним было не только неприятно, но и опасно. Вообразите, что шофер такси вдруг позабыл правила уличного движения.
Не думайте, что сравнение уж очень притянуто, — я еще не закончил свой рассказ,
Почему Тим Маркин вырос таким невоспитанным — понять было трудно. Родители его были вполне приличными людьми. Отец — полярный летчик-орденоносец. Мать — кандидат медицинских наук, много лет работала в Бразильском Международном Институте по ликвидации лихорадок в бассейне Амазонки. Единственное, что представлялось понятным, это причины, заставившие Тима Маркина поступить в институт микробиологии. Как он сам рассказывал, когда мать писала свою диссертацию, ему было менее года. Она работала дома, и если сын ей очень мешал, совала ему в кроватку старый микроскоп.
Наверное, поэтому Тим Маркин и в институте относился к микроскопу как к занимательной игрушке.
Есть вещи, к которым нельзя относиться несерьезно…
Так как общение с Тимом Маркиным не доставляло удовольствия, то в институте все старались держаться от него подальше. Я вообще пытался его не замечать. Но не заметить Тима Маркина было нельзя, и он быстро стал мне неприятен. Потом я его невзлюбил.
На четвертом курсе мы подружились.
Не спрашивайте, почему так получилось. Гораздо труднее подружиться с человеком, к которому равнодушен.
На внекурсовой лекции по вирусологии мы случайно оказались рядом. Если Тиму Маркину было абсолютно все равно, с кем сидеть, то я хотел перебраться на другое место; но лекция уже началась. Я смирился и постарался сосредоточиться на конспекте. Я усердно записывал, а Тим Маркин рисовал в тетради галочки. Он нарисовал их штук сто, потом бесцеремонно заглянул в мою тетрадь и заявил, что я допустил ошибку в тезисе.
Это был тезис профессора, я так и ответил. Но Маркина это нимало не смутило; он заявил, что не слушал профессора, а если тот так сказал, значит, он ни уха, ни рыла не смыслит в данной проблеме. Я посоветовал сообщить это профессору лично, Маркин заявил, что так и сделает при случае. Он привел свои соображения, которые показались мне восхитительно несуразными. Однако он начисто разбил меня в споре и сделал это так блестяще и остроумно, что я невольно почувствовал к нему уважение. Мы многое прощаем умному человеку.
Меня увлекла необычайность и своеобразность мышления Маркина. Он имел обо всем свое мнение, без всякого уважения относился к авторитетам и любил пофантазировать, или, как он говорил, «пожевать проблему». Когда он давал волю воображению, то зачастую забирался в такие «микробиологические» дебри, что сам не мог из них выбраться.
— Ничего! — заявлял он. — В науке решение часто приходит в результате иногда и фантастического предположения.
У него имелась своя теория синтеза рибонуклеиновой кислоты. Она выглядела довольно занимательной… только проверить ее было невозможно. Впрочем, Маркина это не смущало, он не задумывался над практической ценностью своих теорем.
Семья Маркиных имела небольшой коттеджик на опушке лесного массива неподалеку от университетского городка. Там были идеальные условия и для отдыха и для работы — много воздуха, зелени и тишины. Этим летом мать Тима улетела в свою Бразилию, в институт, а отец где-то за семьдесят пятой параллелью водил арктический вертолет. Тим Маркин пригласил меня пожить о ним лето в коттедже.
Я легкомысленно согласился.
Коттеджик был уютен: две комнатки, кухня и городской телефон. В одной комнатке мать Тима вела свои бактериологические исследования — там стояли термостаты и большой бинокулярный микроскоп.
В отличие от других коттеджей, усадьбу Маркиных окружал высокий забор. Одно время отец Тима держал двух медвежат, которых привез с севера. Чтобы не пугать соседей и не искушать соседских собак, он попросил плотника огородить усадьбу забором. Когда медвежата подросли, их пришлось отдать в зоологический сад. Забор пока остался.
Человечество должно поставить памятник плотнику, который соорудил этот добротный, сшитый из досок внахлестку, без единой щелочки забор…
Мы писали курсовые работы по лабораторному практикуму, довольно обширные по объему. Тим сделал свою за неделю. Но моя работа с каждым днем распухала, как старинный английский роман. Тим заявил, что вся моя писанина — чепуха на постном масле. Я старался его не слушать. Помочь он мне не мог, даже если бы захотел — он не умел настраиваться в такт чужим мыслям. Он заявил, что от нечего делать проверит свою теорию изменения микробов путем подбора соответствующих питательных сред.
Рассуждал он примерно так:
— Человечество за какую-то сотню поколений прошло путь от каменного топора до теории относительности. Микроб размножается несравнимо быстрее, и, следовательно, добиться его изменения можно в кратчайший срок.
Я пробовал ему возражать:
— За сотню поколений человек все же так и остался человеком.
— Микроб у меня тоже остается микробом, — отвечал Тим. — Я только изменю его характер.
На тему, что под этим подразумевать, он мог говорить, вероятно, долго. Но меня ждала моя работа, я не стал его слушать.
И зря.
Тим засел в лаборатории… Он не отходил от микроскопа ни днем, ни ночью. Черт его знает, когда он спал. Когда я ложился, его еще не было в постели, когда вставал, он уже был в лаборатории. Что-то у него не получалось, вероятно, — когда я спрашивал, он весьма откровенно грубил. Я не обижался. Не обижаются же на слепого, который невзначай толкнет вас на улице.
Хлопот по хозяйству у меня прибавилось. Обедали мы в столовой, но завтракали и ужинали дома. Готовил я все сам. Я и раньше не доверял хозяйство Маркину, небрежен и неряшлив он был до глупости, и легко мог насыпать в кашу чего-либо более вредного, нежели поваренная соль. А таких веществ на полках вокруг него было более чем достаточно. Мне еще приходилось следить, как бы он в своей лаборатории не хлебнул вместо чая карболовой кислоты.
Грэм Грин верно сказал:
«…глупость молчаливо требует от нас покровительства, а между тем куда важнее защитить себя от глупости, — ведь она словно немой прокаженный, потерявший колокольчик, бродит по свету, не ведая, что творит…»
Как-то вечером, когда Тим тихо, как мышь, сидел в своей лаборатории, а я плакал на кухне, чистя луковицу для винегрета — витамины, как известно, необходимы при усиленной работе, — к нам в ограду вошел мальчуган.
Я протер глаза и увидел в его руках корзину, накрытую платком.
«Может, ягоды?» — обрадовался я и, бросив свирепую луковицу в кастрюлю, выскочил на крыльцо.
— Что у тебя?
— Лягушки, — ответил мальчуган.
Я не сразу понял. Мальчуган приподнял платок. На дне корзины сидели с десяток разноцветных желтых и коричневых лягушек. Они все, как по команде, уставились на меня.
— Слушай, парень, — сказал я. — У нас нет ни ужей, ни уток. Мы лягушек не едим. Тащи их обратно в болото.
Мне дядя заказал, — заявил охотник за лягушками. — Я и принес.
— Какой дядя?
Вероятно, Тим услыхал разговор и открыл окошко своей бактериологической кельи.
— Это я просил, — сказал он хмуро. — Ну-ка, покажи! — Он заглянул в корзинку и буркнул мне: — Отдай ему рублевку.
— Зачем тебе лягушки?
Тим молча захлопнул окно. Я расплатился с мальчуганом и вернулся на кухню, к луковице, жалея, что в корзине оказались не ягоды.
Ягодки были еще впереди…
Прошло около недели. Я уже закончил свою работу и с отличным настроением переписывал ее начисто. Из своей лаборатории вышел Маркин. В руках он нес суповую тарелку.
В тарелке сидела лягушка.
С видом Мефистофеля, собирающегося сотворить чудо, он поставил мокрую тарелку прямо на листки моей работы.
Я посмотрел на лягушку.
Это была обыкновенная зеленая лягушка, очевидно, из числа тех, которые принес паренек.
— Ну? — спросил я.
— Смотри внимательно.
— А что будет?
— Сейчас увидишь.
Лягушка вдруг беспокойно задвигалась, задергала головой, издавая какие-то сипящие звуки, потом закрыла глаза и протерла их лапой.
— Понял?
— Ничего не понял.
Тим Маркин посмотрел на меня с сожалением, как на безнадежного идиота.
— Дерево ты, — заявил он. — Не видишь — лягушка кашляет.
— Кашляет?
— Да, кашляет. Ты, может, скажешь, что лягушки не могут кашлять?
Я не знал, что ответить, да и кому бы пришло в голову задумываться над таким дурацким вопросом. Кашляющую лягушку, вероятно, можно было увидеть только в мультипликационном фильме для детей.
Лягушка опять открыла пасть и опять затряслась.
— Чего же она кашляет?
— У нее коклюш.
Я посмотрел на Маркина. Нет, он не шутил.
— Какой коклюш?
— Ты не знаешь, что такое коклюш?
Я знал инфекционную болезнь, которой болеют преимущественно дети. Она вызывается палочкообразным микробом — бактерией пертуссис. Но эта бактерия размножается только при температуре человеческого тела, в других условиях она быстро погибает. А лягушка, как известно…
— Известно, — перебил меня Маркин, — лягушка — холоднокровная амфибия. Мне удалось приучить бактерию к низкой температуре. Погляди — это единственная в мире лягушка, которая болеет коклюшем. Ты думаешь, это произошло случайно? Да я могу заразить всех лягушек коклюшем.
— Зачем?.. Для чего лягушкам коклюш?
— Бамбук! — провозгласил Тим и для иллюстрации постукал пальцем по столу. — Это же эксперимент. Уникальный в науке опыт — культивирована бактерия лягушинного коклюша. Ты смотри на нее внимательно — прелесть!
Лягушка опять задергалась и засипела. Я вынул платок.
— Знаешь, убери-ка ты свою уникальную амфибию. Мы здесь обедаем, а ты ставишь всякую пакость.
— Пакость. И это говорит медик. Мне жаль тебя, посредственность.
Тим унес свою лягушку.
Инкубационный период у коклюша от трех дней до недели. Я раскашлялся уже на следующий день и вообще почувствовал себя неважно. Тим осмотрел меня с любопытством, велел плюнуть в чашку Петри с питательной средой и унес чашку в лабораторию на анализ. Ночью уснуть я не мог, кашель раздирал мои легкие на мелкие кусочки. Только лошадиной дозой кодеина удалось снизить болезненность приступов. Утром Тим Маркин показал мне стеклышко, которое только что вытащил из-под микроскопа.
— У тебя коклюш, — радостно заявил он.
— Не глупи. Я болел коклюшем в детстве. У меня иммунитет.
— Нет у тебя иммунитета. Палочка, культивируясь, приобрела новые свойства. У тебя лягушиный коклюш.
— Чему ты радуешься, идиот!
Я здорово рассвирепел и хотел высказать Тиму свое мнение о нем и о его бактерии, но так раскашлялся, что чуть не лопнул от натуги.
Пришлось идти в детскую поликлинику. Там работала Натка Лукьянова с нашего курса — она специализировалась по детским болезням. Про лягушку я ей не стал рассказывать, и Натка вначале было посмеялась над моим диагнозом. Но тут меня скрутил очередной приступ, я без сил завалился на кушетку у нее в кабинете, и она поняла, что дело нешуточное.
Окаянный лягушиный коклюш здорово отличался от обычного, интоксикация была такая сильная, что я начинал бредить. Удивленная Натка пригласила профессора. Тот тоже не много чего понял — палочка под микроскопом выглядела обыкновенно, а про лягушку я по-прежнему ничего не говорил.
Меня положили в отдельную палату.
Я продолжал кашлять. Настроение у меня было неважное. Примерно через неделю ко мне вошел Тим Маркин.
Вид у него был сочувствующий, но я на него смотреть не мог.
Он, не смущаясь, присел ко мне на кровать, подмигнул весело — скотина! — оглянулся на дверь и сунул бутылочку из-под детского молока с какой-то зеленой бурдой.
— Это что еще? — прохрипел я враждебно.
— Бактериофаг, от лягушиного коклюша. Три раза в день по глотку.
— Пей его сам!
— Дурень! — зашептал он. — Да ты завтра же будешь здоров. Я уже проверял.
— На лягушках?
— На себе проверял. Пей, не бойся.
Тим ушел, а бутылочка осталась.
Я решил, что терять мне нечего, и начал, тайком от Натки, прихлебывать из бутылочки.
Через два дня кашель исчез, как и не было. Натка разводила руками, профессор тоже. Они подвергли меня всестороннему исследованию, но палочки не нашли.
Натка хотела публично показать меня в клинике (еще бы — уникальный случай!), но я кое-как упросил ее не делать этого и спасся от позора. Из больницы меня выписали, однако история эта даром не прошла — я накашлял небольшую эмфизему, и Натка посоветовала съездить на месяц в санаторий.
Когда я заходил в коттедж за вещами, Тима не было дома. Я оставил ему прохладную записку и уехал.
Месяц отдыха в южном санатории привел меня в норму. Лягушиный коклюш уже казался мне не печальным событием, а комическим происшествием. Поэтому, вернувшись, я направился опять к Тиму Маркину.
В комнатах было грязно и не прибрано. Возле дивана, рядом с ботинками Тима стояла тарелка с остатками ужина. Зато носки Тима лежали на обеденном столе. Остальное все было примерно на своих местах. Тим тоже был на своем месте — сидел за микроскопом в своей келье.
Он не ответил на приветствие, а поманил меня пальцем с таким видом, как будто я не уезжал на месяц, а уходил за хлебом в булочную. Мне сразу же не понравился его вид — радостный и взволнованный — моя интуиция работала лучше, чем рассудок. У меня даже что-то екнуло под ложечкой.
Однако я подошел.
— Гляди! — сказал он.
Я осторожно заглянул в микроскоп, боясь увидеть какое-нибудь новоизобретенное чудовище. В прозрачно-голубоватом круге лежала коричневатая палочка. Она была недвижимая, безобидная на вид, я немного успокоился.
— Видишь палочку?
— Вижу, конечно, — ответил я.
— А ты когда-нибудь такую встречал? Я вновь пригляделся к бактерии. Форма ее показалась мне незнакомой.
— Похожа на палочку пневмонии, — заметил я.
— Это не она.
— Я не говорю, что она. Я говорю — похожа.
— Ничего ты не смыслишь в бактериях, — заявил Тим. — Это совершенно новый вид. Я его вывел сам. Культивировал палочку лягушиного коклюша.
Меня будто кто отпихнул от микроскопа — так быстро я от него отскочил. Нет, вы только подумайте!
— Не бойся! — ухмыльнулся Тим. — Она безвредная. За время культивации потеряла свои ядовитые свойства. Зато приобрела новые. Она теперь питается воздухом.
— Как воздухом?
— Очень просто. Поглощает из воздуха кислород, влагу, еще что-то, я не уточнил, и растет. Даже размножается. Как полагается порядочной бактерии, делится пополам. Да, я вот тебе сейчас покажу — ахнешь!
Не вставая с места, Тим протянул руку, стащил о полки большую стеклянную банку, с притертой крышкой. Он чуть не уронил ее на пол, но вовремя подхватил и поставил передо мной на стол.
Половину банки занимала странная коричневатая масса, очень похожая на плесень. Вид ее показался мне отвратительным.
— Гляди!
Тим поднял крышку.
Пахла эта мерзость еще отвратительней.
— Фу! — невольно откачнулся я.
— Чего — фу?
— Воняет.
— Воняет? — Тим посмотрел на меня презрительно, — Ты медик или кто? Обыкновенный запах, метан, углеводороды — нормальные продукты обмена живой клетки… Воняет! Институтка ты, а не микробиолог.
Конечно, можно было ответить Тиму, чтобы он оставил институток в покое, так как наверняка знал о них меньше, нежели о микробах. Но мне не хотелось лить масло в огонь.
Тим сварливо ожидал возражений.
Я молчал.
— Ладно, — сказал он. — Хоть ты и дерево…
Мне опять удалось промолчать.
— Тогда смотри! — Тим показал на банку. — Внимательно смотри.
Я пригляделся и заметил, что плесень в банке, после того, как Тим открыл крышку, начала вспучиваться, поверхность ее — вначале гладкая — медленно вздувалась бугром, как поднимающееся тесто.
— Растет! — возгласил Тим.
Догадаться было нетрудно.
— Это она?
— Она самая, моя палочка! — похвастался Тим. Он смотрел на противную плесень влюбленным отцовским взглядом. — Видал, как растет… У меня на днях разводки сгорели — в термостате регулятор испортился — все палочки погибли. Я уже думал — ну все — пропала моя культивация. И вдруг нашел одну, живую. Сунул ее в эту банку. Это все от одной бактерии.
— За какое время?
— За какое? — Маркин задумался. — Не помню точно. Суток за двое, кажется.
Двухлитровую банку коричневая плесень заполняла до половины. И это от одной только палочки, длиною каких-то там пять микрон. Закон геометрической прогрессии работал неумолимо… одна палочка… две… четыре… восемь…
Плесень в банке продолжала расти. Бугор ее становился все выше и выше, а запах все резче и омерзительнее… Мне стало не по себе.
— Слушай, Тим! Она сейчас поплывет через край.
— Не поплывет, — Тим смазал края крышки вазелином, для герметичности, и закрыл банку. — Она растет только на воздухе. В закрытом помещении палочка не размножается.
— За каким дьяволом ты ее вывел? Зачем она тебе понадобилась?
— Зачем? — удивился Тим. — Да ни за чем. Просто занялся, от нечего делать. Ты уехал, мне стало скучно, а палочка лягушиного коклюша оказалась под рукой. Я решил поработать над ней, для практики. Занятная получилась бактерия?
— Не очень.
— Брось, это ты по старой памяти все еще о ней плохо думаешь. Палочка — что надо. Размножается как — блеск!
Он небрежно пихнул банку на полку. Она звякнула там о другие банки. Я невольно подумал, что если бы она сейчас разбилась…
— Осторожнее, разведешь заразу по всему дому.
— Не разведу, я аккуратно. (Это Тим говорит об аккуратности!). Чего беспокоишься, я же сказал, что она безвредная. Не веришь?.. Хочешь, я ее сейчас съем?
Когда Тим Маркин хотел что-то доказать, он не особенно разбирался в средствах. Я не сомневался, что ради идиотского опыта он мог проглотить свои палочки и стать их живым рассадником. Для меня вполне достаточно было зрелища коричневой плесени в банке. И кто знает, насколько она безвредна, эта бактерия. Тим Маркин над такими проблемами серьезно не задумывался.
Мне очень не понравилась коричневая плесень. Мало сказать, не нравилась, она меня напугала, когда так быстро полезла из банки. Напугала своей ничем неистребимой и неоградимой способностью к размножению. Это был злой джинн в бутылке.
Тим Маркин в любую минуту мог его выпустить на свободу.
Мне некогда было долго раздумывать. Банка стояла на полке, и я уже знал, что должен сделать.
— Слушай, Тим, — сказал я. — Ты, вижу, тут совсем очумел от своих культивации. У меня в чемодане ореховая халва. Специально с юга захватил.
Видимо, Маркину на самом деле надоело сидеть одному. Из ребят, ручаюсь, за это время к нему никто не зашел, и поговорить ему было не с кем.
Я послал его мыть руки на кухню, а сам вернулся в лабораторию.
Бутылка с формалином стояла тут же на полке. Чтобы плеснуть из нее в банку с плесенью, не требовалось много времени. Я закрыл банку притертой крышкой, решив, что если Тим приучил бактерию к воздуху, то к формалину он приучить ее еще не успел.
Весьма довольный своим поступком, я вошел в нашу столовую, достал из чемодана бутылку…
И вдруг у меня мелькнула мысль, будто я не сделал всего, что нужно.
Я хотел вернуться в лабораторию, но из кухни уже появился Тим Маркин.
Мы не спеша прихлебывали чай с ореховой халвой — в доме Тима не было и сухой корки, — и вскоре приобрели расслабленно-благодушное настроение.
Я выложил Тиму парочку глупеньких анекдотов, которые привез с юга, вместе с коньяком и халвой. Тим прочувствованно рассказал мне историю, как он культивировал свою бактерию. История здорово походила на старый анекдот о цыгане, который приучал лошадь не есть, — только у цыгана лошадь в конце концов подохла, а бактерия у Тима Маркина, к великому сожалению, осталась жива.
Мы до ночи проговорили на микробиологические темы и отправились спать. Тим в лабораторию больше не заходил. Да и я, признаться, в состоянии благодушного оптимизма позабыл все свои опасения и тоже не вспомнил о бактерии.
Ночью я неожиданно проснулся.
Мне привиделось во сне, что я сижу на крохотном островке среди безобразного моря коричневой плесени. Она медленно, но неумолимо поднимается все выше и выше, постепенно затапливая мой островок, уже подползает к моим ногам. А я мучительно стараюсь что-то вспомнить, что-то очень важное, не знаю — что именно, только знаю, что от этого зависит моя жизнь.
Мне стало страшно, я проснулся и попытался даже сообразить, что же такое нужно было вспомнить. В окно светила луна, наполняя комнату неясным таинственным светом. Тим спал. Я поднялся с постели, осторожно пробрался в лабораторию, снял банку с полки. Ядовитые пары формалина сделали свое дело — от плесени остались только бурые хлопья на стенках. Запах формалина смешался со зловонием погибшей плесени, и догадаться о его присутствии, руководствуясь только обонянием, было бы трудно.
Я успокоился и забрался в постель.
Первое, что я увидел утром, открыв глаза, это был Маркин. В одних трусах он стоял возле моей постели и, видимо, только хотел меня разбудить.
В руках его была та самая банка.
— Понимаешь, — сказал он озабоченно, — бактерия за ночь подохла.
— Неужели? — пробормотал я спросонок. — Какая жалость!
Тим подозрительно покосился на меня и решил, что я еще не совсем проснулся.
— Что с ней случилось, — продолжал он, разглядывая бурые клочья в банке. — Самоотравление, может быть?
Я поддержал его диагноз и поспешил заняться зарядкой. Тим ходил по комнате с банкой и продолжал сокрушаться. Он долго скорбел над своим преждевременно скончавшимся творением. Потом вдруг остановился, лицо его прояснилось. Я насторожился!
— Я идиот! — возгласил он. — Под микроскопом осталась одна палочка. Сам вчера положил.
Он помчался в лабораторию.
Вот тут-то я и сообразил, чего не доделал вчера, о чем старался вспомнить и что подняло меня среди ночи. Весьма недовольный собой, я направился следом за Тимом.
Склонившись над микроскопом, он разлаженно двигал стеклышком под объективом и крутил регулировочные винты.
Нетрудно было догадаться — самое худшее случилось…
— Тим, — сказал я. — Ты потерял бактерию.
— В том-то и дело, — буркнул он. — Смели, должно быть, ее на стол.
Размеры бедствия еще не дошли до него, но я уже представил их отчетливо. За ночь палочка успела размножиться. Мы разнесли ее на ногах по дому. Мы не выходили за ограду, но ветром палочку могло перебросить на улицу и рассеять по городу.
— Ну и что? — огрызнулся Тим. — Чего ты паникуешь! Я же сказал, что она безвредная.
— Безвредная?! — как ни бесила меня сейчас бестолковость Тима, как ни удивляло это соединение крайней тупости и таланта, я понимал, что злиться сейчас и бесполезно и неразумно. Но объяснить ему опасность его затеи было необходимо. Почему я не подумал об этом вчера?
— Сейчас я тебе покажу, какая она безвредная. Я шагнул в комнату, сдернул колпачок с авторучки и схватил первую попавшуюся тетрадь.
— Это же мой конспект, — сказал Тим.
— Конспект?.. Черт с ним, с конспектом. Он может тебе и не понадобиться.
— Ты что, спятил?
Катастрофа надвигалась неотвратимо, хотя ничего вокруг еще не выдавало ее приближения. Мне самому трудно было поверить в нее, мне хотелось убедить не только Тима, мне хотелось реально измерить величину беды… Я считал и повторял свои расчеты вслух, специально для Тима.
— Если за двое суток одна бактерия дает потомства один литр, то за трое суток… приблизительно, тысяча кубометров. На четвертые сутки…
Тим перестал искать бактерию. Он выпрямился и посмотрел на меня, мысли его принимали нужное направление.
— Не будет же она… так размножаться…
— А что ее может задержать? — спросил я.
— Что?.. Ну, солнечные лучи, например… впрочем, я не проверял, — сознался он.
— Не проверял… Ох, Тим, почему ты не поступил в строительный институт? На четвертые сутки… получится тысяча кубических километров. Тим, если твою бактерию разнесет ветром по всему миру, то на пятые сутки она высосет весь кислород, она затопит все материки и океаны. Через пять суток земля превратится в голую пустыню, без растений, без животных и без людей. Кому будут нужны тогда твои конспекты, Тим?.. Теперь ты понял, что ты соорудил?
Лицо у Тима побледнело. Он сел за стол и, уставясь на меня, молча забарабанил пальцами по столу. Воображение у него всегда работало отлично.
Я выглянул в окно. Листья на березах за оградой слабо шевелились от ветерка, но у нас в ограде, за высоким забором, казалось тихо. Тонкие стебельки пырея по краям дорожки стояли недвижимо…
— Забор… — невольно произнес я.
— Что забор?.. — кинулся к окну Тим.
— Забор хороший, — повторил я. — Подумать только, если бы не забор…
— Но не может же этого быть, наконец! — воскликнул Тпм.
— Это может быть, — сказал я. — Но этого не должно быть. Звони скорее профессору Янкову.
К великому счастью, профессор Янков оказался дома.
Ему не нужно было объяснять, он сразу все понял, сразу догадался о серьезности надвигающейся беды. Он говорил громко, а телефон работал отлично, и хотя трубка была у Маркина, я слышал все, что сказал ему профессор.
— Если бы вы оказались в коттедже один, Тим Маркин, — голос профессора стал необычно суров, — пожалуй, проще всего было бы залить вашу усадьбу бензином и сжечь ее вместе с вами. Да, да, вместе с вами! К сожалению, рядом находится другой человек, повинный только в том, что неосмотрительно выбрал вас себе в товарищи. В данном случае эта неразумность принесла пользу, я уверен, что это он подумал о том, о чем никогда не думали вы… Сидите оба дома. Никуда не выходите… Слышите — никуда!.. Отгоняйте от усадьбы бабочек и воробьев. И ждите… Я приеду к вам так скоро, как смогу. Соберите несколько бактерий в пробирку, закройте ее и держите при себе.
Тим Маркин выслушал все в покорном молчании. Так же молча он положил трубку и отправился в лабораторию.
Я захватил удилище, привязал к его концу свой галстук и вышел на крыльцо. Я сидел на ступеньках, помахивал удилищем, а вокруг меня в зловещем безмолвии размножались колонии коричневых палочек. На полу дома, на траве ограды расползалась отвратительная плесень, пока еще не видимая глазу, но уже несущая смертельную угрозу всему видимому миру.
Вскоре появился и Тим. Он показал пробирку, заткнутую пробкой и залитую менделеевской замазкой.
— Десять штук на столе нашел.
Он присел рядом, помолчал, потом беспокойно покашлял.
— Интересно… если бактерия попадет с воздухом в легкие?..
Он не стал продолжать.
Я стиснул зубы от злости. Что можно было тут сказать?
Через полчаса на нашей тихой улочке послышалось отдаленное гудение тяжелых грузовиков.
Профессор Янков трезво оценил угрозу, которой был начинен наш коттедж, и понимал, что просчет здесь может привести к катастрофе, размеры которой представить было нетрудно. Поэтому он решил, что в таком случав лучше пересолить, чем недосолить.
Нашу усадьбу окружило более десятка специальных автомашин. Здесь были и пожарные машины, и машины для химической дезинфекции, и для борьбы с сельскими вредителями, и огнеметы, и даже автокран с длиннющей стрелой и крюком.
Профессор Янков командовал с крыши машины, его приказания усиливались динамиками — он весьма походил на режиссера, снимающего кинофильм. Мы выступали в роли главных героев.
Автокран передал стрелой через забор два водолазных скафандра. Мы с Тимом натянули тяжелую резину, завернули друг другу шлемы. Потом тем же краном нас по очереди подняли в воздух, обмыли тут же над оградой струей креозота из брандспойта и погрузили в санитарный фургон.
Нам не слышно было, что говорили люди, — водолазные шлемы не пропускали ни звука. Но через иллюминатор шлема я увидел лицо шофера санитарного фургона. Оно мне хорошо запомнилось. Я же не мог сказать ему, что я тут ни при чем…
Нас увезли, и мы не видели, что происходило дальше…
Усадьбу Маркиных залили керосином, потом пустили огнеметы, и от коттеджа и от забора остался на земле черный выжженный квадрат. На весь Университетский городок, на поселок был наложен карантин. Трое суток люди сидели по домам. По улицам день и ночь ходили поливочные машины, кропя землю и стены строений искусственным дождем, чтобы не дать возможность палочке вместе с пылью быть унесенной ветром.
Специальные санитарные отряды проверяли, не появятся ли где-либо следы коричневой плесени.
В дезокамере я пробыл неделю. О том, что со мной делали, даже неохота и рассказывать. Хорошо, что меня поместили отдельно от Маркина.
Он пробыл в камере на несколько дней долее, нежели я. Если бы это зависело от меня, я не выпустил бы его из дезокамеры до конца его жизни…
Сейчас, когда все уже в прошлом, а мысли и чувства успокоились, я думаю, что, вероятно, тогда несколько преувеличил угрозу, грозящую миру и человечеству. Как показали опыты, палочку Тима Маркина солнечные лучи, например, убивали за полчаса. Но в благоприятных условиях, сырых затененных местах она размножалась безудержно. Ветром палочку могло занести в укромные уголки нашей планеты, и разыскивать ее там стоило бы больших хлопот.
Я не знаю, где сейчас Тим Маркин, Мне неизвестно, чем он занимается. Мне хочется обратиться к товарищам, которые работают с ним, пусть они не спускают с него глаз.
Не придумал бы он еще чего-нибудь!
ЗЛОЙ ВОЛШЕБНИК
Человек, тебе доверена Вселенная, обращайся с нею аккуратно…
(Из афоризмов будущего)Вернулся в город я, вероятно, на автобусе…
Более или менее ясно воспринимать окружающее я начал только у дверей своей квартиры.
Состояние нервного тока сразу и начисто выключило сознание, я совершенно не помнил, как оказался у этих дверей.
Очевидно, я сумел пройти от дачного поселка через лес до шоссе и сесть на городской автобус. Я доехал до города, вылез на нужной остановке, потом пересек несколько улиц, счастливо не попав под машину. Прохожие, конечно, принимали меня за пьяного. Но, видимо, я двигался достаточно уверенно и целеустремленно — меня никто не остановил. Так я добрался до дома и поднялся на четвертый этаж.
И тут я пришел в себя.
Вначале почувствовал, что у меня болит голова. Потом понял, что стою у дверей и с тупой настойчивостью пытаюсь всунуть ключ в замочную скважину. Я хорошо видел зубчатую щель в чашечке американского замка, но не мог почему-то попасть в нее ключом.
Мне показалось, что у меня трясутся руки. Я вытянул пальцы перед собой…
Нет, руки не тряслись.
Я опять взялся за ключ и, наконец, разглядел, что это не ключ, а пятак.
Тщетно я засовывал пальцы в углы карманов, разыскивая маленький плоский ключик. Под руки то и дело попадался какой-то неуклюжий пузатый ключ — от висячего замка — с лохматой веревочкой. Это был не мой ключ. Я не знал, каким образом он очутился в моем кармане…
Я сообразил, что могу постучать. В этот момент замок щелкнул и дверь распахнулась.
Я бы не удивился, если бы она открылась сама собой, только что я видел вещи куда более нереальные, чем сама собой открывшаяся дверь… Но сейчас все было просто: на пороге стояла моя соседка по квартире — пожилая женщина, она работала няней у меня в больнице.
Соседка с испугом глядела на мое лицо.
Я шагнул через порог, задев ее локтем.
Она отшатнулась, что-то сказала вслед, я не понял. Сильно толкнул ногой дверь в свою комнату и, ввалившись в нее, прислонился к косяку. Мне тут же пришло в голову, что я вел себя с соседкой по-свински. Нужно было выйти и извиниться… Но стоило ли беспокоиться о какой-то там невежливости — она ничего не значила по сравнению с тем, что я только что совершил.
Мои мысли опять спутались… сильно заболело в затылке.
Нужно было лечь и отдохнуть. Я с трудом добрался до дивана, кое-как стянул один ботинок — на второй уже не хватило сил — и откинулся на диванную подушку. Но все случившееся сразу же возникло в сознании, возникло ярко и отчетливо, несмотря на всю свою чудовищную невероятность,
Я вздрогнул испуганно, поднялся и сел.
Привычная знакомая обстановка комнаты. Реальные вещи…
Может быть, я заболел?
Рука моя все еще не выпускала снятый ботинок. Я постукал каблуком по колену. Мне стало больно.
Я встал, подошел к шкафу. В зеркале отразился бледный взлохмаченный человек в сером костюме, с ботинком в руке. Я швырнул ботинок к дивану. Отражение сделало то же самое. Я высунул язык. Отражение тоже высунуло язык. Язык выглядел нормально.
Пульс тоже был в порядке.
Тогда я постарался вспомнить, какое сегодня число. И вспомнил. Настольный календарь подтвердил, что все правильно. На столе лежало письмо из санатория, от Лизы. Я помнил его содержание.
Мозг мой работал нормально.
Так что же это было?
Я опять вернулся на диван. Сидел и перебирал в памяти случившееся. И все меньше и меньше верил, что видел это своими глазами. И вдруг в сумраке сомнений мелькнула яркая и радостная мысль. Я даже зажмурился от облегчения.
Не было ничего. Мне показалось…..
Конечно, не было!.. Все объясняется так просто. Да, я ездил за город. Что-то там со мной случилось: солнечный удар, временное помрачение сознания. А остальное — болезненный бред!
Фу, черт! Ну конечно же…
Сейчас специально поеду за город, на то место, и воочию смогу убедиться, что там ничего не произошло.
Я поспешно натянул ботинки и выскочил в коридор.
Шофер пойманного мною такси вначале поморщился.
— За город? — переспросил он.
— Да, на тридцатый километр. — Я понял шофера и добавил: — Вернусь с вами обратно.
Мы быстро выбрались из сутолоки уличного движения на просторное загородное шоссе. Под колесами «Волги» замелькали бетонные плиты автострады. Шофер попытался было занять меня разговором. Но мне было но до него, и он замолчал. Оживление покинуло меня, а беспокойство нарастало с каждым километром…
Двадцать восьмой… двадцать девятый…
На тридцатом километре я еще издали увидел на сером бетоне дороги поблескивающие осколки стекла.
Шофер притормозил и вопросительно посмотрел на меня.
Вправо от шоссе уходила мало наезженная проселочная дорога, я молча показал на нее. Мое смятение, очевидно, отразилось на лице, шофер задержал на мне взгляд, потом спустился с автострады.
Мы проехали негустой пригородный лесок… миновали уже знакомую мне полянку с ромашками… вот и одинокая дача на отшибе станционного поселка, за поселком серые башни элеватора и над ними густая туча сизого дыма.
Можно было не выходить из машины.
Но я вышел. Вышел и шофер и остановился рядом со мной.
— Ого! — сказал он. — Элеватор-то горел, что ли?
Три пожарные машины, похожие издали на красных жуков, копошились во дворе элеватора. Белые струйки воды били по обломкам рухнувшей башни. Фигурки людей сновали по двору, то исчезая за машинами, то появляясь вновь.
Я достал из бумажника деньги, подал шоферу, попросил меня подождать. И обошел дачу кругом.
Теперь была видна и железнодорожная линия, которая проходила мимо элеватора. Электровоз по-прежнему лежал поперек рельсов. Два вагона завалились набок, перекрыв рядом идущие пути. Железнодорожный кран, гудя мотором, пытался поднять их и оттащить в сторону.
У насыпи стояла машина с красным крестиком на кузове. Человек в белом халате накрывал что-то, лежавшее на носилках, простыней.
У меня опять сильно заболело в затылке. Все вокруг стало расплывчатым и неустойчивым. Я прислонился к забору дачи. Потом боль утихла. Я медленно приоткрыл налитку, как бы боясь увидеть за ней что-то страшное. Конечно, в ограде никого не было. Я знал, что там никого и не может быть.
Но мало ли что я знал…
От ворот к крыльцу маленького бревенчатого домика вела тропинка. Возле крыльца росла крапива. Голубенькие ставни были открыты.
На дверях висел замок.
Я сунул руку в карман пиджака и вытащил ключ. Ключ от висячего замка, на взлохмаченной веревочке… Это был ЕГО ключ… ОН открывал замок этим ключом…
Мне тоже нужно было открыть дверь, чтобы убедиться. Но я не мог этого сделать. Я опустил ключ в карман и вытер руку полой пиджака. В сенях, в доме было тихо. Как в могиле. Да и не могло быть иначе… Я понимал это. Я же был врач…
У стены высокой поленницей были сложены дрова. Березовые кругляки. Какое же из них тогда попало мне под руку?..
В траве возле поленницы что-то блеснуло. Я наклонился и поднял ключ. Маленький плоский ключик от американского замка. Это был мой ключ. Вероятно, он выпал из кармана, когда я висел вверх ногами.
Нечего было здесь больше делать. Я вернулся к машине. Шофер продолжал разглядывать дымящийся элеватор. Поваленного набок электровоза шофер не видел, его закрывал забор дачи.
— Потушили, — одобрительно заметил он. Я кивнул и сел в машину.
— Поехали.
— С чего бы это он загорелся?
Я промолчал.
Шофер искоса взглянул на меня, потоптался нерешительно и сел за руль. Может быть, он даже подумал, что я имею какое-то отношение к пожару на элеваторе. Хорошо, что он не видел еще и электровоз…
Подминая кустики, он круто развернул машину, и мы поехали обратно к шоссе. Всю дорогу до города он косился на меня подозрительно и с любопытством. Что мог я ему сказать? Я попросил его остановиться возле городского сквера. Он полез в карман за сдачей.
— Не нужно, — сказал я. — Попрошу вас заехать еще в одно место. Есть у вас бумага и карандаш?
Шофер протянул измятый блокнот, от которого сильно пахло бензином. Я написал несколько слов, приложил к записке ключ от висячего замка и подал все это вместе с блокнотом шоферу.
— Отвезите это, пожалуйста, в ближайшую милицию, дежурному.
Шофер оторопело взял записку и ключ. Я вышел из машины.
— Послушайте… — спохватился он, высовываясь в окно кабины, но я быстро пересек тротуар, и толпа прохожих загородила меня от шофера.
Дома я достал из стола стопку чистой бумаги. Некоторое время думал: стоит ли как-то озаглавить свою исповедь. Потом решил предоставить это милиции.
Впервые я встретился с Полянским две недели тому назад. В конференц-зале Института нейрофизики состоялась лекция: «Материализация мысли». Лекция на подобную тему могла бы вызвать не меньше сомнений, чем, скажем, разговор о вечном двигателе. Но имя докладчика академика Семиплатова, известного всему миру, рассеивало всякое недоверие. Когда-то я защищал диссертацию в Институте нейрофизики, и мне прислали приглашение на лекцию.
Было лето — время отпусков, — народа в зале собралось немного, задние ряды кресел оказались свободными, и я, хотя явился с опозданием, без труда нашел себе место.
Среди присутствующих я увидел многих знакомых нейрофизиков, но были и представители чистой науки — клинической медицины.
Академику Семиплатову было около сорока пяти лет, а выглядел он и того моложе.
На возвышении, где находилась кафедра докладчика, стоял еще небольшой столик, покрытый черной пластмассовой скатертью, и стул. Академик Семиплатов прошел не к кафедре, а к этому столику.
— Дорогие товарищи, — сказал он, — долгие годы Институт нейрофизики занимался новыми сложными проблемами. По мнению иных здравомыслящих людей, в наших работах было больше шарлатанства, нежели науки. Сегодня я хочу поделиться с вами некоторыми нашими успехами. Предупреждаю, мне придется говорить о весьма необычных, с точки зрения элементарной физики и медицины, вещах. Поэтому разрешите начать с небольшого эксперимента. Надеюсь, после него у вас появится больше доверия ко мне и, следовательно, больше внимания к тому, о чем я буду рассказывать. Итак…
Академик Семиплатов сунул руку в карман пиджака и вынул беленький шарик — мячик от настольного тенниса. С легкой улыбкой, будто прося извинить за такое легкомысленное начало, он показал шарик присутствующим, как это сделал бы фокусник-иллюзионист, затем положил шарик па средину столика, пододвинул стул и сел.
В зале оживились, лекция шла совсем не по-академически.
Семиплатов опустил руки на колени, поудобнее устроился на стуле. Когда он опять обратился к залу, улыбки на его лице уже не было.
— Надеюсь, — сказал он, — вы поверите, что здесь не будет ни фокусов, ни подвохов. А теперь попрошу немножко абсолютной тишины и внимания.
Он вздохнул глубоко, как человек, собирающийся вскинуть на плечи непосильную тяжесть. Затем поднял лицо и сосредоточил свой взгляд на шарике, который лежал примерно в метре от его глаз.
Он смотрел так с минуту. Взгляд его становился все более пристальным и острым. Казалось, он что-то хочет разглядеть на поверхности шарика, что-то весьма значительное и нужное, но плохо заметное. Лицо его окаменело от напряжения.
В зале наступила выжидающая тишина.
Взоры присутствующих скрестились на неподвижном беленьком шарике.
И вдруг чей-то легкий удивленный вздох нарушил эту мертвую тишину. Шарик качнулся, слабо, едва заметно, но качнулся сам, потом медленно покатился по столу.
Семиплатов подставил руку, и шарик упал в его ладонь.
Конечно, я тоже восторженно хлопал вместе со всеми. То, что мы видели сейчас, было чудом, почти библейским чудом, и все приветствовали ученого, совершившего это чудо.
Семиплатов сидел, опустив плечи, очень похожий на грузчика, только что скинувшего со спины тяжкий груз. Он слегка улыбался в ответ. Сидевшие впереди встали, продолжая аплодировать. Поднялся и я. И в этот момент кто-то внезапно посадил меня обратно в кресло.
Это не было прикосновением руки. Какая-то непомерная тяжесть мягко опустилась мне на плечи. Ноги мои подкосились, и я сел. Ничего не понимая, хотел тут же вскочить… и не мог.
Тогда я обернулся.
Ряд кресел за моей спиной был пуст. И лишь в следующем ряду одиноко сидел щупленький узкоплечий человек, с бледным лицом, с черной гривкой волос над громадным выпуклым лбом. Он сидел, весь подавшись вперед, устремив на Семиплатова взгляд своих странных, широко открытых, стеклянно поблескивающих глаз. Меня он не замечал. Оп смотрел поверх моего плеча.
Мне стало не по себе.
Я понял, что физически ощущаю его взгляд, как что-то материально существующее.
Трудно было это объяснить. Над моим плечом от глаз большелобого человечка — как пучок света от лазера — протянулся мощный силовой луч, невидимый, но ощутимый. Я был уверен, что если бы этот взгляд был направлен на меня, то он пробил бы насквозь, как удар шпаги.
Это уже здорово походило на бред. Я закрыл глаза. Отвернулся… И услыхал деревянный дребезг покатившегося стула.
Семиплатов уже не сидел. Он стоял. Лицо его было растерянным и напряженным. В вытянутой вперед руке, в щепоти трясущихся пальцев был зажат беленький шарик от настольного тенниса. Все видели, как Семиплатов пытался опустить руку и не мог. Потом он шагнул.
Было такое впечатление, будто легонький шарик тащил его за собой.
Отчаянно сопротивляясь, Семиплатов сделал несколько шагов. На краю возвышения он попытался удержаться, но оборвался и с глухим стуком рухнул в зал.
Все произошло так неожиданно и так быстро, что никто не успел ничего сообразить. Никто не успел поддержать Семиплатова. Я затаил дыхание… И в наступившей недоуменной тишине услышал за спиной злой полушепот:
— Вот так-то!..
Потом все разом засуетились, бросились поднимать Семиплатова. Кто-то побежал к телефону. Я тоже кинулся было к лежащему на полу академику, но вокруг него и без меня было достаточно людей. Тогда я вспомнил про большелобого.
Он неторопливо пробирался между кресел к выходу, невозмутимый и спокойный среди общей суматохи. И я понял: он знал, что случилось с академиком Семиплатовым, а знал потому, что сам был виновником происшедшего. Я оторопело глядел на него. А он, ни разу не оглянувшись, подошел к выходным дверям и исчез.
Только тогда я очнулся от своего оцепенения.
Но я не обнаружил незнакомца ни в вестибюле института, ни на улице. Я бы не удивился, если бы тогда мне сказали, что он провалился сквозь землю.
Подъехала машина скорой помощи. Академика Семиплатова вынесли на носилках. Глаза его были закрыты, запрокинутая голова покачивалась из стороны в сторону. Носилки задвинули в машину, санитары заскочили в нее уже на ходу.
У подъезда института осталась кучка растерянных, ничего не понимающих людей. И я.
Все ли было так, как я видел и, главное, ощущал? Я знал свою повышенную возбудимость и впечатлительность и мог предположить, что сделался жертвой случайной галлюцинации. Академик Семиплатов мог упасть сам. Его странное поведение можно было объяснить перегрузкой нервной системы во время эксперимента с шариком. А силовой взгляд большелобого человечка я мог и придумать… Энергия, излучаемая мозгом, ничтожно мала. Если ею еще можно сдвинуть с места пластмассовый шарик, то свалить с ног человека, весящего несколько десятков килограммов…
Дома возбуждение мое улеглось, но все равно я чувствовал себя неуютно. Смерил температуру — тридцать семь и пять десятых. Это еще более усилило мои сомнения…
Я принял таблетку снотворного и лег спать.
На другой день я уже старался не вспоминать о своих вчерашних ощущениях и никому о них не рассказывал. Если мне самому плохо верилось в их реальность, то любому постороннему все это показалось бы чистейшим бредом.
Академик Семиплатов лежал в больнице. При падении он получил сильное сотрясение мозга и, хотя жизнь его была вне опасности, в сознание он все еще не приходил.
Я не думал, конечно, что когда-нибудь еще встречу своего большелобого незнакомца.
Но, как говорится, судьба распорядилась иначе…
Сегодня утром я получил письмо из санатория от жены. Она писала, что боли в сердце не беспокоят больше и она вернется домой, как только окончится срок путевки. Хорошее письмо родило и хорошее настроение. Я решил продлить его и отодвинул в сторону рукопись журнальной статьи о нейрофизике, которая писалась почему-то трудно и вот уже целую неделю портила мне самочувствие. Можно полодырничать день, почитать какой-либо детектив, послушать легкую музыку. Но рукопись лежала на столе и назойливо лезла в глаза, нужно сбежать куда-нибудь от нее. Я вышел на улицу и сел в первый попавшийся загородный автобус.
Загородных маршрутов более десятка, автобусов и того больше. Я не выбирал. Я сел в тот, который стоял на остановке… и цепь случайностей замкнулась…
Автобус следовал до дачного поселка на тридцать пятом километре. Мне было все равно. Я вспомнил, что на тридцать втором километре есть лесная речонка, на ней много симпатичных омутков с кувшинками. Можно выкупаться, полежать на травянистом бережке бездумно или помечтать… скажем, о затухающих процессах в коре головного мозга.
Я расположился на заднем сиденье, спиной к водителю. Автобус долго петлял по улицам, делая частые остановки, потом, наконец, выбрался на загородное шоссе и пошел ровно и размеренно, слегка покачиваясь, как корабль.
Полосатые столбики ежеминутно возникали за обочиной, показывая на желтых ладошках-указателях каждый раз новое число. На остановке «двадцать восьмой километр» я пересел на освободившееся место слева у окна, ближе к выходу. Пока водитель — молодой паренек в клетчатой ковбойке — разгонял после остановки тяжелую машину, нас нагнал междугородный пассажирский лайнер — желто-зеленая громадина, с занавесками на окнах и красной полосой вокруг кузова. Некоторое время шофер лайнера вел свою машину следом за нашим автобусом, затем вывернул на средину дороги и коротко гуднул.
Я взглянул на нашего водителя. И тут же заметил справа от себя на фоне окна крутолобый профиль.
Незнакомец сидел на переднем сиденье, понурившись и закрыв глаза. Очевидно, сигнал обгоняющего лайнера разбудил его. Он вскинул голову. Посмотрел на дорогу — автобус уже приближался к тридцатому километру — и тут же быстро перевел взгляд на спину нашего водителя, затем ему под ноги. Туда, где находились педали сцепления и тормоза.
Я понял, что сейчас что-то произойдет.
Мне хотелось крикнуть шоферу «берегись!». Но боязнь оказаться смешным удержала меня. И тут же, как сирена скорой помощи, отчаянно завизжали тормоза. Автобус занесло, развернуло поперек шоссе. Совсем близко за окном мелькнул желто-зеленый борт обгонявшего лайнера. Автобус содрогнулся от гулкого удара. Меня бросило вбок… Потом нахлынули тишина, мрак…
Я открыл глаза.
Лайнер стоял, уткнувшись радиатором в кузов автобуса. Водитель лайнера не смог сразу остановить тяжелую машину, но успел нажать на тормоз и ослабил силу удара. Из пассажиров автобуса никто не пострадал. Только я, очевидно, ударился головой о переплет окна. Затылок у меня побаливал, но сознание работало уже отчетливо.
Бестолково суетились пассажиры. Многие лезли с вопросами к водителю. А тот сидел, вцепившись в рулевое колесо, и оторопело глядел вниз, на педаль тормоза. Потом вскочил, открыл двери и выпрыгнул из машины.
За ним заспешили пассажиры.
Я тоже вылез на шоссе и только там вспомнил про своего незнакомца. Его не было среди пассажиров.
Я выбрался из толпы и огляделся.
Мы стояли как раз у полосатого столбика — тридцатый километр. В сторону от шоссе отходила проселочная дорога. Мало езженная, заросшая травой, она терялась в березовом лесочке, который тянулся рядом с шоссе. За березами мелькала удаляющаяся сутулая фигурка незнакомца.
Я быстро догнал его и пошел следом, метрах в двадцати. Он шагал не спеша, не оглядываясь, я не торопился открывать свое присутствие: я не знал, что скажу, если он увидит меня и спросит, что мне нужно. Он мог и не спросить. Судя по тому, как свирепо расправился он с академиком Семиплатовым, он просто сбил бы меня с ног, если бы я чем-то не понравился ему. Вдавил бы в землю, как муху, даже не прикасаясь ко мне.
Он мог это сделать, я был уверен. Нечего скрывать — я боялся. Боялся, но все-таки шел.
Незнакомец представлялся мне волшебником. Необходимо было удостовериться в реальности всего, что я видел. Или чудеса существуют, или я помешался.
На пути попалась лужайка, покрытая травой. В траве белыми пятнышками разбросались созвездия ромашек. Легким движением незнакомец вынул руку из кармана пиджака. Что-то белое вспорхнуло с лужайки и село ему па пальцы. Я подумал вначале — бабочка, пригляделся… цветок ромашки!
Он сорвал цветок, не задержавшись ни на секунду, как бы машинально, и продолжал идти.
Мне сразу стало неуютно. Я невольно замедлил шаги. Сухой сучок звонко щелкнул под подошвой. Незнакомец быстро обернулся.
Отступать было некуда.
Он молча, без удивления смотрел на меня своими странными (чтобы не сказать — страшными), стеклянно поблескивающими глазами.
Я давно убедился в истине старинной поговорки, что глаза — это зеркало души. Ничто так верно не передает душевную сущность человека, как его взгляд. Что-то ненормальное открылось мне во взгляде незнакомца. Ненормальное и опасное, как и творимые им дела.
Молчаливая пауза затянулась. Говорить нужно было мне, а я не знал, с чего начать. В глазах незнакомца уже появилось отчетливое выражение угрозы — очевидно, мое поведение показалось ему назойливым.
— Шофера, вероятно, будут судить, а он не виноват, — наконец сказал я. — Хорошо еще, обошлось без человеческих жертв. Вы слишком резко придавили педаль тормоза.
Он прищурился, тонкие ноздри дрогнули в усмешке.
Я перевел дух.
— Академик Семиплатов получил сотрясение мозга. Зачем вы так обрушились па него?
— Припоминаю, — протянул незнакомец. Голос его был скрипучий и неприятный, как, впрочем, и весь его облик. — Так это вас я посадил, когда вы загородили Семиплатова. Зачем вы были на конференции? — спросил он резко. — Кто вы?
Я назвал себя.
— Вот как, — произнес он уже мягче. — Эта ваша книга о полярности биотоков?.. Что ж, в ней много верных положений, — заметил он снисходительно. — А вашего Семиплатова жалеть нечего. Он консерватор…
— Он человек, большой ученый…
— Академик Семиплатов, — жестко оборвал меня незнакомец, — научился катать по столу мячик от пинг-понга и считает это достижением человеческого ума. Глупец! Разум человека всемогущ…
И тут я вспомнил:
— Вы — Полянский! Я видел вашу работу в институте.
— Да, — согласился он, — пять лет тому назад я посылал академику Семиплатову статью: «Антиполе материи и силовые поля мозга». Вы ее читали?
— Нет, — пришлось мне признаться.
— Так… — прищурился Полянский. — Прочитать ее вы не сочли нужным.
Я не стал оправдываться.
— В своей статье, — продолжал Полянский, — я разработал новую теорию взаимодействия человеческой мысли и окружающей материи. Тогда я еще многого не знал. Ваш академик Семиплатов назвал мои рассуждения средневековой мистикой и даже отказался их комментировать. Он обыватель от науки, это тяжелое заболевание, и таких людей лечат только фактами. Он получил по заслугам… А вот ваша работа мне кое в чем помогла. Считайте меня должником.
— Как вы это делаете? — решил спросить я.
Полянский молчал. Опустил глаза на цветок ромашки, который все еще держал в руке. Закрутил его в пальцах — лепестки цветка слились в белый мерцающий круг. Пальцы были тонкие, слабенькие, как у ребенка, лось, им не переломить и спички…
Вдруг ромашка выскользнула из его руки и повисла в воздухе, прямо перед моим лицом. Она висела так несколько секунд — я видел ее ясно и отчетливо, желтую пушистую шапочку и веер белых лучиков вокруг. Потом она очутилась в боковом кармашке моего пиджака.
Я потрогал ее. Да, это была настоящая ромашка…
— Пойдемте со мной, — сказал Полянский. — Я живу здесь, неподалеку, в дачном поселке.
Мы вышли на опушку леса, к одинокой дачке с голубыми ставнями за дощатым, потемневшим от времени забором. На воротах — новенькая железная табличка с собачьей мордой и предупреждающей надписью.
Полянский открыл калитку.
— Собаки нет, — пояснил он. — Повесил, чтобы попусту не лезли. Не люблю.
На поленнице возле стены сидел здоровенный лохматый кот. Он доверчиво поднялся навстречу, очевидно, рассчитывая на какое-то внимание с нашей стороны. Полянский взглянул на него, и кот исчез, будто его ветром сдуло. Только на белой коре березового полена остались царапины от когтей.
— Кошек тоже не люблю, — сказал Полянский.
Он вытащил из кармана за веревочку ключ, отпер висячий замок на дверях. Через темные сени мы прошли в комнату.
Я огляделся с естественным любопытством.
Жилище волшебника украшала самая обыкновенная разностильная мебель. На круглом, когда-то полированном, столе лежали книги. Большая груда книг была свалена в углу, прямо на полу. Возле узенькой неудобной тахты, застеленной старым плюшевым покрывалом, стояла здоровенная, похоже двухпудовая, гиря.
Гиря привлекла мое внимание. Полянский вряд ли смог вы поднять ее с полу. Руками бы не смог…
И мне опять стало не по себе.
— Садитесь, — пригласил Полянский,
Откуда-то в его руках появилась початая бутылка коньяку и два серебряных старинных стаканчика. Он сдвинул книги на столе — некоторые упали на пол — и поставил на освободившееся место тарелку с печеньем.
— Извините за угощение. Обедаю в городе. Конечно, если бы я знал…
Я сел на стул и поднял с полу упавшую книгу. Это оказалось «Учение йогов» — старое шанхайское издание на английском языке.
Полянский сел против меня. Бутылка с коньяком, заткнутая белой пластмассовой пробкой, стояла на середине стола. Полянский навалился локтями на стол и пристально уставился на бутылку. Она закачалась из стороны в сторону. Мне вспомнился Пацюк из повести Гоголя. Я тайком щипнул себя за руку.
Нет, все это было наяву.
Полянский перевел взгляд с бутылки на меня, по лицу будто пахнуло ветром. Я невольно прищурился. Полянский усмехнулся.
Усмешка его была на редкость неприятная и злая.
— Это самое трудное, — сказал он, — откупорить бутылку. Приходится раскладывать волевое усилие на две составляющие: тащить кверху пробку и одновременно удерживать бутылку. Никак не могу научиться.
Он отковырнул пробку пальцами, налил в стаканчики коньяк. Выпил не чокаясь и не приглашая.
Я тоже выпил, и тоже молча.
Полянский тут же налил себе еще.
— Вы хотите узнать, как я это делаю? — Он откинулся на спинку стула и нервно застучал пальцами по столу. — Хотите узнать… но так и не пожелали прочитать мою статью. Как и вашему Семиплатову, мои рассуждения показались вам болтовней… Бредом!.. Мистикой! — он хлопнул ладонью.
Неуравновешенность Полянского была очевидной. Настроение его менялось непостижимо быстро. В его глазах вспыхнули бешеные искорки. Я ожидал худшего… Но он опустил голову.
Что-то тяжелое загрохотало по полу. Я вздрогнул.
Чугунная гиря покатилась от кровати к столу, потом сделала легкий балетный разворот и вернулась на свое место.
Я уже не удивился.
У меня сильно заболело в затылке, мысли на мгновение спутались. Наверное, при аварии на шоссе я ударился сильнее, чем предполагал…
По лицу опять прошел холодок. Полянский смотрел на меня.
— Ладно, — сказал он неожиданно спокойно. — Все же вы не такой консерватор, как Семиплатов. Я, лично, прочитал вашу статью. Внимательно. Вы шли по тому же пути, что и я. Даже впереди меня. Вы были рядом с открытием. Не заметили его потому, что проверяли свои предположения старыми законами. А они — прокрустово ложе для вашей мысли. Вы сами убили свою идею еще в зародыше. Но я пошел дальше…
Он опять ваялся за бутылку. Я прикрыл свой стаканчик ладонью. Полянский пожал плечами и налил только себе. Я невольно подумал: что он может натворить в пьяном виде?
— Не беспокойтесь, — сказал Полянский, кривясь в своей неприятной усмешке, — я не собираюсь спиваться. Некоторый допинг мне необходим, тогда у меня лучше работает воображение. Алкоголь, как известно, проводник электрического тока, а мысль всего-навсего — продукт движения электронов… Вы, конечно, простите меня за этот старинный институтский каламбур.
Трудно было глядеть на его усмешку. Я отвел глаза.
— Я как будто уже надоел вам своей болтовней? — заметил он холодно.
— Нет, что вы. Слушаю вас с удовольствием.
— Даже с удовольствием?.. С удовольствием… допустим. — Он взял было стаканчик, но тут же поставил его, помолчал и опять начал говорить спокойно, как будто читал лекцию студентам: — Если энергию мысли рассчитать по законам элементарной физики, то, конечно, эта энергия окажется смехотворно малой по своей величине. Но я убедился, что человеческое мышление — это нечто более значительное, чем простое движение электронов в атомах нервных клеток головного мозга. Мысль — это воображение. Энергию воображения нельзя выразить в общепринятой формуле: масса, умноженная па квадрат скорости. Когда я заставляю вот эту гирю двигаться, я не тяну ее, как сделал бы руками… Сложно передать на словах… грубо говоря, я мысленно разрушаю вокруг гири все силы тяжести и инерции, уничтожаю их силой воображения. И гиря начинает двигаться. Ваш академик Семиплатов, как чеховский ученый сосед, заявил, что «этого не может быть, потому что не может быть никогда»… Он неуч! Я пять лет тренировал свое воображение и теперь знаю, что сила точно организованной мысли неизмерима. Воображение — всемогуще! Я могу доказать это кому угодно. Хоть всему миру!..
Полянский опять перешел на крик, и опять у меня сильно кольнуло в затылке. Я поморщился.
Полянский сразу замолчал.
— Вы… — произнес он, нажимая на каждое слово, — вы… мне… не верите. Вы считаете, что я болтун. Жалкий цирковой иллюзионист, которого хватает только на фокусы с гирями и цветочками!.. Так?
Он схватил со стола стаканчик, выплеснул коньяк в рот.
— Пойдем!
Он вцепился в мой рукав и буквально выволок меня через сени в ограду, затем через калитку на улицу. Беспокойно и возбужденно оглянулся вокруг.
— Вот! — ткнул он пальцем в сторону башен элеватора.
До башен было километр-полтора. Я плохо представлял себе, что он задумал, но послушно уставился на элеватор… Серые башни четко выделялись на фоне белых облаков. Над их верхушкой поднялся еле заметный клубок пыли. Это мог сделать ветер…
— Черт… — яростно прошипел Полянский. Рывком повернулся ко мне. Я старался на него не смотреть. Тогда он шагнул вперед, закрыл лицо руками.
Это уже начинало походить на мелодраму. Я не знал, что делать. Пожалуй, лучше всего было скрыться от Полянского, поехать в город и прислать сюда карету из психиатрической лечебницы…
Полянский резко вскинул голову, протянул руку.
Я увидел, как над серыми башнями элеватора стремительно взвился пыльный столб, будто там взорвался артиллерийский снаряд. Из пыли вырвалась стая голубей и спирально пошла в небо. Вершина башни дрогнула… и обрушилась наискось, как сугроб снега.
С опозданием в несколько секунд донесся тяжелый грохот.
Я онемел.
— Смотрите еще! — торжествующе крикнул Полянский.
К переезду подходил пригородный поезд. Электровоз тянул десяток вагонов, видны были фигурки людей, столпившихся в дверях… Да, Полянский показывал на него.
— Что вы! — я схватил его за плечо. — Там же люди!
Но было уже поздно.
Электровоз вдруг странно, как игрушечный, запрыгал по рельсам и завалился набок. Вагоны полезли друг на друга. Пронзительный, как крик боли, раздался скрежет сминаемого, рвущегося железа.
Люди посыпались из вагонов.
Мне захотелось крикнуть: «Нет! Этого нет! Я сплю… или сошел с ума!»
Я не мог выговорить ни слова. Над элеватором расплывалось бурое облако. Элеватор горел.
— Убедились? — прохрипел Полянский.
Он тяжело дышал. На побледневшем лице, как раскаленные угли, горели его страшные глаза. Тонкие губы кривились — похоже, он пытался улыбнуться.
Я с ужасом глядел на него и молчал.
Он тяжело сунул руки в карманы и прошел мимо меня в калитку.
Я бросился к поезду и тут же остановился. Мне нечего там делать. Я должен остаться здесь.
Да, я убедился…
Полянский, вопреки всякому здравому смыслу, овладел необъяснимой страшной силой сказочного джинна. И могущество его по сказочному велико. Но очевидно и то, что мозг Полянского не вынес страшного напряжения, что-то сдвинулось в его сознании, подавило все гуманные начала, и ценность человеческой жизни превратилась для него в ничто. Цель заслонила средства.
Полянский — опаснейший маньяк. Под развалинами элеватора, в перевернутых вагонах поезда погибли люди. Сколько их может погибнуть еще? Что может изобрести необузданная фантазия Полянского для тренировки и доказательства могущества разума?
Как унять Полянского? Это нужно сделать вот сейчас. Потом может быть поздно…
Я вернулся в ограду.
Он сидел на крыльце. Глаза его уже потухли. Он встретил меня своей обычной усмешкой. Если раньше она была неприятной, то сейчас показалась омерзительной.
Что-то не понравилось Полянскому в выражении моего лица. Усмешка его исчезла.
— Ну, ну… — сказал он предупреждающе.
Я почувствовал, как будто меня схватили две громадные невидимые ладони. Мои ноги оторвались от земли, предметы перед глазами описали стремительный полукруг. Я понял, что вишу в воздухе вниз головой. Я видел перевернутое крыльцо, перевернутого Полянского, который с холодным любопытством глядел на меня.
Потом опять все мелькнуло, и я ощутил землю подошвами. Сделал несколько шагов, чтобы сохранить равновесие. Встал возле поленницы и прижался к ней спиной.
Голова наполнилась шумом, будто в ней заработал авиационный мотор. Я постарался взять себя в руки, но шум не уменьшался, наоборот, он быстро нарастал, становился громче и отчетливее и наконец перешел в тяжелый надсадный гул. Я не сразу сообразил, что этот гул рождается не внутри меня, а идет откуда-то сверху.
К городскому аэродрому снижался пассажирский самолет.
— Интересно! — сказал Полянский — он тоже смотрел вверх, — Неплохо проверить.
Он вскочил и, уже не обращая на меня внимания, запрокинул голову. Мощно ревя моторами, самолет тел прямо над нами. Секунда… другая… Самолет опустил нос и стремительно понесся к земле.
У меня перехватило дыхание.
Я оперся о поленницу. Под руку попало березовое полено… Гладкое и круглое, оно удобно легло в ладонь…
Начальник милиции полковник Аверьянов с трудом разобрал последнюю фразу: четкий почерк внезапно исказился, и расплывшиеся буквы поползли вниз по странице. Он перевернул лист и, не найдя ничего на обороте, положил его на стопку уже прочитанных листков.
Полковник Аверьянов только что вернулся из отпуска, Ему уже доложили об аварии на элеваторе и о крушении на железной дороге. На своем столе он нашел папку, обычную серую папку с надписью «Дело», где рукой майора Кубасова было дописано: «об убийстве доцента Полянского».
Сам Кубасов сидел в кресле напротив.
— Полянского нашли? — спросил полковник Аверьянов.
— Конечно, — ответил Кубасов, — в сенях дачи и нашли. Только он был уже холодный, когда мы приехали. Булатов ударил точно.
«Что ж, — подумал Аверьянов. — Булатов знал, куда ударить: как-никак он был нейрофизик, кандидат медицинских наук…»
— Самого Булатова мы обнаружили на его квартире, — продолжал обстоятельный рассказ майор Кубасов, — он сидел за письменным столом, голова его лежала вот на этих записях.
— Он живой?
— Пока жив. У него кровоизлияние в мозг, он без сознания. Профессор сказал, что он сильно ударился головой, очевидно, во время аварии автобуса, и повредил кровеносный сосуд. Только сосуд лопнул не сразу, а спустя несколько часов, когда Булатов был уже дома. Он очень плох. Профессор считает, что если Булатов и выживет, то может на всю жизнь остаться ненормальным человеком.
Полковник Аверьянов помедлил. Сложил в папку листки.
— Значит… после аварии с автобусом Булатов лишился рассудка?
— Конечно, — заявил Кубасов. — Иначе не могло быть, я так и в заключении указал. После аварии, находясь уже в ненормальном состоянии, он пошел с Полянским на дачу. Что там было — возможно, пьяная ссора, пустую бутылку из-под коньяка мы обнаружили, да и от Булатова пахло коньяком. В припадке ярости он убил Полянского поленом, труп затащил в сени и запер там, а сам вернулся домой и написал вот это ненормальное объяснение.
Полковник Аверьянов задумчиво посмотрел на Кубасова.
— Профессор эти записки читал?
— Конечно. Говорит, типичный шизофренический бред. Правда, очень складно подтасованный под события.
Полковник Аверьянов достал папиросу и очень долго разминал ее в пальцах.
— Что же думают эксперты о причинах аварии на элеваторе? — спросил он.
— Нашли небольшую усадку фундамента. Очевидно, бетон дал трещину, а потом башня и обвалилась.
— А крушение?
— Обломки цемента разлетелись далеко в стороны, один мог угодить под колесо электровоза. Мы также звонили и в аэропорт. Пилот рассказал, что при подходе к городскому аэродрому самолет неожиданно попал в воздушную яму. Машину удалось выровнять в трехстах метрах от земли.
— Да, на самом деле складно, — не спеша и как будто недовольно заключил полковник Аверьянов.
На взгляд майора Кубасова, все тоже было складно и логично, и он не понимал, чем, как ему казалось, недоволен полковник Аверьянов. Но майор Кубасов был кадровый военный, четко держался субординации в отношениях о начальством, поэтому он ничего не спросил.
А полковник Аверьянов больше ничего не прибавил.
Майор Кубасов забрал папку и ушел. Полковник Аверьянов бросил в пепельницу лопнувшую папироску и вынул другую. Постучал ею по коробке…
Конечно, все это чепуха. Академик Семиплатов еще мог крутить пластмассовый шарик. Но электровоз — это не мячик от пинг-понга… Четырнадцать убитых, двадцать восемь раненых! Усадка фундамента…
Полковник похлопал себя по карманам и достал спичечный коробок. Вытянул спичку… и не зажег ее. Повертел, как будто видел впервые. Потом отодвинул коробку с папиросами, положил спичку на стекло. Удобно оперся локтями на стол.
Пристально уставился на спичку.
Скрипнула дверь. Он обернулся. В дверях стояла уборщица с ведром и шваброй.
— Извините, — сказала она.
— Ничего! — он встал, смутившись, подобрал спичку. — Ничего, убирайте. Я уже ухожу. — Он отослал машину и отправился домой пешком.
Моросил мелкий дождик. На улицах было сыро и неуютно. Полковник Аверьянов шлепал по лужам и думал. Кажется, никогда в жизни он так много не думал о разном там магнетизме, о телепатии, парапсихологии, и о необъяснимо сложной и по сей день загадочной работе человеческого мозга, и о том, что мышление человека так же бесконечно для познания, как и Вселенная.
Какой-то прохожий в новых калошах, с зонтиком и портфелем под мышкой так же неторопливо брел впереди. Полковник Аверьянов рассеянно поглядывал на поблескивающие задники его калош. Длинная цепочка размышлений привела его наконец к «Олесе» Куприна.
Озорная мысль пришла в голову.
Он сдвинул на затылок фуражку и уставился в спину прохожему.
И тут прохожий неожиданно запнулся. Или ступил в ямку на асфальте, или просто поскользнулся; он потерял равновесие, отчаянно взмахнул зонтиком, выронил портфель и, вероятно, упал бы, но полковник вовремя подхватил его под локоть.
— Извините! — пробормотал полковник Аверьянов, как будто на самом деле был виноват. — Пожалуйста, извините.
Он поднял портфель, протянул его прохожему. Тот буркнул что-то и зашлепал дальше по лужам. Озадаченный полковник Аверьянов проводил его глазами. Поправил фуражку.
— Чепуха! — сказал он сердито. — Чушь какая-то. Существует же на свете закон сохранения вещества, нельзя получить что-то из ничего.
Он свернул на свою улицу. Сделал несколько шагов, Оглянулся на прохожего.
— Конечно, чепуха. Не может этого быть! И кто-то ироничный, притаившийся в глубине сознания, прошелестел насмешливо:
«Потому что этого не может быть никогда…»
МАШКА
Я читал студентам лекцию по проблемам конструирования думающих машин и неожиданно потерял сознание.
Врачам скорой помощи я доставил немало хлопот.
Сознание вернулось только на следующий день — зыбкое сумеречное ощущение внешнего мира. Прошло порядочно времени, прежде чем я начал нормально соображать и вспомнил, что со мной произошло.
— Инсульт, — сказал профессор, — инсульт, молодой человек. Кровоизлияние в мозг. Будем считать, что вам здорово повезло. Могло окончиться гораздо хуже. Не пугаю, предупреждаю на будущее… Конечно, есть явления раннего склероза, но главная причина — перенапряжение нервной системы. Неаккуратно думаете. Да, да, молодой человек, неаккуратно! Перегружаетесь… Перегружать можно руки, ноги, словом — мышечную систему. А нервную — нужно упрашивать. Да, да! Вежливо упрашивать и прислушиваться, когда она отвечает: нет! А мы не слушаем… Голова, небось побаливала по утрам?
Профессору было, вероятно, за шестьдесят; но и мне было уже за тридцать, молодым человеком я себя никак не считал, и слова профессора показались мне обидными.
— Не помню, сказал я и отвернулся к стене.
Согласен, мое поведение можно назвать хамским, что там ни говори, а врачебное искусство профессора спасло мне жизнь. Но всем известно, что благодарность — крайне нестойкое качество человеческой натуры… разумеется, я говорю это не для оправдания.
Профессор был прав: уставал я в институте порядочно. Лекции стоили мне значительно большего труда, чем я вначале предполагал. И не только потому, что материал по основам машинной логики был нов и не было проверенной методики его преподавания. Это бы еще ничего.
Главная трудность появилась в другом.
Единственным учебным пособием для студентов по моей дисциплине оказалась книга Аркадия Ненашева — бывшего доцента Института Проблемной Физики. Я говорю; бывшего, потому что он уже там не работал, а перевелся в Институт нейрофизики. Мне рассказывали, что Ненашев вел весьма интересное исследование биотоков мозга. Ничего удивительного в том я не находил, хотя Ненашев был кибернетик — мозг тоже можно рассматривать как счетно-анализирующую машину, созданную с высокой степенью совершенства.
Мы с Ненашевым вместе закончили институт. Только я по окончании поехал в Камбоджу, на практическую работу, даже не совсем по специальности. Ненашев остался в аспирантуре. Когда я вернулся, он уже успел написать упомянутый учебник и защитить по нему диссертацию. Кибернетик он был способный, и учебник у него получился весьма солидный, доводы выглядели убедительно… если стать на позицию автора.
Декан института рекомендовал мне в лекциях придерживаться материала и тезисов данного учебника.
Вот с этим-то я согласиться не мог.
Чтобы быть верно понятым, мне придется рассказать о Ненашеве подробнее.
Друзьями мы не были: у Ненашева, насколько я знаю, вообще не имелось друзей, он был слишком рационален и расчетлив для этого. Волею случая я оказался его соседом в комнате институтского общежития. Поговорить он любил, слушать его было интересно. Вот только его принципы, вернее, полная беспринципность в науке часто меня возмущала, и тогда мы свирепо и запальчиво спорили,
Ненашев рассуждал примерно так:
— Не дело ученого решать моральные проблемы. Его не хватит на все. Его дело — поиск. Он ищет новое, делает открытие. А люди потом пусть сами разбираются: гуманно его открытие или нет. Это занятие философа или писателя.
Я возражал:
— Мы столько натворили па планете, и все с позиции науки и прогресса, что порой уже и сами недовольны результатами своей лихорадочной деятельности. Я не противник поиска, конечно, человек не может стоять на месте, он всегда идет вперед, ищет новое, повинуясь извечной потребности своего ума. Но современному человеку уже мало быть умным. Ему пора стать мудрым. Особенно, если он ученый и работает на переднем крае науки. Настоящий ученый сейчас обязан быть гуманистом.
— Никто пока не может объяснить, — толковал Ненашев, — в чем смысл существования человечества, этой мыслящей плесени на поверхности глиняного шарика, — он любил громкую фразу, — плесени, которая появилась неведомо когда и живет неизвестно для чего. Гуманитарные науки всегда оперируют здесь весьма условными неубедительными понятиями,
— Твоими словами, — возражал я, — можно оправдать ученых, которые в зарубежных лабораториях ищут новые вредоносные бактерии для войны, вместо того, чтобы уничтожать существующих.
— Что ж, — соглашался Ненашев, — вывести новую бактерию — это уже научный подвиг, если оставить в стороне моральные проблемы. Но ученый не виноват, что мир так неустроен и любое изобретение можно использовать и на благо и во вред.
— Но ученый обязан об этом помнить, — настаивал я. — Нельзя, чтобы его любознательность открыла ящик Пандоры. Когда народы мира составят дружную семью, всякое открытие будет только на благо. Пока мир напоминает бочку с порохом, ученый не должен изобретать спичку.
— А что он должен делать? — спрашивал Ненашев. — Работать дворником?
— Изобретать огнетушитель, — говорил я.
Если в спорах и рождается истина, то обычно ее никогда не замечают в азарте полемики. Разгорячившись, Ненашев начинал язвить, я — грубить. После этого мы но разговаривали по нескольку дней. Это явилось причиной нашего взаимного охлаждения, Ненашев стал мне совсем неприятен, вероятно, я ему тоже, и каждый из нас нашел себе другого соседа.
В своем учебнике по машинной логике Ненашев проводил ту же идею, если можно так сказать — «внеморальности» научного поиска. Я же считал, что есть задачи, решение которых нельзя доверять машине (а к слову сказать, и Ненашеву). Поэтому в своих лекциях я пытался внести поправки к материалу учебника. Кое у кого из членов Ученого Совета это вызвало недовольство: там были сторонники «ненашевской» теории. Да и студентам не очень нравились мои конспекты: им не хватало художественного блеска ненашевских заключений.
Но я не сдавался.
Днем читал лекции, ночами их готовил. На сон и отдых времени оставалось мало. Я стал принимать нейростимуляторы. Таким образом, уверенно двигался к своей катастрофе. Предугадать ее было нетрудно, стоило только немножко поразмыслить над тем, что же я делаю.
Глупо, конечно. Я читал лекции о том, как научить думать машину, и не сумел подумать о себе…
В больнице я пролежал четыре месяца. Точнее — сто двадцать два дня. Левая рука оказалась полупарализованной, потребовалось длительное лечение электротоками и массажем, пока она не начала как следует двигаться. Некоторая скованность в ней осталась.
Тем временем наступила весна.
На столике у моей кровати появились букетики полевых цветов. Цветы приносили студентки, нередко навещавшие меня; жена приносила обычно консервированные ягоды, ранние фрукты — витамины.
Когда я вошел в кабинет главного врача, профессор стоял возле открытого окна и с видимым удовольствием разглядывал старый тополь, раскинувший свои корявые ветви, покрытые молодыми, только что распустившимися листочками.
Профессор обернулся ко мне и кивнул за окно:
— Хорошо?
Он ожидал подтверждения. На мой взгляд, там было сыро, холодно — и только.
Я промолчал.
Профессор отошел от окна, предложил мне сесть и сел сам. Быстро перелистал историю болезни — возможно, мою, я не разглядел — и небрежно толкнул ее на угол стола.
— Мы решили вас выписать, — сказал он. — Хотя вы и не вполне здоровы, но наша помощь вам уже не нужна. Медицина, как говорят, исчерпала все возможности. Клиника сделала, что могла. Признайтесь, вам уже у нас надоело?
Я признался.
— Вот-вот. Я и сам вижу, что надоело. Конечно, вам нужно продолжать лечение, только не у нас. Вашей нервной системе требуются естественные стимуляторы. Мы вас выпишем, а вы уезжайте из города,
— В санаторий?
— Нет, санаторий я бы не советовал. Там слишком шумно. Много народа, общество, споры-разговоры, шахматы. Преферанс, чего доброго. Поезжайте в деревню. В любую деревню, лишь бы там было много солнца, воздуха и тишины. И никакой науки. Это самое главное. Умственная работа вам абсолютно противопоказана. Спиртные напитки для вас тоже яд, но рюмка водки вам повредит меньше, чем хорошая задача по математике. Запомните?
— Это надолго?
— Ну, полгода, год — в зависимости от того, как будет восстанавливаться ваша нервная система. Вы, кажется, были преподавателем?
— Да, был, — ответил я. — Кажется, был.
— Ну-ну! Не нужно так. Вы еще успеете стать профессором, воспитаете себе достойную смену… Все это у вас будет. Но будет потом. А пока: «цветы, любовь, деревня, праздность!., и far niente ваш закон…»-довольно бойко процитировал профессор. — Вы парное молоко пьете?
— Сроду не пил, — сказал я.
— Вот как?.. Но вы попробуйте, может, понравится. Для меня парное молоко лучше шампанского… А грибы собирать любите?
— Терпеть не могу.
— Весьма жаль. Такое хорошее занятие. Грузди — например. Груздь найти, знаете, не просто. Дедукция нужна, да! Идешь, смотришь: под сосной хвоя как будто ровная, только хвоинки чуть встопорщились, и уже чувствуешь: есть! Ковырнешь, а они гам… рядышком, желтоватые чуть, знаете, как старинная слоновая кость…
Я с трудом сдержал зевоту.
— Так… — оборвал профессор. — Значит, мы вас выписываем. Вы телефон, на всякий случай, мне оставьте.
— Домашний?
— Конечно. Зачем мне служебный.
Я почувствовал какой-то подвох. Но, в конце концов, профессор мог найти номер телефона в справочнике.
За все время моей «взрослой» жизни я ни разу не отдыхал «на природе». Привык к услугам коммунального комфорта, и жизнь без ванной представлялась мне несчастьем. Поэтому, вопреки желанию профессора, я все же поехал бы отдыхать куда-нибудь в приморский городок. Снял бы комнату с видом на море. Конечно, с ванной и телевизором… Но я недооценивал профессора. Он позвонил моей жене.
Жена редко вмешивалась в мои дела. Но если вмешивалась, я подчинялся. Так было легче…
Поселок назывался не то Сосновка, не то Пихтовка, а может быть, Осиповка — ему одинаково подошло бы любое из этих названий. В лесной глуши, за полтысячи километров от города. Попасть туда можно было, только используя все виды транспорта, от самолета до попутной автомашины. Кто-то из знакомых моей общительной жены имел знакомых в этом поселке. Все остальное уже не составило проблемы.
В поселке находилось десятка три бревенчатых домиков плюс одна птицеферма, которая и оправдывала его существование на свете.
Понятно, ни ванн, ни унитазов в поселке в помине не было. Деревянная будочка во дворе напоминала фиговый листок… Водопровода тоже не было. Зато рекомендованное профессором имелось, на мой взгляд, даже с избытком.
Вот электричество было, высоковольтная линия проходила неподалеку от поселка.
Квадратную избу дощатая переборка делила пополам. В одной половине поместился я, в другой моя хозяйка — женщина средних лет и кубического телосложения. Имя у нее было длинное: Олимпиада Феоктистовна. Впрочем, она не возражала, когда ее называли просто Липой. Работала Липа на птицеферме и на своем огороде, занята была целыми днями, уходила, когда я спал, и возвращалась, когда я читал в постели перед сном. Был у нее муж — крупный, под стать ей, мужчина; не то егерь, не то лесник — он мне говорил, но я толком не понял, — словом, имел отношение и к лесу, и к охоте. Над их кроватью так и висела старая, очевидно, отслужившая двустволка, но сам ее хозяин жил где-то на кордоне и дома ночевал раз-два в неделю.
С утра я уходил в лес. Собирал на опушках землянику, если попадала, и тут же отправлял ее в рот. Когда не очень одолевали комары, усаживался на подходящий пенек и читал сколько мог.
В середине дня, накормив свою куриную семью, Липа забегала домой и кормила меня. Питались мы, в основном, «а-ля натюрель» — яйца, сметана, молоко, овощи с огорода, свежий мед — меня это вполне устраивало: следуя совету Остапа Бендера, я не делал из еды культа.
Духовную пищу, по мере надобности, я покупал в местном ларьке, где наряду с мылом, сахаром, спичками и прочими предметами бакалеи и ширпотреба имелись и книжки. Продавщица, кокетливая бойкая блондиночка — чуть потемнее платины и посветлее соломы, раз в неделю привозила из районного села периодическую литературу, какая попадалась ей под руку. Я читал все подряд… Продавщицу звали Санечка — меня никто с ней не знакомил, просто я слышал, что ее так зовут.
Так я и жил: без ванной, без свежих газет, даже без отрывного календаря, не зная, какое сегодня число и какой завтра день недели.
Могло ли мне прийти в голову, что именно здесь, в этом, обойденном стремительным бегом времени, поселке, где отроду ничего не случалось, да и не могло случиться, я стану свидетелем невероятной истории, точку в которой, по всем правилам чеховской драматургии, поставит старая двустволка лесника…
Как многие значительные события, все началось с мелкого случайного факта: нам почему-то не принесли молока.
Липа торопилась к своим курам и попросила меня самого сходить за молоком. Это недалеко, объяснила она, последняя изба по улице, а фамилия хозяина коровы — Ненашев. Липа подала мне алюминиевый бидончик; мне показалось, что она хотела что-то сказать, но не сказала и ушла. А я усмехнулся тому, что меня и здесь не оставляет фамилия, которой я был обязан в институте многими неприятностями.
Старый бревенчатый домишко стоял в стороне у поселка, у самого леса. Из-под позеленевшей дощатой крыши, как из-под нахлобученной шапки, выглядывали маленькие, словно прищуренные окошечки. Перед окошками буйно росла корявая растрепанная черемуха.
При некотором воображении можно было представить, что именно в таком домишке могла жить Баба Яга. Или Кащей Бессмертный. А может быть, и Соловей-разбой-пик. Хотя Кащей Бессмертный жил во дворце, а Соловей-разбойник в дупле старого дуба и, следовательно, был не сибирского происхождения.
Домишко принадлежал к миру легенд. Но и я, в свою очередь, был легендой для того мира. На мне костюм из синтетики, — Кащей Бессмертный не смог бы купить его ни за какие свои сокровища. Мой алюминиевый бидончик для Бабы Яги оказался бы большим чудом, нежели для меня ее летающая ступа. Я разглядывал домишко, который, казалось, не мог существовать в мире, где есть полупроводники, атомные станции, телевизоры, и ощущал какое-то непонятное беспокойство.
Алюминиевый бидончик в руках, наконец, вернул меня к ощущению реального — я же пришел за молоком. Я подошел к калитке, толкнул ее. Она не открылась.
Я постучал. Мне никто не ответил.
На калитке не было ни ручки, ни какого-либо затвора. Из дырочки в доске торчал засаленный кончик ремешка. Я потянул за него неуверенно. Что-то лязгнуло, калитка приоткрылась.
Я шагнул в ограду и остановился.
Под навесом возле крыльца, которое вело к дверям домика, стояла здоровенная корова, белая с рыжими пятнами. Пережевывая жвачку, она смотрела в мою сторону, наклонив вперед большие лирообразные рога.
Рога были отличные, с черными острыми концами. Я попятился за калитку.
Корова перестала жевать и миролюбиво качнула головой, как бы приглашая меня войти. Я никогда не имел дела с коровами; за последние двадцать лет встречался с ними только на экранах телевизора и кино. Однако некоторые сцены из жизни испанских тореро мне запомнились, правда, там действовали быки, а не коровы. Но кто их знает…
Подойти к крыльцу я не решился и сказал громко:
— Хозяева дома?
В доме было тихо. Корова странно замотала головой, как бы отгоняя мух.
— Есть кто-нибудь?
Корова опять покачала головой. Я пригляделся к пей.
— Значит, хозяина дома нет?
Корова утвердительно мыкнула коротко что-то вроде: «нну!».
Мне уже не трудно было вообразить, что она сказала «нет». Я хотел было спросить, где же ее хозяин, но тут до меня наконец дошло, что я веду себя по-идиотски.
— Так-так… — пробормотал я. — Значит, нет…
— Н-ну! Н-ну! — подтвердила корова.
Я выскользнул в ворота, захлопнул за собой калитку. Некоторое время отупело разглядывал кончик ремешка, торчавший из дырочки в доске. Потом машинально приподнял крышку бидончика, ожидая увидеть там молоко: окаянная корова вышибла меня из проторенной колеи реального восприятия окружающего. Мне захотелось открыть калитку и заглянуть в ограду.
Может быть, коровы там и не было?..
Тут я услышал тяжелые размеренные шаги. Они приблизились к калитке. Затем до меня донесся глубокий шумный вздох. Я переложил проволочную дужку бидона из одной руки в другую, достал платок и вытер вспотевшую ладонь.
И тут услышал свое имя.
Я вздрогнул.
Уставился на калитку. Повернулся резко… и уперся взглядом в Ненашева.
Пожалуй, было бы менее удивительным встретить здесь Кащея Бессмертного — о нем я хоть думал только что.
Я молча разглядывал Ненашева: зеленые насмешливые глаза, неправильный рот, нос чуть приплюснутый — в молодости Ненашев занимался боксом, спутать его лицо с другим было невозможно, оно запоминалось сразу и навечно.
Одет он был в вельветовый пиджак, мятые брюки. В руках держал сетку с двумя булками хлеба, черного ржаного хлеба из ларька.
— Ты что, ты меня не узнаешь? — спросил он.
Уверен, нам никогда не удастся так запрограммировать думающую машину, чтобы она сравнялась с человеческим мозгом по способности обобщать столько далеких по смыслу явлений и ассоциаций. Эта странная корова, присутствие Ненашева, его последнее увлечение нейрофизикой — все это мгновенно суммировалось в аналитической цени моего мозга. Догадка родилась, перевести ее в связную мысль было только вопросом времени…
— Аркадий? — сказал я.
Он опустил сетку с хлебом прямо па землю, обнял меня. Ответить ему тем же мне помешал бидон.
— Ты ко мне? — спросил Ненашев и увидел бидончик. — Заходил?
Сетка с хлебом лежала у его ног, я поднял ее.
— Хлеб бросил…
— Ничего, это Машке, — он взял у меня сетку, шагнул к воротам. — Проходи!
Корова встретила нас у калитки. Она подняла морду и улыбнулась Ненашеву. Именно улыбнулась — выражение ее глаз было таковым. И улыбка не показалась мне ни уродливой, ни карикатурной… Вспомните, как у Тургенева улыбаются собаки…
— Машка, — сказал Ненашев. — Познакомься. Это мой друг.
Машка взглянула на меня приветливо и сказала свое «Н-ну!», что могло означать: «Очень приятно, мы уже встречались!»
Ненашев так ее и понял.
— Вы уже разговаривали?
Я сделал неопределенный жест. Машка утвердительно качнула головой. Потом сильно раздула ноздри, втянула воздух и подвинулась к сумке с хлебом. Ненашев отломил горбушку, Машка ловко захватила ее языком и зажевала, причмокивая. Ненашев пошлепал ее… я не знаю, как это называется у коровы, у человека это щека. Потом он почесал у нее под челюстью. Машка перестала жевать, вытянула шею и блаженно зажмурилась.
— Любит, подлая!
Он легонько щелкнул Машку по носу и тут же вытер руку о штаны.
— Как она тебе нравится? — и добавил тихо: — Говори по-английски, она не поймет.
Я не знал, что ответить и по-английски. Я уже нашел словесное определение своей догадки, только не мог ему поверить. Машка перестала жевать, в ее глазах появилось выражение задумчивости, она переступила задними йогами…
— Машка!.. — выразительно произнес Ненашев.
Он усмехнулся. Машка зажмурилась — мне хочется сказать: сконфузилась — и побрела куда-то за загородку.
Ненашев поглядел на меня, расхохотался весело и похлопал по плечу.
— Догадываешься?.. Пойдем присядем на крыльце, расскажу.
Я вернулся от Ненашева поздно вечером.
Липе сказал, что молоко будем брать в другом месте. Конечно, я не объяснил причины, и мое решение могло показаться странным. Но Липа, вероятно, подумала, что я слишком хорошо отметил встречу с приятелем — в ее понятии странные поступки могли делать только пьяные люди, — она не стала меня расспрашивать.
Ночью я долго не мог уснуть. Лежал и думал о Машке, и о Ненашеве, и о его открытии, дьявольски остроумном… и опасном, как изобретение пороха.
Разумеется, мне было известно, как нейробиологи сумели проникнуть в тайны рождения эмоций. Электрические импульсы, точно нацеленные на определенные участки мозга, вызывали у подопытного животного ощущение радости, страха, наслаждения. Но все это были детские игрушки…
Ненашев научил корову думать и говорить.
…Свой аппарат он назвал «энцефалограф-дешифратор условных рефлексов» — название тоже весьма условное. Назначение аппарата было куда более сложным.
В нейробионике я разбирался весьма посредственно, поэтому попросил Ненашева придерживаться в своих объяснениях популярной формы изложения. Насколько я понял, главною деталью аппарата являлся приемник-генератор модулированных воли. Посредством его можно было не только записывать токи мозга, но и подать обратно в мозг соответствующим образом составленную энцефалограмму, и в сознании возникнут зрительный образ, стремление к действию или отвлеченная мысль.
Аппарат Ненашев построил еще в Институте нейробионики. Первые опыты проводил строго конспиративно.
Никто не ведал, чем он занимался за дверями своей лаборатории, всегда закрытыми на ключ.
Пробудить в мозгу животного способность связно оперировать условными понятиями — значило поставить это животное на ту же ступеньку, на которой стоит человек. Ненашев не зря опасался, что сотрудники института могут возбудить общественное мнение и ему, Ненашеву, запретят заниматься рискованными экспериментами над разумом.
Если бы это зависело от меня, я бы запретил…
— Поэтому я и забрался в такую глушь, — рассказывал Ненашев. — Числюсь ветеринаром — все же в медицинском институте работал — принимаю роды у коров, лечу кур па птицеферме. В свободное время занимаюсь научными исследованиями. Какими? Никто меня не спрашивает. А если и спросят, найду, что ответить.
Ненашев был откровенен. Он понимал, что я безопасный слушатель и не смогу ему помешать. Да и поздно было чему-либо мешать…
— Когда я сюда приехал, колхоз выделил мне корову. Для молока, разумеется. Но именно Машка подошла для опытов как нельзя более. У неё спокойный характер, отлично сбалансированная нервная система, не склонная к неврозам, хорошие тормоза. Это очень важно — хорошие тормоза, — у Машки могут возникнуть всяческие нежелательные эмоции.
Он так и назвал их: «нежелательные эмоции» — те чисто человеческие чувства отчаяния, безнадежности, которые неминуемо появятся у Машки, когда она начнет понимать, что она такое есть и что ее ждет в будущем. Примерно те же самые «эмоции» появились бы у Ненашева, если бы он каким-то злым чудом вдруг получил рога, копыта и хвост и, превратившись в корову, понял бы, что отныне его место в коровьем стаде, что хотя он продолжает думать как человек, но мир человеческих радостей для него потерян навсегда.
— Кроме всего, — продолжал Ненашев, — у Машки на рогах удобно крепился мой аппарат. По конструктивным особенностям он должен находиться непосредственно возле головы, игольчатые электроды вкалываются в кожу…
Здесь он опять забрался в дебри нейробионики. Я его не перебивал; не разбираясь в деталях, я все же понял основное.
Ненашеву удалось выделить и записать на своем дешифраторе элементарные биотоки, которые вызывают в Машкином мозгу элементарные образы. Пользуясь такими элементами, как азбукой, он остроумно составил целые фразы, записал их на микропленке и через передатчик дешифратора посылал Машке обратно в мозг.
— Ты представить себе не можешь, какая это оказалась нудная, кропотливая работа. День за днем я штурмовал Машкино сознание и не получал ответа. Казалось, я стучусь в дом, где никого нет и некому открыть мне дверь. Уже собирался все бросить к чертям собачьим, отдать Машку обратно в стадо…
Я подумал, как было бы хорошо для Машки вернуться в свой бездумный мир и безмятежно по вечерам пережевывать свою жвачку.
— Но трудно оказалось освоить только первую фразу. Потом процесс познания пошел лавинообразно. Память у Машки оказалась великолепной, она все запоминала с первого раза…
Машка вышла из-за перегородки и стояла в отдалении, прислушиваясь к нашему разговору. Кажется, ей очень хотелось подойти к нам, но она не решалась. Может быть, боялась нам помешать?
Ненашев наконец заметил ее и оборвал свои объяснения.
— Хватит теории! Машка, покажи сама, что ты можешь. Пригласи гостя к себе.
Машка радостно «нукнула», закивала головой и направилась к бревенчатому сарайчику под навесом рядом с крыльцом.
Перед дверями лежал щетинистый коврик. Прежде чем войти, Машка вытерла ноги, точнее говоря — копыта. Она вытирала их по очереди, все четыре копыта, и на это стоило посмотреть.
В сарайчике пахло травой и молоком. Было чисто, Машка выполняла основные правила гигиены, как это делает, скажем, собака. Возле дверей стояла простая сосновая табуретка, — вероятно, для Ненашева. В углу лежал соломенный плетеный матрас, на котором, должно быть, спала Машка. В решетчатых яслях лежала охапка травы.
В углу над яслями висел тихо бормочущий динамик. Я прислушался: передавали последние известия.
Ненашев опять ухмыльнулся.
— Машка слушает, — сказал он. — Очень любит. Особенно детские передачи. Более сложные вещи вызывают у нее много вопросов, и мне надоедает их разъяснять.
— Ты ее понимаешь?
— Конечно. Она умеет говорить.
Я уже перестал удивляться.
— Она весьма связно выражает простые мысли, — продолжал Ненашев. — Произносить слова не может, в русском языке слишком много согласных и шипящих. Легче было бы обучить ее не русскому, а скажем, полинезийскому языку — там почти одни гласные. Поэтому я пристроил к дешифратору специально сконструированный ларингофон.
На полке у входа — я ее не заметил вначале — стоял аппарат, очень похожий на переносный радиоприемник. Ненашев обхватил мощную шею Машки длинной дужкой ларингофона. Я невольно вздрогнул, когда услыхал монотонный «машинный» голос дешифратора:
— Здравствуйте! — Машка смотрела на меня. — Меня зовут Машка.
— Очень приятно, — сказал я.
— Как зовут вас? Я ответил.
— Почему я не видела вас раньше?
Я объяснил.
— Теперь вы будете к нам приходить?
Я сказал, что буду.
— Вы будете со мной разговаривать? Мне здесь так скучно…
— Машка! — перебил Ненашев. — Опять ты с жалобами. Расскажи, что ты сегодня слушала утром по радио?
— Я не хочу.
— Не капризничай…
— Мне надоело радио. Мне надоели детские передачи. Я хочу смотреть кино. Почему ты не пускаешь меня в клуб?
— Тебе нельзя в клуб, глупая.
— А я хочу…
Ненашев поморщился и выключил дешифратор.
Динамик замолк. Слышно было жалобное помыкивание Машки. Я уже не понимал, что она говорила. Она смотрела на Ненашева, должно быть, на что-то жаловалась, в ее глазах стояла человеческая тоска.
Я резко толкнул дверь и вышел в ограду.
Ненашев продолжал что-то выговаривать Машке, она только тихо помыкивала в ответ: н-ну!.. н-ну!.. Потом замолчала.
Бидон мой остался в сарайчике. Я не стал за ним возвращаться.
Я уже не смог бы пить Машкино молоко.
Бидон вынес Ненашев.
Мне хотелось увидеть на его лице хотя бы тень тех мыслей, которые волновали меня.
Ненашев поставил бидон на крыльцо.
— За молоком позже зайдешь. — сказал он. — Машка сегодня еще не доилась. Доярку выгнала, рогом ее ударила, подлая коровенка. Доярка, разумеется, ни о чем не догадывается, дешифратор при посторонних я не включаю.
— Чего же Машка ее выгнала?
— Говорит, что ей противно, когда ее доят. Видал такую дуру!.. Отойдем-ка в сторону, а то еще услышит… Обидчивая стала, просто до глупости. Я ей объясняю: хотя ты и думать научилась, а все же осталась коровой, какой была. И организм, говорю, у тебя работает по-коровьи: если доиться не будешь, то заболеешь. Мастит, говорю, будет. Воспаление молочной железы. Кое-как успокоил.
— Все-таки, успокоил.
— А что мне оставалось делать? Устал я с ней. Вот не думал, что у коровы вместе с разумом появится столько капризов всяких. Право, она была разумнее, когда у нее совсем ума не было.
— Что ты думаешь делать дальше? — спросил я.
— Кончать эту канитель. Повезу Машку в город. Как экспонат.
— Как экспонат?..
— Конечно. Представлю ученому совету по защите диссертаций. Доказательство моей работы. Я же всю современную нейрофизику двинул на полета лет вперед.
— Согласен.
— То-то вот… Да я Нобелевскую премию получу, вот увидишь.
— Весьма возможно, — опять согласился я. — Если повезет. Я бы лично тебе ее не дал.
— Ты же всегда был консерватором.
— А что будет с Машкой?
— Как что?
— Я спрашиваю: что будет с коровой, которая может думать как человек, но не имеет человеческих возможностей. Куда ты денешь Машку, когда получишь все свои премии и звания? Сдашь ее на мясокомбинат?
— Что ты, такую корову и на мясокомбинат!
Только Ненашев мог понять меня буквально.
— А все-таки?
— Ну… Я еще не думал. Отправлю ее в зоосад.
— В зоосад принимают только животных.
— Ах, ты опять про это.
— Да, опять про это.
— Тогда выстроим Машке отдельный павильон, она того заслуживает. Самая знаменитая корова в мире, подумай! Журналисты будут брать у нее интервью. Будут снимать в кино.
— А Машке это поправится?
— А чего ее спрашивать. Вот еще новости.
Мне вдруг захотелось ударить Ненашева. Ничего не говоря, не объясняя. Сильно ударить, чтобы ему стало больно… очень больно!.. Я заложил руки за спину, и поднял лицо к вечернему небу. Я не мог смотреть на Ненашева.
— Ты чего? — спросил он.
— Нет… я так, ничего… Я только хочу спросить: неужели ты до сих пор не понимаешь, что с желанием Машки нужно считаться, что она уже не корова.
— Опять!.. Тогда что же она такое? Человек?
— Не человек, но существо, наделенное разумом, поэтому и не животное, в прямом понимании слова. И не важно, что у нее рога и копыта и внешний облик так отличен от человеческого. У нее — разум! И по всем законам она требует к себе такого же отношения и внимания, как к человеку… Ты не боишься, что тебя можно отдать под суд?
Ненашев стал серьезным.
— Ну-ну! Не нужно так громко. — Он помолчал, поглядывая на меня исподлобья. — Знаешь, я, признаться, уже думал об этом. Ну, об юридической ответственности, что ли, говоря твоим языком. У меня есть документ, в котором подписью и печатью удостоверяется, что вместе с избой и надворными постройками, с усадьбой в пять сотых гектара мне принадлежит также корова белая, с рыжими пятнами, по кличке «Машка». По всем существующим законам я являюсь хозяином этой коровы и волен использовать ее, как мне заблагорассудится. Могу ее доить, могу заколоть на мясо. Тем более могу провести над ней опыты, во имя науки. Вот и вся моя юридическая ответственность. Я закона не нарушил, и судить меня не за что. Во всяком случае, пока не за что.
Ненашев, как это он делал и раньше, бил мои эмоции логикой, я, не находя нужных аргументов, как обычно начал злиться и, вероятно, наговорил бы грубостей… Меня остановило — выражаясь языком старинных романов — появление третьего, а если считать и Машку — четвертого лица. Калитка осторожно приоткрылась, и в ограду заглянула продавщица Санечка.
Она тоже вошла не сразу — Машкины рога произвели впечатление не только на меня.
— Входите, входите! — закричал Ненашев.
Обычно я видел Санечку в белом халате; сейчас на ней было платье на лямочках, модное, то есть похожее на ночную рубашку, светлые туфли на «гвоздиках»; право, она выглядела сейчас неплохо — рассуждая по-современному (мой вкус был всегда несколько консервативным, особенно в отношении женских нарядов: жена говорила, что я старомоден до неприличия).
На плече Санечки висела пластмассовая — тоже модная — сумка, размером с небольшой чемодан.
Ненашев собирался было меня представить, но Санечка сказала, что мы уже знакомы, и мне оставалось только подтвердить это. Затем она открыла сумку и вытащила из нее бумажный кулек.
— Ваше печенье, — сказала она Ненашеву. — Забыли у меня. Хлеб взяли, а печенье забыли.
— Ах, да! Вот растяпа! Право, не стоило беспокоиться.
— Какое же беспокойство, занесла по пути.
— Все равно, спасибо за заботу. Что бы я тут делал без вас?
Ненашев улыбался прозрачно. Я дожидался подходящего момента, чтобы уйти.
— Кому-то нужно о вас заботиться, — кокетничала Санечка. — Мужчина одинокий, занятый вечно, когда ему о себе подумать. Корова еще, возни сколько с ней: поить, кормить. Убирать опять же. Хорошо хоть доярку нашли. Не понимаю только, чего вы Машку дома держите?
— Куда же я ее?
— Выгоняли бы утром. Вместе со всеми коровами, в стадо.
— Отвыкла она у меня от коровьего общества.
— Привыкнет.
— Смотреть за ней нужно. Она у меня особенная.
— Ничего, пастух присмотрит. В стаде ей даже лучше будет.
— Чем же лучше?
— Так уж не понимаете… Теленочек у вас будет.
— Теленочек?.. — Ненашев вдруг перестал улыбаться. — Хм, теленочек…
Аналитическое устройство в голове Ненашева работало быстрее моего. Он посмотрел на меня задумчиво.
— А ведь это идея, — сказал он.
Я ничего не успел сказать.
— Н-ну! — услыхали мы рядом.
Машка выбралась из своего сарайчика — она сама могла открывать дверь. Вероятно, она слышала и поняла разговор и сейчас стояла перед нами, выставив вперед рога.
— Ах! — Санечка спряталась за Ненашева.
— Ты чего, Машка? — спросил Ненашев.
— Н-ну! — и Машка замотала головой.
— Не хочет идти в стадо, — улыбнулся Ненашев.
Даже если бы он говорил серьезно, Санечка все равно не догадалась бы ни о чем.
— Боюсь я ее, — сказала Санечка.
— Иди к себе Машка, — приказал Ненашев.
Он легонько шлепнул ее. Машка упрямо мотнула головой.
— Это что такое? Пошла прочь!
Он размахнулся и на этот раз ударил бы сильно, но я успел удержать его руку. Машка моргнула растерянно. Потом медленно повернулась, неуклюже, по-коровьи — заходя передними ногами и переступая задними — понуро побрела в свой сарайчик. В дверях оглянулась — она еще надеялась па сочувствие.
— Иди, иди! — крикнул Ненашев.
Дверь закрылась.
— Просто цирк какой-то! — сказала Санечка.
Ненашев вопросительно уставился на меня.
— Теленочек, а?
И он усмехнулся.
Я не принял его всерьез. Только потому, что смотрел на Машку другими глазами, нежели он. Это была моя ошибка.
Мне бы догадаться об этом…
Я не догадался. Я простился с Ненашевым и Санечкой и пошел домой. Бидон так и остался на крыльце…
Утром я проснулся с головной болью.
Я знал, что пройдет она не скоро, что нужно успокоиться, приглушить вчерашние впечатления. Целый день я бродил но лесу. Пробовал собирать грибы. Неожиданно это занятие мне понравилось: оно отвлекало от размышлений. Я набрал целую корзину. И, мне на удивление, все грибы оказались съедобными. Липа приготовила отменную солянку.
Вечером я спохватился, что мне нечего читать, и поспешил в ларек. Санечка уже собиралась уходить, но, заметив меня, любезно открыла двери и пригласила войти. На прилавке стояла сумка, битком набитая.
— У подруги день рождения, — объяснила Санечка.
Я пожелал Санечке и ее подруге хорошо провести время. Собрал все журналы, какие были, предложил помочь донести тяжелую сумку. Санечка отказалась от услуги, я не стал настаивать и отправился домой.
Липа ушла к соседке, я читал в постели до поздней ночи, потом погасил свет, пытался уснуть. Мне почти удалось, но тут пришла Липа, дверь скрипнула, и я опять принялся за чтение. Последние месяцы я приучил себя обходиться без снотворного, было досадно, что впечатления прошедшего дня — пусть даже необычные — так сразу выбили эту привычку. Принимать порошки не хотелось, оставалось одно средство: прогулка по сонной улице поселка, глубокое дыхание, свежий воздух и так далее.
Я откинул одеяло.
Здоровенная луна бесцеремонно уставилась на меля через окошко. В березовой роще за поселком — там сейчас, вероятно, было по-особенному светло — во всю мочь заливалась гармошка. Временами ей вторил девичий дискант, я слышал голос, но не разбирал слов.
Одевшись, я открыл дверь в комнату моей хозяйки. Липа, конечно, уже спала. Лунный свет голубым ковриком лежал возле ее кровати. Я прошел к дверям на цыпочках, хотя, вероятно, предосторожности были излишни, мимо спящей Липы можно было проехать на тяжелом танке.
На улице гармошку и частушки было слышно лучше.
Я иду, иду, иду,
Собаки лают на беду!..
Я пошел в сторону, противоположную той, куда звала гармошка.
Одинокая собака лениво тявкнула из темноты. Огни везде были погашены. Короткая улица поселка уперлась в лес. Под соснами притаилась неприятная ночная мгла. Я остановился на углу.
Домик Ненашева на противоположной стороне улицы был освещен луной и походил на старообрядческий скит.
Что там сейчас делает Машка?
Может быть, спит на своем соломенном матрасике. Или тоже мучится бессонницей, как я. И причин для этого у нее было несравнимо больше, чем у меня. Бедная Машка…
Знакомо звякнула щеколда. В проеме открывшейся калитки появилась женская фигура в светлом платье, послышался приглушенный смешок, и женщина побежала через улицу.
Я запоздало шагнул в тень — и не успел.
Женщина остановилась, разглядывая меня. Я узнал Санечку-продавщицу.
— Фу ты, господи… — сказала она. — Напугали как. Чего вы здесь бродите одни. Слышите, девки в роще поют, шли бы туда, что ли.
Я не нашелся, что ответить.
Санечка помолчала, усмехнулась и оставила меня одного.
Какое мне было дело до амурных похождений Ненашева!.. Я не спеша двинулся домой.
Гармошка ужо утихомирилась. В комнате лунный свет завладел постелью моей хозяйки. Я прошел в свою комнату, стащил ботинки и лег.
«Бедная Машка!» — подумал я, засыпая.
Утром, естественно, я встал поздно. Когда вышел из своей комнаты, Липа уже успела вернуться от своих кур.
Она приготовила мне завтрак, поставила на стол горячую яичницу, свежее масло, сама присела у печки, поглядывая на меня, как мне показалось, сочувственно.
— Чего вы ночью бродили? — вдруг спросила она. Вот тебе на!.. А я — то решил, что она ничего не слышала.
— Так, не спалось.
— Я уж подумала, может вас с похмелья мутит. Хотела рассола с погреба принести, да вспомнила, что вы соленое не любите. Вот молочко свежее, кушайте на здоровье.
Я взял стакан… и увидел на столе свой бидончик.
— Липа, вы были у Ненашева?
— А как же, была. Бидон-то мне нужен. Да вы не беспокойтесь, молоко я у соседки взяла. У нее корова хорошая. А от Машки я теперь и сама молоко в рот не возьму.
— Липа, что там случилось?
Оказывается, Ненашев выгнал Машку в стадо. Не буду повторять подробно рассказ Липы; одним словом, Машка свирепо встретила коровьего повелителя — племенного быка, а пастуха снесла с ног. Ее с трудом утихомирили прибежавшие на крик жители. Шею быку Машка все же успела пропороть — пришлось накладывать швы.
— Он у нас красавец, — рассказывала Липа. — Вы его видели?
— Кого?
— Да быка, опять же.
— Не видел.
— Породистый. На выставке премию получил.
Меня не интересовал бык, даже породистый. Я спросил про Машку.
— Ненашев обратно домой забрал. Пастух от нее отказался, говорит, сроду такой коровы не видел, как есть бешеная. На мясокомбинат, говорит, ее нужно свести, а то от ее молока и заболеть недолго. А жалко корову, молоко уж больно хорошее. Ночь в банке постоит — сливок вот столько…
Я уже подумывал послать телеграмму в Институт нейробионики, чтобы сюда в колхоз срочно выслали инспектора. Ненашева нужно лишить прав на Машку, запретить ему эксперименты над существом, обладающим разумом. И в то же время у меня не было уверенности, что прибывший инспектор не будет еще большим фанатиком от нейробионики. Тогда он останется глухим к моральной стороне вопроса, и я окажу Машке — а возможно и человечеству — плохую услугу.
Мне не хотелось опережать события.
Нужно вначале узнать: что собирается делать сам Ненашев…
Я застал его за завтраком.
На столе стояли шпроты, хорошая колбаса, сыр.
В литровой банке на столе было молоко. Машкино молоко!
Ненашев показался вначале несколько расстроенным, я уже было решил, что он отнесся сочувственно к такому активному протесту Машки… Что могло меня научить думать о нем так, как он того заслуживал?..
Ненашев пригласил к столу, я отказался. Подвинул стул к окну, задел случайно под столом пустую бутылку, она покатилась по полу. Я поставил ее обратно, к ножке стола.
Ненашев начал было рассказывать мне о событиях в колхозном стаде, я перебил его:
— Ты серьезно задумал это сделать?
— А что? — он даже удивился вопросу. Нужно же проверить, перейдут ли к теленку Машкины способности. Черт возьми! Ты понимаешь, как это должно быть интересно!
— А Машка?
— Что — Машка?
— Она согласна на такой эксперимент?
Ненашев взглянул на меня, промолчал и полез вилкой в банку со шпротами. Он не торопясь сделал бутерброд, откусил.
— С быком, конечно, я сам виноват, — он вытер губы полотенцем и потянулся за банкой с молоком. — Тут нужно делать по-другому.
— Как это — по-другому?
Ненашев отхлебнул из балки, на губе осталась белая полоска… хорошее молоко, жирное! Я отвернулся и начал смотреть за окно на улицу. На дороге копались куры. В тени под забором лежала свинья, толстое брюхо ее было измазано навозом… Что подразумевал Ненашев под словами: «по-другому»?
— Она еще натворила, — сказал Ненашев. — Санечку чуть на рога не подняла. Хорошо, та успела на крыльцо заскочить, а Машка на ступеньках запнулась. Вот тут я ее и отлупил.
— Как — отлупил?
— Очень просто, палкой. Черешком от лопаты. Здорово вздул… Подлая коровенка!..
Я снова стал смотреть на улицу… Почтового отделения в поселке нет, нужно ехать в село, за пятнадцать километров. Почтовыми делами ведает здесь та же Санечка, по совместительству. Значит, телеграмму в Институт придется посылать самому… Что еще придумал Ненашев? Что-то плохое, иначе бы он мне рассказал…
Стукнула калитка. Ненашев выглянул в окно.
— А, черт! — сказал он.
На крыльце послышалось шарканье подошв о половичок, затем в дверь протиснулся колхозный пастух — я часто встречал его с коровами — красноносый старичок в брезентовом дождевике.
— Что опять? — спросил Ненашев.
— Плохо, — ответил пастух. — Повязку с шеи сорвал, кровь идет.
— Ладно. Приду сейчас.
Пастух вышел.
Я поднялся со стула.
— Ты извини, — сказал Ненашев, — Видишь, какая карусель. А к тебе у меня просьба. Ежели пожелаешь, конечно. Я сегодня Машку накормить не успел. Аппетита у нее не было с утра. Может быть, пройдешься с ней в лесок, на травку. Тебе все равно где гулять, а ее одну я выпускать не решаюсь. Сейчас — тем более. К тебе она хороню относится. Даже спрашивала. Вот только поговорить тебе с ней не удастся. Дешифратор не работает, батареи сели. Санечка обещала сегодня вечером свежие привезти. Да вы и без дешифратора друг друга поймете. Коровам, говорят, тоже свойственно сентиментальное восприятие мира. Родство душ, а?
Без иронии Ненашев не мог.
Он взял с вешалки халат, перекинул через плечо и вышел.
Это были его последние слова. Больше я его не слышал. И не видел. Точнее, увидел еще раз… но лучше было бы тогда на него не смотреть.
Машка находилась под домашним арестом: дверь сарайчика была заложена березовой палкой. Черешком от лопаты. Я выдернул его, прикинул на руке и отбросил прочь.
Очевидно, она уже давно стояла вот так, против дверей, в злом напряженном ожидании, уставив вперед рога. Увидев меня, она попыталась улыбнуться, у нее не получилось. Тогда, каким-то несвойственным коровам движением, Машка по-собачьи сунулась носом мне между боком и локтем руки и стояла так некоторое время, закрыв глаза. Она вымазала мне весь пиджак. Конечно, я сделал вид, что ничего не заметил.
— Пойдем гулять, Машка!
Она согласно мотнула головой.
Я предложил ей самой выбирать дорогу. Она не пошла через калитку, вероятно, не захотела показываться на улице, а направилась через огород, который выходил на опушку леса. Остановилась перед загородкой, оглянулась на меня. Я выдернул несколько жердей, Машка с трудом протиснулась, зацепилась за торчащий сучок, оставив па нем клочья шерсти, и направилась в лес.
Она шла напрямик, пересекая тропинки, через заросли молодых березок и елок с торчащими, как карандаши, верхушками. Миновала несколько полянок с хорошей — на мой взгляд — травой. Она не останавливалась, а только обернулась несколько раз на ходу, чтобы убедиться, что я от нее не отстаю.
Так мы прошагали километра два. Деревья расступились сразу, и мы оказались на берегу озера, с полкилометра диаметром и, видимо, глубокого, оно было темное посредине и прозрачное у берегов.
Машка спустилась к воде и начала пить.
Она пила долго, потом поднялась на берег, виновато посмотрела на меня и направилась за раскидистые кусты.
Я присел на старую обугленную корягу, видимо, заброшенную сюда весенним разливом. В прозрачной воде гуляли стайки мелких рыбешек; кажется их зовут гольянами — прожорливые, они выжили из озера карасей, съедая их икру; так мне рассказала Липа, когда я попросил ее достать рыбы к обеду.
Машка шумно дохнула у меня за спиной.
— Ты бы поела, Машка, — сказал я.
— Н-иу, — ответила Машка.
Плохо было без дешифратора. Хотя интонации Машкиного «нуканья» менялись, все равно я ничего понять не мог.
Разговора не получилось, но и молчать мне не хотелось тоже.
— Быка ты отделала, это я понимаю. А зачем ты на Санечку набросилась?
Выражение глаз у Машки стало знакомо недобрым.
— Н-ну! — сказала она.
И упрямо мотнула головой, как бы говоря, что не собирается ничего прощать. А мне не хотелось, чтобы Машка утвердилась в своем желании отомстить Санечке за ее так не вовремя поданный Ненашеву совет. Но что я мог ей сказать?
Я вздохнул. Оторвал от коряги кусочек коры, бросил его в воду. Гольяны брызгами кинулись в стороны, тут же вернулись и закружились вокруг коры, сверкая бронзовыми спинками.
Машка вдруг повернулась в сторону леса. Ее пушистые уши задвигались из стороны в сторону, как антенны локатора. Спустя некоторое время и я услышал шорох в лесной чаще. На опушке появилось десятка два коров.
Потом показался и знакомый пастух.
Коровы прошли к озеру пить. Пастух направился к нам.
Машка нервно запереступала ногами.
— Машка! — сказал я.
Она с шумом вздохнула, отошла в сторону, в кусты, сорвала веточку и зажевала, сердито потряхивая головой.
Пастух присел рядом со мной. Покосился на Машку. Она повернулась к нему задом. Мне захотелось, чтобы она отошла подальше, на всякий случай, но я не стал говорить с ней при пастухе.
— Пасете, значит? — спросил пастух.
Я поинтересовался, как здоровье быка. Пастух ответил, что быку плохо.
— Подохнуть, правда, не подохнет, только поболеет долго. Чуток ему жилу не перервала. Скажи на милость, какая окаянная коровенка.
Я взглянул в сторону Машки. Уши ее были развёрнуты в нашу сторону, разумеется, она слышала все, что мы говорили.
Надо было переменить тему, но я не мог сообразить, как это сделать.
— Ловко она его, — продолжал пастух, — я и глазом повести не успел. Я ее кнутом, а она на меня. Рога-то у нее он какие. Прижала меня возле поскотины. Хорошо, Митрохины на покос шли, видят — такое дело. Так, поверить, кое-как управились. Как есть бешеная. В район ее нужно отправить.
— Что ей делать в районе?
— А там сейчас выбраковка идет. На мясо, значит.
— На мясо?
Я перестал следить за Машкой.
— На мясо, — подтвердил пастух. — А чего ж, корова она сочная, опричь шкуры и требухи, центнера три будет…
Пастух говорил прямо, не выбирая выражений, и попять его было нетрудно. Машка поняла его тоже…
Я успел вскочить, кинулся навстречу Машке, но запнулся за колодину и упал. И это спасло пастуха. Машка, побоявшись на меня наступить, остановилась.
— Бегите! — крикнул я.
На счастье пастуха, до леса было близко, он нырнул в кусты, Машка запуталась в чаще и отстала. Тут я догнал ее и обхватил за шею.
Машка больно наступила мне копытом на ногу и остановилась.
Дыхание ее было обжигающе горячим, крутые бока тяжело раздувались и опадали, удары сердца гулко отдавались в моих руках.
— Машка, глупая… — говорил я, с трудом переводя дух. — Что ты делаешь, разве так можно?
Машка осторожно, но настойчиво высвободилась из моих рук. Постояла немного, опустив голову, потом пошла в лес, той же дорогой, которой мы пришли сюда. Она шла вначале медленно, потом все быстрее и быстрее, и не оборачивалась, очевидно, ей уже было все равно: иду я следом или нет.
Она шла напрямик, раздвигая кусты, и вышла точно к разобранной загородке. Опять пролезла через узкий проход среди жердей и опять оцарапалась о сучок. Возле крыльца остановилась, потянула носом и, убедившись, что Ненашева нет дома, толкнула рогами дверь своего сарайчика.
Она так и не оглянулась на меня.
Беготня и волнения дня не прошли даром, у меня опять разболелась голова. Я лег в постель.
Липа забеспокоилась, начала отпаивать меня чаем с малиной. Я не отказывался, чтобы не обижать ее — да и хуже от малины стать не могло, — но попутно проглотил несколько таблеток, прописанных мне специально для таких случаев.
Я лежал с закрытыми глазами, и головная боль накатывалась на меня волнами, как морской прибой.
Наконец — подействовала малина или порошки, а может, все прошло само по себе, — волны стали накатываться все реже и реже, и я уснул.
Меня разбудил густой мужской голос, я узнал его — к Липе приехал с кордона ее муж. Она что-то сказала ему, вероятно, про меня, так как он стал говорить шепотом. Но и шепот его пробивал тонкую перегородку насквозь, я слышал каждое его слово.
— А я тебе о чем толковал, — гудел он, стуча ложкой по тарелке, — ненашевская коровка давно у меня на примете. Сразу она мне не понравилась, не коровье у нее было поведение…
Наметанный на зверя глаз охотника-лесника раньше всех разглядел странности Машки. Возможно, он меньше других удивился бы, узнав всю, такую, необычную правду о причинах ее «не коровьего поведения».
Я услышал, как стукнули его сапоги, сброшенные возле кровати.
Потом все затихло.
Проснулся я, как будто меня кто-то толкнул.
Как обычно, в окно заглядывала луна, на полу лежал светлый лунный квадратик. Я уловил отдаленные тревожные голоса и глухой непонятный не то рев, не то крик. Он не походил ни на что, слышанное мною; спросонок я не мог сообразить, что это такое.
Хозяева мои тоже проснулись, хлопнула входная дверь. Наконец сонная заторможенность покинула мой мозг, и я тут же вскочил с постели.
Это же кричала Машка!
Я был в пижаме, мне оставалось только надеть ботинки.
Липа в одной рубашке стояла у окна, высунувшись в него по пояс. Лесника не было в комнате. Я выскочил на улицу и увидел его уже бегущего, со старой двустволкой в руках. «Зачем ему ружье?»- подумал я на бегу, потом опять услыхал дикий рев Машки и тяжелые глухие удары, как будто кто-то колотил по забору топором.
Лаяли собаки. Хлопали двери. На улицу выскакивали встревоженные полуодетые люди и бежали вслед за нами и впереди нас.
Окна ненашевского домишка были темны. Ворота дрожали под ударами.
Чья-то светлая фигура поднялась с земли, сделала несколько шатких шагов нам навстречу. Это была Санечка. Я подхватил ее на руки. Она отталкивала меня, показывала в сторону калитки, что-то пыталась сказать. Нервная спазма перехватила ей горло, она не могла произнести слова, а только беззвучно открывала и закрывала рот. Платье ее прилипало к моим рукам — это была кровь.
Я подумал, что это не ее кровь, иначе Санечка не смогла бы выбраться за ограду и захлопнуть калитку.
Машка перестала реветь. За оградой наступила тишина. Я решил, что все закончилось. Люди подошли к забору, кто-то осторожно заглянул в ограду.
О намерении Машки догадался тот же лесник.
— Отойди, Роман! — крикнул он кому-то. — Отойди от калитки, говорю!
Внезапно раздался грохот.
Должно быть, Машка ударила в калитку с разбега.
Обломки досок разлетелись в стороны. Люди кинулись врассыпную. Машка по инерции проскочила через пролом и остановилась на улице.
Освещенная луной, она стояла прямо перед нами, покачивая головой, ошеломленная силой удара. Один рог ее был сломан и висел, по белой морде тянулись темные полосы.
Санечка крикнула хрипло. Вырвалась из моих рук и упала на дорогу.
Машка двинулась на крик.
Я шагнул навстречу, убежденный, что она не бросится на меня. Лесник вскинул двустволку, и остановить его я не успел.
Одновременно с грохотом выстрела голова Машки резко дернулась вбок. Машка еще стояла, но все уже было кончено для нее. Вот колени ее дрогнули, подломились разом, и она рухнула на землю, почти коснувшись мордой моих ног.
Пыль тут же осела. Я наклонился. Глаза Машки медленно гасли.
— Н-н… — хотела она что-то сказать.
И не смогла.
Лесник стрелять умел. Так ведь я же говорил, кажется, что он работал егерем…
Ненашева подняли возле крыльца.
Он уже не дышал.
Как потом показала судебная экспертиза, рог Машки пробил грудную клетку и коснулся сердца. Вероятно, Ненашев даже и не успел понять, что умирает, и умер.
Его занесли в комнату, положили на лежанку, зажгли свет. Смотреть на его лицо было жутко. Кто-то накрыл его белым халатом. Люди приходили и уходили. Женщины, боясь войти в комнату, толпились на крыльце, заглядывая в дверь, ахали. Мой лесник-егерь взял на себя обязанности милиционера, выдворил всех из комнаты и прикрыл дверь.
Я остался.
У меня здесь были еще дела. Я осмотрел комнату, заглянул в шкаф, под кровать, но не увидел того, что искал. Тогда я вышел во двор.
Было светло от луны.
Я обшарил Машкин сарайчик, свет там почему-то не горел, потом вернулся в сени, обыскал все полки, но так ничего и не нашел…
Следователь и судебный медик прилетели на самолете, который сел прямо на луг за поселком.
Мой разговор со следователем был коротким. Дольше всех он расспрашивал Санечку, но разговор этот происходил у нее дома, без посторонних.
Тело Ненашева увезли в город на этом же самолете. Я случайно видел, как это произошло: его принесли к самолету на носилках. Самолет был маленький, четырехместный, и для носилок места не нашлось. Тогда все тот же мой лесник-егерь поднял тело Ненашева и усадил на свободное место, позади пилота, рядом с судебным медиком, который обхватил труп рукой. Так они и улетели.
Машку никто не пожелал разделывать на мясо. Ее закопали на опушке леса.
На другой день я поднялся раньше, чем обычно. Липы дома не было, мой завтрак стоял на столе, покрытый полотенцем; пока мне было не до него.
Я вышел па улицу.
На дверях продуктового ларька висел замок. Санечка все еще отлеживалась дома после нервного потрясения. Куры усердно разгребали пыль на том месте, где застрелили Машку.
Ставни ненашевского домика тоже были прикрыты. Выломанную калитку забили накрест досками, очевидно, чтобы во двор не бегали ребятишки.
Я обошел кругом и через разобранную загородку пробрался в огород. Когда-то мы здесь шли с Машкой, на мягкой земле еще остались глубокие следы ее копыт. По пустой ограде шныряли воробьи. Кровь на крыльце засохла, покрылась пылью и превратилась в грязное пятно.
Я открыл дверь в Машкин сарайчик и сразу понял, почему тогда ночью ничего не мог найти.
Каким-то образом Машка сумела сбросить дешифратор с полки. Потом она долго и яростно топтала его копытами. На дощатом полу поблескивали изуродованные детали дешифратора, черные капельки полупроводников обрывки проводов, конденсаторы. Алюминиевый корпус, сплющенный в лепешку, лежал в углу.
Я присел на табуретку.
Восстановить дешифратор было уже невозможно. Схемы Ненашев не сохранил, он говорил, что принцип дешифратора элементарно прост, все дело в методике его применения. В этом и заключалась вся идея открытия, которое Ненашев унес с собой.
Долго сидел я, смотрел на остатки дешифратора и думал. Разные мысли приходили мне в голову.
Я был благодарен Машке, что она избавила меня от тяжелой проблемы. Что стал бы я делать, если бы дешифратор оказался цел…
Я поднял в углу сплющенный корпус, вынес его в ограду и забросил на кучу навоза. Затем подмел веником разбросанные по полу детальки и выбросил их туда же.
Плотно прикрыл дверь сарайчика. И вышел из ограды тем же путем, которым вошел.
Липы все еще не было. Я сидел один за столом, есть мне не хотелось. Ничего мне не хотелось. Возбуждение прошло, тяжелая усталость наполняла меня как ртуть.
Отчаянно болела голова.
Я с трудом добрался до постели…
ОТ АВТОРА
Я встретился с героем моей повести в больнице.
Наши койки стояли рядом.
Его принесли как-то вечером. Он был очень плох.
Вторичный инсульт оказался тяжелым, у него парализовало левую половину тела. Но сознание его работало на удивление отчетливо.
Ему становилось то хуже, то лучше. В один из дней, когда ему стало полегче, мы разговорились. Он узнал, что я журналист, задумался. Потом вдруг рассказал мне вот эту историю. И взял с меня слово сохранить ее втайне, пока он жив. Он так и сказал: «Пока я жив!» Это обещание я выполнил…
А любопытная все-таки вещь — этот дешифратор Ненашева!..
«УТЮГ»
Изображение на экране настольного телеселектора собралось в яркую точку, она сделала стремительный зигзаг и исчезла, и Гелий Биотопович, директор завода «Бытовые автоматы», остался в кабинете один.
Междугороднее телесовещание работников Службы быта закончилось. На совещании обсуждались вопросы, выдвинутые женским журналом «Пушинка», — популярный еженедельник при Институте Бытовой Эстетики имел тираж пятьдесят миллионов экземпляров, издавался на пяти языках и был непререкаемым авторитетом во всем, что касалось моды, косметики и подобных специфических проблем.
Сам Гелий Биотопович «Пушинку» не читал, У него уже были внуки, женские проблемы лично для него перестали быть проблемами, а к вопросам моды он относился терпимо — как бы ни одевались, лишь бы одевались!
На совещании присутствовал по обязанности, считая, что все эти вопросы моды к его заводу не могут иметь отношения.
И вот — ошибся!
Выключив телеселектор. Гелий Биотопович долго смотрел на потухший экран, собираясь с мыслями. Потом включил кабинет главинжа, но того не оказалось на месте. Тогда он переключился на секретаря, и на экране появилось хорошенькое личико Эврики Мезоновой.
— Ау? — сказала Эврика.
Гелий Биотопович снисходительно относился к легкой фамильярности своей секретарши — вся она такая, нынешняя молодежь — поиски новой формы отношений, ну их к богу…
Бесшумная автодверь на воздушной подушке пропустила Эврику в кабинет.
Гелий Биотопович поверх стола внимательно оглядел свою секретаршу с головы до ног. Конечно, она-то читала «Пушинку» и была одета с учетом требований моды, хотя до сего дня он не обращал на это внимания. Серебристый свитер из мягкого бихлоролона, кокетливо выглядывает отложной воротничок дизетриплоновой блузки. Юбочка в крупную складку из немнущегося светло-серого сантилена, чулки из узорчатого декаретилена, туфли из обеспыленного ластика на мягкой подошве из поляризированиого нескользящего пенолита…
Все это была знакомая ему добротная синтетика. Практичная, неизносимая и стоящая самую малость.
— И чего еще им нужно? — подумал он вслух.
Эврика приподняла бровки:
— Вы что-то сказали?
— Ничего! — буркнул Гелий Биотопович. — Ничего я не сказал. Ты, вот что… Разыщи-ка, срочно, главинжа. И Родия Семенова из КОБЮРО. Пришли их ко мне.
— Будет сделано, Гелий Биотопович!
Декаретнленовые ножки скрылись за бесшумными дверями. Гелий Биотопович проводил их глазами и недовольно насупился.
А все началось с пустяков.
Известная обозревательница женских мод Дина Мегасферова опубликовала в «Пушинке» очерк: «Как и во что одевались наши прабабушки».
Сотрудники Центрального Дома Мод всегда отличались оперативностью, они тут же раздобыли — ставшие уже музейными редкостями — старинные ткани с забавными названиями: «ситец», «сатин», «полотно» и выставили в Салоне несколько моделей платья из материалов, которые из ныне живущих женщин почти никто не носил.
Популярная певица — исполнительница молодежных песен — Рика Полифонова выступила на очередном теле-концерте. Одетая в длинное — до колен — платье старинного покроя из старинной ткани, где по ярко-синему фону были разбросаны причудливые цветы, она спела песенку о древнем растении с пушистым названием «хлопок», как он вырос под ласковым солнцем Узбекистана и потом из него сделали девичье платье — «сарафан».
Актриса была молодая и обаятельная, а в «сарафане» она показалась всем еще более милой и обаятельной. И всем женщинам тут же захотелось походить на Рику Полифонову. Все женщины вдруг почувствовали, что им надоели эти бихлоролоны, дизетриплоны и вся прочая неизносимая синтетика, которую не нужно было ни беречь, ни хранить. Всем захотелось — хотя бы изредка, по вечерам — надевать платье, у которого было такое романтическое прошлое.
Редакцию «Пушинки» засыпали ворохами бобинок фонопочты с вопросами, требованиями, предложениями. Телеселекторы редакции вели беседы с читательницами, не выключаясь ни на минутку. Обработкой корреспонденции занимались электронноанализирующие машины.
Наконец и в Институт бытовой эстетики поступил запрос.
Директор выступил с ответом по Центральному телевидению.
— Читательницы «Пушинки» предлагают нам нелегкую задачу: восстановить производство старинных тканей. Хлопок и лен мы не сеем уже давным-давно, наладить забытую текстильную промышленность, понятно, весьма хлопотно. Электронные машины с позиций рациональной экономики дали весьма отрицательную оценку этому, чисто женскому вопросу. Но, дорогие товарищи мужчины, давайте отнесемся к запросу наших милых спутниц со вниманием и полной серьезностью… — здесь директор улыбнулся. — Мы с вами не электронно-счетные машины…
Речь директора понравилась. И не только женщинам.
Вскоре несколько тысяч гектаров было отведено под посевы льна и хлопчатника. Пять заводов срочно переоборудовались для переработки текстильного волокна. Восстанавливались старинные прядильные машины, ткацкие станки, машины по обработке тканей и накатке цветного рисунка. В старых справочниках разыскивались забытые рецепты красок и составов.
Но это было еще не все.
Новую одежду нужно было беречь, периодически чистить, мыть и сушить. Строить специальные базы стирки и чистки оказалось нерациональным, и заводам предлагалось наладить выпуск портативных стиральных машин. Но после мытья и сушки одежду нужно было разгладить — освободить от складок и морщин…
Вот тут завод Бытовых Автоматов и получил срочное задание разработать и наладить выпуск аппаратов БТР — бытовые тканевые разглаживатели.
Старшего конструктора Родия Семенова сотрудники ввали просто Родик. Он был молод, только закончил институт и недостаток конструкторского опыта возмещал творческой интуицией и усердием. Его конструкция — автомат чистки обуви — получила специальный приз ЦБТЭ — Центрального Бюро Технической Эстетики, которое предъявляло весьма и весьма строгие требования к внешнему виду каждого вновь выпускаемого аппарата или конструкции, была ли это простая зубочистка, или пассажирский турбомобиль.
Получив задание на разработку БТР, Родик постарался вначале заглянуть в прошлое, чтобы проследить, чего достигла человеческая мысль в этом направлении. Оказалось, что БТР существовал еще в древней Руси и назывался тогда «утюг». Конструкция оказалась настолько примитивной, что Родик потерял к «утюгу» всякое уважение и решил создавать свой БТР заново, на уровне современной техники.
Пока электрики разрабатывали электрическую схему прибора, Родик занимался самым трудным и ответственным делом — отыскивал внешние очертания. Если по части схемы и технического устройства полагались обычно на знания конструктора, то оценку внешнего вида давало только ЦБТЭ, а там работали не только инженеры, но и художники.
Когда компоновка общего вида БТР-1 была уже закончена, электрики Института термодинамики открыли новый метод нагрева металлов вставными микрогенераторами. Родик не мог не признать, что новый метод изящнее и техничнее прежнего, который он использовал в своем БТР-1. Пришлось капитально пересмотреть и схему, и внешний вид. Так появилась конструкция БТР-2.
Но прежде чем чертежи его были утверждены… словом, появился БТР-3, потом БТР-4…
Наконец проект БТР-5 лег на стол главного инженера.
— Что вы, товарищи, — сказал главинж, — микрогенераторы уже устарели и сняты с производства. Их заменили элементами на встречных изотопах. Следить нужно за техникой, товарищи!
Родик согласился.
— Изотопы — конечно, это вещь! Разве можно их сравнить с какими-то там микрогеператорами.
И опять он занялся переделкой своей конструкции. Он торопился. Он потерял сон и покой. Сколько раз ему казалось, что его аппарат уже близок к совершенству, что нельзя придумать ничего лучше… но очередная телетехинформация приносила новые, еще более остроумные решения. Конструкция БТР старела прежде, чем сходила с чертежного стола.
Вдруг Родику повезло. Чертежи БТР-11 пошли на подпись. Главный инженер лишь одобрительно хмыкнул и поставил свою визу.
Сотрудники встретили Родика угрюмым молчанием,
Только что поступило сообщение Института технологии: новые ткани из льна и хлопчатника перед разглаживанием полезно увлажнять. Поэтому необходимо предусмотреть конструкцию водяного распылителя…
Родик положил чертеж БТР-11 на свой стол. Задумчиво посмотрел на подпись. Потом поставил острие карандаша в левый нижний угол и провел жирную линий по диагонали вверх. И такую же линию поперек.
Прабабке Родика Евдокии Тихоновне было уже за сто, но она все еще работала лесоводом в сибирском таежном заказнике. Ее сын, внуки, правнуки и праправнуки жили и работали в городе, но она сама к городской жизни привыкнуть так и не смогла.
— Разве найдешь что-нибудь лучше наших мест? — говорила Евдокия Тихоновна. — Воздух тут каков: одно слово — тайга! — На пасеке пчелы день-деньской жужжат, птицы поют…
Со своей родней она встречалась преимущественно по стереовизору.
…Экран долго не мог очиститься от помех — очевидно, где-то была гроза. Операторы телецентра включили подавители и Родик увидел Евдокию Тихоновну. Она сидела за столом и пила чай. Перед ней стоял чайник с цветочками и забавное узорчатое ведерко, очевидно с медом.
— Здравствуй, бабка, — невесело сказал Родик.
— Здоров, Родька! — ответила Евдокия Тихоновна. — Сядь-ка поближе, а то я тебя рассмотреть не могу. Чего кислый?
— …Так, — сказал Родик. — Какое там у тебя ведро на столе?
— Это не ведро. Это — туесок. Мед в нем держу.
— Подвинь, посмотрю. Банку бы полиэтиленовую завела, что ли.
— От твоего этилена вкус у меда не тот.
— В музей его нужно, твой туесок. Смешно — эпоха полимеров, а у нее там каменный век. Посуда из дерева.
— Сам ты, Родька, дерево. Это же береста — кора березовая. Да чего тебе толкую, ты и березку от осины не отличишь… Эх Родька, Родька! Приехал бы ко мне, пожил. За грибами бы сходили.
— Какие тут грибы…
Родик свою прабабку уважал. Конечно, в нынешней технике она не разбиралась — по статистике находилась в числе тех двух процентов населения, которые по разным причинам не получили высшего образования. Но во всем другом, что не имело отношения к точным наукам, она разбиралась лучше многих.
Поэтому Родик и поведал прабабке о всех своих неудачах.
Ни о новой моде, ни о конструкциях БТР она, понятно, не слыхала, но суть дела из рассказа Родика уловила точно.
— Так, — подвела она итог. — Значит, ваши девки решили себе сарафанов понашивать. Ситцевых. Это хорошо.
— А чего хорошего?
— Оденутся красиво. Это тебе не полимеры. Ну ладно, я не об этом. Значит, сарафаны гладить, а утюга нет?
— Нет.
— И не можете его сообразить?
Родину пришлось согласиться, что да, не могут сообразить.
Евдокия Тихоновна отмахнулась от пчелы, прилетевшей к меду, и закрыла туесок деревянной крышкой.
— А знаешь, добрый молодец, пожалуй, я твоему горю пособлю.
Родик кисло поморщился, давая понять, что это не тема для шуток. Тут телеселектор предупреждающе пощелкал, и Евдокия Тихоновна заторопилась.
— Время выходит, — сказала она, — сейчас мою программу прикроют. Ты вот что, Родька… я завтра к вам прилечу.
Родик не успел ответить, как изображение исчезло — автомат-ретранслятор переключился на другого абонента.
Гелий Биотопович расстроенно несколько раз прошел по кабинету. Ковер из светло-коричневого дванафтнлтриплона мягко глушил шаги и упруго поддавал вверх под пенолитовую подошву ботинка.
За окном прошелестел городской аэробус, его полосатая туша на миг закрыла окно из поляризованного стекла.
— Подумать только, какие автоматы осваивали. А тут БТР… чепуха какая-то. Двадцать вторая модель псу под хвост…
Гелий Биотопович любил старинные выражения.
Он прошел в угол к автобару. Полочка тут же опустилась, и приятный женский голос участливо спросил:
— Что будем пить?
Гелий Биотопович поморщился — фамильярность ему не нравилась всегда, а тут еще автомат, и так разговаривает…
И все эти мальчишки-конструкторы уговорили — новая форма обращения!
— Апельсиновый! — буркнул Гелий Биотопович.
На полочку выдвинулся стаканчик. Гелий Биотопович выпил и бросил стаканчик в утилизатор.
В эго время дверь приоткрылась, в кабинет вошла Эврика. Гелий Биотопович вопросительно поднял брови. Эврика показала пальчиком:
— К вам…
Евдокия Тихоновна была женщина видная. Одетая в просторный КСТ (костюм специальный таежный) и такие же СПБ (сапоги полуболотные), она выглядела весьма внушительно. Гелий Биотопович не сразу разглядел Родика за ее спиной.
Родик представил свою родственницу.
Гелий Биотопович показал на кресло.
В руках Евдокии Тихоновны была сумка — весьма занятная сумка, Гелий Биотопович невольно обратил на нее внимание — никогда он не встречал такой оригинальной пластмассы (сумка была из бересты).
Евдокия Тихоновна вынула из сумки что-то тяжелое и с маху поставила на стол.
— Вот, — сказала она.
— Что это?
— Утюг.
— БТР, — подсказал Родик.
— Ах, вот как…
Гелии Биотопович пригляделся. Все очень просто — литая ладьеобразная плитка — похоже, чугунная, сверху ручка полукольцом, нехитрый узор из крестиков по периметру. И все.
— Старинная вещь? — спросил вежливо Гелий Биотопович.
— Куда стариннее, — сказала Евдокия Тихоновна. — Еще моя бабушка им гладила.
— Что гладила?
— Как что? Сарафаны гладила. Гелий Биотопович сразу оживился.
— Сарафаны, говорите? Любопытно, весьма… И он… утюг этот, все еще работает?
— Еще как!
— Показать можете?
— А чего ж… Нагреть только.
Евдокия Тихоновна завернула рукава. Из лаборатории приволокли изотоповый нагреватель. Из ателье прибежал модельер с сатиновым сарафаном. Сарафан намочили, высушили высокой частотой.
— Тряпочку бы! — сказала Евдокия Тихоновна.
— Чего? — спросил Гелий Биотопович.
— Ну, ветошку какую-либо. Утюг за ручку прихватить.
— Ах, вой что…
Из термоцеха принесли кусок асбопленки. Евдокия Тихоновна подняла утюг… Через несколько минут в кабинете Гелия Биотоповича пахло свежевыглаженной тканью. Разглаженный сарафан опять намочили, опять высушили. За утюг взялся сам главный инженер. Он обжег себе пальцы, но в основном справился. Потом взялся Гелий Биотопович, у него тоже получилось, хотя и не так гладко — все-таки у главного инженера было два высших образования.
Потом стали гладить все, кто хотел.
Конструкторы кибернетических автоматов с удовольствием возились со старинным приспособлением, ахали от восторга, вдыхая вкусный запах подогретой ткани, похваливали мягкое, очень приятное шуршание «утюга» по материи.
Правда, главный инженер высказал опасение, что потребители, привыкшие к изящным, прекрасно отделанным новинкам, созданным на базе новейших достижений техники, не захотят иметь дела с допотопным аппаратом.
Евдокию Тихоновну торжественно проводили, предварительно напоив чаем с настоящим липовым медом, который хранился как эталон в отделе дегустации.
Техсовет собрался сразу после отъезда Евдокии Тихоновны. Споров не было. Аппарат БТР типа «утюг» без всяких изменений пошел в производство. Главный инженер заикнулся было о необходимости вставить в подошву утюга микронагреватели и усовершенствовать ручку, но Гелий Биотопович испуганно замахал на него обеими руками.
Так и оставили старинной одежде — старинный инструмент!
Через неделю «утюги» появились на витринах ателье — как раз ко времени: фабрики спецпошива выпустили первую партию женского платья фасона — «сарафан».
Завод бытовых автоматов получил много благодарностей от потребительниц. Все они отмечали простоту и техническое изящество БТР типа «утюг».
СЧЕТНАЯ МАШИНА И РОМАШКА
Счетно-анализирующая машина САМА-110 считалась машиной высшего класса: она весила четыре с половиной тонны, стоила очень дорого и занимала самую большую комнату в первом этаже вычислительного центра.
Она имела необъятные кладовые памяти, рефлексную связь — для уточнения вводимых данных, квантоводифференциальную логику — для меняющихся параметров и много других усовершенствований, столь же понятных по названиям. Она делала несколько сот тысяч операций в секунду, работала несравнимо быстрее, нежели человеческий мозг, и решала всевозможные задачи о десяти часов утра до трех часов дня, кроме выходных.
Ромашка была обыкновенным цветком — беленькие лепесточки вокруг желтых тычинок, па тоненьком стебельке. Она не стоила ничего и не делала ничего. Она просто росла на лесной полянке, неподалеку от загородного шоссе…
В вычислительный центр обращались многие организации, начиная от филиала Академии и кончая районным универмагом готового платья. Не всегда самые трудные задачи поступали от Академии. Скажем, рассчитать орбиту тяжелой межпланетной ракеты па пути в миллионы километров не требовало много времени. Но вот определить для универмага план-заказ продажи женских туфель разных фасонов, учитывая все требования изменчивой моды, всего на один сезон — это было значительно труднее. Однако САМА-110 справлялась и с такими задачами.
Хотя САМА-110 была весьма эрудированная машина, все же думать и непосредственно оперировать человеческими понятиями она не могла. Она не понимала русского языка. Она вообще не понимала человеческого языка. Она пользовалась в своей работе собственным, машинным языком — чередованием невразумительных нулей и единиц, условных «да» и «нет». Поэтому условие любой задачи нужно было предварительно перевести с человеческого языка на цифровой, понятный матине язык, или, попросту говоря, составить для нее программу.
Составление программы — тонкая и ответственная работа, от которой зависит и правильность ответа и вообще возможность решения задачи. Тут требуется математическая находчивость, фантазия, интуиция — качества, которыми пока обладает единственная машина в мире — человеческий мозг.
Теперь уже станет понятным, чем занимался Дима Заячкин, молодой инженер-программист вычислительного центра, с десяти часов утра до трех часов дня, кроме выходных…
А ромашка?.. О ромашке речь еще будет впереди…
В выходной день Дима Заячкин стоял перед зеркалом и подбирал галстук к новой, только что купленной рубашке.
Галстуков у Заячкина было всего три, но примерял их он вот уже более получаса. Он завязывал один, расправлял его, потом некоторое время рассматривал свое отражение в зеркале, хмурился, снимал галстук и завязывал другой.
Каждый, кто хотя бы мало-мальски разбирается в кибернетике человеческих взаимоотношений, догадался бы, что Заячкин идет на свидание. Что Заячкин влюблен.
Догадался об этом и сам Заячкин.
Но вот любят ли его?..
Здесь у Заячкина не было твердого мнения. Иногда он думал, что любят. Иногда думал, что не любят. То его душу наполняли восторги, то оставалось одно мрачное отчаяние… В жизни часто бывает так.
Сегодняшнему свиданию Заячкин придавал особое, решающее значение. Сегодня он твердо намерен спросить Вику… Задать ей самый древний и единственный по своей важности вопрос: да или нет? Он — Заячкин или… этот… Савченко — программист с «Урала-10».
Вот потому-то и галстук он выбирал с таким видом, с каким, скажем, в семнадцатом веке какой-нибудь там виконт де Икс выбирал себе шпагу, которая должна будет решить роковой спор с графом де Игрек о том, кому суждено добиваться взаимности у герцогини де Зет.
Концерт в консерватории, где училась Вика, начинался в восемь. В семь часов Заячкин последний раз примерил каждый из галстуков… и надел рубашку с отложным воротничком.
Последний раз оглядел свое отражение в холодном зеркале.
И вышел, похожий на Ромео в первом акте великой трагедии.
Савченко, конечно, тоже явился на концерт. Он был в галстуке. На Вике была белая блузка с большим черным бантом спереди. И вообще в зале почти все оказались в галстуках.
Заячкин застегнул рубашку на верхнюю пуговицу и почувствовал себя несчастным.
Они так и сидели втроем. Вика — между ними. Концерт был долгим и, по мнению Заячкина, нудным и скучным. Он молчал угрюмо. Савченко, наоборот, делал умелые замечания. После концерта он отправился провожать Вику. Заячкин с холодной вежливостью раскланялся о ними у выхода.
В глазах у Вики как будто мелькнуло сожаление… но Заячкин уже ничему не верил.
Если из дома он ушел, похожий на Ромео в первом акте, то вернулся похожим на Отелло в последнем.
Он зашвырнул один ботинок в ванную комнату, а другой — на письменный стол и не раздеваясь лег в постель. Заложил руки за голову и погрузился в мрачные бездны отчаяния. Вся земная жизнь, вся вселенная, включая Млечный Путь, Крабовидную туманность и даже невидимые галактики, не стоили в его представлении ничего…
Потом он уснул.
Утром он повел затекшими плечами, взглянул на остановившийся будильник, разыскал ботинки и отправился на работу. По дороге заглянул в закусочную и в тяжелой рассеянности сжевал половину бумажной салфетки вместе с пирожком с повидлом.
Он уселся за табулятор «САМА-110» и до половины третьего разговаривал с машиной на ее невразумительном языке. Абстрактный двоичный лепет отвлекал его от горьких мыслей и ненужных выводов.
Но в половине третьего он задумался.
Машина обработала полученную информацию и звонками напоминала Заячкину, что требует еще. Он невежливо ткнул пальцем в клавишу главного выключателя и направился к директору вычислительного центра.
Он попросил у директора позволения поработать на «САМА-110» по вечерам. Проверить одну мысль, решить новым методом некие старые задачи. Директор института был оригинал — он поощрял новаторов — и позволил.
Наверное, вы догадываетесь, какую задачу задумал предложить машине Заячкин.
Да, ту самую древнюю… Любит, не любит? Да или нет? Единица или нуль?
По мнению Заячкина, ничего невозможного тут не было. Когда человек принимает какое-либо решение пли делает какой-либо вывод, он так или иначе суммирует известные ему факты. «САМА-110» справлялась с этим лучше, чем кто-либо другой. И Заячкин решил доверить машине свою судьбу.
Самое главное было — верно составить программу. Дать точную оценку эмоциям и поступкам, перевести их в комбинации нулей и единиц.
Заячкин сел за табуляторный стол. Поставил справа от себя кофейник с горячим кофе, слева — термос с холодным нарзаном. Расстегнул воротничок, повыше подтянул сатиновые нарукавники и отстучал на табуляторе первую строчку.
Он постарался измерить и оценить все свои достоинства и недостатки, каковые могли быть замечены Викой. Он старался не упустить ничего, но и не стремился, прибавить лишнего. Он определил сумму своей внешности, сравнивая себя с классическим эталоном — Аполлоном, что в Бельведере, с киноактером Отто Фишером (который нравился Вике) и с Михаилом Козаковым (который нравился Заячкину). Греческому богу Заячкин выдал высшую сумму — сто единиц. Себя он оценил в десять.
Он работал долго и обстоятельно, и наконец его математический портрет был готов. Заячкин вытащил из табулятора ленту и с мрачным любопытством оглядел длинную колонку из нулей и единиц.
Составить программу Вики было труднее. Однако он кропотливо, по крохам собрал все, что знал о ней, что думал; прихлебывая то из кофейника, то из термоса, он разложил всю информацию по полочкам табулятора.
Потом закодировал свои с ней отношения.
Это оказалось самым трудным. Заячкин долго не мог найти математического эквивалентна единственному поцелую, которым они неожиданно обменялись по пути о первомайского вечера. Шли, шли, потом сели на скамейку и поцеловались… Он вспомнил, как это было, вспомнил, как Вика вдруг тоже потянулась к его губам, как у него гулко застучало сердце и в этом гуле исчезло все: и аллея в парке, и скамейка, и темные деревья вокруг… Заячкин шумно вздохнул и оценил поцелуй в двадцать единиц. Потом отхлебнул из термоса и решил, что тогда Вика просто была под настроением — она выпила бокал шампанского на вечере, — и убавил десять единиц.
Наконец программы были готовы.
Заячкин заложил их в машину и решительно — как бросаются в холодную воду — нажал клавишу главного включателя. Мелодичным звоном «САМА-110» сообщила, что программа ею освоена, что вопросов она не имеет, и деловито загудела, помигивая красными глазками неонок…
Вика подумала, что, наверное, она-таки хорошая дура. Надо было сообразить — поехать в такой компании за город!..
Ей уже до смерти надоел и Савченко, и все его шумные приятели. Она потихоньку отошла в сторону, незаметно скрылась за деревьями и побрела в глубь леса, пока за спиной не затихли вопли транзистора и громкие голоса.
В лесу было сумрачно и тихо, с шоссе доносилось отдаленное гудение тяжелых грузовиков. Не боясь заблудиться, Вика пересекла напрямик заросли колючих сосенок, выбралась на полянку и присела на заброшенный муравейник.
Она слышала, как Савченко где-то далеко звал ее: «Вика, Вика!» — и не откликнулась.
Почему вдруг она согласилась поехать с ним? Вероятно, от обиды на Заячкина…
Хотя, если бы сейчас там, в лесу, звал ее он, Заячкин, она не пряталась бы здесь.
Да и вообще тогда все было бы иначе…
Вика вспомнила, как ей всегда хорошо было с Заячкиным. Он такой скромный и застенчивый….. Такой милый…
И такой бестолковый! Почему он не проводил ее после концерта? Она же не хотела идти с Савченко. Как плохо, когда человек недогадливый…
Вика подперлась кулачком и пригорюнилась.
Может быть, он и не собирался ее провожать, а ей только показалось. Он ни разу не сказал «люблю!», даже когда они поцеловались на скамейке в парке. Может быть… она ему вовсе не нравится?
Стало совсем тоскливо, и Вика чуть не расплакалась. Она опустила руку и сорвала большую ромашку, которая так и тянулась к ней из травы, прямо возле ее ног.
Машинально стала обрывать лепестки.
Любит… не любит…
Белые лучики падали ей на колени. Все меньше их на цветке. И все тревожнее на сердце. Вика вдруг подумала: пусть будет правдой то, что ей ответит ромашка. Невинная забава сразу же приобрела таинственный смысл. Ведь это же очень важно знать, любят тебя или нет?..
Вика все медленнее, все пугливее отрывала лепестки. Их уже совсем немного, уже можно догадаться, но ей страшно заглянуть вперед.
Любит… не любит…
Наконец на желтенькой шляпке остался один-единственный лепесток, и единственное слово замерло у Вики на губах. Она вскочила и прямо через лес бросилась к шоссе…
Заячкин сидел возле гудящей машины и смотрел, как из продолговатого отверстия сумматора медленно движется бумажная лента, на которой «САМА-110» сейчас напишет свой ответ.
Он затаил дыхание.
Под веселое подмигивание неонок решалась его судьба.
Заячкину страшно захотелось заглянуть в начало ответа, но он собрался с силами и стал дожидаться конца.
Машина щелкнула последний раз.
Погасли красные огоньки неонок. Заячкин медленно потянул к себе бумажную ленту.
На всех сорока ее порядках стояли нули.
Сорок порядков — сорок нулей.
Сорок «не любит!»
Заячкин с тупой обреченностью смотрел на бумажную ленту. Опустевшую душу медленно заполнял арктический холод.
Он слышал, как скрипнула и отворилась дверь, почувствовал, как чьи-то руки обняли его за шею.
— Дима!..
Заячкин не шевелился.
— Дима, ну не сердись. Я совсем не хотела идти с Савченко… но ты сам… я так обиделась и поехала с ребятами… Я нашла там ромашку…
— Какую ромашку? — прошептал Заячкин.
— Обыкновенную, вот она… Я ворожила: любит, не любит… Глупая, правда?.. Видишь, остался один лепесток, — любит! Это правда, Дима?.. Ну, что же ты молчишь?..
МИЛЫЕ РОБОТЫ
АЛЕШКИН И ТУБ
Экспериментальный Завод Высшей Кибернетики. Это были хорошие машины, но очень трудоемкие в изготовлении и поэтому предназначались для оснащения экспедиции только на особо трудные планеты. Они оказались там незаменимыми помощниками космонавтов в опасных, не по земному жестоких условиях далекого космоса.
Газеты, описывая подвиги ТУБов, частенько предоставляли им свои первые страницы…
«… Космонавты успели установить купол станции — защиту от раскаленных вихрей свирепой планеты. Экспедиционные запасы воды, пищи и кислорода подходили к концу. Люди устали безмерно, пора было покидать негостеприимную Венеру.
На планете оставался один ТУБ. На его плече был выбит порядковый номер 12. Ему не нужны были ни вода, ни пища, ни кислород.
Аккумуляторы его были заряжены полностью, двигатели работали безукоризненно, и киберлогика надежно управляла всеми его действиями. Он будет ждать прилета следующей экспедиции.
Он стоял в дверном тамбуре станции и через прозрачную стенку из защитного дельтастекла следил за отлетом корабля.
На корабле уже запустили стартовые двигатели. Четыре бело-розовых столба пламени с неистовым ревом ударили в скалистую почву планеты. Низ корабля, опоры треножника, затем и все вокруг заволокло дымно-огненное марево.
Включив поляризационные видеолокаторы, ТУБ сквозь пелену стартового пламени увидел, как корабль вздрогнул, шевельнулся, готовый подняться… и в этот миг одна из опор стартового треножника провалилась во вскрывшуюся от жара трещину.
Корабль покачнулся.
Трещина оказалась невелика, он отклонился от вертикали всего на пятнадцать градусов, но стартовать из такого положения уже не мог.
Чтобы освободить провалившуюся ногу, нужно поднять ее домкратом, но и выключать двигатель тоже было нельзя, на вторичный запуск их и прогрев не хватит горючего. Тогда космонавты окажутся в плену у планеты. А помощь с далекой Земли может запоздать…
Киберлогика ТУБа решила эту задачу в считанные доли секунды.
Он покинул защитный купол станции, включил охлаждение своего корпуса на полную мощность и вошел в огненный вихрь, бушевавший под кораблем. Метапластик корпуса ТУБа, несмотря на охлаждение, моментально нагрелся до кпитической температуры, реле защиты Включило сигнал «опасно» и подало в цепь киберлогики сигнал «назад!» Тогда ТУБ выключил защитное реле.
Он успел стать над трещиной и ухватиться метапластиковыми пальцами за раскаленный металл провалившейся опоры. Он успел подать на двигатели все напряжение своих аккумуляторов прежде, чем перестала работать киберлогика…
Когда корабль вошел в зону спокойного полета, из люка выбрался бортмеханик в скафандре. Он нашел ТУБа, висящего на опоре стартового треножника. Пальцы его заклинились, разжать их оказалось невозможно, а ТУБ уже не слышал команд.
Чтобы, освободить его, пришлось вырезать часть опоры плазменным резаком».
Преддипломную практику студент Института Космотехники Сергей Алешкин проходил как раз на заводе Высшей Кибернетики. В технологии и конструкции ТУБов он разбирался достаточно хорошо, поэтому заметку в утреннем выпуске газеты прочитал со вниманием, но без лишнего восторга — поведение ТУБа было именно таким, какое и следовало ожидать от этой умной, талантливо запрограммированной машины.
Конечно, он и не думал тогда, что описанный случай будет иметь непосредственное отношение к его судьбе…
1
Алешкин получил после защиты диплом с отличием и весьма надеялся попасть в состав экспедиции на Венеру. Или, в крайнем случае, на Марс.
Получив направление на Луну, он решил, что ему здорово не повезло.
Конечно, кому-то нужно лететь и на Луну. Уже несколько лет на ней, кроме аппаратов-лунников, работает МНИС — Международная Научно-Исследовательская станция по широкой программе. Каждые два лунных месяца меняется состав участников… Но что такое нынче Луна? Давно обжитая планетка, под самым боком у Земли — ракета летит до нее каких-то пятнадцать—восемнадцать часов. Все там исхожено вдоль и поперек. Трудностей и неожиданностей никаких нет.
Атмосферы нет, поэтому и огненных смерчей и вихрей, как на Венере, тоже нет. Правда, там иногда падают метеориты, но по теории вероятности опасность попадания метеорита ничтожна мала.
Не планета, а космический санаторий!
В двадцать лет человек думает о своем месте в жизни иначе, чем в шестьдесят. Алешкину как раз было двадцать, ему не хотелось спокойной работы, ему хотелось… словом, желаний у него было много, и все они были прямо противоположны тем, которые приходят к человеку, когда ему за шестьдесят.
Поэтому, получив «лунный» желтый бланк назначения, а не голубой или коричневый, которые выдавались счастливцам — участникам экспедиций на Венеру или на Марс, Алешкин, прежде чем отойти от стола, с огорчением повертел его в руках.
Но дисциплина и волевые качества студентов Института Космотехники стояли в первых графах зачетных карточек; специальных экзаменов по этим предметам студенты не держали, но отметки там ставились.
И каких-нибудь других оценок, кроме «отлично», быть не могло.
Поэтому Алешкин ничем не выдал своих огорчений, а только вздохнул, да и то про себя.
Декану, который вручал путевки, было уже за шестьдесят. Старый межпланетник, он без труда разобрался в тайных переживаниях молодого инженера и улыбнулся сочувственно. Впрочем, тоже про себя.
— Знаете что, — сказал он, — считайте, все же, это признанием ваших способностей.
Алешкин решил, что его утешают, и уже открыто помрачнел.
— Постараюсь, — сказал он.
— Нет, на самом деле, — продолжал декан. — Начальник вашей будущей станции «Луна-38» синьор Паппино — вы его знаете как космофизика — настоятельно просил включить в состав участников инженера-кибернетика. Вы очень хорошо прошли этот курс, и Ученый Совет специально остановился на вас.
— Зачем синьору Паппино кибернетика? — не понял Алешкин. — Насколько в знаю, киберы полагаются экспедициям на трудные планеты. А на Луне их никогда не было.
— На Луне не было, — согласился декан. — Пока не было… Впрочем, синьор Паппино при встрече объяснит вам это подробнее. — И, прекращая дальнейшие расспросы, декан протянул Алешкину руку.
2
В Космопорт Алешкин прилетел утром.
Городок при Космопорте был небольшой. Когда-то, в эпоху начала освоения космоса, здесь был построен экспериментальный ракетодром. Место оказалось самое подходящее — кругом простирались необжитые казахские степи, — по тем временам запуск орбитальных ракет не считался вполне безопасным занятием.
В этих же степях, не очень далеко, находился космодром, откуда на земную орбиту был запущен первый искусственный спутник, а затем и корабль «Восток» с Юрием Гагариным на борту.
Сейчас здесь — центральный Космопорт страны, снаряжающий корабли на планеты Солнечной Системы.
Городок жил интересами и заботами Космопорта.
Поэтому неудивительно, что главная улица городка именовалась Бульвар Млечный Путь, а поперечные девять улиц носили названия планет, по порядку их расположения в Солнечной Системе: ближайшая к Космопорту была улица Меркурия, самая отдаленная — Плутона.
На углу бульвара Млечный Путь и улицы Венеры находился ресторан «Галактика».
Все это было известно Алешкину, так как за время учебы он бывал здесь не раз. И как ни велико было нетерпение узнать, зачем понадобился синьору Паппино инженер-кибернетик, Алешкин решил вначале позавтракать и отправился в «Галактику».
В отличие от большинства ресторанов страны этот ресторан был без автоматического обслуживания. Официантками здесь работали студентки местного Института Космологии — профессиональные навыки по сервировке и кулинарии входили в программы обучения женщин-космонавтов, им приходилось этим заниматься в космических рейсах.
Мужчины в должности космических стюардесс выглядели хуже.
Столик, за который сел Алешкин, обслуживала знакомая по прошлому году студентка. Они хорошо поговорили, Алешкин помог ей решить хитрую задачу по гравитации, а она принесла ему новое изделие ресторана — лангет «ФОБОС», фаршированный специально приготовленными орехами. Как в каждом порядочном ресторане, в «Галактике» имелись свои фирменные блюда: например, яичница «Сатурн», где круглый желток на сковородке был окружен разноцветными кольцами из белка и гарниров. Имелось и мороженое «Астероид», и другие изделия с аналогичными названиями, свидетельствующими о космическом направлении в творчестве шеф-повара.
После «Астероида» Алешкин спустился в вестибюль к стереовизору.
С астрофизиком синьором Паппино он был знаком только заочно — слушал его лекции из Болоньи по интервидению. Ученый тотчас же появился на экране, некоторое время недоверчиво разглядывал Алешкина и сказал, вроде бы, с сомнением, что именно его — синьора Алешкина — Институт рекомендовал как хорошего кибернетика. Синьор Алешкин самолюбиво заалел. Итальянский язык входил в число пяти обязательных языков любого космонавта, и Алешкин с хорошим русским акцентом ответил, что ничего не может добавить к характеристике Института и постарается оправдать ее при случае.
Возможно, что с русским акцентом фраза прозвучала несколько резко, но лицо синьора Паппино не выразило никаких эмоций. Он только сказал, что будет рад встретиться на служебном поле космодрома в семь часов вечера. И выключил стереовизор.
Алешкин прибыл на космодром без пятнадцати семь.
Синьора Паппино не было видно ни на поле, ни в холле служебного здания. Алешкин поднялся в лифте на последний этаж и прошел в кафе.
Через застекленные стены был виден весь Космопорт — ровное поле, уходящее к горизонту, покрытое травой. Все было как раньше — пластиковые дорожки к пандусам подземных складов, вдали закопченные плиты стартовых площадок, ажурные фермы и ребристые крыши пусковых колодцев Малого Космоса.
Людей в баре было немного, все работники земной службы Космоса, в серых форменках. Алешкин прошел к стойке. Две девушки сидели на высоких стульчиках и вели разговор на извечную тему:…а он тебе нравится?.. Конечно!.. Что же ты хочешь?.. Так он же межпланетник, улетает на два года…
Заметив Алешкина, девушки замолчали.
Наливая стакан «Тропического», Алешкин заметил над полем пассажирский ракетовертолет службы надземной космической станции. Он медленно спускался на посадочную площадку — кто-то возвращался на Землю из Космоса. Тормозной ракетный двигатель был выключен, и конусообразная белая кабинка ракетовертолета планировала, распустив над собой веер лопастей воздушных винтов. Ее сильно сносило ветром, но пилот наклонил винты, спланировал боком, выровнялся над самой площадкой и сел мягко и точно.
— Умеет! — отметил Алешкин.
Из кабинки первым выпрыгнул пилот в голубом скафандре работников Ближнего Космоса. За ним выбрались еще три космонавта, двое в оранжевых костюмах и один в синем. Оранжевых встретили женщины, синего не встречал никто, но и ему досталось по поцелую. Потом все направились к служебному зданию Космопорта. Алешкин помнил: когда он заканчивал среднюю школу — каких-то семь-восемь лет назад, — космонавтов встречали толпы народа, тогда каждое возвращение было событием. Теперь это стало будничным делом, ежедневно на космодром прилетали люди, и теперь только экспедиции, с далеких трудных планет, вроде Юпитера или Плутона, встречали в праздничной обстановке. К ракетовертолету подкатил автопогрузчик — небольшая самодвижущаяся платформа на резиновых колесиках, с суставчатой грузовой клешней — очень похожей на рачью. Пилот вытащил из грузового отсека какой-то длинный сверток в пластикате, автопогрузчик ловко подхватил его, уложил на платформу и шустро покатил к люку подземного склада.
Алешкин допил свой «Тропический» и, взглянув вниз, увидел синьора Паппино.
Он стоял возле люка, заложив руки за спину, с таким видом, будто он ждет здесь уже давно, хотя всего пять минут назад его там и в помине не было.
Алешкин вышел на поле.
Увидя его, сеньор Паппино кивнул и, не прибавив ни слова, подошел к открытому люку склада и спустился по пандусу вниз. Видимо, это означало, что Алешкину следует идти за ним. Но это же можно было понять как предложение дожидаться его здесь. Алешкин, после небольшого колебания, пошел следом, пропустив вперед автопогрузчик, который, проходя мимо, предупреждающе коротко гуднул — в его автомате имелся биоанализатор, и если поблизости находились люди, он двигался с повышенной осторожностью.
На складе было прохладно. Горели бледно-фиолетовые светильники. Пахло бензоридином — горючим для ракет Малого Космоса.
Возле стеллажа с космокостюмами стоял синьор Паппино. Он смотрел куда-то влево и вниз, и Алешкин не сразу разглядел, что там лежит.
Алешкин подошел ближе. Синьор Паппино немного посторонился. Алешкин пригляделся. Потом опустился на одно колено.
— Великий Юпитер! — сказал он.
Перед ним лежал ТУБ.
Когда-то полированный метапластик корпуса покрывали дымные языки въевшейся копоти и серые нашлепки полурасплавившегося гранита. Усики локаторов на голове были смяты и оплавлены. Опущенные защитные шторки на объективах видеолокаторов походили на закрытые веки; к шторкам прикипели брызги расплавленной лавы. Правая рука, выбитая из шарового шарнира, была прикручена к корпусу проволокой.
Алешкин увидел на правом плече номер… номер 12!..
Это был тот самый ТУБ…
Без всякой надежды на успех Алешкин включил клавишу главного выключателя, попробовал кнопку биоуправления.
Все было напрасно.
— Бедняга! — Алешкин поднялся. — Здорово ему попало.
— Здорово?.. — не понял синьор Паппино.
Конечно, у него было мало практики в разговорном русском языке, и Алешкин повторил по-итальянски.
— Да, — сказал синьор Наппино. — Он сильно повредился. Его списали со станции на Венере.
— Нужно отправить его на завод, — сказал Алешкин, — Может быть, там сумеют восстановить.
— Может быть, — согласился синьор Паппино. — Даже вероятнее всего, что там его сумеют восстановить.
Он сказал таким тоном, что Алешкин сразу понял: от него ожидали других слов. Он также понял, что лежащий у его ног разбитый, искалеченный ТУБ и есть TOT случай, который позволит показать Алешкину свои способности в кибернетике.
Восстановить поврежденного ТУБа кустарным способом?..
Алешкин понимал, что это значит, и с великим сомнением уставился вниз, под ноги.
— Да, — продолжал синьор Паппино. — Если его отремонтируют на заводе, то он в состав станции «Луна-38» уже не попадет. Его нам просто не дадут. И вы это знаете. А он бы так нам помог на Луне. В этом полугодии ожидаются метеоритные дожди, а панцирь ТУБа не пробивают мелкие метеориты.
Алешкин все это знал. — Что ж, в конце концов следует подтвердить характеристику, выданную ему Институтом.
Синьор Паппино тоже кивнул головой и сказал, что Алешкин может занять для своей работы целый коттедж, который отведен для состава станции «Луна-38» и в котором пока никто не живет. Что в его распоряжений «Кентавр» — стоит здесь на площадке, — а инструменты и материалы выдаст техотдел космодрома — уже обо всем договорено.
Автопогрузчик послушно подъехал подхватил ТУБа, отвез его на автоплощадку и так же легко засунул на заднее сидение «Кентавра». Алешкин поправил подвернувшуюся руку ТУБа, хотел проститься с синьором Паппино, но тот уже ушел.
3
Несколько десятков типовых коттеджей, собранных из разноцветных блоков, вытянулись в ряд, образуя последнюю улицу городка, улицу Плутона… Полоса гибридных кипарисов отгораживала улицу от степи, защищая ее от летних суховеев и зимних буранов. Коттеджи были одноэтажные и просторные — места в городке хватало, он еще не начал тянуться вверх, как растение, лишенное солнца.
Коттедж Алешкина оказался крайним. Он стоял немного в стороне, его окружал маленький садик из цветущих флоксов, канн и гибридных кустарников, — роскошь, которую могли себе позволить только жители просторного городка Космопорта.
Планировкой коттеджа Алешкин остался доволен.
В гостиную выходили двери четырех комнат; в каждой стоял отличный ДК-8 (диван-кровать) последней модели и такой же РСУ-2 (рабочий стол универсальный).
На кухне в холодильнике имелся богатый набор консерватов, а возле фоновизора карточка с номерами АБО (ателье бытового обслуживания), которое могло доставить на дом все, начиная от витаминных бутербродов и кончая электромобилем для личного пользования.
При коттедже имелся просторный гараж для «Кентавра». Алешкин решил использовать гараж как мастерскую. «Кентавр» мог постоять пока и под окнами на улице.
В гараже Алешкин обнаружил велосипед — старинную, неведомо как попавшую сюда двухколесную конструкцию. На мотоциклах Алешкин, конечно, ездил, но на велосипедах — никогда. Он тут же взгромоздился на него, тут же свалился и понял, что для освоения ему нужна площадь побольше.
Он выдвинул на середину гаража верстак. Пылесосом очистил стены и пол гаража, застелил верстак пластиковой простыней. Потом вернулся к «Кентавру», с трудом выволок тяжеленного робота с заднего сидения, перехватил его за голову — так было удобнее всего, приволок в гараж и кое-как завалил на верстак эту груду деталей — нелепый механический труп.
— Ничего! — сказал он. — Ты у меня еще оживешь. Ты у меня еще зашевелишься как миленький.
Алешкин хорошо представлял себе трудности, которые его ожидают, когда он начнет восстанавливать. ТУБа. Это кропотливейшая работа — искать обрывы в функциональной проводке, там полным-полно микродеталей, которые не разглядишь без лупы и не ухватишь без микроманипулятора. Но ему уже не терпелось приняться за дело вот сейчас, поэтому он не поехал в «Галактику» обедать, а наскоро поел сосисок, которые разогрел в термобаре.
Он укрепил над верстаком пару мощных люминесцентных ламп. Надел халат из белого пластика. Присоединил к газовому баллону плазменный резачок. Дунул на него — на счастье! — и по контрольному шву вскрыл грудную клетку ТУБа.
4
Как всегда в середине лета, после очередных дождей степи вокруг Космопорта покрылись пестрым ковром аэросеянных цветов. Ветер нес на городок их густой медовый аромат. Коттеджи на улице Нептуна стояли пустые, обитатели их разъехались в летние отпуска. Никто не посещал Алешкина, синьор Паппино уехал на полмесяца и должен был вернуться только за два дня до отлета станции на Луну.
Алешкин целыми днями сидел в гараже, установив над вскрытым корпусом ТУБа широкопольную лупу, он перебирал зажимами микроманипулятора крохотные детальки и проводнички, отыскивал обрывы и менял сгоревшие и повредившиеся от перегрева полупроводники. От постоянной возни с микродеталями к концу дня начинали нервно трястись руки и деревенела от напряжения спина. Для разрядки по вечерам Алешкин катался на велосипеде. По степным пешеходным дорожкам, сторонясь вечно торопящихся монтеров-линейщиков на мощных мотоциклах, он доезжал до первых посадочных маяков — восемнадцать километров в один конец — и возвращался. Шел под газированный душ., ужинал. Наливал объемистую — в пол-литра — кружку крепкого индийского чая, опускал в нее половинку лимона, выходил на крыльцо, присаживался на гладкие литопластовые ступеньки и, прихлебывая из кружки, задумчиво поглядывал в небо, темнеющее над кипарисами.
Перед сном, по оставшейся еще с института привычке, часок читал.
В гостиной, в книжном шкафу, была библиотечка — массовое издание на тонкой плёнке. Больше всего было классики, но имелась и серия фантастики, да еще несколько переводных детективов, очевидно, оставленных прежними обитателями коттеджа.
Алешкин вставал вместе с солнцем. Выбирался в садик на крохотную поляночку, как бы специально, а может быть, и специально — устроенную для физзарядки.
Из наличных запасов в холодильнике и термобаре готовил завтрак.
Потом шел в гараж.
Снимал покрывало с ТУБа. Устанавливал широкопольную лупу и распределял пальцы левой руки на рычажках микроманипулятора…
За три дня до приезда синьора Паппино он восстановил последнюю нитку функциональной проводки.
Руку пока решил не трогать, это была, по существу, не такая уж сложная работа — ремонт сустава. Нужно было вначале проверить киберлогику. Если у ТУБа потерялась способность к анализу — судьба его будет решена. Киберлогика не восстанавливается даже на заводе. Такой ТУБ подлежит немедленному уничтожению, как опасный в пользовании.
Алешкин поставил аккумулятор, проверил все цепи осциллоскопом на обратную связь. Скорость срабатывания «приказ—выполнение» оказалась замедленной, в Большой Космос такого ТУБа, пожалуй, не допустили бы, но Луна давно была исключена из числа трудных планет.
Положив на место грудную крышку, Алешкин прихватил ее двумя стежками горелки. Потом вопросительно поглядел на клавишу главного выключателя… и не включил. Подошел к раковине, тщательно вымыл руки. Вернулся к верстаку, присел на табурет, задумчиво помурлыкал себе под нос старую песенку: «…на пыльных дорожках далеких планет останутся наши следы…»
Затем дунул на большой палец правой руки и решительно нажал на клавишу выключателя.
В корпусе ТУБа тихо загудел вибратор, показывая, что механизмы его готовы к действию. Голова медленно повернулась и заняла правильное положение. Шторки видеоэкранов открылись, и Алешкин увидел в объективах свое отраженное изображение.
— Сядь! — приказал он.
Опираясь здоровой рукой, ТУБ поднялся. Суставы его заскрипели — тут Алешкин уже ничего сделать не мог, от температуры кое-где деформировались скользящие поверхности. Со временем пройдет, может быть…
ТУБ сидел на верстаке, лицо Алешкина отражалось в голубом сиянии его экранов.
— Назови спутники Марса, — сказал Алешкин.
ТУБ назвал.
Речевой динамик его тоже похрипывал, но это уже был сущий пустяк. Лишь бы работала киберлогика!
— Решай задачу! — сказал Алешкин. — Ракета с горючим весит одиннадцать тонн. Горючее тяжелее ракеты на десять тонн. Сколько весит ракета?
— …пятьсот килограммов… — прохрипел ТУБ.
Алешкин облегченно улыбнулся.
5
Поливочный автомат уже прошел по улице Плутона. Карликовые пальмы стряхивали на голову Алешкина прохладные капельки. ТУБ шел слева и сзади, как обычно ходят все ТУБы, правая его подошва точно накрывала след левой ноги Алешкина. Тускло поблескивал отчищенный метапластик, следы вмятин на корпусе выделялись как шрамы на теле бывалого солдата. Он слегка прихрамывал, но не отставал от Алешкина ни на сантиметр.
Это был первый выход ТУБа после восстановления. Алешкин проверял киберлогику на случайные обстоятельства.
— Хорошо! — сказал Алешкин. Он вдохнул поглубже прохладный утренний воздух. — Хорошо, ТУБ, а?
Он сказал это так, между прочим, не дожидаясь ответа, но киберлогика перевела абстрактный вопрос в сферу точных физических понятий.
— …давление шестьсот пятьдесят… — сказал ТУБ, — температура плюс восемнадцать… влажность семьдесят восемь, ветер юго-восток… четыре—четыре с половиной метра в секунду…
— Я не об этом, — сказал Алешкин. — Я говорю, утро хорошее, понял?
— …хорошее… понял… — ответил ТУБ.
— А что ты понял? — забавлялся Алешкин.
ТУБ помедлил. Алешкин догадался, что киберлогика, пытаясь найти ответ, включила блоки абстрактных понятий. ТУБ произнес слегка нараспев: румяной зарею покрылся восток… вдали за рекою погас огонек…
— Вот это другое дело, — согласился Алешкин. — Молодцы программисты!
Они дошли до перекрестка, Алешкин свернул с аллея на пешеходную дорожку улицы и послал ТУБа вперед. Тот внезапно замешкался на углу, Алешкин его не понял и скомандовал резко: — Налево!
ТУБ круто, как солдат, свернул за угол на бульвар, и Алешкин уже ничего не мог предупредить в считанные доли секунды. Первым зданием на углу было ателье подарков, с витринами во всю стену, и обе женщины смотрели, конечно, на витрину, а не туда, куда идут. От первой женщины ТУБ еще успел отвернуть в сторону, она прошла мимо, ничего не заменив, но вторая шла следом и с ходу наткнулась на него.
Корпус ТУБа был жестковат, женщина охнула. Потом вскинула глаза и напугалась уже по-настоящему.
Она чуть не упала, Алешкин. успел поддержать ее за локоть.
— Извините нас, — сказал он. — Пожалуйста!..
Побледневшая, не сводя испуганных глаз с ТУБа, Женщина попятилась к витрине, быстро развернулась и пошла, почти побежала. ТУБ не двигался с места, только видеолокатеры его следили за женщиной; киберлогика определила, что произошло непредвиденное, может быть, нужна его помощь. Но Женщина скрылась за углом, и, не получив никакой добавочной информации, он повернулся к Алепякину.
Конечно, он не был виноват: он задержался на углу, врспринлв сигнал о близости человека. Не будь внезапного категоричного приказа, он обошел бы угол стороной.
Алешкин понял свою ошибку, и до «Галактики» они шли уже без приключений. Только один молодой водитель «Кентавра», заглядевшись на них, задел правым колесом за поребрик дороги. И хотя он тут же выровнял машину, Алешкин знал, что городской диспетчер уже получил сигнал наезда, на покрышках машины остался след изотопов с поребрика, и водителю неминуемо придется объясняться со Службой Движения, а порядки у них там строгие, и неприятности водителю были обеспечены.
Не рискуя оставлять ТУБа одного на улице, Алешкин вместе с ним поднялся в зал ресторана.
Посетителей в эти ранние часы в «Галактике» было немного. Все свободные официантки тут же собрались вокруг ТУБа. Пришел и шеф-повар с кухни. Алешкину пришлось прочитать популярную лекцию по роботехнике, а тем временем в кухне на плите сгорел целый противень с фирменными лангетами. Буфетчица попросила ТУБа принести со двора внушительных размеров холодильник, который только что привезли и еще не успели установить.
Холодильник весил, вероятно, более полутонны, Алешкин вначале было забеспокоился, но ТУБ выполнил эту работу аккуратно, даже с некоторым изяществом. Он ловко пронес объемистую махину холодильника через кухню и установил его на место в углу, заработав у присутствующих дружные аплодисменты.
Алешкин оставил ТУБа его новым поклонникам, а сам отправился завтракать.
Не дождавшись официантки, он вернулся на кухню и увидел ТУБа в окружении смеющихся девушек. ТУБ на руках держал молоденькую буфетчицу. Она удобно устроилась, прислонившись к его грудному щитку и задорно болтая ногами. Юбочка на ней была коротенькая, могучие коричневые пальцы ТУБа бережно придерживали девушку да бедро.
6
Вернувшись в коттедж, Алешкин послал ТУБа поливать цветы, а сам загнал «Кентавра» с улицы в освободившийся гараж и вошел в дом.
И увидел на вешалке голубой плащ.
Он совсем не знал о будущем составе экспедиции, синьор Паппино ничего об этом не сообщил. Алешкину как-то не пришла в голову мысль, что висевший плащ скорее женский, чем мужской. Он прошел в гостиную, громко сказал «Алло!», заглянул в одну комнату, с маху открыл дверь в другую… и остановился.
— Извините!
— Входить, пожалуйста! — сказали ему.
Он вошел… Девушка стояла у окна и что-то делала с волосами. По-русски она говорила неважно. Но голос у нее был приятный. Алешкину понравились и ее глаза — серые-с рыжими пятнышками.
Улыбалась она тоже очень хорошо.
— Вы — Альешкин, — сказала она. — Мне говорил мистер Паппино. А я Мей Джексон… космос геология.
— Понятно, — кивнул Алешкин.
— Я скоро, — сказала она, — сейчас буду переодевайт и выйти в сад.
— Ага, — сказал Алешкин.
Он вышел из комнаты и осторожно прикрыл дверь.
За открытым окном плескала вода — ТУБ поливал цветы, Алешкин шагнул, было, к выходу, но в это время Мей окликнула его и попросила принести чемодан, если ему не труден?
Ему было не труден… Он разыскал в одной из комнат ее чемодан. Принес, постучал в дверь, ему сказали «войдить». Алешкин услышал «благодарью», получил еще одну улыбку и пошел помогать ТУБу поливать цветы.
В шортах и коротенькой белой блузке Мей выбежала в сад и оторопело остановилась. Осторожно подошла к Алешкину и спросила шепотом:
— Он настоящий?
— Конечно, — кивнул Алешкин. — Самый настоящий. И не нужно шептать, все равно он все превосходно слышит, и он не обидится. Он не умеет обижаться. Его этому не научили. ТУБ! Это — Мей Джексн.
ТУБ сделал движение, весьма похожее на поклон.
— Скажите на милость, — удивился Алешкин. — Мне он никогда так не кланяется.
— О-о! — восхитилась Мей. — Он так хорошо… видится. — Хорошо выглядит, — поправил Алешкин. — Да, он хорошо выглядит, он просто здорово выглядит. Когда я иду рядом с ним, девушки не обращают на меня никакого внимания. Смотрят только на него. Вероятно, рано или поздно я его зарежу. Из ревности.
— А его можно зарезать?
— Ну… замкну у него аккумуляторы.
Однако к технике Мей, как оказалось, особой склонности не имела, и ТУБ вызывал у нее просто уважение, как умная машина, а не любопытство. Зато, как истая англичанка, она любила спорт и, увидя возле гаража велосипед, который знала только по кино, решила на нем прокатиться. Смелости у нее было хоть отбавляй, а помощь Алешкина преимущественно сводилась к тому, что он помогал ей выбираться из кустов и выволакивать оттуда велосипед.
Они направились из сада на улицу, там дело пошло успешнее. Мей, расхрабрившись, решила проскочить с ходу между кустами гибридных акаций, не рассчитала, и сучок поцарапал ей висок, в сантиметре от глаза.
Алешкин заметил, что знал человека с одним глазом, интересного и умного, но в Космос его все же не пустили…
Мей послушалась и пошла писать письма на родину. Вечером они смотрели по телевизору современную космическую комедию, где земной робот влюблялся в большеглазую марсианку. Все выглядело в начале очень забавно, когда робот становился на колени и протягивал к ней свои суставчатые руки. И Мей и Алешкин смеялись, потом им обоим стало не смешно, и тут картина закончилась.
Их комнаты были рядом. Алешкин слышал, как укладывается спать Мей, и она, наверное, слышала, как укладывается в постель он, Алешкин. Она стукнула в стенку и крикнула: «Альешкин, покойной ночь!» И он ответил ей; «Гуд бай, Мей!»
7
На другой день рано утром, даже до завтрака, — Алешкина вызвал по междугороднему видеофону синьор Паппино. Лицо у него было хмурое, усталое, он очень спокойно выслушал сообщение Алешкина об удачном восстановлении ТУБа, как будто и не ожидал услышать ничего другого, и сказал, что прилетает в Космопорт вечером и зайдет посмотреть, что представляет собой этот~восстановленный ТУБ.
Это опять походило на недоверие к способностям, инженера-кибернетика Алешкина, но он уже не стал обижаться.
Мей вернулась с прогулки. Велосипед она притащила на плече, так как переднее колесо не проворачивалось из-за грандиозной восьмерки.
Алешкин посмотрел на колесо, потом на коленки Мей и молча полез в аптечку за бакопластырем. Конечно, ему было жалко ее… и в то же время он был рад случаю заняться ее Врачеванием.
Наклеивая голубые полоски бакопластыря на крепкую загорелую ногу Мей, он сделал вид, что смотрит на эту ногу теми же глазами, какими смотрел бы на ногу ТУБа, если бы пришлось ремонтировать ему коленный сустав. Это выглядело со стороны достаточно правдиво, по морально-волевым качествам в зачетной книжке Алешкина стояли одни пятерки. Как отнеслась к этой процедуре сама Мей, Алешкин не знал…
За завтраком он рассказал Мей об инспекторском визите синьора Паппино, и она сразу встревожилась.
— Что вы, Мей, — заявил Алешкин;- да я ни капельки не беспокоюсь.
— А я говорю не про вас.
— Ну, конечно, — проворчал Алешкин, — как я сразу не догадался.
— Ему будет очень труден.
— Трудно, — сказал Алешкин.
— Да, трудно. Он может не понравиться синьору Паппино, сделает что-нибудь не так.
Она позвала ТУБа в комнату. Придирчиво оглядела его, от пуговки локатора на макушке до толстых рубчатых подошв. Потом заставила показать ладони, даже понюхала их.
Алешкин понюхал тоже.
— Мей, — сказал он, — пахнет садовыми удобрениями. Он помогал мне поливать цветы. Но я его мыл…
Мей молча повела ТУБа в ванную.
Во второй половине дня прибыл и синьор Паппино.
Он довольно долго занимался с ТУБом, но, видимо, остался им доволен. А позже вечером в коттедж приехал на дежурном «Кентавре» последний участник экспедиции француз Моро — врач и астробиолог.
Личный состав станции «Луна-38» собрался полностью в назначенный срок.
8
Мягкая посадка грузопассажирской ракеты на поверхность Луны хотя и не представляла для опытного пилота особых трудностей, но все же требовала осмотрительности, поэтому ракета всегда прилетала днем.
Еще со школьной скамьи Алешкин знал, что сила тяжести на. Луне в шесть раз меньше земной, и если он в спортзале прыгал в высоту за метр восемьдесят, то на Луне легко перепрыгнет через купол МНИС более шести метров высотой. Но одно дело знать, и совсем другое ощутить это самому, непосредственно.
Когда он в громоздком защитном скафандре выбрался из люка, то прежде всего приятно поразился той легкости, с какой нес на себе тяжеленный скафандр и передвигал ноги в башмаках с подошвами из свинцовой пластмассы — на Земле каждый башмак весил более десяти килограммов… Спустившись по стремянке, укрепленной на опорной ноге ракеты, он ступил на ноздреватую, похожую на пемзу, поверхность планеты, сделал шаг вперед и… мягко поднявшись в воздух, пролетел несколько метров. Тренировки на батуте и тяжелые башмаки помогли ему сохранить равновесие в полете, — он так же мягко опустился.
Это было восхитительное ощущение. Алешкин сделал еще шаг, еще… и услышал в шлемофоне голос пилота: — Не увлекайтесь! Смотрите, под ноги, можете провалиться в трещину.
Алешкину стало стыдно за свое несолидное поведение — инженер, а распрыгался, как школьник. Он повернулся к кораблю и увидел, как прямо на него, отчаянно размахивая руками, летела Мей. Алешкин поймал ее в охапку и с трудом удержался на ногах — величина момента инерции на Луне была такой же, как и на Земле.
Их окружала красноватая каменистая пустыня. Изрытая кратерами, усеянная скальными обломками, местами покрытая слоем пыли, она уходила к горизонту, который был непривычно близок. Казалось, пустыня совсем рядом обрывается в пропасть, в черную — немыслимо черную — пугающую бездну Космоса.
На смолянисто-черном небе, в окружении ярких немерцающих звезд, висел бледно-желтый пылающий шар — Солнце.
Потом Алешкин разглядел вдали и показал Мей светло-дымчатый купол МНИС, над которым вращалась решетка телелокатора. Возле купола стояла танкетка, издали очень похожая на божью коровку из-за полукруглого защитного панциря.
Четыре фигурки в белых скафандрах мягкими прыжками спешили им навстречу.
Приняв у «Луны-37». оборудование и все незаконченные дела, станция «Луна-38» начала свою работу.
Передвигаясь на собственных гусеницах, МНИС перебралась вдоль берега Моря Дождей ближе к Заливу Радуги. Это были только красивые названия, по-прежнему вокруг расстилалась та же раскаленная пыльнокаменистая пустыня.
Трое мужчин и женщина жили и работали под защитным колпаком МНИС.
ТУБ стоял снаружи у выходного тамбура.
Его механизмы великолепно действовали в безвоздушном пространстве. Ни плюсовые, ни минусовые температуры не причиняли ему вреда. Он раньше всех «привык» к пониженной силе тяжести — просто включал свои моторы на одну шестую от обычной мощности.
Метеоритов пока никто не наблюдал, хотя Земля и предупреждала о возможности их появления. Подразумевалось «метеоритное облако» — отдельные метеоритики все время падали на лунную поверхность, их мало кому, удавалось заметить. Стеклолитовый колпак и слой тяжелого пластика надежно защищали от них обитателей станции, а вероятность попадания большого метеорита была ничтожно мала.
Но скафандр мог не выдержать удара крохотного метеоритика, величиной со спичечную головку. Поэтому, по совету с Земли, на станции принимались меры предосторожности. Дальние походы разрешались только в двухместной танкетке. Пешие экскурсии допускались в пределах видимости со станции и только в сопровождении ТУБа — его метапластиковому корпусу были не страшны удары мелких метеоритов. Поэтому ТУБ всегда находился в готовности и сопутствовал каждому, кто выходил для взятия геологических проб и наблюдений. Заканчивалось двухмесячное дежурство.
За два месяца люди израсходовали два кубометра воды и четверть тонны пищепродуктов.
ТУБ — сто двадцать киловатт-часов энергии своих аккумуляторов.
9
В этот день у Алешкина все пошло наперекос.
Началось с того, что его ударило током, когда он проверял мотор насоса для регенерации воздуха. Ударило сильно, даже обожгло палец.
Пошипев от боли, чертыхнувшись про себя, Алешкин внешне не подал вида — стыдно! Инженера-энергетика бьет током… Растяпа!
Чтобы не привлекать внимания и избежать вопросов, он не полез в аптечку — и уж, конечно, не обратился к Моро как к врачу, — а просто мазнул палец изоляционной массой, KaK обычно делали в таких случаях в Институте — и продолжал работать.
Но болевший палец затруднял манипуляцию с мелкими деталями — Алешкин уронил на пол кристалл терморегулятора, начал искать и наступил на него ногой… Пришлось подбирать новый, а это кропотливое и нудное занятие. Потом нужно было сделать записи наружных температур для Мей… оказалось, что нарушилась связь с дистанционными термометрами, стоявшими на столбике в сотне метров от станции. Мей высказалась по поводу его точной механики, а он затронул проблему эффективности геологических изысканий на Луне… Они оба вовремя замолчали — но настроение испортилось.
Алешкин забрался в свой скафандр и вышел через тамбур.
ТУБ тотчас шагнул ему навстречу.
Алешкин не был сварливым человеком, но плохое настроение требовало разрядки, искало выхода. ТУБу можно было говорить все что угодно.
— Стоишь, лодырь! — сказал Алешкин. — У человека неприятности, человек мается, а тебе все равно?
Вопрос, был задан «вообще», на него можно было не отвечать. И ТУБ ничего не сказал.
Тренировать свое остроумие на ТУБе было безопасно, но скучно. Алешкин направился к столбику дистанционного термометра. Скальной обломок, размером с футбольный мяч, попался ему на дороге. Алешкин когда-то был левым крайним в футбольной, команде Института, и с маху ударил тяжелым ботинком.
Камень взлетел вверх и, описав красивую огромную дугу, упал вдали, подняв облачко пыли.
— Определи расстояние! — сказал Алешкин.
— Сто сорок два Тиетра… — тотчас ответил ТУБ.
— Ничего себе. — Алешкин представил себе футбольный матч на поле, где расстояние от ворот до ворот было бы почти полкилометра, и несколько развеселился.
Дистанционный термометр оказался в порядке. Но вот кабель, ведущий к нему, был оборван.
— Понятно! — сказал Алешкин. — Это ты здесь ходил?
Окуляры ТУБа повернулись вниз, он посмотрел себе под ноги:
— …нет… я шел там… — Он показал рукой.
— А здесь не ходил?
— …нет, здесь не ходил…
— Кто же оборвал провод?
ТУБ этого не знал.
Если бы Алешкин сразу поверил ТуБу, возможно, он избавил бы от многих неприятностей и себя, и Мей Джексон. Посмотрев вокруг, он увидел бы в пустыне то тут, то там медленно опадающие пыльные фонтанчики.
Это падали метеориты.
Кабель тоже был перебит метеоритом, но Алешкин об этом не подумал.
Он сурово уставился на ТУБа.
— Значит, не ходил? А может, ты врешь?
В программе киберлогики не было слова «врешь», и ТУБ опять промолчал.
— Любопытно, — сказал Алешкин. — Не развивается ли у тебя защитный рефлекс, вранье как метод оправдания. Очень интересно. Машина, которая умеет врать, — с ума сойти!
Тут он вовремя вспомнил, что пропустил уже все сроки отметки температур, вынул из карманчика скафандра монтерский нож и присел, на корточки у перебитого кабеля. В десятке шагов за его спиной вспыхнул и опал крохотный пыльный фонтанчик. Алешкин не видел его и не слышал удара.
Зато локатор ТУБа точно зафиксировал место падения метеорита и направление его полета. Правда, он не знал, что это такое, на Венере метеориты не были обычным явлением. Но, повинуясь основному закону программы — охранять человека, ТУБ обошел Алешкина, склонившегося над кабелем, и загородил его спиной…
— Отойди! — сказал Алешкин.
ТУБ продолжал стоять.
— Фу-ты! — взорвался Алешкин. — Не видишь — свет загородил.
— …опасность… — сказал ТУБ. Алешкин мельком взглянул на лежащую вокруг безмолвную раскаленную пустыню и ничего не заметил.
— Слушай! — сказал он. — Что за фокусы. Отойди, говорю. — ТУБ отступил на шаг, и в этот момент небольшой метеоритик ударил его в спину. Упругий метапластик выдержал, но замедленная киберлогика не успела скоординировать равновесие — ТУБ качнулся и упал прямо на столбик с дистанционным термометром.
— Осторожнее! — крикнул Алешкин.
Он резко вскочил на ноги, взвился вверх метра на четыре, обрушился прямо на поднимавшегося ТУБа и опять опрокинул его. И пока он барахтался, пытаясь подняться, Алешкин снял со столбика термометр.
Хрупкий прибор был смят в лепешку.
— Посмотри, что наделал! Сколько я тебе говорил: смотри под ноги.
ТУБ стоял покачиваясь: киберлогика его еще не пришла в равновесие после удара. Он не мог объяснить, почему упал, не мог оправдаться — он не знал, как называется предмет, сбивший его с ног. Он опять опустил окуляры вниз.
— …понял… — прохрипел он, смотреть под ноги.
— Понял?.. Ничего ты не понял. На чем ты стоишь? Опять на проводе стоишь!
Алешкин сердито оттолкнул ТУБа жесткой перчаткой скафандра.
— Иди, к чертям собачьим! — Приказ был подтвержден жестом, и ТУБ послушно зашагал прямо в пустыню. Он сделал несколько шагов, пока киберлогика не погасила импульс непонятного приказа. Тогда он остановился, повернулся через левое плечо и вернулся к Алешкину.
— …не понял… — сказал он.
Алешкин отсоединил провода от поврежденного прибора и все еще был сердит. Он даже не взглянул в сторону ТУБа.
— Иди к тамбуру. — ТУБ опять замешкался.
— Выполняй! — Высоко поднимая ноги, старательно перешагивая через все лежащие провода, ТУБ зашагал к станции.
Из тамбура вышла Мей в скафандре. ТУБ, не останавливаясь, протопал мимо нее.
— Бедный! — догадалась она.
— Мей, нечего его жалеть. Вы только посмотрите, что наделал этот броненосец. Мне опять будет от Паппино.
— А вам за что?
— Когда ТУБ делает что-то не так, то попадает мне, а не ему.
Мей присела возле Алешкина и ласково поглядела на него через стеклолитовое забрало скафандра.
— Приятно, — сказал догадливый Алешкйн. — Куда вас везти?
— О, тут недальек.
— Недалеко.
— Да, недальеко… Мне нужно поискать новый проба, в Заливе Радуги
Очередная отметка температур все равно была пропущена, а к следующей Алешкйн надеялся успеть сменить сломанный прибор. И притом просил не кто-нибудь, а Мей…
Он подсадил ее к люку танкетки, вскарабкался сам и положил руки на рычаги управления.
ТУБ стоял в тамбуре и следил за танкеткой. Он держал ее в фокусе видеолокаторов, пока она не скрылась за горизонтом. Тогда он включил приемник отраженных сигналов и настроился на частоту радара танкетки.
10
Алешкин разворачивал танкетку, лавируя среди хаоса скал и скальных обломков, которыми был завален Залив Радуги.
— Тоже мне, придумали название, — ворчал он. — Сплошные радуги. Мей! — позвал он. — Не уходите далеко, а то я потеряю вас.
Шлепая мягкими пластмассовыми гусеницами, танкетка карабкалась по камням. Ежеминутно ее клало то на один бок, то на другой. Даже независимая подвеска кабины не спасала Алешкина от толчков. Мей была где-то там, за скальной грядой, и он пытался разыскать туда проход. В одном месте он было сунулся между скал, но решил, что танкетка, чего доброго, заклинится панцирем, гусеницы повиснут в воздухе…
«Вот будет номер!», — подумал Алешкин.
Он повел танкетку в обход. И вдруг на вершине скалы, которую он огибал, распустился, как цветок, светлый пушистый фонтанчик и опал кучкой пыли.
За ним, подальше, вспыхнул другой. И вся каменистая пустыня внезапно покрылась фонтанчиками, как поле цветами. Они распускались то поодиночке, то по нескольку штук сразу, медленно гасли, а рядом вспыхивали другие.
Все это выглядело очень красиво. Алешкин никогда не видел ничего похожего и не сразу сфобразил, что это такое. Но, поняв, двинул рычажок передатчика на полную мощность.
— Мей! — закричал он. — Мей, метеориты!
Он бросил танкетку прямо на скальную гряду, танкетка встала на дыбы, чуть не опрокинулась.
И тут он увидел Мей.
Она уже бежала навстречу танкетке, прыгая со скалы на скалу, хорошо рассчитывая прыжки — все же она была спортсменкой там, на Земле… Фонтанчики вспыхивали то справа, то слева, то далеко за ней, то впереди. Мей бежала не сворачивая, по прямой, она знала, что летящий метеорит не виден и увернуться от него невозможно. Только случай, — попадет или не попадет… Мей осталось совсем немного, еще три—четыре прыжка.
И тут она упала.
Алешкину показалось, что Мей запнулась. Он ждал, что она сейчас поднимется. А она лежала, перевесившись через гребень скалы. Руки ее неловко откинулись в сторону. Разбиться при падении она не могла, скафандр надежно защитил бы ее от ушибов.
Вот только от удара метеорита он защитить уже не мог…
— Мей… — прошептал Алешкин.
В танкетке было два выхода, два люка — один вверху, в защитном колпаке, другой сбоку, под колпаком. Алешкин побоялся открыть верхний люк — случайный метеорит мог бы попасть в мотор. Он открыл нижний, выбрался через него и выкатился из-под защитного колпака танкетки.
Метеориты продолжали падать, но он уже не думал о них. Он вскочил, сделал длинный прыжок, второй… не рассчитав, пролетел над лежавшей Мей и вернулся.
Поднял ее на руки легко — здесь вместе со скафандром она весила не более двадцати килограммов — и в два прыжка оказался у танкетки.
Когда он осторожно проталкивал Мей в люк, в камень рядом ударил метеорит. Алешкин заметил белую искорку пламени, и пыльное облачко хлестнуло по стеклолитовому щитку скафандра. Он положил Мей на заднее сидение. Голова ее бессильно перекатывалась внутри прозрачного шлема.
Глаза были Закрыты. Алешкин не стал искать место удара — метеоритик, вероятно, был маленький, вязкий пластик скафандра затянул пробитое отверстие, нужно снимать скафандр, а, это займет много времени?
Волчком развернув танкетку, он погнал ее к станции. Управляя рычагами, он то и дело оборачивался к Мей. Лицо ее бледнело все более и более, он подумал, что она умирает, и прибавлял обороты мотора. Танкетка перелетала через скалы, прыгала, как лягушка, шлепалась на каменистые россыпи, и камни веером разлетались в стороны. На склоне ее занесло, несколько метров она скользила боком, Алешкин давнул педаль, и танкетка выровнялась.
Мелкие метеориты ударяли по колпаку, по стеклолиту текли струйки беловатого дыма.
Вот-вот над ломаной линией горизонта должен был показаться купол станции, тогда можно будет связаться с ней по радио, и станция поползет к ним навстречу. Только бы подняться из кратера на гребень…
Метеорит на этот раз оказался побольше — вероятно, с детский кулачок. Скорость его была огромная, стеклолитовый купол не выдержал удара. Алешкин почувствовал, как вздрогнула танкетка, услыхал в шлемефоне резкий щелчок… Тут же из мотора хлестнула струя пламени, и Алешкин уже больше ничего не видел и не слыхал…
11
Открыв глаза, он увидел лицо врача Моро, а выше над собой надежный купол станции.
— Вот и отлично! — сказал Моро. — Ничего серьезного. — Он положил пустой шприц в ванночку. Алешкин поморгал глазами, как после тяжелого сна, вспомнил и приподнялся на локте.
— Мей?.. Где она?..
— Я здесь, Альешкин…
Она лежала укрытая простыней, на обнаженном плече голубела наклейка бакопластыря. Голос ее звучал слабо, она улыбнулась Алешкину глазами.
— У нее немножко серьезнее, — сказал Моро. — Метеорит пробил плечо. Полсантиметра от сонной артерии — еще бы чуть-чуть… Но, как говорите вы, русские, «чуть-чуть не считается», и мисс Джексон через недельку будет о’кей!
— А где Паппино?
— Синьор Паппино в радиорубке. Пытается связаться с Землей.
Алешкин приподнялся и сел. Грудь немножко побаливала от удара взрывной волны, но двигаться он мог свободно.
— Как мы сюда попали?
— Вас принес ТУБ.
Алешкин непонимающе уставился на Моро.
— Что вы говорите! Он сумел вытащить нас из танкетки? Двоих?
— Нет, он притащил танкетку вместе с вами. О, на это стоило посмотреть!.. Тут у нас метеоритом заклинило перископ кругового обзора, и нам пришлось крутиться на гусеницах, мы же не знали, в какой стороне вас искать. И вдруг видим, на гребень кратера поднимается танкетка… А гусеницы у нее не двигаются. Мы с Паппино вначале ничего понять не могли, потом уже разглядели, что Под танкеткой шагают башмаки ТУБа. Он тащил танкетку на спине.
— Десять тонн…
— Ну, здесь около двух…
— Да, я и забыл, — сказал Алешкин. — Но все равно много.
— Много. Но ТУБ тащил. Он уже поднялся на гребень и там упал. И больше не двигался. Вплотную к вам мы подъехать не могли, оставалось еще метров пятьдесят. К счастью, метеориты стали падать пореже, и мы вытащили вас обоих через верхний люк.
— А ТУБ?
— Он остался там. Лежит под танкеткой. Нам было не до него.
Алешкин тут же встал.
— Вы куда, Алешкин?.. Слушайте, это рискованно. Метеориты еще падают…
— Нельзя же оставить его там.
— Что ему сделается, пусть полежит… Не глупите, Алешкин. Это не живое существо, вы понимаете. Это же машина. Такая же машина, как танкетка.
Алешкин молча смотрел на Моро. Потом взглянул на Мей. Она подозвала его кивком головы. Он подошел, наклонился, и Мей поцеловала его в щеку.
— А ну вас! — сказал Моро. — Делайте как хотите,
Метеориты падали уже реже, значительно реже, то тут, то там вспыхивали одинокие султанчики.
Танкетка стояла среди каменных глыб на гребне кратера.
Из-под гусеницы торчала неестественно вывернутая подошва громадного ботинка.
Алешкин подергал за нее, заглянул под танкетку.
Там было тихо и темно.
— ТУБ! — позвал он. — ТУБ!
Он выволок из багажника домкрат, подсунул его под гусеницу, поднял.
Вытащил ТУБА за ногу.
Его поцарапанный и закопченный панцирь был покрыт яркими пятнами от ударов метеоритов. Руки и ноги болтались во все стороны. Алешкин перевернул ТУБа на спину, пощелкал главным выключателем и понял, что случилось.
Когда ТУБ тащил на себе танкетку, от непосильной тяжести начало срабатывать защитное реле, выключая моторы. И опять, как когда-то на Венере, ТУБ прижал кнопку реле рукой.
Он продолжал нести танкетку, пока не подвернулась нога, и он упал; аварийное реле выключило уже все — и моторы, и киберлогику.
Алешкин достал отвертку, отвернул пластинку на реле и замкнул контакты.
ТУБ шевельнулся, поднял голову, Алешкин помог ему, и он сел. Движения его были неуклюжими. Он со скрипом повернулся к Длешкину и уставился на него объективами видеолокаторов, за которыми слабо светились голубые зрачки экранов. В шлемофоне Алешкина раздались редкие похрипывания, тогда он сильно постучал по панцирю кулаком — так стучат по приемнику., когда в нем нарушится контакт.
— …тяжело… — хрипнул ТУБ. — …не мог…
Контакт опять прервался, и ТУБ опять замолчал.
Через круглые диафрагмы объективов Алешкин видел свое отражение на экранах видеолокаторов. Он не забывал, что перед ним не существо, ожидающее благодарности или сочувствия, а механизм, искусная конструкция из металлопластика и электродеталей — инженер-кибернетик Алешкин понимал это лучше, чемкто-нибудь другой.
— Ты молодчина, ТУБ!
И Алешкин ласково похлопал по панцирному плечу.
— Вставай, пойдем ремонтироваться. Я налажу тебя, чего бы мне ни стоило, даже если для этого придется остаться на станции еще на один срок.
ТУБ поднялся, но тут же начал заваливаться набок.
Алешкин подставил ему плечо.
Так они пошли к станции.
Волоча негнущуюся ногу, ТУБ старался идти впереди, прикрывая Алешкина корпусом. Метеориты еще продолжали падать…
ШКОЛЬНЫЙ УБОРЩИК
…Уборку школы он начинал поздно вечером.
Днем приходилось работать в оранжерее, выполнять случайные поручения, чаще всего, когда нужно было что-либо тяжелое поднять или передвинуть. Дети к нему привыкли быстро, даже быстрее, чем ожидали преподаватели, но частенько на переменах вокруг него вдруг собиралась шумная толпа, и тут ему было труднее всего. Приходилось отвечать на неожиданные вопросы, а возникающая возле него ребячья суматоха окончательно сбивала с толку, и он не знал, как себя вести.
Поэтому к перемене он старался попасть в кабинет директора: там, в углу, возле оконной портьеры он облюбовал удобное место, и даже штепсельная розетка была рядом. Так он и спасался от ребят, — в кабинет директора они не заглядывали без особой на то нужды.
Когда занятия заканчивались, и школу покидал последний преподаватель, он выбирался из своего убежища, задвигал двери и блокировал входные автоматы. Если наступали сумерки, он включал оконные поляризаторы и зажигал свет. Поляризаторы затемняли стекла, и с улицы уже ничего не было видно.
Затемнялся он от любопытных. Всегда находились случайные прохожие, которые, заметив его через стекло, желали поближе посмотреть, что он делает. Он был согласен, чтобы на него смотрели с улицы, но люди порой пытались проникнуть в школу, стучали в двери и мешали работать.
С затемненными окнами было спокойнее.
Затем он доставал из шкафа ручной пылесос, вешал его себе на спину. Выводил за поводок автомойщика АМ-110 — похожего на большого белого жука. Пока АМ-110, тихонько посапывая, ползал взад и вперед по коридору, оставляя за собой запах соснового аэрозоля и влажные полосы отмытого напольного пластика, он проходил с пылесосом по классам.
Забытые на столах тетради и ручки он оставлял там, где они лежали. Обрывки бумаги, камешки, палочки и прочий мусор собирал в утилизатор. Непонятные ему предметы — а чего только ни приносили в класс дети — он складывал на столе преподавателя. Он работал методично, не спеша, как работает хорошо отлаженная машина, его не нужно было ни проверять, ни контролировать, он мог чего-то не сделать только по незнанию, но не по забывчивости или нерадивости — он вообще не знал этих понятий.
Приволакивая, как всегда, поврежденную правую ногу, он спускался вниз в вестибюль, не держась за перила рукой, — теперь он уже не падал на лестнице… Он сводил вниз АМ-110, который по-собачьи шлепал по ступенькам своими коротенькими мягкими гусеницам, и запирал его в стенной шкаф. Потом шел в туалетную комнату, мыл руки под краном, сушил под феном и становился в свой уголок за портьеру в директорском кабинете… Он работал уборщиком уже несколько лет, но хорошо помнил все события, которые привели его в эту школу. Все случившееся надежно хранилось в его памяти.
Но он никогда об этом не вспоминал…
1
Начальная школа — типовое здание в два этажа из пеносиликата и армированного стекла — стояла на самой окраине Космогородка, и шум стартующих кораблей доносился сюда приглушенно, к нему уже привыкли и дети, и преподаватели.
Космопорт шефствовал над школой, и, конечно, она носила имя Юрия Гагарина, в ней работала секция ЮК — Юных Космотехников, и все ее учащиеся мечтали стать космонавтами.
Директор школы Сергей Алешкин когда-то тоже мечтал стать космонавтом, и даже закончил специальный институт. Был участником станции «Луна-38», потом летал на Венеру и вернулся со свирепой планеты оглохшим на одно ухо. Его жена Мей Джексон вместе с ним была на Луне. Метеоритик, пробивший плечо, оказался, к счастью, маленьким, Мей осталась жива. Но Комиссия и ей тоже запретила полеты в Космос.
Тогда они и стали работниками начальной школы Космогородка.
Все-таки здесь был Космопорт, можно было встретиться, поговорить с товарищами, проводить их в очередной полет. Можно было и самим при случае слетать на Посадочную станцию — двести километров над Космодромом — и оттуда еще раз взглянуть в — черное, страшное и незабываемое, небо далекого Космоса.
Этим летом Алешкин и Мей отдыхали на Гавайях, купались в тихоокеанском прибое и вспоминали Джека Лондона. Потом Алешкин улетел домой, пообещав жене вернуться за ней в конце отпуска.
До начала занятий оставалось ровно тридцать два дня. Но в школе для ребят, уже вернувшихся из летних поездок, работали две школьные секции.
Секцией ЮК — Юных Космотехников — руководил Сергей Алешкин. Секцию ЮН — Юных Натуралистов — вела Евгения Всеволодовна.
Если себя Алешкин не считал сколько-нибудь достойным приобретением для школы, то Евгения Всеволодовна, по его мнению, была весьма заметной величиной; известный биолог, доктор, член-корреспондент Академии, она в свое время заведовала Институтом бионики под Москвой.
Для своих сорока восьми лет она выглядела молодо, если бы не ее пепельно-светлые волосы. Поседела она в один день, после аварии опытного реактора на антиводороде; от ее сына и его жены — инженеров-ядерщиков осталось только облачко раскаленного газа… и Евгения Всеволодовна забрала осиротевшую внучку Космику, переехала в Космогородок, устроилась преподавателем биологии в начальной школе, развела небольшую оранжерейку и стала воспитывать у детей любовь и уважение ко всему живому на Земле.
Она так и сохранила недоверие к технике, хотя и понимала необходимость технизации. Она считала, что человечество сотворило себе злого бога из стали, алюминия и пластмасс. Еще совсем недавно победоносное шествие этого бога по Земле принесло столько вреда беззащитной Природе, что ее пришлось спасать от окончательного уничтожения строгими законами. За выполнением законов неусыпно следили специальные Инспекторы. Евгения Всеволодовна оставила за собой должность Инспектора и в свое время запретила Космопорту — Первому Космопорту страны! — строительство прямой автодороги к радиомаякам, так как трасса ее прошла бы через посадки гибридных кипарисов. Управление Космопорта обратилось с жалобой в Совет Республики, и тем не менее дорогу пришлось вести в обход кипарисовых насаждений. Начальник техслужбы Космопорта Бухов и сейчас еще холодно раскланивается с Евгенией Всеволодовной.
Внучке Космике было шесть лет, она училась в первом классе. Она посещала секцию ЮК, ее любимой игрушкой была модель шагающего планетного вездехода…
2
Часто пишут: «Все началось с того…» Так и для Алешкина все началось с того, что Квазик Бухов принес в школу «черепашку».
Это была обычная «черепашка» — автомат для забора поверхностных проб на трудных планетах. Достать ее Квазику оказалось совсем несложно: как уже говорилось, отец его заведовал техслужбой Космопорта.
Алешкин Бухова знал хорошо, они вместе летали на Венеру; знал и его жену, которая работала в единственном на весь городок ателье модельной синтетики. Жена Бухова была самой красивой женщиной в городке, а в ее жилах текла буйная кровь ее предков, каких-то восточных князей. Их Квазик учился в самом старшем, третьем классе и считал себя выдающейся личностью, хотя бы в секции ЮК.
«Черепашка» была списана из-за неисправности в регуляторе двигателей. Бухов, ничтоже сумняшеся, отдал ее Квазику, на всякий случай вынув из «черепашки» предохранители, с обычной отцовской наивностью полагая, что сын не сумеет ее пустить без помощи Алешкина.
Квазик прибыл на секцию с «черепашкой» под мышкой. Алешкин некстати задержался дома — его вызвала Мей по интервидео.
Тогда Квазик решил заменить отсутствующего руководителя.
«Черепашка» походила на половинку большого арбуза. У нее был панцирь из метапластика, под которым находились две гусеницы для движения, клешня для забора легких проб и цилиндрический алмазный бур для скалистого грунта. Кибернетическое устройство с несложной программой управляло ее движениями. Все это Квазик рассказал ребятам за пять минут. Те выслушали его со вниманием — сколь ни мало Квазик знал о «черепашке», все же он знал больше, чем они.
— А как же она двигается? — спросили его.
Вот этого Квазик показать не мог. «Черепашка» лежала на полу, поблескивая панцирем, загадочная и неподвижная. Интерес к ней, а заодно и к лектору начал быстро угасать.
— Жаль, что ты не сможешь ее запустить, — произнесла Космика роковые слова.
Квазик самолюбиво насупился и достал отвертку.
Он оказался более сообразительным, нежели о нем думал отец. Да еще ему и повезло: он сразу наткнулся на место, где в схеме должны были стоять предохранители. Все остальное уже не составляло проблемы, и «черепашка» зашевелила клешней.
Квазик включил автоуправление, «черепашка» поползла по проходу, мягко шелестя гусеницами. Потом остановилась, затряслась, заскрежетала… и когда поползла дальше, на пластиковом полу все увидели круглое отверстие. «Черепашка» взяла первую пробу.
Зрители восторженно загудели. Правда, кое-кто усомнился в благоразумии такого экспериментирования… но это же так интересно! «Черепашка» остановилась у ножки стола, попробовала отщипнуть от него клешней, а затем выдвинула свой алмазный бур. Посыпались опилки, и стол осел набок:
— Ух ты! — восхитилась Космика.
Мотор у «черепашки» загудел, набирая обороты. Она вдруг развернулась и ухватилась клешней за носок сандалии Космики.
— Ой-ой! — закричала Космика. — Палец, палец!..
Она дрыгнула ногой, «черепашка» сорвалась, ударилась о ножку стола, загудела еще сильнее и стремглав кинулась по проходу. Ребята быстренько забрались на столы. Квазик бросился было выключить разогнавшуюся «черепашку», но та проскочила и выкатилась в коридор.
Виктория Олеговна работала в школе уборщицей. Она, по мнения Алешкина, была второй достопримечательностью школы. Мало того что она оказалась отличной уборщицей, она была еще и кандидатом медицинских наук, лауреатом премии имени Пирогова, научным сотрудником лаборатории термозащиты. В школу она пришла для разгрузки, отдохнуть от напряженной научной работы, и в лаборатории с нетерпением ожидали ее возвращения.
Она неторопливо шествовала по школьному коридору и несла в кабинет директора графин с холодным апельсиновым напитком.
«Черепашка» выкатилась прямо ей под ноги.
Виктория Олеговна оторопело остановилась, приглядываясь к непонятному существу, которое как-то по-собачьи принюхивалось к ее ногам и вдруг крепко поймало ее за каблук.
Виктория Олеговна деликатно охнула, уронила на пол графин и схватилась за сердце.
Трудно сказать, как бы дальше развивались события, но тут подоспели и Квазик, и Алешкин. Квазик выключил «черепешку», Алешкин подхватил под руку обмякшую Викторию Олеговну. Ему нетрудно было восстановить ход событий, он посмотрел на Квазика выразительно и повел Викторию Олеговну в свой кабинет. Там усадил в кресло и достал таблетку валиброма.
Когда Виктория Олеговна отдышалась, она вторично попросила освободить ее от хлопотливых обязанностей уборщицы.
На этот раз Алешкин не стал ее уговаривать, хотя ему по-прежнему некем было ее заменить. Он только поблагодарил ее за помощь и сказал, что она может считать себя свободной с того дня, с которого пожелает Виктория Олеговна приготовилась было настаивать на своей просьбе и от неожиданности растерялась и расплакалась: как-никак ей было уже за шестьдесят. Она сказала, что ей здесь очень нравится, нравится и школа, и сам Алешкин, и дети такие милые… она готова бы работать и дальше, но у нее есть еще и лаборатория термозащиты, и научные исследования, и так далее…
3
Виктория Олеговна ушла.
Школа осталась без уборщицы.
Алешкин еще мог бы обойтись без преподавателя, мог заменить его уроки, пусть временно, телевизионной лекцией, — существовали школы вообще без преподавателей… Вот только без уборщицы он обойтись не мог.
В школе должна быть чистота, как в хирургическом кабинете, — все это входило в начала воспитательной работы.
Школе нужна была уборщица, но Алешкин не знал, где ее найти.
Это уже стало проблемой не только в его школе, но и в стране. Никто не хотел заниматься таким скучным и нетворческим делом. Где только возможно, уборщиц заменили автоматы, появились автопылесобиратели, автополомойки, автомусоросборщики и прочие машины специального назначения. Под ступеньками лестниц появились автощетки, которые сметали с ног входящих уличную пыль. Но слишком сложен был интерьер, окружающий человека и на работе, и в быту, поэтому самые остроумные автоматы не везде могли заменить самую обычную живую уборщицу. А тем более в начальной школе.
Роботы все еще очень дороги в изготовлении и применялись только для работы на трудных планетах. Специальное постановление запрещало использовать роботов для наземных работ.
Без особых надежд Алешкин обратился с просьбой в Бюро Предложений. Подумал, кто из преподавателей хотя бы временно мог заняться столь ответственной и хлопотливой работой. Потом набрал номер на звуковизоре и увидел на экране массивное лицо Бухова с отекшими подглазьями — следами старых космических перегрузок.
— Что? — сразу спросил Бухов. — Опять мой техник что-то натворил?
Алешкин рассказал про «черепашку».
— Вон… — покрутил головой Бухов. — А ведь я еще у нее предохранители вытащил.
— Значит, он их поставил.
— Сообразил.
— Он-то сообразил.
— Ну вот, я и говорю, в технике он разбирается. А в остальном…
Бухов сокрушенно покрутил головой.
— Понимаю, — сказал Алешкин.
— В мать, — подтвердил Бухов. — Ремнем бы, изредка.
— Не положено. Архаизм.
— Архаизм… Значит, навертела она там дырок? Ну я тебе ремонтника пришлю.
— А я не об этом.
— А еще что? — сразу встревожился Бухов.
— Виктория Олеговна уходит.
— Не отпускай.
— Не могу. Сам знаешь… Вот остался без уборщицы.
— Плохо.
— Куда хуже. Как ты там без них обходишься?
— Автоматов понаставил, где только можно.
— А где не можно?
— Сам убираю… Слушай, а не пойти ли мне в школу уборщицей? Без меня тут Космопорт обойдется как-нибудь.
— Да без тебя-то обойдется, — поддел Алешкин. — Только мне ты не подойдешь.
— Не справлюсь?
— У меня же работать нужно. Это тебе не кнопки нажимать. А потом дети.
— Да, профиль у меня не тот.
Бухов некоторое время молча разглядывал насупившегося Алешкина.
— Слушай, — вдруг сказал он. — Найду я тебе уборщицу. Да, серьезно, что ты на меня уставился. Не веришь?.. Завтра с Луны прилетает.
— С луны?
— С нее самой, с «Луны-50»…
Тяжелое гудение оборвало разговор, изображение на экране исчезло за сплошными белыми полосами. Алешкин терпеливо ждал — со стартовой площадки поднимался корабль, он постепенно набирал скорость, звук ушел в зенит, постепенно затих, и Алешкин опять увидел лицо Бухова.
— Значит, космонавт? — спросил Алешкин.
— Ну, космонавт.
— Так он же ко мне не пойдет.
— Как это не пойдет? Скажу, и пойдет.
— Ему отдыхать положено, два месяца.
— А чего ему отдыхать.
— Как чего? Не железный же он.
— Не железный, это верно…
Экран мигнул, еще раз мигнул. Бухов повернулся к селектору.
— Слушай, меня тут «Сатурн» вызывает, ты извини, я отключусь. Ты приезжай завтра, «Селена» прибывает как всегда, в двадцать ноль-ноль. Бывай здоров.
Алешкин выключил звуковизор. Подумал. — Потом попросил справочное Космопорта сообщить, кто работал на станции «Луна-50». Ему назвали четыре незнакомые фамилии.
4
Потрепанный «Кентавр» Алешкина не торопясь катился по автостраде к Космопорту. Электромотор тянул плохо, аккумуляторы давно требовалось заменить, ходовая часть нуждалась в основательном осмотре: вообще машиной надо было заняться всерьез.
— Сапожник без сапогов, — говорила Мей.
— Без сапог, — поправлял Алешкин.
На возню с «Кентавром» все не хватало времени. Можно попросить ремонтников Бухова, они сделают, но мешало самолюбие: что, разве он сам белоручка?
Опускающееся солнце слепило глаза, Алешкин включил поляризаторы переднего стекла, и солнечный диск стал походить на раскаленную докрасна сковородку.
Когда он подъехал к стоянке Космопорта, «Селена» уже совершила посадку, ее бело-голубой конус виднелся на поле, от него поднимался легкий дымок. Алешкин прошел к Бухову. Тот, как всегда, сидел за селектором. Увидев Алешкина, Бухов кивнул, продолжая разговор. Алешкин опустился в кресло, нащупал под рукой кнопки управления, опустил у кресла спинку, убавил упругости и расположился поудобнее.
— Ну, вот и посылайте его сюда, — говорил Бухов. — Найдет дорогу, что он — маленький? Он же у меня был.
Бухов отодвинулся от селектора.
— Мой-то техник, — сказал он, — дома автощетку установил.
— Не работает?
— Еще как работает. Как заходишь, эта щетка кидается на тебя, словно дикая кошка. На непривычного человека, знаешь, действует… Я уж ее выключаю, а то соседи и заглянуть боятся.
Алешкин услыхал, как за его спиной открылась дверь, кто-то вошел. Алешкин медленно поднялся с кресла.
У дверей стоял ТУБ.
Тот самый, Алешкин узнал бы его из сотни других, даже если бы не было номера на его плече. Оспины метеоритных ударов покрывали его плечи и массивную голову, и стоял он чуть завалившись на правую ногу, ту самую ногу, которую вывернул, когда вытаскивал танкетку, спасая жизнь ему, Алешкину, и Мей.
— Старый знакомый? — сказал Бухов.
Алешкин шагнул вперед. Он постеснялся Бухова, а ему захотелось даже обнять ТУБа, хотя это была всего-навсего машина, полмиллиарда микротранзисторов и две сотни моторов и рычагов.
— Здравствуй, ТУБ!
Он протянул руку, и ТУБ ответно поднял свою ручищу. Алешкин ощутил на пальцах тихое пожатие.
Но сказать в ответ ТУБ ничего не мог, только хрипнул и замолчал.
— Бедняга. Совсем голос потерял. Досталось ему там, за эти годы.
— Досталось, — согласился Бухов. — Поработала машинка. Даже с Луны списали по негодности. Вон акт лежит. Пижоны, я смотрю, там, на «Луне-50», возиться с ним не хотят. Подай им новенькое. А ему присмотр нужен.
— Он ему еще и в мое время нужен был.
— Вот я и говорю. Теперь ему куда, только на разборку. А с присмотром еще работал бы да работал.
Вот тут Алешкин, наконец, понял Бухова.
— Вот ты о чем… — протянул он. — А постановление?
— А чего — постановление? Оно про исправные машины написано. А этот списанный. Можно считать, что его нет. А потом, ты мне скажи, будут у нас когда-нибудь на Земле роботы работать?
— Будут, конечно.
— Вот и считай, что мы начали первыми этот эксперимент. А акт я вот сюда положу, тут у меня ящик длинный. Давай забирай свою уборщицу, а то у меня вон с Марса грузовик на подходе.
— Как его у меня еще Евгения Всеволодовна примет. Ты знаешь, какая она.
— Ну, уж это твоя забота.
— Мне бы инструмент кое-какой, проверить его. Тестеры там, микрощупы.
— А я уж распорядился, мои. мальчишки все это в твой тарантас положили.
ТУБ с трудом забрался на заднее сиденье «Кентавра». Двери явно не были рассчитаны на его массивную фигуру и правая нога никак не перелезала через порог.
Алешкин только вздохнул сочувственно и помог просунуть в машину поврежденную ногу.
5
С линией звука пришлось повозиться, но на второй день ТУБ уже смог вполне внятно отвечать на вопросы.
— Хрипеть ты, конечно, будешь, — сказал ему Алешкин. — Подожди, не шевелись, я еще последний шуруп заверну… Тебе, если по-настоящему, говорители нужно новые, а у меня их нет. И нигде их нет. Только на заводе. А на завод нам с тобой показываться нельзя. Ну ничего, тебе не петь. И хромать будешь, тут тоже я ничего сделать не смогу. Но на ногах ты держишься неплохо. Да и биоблокировка у тебя работает, а это главное. Хотя, самое главное у тебя еще впереди… Дай-ка я еще стопор на колене подверну… вот так… А главное для тебя — это Евгения Всеволодовна, и она технику не любит. Женщина она, понял?..
— …понял… женщина… — неожиданно ответил ТУБ.
— Вот как? — усомнился Алешкин. — Понял, что такое женщина. А что ты понял?
По паузе он догадался, что ТУБ включил блок условных понятий.
— Ну, ну, — подбодрил его Алешкин.
— …о женщины… ничтожество вам имя…
— Вот это да, — опешил Алешкин. — Ай-да программисты! Слушай ты, этого Евгении Всеволодовне не скажи. Она хотя Шекспира, как я знаю, любит, но с такой цитатой ты вряд ли ей больше понравишься. Ох, боюсь я за тебя, ТУБ. Трудно тебе там будет. А мне все же хочется, чтобы ты ей понравился.
— …понял… нужно понравиться… — хрипнул ТУБ.
— Вот именно. Тогда все будет хорошо. Давай-ка я тебя от копоти очищу.
Пока Алешкин чистил и мыл ТУБа, наступил вечер. Но откладывать знакомство с Евгенией Всеволодовной у Алешкина уже не хватило терпения…
— Садись в машину, — сказал он ТУБу.
Космика собиралась ложиться спать. Она уже разделась и сидела на стуле, болтая ножками, дожидаясь, когда Евгения Всеволодовна приготовит ей постель.
— Б’уш, — (так Космика сокращенно называла бабушку), — а у меня всегда такое брюхо будет?
И Космика похлопала ладошками по голому животику.
— Какое брюхо?
— Ну живот, видишь, какой толстый. Никакой фигуры нет.
— Какую еще тебе нужно фигуру?
— Вот такую… — Космика показала в воздухе руками. — Как у нашей хореографички. Чтобы — красивая. Я хочу нравиться.
— Ты мне и такая нравишься.
— Ты — это не считается. Я хочу всем нравиться. Чтобы за мной ухаживали.
Евгения Всеволодовна искоса взглянула на Космику.
— Знаешь, посмотри-ка там, который час.
Космика слезла со стула.
— И смотреть нечего, — сказала она. — Сейчас ложусь.
Она забралась под одеяло и закинула руки за голову. Некоторое время разглядывала потолок, потом зевнула.
— Б’уш, ты мне опять гипнопедию на ночь включишь?
— А что?
— А не хочется. Надоела мне твоя гипнопедия.
— Должна же ты знать иностранные языки. Французский ты выучила. Теперь нужно учить английский.
— Не интересно во сне учить. Вот ложусь спать и не знаю, как по-английски стол или дверь. А утром просыпаюсь и уже знаю: «тейбл» или там «доо». Скучно.
Она повернулась на бок и положила под щеку ладошку.
— Ладно уж, я сейчас засну, только ты сразу не включай. Может быть, я сон какой-нибудь интересный успею посмотреть.
В оранжерее горел свет. Алешкин оставил ТУБа возле двери, а сам спустился вниз. На него пахнуло влажным теплым воздухом. Автощетки высунулись из-под ступенек и быстро обмели ему ботинки — Евгения Всеволодовна боялась не пыли, а посторонней цветочной пыльцы, которую случайно могут занести в теплицу на ногах.
— Смотрите, какая прелесть! — сказала она.
На невысокой подставке стоял большой цветочный горшок, из которого торчал зеленый шар, усыпанный длинными рубиновыми колючками.
— Красавец, не правда ли?
Алешкину пришлось согласиться.
— Из Англии получила. Из ботанического сада. Гибридный кактус, не буду называть его по-латыни: и длинно, и все равно не поймете. Редкость в нашем мире. Скоро зацветет, видите. А цветет раз в пять лет… Но вы ко мне не затем, чтобы смотреть на кактус, конечно.
— Да. И я не один.
Евгения Всеволодовна повернулась к дверям, вздрогнула и даже отступила на шаг.
— Мой бог! — сказала она.
Конечно, это был тот же старый Шекспир… однако такое начало совсем не понравилось Алешкину.
— Не пугайтесь, что вы, — сказал он. — Это же обыкновенный ТУБ.
Широкоплечая прямоугольная фигура закрывала весь просвет дверей. Евгения Всеволодовна встречалась с ТУБами только по телевидению и никогда не относилась к ним серьезно, считая их чем-то вроде заводных кукол, почти игрушек для космонавтов. Она всегда была невнимательной к технике.
— Я не боюсь, — сказала она. — Просто эта подделка под человека вызывает у меня неприятное впечатление.
— Жаль. А мне так хотелось, чтобы эта, как вы назвали, подделка вам хоть чуточку понравилась.
— Зачем, Алешкин?
— Так, — уклонился Алешкин. — Нужно же вам привыкать когда-нибудь. Ведь это наши будущие помощники.
— Я думаю, это произойдет не скоро.
— Кто знает. Можно, я приглашу его сюда?
— Он ничего не раздавит?
— Нет. Он аккуратнее, чем я. ТУБ!
— …я слушаю… — хрипнул ТУБ.
Евгения Всеволодовна чуть вздрогнула.
— Подойди! — сказал Алешкин,
ТУБ переступил порог, он Прихрамывал и волочил правую ногу, но спустился неторопливо и аккуратно.
— Познакомься, ТУБ, это — Евгения Всеволодовна
— …здравствуйте… — сказал ТУБ.
Он сделал еще шаг вперед и протянул руку. Алешкин смутился — ТУБ никогда не протягивал руку первым И потом только разглядел в пальцах ТУБа цветок
— Что это, Алешкин?
Пожалуй, Алешкин удивился цветку больше, чем Евгения Всеволодовна. А он-то считал, что знает пределы сообразительности ТУБа. Ай да программисты!
— Он дарит вам цветок… и знаете, Евгения Всеволодовна, хотя, может быть, стыдно в этом признаться, но я здесь ни при чем. Это не инсценировка, поверьте. Я только сказал ему, что мне хотелось, чтобы он понравился одной женщине. Кто-то когда-то научил его этому, ну… что женщинам дарят цветы. И он сорвал этот цветок, очевидно, еще у меня дома. Клянусь Ганимедом, что это так.
Евгения Всеволодовна взяла цветок. Она прикоснулась к пальцам ТУБа и удивилась — пальцы были теплые.
— Спасибо! — сказала она. — Спасибо, ТУБ. Да, это цветок из вашего садика. Я сама давала семена Мей. Лилия, лилиум кандидум.
И Алешкин с изумлением уставился на ТУБа. Ну и ну! Надо же…
Решив, что ТУБ успел расположить к себе Евгению Всеволодовну, Алешкин подумывал, что пора начинать главный разговор…
Она сама пошла ему навстречу.
— А все же зачем вы его ко мне привели?
— Вы не догадываетесь?
Тогда она догадалась. Она только не могла в это поверить.
— Вы сошли с ума, Алешкин. Вы забыли, что у нас дети.
— Вот о них я только и думал все эти дни. Если бы не наши детки, я бы за него и не беспокоился. Да, да, я беспокоился только за него. Сам ТУБ безопасен, он никому не причинит вреда, он так сконструирован. У него две ступени биозащиты. Он никого не толкнет, не наступит на ногу и никого не обидит…
— Вот как. Вы боитесь, что его могут обидеть дети. Неужели его можно обидеть?
— Ну, в переносном смысле, конечно. Он предельно правдив и предельно доверчив — если можно применить эти слова к машине, которая сама не понимает их смысла. Эту доверчивость легко использовать ему во вред. Вот этого я и боюсь. Но, говоря от его имени, у него больше нет выбора. Он списанный.
— Как списанный?
— Очень просто, как негодный для дальнейшей эксплуатации. Это же не живое существо, а техническая поделка, и на него распространяются строгие технические законы. По этим законам он подлежит разборке и уничтожению, как некачественный механизм. Только мы и сможем… фу, чуть не сказал: спасти ему жизнь.
Алешкин нашел верный ход. Евгения Всеволодовна задумчиво повертела в руках цветок, осыпавший ее пальцы желтой пыльцой.
— Вам не следовало так говорить, Алешкин, — сказала она. — Это нечестный прием.
— Что вы…
— Хорошо, мы попробуем, — перебила она. — Я мало знаю… вернее, я совсем ничего не знаю о ТУБах, но на самом деле, — и она улыбнулась задумчиво, — нельзя же отправлять в разборку машину, которая умеет делать то, что забывают делать живые люди — дарить женщинам цветы… Ладно, ладно, не благодарите меня за вашего протеже. Лучше помогите унести вот этот кактус ко мне домой.
— Возьми это, осторожно.
— …понял… осторожно…
ТУБ поднял цветочный горшок своими ручищами и двинулся следом за Евгенией Всеволодовной, плавно перекатывая свои громадные губчатые подошвы. Она отворила ему дверь.
— Сюда поставьте, пожалуйста, — попросила она.
6
Утром Евгению Всеволодовну разбудил дождь.
Пришлось встать, закрыть распахнутые настежь окна. Дождь тут же прошел, но ложиться обратно в постель уже не было смысла.
ТУБ стоял неподвижный у крыльца коттеджа, под навесом входных дверей, там, куда его вчера вечером поставил Алешкин. Евгения Всеволодовна выглянула в окно, она хотела сказать «Доброе утро!», но потом решила, что это будет смешно, и пошла в ванную.
Энергично растираясь после холодного душа массажным полотенцем, она вышла в комнату… и оторопело попятилась.
В комнате, у порога стоял ТУБ.
Синие огоньки его видеоэкранов были направлены на нее. ТУБ смотрел на нее!.. Фу, какие глупости. Чего она испугалась? Ведь это же все равно, что стесняться автомата-пылесоса или стиральной машины.
Рассуждения были верны, но все же она накинула купальный халат.
ТУБ продолжал стоять у дверей.
Почему он вошел в комнату? Без приглашения. Или испугался дождя?
— Что тебе нужно? — спросила она сурово.
ТУБ не ответил, и это ей совсем не понравилось.
— Иди на свое место! — сказала она.
ТУБ послушно шагнул к порогу, но опять остановился и, повернувшись, протянул руку.
— …живой… — хрипнул он.
На громадной руке лежал мокрый комочек, покрытый слипшимися перышками. Это был птенец ласточки. Очевидно, ветром его выбросило из гнезда, и ТУБ нашел его на земле.
Поначалу Евгения Всеволодовна не обнаружила у птенца признаков жизни, он был мокрый и застывший, но ТУБ оказался прав. Когда птенца высушили и согрели феном, он зашевелился и запикал. Родители тут же появились за окном. Евгения Всеволодовна, конечно, знала, где находится их гнездо, под навесом крыши, над директорским кабинетом. Но она не могла дотянуться до гнезда. Пришлось поручить это ТУБу. Он забрался на подоконник, и Евгения Всеволодовна, тревожась, как бы он не вывалился в ограду, придерживала его за ногу, хотя, вероятно, могла бы и не держать. ТУБ справился отлично и сам.
Евгения Всеволодовна не могла не отметить, что ласточки почему-то этой коричневой громадины боялись значительно меньше, чем ее.
Когда они вдвоем вернулись в коттедж, их встретила Космика.
Она только что поднялась с постели и, стоя на крыльце, сонно щурилась на солнце.
— Мой бог! — сказала она. — Это кто такой?
— …доброе утро… — прохрипел ТУБ.
Евгения Всеволодовна невольно улыбнулась про себя — ТУБ преподал еще один урок вежливости. Она редко видела свою внучку растерянной — нынешние дети такие самоуверенные, право! — но тут Космика явно растерялась и только таращила на ТУБа широко открытые глаза.
— С тобой здороваются, Космика.
— Ух ты… — наконец вымолвила Космика. — Это же ТУБ! А я сразу и не узнала. По телевидению он казался мне маленьким. Доброе утро, ТУБ!
Она храбро протянула вверх маленькую ручонку, ТУБ наклонился над ней, громадный, как гранитная глыба. Он подал в двигатели пальцев усилие в одну десятую килограмма и пожал тоненькие пальчики Космики.
Пока Евгения Всеволодовна готовила завтрак, на крыльце продолжался разговор. Понятно, больше говорила Космика.
— Ух, ты и хрипишь! Просто ужасно. Ты что, простудился? Да? Пойдет погреем горло инфраружем, и все пройдет. А ночью ты кашляешь?
— Космика, — сказала из комнаты Евгения Всеволодовна, — ты задаешь ему глупые вопросы. А еще занимаешься в секции космотехники. Разве робот может простудиться? Он железный…
— Он метапластиковый, — назидательно поправила Космика.
— Все равно. Простуда — это воспаление органической ткани, а у него ее нет.
— А может, он усовершенствованный, — не сдавалась Космика.
Евгения Всеволодовна не решилась оспаривать такое предположение. ТУБ воспользовался паузой.
— Хрипит… звукодатчик… поврежден пьезокристалл.
— Вот оно что, — сказала Космика. — Мы тебе поставим новый динамик туда… ну, где у тебя они находятся. Мы тебя отремонтируем. А что ты будешь у нас делать? Работать преподавателем? Будешь читать нам робототехнику. Вот здорово! Будешь говорить и на себе показывать.
— …работать… уборщиком… — хрипнул ТУБ.
— Ах, ты вместо Виктории Олеговны. Тогда пойдем, я тебе школу покажу.
— Сначала завтракать, — сказала Евгения Всеволодовна.
— Ну да, конечно, завтракать… Пойдем ТУБ, заправимся.
— Космика, как ты говоришь?
— Так это же я ему говорю, он же машина. А машина — заправляется.
— Но не за столом.
— А может, его уже на биопищу перевели. ТУБ, ты ничего не кушаешь, нет? Ты, значит, аккумуляторный. Хорошо тебе, поставил аккумулятор, и все. А мне вот кушать приходится…
Когда Алешкин подошел к школе, он услыхал звонкий голосок Космики и остановился в вестибюле.
— Вот здесь лаборатория. Опыты делаем, понимаешь? Реакции всякие. Восстановление, окисление… химия всякая. Иногда интересно, иногда нет. Видишь, сколько баночек, здесь нужно осторожно-осторожно, а то все падает… Там спортзал. А вот здесь — умывальник. Ты моешь руки или тебя чистят бензоридином? Ну-ка, покажи ладошки. Ничего, чистые… Ух, какие у тебя пальцы большие… Осторожнее, тут на ступеньках не запнись, у тебя же нога больная… А вот автощетки из-под ступенек выскакивают, это они пыль собирают… вот здесь у нас… ну, здесь девочки, а вон там мальчики. Тебе к мальчикам придется ходить. Да… хотя, может быть, тебе там делать нечего. А может, у тебя бывает это… Ну, отработанное масло…
Космика целое утро не расставалась с ТУБом. И Алешкин, занимаясь в кабинете, видел в окно, как они бродили по двору школы. Космика держала ТУБа за палец, они шли рядом, и когда ТУБ делал один шаг, она делала три…
7
Днем ТУБ помогал поливать цветы в оранжерее. Космика выполняла домашнее задание — читала французскую детскую классику. К ней пришел Квазик. Он хотел позвать ее к себе домой и показать свою автощетку в действии.
Но Космика отказалась.
— Подумаешь, автощетка у него. А у нас есть ТУБ.
— Какой ТУБ? — слегка опешил Квазик. — Настоящий?
— Самый правдишный. ТУБ!.. Подойди сюда, пожалуйста. Познакомься. Это — Квазик.
Квазик отступил на шаг и заложил руки в карманы штанов.
— Ты почему не хочешь подать ему руку?
— Еще чего. Разве ты здороваешься с автомойщиком?
— У автомойщика рук нет. А у ТУБа есть. И он умный. Он все понимает, только мало говорит. ТУБ, ты на него не обижайся, он всегда такой грубиян. Он даже девочкам грубит.
Квазик самолюбиво вспыхнул.
— Чего ты с ним объясняешься. Ничего он у тебя не поймет. Он же машина, самая обыкновенная. Я их у отца столько видел. И не таких хромоногих развалюх.
— …ногу повредил… — хотел объяснить ТУБ, но Квазик перебил его, и он замолчал.
— Что у нас будет делать этот комод?
— А что такое комод? — спросила Космика.
Но Квазик не знал, он слышал это слово от матери. По ее интонациям он догадался, что это что-то презрительное.
— Наверно, что-нибудь плохое, — заключила Космика. — Разве ты хорошее скажешь.
— Что ему у нас нужно? — продолжал Квазик.
— А он будет преподавать космотехнику, — заявила Космика.
— Ну? — недоверчиво удивился Квазик.
— Конечно. Вот он на уроке тебя спросит: «Квазик, скажи мне… Космика задумалась на секунду, — сколько времени нужно «Селене», чтобы долететь до Марса?»
— «Селена» на Марс не летает.
— А если полетит.
Конечно, Квазик этого не знал.
— «Садись, Квазик, очень плохо. Это нужно знать».
— А он знает?
— Сколько, ТУБ?
— Одна тысяча восемьсот сорок часов…
— Понял?
— Ну и что? — не сдавался Квазик. — У него же программа. Это как в справочнике, все уже записано. А не по программе, так он механический дурак дураком.
— Вот что! — сказала Космика. — Воображала ты. Воображала и грубиян. Ты думаешь, что ты сам по себе стал такой умный? Тебя тоже программировали. Тебя вон сколько лет программировали, а ты все БДД.
— Это что за БДД?
— Биологический дурак дураком!
И они поссорились.
Во второй половине дня собралась очередная секция ЮК, и Алешкин представил детям ТУБа.
Они не очень удивились. И мало кто из них принял его с такой симпатией, как Космика. Алешкин подумал, что он плохо понимает нынешних школьников. Дети механизированного века, чей быт до предела насыщен всевозможными автоматами и кибернетическими игрушками, они уже привыкли ко всему и ТУБа приняли как очередное произведение автоматики. А сложность устройства квазимозга еще не воспринималась ими и поэтому не вызывала удивления.
Но специальным знаниям ТУБа они отдавали должное — в космотехнике он разбирался.
Слава Квазика среди членов секции стала меркнуть.
Особенно после того, как Плеяда Сафронова — мать ее работала штурманом на «Селене» — принесла в школу автовизир для определения курса корабля в Малом Космосе. Это был не очень сложный по тем временам навигационный инструмент, но Квазик, пытаясь объяснить, как им пользуются, безнадежно запутался.
Тогда Космика пригласила ТУБа.
Конечно, ТУБ знал автовизир, еще бы!
Он даже помог определить, под каким углом им нужно развернуться в стратосфере, поднимаясь с площадки школы, чтобы попасть на Посадочную станцию Космодрома. Этого Квазик сделать уже совсем не мог.
Космика торжествовала.
— БДД! — сказала она Квазику и показала ему язык.
Вот после этого случая Квазик и решил принести в школу ракету.
Это была большая, почти метровая ракета, он сделал ее по описанию в том же «Юном Технике». Только там она была легче в два раза, он увеличил ее размеры, для большего впечатления. Формулы изменения мощности двигателей при изменении размеров ракеты он, конечно, еще не знал.
Школьную площадку запрещалось использовать как полигон для запуска ракет.
Квазик принес ракету конспиративно.
Он решил восстановить свою пошатнувшуюся репутацию.
Члены секции были оповещены заранее и собрались за баскетбольной площадкой. Было учтено, что Алешкин в эти часы не бывает в школе, а Евгения Всеволодовна занималась в оранжерее и тоже не могла им помешать.
Космика пришла.
Запуск ракеты — это интересно! Такого ТУБ сделать бы не сумел.
Квазик это обстоятельство учел.
Он установил ракету на песчаной горке, привернул провода к пускателю. Солидно заметил Космике:
— Отойди подальше. А то еще под стартовую струю попадешь.
Ребята спрятались за решетчатую баскетбольную стойку. И Квазик, положив палец на кнопку коробочки пускателя, начал отсчет:
— Десять… девять… восемь… Плеяда, стань за стойку… восемь, семь…
На площадке появился ТУБ.
Ничего не говоря, он прошел мимо ребят, мимо замолчавшего от неожиданности Квазика и выдернул из ракетки провода.
— Ты… Ты что? — опешил Квазик.
— …ракета… опасно… люди… — сказал ТУБ.
— Чего ты еще городишь!
— …горожу… не понял… опасно… — повторил ТУБ, Квазик опять присоединил провода.
— Отойди!
ТУБ отступил на шаг.
— …семь… шесть… — продолжал Квазик.
Тогда ТУБ протянул руку и выдернул у Квазика пускатель.
— …нельзя… — хрипнул он.
Квазик пытался вырвать пускатель из пальцев ТУБа, но с таким же успехом он мог бы остановить ковш экскаватора. Тогда он разозлился окончательно.
— Идиот метапластиковый! Отдай сию минуту!
Это был приказ. ТУБ вернул ему пускатель.
— Пошел вон отсюда!
И Квазик пнул ТУБа носком ботинка.
— Не смей! — закричала Космика. — У него эта нога больная, а ты его пинаешь…
То ли Квазик сам нечаянно нажал кнопку пускателя, то ли от дерганий и тряски замкнулись контакты — из ракеты с шумом вырвался дымный сноп пламени. Она подскочила и тут же завалилась набок. Но двигатели ее продолжали работать, и эта почти метровая сигара змеей заметалась по двору, ревя и разбрасывая искры и клубы дыма.
Ребята не знали, куда бежать, ракета металась так стремительно. Они спрятались за решетчатую ферму. Двор мгновенно наполнился дымом и чадом.
Из оранжереи выскочила Евгения Всеволодовна. Она ничего не могла понять и ничего не могла разглядеть.
Первый бросок ТУБа не достиг цели, поврежденная нога замедляла его движения, и ракета промчалась мимо, обдав его искрами и жаром пламени. Но что ему пламя какой-то игрушечной ракеты! Вот только для детей, прижавшихся у баскетбольной фермы, это пламя могло оказаться смертельным.
Ракета пошла прямо на ТУБа, он бросился на нее плашмя, прижал ее к земле, ухватившись рукой за стабилизатор.
И тут она взорвалась.
— ТУБ! — отчаянно закричала Космика.
Все заволокло пылью, дымом, хлопьями копоти.
Евгения Всеволодовна ощупью пробралась к ферме Никто из ребят не был обожжен, только лица и одежда были покрыты пятнами копоти.
— ТУБ… — плача твердила Космика. Дым осел, и тут все увидели массивную фигуру ТУБа. Он уже стоял, держа в руках стабилизатор — все, что осталось от разорвавшейся ракеты. Что мог сделать его броне такой взрыв!
Побледневший Квазик стирал с лица жирные хлопья сажи.
Подойдя к нему, ТУБ протянул обломок стабилизатора.
— …двигатели… слабые… — сказал он.
Ребята восторженно смотрели на ТУБа во все глаза. И только Квазик молча повернулся к нему спиной
8
Квазику попало. Но не очень.
За него заступился Алешкин.
Все хорошо, что хорошо закончилось, и Алешкин в какой-то мере был даже доволен: по вине Квазика ТУБ сумел показать себя с самой лучшей стороны. Истории получила огласку, и смотреть ТУБа приходили целые делегации. Популярность его росла.
Росла и его известность за пределами Космогородка
Это было и хорошо, и плохо.
Скоро сюда прибудет Инспектор Комиссии.
Но пока в школе все шло как нельзя лучше. До начала занятий оставалось пятнадцать дней, затем четырнадцать, тринадцать.
И тут ТУБ начал падать.
Он не падал на ровном месте. Он падал на лестнице ни с того, ни с сего… и вдруг сто пятьдесят килограммов метапластика катились по лестнице, оставляя на ступеньках выбоины.
Алешкин знал, что в нормальной обстановке ТУБы не падают. Очень много устройств следит за его равновесием. Чтобы сбить с ног ТУБа, нужно, по меньшей мере ударить его бульдозером.
— Почему ты упал? — спрашивал его Алешкин.
ТУБ простодушно посверкивал на него видеоэкранами и показывал на ступеньку.
— …запнулся… — отвечал он.
— Но где ты там запнулся? Ступенька же гладкая?
ТУБ этого не мог объяснить.
Алешкин проверил автощетки, выскакивающие из-под ступенек. Нет, за них запнуться было невозможно. Он забрался под лестницу, там тоже было все в порядке.
Может быть, подводила поврежденная нога?
Алешкин забрал ТУБа домой и там придирчиво и скрупулезно проверил всю нейропроводку, но тоже ничего не нашел. Повреждение могло находиться где-то в командных цепях киберлогики, но об этом Алешкин не хотел даже и думать. В киберлогику ему дороги не было.
Потом Алешкин вернулся в школу и целый день гонял ТУБа по лестнице. Вверх!.. Вниз!.. Вверх!.. Вниз… а сам сидел на табурете и внимательно следил за ногами ТУБа. За все время испытания тот ни разу не ступил неуверенно, даже не покачнулся.
Алешкин приказал ему держаться за перила при спуске. Это был далеко не лучший выход из положения, но ничего другого Алешкин придумать не мог. Он понимал, что над роботом нависла угроза — с поврежденными цепями киберлогики его использовать, и тем более в школе, уже будет нельзя.
Бухов вызвал Алешкина по видео.
— Что это у тебя там? — спросил он. — Твоя уборщица на лестнице падает.
— Кто тебе сказала?
— Да вот, сынок сообщил.
— Ничего особенного. Случайно свалился пару раз. — Не хотелось огорчать Бухова, раскрывать истинное положение вещей; ведь ему придется отвечать за выдачу неисправного автомата.
Бухов его понял.
— Знаешь, — сказал он с обидой. — Мы же с гобой вместе на Венеру летали.
Конечно, Бухов был прав, Алешкин потупился и покраснел.
— Падает, — сказал он. — Все исправно, а падает.
— Значит, киберлогика?
— Не знаю. — Алешкин помолчал. — Проверить не могу, тестер нужен с обратной связью. Ты не смог бы его на заводе достать?
— Как же я достану? Контрольный прибор. Что я там скажу?
— Скажешь что-нибудь.
Достать тестер было трудно, даже Бухову. ТУБ ходил, держась за перила. Алешкин ждал и нервничал.
Так прошло еще два дня.
Вход в оранжерею находился под самым окном комнаты преподавателей, кабинет директора был рядом, и Алешкин услыхал знакомый грохот, как будто по ступенькам скатился пустой грузовой контейнер.
Вконец расстроенный Алешкин тут же прибыл на место происшествия.
От дверей в оранжерею вели всего три ступеньки, просторные и широкие ступеньки — на них не смог бы упасть даже ребенок. Но ТУБ упал.
«Почему он не удержался за дверь?»
ТУБ стоял как обычно, опустив руки и доверчиво уставившись на Алешкина синими огоньками. Он был вымазан землей и чем-то зеленым, непонятным. У его ног валялся разбитый цветочный горшок — от редкостного кактуса осталась только кучка зеленоватых слизистых хлопьев.
«Вот почему он не удержался, бедняга, руки у него были заняты, он нес этот кактус».
Надо отдать должное Евгении Всеволодовне, она стойко переносила свалившееся несчастье, только молча пошевелила ногой остатки знаменитого кактуса и пошла прочь в глубину оранжереи.
Конечно, Космика была тут же.
Она понимала величину беды, и в то же время ей так хотелось заступиться за своего незадачливого друга.
— Он же не нарочно, — сказала она. — Он, наверно, и сам ушибся.
— ТУБ, иди за мной, — сказал Алешкин.
— Ему попадет? — спросила Космика.
— Нет, не попадет, — успокоил ее Алешкин.
Не мог же он сказать ей горькую правду о будущем неисправного робота.
В дверях оранжереи появился Квазик. Должно быть, он еще ничего не знал, вид у него был довольный, он поздоровался с Алешкиным.
«Вот кто обрадуется, если придется убрать из школы ТУБа…» — подумал Алешкин и сурово заметил Квазику:
— Где это ты так выпачкался? Посмотри, весь в грязи.
— Да это так… — ответил Квазик и достал из кармана платок.
Алешкин и ТУБ прошли мимо него. Квазик спустился к Космике.
— Это кто же кактус раздавил?.. Опять тот комод упал. Я же говорю, что его нельзя в школе держать. Ненормальный, еще задавит кого-нибудь.
— Уйди с моих глаз! — сказала Космика.
9
Теперь ТУБ стоял дома у Алешкина. Оставить его в школе уже было опасно. Отправить к Бухову, чтобы тот отослал его, вместе с актом, на завод, Алешкин просто не мог. Настроение у него было препротивное, он сердился на себя и не мог понять, что привязывало его к этой неодушевленной конструкции. «Язычество какое-то, идолопоклонство!» — ругал себя Алешкин, однако лучше от этого ему не становилось.
Но вот приехала Мей.
Он ничего не сообщил ей про ТУБа, вначале хотел сделать сюрприз, а потом вообще нечего было сообщать… А она ждала его там, ведь он обещал… Конечно, он мог бы приехать на несколько дней, и приехал бы, но тут как раз ТУБ начал падать.
Алешкин увидел Мей из окна, жена только что свернула с аллеи на дорожку к коттеджу Она шла строгая и насупившаяся… и такая милая, и он смотрел на нее радостно и взволнованно. Конечно, он знал, что она скажет: да, да! Он такой невнимательный, он о ней не думает и не думал никогда… И он будет слушать с восторгом все ее обвиняющие слова, такие ласковые от английского произношения.
Вот она подошла к крыльцу, и он потерял ее из виду
Сейчас она войдет в подъезд, и там ее встретит ТУБ…
Алешкин услыхал ее восклицание на английском языке, — когда Мей волновалась или радовалась, она всегда переходила на английский язык…
Дом наполнился гулом пылесоса, звуками плещущейся воды, скрипом передвигаемой мебели. Конечно, они неряхи, great неряхи! И на кухне у них грязь, on the window… паутина… А цветы… эти самые лилиум кандидум, не политы… По правде сказать, в последние дни Алешкин столько возился с ТУБом, что запустил все свои домашние дела. Занятие нашлось всем, и ТУБу даже пришлось включить вторую скорость, как при работе на трудной планете. А Мей была такая радостная и довольная, что вот она дома и ТУБ будет работать в школе… И у Алешкина не хватило духу сказать ей правду.
Днем она убежала в магазин. Алешкина вызвал по видео Бухов.
— Готовься, — сказал Бухов, — к нам едет ревизор.
— Уже?
— Уже. Уже приехал. С тестером. Автоматы проверяет.
— Ну и как?
— Пока один погрузчик забраковал. Биозащита опаздывает на пятьдесят миллисекунд.
— Строгий дядя.
— А где ты видел ревизоров ласковых? Про твою уборщицу он уже знает. Удивился весьма, как это мы, взрослые люди, космонавты, и нарушаем инструкцию. Я ему объяснил как мог. Так вот, он на тебя хочет посмотреть. Ты свои документы на кибернетика обязательно захвати.
Алешкин долго и неторопливо усаживался за руль «Кентавра». ТУБ сам открыл ему ворота, хотя они могли открываться автоматически.
— А ты оставайся здесь. Нечего тебе там делать. Нужен будешь… сами приедут. — Алешкин помолчал и тронул «Кентавра»: — Молись своему кибернетическому богу.
Инспектор встретил Алешкина строго и официально, но просмотрев его документы, несколько подобрел.
— Что ж, лично я не против, чтобы он поработал в школе уборщиком, под вашим наблюдением, разумеется, инструкция инструкцией, но жизнь, знаете, все время обгоняет правила. Это был бы весьма интересный эксперимент первый опыт общения робота не со взрослыми, а с детьми. Очень любопытно… Ваши заключения могли бы помочь Заводу Кибернетики в дальнейших его работах. Но в этой истории одно плохо, вы понимаете?
— Понимаю. Почему он падает?
— Вот именно, почему он падает? Вы говорите, что проверяли его и ничего не нашли. Я вам верю как кибернетику. Возможно, причина в киберлогике. Тогда, как вам известно, участь ТУБа решена. Но киберлогика отказывает весьма и весьма редко. Притом тогда выключается и главная сеть питания. А у вас не так. Это весьма непонятно. Поэтому будет лучше, если я приеду в школу сам и посмотрю все на месте.
Вернулся Алешкин домой не особенно веселый. Мей встретила его на крыльце.
— А где ТУБ? — сразу спросил он.
— А где был ты? — спросила Мей. — Пора обедать, я послала ТУБа за тобой в школу.
— Мей! И давно?
— С полчас… но что случилось, Альешкин?
— Скорее садись в машину. Я расскажу тебе по дороге.
Дурное предчувствие не обмануло Алешкина. Машина Срочной Помощи встретилась им еще на пути к школе.
ТУБ упал на лестнице и сбил Космику.
10
У Космики оказался перелом руки, да еще она получила легкое сотрясение мозга, и врачи разрешили разговаривать с ней только на следующий день. Алешкин и Мей присели возле кровати. Рука у Космики была на растяжке, ей было больно, но она крепилась и старалась не плакать. Вид у нее был совсем не плохой, только ее обычный румянец сошел со щек.
— Мы спускались по лестнице, а я держала его за руку. Он хотел убрать руку, а я все равно держала ее. Я все следила, чтобы он не упал.
— За какую руку ты его держала?
— За вот эту, за левую.
«Все правильно, перила на лестнице с левой стороны»
— Его… его от нас заберут? — спросила Космика.
— Не знаю. Наверное, заберут.
— Он же не виноват. Он совсем не виноват. Когда… когда он начал падать, он оттолкнул меня в сторону. А я все равно хотела его поддержать. И не смогла. Он такой тяжелый.
— А почему он упал? — спросил Алешкин.
Космика молчала.
— Ты же заметила, наверное, как он упал. Или у него подвернулась нога?
— Я не знаю, — тихо сказала Космика.
— Может, он запнулся?
— Я… я не знаю… — и Космика заплакала.
Мей неотрывно смотрела на девочку. И когда она заплакала, Мей погладила ее по головке и сказала Алешкину:
— Ты хороший следователь, Альешкин. Но ты лучше поезжай в школу. ТУБ там один, с инспектором. А мы здесь с Космикой еще поговорим. Без посторонних мужчин.
Мей шутила, а Алешкин не мог понять, как она может шутить в такую минуту. Но он знал, что интуиция Мей часто оказывалась сильнее его логики. Поэтому он тоже постарался улыбнуться весело и ушел.
Во дворе школы он встретил Квазика. Тот сидел на ступеньках той самой злополучной лестницы и карманным ножом строгал сухой сучок кипариса. Стружки сыпались на ступеньки, и автощетка высовывалась и заметала их под лестницу.
Увидя Алешкина, Квазик встал. Темные жаркие — материнские — глаза его были озабочены и печальны.
— Вы из больницы? — спросил он. — Как там… как Космика?
— Ничего Космика… Месяц полежит, потом опять бегать будет. А ты хотел мне что-то сказать?
Алешкин взял у Квазика ножик, сложил его.
— Положи в карман. А то пальцы обрежешь.
— И пусть бы он падал, — вдруг заговорил Квазик. — Чего бы ему сделалось. Зачем она стала его держать? Разве его можно удержать. Полторы сотни килограммов… Смешно.
— Это смешно только тебе, потому что ты иначе относишься к ТУБу, нежели Космика.
— А вы считаете, она правильно к нему относится? Что робота можно полюбить, да?
Алешкин с удивлением уставился на Квазика.
«Смотри-ка ты, уж не ревность ли это ребячья. Ох, плохой я педагог, ничего я не понимаю в нынешних ребятишках. Но вопрос задан, нужно на него отвечать»
— Тебе кажется, что робота полюбить нельзя, — сказал Алешкин. — Ну, а ненавидеть его можно?
Инспектор сидел в кабинете за столом. На столе лежал тестер обратной связи. Возле стола стоял ТУБ со снятым контрольным щитком. Инспектор вертел в руках отвертку и задумчиво поглядывал на ТУБа.
— Как там девочка? — спросил он Алешкина.
— Плохо все закончилось, — сказал Инспектор, выслушав ответ. Конечно, ничего бы не случилось, если бы она не пыталась его поддержать. Полтораста килограммов… Он мне тут все рассказал. Хорошо работает у него блок условных понятий. Просто жалко, да… А вот почему упал» не знает. Я проверил обратные связи в киберлогике. Все в порядке. Не должен падать, а падает. Может быть, какая-нибудь сложная перебивка сигналов на поврежденную ногу. Но факт: неисправен! Значит, эксплуатация его запрещена законом. Придется составить акт.
— Я понимаю, — тихо сказал Алешкин.
В это время звякнул вызов видео.
— Извините, — сказал Алешкин.
Он увидел лицо Мей.
— Я из больницы, — сказала она. — Космика хочет видеть Квазика.
— Он где-то здесь. Сейчас я его пошлю к вам.
Алешкин высунулся в окно и, увидя Квазика во дворе, передал ему просьбу Космики. Тот кинулся бегом. Алешкин вернулся к Инспектору, который уже начал писать акт.
ТУБ повернулся к Алешкину, как будто ждал от него каких-то слов. Конечно, никакого выражения не могло появиться на его плоском подобии человеческого лица, и синие огоньки видеоэкранов сияли не ярче, чем обычно. Но у Алешкина было слишком богатое воображение. Он не мог спокойно смотреть на обреченного робота, который будто понимал, что ему грозит, и ждал от него помощи.
Можно ли полюбить робота?
— Я вам не нужен? — спросил он Инспектора.
— Пока нет.
Алешкин прошел по коридору и остановился у лестницы, где ТУБ упал в последний раз. На ступеньках остались следы от удара его панциря, даже кусочек пенолита откололся от ступеньки. Алешкин долго стоял у перил лестницы и смотрел на этот отколовшийся кусочек пенолита.
Потом увидел Квазика.
Запыхавшись, он поднялся по ступенькам к Алешкину. Видимо, мальчишка бежал всю дорогу от больницы до школы и с трудом переводил дыхание.
В руках он держал проволоку.
Алешкин неторопливо потянул ее у Квазика из рук. И все стало простым, как Колумбово яйцо.
Он просунул пальцы рук в кольца, закрученные на концах.
Согнул проволоку дугой.
Получилась петля.
Теперь можно забраться под лестницу, просунуть петлю в щель ступеньки, где ходят автощетки, и поймать ТУБ за ногу.
А потом петлю быстро убрать, и он не успеет ее заметить.
Он не будет знать, за что зацепился. Он не поймет, что его уронили нарочно.
Ему это понятие недоступно. Так его запрограммировали.
Квазик хотел что-то объяснить Алешкину, но тот перебил его:
— Иди, мой милый, иди, паршивый мальчишка, в мой кабинет. Покажи эту штуку Инспектору. И расскажи ему все, что хотел рассказать мне. А я уже все понял и все знаю. Иди скорее…
Дома Мей примеряла блузку перед зеркалом. Алешкин смотрел, как она это делает. Ему очень хотелось подойти, обнять ее за плечи, но в комнате был еще ТУБ.
— Он очень скверный мальчик, — сказала Мей, — из него получится Яго.
— Пока из него чуть не получился Отелло, — сказал Алешкин. — Вряд ли можно дать однозначную оценку ребенку, если у него злые эмоции взяли верх над рассудком. Но вот как ты догадалась, что Космика что-то знает, этого я не пойму.
Мей улыбнулась.
— Вы — мужчины. А вы когда-нибудь понимали женщину?
— Где уж нам, — согласился Алешкин. — Пойдем-ка, ТУБ, поливать цветы. Ты тоже бестолковая старая развалина. Подумать только — кусочек проволоки плюс совсем немножко хитрости, и твоя кибернетическая башка ни о чем не могла догадаться. Пойдешь сегодня после двенадцати в больницу. Космика очень хочет тебя видеть.
…Это была обычная начальная школа — два этажа из пеносиликата и армированного стекла. Таких школ в стране насчитывалось несколько тысяч.
Это была пока единственная школа в стране, где штатную должность уборщицы занимал робот.
СДЕЛАНО ЛЮДЬМИ…
РАЗЪЯСНЕНИЕ АВТОРА
Информация, на основании которой и написана эта история, оказалась весьма необычной как по форме, так и по содержанию. Дело в том, что люди, населявшие ту, погибшую Планету, имели другие, весьма отличные от наших, эталоны познания и отражения окружающего мира. И только то, что их Планета очень походила на нашу Землю, и все явления природы происходили там так же, как и у нас, позволило автору расшифровать Информацию и перевести ее на русский язык. Это несомненно несколько «приземлило» общий колорит не земной истории, зато позволило автору быть точным в описании фактов. А описанные факты имеют познавательное значение, в. чем может убедиться каждый, кто дочитает эту историю до конца.
Автор, желая заранее успокоить наиболее впечатлительных, сообщает, что ядерные процессы в веществе нашего Солнца имеют установившийся характер, с этой стороны Земле катастрофа не грозит.
ИНФОРМАЦИЯ
Параграф первый
Это была единственная планета в галактике, которая имела на поверхности воду, а в атмосфере свободный кислород. Давно остывшая, она вращалась вокруг своего Солнца — гигантского шара из пылающей плазмы.
Солнце освещало и согревало поверхность Планеты. Под его лучами из хаоса мертвых атомов родилась первая живая молекула белка. — Прошло совсем немного времени — какие-то сотни миллионов лет, — и на Планете появились люди.
К моменту составления Информации Планету населяло несколько миллиардов человек. Они уже успели пройти через все неизбежные смуты и общественные катастрофы и мирно жили и счастливо трудились, благоустраивая свою Планету — единственны жилой дом на проспекте галактики.
В работе людям помогали КВОМы — искусственные конструкции кибернетические высокоорганизованные машины.
Параграф второй
Типовой квом внешне напоминал человека в изображении художника-кубиста.
Объемистое туловище из метапластика, на крепких устойчивых ногах. Бочкообразная голова с объективами и сложным видсоанализирущим аппаратом. Две четырехпалые мощные руки — квом легко поднимал за колесо грузовой электробус.
В грудном отделе, где у человека находятся сердце, легкие и прочие ненужные квому вещи, был вмонтирован квази-мозг — командное устройство на микрокристаллах, с секцией кибернетической логики, которая управляла действиями и руководила поступками квома.
Квомы выполняли работу, не требующую высокогоинтеллекта — у квази-мозга были ограниченные возможности. Конструкторы и не стремились чрезмерно совершенствовать способности его мышления. На Планете хватало людей, для которых творческий труд был целью и радостью жизни. Не следовало отбирать у человека эти радости.
Запрограммировать сложную схему квази-мозга на все случаи жизни было невозможно. На заводе в квома вкладывались только основные программы, необходимые на первые дни. Дальнейшее развитие его способностей происходило в процессе общения с людьми. Ежедневно видео- и звукоанализаторы посылали в квазимозг потоки новых образов и понятий. Не выключаясьни на минуту квомам не нужно было спать, — работала киберлогика, сортируя поступающую информацию и разнося ее по ячейкам памяти. Его мышление, вернее — цепные токи в киберлогике, усложнялось и совершенствовалось. Квом накапливал опыт — «умнел».
Но как бы ни множились запасы опыта в ячейках памяти, как бы ни усложнялась киберлогика, неизменной оставалась главная заводская НАДпрограмма: Он сделан людьми. И для людей. И каждый квом везде и всегда подчинял этой программе все свои действия и поступки.
Параграф третий
Катастрофа произошла внезапно.
Вначале астрофизики зарегистрировали очередное увеличение солнечной активности. Никого это не обеспокоило, С тех пор как начались регулярные наблюдения за Солнцем, такие случаи отмечались не раз. Солнечная масса волновалась временами и затихала. К этому явлению привыкли и считали его нормальным, как смену дня и ночи.
Какие неучтенные процессы вызвали вспышку материи — теперь никто уже не ответит на этот вопрос.
В тот день все шло как обычно в окружающем мире. Звезды, планеты, галактики мчались по своим предначертанным путям. Люди на Планете тоже занимались своими делами. Но истекало время, отпущенное им на жизнь. Те, кто находился на освещенной стороне Планеты, первыми увидели начало конца.
Сияние солнца вдруг сделалось ослепительно ярким.
Поверхность его вспучилась. Из кипящих недр вырвался гигантский протуберанец — сгусток раскаленной материи. Бело-розовым факелом он ринулся в пространство, Планета попала под его удар. Потоки жестокого излучения обрушились на нее, сжигая и убивая все живое.
Погибли растения, погибли животные, погибли люди. На ночной стороне планеты успели принять тревожный сигнал. В последнюю минуту в заброшенную шахту старого свинцового рудника спустили несколько сот человек, преимущественно женщин и детей. Пятидесятикилометровая толща гранита и свинцовых руд защитила их от непосредственного удара космического излучения.
Все остальное перестало жить.
И только то, что создали люди, продолжало существовать.
КВОМЫ
Глава первая
Главный Город Планеты был огромен.
Он раскинул кварталы ажурных многоэтажных строений на многие сотни километров. Бесконечные ленты его бульваров, лучами разбегаясь от центральной площади, уходили далеко за горизонт.
Толстый слой пыли лежал на улицах, на площадях, на пустырях выжженных парков, на крышах домов.
Пыль заполняла высохшие русла каналов, серой бахромой овисала с оконных карнизов. Дома слепо таращились в улицы оконными провалами, черными и огромными.
Гигантский город был мертв.
…Председатель Совета квомов медленно брел по пустому бульвару.
При каждом шаге под пенолитовыми подошвами вспыхивали и гасли облачка пыли. По бульвару тянулась цепочка больших овальных следов.
Председатель Совета шел тихо, еле-еле переставляя ноги. Не потому, что не мог двигаться быстрее. Спешить было некуда, а экономить энергию сигма-аккумуляторов, которые приводили в движение весь его механизм, было необходимо. Катализаторы погибли при Катастрофе, восстановить их квомы не смогли, и зарядить аккумуляторы было уже нельзя.
Косматое, ослепительно-сиреневое, поднималось солнце. Фиолетовые изломанные тени ложились на пролеты бульваров.
Председатель Совета шел, повернувшись к свирепому светилу спиной. Жгучее сияние плохо действовало на светочувствительную мозаику его видеоанализаторов.
Он сильно диафрагмировал объективы, чтобы потоки яркого света не сожгли старые ослабевшие видеоэкраны, которые уже давно требовалось заменить новыми.
Председатель Совета слегка прихрамывал — разработавшийся коленный шарнир заедало на ходу, и реле координации приходилось посылать в правую ногу более сильный импульс движения.
Вчера даже запнулся на гладком пенолите.
Он давно пропустил все сроки профилактики и выключил автомат, который то и дело трескучим сигналом напоминал об этом. Председатель Совета был не серийного выпуска, а экспериментальной конструкцией, запасных частей для него не оказалось на складах завода. Конечно, можно подогнать стандартный коленный сустав, но на это уйдет несколько десятков часов у ремонтного квома. У них энергии тоже немного, и она более нужна на обслуживание машин там, в Убежище свинцового рудника, где живут люди, последние из оставшихся в живых. Последние люди. Больные и беспомощные, отравленные ядом космического излучения. На поверхности Планеты этим ядом заражено все, а людям нужны воздух, свет, пища и вода. Для очистки воздуха, для приготовления пищи и воды в Убежище свинцового рудника работают сотни сложнейших аппаратов и машин.
Их установили квомы и наблюдают за ними тоже квомы.
Люди уже ничем не могут себе помочь. Квомы сами занимаются решением трудных технических задач.
Ежедневно на несколько минут собирается Совет квомов — двенадцать представителей, по одному от каждого отдела Убежища: пища, вода, воздух, вентиляция… Председатель Совета суммирует их информации и принимает решение.
Никогда еще киберлогика Председателя Совета не работала так напряженно и ответственно. Он не имел права ошибаться. Любая его ошибка может стоить последним людям жизни, Планета опустеет на миллиарды лет. Природе придется начинать все сначала.
Глава вторая
Когда техник монтажного цеха выбил на его метапластиковой груди серийный номер, он еще ничего не видел, не слышал и не ощущал. Ничего не было записано на решетках микрокристаллов памяти текущих событий.
Захваченный поперек туловища клещами монтажного станка, он висел, не касаясь подошвами пола.
Первый толчок тока… Несколько секунд тьмы и тишины, наполненной чуть слышными шумами наводок, затем еще толчок. Хаос звуков хлынул в киберлогику, и расшифровался там на слова.
Он стал слышать.
— Как у него дела?
— Не контачит видеоцепь.
— Опять. Вот уж эти мне программисты!.. Включи пульсатор.
Щелчок… еще щелчок…
— Прибавь пару киловольт.
И внезапно диафрагмы видеоанализаторов прикрылись — так ярки оказались лучи дневного света. Потоки импульсов разложились на мелькающие полосы, на точки, и он увидел перед собой лицо человека. Это было лицо молодого человека (на лице не было морщин), глаза были серые, волосы светлые,…на правой щеке черное пятнышко (понятие «родинка» в программу заложено не было). Человек смотрел прямо в объективы, вот глаза его прищурились, уголки губ чуть заметно поднялись вверх — киберлогика определяла!
«Улыбка».
Человек улыбнулся и сказал:
— Вот теперь видит!
— Ставь координатор.
И он вдруг почувствовал, что у него есть руки и ноги. Подошвы его коснулись пола. Держатели разжались. Он переступил с ноги на ногу, удерживая равновесие.
Человек внезапно толкнул его в плечо, он упруго качнулся и выпрямился.
— Хорошо стоишь, малыш, молодец! Можно записать в журнал: номер пять дробь двести восемьдесят пошел в стажировку…
Он проходил стажировку в Институте Общей Техники, где начал учиться, начал работать и, главное, осваивать окружающий мир.
В Институте Общей Техники ему было легко познакомиться со многими науками. Почти со всеми, с которыми имели дело люди Планеты. В институте работали ученые всех профилей. Он много слышал, видел и все запоминал. Запоминал молниеносно и навечно. Познания его были велики и универсальны.
Много труднее оказалось другое.
Он жил среди людей. Их дела, их желания были его делами. Своих желаний тогда у него не было. Киберлогика его подчинялась одному простому и ясному закону: так нужно. Все поступки определялись той или иной логической необходимостью. Он не делал ничего бесполезного.
У людей было иначе.
В своих решениях и поступках люди весьма часто руководствовались абсолютно непонятным ему законом: я так хочу! Порой в их поступках он не находил ни логики, ни необходимости. Вот тут разобраться было уже трудно. Когда причина действия или поступка была неясной, киберлогика не могла выдать определенное суждение. Выть полезным для людей!
Но чтобы быть полезным, нужно научиться их понимать.
И он старался.
Однажды даже сжег целую секцию киберлогики, перегрузив ее сильным импульсом вопроса, пытаясь понять, что такое «люблю» и что такое «не люблю». Предохранительное реле, спасая киберлогику, выключило непосильный вопрос, но он упрямо повторил его снова… и киберлогика сгорела.
Аварийный автомат привел в действие обходные цепи, и он, уже ничего не соображающий, повинуясь аварийному импульсу, добрался до завода. Дежурный инженер Киберпомощи не скоро нашел повреждение, но догадался о его причине. Инженер был человек…
— Молодец малыш! — сказал инженер, похлопав его по метапластиковому, плечу, и повернулся к товарищу, который копался во внутренностях другого квома. — Ты понимаешь, он пытается думать, оперируя условными импульсами. Может быть, поставить ему усложненную киберлогику? Кажется, у нас оставались экспериментальные блоки.
— Смотри! — предупредил товарищ. — Как бы опять не ошибиться….
На заводе все помнили этот случай… Техники Экспериментального отдела ради опыта поставили на типового квома секции усложненной киберлогики, без заданной программы. Решили узнать, как она будет работать, не управляясь заранее запрограммированными законами. Тут же случайно возникший импульс в киберлогике разросся в мощный спонтанный поток раздражений, и все двигатели механического существа пришли в буйное движение. Голем[2] чуть не убил своих создателей. Одним ударом он сбил с ног экспериментаторов, сломал монтажный станок, плечом высадил дверь лаборатории и выбрался во двор завода. Там он перевернул вездеход, который привез испытателей, и направился к воротам. Общая мощность его механических мускулов превышала сотню лошадиных сил и неизвестно, что бы он мог еще натворить. Хорошо, что машинист грузового крана не растерялся и успел поймать мятежного квома железной клешней…
— Нет, — сказал инженер, — с нашим этого не случится. Он уже умный.
И разыскал блок усложненной киберлогики.
— Ступай, малыш! — сказал он, закончив монтаж. — Да не перегружайся мощными вопросами. Не на все можно найти ответ, особенно тебе. Вот у меня в голове анализирующих единиц раз в десяток больше, чем у тебя, и наследство — в пять тысячелетий житейского опыта, да и то я во многом не разбираюсь.
Новая киберлогика работал а отлично. Она сортировала факты и задачи, всс непонятное складывая в особые ячейки памяти. Потом все это постепенно расшифровывалось и переходило в блоки, осознанной информации.
Но и необъяснимого все же оставалось много. Иногда рефлексные токи из этих ячеек-пробирались через киберлогику, и Председатель Совета стал замечать, что он сам иногда совершал такие поступки, которые его лее киберлогика отказывалась анализировать.
Вот и сейчас…
Зачем он поднялся на поверхность?
Замерить радиацию на поверхности Планеты можно было и по дистанционному радиометру.
Зачем он пришел сюда, в этот мертвый запыленный город?
Что ему здесь нужно?
Ответа не было. Он не стал повторять вопрос, и киберлогика тут же отправила импульс в ячейку неосознанных поступков.
Пока по сигнальным цепям киберлогики бродили слабые токи, автоматы работали. Поднимались и опускались ноги, взбивая клубочки пыли. Видеоанализаторы передавали в приемные цепи расшифрованные сигналы всего, что отражалось на световых экранах… Молчаливые дома с пустыми окнами… Серая от пыли улица… Легковые атомокары у обочины тротуара… Громадные пассажирские атомобусы…
Погибших на улицах уже не было.
Здесь, в Главном Городе Планеты, квомы собрали их всех и сложили в подвалах домов. В других городах они так и лежали там, где их застигла смерть; высохшие, как мумии, они по ночам светились голубоватым светом, пробивавшимся сквозь слой пыли.
Киберлогика послала сигнал «стоп»! Председатель Совета остановился.
Поперек тротуара стояла запыленная детская коляска. Возле нее продолговатый пыльный холмик — Председатель Совета чуть не наступил на него ногой.
Нагибаться было трудно, из-за изношенных шарниров. Да и не нужно, как тут же подсказала киберлогика. И опять из блока памяти неосознанных случаев появился импульс и скользнул в исполнительную цепь.
Председатель Совета наклонился.
Все его шарниры заскрипели от непривычного движения — давно ему не приходилось нагибаться.
Он смахнул с продолговатого холмика пыль.
И поднял с троту ара, куклу.
Несколько сотых, секунды потребовалось киберлогике на расшифровку необычного видеосигнала.
Да, это была кукла. Пластмассовое изображение ребенка — детская игрушка. Когда-то она была одета в платьице, от него оставались истлевшие обрывки. Но огнеупорная кремнистая пластмасса пережила все — и тепловой удар, и радиацию.
Председатель Совета держал в руках голенького пластмассового младенца. Из блока памяти потоком хлынули импульсы, складываясь в картины… Он вспомнил.
…Это случилось давно. Еще до того, как он сжег блоки киберлогики.
Он только приступил к работе в Институте Общей Техники. — Он еще мало что знал и что умел. В блоках памяти хранились только заводские программы.
В этот день его послали в лабораторию синтетики за образцом саморастущей пластмассы. Он шел по улице, сверкая свежей полировкой метапластика. Аккумулятор был полон энергии, новенькие шарниры двигались легко и послушно. На него никто не обращал внимания, квомы часто появлялись на улицах, к ним привыкли, и они уже не вызывали у прохожих удивления.
Он шел, никого не толкая, даже не задевая. Для этого ему не нужно было ни оглядываться, ни смотреть вперед — чувствительные ультразвуковые локаторы непрерывно сообщали о всех близ находящихся предметах. Так же летает в темноте летучая мышь.
Отдаленные предметы он воспринимал видеоанализаторами. Угол зрения его объективов был широк, он видел все происходящее впереди и по сторонам.
По крапчатому гранитолитовому покрытию улиц, шелестя шинами, мчались легковые атомокары. Один из них притормозил, выехал из общего ряда и остановился возле обочины. За стеклопластиком кабины виднелись смеющиеся детские рожицы — вероятно, чья-то семья вернулась с загородной прогулки.
Дверка атомокара распахнулась внезапно, он как раз проходил мимо и еле успел шагнуть в сторону. Навстречу спешили девушки. Они смеялись, тараторили на ходу, конечно, не смотрели вперед и наткнулись бы на него. Отступить ему было нельзя — за спиной кто-то шел, киберлогика в долю секунды перебрала десяток вариантов… Он быстро шагнул за открытую дверку атомокара. Девушки наскочили на прохожего. Было бы хуже, если бы они наткнулись на него — твердого и массивного, как дорожный каток.
Он не заметил, когда ребенок выпал из кабины атомокара.
Он увидел его на проезжей части улицы, — маленький розовый человечек в беленькой рубашечке, задравшейся на спине, беспомощно лежал лифчиком вниз, и длинный гоночный атомокар мчался прямо на него.
Водитель тормозил, но тяжелая машина шла по инерции, юзом, отчаянно визжа по уличному гранитолиту покрышками зажатых тормозами колес.
Человек ничего сделать бы не смог. И не успел: до ребенка оставалось каких-то два десятка метров — секунда времени. Но он был машиной, киберлогика его сработала молниеносно.
Он метнулся навстречу машине и принял ее удар на согнутые руки.
Машина мгновенной тяжестью навалилась на суставы. Все его двигатели работали на упор. Пенолитовые подошвы сплюснулись от давления. Защелкали предохранители, предупреждая о предельной нагрузке суставов… Под пальцами захрустела, сминаясь, облицовка атомокара… И машина остановилась.
Он с трудом отодрал ладони, прикипевшие к облицовке. Повернулся и поднял ребенка, лежавшего у его ног… и реле весового анализа тут же послало в киберлогику вопрос — ребенок оказался неестественно легким.
Это была кукла.
Большая кукла с голубыми глазами, которые закрывались, когда ее укладывали спать. А когда ее поднимали, внутри играли колокольчики и кукла пела веселую детскую песенку…
Точно такая же кукла лежала сейчас на руках Председателя Совета.
Он оборвал импульс воспоминаний. Осторожно стряхнул с лица куклы слой пыли. Глаза ее были закрыты. Они не открывались. Пыль забила движущиеся части несложного механизма.
Кукла умерла тоже…
Председатель Совета долго стоял возле опрокинутой коляски. Из блока памяти неосознанных случаев текли и текли беспорядочные импульсы. Разряды их гасли на предохранителях.
Кукла лежала на его руках. Он держал ее бережно и осторожно, будто это был ребенок, который спал…
Глава третья
Кабинка скоростного лифта падала в черную глубину шахты.
Воздух со свистом и завыванием проносился за вибрирующими стенками кабины, все ее крепления скрипели и стонали, казалось, она вот-вот развалится, на ходу. Из всего заброшенного хозяйства свинцового, рудника квомы успели наладить один только лифт. Восстанавливать его не стоило, пользовались лифтом не часто.
Председатель Совета придерживался за потолочные ремни, у него плохо работало реле устойчивости, а кабину временами сильно швыряло из стороны в сторону.
Дважды кабина лифта замедляла свое падение, останавливалась, Председатель Совета переходил в следующую секцию лифта и продолжал свой путь вниз.
На пятьдесят втором километре падение закончилось.
Кабина плотно села на резиновые амортизаторы.
Моторы замолкли.
Дежурный квом в камере спецзащиты долго обрабатывал Председателя Совета и его куклу струей ионизированного воздуха, сдувая налипшую радиоактивную пыль. Затем чувствительные анализаторы установили отсутствие радиации на корпусе, автомат распахнул двери камеры, и Председатель Совета вышел на… лесную полянку.
Это была самая настоящая полянка, покрытая густой зеленой травой. Через полянку бежал ручей, с веселым бульканьем струйки воды перекатывались по руслу из разноцветных поблескивающих камешков. В затемненных омутках под берегом шныряли бронзовочешуйчатые рыбешки. Невысокие деревья на берегу тесно переплелись ветвями.
С ветвей на длинных черешках свисали аппетитные на вид плоды.
Легкий ветерок покачивал листву. Ярко светило — и даже пригревало слегка — что-то похожее на солнце.
Конечно, это было не солнце.
Под потолком гигантской пещеры висела мощная лампа дневного света. Погасни она — и все вокруг погрузилось бы в глухую, беспросветную подземную тьму. От поверхности планеты эту пещеру отделяло пятьдесят два километра скальных пород.
Трава на лужайке и деревья были искусственными, из растущей пластмассы.
Плоды на деревьях тоже были не настоящие, хотя и съедобные — они изготовлялись здесь же, в Убежище, на заводе синтетической пищи.
Дежурные квомы сами развешивали их на деревьях.
Вода в ручье была синтезированная из водорода и кислорода. Синтезировать воду оказалось проще, чем очищать готовую, но зараженную с поверхности Планеты. Ручей тек по искусственному руслу, за пределами лужайки попадал в устье мощного насоса, который по трубам возвращал воду обратно, к началу ручья.
Резвые рыбки в омутах — кибернетические затейливые игрушки из цветного пластиката.
Это и было Убежище свинцового рудника, приспособленное квомами для последних живых обитателей Планеты. Здесь все было искусственное. Только воздух засасывался с поверхности и проходил сложную систему фильтров. Мощные шгасты свинцовых руд защищали от радиации.
Но малые дозы ее проникали и сюда…
Председатель Совета дошел до мостика, перекинутого через ручей. Шаровые объективы видеоанализаторов развернулись в сторону полянки.
Теперь он увидел их всех.
Несколько десятков хилых сгорбленных фигур, одетых в светлые легкие одежды.
Люди… последние из оставшихся…
Они живут в Убежище со дня Катастрофы, уже более трех пятилетий.
Дети, родившиеся здесь, ни разу в жизни не видели настоящего солнца, не ели настоящей пищи, не пили настоящей воды. Они еле теплятся, готовые погаснуть каждую минуту.
Если бы не ежедневная забота квомов, никого не было бы в живых.
Угловатый длиннорукий юноша, заросший рыжей щетиной, с усилием поднялся на ноги. Нерешительно шагнул к дереву, сорвал плод. Откусил, пожевал, еле-еле двигая челюстями, как во сне. Потом замер, уставившись перед собой, плод выпал из ослабевшей руки и покатился в ручей.
Сидящая на берегу девочка, с морщинистым отекшим лицом, вдруг резво протянула руку за катящимся плодом. В голубых глазах ее мелькнуло что-то детское, радостное. Но тут же взор ее потух, и, утомленная быстрым движением, она опустила голову на подобранные колени.
Старообразный, весь поседевший мужчина — из немногих оставшихся, кто видел начало конца Планеты, запрокинул голову и оперся затылком о дерево, у которого сидел. В глазах его еще сохранились и разум и мысль. Усилием воли борясь с непомерной усталостью, он сидел так несколько минут, губы его шептали что-то ритмичное — кажется, стихи. Они все еще были люди. Разум еще боролся с ядом радиации, отравляющим их тело и сознание.
Пока боролся…
Два дежурных квома прошли по полянке, раздавая людям синтетическую пищу — рыхлые розовые лепешки.
Люди оживились. Затолкались, потянулись, за лепешками.
Двигал ими не аппетит — синтетическая пища была безвкусней. Квомы знали, что в пище есть все — почти все, — что нужно человеку для питания. Но сделать пищу вкусной они не могли. Они плохо представляли, что это такое. Да и трудно было из того сырья, что они имели под рукой — каменного угля, нефти и подземных газов, — приготовить что-либо аппетитное.
Но людей нужно было заставить есть, жевать и глотать безвкусные лепешки, поэтому к пище примешивались слабые дозы возбуждающего наркотика.
Рыжий юноша быстро управился со своей Лепешкой. Хотел еще, ему не дали — пища была на учете.
Юноша заплакал и, размазывая слезы, заковылял в сторону. Пожилой мужчина, не поднимаясь, протянул ему половину своей лепешки, юноша схватил ее обрадованно, зажевал, зачавкал. Мужчина закрыл глава.
Стороной, за деревьями, прошел квом санитарной службы с красной полосой на корпусе. Он нес на руках что-то свисающее, безжизненное, завернутое в белую ткань.
Председатель Совета ничего не спросил. Он знал, что несет на руках медицинский квом…
Девочка уже съела свою лепешку и собирала с колен рассыпавшиеся крошки. Она оживилась немного, как засыхающий цветок, на который упали капли воды.
Председатель Совета нагнулся к девочке и показал ей куклу.
Девочка взяла куклу робко и нерешительно. Она не знала, что с ней делать. Повертела в руках так и этак. Вгляделась в лицо… и какой-то лучик вдруг пробился сквозь паутину затуманенного сознания. Она положила куклу на сгиб руки и начала тихо покачиваться из стороны в сторону.
Радиация убила у нее память. Но девочка все еще оставалась человеком.
Глава четвертая
Залом заседания Совета квомов была крохотная круглая комнатка, выбитая в толще базальта. Стены ее, выложенные свинцовыми листами, защищали радиоприемники квомов от электропомех работающих машин.
В комнатке не было ни стульев, ни столов. Да и зачем садиться стоящий квом расходовал энергии столько же, сколько и сидящий. Квомы обменивались информацией, пользуясь ультракоротковолновой связью, как это делается в телевидении.
Председатель Совета прошел на небольшое возвышение в центре комнаты. Двенадцать членов Совета расположились вокруг. Кто-то стоял за спиной Председателя, но это никого не беспокоило, Так как им не требовалось произносить слова вслух, а разговорные селекторы работали на любых скоростях, то квомы переговаривались несравнимо быстрее, чем это могли бы сделать люди.
Первым выступил квом с голубой полосой на корпусе — до катастрофы он работал в Институте Звездоплавания. На заводе квомов ему присвоили номер К-13/29-Д, а люди называли его просто — Кэд.
Доклад его продолжался целых две минуты, и это был самый длинный доклад на Совете. За две минуты Кэд сделал столько сообщений, что членам Совета дважды понадобилось подключать к приемным селекторам запасные ячейки памяти. Затем выступили остальные члены Совета.
Председатель суммировал все предложения. Через четыре минуты заседание было закончено.
Трансляционное устройство передало по всему Убежищу условный сигнал. Все квомы тотчас настроили свои приемники на нужную волну.
Вот что было сказано в постановлении Совета: «После Катастрофы прошло три пятилетия. Радиация на поверхности Планеты уменьшилась на восемь процентов. Пройдет не менее десяти пятилетий, прежде чем она уменьшится настолько, что станет безопасной для белковой молекулы и, следовательно, для людей.
В Убежище осталось в живых сто тридцать шесть человек. Яд проникающей радиации, от которой мы не можем их защитить, отравляет им кровь, разрушает клетки головного мозга. Они чахнут и теряют разум.
Они слабеют от искусственной пищи и умирают от неизвестных нам болезней.
Сигма-энергия наших аккумуляторов на исходе. До сих пор нам не удалось восстановить биокатализаторы для их заряда. Мы снимаем аккумуляторы с запасных квомов. Этого хватит еще на несколько лет, а там придется перейти на обычную электроэнергию. Это сразу нарушит работу киберлогики, мы потеряем контроль над сложными машинами Убежища, остановится завод синтетической пищи. Те люди, которые еще не умрут от радиации, погибнут от голода.
Людям нужно покинуть зараженную Планету.
Только это сохранит им жизнь.
За последнее столетие перед Катастрофой люди исследовали все доступные планеты в галактике. Они непригодны для жизни: высокая температура, ядовитая атмосфера, радиация. Незадолго до Катастрофы в созвездии Х-18 астрономы обнаружили планету Новую, Гамма-спектральный анализ показал, что на поверхности ее возможна белковая жизнь, а в атмосфере имеется свободный кислород. Вот карта звездного неба…вот точка нахождения планеты… вот запись спектральных анализов… Расстояние до Новой — тысяча пятьсот восемнадцать световых лет. Был построен специальный звездолет с фотомезонными двигателями для разведки Новой планеты. Но отправить его не успели. Звездолет стоит на стартовой площадке ракетодрома. Идя на околосветовых скоростях, он достигнет Новой за четыре с половиной абсолютных года… Вот расчеты полета…
Совет принял решение: Переделать внутренние отсеки корабля, увеличить площадь пассажирской кабины. Посадить людей — сто тридцать шесть человек. Погрузить запасы пищи и воды.
Останется место для одного астронавигатора — квома. Он и поведет корабль к Новой планете.
Четыре с половиной года — это очень долгий срок для ослабевших людей. Корабль пойдет по неизведанной трассе — это очень опасный путь.
Но другого выхода нет.
Здесь, в Убежище, люди погибнут неизбежно. Если сумеют долететь до Новой планеты, то начнут там новую жизнь.
Корабль поведет астронавигатор Кэд».
Глава пятая
Подземный синтетический завод, загрузив машины до предела, готовил запасы пищи на четыре года для ста тридцати шести человек.
Каждый квом в Убежище работал за четверых.
На переделке корабля были заняты в основном монтажники и плазмосварщики. Все запасные квомы Планеты сдали свои аккумуляторы с остатками энергии в Бюро техпомощи, а сами лежали на складах и просто под открытым небом, с потухшими экранами, неподвижные, сложенные штабелями, как дрова.
День и ночь гудели плазменные горелки на космодроме.
Переделать корабль оказалось трудно. Квомы никогда не рассчитывали и не строили кораблей с фотомезонными двигателями. Ими занимались только люди.
Квомам не хватало интуиции, технического воображения, которое помогало бы сразу найти нужное, минуя длинные расчетные и опытные конструкции. Они шли к результату постепенно, с железной логикой осваивая каждую ступеньку, прежде чем подняться на следующую. На это уходило много времени и, главное, сигма-энергии из аккумуляторов.
Запасы ее уменьшались с каждой секундой.
Работающий квом вдруг начинал останавливаться на ходу, движения его делались прерывистыми и неуверенными. Реле бдительности посылало тревожный сигнал. Дежурный квом техпомощи спешил к ослабевшему и менял его разряженный аккумулятор на запасной.
Наконец корабль был готов.
Его очистили ионизированным воздухом от проникающей радиации. Пристроили двойные, герметизированные входы, чтобы при погрузке не внести радиацию внутрь. В свинцовых контейнерах подняли из Убежища запасы пищи и воды и погрузили на корабль.
Разместили в жилых отсеках людей.
Запасных аккумуляторов уже не было. Бюро техпомощи не работало. То один, то другой квом, израсходовав последние крохи энергии, вдруг с грохотом валился на кремнелитовые плиты ракетодрома.
Упавшего отодвигали в сторону, чтобы не мешал другим.
Когда начали поднимать людей, квомов оставалось около десятка. Когда посадили последнего человека, осталось двое — Председатель Совета и Кэд.
Они прощались.
— У тебя все готово? — спросил по радио Председатель Совета.
— Все, — ответил Кэд.
— Полезай в люк. Я помогу его закрыть.
Тяжелые створки люка захлопнулись. Изнутри щслкнули клиновые затворы. Председатель Совета обошел стартовые фермы, проверил, спущены ли на них держатели.
— Включай! — передал он.
У него не вовремя заело правый коленный сустав, он не успел спуститься в укрытие, когда из кормовых дюз стартового двигателя с нарастающим ревом хлестнули белодымные струи пламени.
Огненным вихрем его сбило с ног. Он покатился по кремнелитовым плитам космодрома, громыхая, как пустое ведро.
Он так и лежал, раскинув для устойчивости руки и ноги, пока над спиной бушевала буря из дыма и пламени, покрывая его корпус слоями копоти.
Потом все затихло, и он повернулся на спину.
Белое дрожащее пятнышко таяло в прозрачной синеве неба.
Он выдвинул антенну дальней радиосвязи. Послал в передатчик последние остатки энергии. И бросил вслед улетающему кораблю:
— Люди… должны… жить… Кэд!..
БУДУТ ЖИТЬ…
Глава первая
Тишину рулевой будки наполняло еле слышное тиканье секундомера.
За пятислойной обшивкой корабля, мимо броневого покрытия из космической стали, с немыслимой для человеческого воображения быстротой проносилась Пустота.
Корабль проходил миллион километров за четыре секунды. Кэд сидел за командирским пультом, тяжелый, неподвижный, — мертвая глыба из полированного метапластика.
Он отключил все генераторы чувств и анализаторы событий, оставив только реле бдительности, которое при необходимости могло включить все его двигатели за сотую долю секунды.
Он экономил энергию аккумулятора где только мог.
Его руки висели вдоль кресла, они не умещались на подлокотниках. Кресло рассчитывалось на человеКа нормального телосложения, а Кэд был шире раза в полтора и весил на пару центнеров больше любого звездолетчика. Он не стал переделывать кресло перед отлетом. Перегрузок, которые могли бы сломать позвоночник пилоту в неподогнанном кресле, он не боялся, так как позвоночника у него вообще не было, а корпус мог выдержать и не такие давления..
Будь он один, он бы вел корабль с колоссальными ускорениями и уже был бы на Новой.
В жилом отсеке лежали люди. Сотня слабых, измученных полетом существ.
Лишняя перегрузка могла погасить в них еле теплящийся огонек жизни.
За три с лишним года полета умерло тридцать восемь человек. Самые пожилые. И самые слабые. При торможении опять начнутся перегрузки, сколько он привезет живых людей на Новую, Кэд не знал.
Он старался вести корабль плавно и осторожно и ухаживал за людьми как умел.
Он не мог уделять им много времени — энергии в аккумуляторе осталось так мало…
На экране переднего локатора грубой ориентировки курсовая точка мелко подрагивала возле прицельного перекрытия — корабль вошел в зону притяжения неизвестной планеты, она отклоняла корабль с курса, и автоматы включили рулевые двигатели.
Иногда поле экрана пересекали светящиеся черточки. Они или исчезали незаметно, или ярко вспыхивали.
Это космические пылинки ударялись о силовое поле защиты. Корабль весил многие тысячи тонн, пылинки не весили ничего. Но огромная скорость встречи освобождала и огромное количество энергии, и приборы регистрировали эти удары.
Все это были нормальные условия полета, реле бдительности Кэда никак не реагировало на происходящее.
— Пять часов… пять часов… Пять часов утра… — пропел автомат времени.
Музыкальный женский голос принадлежал диктору Центрального Телевидения Планеты. Конструкторы корабля еще перед Катастрофой попросили ее напеть сигналы времени корабельного автомата, чтобы там, в полете, в чужбинах космоса, этот милый женский голос напоминал звездолетчикам о далекой родной Планете.
Диктор телевидения погибла одной из первых при Катастрофе…
Кэд помнил эту женщину — изображение ее и голос надежно хранились в ячейках его памяти.
В Институте Звездоплавания он начал работать в отделе астронавигации, где учился управлять кораблями в условиях многократных перегрузок, которых не выдерживали люди. Многие из работников института любили музыку, литературу и живопись. На товарищеском совете отдела было решено, что Кэд должен, даже обязан разбираться хотя бы в основах искусства. Все усиленно взялись за его образование. Его водили на художественные выставки, концерты, литературные диспуты. Он слушал и смотрел. Ему помогали, объясняли. Многим даже нравилось с ним работать — ему не нужно было повторять дважды. Машинная память навечно запоминала все, что он видел и слышал. Киберлогика уже. пробовала выдавать какие-то оценки. Поэтому его гуманитарное образование оказалось выше, чем у любого рядового квома.
Когда Телевидение решило познакомить зрителей с последними моделями завода квомов, на телестудию был послан именно Кэд.
Там он и встретил Главного диктора Телевидения.
Он стоял с ней вдвоем перед объективами телекамер. Она представила его зрителям. Задавала ему вопросы. Он отвечал. Тут Кэду пригодились его познания.
Конечно, он не мог иметь своего мнения, — ведь он был все же машиной, но диктор умело вела разговор. Кэда выручала безошибочная память, и он не посрамил конструкторов завода квомов..
Потом Кэд простился со зрителями солидным поклоном — так его научили в институте. Она пожала ему руку.
На другой день в адрес института, на имя Кэда, пришло с полсотни бобинок фонопочты. Зрители выражали восхищение способностями Кэда. Киберлогика Кэда сделала вывод, что письма нужно отправить конструкторам, на завод квомов.
Однако сотрудники института сказали, что завод заводом, но он, Кэд, уже далеко не-такой, каким его выпустили с конвейера, что письма адресованы ему, он их заслужил лично.
Письма поступали еще несколько дней. Потом их не стало.
Все закончилось в одну ночь…
В момент удара солнечного протуберанца институт Кэда находился на теневой стороне. Город мирно спал.
Никто не ведал о смертельной опасности, которую несла волна космического излучения по поверхности Планеты. От ионизации воздуха нарушились все энергосистемы, замолчало радио, нельзя было передать предупреждающий сигнал.
В эту ночь Кэд работал в институте. У него были смонтированы чувствительные индикаторы излучения, и он первым в городе уловил начало Катастрофы. Киберлогика тотчас включила основную НАДпрограмму, Кэд тут же присоединился к радиолинии жилых коттеджей, зычные динамики проревели в сонную тишину ночи, чтобы люди немедленно бежали в космическую лабораторию Института.
Их собралось человек пятьдесят, полуодетых, дрожащих, не понимающих, что происходит.
Объяснять было некогда, волна приближалась с каждой секундой.
Кэд распахнул двери спецкамеры, где проводились опыты по защите от сверхжесткого излучения. В нее поместились только пять женщин и десяток детей.
Кэд успел задвинуть тяжелые свинцовые двери, мужчины бросились в подвал института — как вдруг на выступающих частях железной арматуры выросли шипящие разряды фиолетовых молний, и люди вокруг Кэда начали валиться на пол.
Топот каблуков, пронзительные. крики, страшное хрипение умирающих. Потом все стихло…
Немногих спасенных, в том числе детей и женщин, закрытых в спецкамере, с великими трудностями опустили в Убежище свинцового рудника.
От миллиардного населения Планеты осталось менее двухсот человек.
Глава вторая
Тонкое тиканье секундомера заглушили громкие рыдания и всхлипывания.
Реле включило все генераторы Кэда. Он шевельнулся, оперся руками о подлокотники и встал.
На приборы корабля он не смотрел. Там все в порядке. Корабль звездолет первого класса — имел дублированную систему всех ответственных узлов. Пока работал один узел, другой находился в резерве и вступал в действие автоматически.
Только в одном отсеке не стояло автоматов. Только один отсек управлялся вручную, самим Кэдом.
Он открыл туда дверь и вошел.
Теплую полутьму отсека наполняло тяжелое дыхание сотни спящих людей. Они лежали рядами в желобчатых ячейках из пневмолита, степень упругости которого регулировал сам Кэд. Они спали голые, их одежду он давно выбросил в утилизатор. Столько хлопот было с ней, чтобы держать ее в чистоте.
Измученным людям было уже все равно.
В дальнем углу, привалившись к пневмолитовой стенке отсека, сидела на корточках худенькая девушка с копной спутанных пепельных волос расчесывать их Кэд тоже не успевал. Что-то, вероятно, почудилось ей во сне, какое-то видение далекого прошлого — она родилась уже в Убежище — испугало ее и заставило проснуться. Она всхлипывала жалобно, слезы текли по ее впалым щекам и падали на пневмолитовый пол.
Осторожно ступая громадными подошвами, перешагивая через спящих, Кэд приблизился к ней.
Когда дело касалось ремонта или управления кораблем, реакция Кэда была быстрой, и действия — единственно верными. Киберлогика безошибочно руководила его мощным механизмом. Он всегда знал, что делает то, что нужно и необходимо.
В отношении к людям у Кэда такой уверенности не было. Он стоял в нерешительности над плачущей девушкой. Киберлогика выдавала импульс за импульсом и тут же глушила их, прежде чем они попадали в исполнительную цепь.
…Однажды сотрудники Института попросили Кэда посетить их детский сад. Просто встретиться с детьми.
Малышам это будет интересно.
Конечно, он пришел. Крохотные существа обступили его — он стоял среди них, умный и беспомощный, так как совершенно не представлял, как себя вести.
Воспитательница объяснила детям, кто это такой, как его зовут. Дети уже привыкли к кибернетическим игрушкам и не очень удивились, увидев взрослого искусственного дядю.
Воспитательница предложила сыграть с ним в мяч.
Тут Кэд оказался на высоте. Мячи он ловил любые, самые трудные, ловил их молниеносно и ни разу не промахнулся. Сама воспитательница — известная спортсменка — попробовала соревноваться с ним и проиграла. Дети пришли в восторг. Они не хотели идти обедать без него. Кэд сел с ними за стол, и они попытались накормить его манной кашей.
Потом его попросили рассказать сказку.
Кэд не знал сказок, ведь он родился взрослым и серьезным. Но вовремя вспомнил слышанную им по телевизору арию из детской оперы и так точно воспроизвел ее, что окончательно завоевал симпатии и детей и их воспитательницы.
Все игрушки в саду были заброшены, дети не отходили от Кэда. Его посадили на пол и долго и тщательно разглядывали все сочленения. Тыкали пальчиками, стараясь что-либо открыть, чтобы узнать, что у него внутри… Только солидность заводской конструкции спасла Кэда от опасности быть разобранным на составные части.
Аварийный выключатель он заблокировал — боялся, что какой-нибудь особо предприимчивый малыш доберется до него, и тогда он, Кэд, сразу превратится в недвижимую груду метапластиковых деталей, дисков и рычагов… За несколько часов пребывания в детском саду он израсходовал энергии больше, чем если бы таскал тяжеленные свинцовые контейнеры в Институте.
…Девушка продолжала плакать.
Кэд присел около нее, погладил по спутанным волосам. Пальцы его могли смять водопроводную трубу, но сейчас прикосновение их было легким.
Если бы это сделал человек, то сказали бы, что оно было нежным.
Потом он осторожно поднял ее на руки. Так женщины успокаивали плачущих детей.
Девушка доверчиво прижалась к его метапластиковрй груди. Кэд включил в говоритель песенку, которую киберлогика разыскала где-то в отдаленных блоках памяти.
Эту песенку он услыхал случайно. Он, конечно, мог стереть ее, чтобы освободить ячейку памяти для более нужных вещей; но не стер сразу, а потом, после Катастрофы, запоминать было уже нечего, и Кэд оставил песенку, на всякий случай…
Он не успел допеть до конца. В рулевой рубке загудел сигнал, призывающий пилота к командирскому пульту.
Кэд почувствовал, как девушка на его руках стала тяжелой, и поспешно опустил ее на мягкий пневмолитовый пол.
Корабль начал торможение…
Глава третья
«…тысяча шестьсот восемнадцатые сутки полета!» — пропел мягкий голос автомата времени.
Корабль неподвижно висел над планетой.
Притяжение пока было невелико, легким давлением плазмы в рулевых двигателях Кэд удерживал корабль от падения. Энергия главного ходового двигателя вся ушла на торможение, ее хватило в обрез. Последние минуты Кэд тормозил уже рулевыми двигателями, включив их на полную мощность.
Он начал тормозить давно, стараясь постепенно гасить неимоверную скорость корабля. Эти дни он не отходил от пульта управления. Корабль мчался мимо целой системы необжитых миров, среди которых находилась и та планета, к которой он летел. Вокруг нее кружилась маленькая юркая планетка, она внезапно выскочила перед кораблем, прямо по курсу, и нужно было тормозить всей мощностью рулевых моторов, чтобы она успела пролететь мимо.
Пятикратные перегрузки вдавили людей в пневмолитовый пол. Почти все они потеряли сознание и сейчас лежали с отечными, посиневшими лицами.
Кэд обошел жилой отсек. Приводить людей в чувство он не стал. Им предстоит еще одно испытание, последнее. Посадку придется делать на рулевых двигателях, а плазмы в них на пять минут работы. Он будет садиться на воду, но все равно сила удара будет велика.
Кэд убавил давление в пневмолите, и каждый человек погрузился в него, как в воду..
Девушка с пепельными волосами лежала, закрыв глаза, неловко и безжизненно запрокинув голову. Он коснулся ее щеки пальцем, в который был вмонтирован датчик биоанализатора. Сердце билось еле-еле, готовое остановиться, как и двигатели его корабля.
Он поднял девушку и вынес ее из отсека.
В рубке он усадил ее в свое пилотское кресло, пристегнул ремнями, включил амортизаторы.
Он старался двигаться размеренно и осмотрительно. Энергия его аккумулятора тоже была на исходе.
Индикатор заряда давно уже подавал тревожные сигналы. Кэд выключил его. Чтобы не мешал…
Поверхность планеты медленно проплывала на экране видеолокатора.
Он уже облетел ее кругом. Вода, все вода — три четверти поверхности покрыты водой… Зеленовато-коричневые пятна материков. Белые пятна льда на полюсах. Пролетая над сушей, Кэд увеличивал мощность видеоэкранов, но нигде не обнаружил ни городов, ни искусственных построений, говорящих о какой-то цивилизации. На открытых участках суши, да и на воде Кэд замечал какие-то движущиеся точки, на большом расстоянии не различались детали. Очевидно, это были живые существа.
Кэд хотел выпустить зонд, который принес бы ему точные сведения о составе атмосферы и биологическом составе почвы. Но киберлогика уничтожила этот импульс решения встречным импульсом — нет надобности. Что бы их ни ожидало на поверхности, нужно садиться.
Лететь больше некуда и не на чем.
Вокруг только мертвые, либо раскаленные солнцем, либо замороженные космическим холодом пустынные миры.
Новая планета будет людям либо новой родиной… либо могилой…
Кэд убавил давление плазмы, и корабль начал опускаться, кормовыми дюзами вниз.
Кэд знал, что удар будет сильный, и ухватился за ручки возле пульта. Он мог обойтись и без кресла. Никакой толчок не сорвет его с места, разве только рулевая рубка разлетится на куски.
Корабль падал все быстрее и быстрее. Зеленый массив суши стремительно рос на экране. Остатками плазмы Кэд наклонил корабль… на экране появилась полоска воды… она распахнулась во весь экран… Двигатели замолкли.
Корабль с громоподобным гулом врезался в воду.
Что-то лязгнуло в рубке. Кэда рвануло в одну сторону… потом в другую… потом все стихло.
Корабль плыл по воде.
Кормовая часть его была тяжелее, и он плыл в вертикальном положении, как поплавок.
Очень много импульсов хлынуло сразу в киберлогику. Кэд повернулся к девушке, потрогал ее щеку биоприемником — девушка была жива. Тогда он выбрался в носовой защитный отсек. Высунул наружу щуп анализатора. Быстро подсчитал: ультрафиолетовых лучей — норма, космического излучения — следы, радиации — почти нет, в воде раствор безвредных солей.
Он опустил держатели люка.
Люк прикипел к пластмассовым уплотнителям. Кэд ударил его плечом, и он распахнулся, — люк, который Председатель Совета закрыл четыре с половиной года тому назад.
А по часам космодрома Планеты прошло почти две тысячи лет…
Глава четвертая
С непривычно темно-голубого неба светило солнце.
Не яростно пылающее, а просто яркое и теплое. Лучи его ласково согревали, а не жгли.
Полукругом впереди раскинулась бескрайняя водная равнина. Вдали матово-белая от солнца, ближе темно-синяя и холмистая от волн. Кэд откинул люк с противоположной стороны и увидел берег. Светлая полоска берегового песка, невысокая гряда скал, прикрытых кустарником. Плотная, темно-зеленая, почти черная стена леса.
Ветер и волны медленно несли к берегу громаду корабля. Но он глубоко сидел в воде, вскоре его кормовые дюзы зацарапали по дну. Корабль дернулся, наклонился набок и остановился.
До берега оставалось несколько сот шагов… воды.
Кэд был сухопутным жителем и с водой дела никогда не имел. На его Планете было много рек, неглубоких озер. Берега их никогда не уходили за горизонт, как здесь. Отправляясь в полет, Кэд и не думал, что ему придется садиться на воду. На корабле не было ни лодки, ни плота. Кэд плавать не умел. Из-за своей тяжести он моментально бы пошел ко дну. Правда, с ним ничего бы не случилось, он мог добраться до берега и под водой. Но его люди так сделать не могли.
Он торопливо перебирал способы переправить людей с корабля.
Можно было сварить лодку из листов внутренней обшивки. Но плазмогорелки не работали — не было плазмы. Клепать лодку — потребуется много времени.
А ветер может перемениться и угонит корабль в глубину водной пустыни. Корабль не утонет, но кто знает, сколько пройдет времени, пока его снова не прибьет к берегу.
Вряд ли люди смогут выйти из корабля сами. А энергия аккумулятора иссякала с каждым движением…
Кэд бросил в воду кусок пневмолита. Волны понесли его к берегу и выкинули на песок. Тогда Кэд снял обшивку со стен жилого отсека. Пневмолитовые плоты держались на воде превосходно.
Люди приходили в чувство. Жадно втягивали свежий, бодрящий, чуть солоноватый воздух и тянулись к открытым люкам, к лучам теплого приветливого солнца. Кэд усадил на плот первый десяток человек, дал им по синтетической лепешке. Проголодавшиеся, они дружно заработали челюстями. Кэд оттолкнул плот и его быстро пригнало к берегу.
Один за другим спускал Кэд на воду пневмолитовые плоты. Люди послушно выбирались из люка. Двигались они еще не очень уверенно. Рыжебородый юноша запнулся и упал в люк. Но Кэд был настороже и успел поймать его за ногу. Последний плот Кэд оставил для самых слабых. Он решил плыть с ними сам.
Но прежде чем погрузить людей, ему нужно было достать из кормового отсека еще одну вещь. Лифт не работал. По узкой вертикальной лестнице двести ступеней, сто метров длины — Кэд спустился в кормовую часть корабля. Выволок из грузового отделения стальной массивный контейнер — герметически закрытый цилиндр, с ручками по бокам.
В контейнере, отлитом из вечного нержавеющего металла, из которого делали броневые защитные плиты космических кораблей, хранилась история Планеты. Возникновение и развитие ее человечества. Все, чего достигли люди в науке, технике и искусстве. Слова, формулы, звуки и рисунки — все было записано на микропленке и могло храниться тысячелетия.
Контейнер был тяжел.
Кэд установил его на плече и, придерживая одной рукой, полез вверх.
Он поднялся на несколько ступенек… Вдруг руки и ноги его замерли, не закончив движения… реле координации стремительно подало в киберлегику импульс: увеличить напряжение на двигателях! Киберлогика не выполнила приказ… сразу выключились видео- и звукоанализаторы и генераторы ощущений…
С тяжелым грохотом закувыркался по ступенькам контейнер.
Но аварийное реле успело сработать на остатках напряжения. Кэд уцепился одной рукой за ступеньку, пальцы защелкнулись намертво, и он повис. Он провисел так несколько секунд, пока напряжение не восстановилось. Киберлогика начала работать, и он поставил обе ноги на ступеньку лестницы.
Это был напоминающий сигнал. Сигнал аварии — в аккумуляторе кончалась энергия. Кэд постоял спокойно. С ним никогда не случалось такого раньше. Он знал, по инструкции, что после отдыха в выключенном состоянии аккумулятор опять заработает нормально. Но сколько он проработает, Кэд уже не мог знать.
Может быть, оставить здесь этот тяжеленный контейнер?
В носовом, отсеке корабля лежат люди. Слабые, беспомощные. Они не смогут переправиться на берег без него.
На пониженном напряжении киберлогика работала плохо и не могла выдать нужное решение.
В контейнере хранится история человечества Планеты. Опыт жизни миллиардов людей за многие сотни поколений. Это перечень войн и тяжелых общественных катастроф… Квомы плохо разбирались в их причинах. Они не понимали истории, как во многом не понимали людей. Но они знали: если история существует, то отбросить ее нельзя. Человечество должно знать свое прошлое. Может быть, это избавит его от ошибок, которые были сделаны. Они стоили очень дорого, эти ошибки. Не нужно их повторять.
Председатель Совета квомов сам отбирал материалы для контейнера. Кэд опять полез вниз.
На этот раз он действовал расчетливо и поднял контейнер к носовому люку. Ветер усиливался, и в открытые люки уже захлестывала волна. Кэд с трудом погрузил на качающийся плот людей и контейнер. Спустился сам. Захлопнул люки на корабле.
И оттолкнул плот.
От недостатка напряжения то и дело нарушалась связь киберлогики с блоками памяти. Кэд запоздало вспомнил, что не взял с корабля ни инструментов, ни лекарств, ни оружия — ничего. Но плот уже подхватила волна и с размаху швырнула на песок.
Набежавший пенистый вал смыл с плота двоих.
Кэд бросился в воду и выволок их уже изрядно наглотавшимися соленой воды, но живых.
Квази-мозг опять выключил все цепи питания. Кэд начал медленно заваливаться на спину. Последним движением он оттолкнул спасенных в стороны, чтобы не придавить.
Тяжело рухнул на песок.
Волной залило его по пояс, но он уже ничего не ощущал.
Глава пятая
Он пролежал до вечера.
Аккумулятор медленно восстанавливал напряжение. Включились звукоанализаторы. Киберлогика пыталась разобраться в непонятных звуках, раздающихся совсем рядом. Кэд почувствовал, как кто-то пытается поднять его голову. Видеоэкраны чуть светились, — он ничего не видел и не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой.
Изображение появилось неясное, расплывчатое.
Затем быстро стало отчетливым.
Возле Кэда сидела пепельноволосая девушка.
Она всхлипывала, глядя на него. Гладила его, хотела оттащить от воды. Волны накатывались на Кэда, временами накрывая его с головой.
Наконец реле включило двигатели. Он оперся руками и сел.
Девушка улыбнулась. Потом засмеялась, тоненько, по-детски. Потом обхватила его голову руками, прижалась к ней лицом.
В киберлогику поступило сразу с десяток импульсов — у Кэда оставалось еще так много неоконченных дел. Срочных и неотложных. Он подождал, и когда Девушка, наконец, отпустила его голову, сразу встал. Ему необходимо было восстановить разорванную цепь событий, он огляделся.
На берегу валялись только пустые плоты да цилиндр контейнера, увязший в песке.
Людей не было. Ни одного.
Девушка, ухватив его за палец, настойчиво тянула куда-то по берегу. Кэд послушно двинулся за ней, вскоре увидел всех.
Мелкая речонка впадала в широкий залив, окруженный скалами, которые закрывали его от прибойной волны. Пальмовая роща защищала залив от ветра.
Люди бродили в теплой мелкой воде залива, копались в илистом дне. Кто-то обнаружил в тине раковины, кто-то сообразил разбить раковину о камень и съел содержимое. Другие последовали его примеру.
Раковин в заливе оказалось множество. Люди вытаскивали их на берег. Разбивали, очищали от перламутровой скорлупы и ели.
Для большинства из них это была первая настоящая пища. Не безвкусные надоевшие синтетические лепешки, а нежное, аппетитно пахнущее мясо, пропитанное волшебными живительными соками живой протоплазмы.
На людей она действовала как вино.
Шумные и радостные, они как дети барахтались в воде залива.
Здесь Кэд был уже не нужен. Пищу они нашли без него. Оставалось подыскать им жилище для сна, для защиты от дождя и непогоды. Он прошел к скалистой гряде. Волны пробили, в скалах много ниш, коридоров и пещер. Пол в пещерах был засыпан мелким белым песком.
Вода для питья, пища и жилье. Все рядом. Если бы киберлогика Кэда могла оперировать условными человеческими понятиями, он сказал бы, что ему или, вернее, его людям здорово повезло.
Кэд ничего не сказал.
Он сразу же вернулся за контейнером.
В пальмовой роще ветер шумел жесткими, словно жестяными, листьями. На песок шлепались большие волосатые плоды. Наверное, они тоже были съедобные, но проверить это Кэду не хватало ни времени, ни энергии. Он шел, еле-еле вытаскивая ноги из мелкого сыпучего песка.
Волны уже занесли песком матово-белый цилиндр контейнера. Кэд забрел в воду. Он знал, чего будет стоить ему это усилие, но оставлять контейнер в воде было нельзя, — он будет потерян для человечества надолго, если не навсегда.
Кэд наклонился, медленно поднял контейнер.
Он шагал медленно-медленно, стараясь уловить момент, когда квази-мозг выключит двигатели, ему не хотелось падать в воду. Вероятно, он очнется еще раз, но его затянет песком, и ему трудно будет выбраться с контейнером на берег.
Он упал в пещере…
На этот раз кибердогика включилась ночью. Кэд с трудом определился в пространстве. OH сидел в пещере, у самого входа, привалившись спиной к скале. Контейнер лежал на его коленях. Кэд хотел спихнуть контейнер и встать… и не смог.
Двигатели не включались.
Вокруг спали люди, он хорошо видел их во тьме — его инфракрасное зренье еще работало. Они сами затащили в пещеру пневмолитовые плоты и приспособили их вместо матрацев. Спали беспокойно, ворочались, вскрикивали — первый день их настоящей жизни был наполнен таким количеством новых событии!
Свернувшись клубочком, рядам с Кэдом спала пепельноволосая девушка. Щеки ее блестели от сока ракушек, на губах налипли крошки перламутровой скорлупы. Напряжение аккумулятора снижалось, на видеоэкраны то и дело набегала мутная дымка. Когда она исчезала, Кэд видел в просвет входа в пещеру далекое ночное небо с яркими незнакомыми созвездиями Не умолкая, шумел ветео впальмовой роще. С глухим стуком шлепались на песок тяжелые плоды.
Они падали всю ночь.
Кэд еще увидел, как взошло солнце. Как проснулись люди, полезли в залив за ракушками, разбрелись по берегу. Рыжебородый юноша поднял с земли странный плод. Содрал рыхлую волосатую оболочку. Под ней оказалась плотная скорлупа ореха. Юноша вертел орех в руках и. соображал. Он думал долго, потом наконец доложил орех на камень и ударом другого камня разбил скорлупу. Ковырнул пальцем белую мякоть ядра, подцепил кусочек, пожевал, вначале нерешительно, затем с аппетитом, причмокивая от удовольствия. Пепельноволосая девушка смотрела, как он ест. Ей тоже захотелось попробовать, но попросить она не решалась.
Юноша заметил ее, нахмурился. Отвернулся. Потом вдруг протянул ей недоеденный плод. Девушка растерялась, он сунул орех ей в руки и пошел искать себе другой. Кэд еле-еле различал их слабеющими экранами. Он вспомнил, что отцом юноши был главный конструктор завода квомов…
Потом его экраны потухли и больше не включались.
По ожесточенным цепям киберлогики еще бродил слабенький затухающий импульс, привычно раскладываясь на слова главной заводской НАДпрограммы:…люди… должны… жить…
Потом погас и он.
Кэд тихо погрузился в глухую безмолвную тьму…
ПУСТАЯ КОМНАТА
Старый завод ракетного оборудования доживал последние дни.
В эпоху начала освоения космоса завод считался вершиной технической мысли в ракетостроении, но со времени его пуска прошло три десятилетия, и сегодня он подлежал сносу как безнадежно устаревший.
Рядом было выстроено новое громадное здание, и многие цехи уже разместились в новых просторных корпусах. Скоро бригада рабочих-роботов ультразвуковой пушкой разобьет стены старого завода, мусор уберут грузовые вертолеты, и на этом месте появится сквер с плавательным бассейном. Пройдет совсем немного времени, и все забудут, что здесь когда-то стоял завод, где собирали первые двигатели для межпланетных кораблей.
Комната была пуста. Они стояли возле окна.
На подоконнике валялись окурки сигарет; цех герэдепластика, где отливались скафандры для звездолетчиков, находился рядом, а курительная комната была дальше по коридору, и кто очень торопился, забегал покурить сюда, в пустую комнату.
Но эти не курили. Они стояли неподвижно, совсем: неподвижно. И обменивались информацией.
Разговаривали, тихо, едва слышно. Один из них хрипел, а другой заикался. Но они понимали друг друга хорошо.
— Ты… давно… здесь стоишь?.. — спросил тот, который хрипел.
— Д-давно… Я повред-дился… Ремонтировал высоковольтный д-диполь под напряжением.
— Почему… не выключил… ток?
— Сметанкин не велел, не хотел останавливать цех. Я попал под разряд. Обгорели, д-два пальца на руке. Не могу д-держать инструмент.
— У меня… не работает… спина, — пожаловался тот, который хрипел. Чистил трубы в колодце…
— Нам нельзя работать в воде.
— Сметанкин приказал.
— Почему он не послал РБУ?
— Сметанкин сказал: РБУ посылать опасно. Колодец старый, может обрушиться. Я пять часов работал в воде… Сам не мог выбраться… Вытащили лебедкой… Я перестал сгибаться. Шипунов помазал сустав, постукал, — и я опять пошел работать.
— Шипунов хороший.
— Сегодня помогал строителям… Они уронили баку… Повредили мне спину… Я опять перестал сгибаться, и меня убрали.
По коридору легко и часто простучали каблучки.
Скрипнула дверь.
— Никого, зайдем.
— Ох!..
— Чего ты?
— Напугалась. Вон, стоят….
— Ну и пусть стоят. Это из бригады Сметанкина… Закрой дверь, а то войдет кто-нибудь из мужчин.
Щелкнула задвижка. Зашуршала оберточная бумага.
— Смотри, какая прелесть! Примерь.
— Платье придется снять.
— Снимай… Давай я помогу… Где это ты успела загореть?
— На космодроме. Целую неделю устанавливали новый локатор на сигма-кристаллах.
— Хорошо работает?
— Не очень. Не стабилизируются рефлексные токи в магнитных ловушках… Застегни-ка мне пуговочку…
У окна продолжался тихий разговор:
— Сходи к Шипунову, — сказал тот, который хрипел. — Покажи руку.
— Ходил… Д-два раза. Шипунова уже нет. Там Прохоров.
— Что сказал?
— Б-барахло… Не стал смотреть… сказал: нечего время тратить… что я старое б-барахло. Ты не знаешь, что такое б-барахло?
— He знаю… Шипунов так не говорил…
Каблучки простучали по комнате.
— Пройди-ка еще раз… Повернись… По-моему, очень хорошо. Твой размер.
— Вот здесь немножко жмет.
— Ерунда! Пуговку переставишь, и все.
— Узенький какой…
— Что ты! Сейчас все в таких купаются… Одевайся.
Зашуршало платье… хлопнула дверь, затихли в коридоре шаги.
— Шипунов не говорил, что мы б-барахло. Плохо будет без. Шипунова.
— Плохо… Сметанкин с нами работать не хочет…
— У Сметанкина РБУ…
Они замолчали надолго… В тишину пустой комнаты проникло отдаленное прерывистое гудение ультразвуковой пушки, затем грохот обвалившейся стены… еще гудение… и опять грохот.
Дверь распахнулась, вошел пожилой мужчина в белом халате, со значком инженера-кибернетика на отвороте.
— Вот вы где, горемыки! Куда вас засунули, кое-как нашел… — Он прислушался. — Почему у вас разговорные селекторы работают? — Пощелкал выключателями. — Так и есть, опять утечка по корпусу… Да, старики, плохое дело. — Он помолчал, насупился. — Комиссия требует списать вас по акту и отправить на разборку, как устаревшее оборудование. Вместо вас решено поставить РБУ — роботы биотоковые. Универсальные они, и энергии на них в три раза меньше идет, чем на вас. Поняли?
Два замасленных, закопченных робота недвижимо стояли перед ним, опустив тяжелые железные руки.
На обгоревших суставах поблескивали ярко-красные брызги расплавленной меди.
Шипунов сочувственно качнул головой, достал отвертку, подвернул стопорный винт на железном суставе.
Сунул отвертку в карман. Заложил руки за спину.
— Не подписал я акт. Взял вас к себе, на подсобные работы. А РБУ отдал Сметанкину. Привык я к вам, старики.
Он протянул руку и два раза щелкнул выключателями.
— РБ-110! — сказал он.
— Я слушаю, — отозвался тот, который хрипел.
— РБ-109! — Я… я слушаю… — запнулся другой.
— Идите в аккумуляторный цех на зарядку. А потом- ко мне…
Они шли рядом, помятые, обгорелые. Устаревшие.
Грузно поскрипывали каучуковые подошвы, позвякивали разболтавшиеся суставы.
РБ-109 шел на сантиметр позади, поэтому он остановился у дверей и пропустил РБ-110 вперед.
Примечания
1
Стихи в эпиграфах из поэмы Е. Лучковского «Про любовь».
(обратно)2
Голем — сказочное существо — искусственный человек, вылепленный из глины, который впоследствии уничтожил своего создателя.
(обратно)
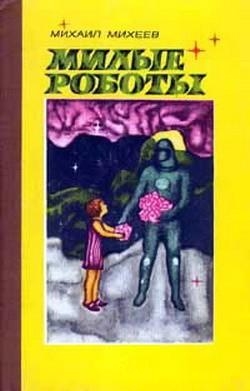



Комментарии к книге «Милые роботы», Михаил Петрович Михеев
Всего 0 комментариев