* * *
— Доктор Рикс! Срочно — город! ОДА!
Женщина выхватила из кармана халата плоскую коробочку коммутива. Нажала кнопку.
— Доктор Рикс? — Голос в коробочке казался сплющенным. — Снова ОДА! Девочка, роды проходили нормально…
Женщина опустила веки — может быть, чтобы никто не увидел в ее глазах отчаяния. Но голос ее в наступившей мгновенно тишине прозвучал спокойно, почти безмятежно, как если бы ей сообщили — ну, что лампочка в прихожей перегорела, например; только свободная рука непроизвольно сжалась в кулак:
— Что предприняли?
— Сразу же, по инструкции, дали кислород. Затем…
Она слушала еще несколько секунд.
— Пока дышит нормально. Однако…
Она перебила:
— Готовьте к перевозке. Сейчас к вам вылетит вертолет.
— Доктор, хотелось бы… Видите ли, ее отец — Растабелл. Она знала, кто такой Растабелл.
— Не волнуйтесь, все будет отлично.
Рука с коммутивом медленно опустилась, бессильно повисла, но лишь на секунду.
— Доктор Карлуски, разрешите… Он кивнул узким, морщинистым лицом.
— Разумеется, доктор Рикс. Я уверен — это вчерашний выброс; следовало ожидать…
На несколько мгновение выдержка изменила ей:
— Шесть наших обращений к этому их правительству, шесть успокоительных ответов — и все на бумаге, только на бумаге… В конце концов, это же их дети, а не мои.
— Ну, что вы, — сказал доктор Карлуски, стянув морщины в улыбку. — Правительства всегда бездетны. Хорошо, что у нас еще есть гермобоксы.
— Еще три, — ответила она уже в дверях. — Что будет потом — не знаю…
— А кто знает? — сказал ей вслед доктор Карлуски.
* * *
Что будет потом, не знал никто. Ни здесь, в Международном Научном центре ООН, располагавшемся в уютном уголке Европы, в Намурии, — ни, пожалуй, во всем мире.
Правда, не было уже той растерянности, что сопутствовала первым подобным случаям — сперва вовсе непостижимым, потому что младенцы рождались вроде бы совершенно здоровыми, были они доношены, выходили правильно, не было ни удушения пуповиной и никаких других бед из числа тех, что подстерегают еще не родившегося. Вскрытия показали, что дети были совершенно нормальными — только их крохотные легкие выглядели как бы сожженными если не кислотой, то удушливым газом; а ведь ничего, кроме воздуха, каким все дышат, не содержалось в родильных залах. Все дышат, а эти вдруг не захотели: один, другой, третий, четвертый — и, как говорится, пошло-поехало. Не только в Намурии, хотя небольшая страна эта сказалась одной из первых, и не только в Европе; другая закономерность, правда, прослеживалась: чем ближе к большим промышленным районам, тем чаще такие случаи происходили, потому что тем меньше оставалось в этих местах того, чем можно дышать. Отказ дышать в атмосфере; вот что такое ОДА.
И в самом деле: можно ли было называть старым и легким словом «воздух» нынешнюю смесь кислорода и азоте со всеми теми неисчислимыми добавками, какими обильно обогащала ее цивилизация: продуктами сгорания твердого, жидкого и газообразного топлива в цилиндрах и камерах автомобилей, тепловозов, теплоходов, самолетов, энергостанций, заводов и фабрик, ракет; отходами промышленности — химической прежде всего, но не только, продуктами сжигания мусора; тончайшей цементной, фосфатной, другой всякой пылью; отбросами горнодобывающей и горнообрабатывающей промышленности — да что перечислять, тут впору заводить Черную книгу, чтобы на множестве ее страниц всерьез заняться поименованием всего того, чем мы за десятилетия усовершенствовали наивно-примитивную стихию, а здесь немеете для этого; добавим только, что уже не воздухом, конечно, была эта смесь — скорее уж следует назвать ее «Аэрозоль-ХХ» — по номеру нашего благодатного столетия и по ее физической сущности. Не будем говорить здесь и о том, что не одна только атмосфера подверглась подобному обогащению, но и мзда, и поверхность земли, и недра ее, да и ближний космос, пожалуй, тоже; попытаемся лишь назвать этот процесс приспособления природы к человеку самым пригодным для этого словом вместо существующего бодрого термина «техническая цивилизация»; словом этим будет война и не просто война, а гражданская. Потому что только на войне убийства происходят не исподтишка, но явно, и почитаются не за преступление, а за подвига — не так ли поступает цивилизация с природой? И не подвигом считали мы разве все достижения вышепоименованной? Подвигом, несомненно; и гордились, и подвигали на дальнейшее в том же духе. Итак, война. А почему гражданская? Потому что в гражданской войне народ уничтожает сам себя, для народа гражданская война — форма самоубийства или, если уж не до смерти, то самокалечения во всяком случае.
Не вчера это уже стало ясным. И не вчера впервые были произнесены власть предержащими во всех концах планеты правильные и весьма достойные слова относительно пресечения, недопущения, исправления, восстановления. Так клянется алкоголик: вот сегодня еще выпью, а с завтрашнего дня — завяжу! Так обещает сам в себе запутавшийся человек: с понедельника начну новую жизнь. Сколько завтрашних дней прошло, сколько понедельников.
Ты еще дышишь, человек? Ну живуч, прямо сказать.
Кто как, впрочем. Кому сейчас, скажем, семьдесят — тем дышится легче. Было время адаптироваться: родились-то они тогда, когда дышать было куда проще. Конечно, двести, или две тысячи, или двадцать тысяч лет назад воздух был еще чище. Но даже семьдесят лет назад над полями и в лесах еще держалась благодать, с неба не лились еще желтые, а то и радиоактивные дожди, а поля и грядки удобрялись более по старинке, навозцем. Так что хоть в детстве подышали вволю, а потом приспосабливались понемножку. Тридцатилетние, особенно горожане — уже другой коленкор: вдыхали аэрозоль с младых ногтей, хотя не столь еще густой, как нынче. Ну, а теперь и вовсе не осталось мест населенных, куда не проникли бы механизмы и химикаты. И вот в разгар научно-технической революции, грозившейся привести благодарное человечество к полному познанию всего на свете и безмятежному благоденствию, детишки как-то уж и вовсе хлипкими стали входить в сей мир, юдоль не слез, но небезвредных отбросов. Естественные компенсаторы и фильтры первыми не выдержали нагрузки, тем более, что их оставалось все меньше; они были природными богатствами, которые человек транжирил вместо того, чтобы разумно жить на проценты. И вот наконец и он, наиболее приспособляющаяся (за исключением разве крысы, клопа или таракана) часть природы, исчерпал, похоже, свои резервы адаптации и выносливости. Так что к тому дню, с которого началось наше повествование, на всех материках уже не на сотни, а, по статистике Всемирной Организации Здравоохранения, на тысячи шел счет представителям разумного вида, при рождении требовавшим для дыхания первобытно-чистого воздуха — или вовсе отказывавшимся жить. То ли мутантами они были, то ли спираль развития вышла на такую вертикаль — но так получилось.
Сперва, как уже сказано, растерялись. Но теперь научились крохотных бунтовщиков сберегать: помещали в герметические боксы, куда подавалась приемлемая для младенцев дыхательная смесь, с ароматом хвои даже. Кормить их тоже приходилось с самого начала искусственными составами из натуральных (по возможности) продуктов. И дети жили, словно драгоценные экспонаты музеев — за броневыми стеклами. Старшему из них во всем мире шел сейчас четвертый год. Самая младшая — вот только что родилась, при нас, можно сказать.
Что будет потом — это, конечно, не только доктора Рикс интересовало, не одну лишь эту молодую, красивую и (под белым халатом) несколько даже вызывающе одетую женщину, но и людей не столь уж молодых, строго одетых и занимавших куда более высокие, а порой даже и высочайшие уровни в мировой иерархии. Но как-то всегда оказывалось, что «сегодня» было важнее, чем «потом». Мир все усложнялся, но дышать не становилось легче. Что же касается людей, общества, человечества, то с ним было, как с ядерным реактором: работает, и взорваться вроде бы не должен. Но — может.
* * *
— Вызывает клиника Научного центра. Вертолет прибыл?
— Да, доктор Рикс, благодарю вас, только что погрузили малышку. Но господин Растабелл очень встревожен. Он…
— Успокойте его.
— Доктор Рикс, а не могли бы вы лично поговорить с ним? Вы специалист, да и американская медицина…
— Позвоню ему, как только дитя окажется у нас и я осмотрю его.
— И еще одна просьба, доктор: если…
Пол под ее ногами ощутимо дрогнул; звякнули инструменты в стеклянных шкафчиках, колыхнулась вода в стеклянном сифоне, листок бумаги спланировал со стола, и закачалась подвешенная к абажуру настольной лампы куколка: фантастический астронавт-десантник с бластером наизготовку.
Физики стали слишком много позволять себе, — мельком подумала женщина. — Совершенно не считаются с тем, что у нас — дети.
— Да, я слушаю: какая просьба? Алло! Вы меня слышите? Но телефон молчал.
* * *
— А теперь, доктор, вопрос на засыпку…
— Честное слово, Гектор, у меня не осталось ни секунды. Надо проверить, как новенькая дышит в боксе, затем…
— Что ж, я могу брать интервью не только на бегу, но и стоя на голове. Скажите: вот вы спасаете этих несчастных. Но что ожидает их потом? Герметичные дома, конторы, цеха, города? Или вы надеетесь научить их дышать той гадостью, какой дышим мы?
— Это задача для ученых. Я всего лишь врач.
— Их становится все больше. Не опасаетесь ли вы, что в один прекрасный день общество возмутится — с непредсказуемыми последствиями?
— Это не мои проблемы, Гектор. Наше дело — убедить власти в том, что надо срочно принимать меры не на словах, а на деле, иначе человечеству грозит гибель в недалеком будущем.
— Какие меры вы считаете необходимыми?
— Любые, которые могут привести к очищению среды.
— Вы верите в возможность таких мер?
— Я оптимистка. Ну, все, на этом — наилучшие пожелания.
— А у меня еще целая связка вопросов. Чем вы заняты сегодня вечером? Что, если я навещу вас дома, в городе? Ваш муж ревнив?
Она усмехнулась.
— Вечером я приглашена на вечеринку — тут рядом, в Сайенс-вилледж.
— И пойдете?
— Почему бы и нет? А вообще, на возникающие вопросы человек должен находить ответы сам.
— Браво, это я использую. Что же, раз так — мчусь в город, к Растабеллу. Думаю, они вот-вот начнут атаковать правительство всерьез — теперь, когда он пострадал, так сказать, лично. Но сперва забегу к вашим сейсмикам: они, кажется, что-то такое засекли.
— Был какой-то странный толчок. Но землетрясений тут не бывает…
* * *
Вот поют, — подумал Милов, — ну прямо соловьи…
Во тьме вспыхнула искра; мгновенный взвизг резанул по слуху, потом глухо загудело — словно в глубочайший колокол ударили: ухнул неимоверным басом, покачался из стороны в сторону и стал затухать. Но Милов успел уже нырнуть в дыру — вход в пещерный лабиринт.
Собственно, и не пещеры это были, скорее катакомбы, тут естественные пустоты, характерные для таких геологических структур, с обширными залами (в одном из них даже подземное озерцо плескалось), которые соединялись вымытыми некогда водой ходами и рукотворными коридорами, в прошлом — горными выработками. В седой древности в пещерах жили, во время Второй войны их использовало Сопротивление, а после нее, хотя и не сразу, проложили несколько маршрутов для туристов; маршруты эти оборудовали электрическим освещением, но стоило отклониться от нахоженной трассы — и человек попадал в первозданную мглу. Входов в катакомбы имелось несколько, все они были снабжены прочными дверями — сперва деревянными, потом их заменили пластинами из котельного железа: чтобы предотвратить несчастные случаи, какие время от времени приключались с «дикими» туристами и с детьми. Одна из этих дверей сейчас оказалась, на счастье Милова, приотворенной, и пули пришлись по ней.
Рикошет, — подумал он, переводя дыхание и напряженно вслушиваясь. — Плохо стреляют, — а странно, они должны уметь профессионально, и по звуку в том числе; но и так ничего, чуть левее — тут бы мне и конец. Конечно, найдись среди них хоть один порешительнее — выпрыгнул бы за мной, и длинной очередью вдоль хода, и все… Если они меня опознали — человек я заметный, их могли предупредить, — то преследовать они вряд ли сунутся, репутация у меня достойная; но уж постараются и живым не выпустить, залягут, как кот у норки: наверняка ведь думают, что я этих ходов не знаю, а если и знаю, то лишь официальные маршруты. Плохо они обо мне думают, плохо…
Он спешил уйти подальше, прикидывая на ходу, как побыстрее и побезопаснее выбраться отсюда, чтобы попасть наконец в Научный центр, найти там одного человека и выжать из него все, что можно, а потом найти другого, уже в городе, и с ним сделать то же самое. Несколько раз Милов свернул почти наугад: надо было сойти с туристской тропы. Сейчас ход расширился, двигаться можно было почти бегом, лишь немного пригибаясь. Воздух был сырой и затхлый — значит, другого входа поблизости не было. Хорошо: никто не успеет забежать и устроить засаду впереди. Подумав так, Милов усмехнулся и еще ускорил шаг. И, словно в отместку за ухмылку, кто-то или что-то долбануло его по лбу с такой жестокой силой, что он не устоял на ногах — рухнул и, кажется, отключился.
Ненадолго, впрочем. Милов пришел в себя то ли от невыносимой, дергающей и стучащей боли в виске, но, может быть, и от слабого, осторожного шороха, что послышался. Милов с силой притиснул висок к холодному,мокрому песку, чтобы умерить боль. Никуда не деться; звуки были звуками шагов, и они приближались осторожно, но упорно.
Значит, решились все-таки пакостники, — подумал он с неожиданным спокойствием, — пошли на добивание… Ну, о такой непроглядности в меня еще попасть надо. Правда, и мне по звуку трудно будет их упредить: здесь многократное отражение. Ладно, пусть они начинают, а я тогда — по вспышкам…
Шаги приближались все медленнее, охотники, видимо, не хотели рисковать. Что же они — даже фонариками не запаслись, дурачье, неужели думали, что я по туристским ходам побегу? — с некоторым пренебрежением подумал Милов. — А ведь готовились, наверное, всерьез… Или просто боятся?.. — Тут шаги и вовсе замерли. Милов старался дышать как можно реже, тише, отбойный молоток в черепе перестал частить. Потом он услышал совсем рядом едва различимый шепот очень удивился: разговаривали по-английски, а не по-намурски и не по-фромски — то были два местных языка.
«Нет, мне помнится, тут пройти можно, надо только опасаться сталактитов, они тут мощные, их не вырубали, это дикий ход».
Странный акцент, — подумал Милов. — Местный, надо полагать. В местных языках я — с грехом пополам… Так вот, значит, на что я налетел; надо было идти поосторожнее, как это я оплошал… О чем это они там?
«Жаль, мне бы хоть фонарик захватить, но кто мог знать?»
«Как тихо… Может быть, мне почудилось, и никто не стонал?»
Второй-явно из Штатов, — решил Милов.
«Нет, не почудилось, я хорошо слышал стон». Это был уже не шепот, а негромкий голос, и Милов едва не присвистнул от удивления: голос принадлежал женщине.
Нет, — подумал Милов, — это не мои друзья-приятели. Это случайный народ. Любовники, может быть — искали уединения и заблудились. Пора объявиться — не то они, от безвыходности, начнут делать что-нибудь нескромное…
Он подтянул ноги к животу, изготовленный было к бою пистолет водворил на место. Бесшумно привстал — и снова ткнулся головой в сталактит, в самое острие, и невольно зашипел.
— Кто там? — вскрикнула женщина испуганно. Сразу же зашуршало: мужчина шагнул вперед, дыхание его сделалось шумным. Он мог сейчас, пожалуй, и напасть, не рассуждая — просто чтобы подавить страх в себе самом.
— Эй, приятель, — по-английски окликнул его Милов — негромко, словно сидел за столиком в кафе и мимо прошел официант. — Осторожно, не запачкайте об меня обувь.
Тот снова остановился.
— Что вы тут делаете? — через мгновение осторожно спросил он.
— Принимаю солнечные ванны, — ответил Милов, чувствуя, как возвращается уверенность. — Предупреждаю: я занял лучшее Место и не собираюсь уступить его просто так.
Тот усмехнулся — просто потому, что того требовало чувство собственного достоинства.
— Меня радует ваш юмор, — ответил он. — Но не окажете ли вы любезность говорить серьезно? Тут собственно, нет ничего смешного…
— Кончайте болтовню — неприязненно сказала женщина; судя по звуку ее голоса, она отступила шага на три-четыре — на случай, если завяжется схватка, наверное. — Не знаю, может быть, пещеры — ваше постоянное обиталище, но нам не хотелось бы медлить.
— Вы совершенно правы, — согласился Милов; он тянул время, чтобы совсем уже оправиться от Можно простудиться. Да и воздух, откровенно должен сказать, снаружи он тоже не заслуживает доброго слова. Дайте нам пройти! — потребовала женщина.
— Обождите секунду, — примирительно сказал Милов, — я попытаюсь встать.
— Вам плохо? Или вы ранены? — спросила женщина и шагнула вперед.
Стойте там! — на всякий случай задержал ее Милов.
Она обиженно хмыкнула, но остановилась, говоря:
— Надеюсь, ваш утренний туалет не затянется? Кофе в постель здесь не подают. Может быть, конечно, дома у вас горничная… Вы из поселка?
— Дома у меня гарем, — сказал Милов и, упираясь ладонями в шершавые стенки хода, стал подниматься.
— Боюсь, что господин не из поселка, — сказал мужчина своей спутнице так, словно Милов был далеко и не слышал их. — Я там знаю всех — и персонал тоже. — Он повысил голос. — Не могли бы вы сказать, кто вы и как оказались здесь?
Милов ощупал пальцами голову.
— Ничего, — вслух сказал он самому себе. — Кажется, обошлось без телесных повреждений, связанных с длительным расстройством здоровья.
— А может быть, он из этих, которые напали на поселок? Поджидал нас? — предположил мужчина. Видимо, темнота придавала ему смелости; вообще-то, судя по манере говорить, он не принадлежал к забиякам.
— Встали? — нетерпеливо спросила женщина. — Поздравляю. А теперь, пожалуйста, пропустите нас, если вам не нужна помощь.
— Боюсь, она потребуется вам, — ответил Милов. — Если не ошибаюсь, вы хотите воспользоваться ближним выходом? Не советую: там ждут меня, но могут открыть огонь, даже не спросив, кто идет. Нервные люди.
— Вы — контрабандист? — нерешительно спросил мужчина. — Извините за такое предположение, — тут же заспешил он.
— Нет, — сказал Милов, — все не столь романтично. Я турист-одиночка, много слышал об этих пещерах, но возле входа меня хотели ограбить и, кажется, даже убить. Оставалось лишь улизнуть сюда, где потемнее.
— Это необычно, — задумчиво проговорил мужчина. — О грабителях у нас давным-давно не слыхивали. Знаете, — оживился он, — скорее, это были… ну, те самые, что в поселке. Вы не знаете разве, что произошло вечером, в Сайенс-вилледж?
— Никогда не бывал там.
— Перестаньте, Граве, — сказала женщина. — Господин хочет сохранить инкогнито. Во всяком случае, английский — не его родной язык.
— Я из России, — сказал Милов вежливо. — Турист.
— Все равно; сейчас все мы сидим в одном и том же джеме по уши. Итак, мистер русский, вы полагаете, тут нам не выйти?
— Милов, — представился турист. — Даниил Милов, и вашим услугам, мэм.
— Очень приятно, Дан. Меня зовут Евой. А это господин Граве. Его воспитание не позволяет, чтобы его называли по имени.
Что делать, — сказал Граве, — мы, намуры, консервативны и, признаться, даже гордимся этим. Но скажите, господин Милф: о засаде вы говорили серьезно?
— К сожалению.
— Я не очень уверен относительно других выходов. — сказал Граве виновато. — Слишком давно не бывал здесь, хотя работаю рядом со дня основания Центра. Знаю только, что выходы есть, но вот где они?..
— Ну же, решим что-нибудь, — нетерпеливо сказала Ева. — Не люблю неподвижности. Ну а вы. Дан — вы и самом деле собирались заночевать тут? Мне такая спальня не по вкусу.
— Ночлег не входил в мои планы, — признал Милов. — Я рассчитывал попасть в Центр — там ведь есть какой-нибудь странноприимный дом, надеюсь?
* * *
— Гостиница, — сказал Граве. — Но в Центр еще надо попасть, а это, я полагаю, сейчас затруднительно. В той стороне один-единственный выход, через него мы и попали сюда. Однако, — в голосе его проскользнула нотка горечи, — в старой тихой Намурии стали происходить невообразимые вещи: там тоже люди с оружием, и мы едва спаслись от них, когда бежали из поселка…
— Так что выбираться придется вместе, — заключила Ева. — Осталось лишь придумать — как.
— Отчего ж не придумать, если подумать… — пробормотал Милов, занятый сейчас другими мыслями. Ни к чему были ему сейчас эти спутники, а в одиночку он, вероятнее всего, прорвался бы; но бросить здесь женщину было бы не по-мужски, а от компаньона ее, похоже, большого толку ждать не приходилось. Ну что же, воспримем, как лишнюю помеху, только и всего.
— Мне известен еще один выход, — сказал он. — Правда, он не для туристов: над рекой, в обрыве; но невысоко. Есть в нем одно неудобство: спуститься вниз там нельзя — берег нависает, подняться — тем более. Можно только прыгнуть в реку.
— Просто ужасно, сколь многого я с собой не захватила, — сказала Ева, — ни пижамы, ни купальника…
— Я тоже, — сказал Милов, — я путешествую налегке. — Он не стал объяснять, что сумку ему пришлось бросить, когда за ним гнались; по счастью, ничего серьезного там не было, опыт давно научил самое необходимое носить в памяти и в карманах. — Да и господин Граве вряд ли предусмотрел такую потребность…
— Вы же видите, господин Милф, у нас с собой ничего…
— Не вижу, как ни удивительно. Здесь не слишком светло, а? Ну что же, раз мы не экипированы, придется лезть в воду в чем мать родила.
— Это будет крайне неприлично, господин Милф, — сурово произнес Граве. — Если бы еще с нами не было дамы…
— Вы знаете, Граве, — сказала Ева, — я не очень любопытна.
— Тем более, что все равно ничего не видно, — добавил Милов. — Впрочем, дело ваше. Только не забудьте, что придется переплывать реку; и из-за обрыва, и чтобы обойтись без неожиданностей.
— Вы полагаете, там тоже опасно? — с некоторым беспокойством спросил Граве.
— Полагаю, тот выход известен не только мне. Итак, плыть придется, а разводить потом костер для просушки — потеря времени, да и небезопасно. Поэтому, плывя, держите одежду над головой.
— Давно так не пробовала.
— Ну, отдадите мне, — сказал Милов. — Верну сухим.
— Вы крайне любезны, — сказала Ева. — Ведите нас, пещерный лев!
— Вы хотели сказать — пещерный человек, — поправил Граве.
— Хотела то, что сказала. Не придирайтесь.
— Нам придется, — предупредил Милов, — миновать тот вход, которым воспользовался я. — Он знал, что обходного пути нет: схема ходов в окрестностях Центра была крепко запечатлена в его профессиональной памяти — Так что — никакого шума. Я иду первым, вы, Ева, кладете руку мне на плечо, а господин Граве замыкает — точно так же.
Он ощутил, как легкая ладонь легла на его плечо.
— Тронулись!
Они шагали молча, стараясь ступать в ногу. Ева сняла туфли и несла их в руке: острые каблуки тонули в песке; ноги сразу промокли. Одно приключение вместо другого, — думала она, ощущая под пальцами твердое плечо. — Хороший свитер, надеюсь, он не какой-нибудь дикой расцветки, хотя от русских, говорят, можно ожидать чего угодно — и прекрасного вкуса, и самого дурного… Напрасно я не надела кроссовки — с брюками вполне уместно… Правда, их снимать труднее. — Тут ее мысли пошли в другом направлении. — Странно и ужасно: еще днем мы жили в цивилизованном мире, пусть не таком зеленом и душистом, как некогда, но все же… Да, мир… В нем прежде всего страдают дети. Я недолюбливала Растабелла, слишком уж он фанатичен и ограничен, хотя и талантлив, конечно, а теперь мне его жаль. Бедная девочка… Растабелл теперь, наверное, и вовсе перестанет сдерживаться, а ведь за ним идут люди, его даже правительство побаивается. Кстати, я ему так и не позвонила. С телефоном никогда такого не случалось. Что-то произошло в столице? Или здесь, в городе? Этот город — как теневая столица: здесь живет Растабелл, и еще многие из его компании, этот странный Мещерски, другие… Лестер давно дружит с Мещерски, у них, по-моему, каки-то общие дела. Лестер. — Слишком много секретов завелось у него в последние два года, и это не бабы — все его налеты на баб мне были известны едва ли не заранее; нет, тут другое — я думаю, он…
Мысли прервались, когда она услышала тихое: «Т-с… стоп». Милов остановился, остальные — тоже, но рука женщины оставалась на его плече, он снял ее пальцы осторожно, почти ласково. Повернув голову, едва уловимо выдохнул:
— Обоим — лечь, только тихо… Скажу — бегите, как на сотке, свернете в первый ход направо — там я вас догоню…
Помедлил еще секунду и бесшумно двинулся дальше. Выход, тот самый, его, чуть серел в кромешной тьме пещерного хода, и более светлым пятном выделялась часть стенки напротив. Ползком? Опасно: кто-то может сидеть у самого проема — незачем подставлять ему спину… Он все же опустился на живот, подобрался, без единого шороха подполз к выходу — сейчас дверь была распахнута настежь, значит, стерегли, иначе заперли бы. Что делать? Ладно, я-то проползу, но те двое — нет, не имею права…
Решившись, он коротко кашлянул — и в ту же секунду ударили выстрелы, пули врезались в стенку хода. Охотники не ушли, у них хватило терпения. Неосторожно мы там разговаривали, — подумал Милов, — громко и долго, и я хорош — потерял ощущение реальности. Так что эти знали, что я возвращаюсь, лишь на долю секунды не хватило у них выдержки — начали стрелять, не дожидаясь, пока голова возникнет в проеме, на сером фоне. Странно все же, кого они против меня послали; профессионалы уже раза два подловили бы. Интересно, что у них тут вообще происходит? Меня об этом не предупреждали. Ну ладно, еще поиграем… — Он не двигался с места, вслушиваясь в шорохи снаружи: там стрелявшие меняли места, хруст их башмаков по гравию был отчетливо слышен. Опершись локтями, Милов медленно изготовился, зная, что сейчас один окажется в поле зрения; там снаружи, казалось, верно, что в ночи их не увидеть, они не понимали, что по сравнению с непроглядностью пещеры ночная темнота была едва ли не ясным днем. Черное появилось; Милов нажал на спуск. Человек снаружи вскрикнул и упал. Снова заскрипел гравий и застучали выстрелы, но Милов лежал сейчас в мертвой зоне, чтобы убить его, надо было подойти вплотную к двери и вскочить в ход, но на это никто не отваживался. Да, странных людей они послали, — подумал он, — хотя и знают, что я ухватился за цепочку… — Нервная пальба заглохла, когда Милов снял еще одного — выстрелил по вспышке. Наступила пауза, и тогда он негромко скомандовал:
— Ну, бегом!..
Он знал, что у них в распоряжении несколько секунд: находившиеся снаружи чуть отступили, решая, какую теперь применить тактику, и можно стало промелькнуть мимо хода. А вот ему самому придется еще выждать: наверняка те все-таки решатся вскочить и стрелять в упор… Граве протопал мимо, Ева тоже — и вдруг остановилась прямо над ним, подставляясь под пули, упала на колени — и он почувствовал прикосновение губ;ее поцелуй пришелся в висок, «С ума сошла! — сдавленно крикнул он. — Дура!» — забывшись, выругался по-русски. Но она уже вскочила, кинулась дальше, и выстрелы извне опоздали на долю секунды. Сумасшедшая девка, — подумал Милов с невольным одобрением, хотя и зол на нее был сейчас. И снова замер: судя по звукам, двое подкрадывались к выходу с разных сторон, держась вплотную к склону, чтобы не подставиться, замерли у самого проема-он слышал их дыхание. Прошла секунда, другая, десятая — тогда Милов шумно вскочил, затопал ногами, оставаясь на месте. И мгновенно один из затаившихся влетел в ход, чтобы ударить в спину убегающему. Милов свалил его — в упор, наповал. И выметнулся наружу, прикончил последнего, не дав ему опомниться. Ну-ка, а что сейчас снаружи — может быть; здесь и выйти, путь-то расчищен…
Он замер на секунду — и выстрелы снова прозвучали, хотя и с дистанции: видимо, заслышав перепалку, сюда начали стягиваться. Милов подхватил пистолет свалившегося у входа — плоский браунинг, оружие непрофессиональное; подскочил к первому убитому — у того был винтовочный обрез, и вовсе ненужный, зато у лежащего в пещере оказался армейский пистолет. Странно, — подумал Милов, — ни одного автомата, нет, как-то не так все происходит, непривычно, любительство какое-то, а меня ведь ориентировали на специалистов… Но больше думать было некогда, и Милов побежал вдогонку своим. Надо было правым ходом пробираться к реке, пока не принялись травить всерьез.
Двое ждали его, как и было условлено. Он подошел к ним, как умел, бесшумно. Те приглушенно разговаривали. «Чужой человек, — говорил Граве, — по-моему, он не заслуживает доверия. Не будь он еще русским…» Милов застыл: интересно было, что прозвучит в ответ. «Подите вы к черту, Граве, — ответила женщина спокойно, — мы ведь не по схеме компьютера пробираемся, там я бы вам доверилась… Да и все равно: своих не бросают. Вы стойте тут, а я вернусь: может быть, его ранили…» «Может быть убили, — ответил в свою очередь Граве, — и вы попадете прямо в руки этим…» — «Чем это здесь пахнет?» — спросила Ева. Милов невольно принюхался: и в самом деле, воздух здесь был немного другим, отдавал чем-то этаким — не бензином, не кислотой, но что-то было в нем постороннее. «Да, — сказал Граве, — что-то такое есть на самом деле…» — «Это запах вашей трусости», — сказала Ева. Граве обиженно засопел, Милов усмехнулся: сказано было не по делу, но весьма определенно. Он беззвучно ступил. «Нет, без меня вам не выбраться, господин Граве, — сказал он, — тут впереди лабиринт, и вы проплутаете в нем до конца жизни, а мне маршрут известен. Тут озерцо впереди, подземное-видимо, в него натекло всякой дряни — вот оно и пахнет. Ваш Центр, видимо, что-то сбрасывает не по адресу». — "Ох, Дан, — сказала Ева, и он с непонятным удовольствием уловил в ее голосе радость. — Наконец-то, а то я уже испугалась. — «Спасибо, Ева, — сказал Милов. — Теперь поторопимся: похоже, что становится все более сыро, словно бы вода выступает снизу — не знаю, отчего. Готовы?» — «Да», — ответила Ева, и он нашел в темноте ее руку и положил на свое плечо. «Двинулись», — сказал он, и они пошли. Под ногами уж ощутимо хлюпало, хотя уровень реки находился намного ниже, это Милов помнил. Сплошные загадки, — подумал он, идя с вытянутыми вперед руками — одна прямо, другая чуть выше головы — чтобы не налететь ни на что сослепу.
Выбраться удалось благополучно; три мягких всплеска, прозвучавших почти слитно, не нарушили черного безмолвия ночи ни окриком, ни выстрелом. Вода была не холодной, но какой-то скользкой, маслянистой, противной по ощущению и запаху. В этой реке уже лет пять не купались, наука и техника своего добились. Трое поплыли к противоположному, правому берегу не быстро и бесшумно-равняясь по женщине, она плыла медленнее других, и Милов все время держался рядом — греб он одной рукой, другую, со своей и ее одеждой, держал над головой.
Добравшись до берега, трое вздохнули облегченно: пусть и бессознательно, в воде каждый из них каждую секунду ожидал выстрелов вдогонку, а здесь уже можно было как-то укрыться. Пригнувшись, пробежали в прибрежный кустарник. Граве на бегу закашлялся. Нет, все-таки в пещере воздух был чище, — подумал Милов. Среди кустов он, не одеваясь, стал рвать жухлую траву, обтираться пучками — кожа требовала, чтобы с нее сняли грязь, экскременты цивилизации, Глядя на Милова, стали вытираться и те двое, только Ева отошла чуть подальше, заслонилась кустом, Милов покосился туда, где двигалось тускло-белое, невольно сбивавшее с нужных сейчас мыслей женское тело. Вдруг вспомнил, как они с Аллочкой вот так, среди ночи купались в Оке; сколько же это времени прошло? Он не стал подсчитывать, ни к чему было. Одевшись, все трое поднялись на пригорок и присели, чтобы оглядеться и собраться с мыслями, Ева же — еще и для того, чтобы растереть совершенно окоченевшие ступни.
Отсюда, с холмика, открывался хороший вид на Научный центр, и можно было залюбоваться гигантским, хорошо ограненным, сияющим огнями монолитом хрусталя: именно таким представлялся отсюда главный корпус. На Центр денег не пожалели, начиная уже с проекта, строили всем миром и собрали в него едва ли не все лучшее, что только существовало в современной науке — чтобы умерить национальные и державные амбиции и принести побольше пользы всем, а не сидеть по углам, общаясь через журналы. Время на Земле стояло вроде бы спокойное, разоружались искренне, снова начали ощущать забытый было вкус к жизни, без сердечного сбоя поднимать глаза к небу, не опасаясь, что безоблачная глубина вдруг разразится дождем тяжелых семян, из которых вырастают гигантские грибы, дышащие ветром пустынь. Из оружейной науки пошло в цивильную так много, как никогда еще: демонтировали ракеты и боеголовки, но технологии оставались, и оставались мозги, серое вещество требовало нагрузки. Международный штиль позволял людям из разных, порой очень различных стран общаться и работать без задних мыслей; не то, чтобы все противоречия в мире разрешились, этого придется — все понимали — ждать еще долго, долго, — но все же человечество куда больше почувствовало себя чем-то единым, планету — неделимой территорией, где границы, оставаясь на своих местах, перестали быть стенами или занавесами — если и не для политиков, то уж для ученых — во всяком случае. Поэтому такие вот центры — и отдельных наук, и синтетические, и технические — возникали все чаще; ведь и с деньгами в государственных бюджетах стало полегче: демонтаж ракет обходился все-таки дешевле, чем их строительство и испытания. Так что золотой век если и не наступил, то уже, по крайней мере, мерещился где-то не в самом далеко. Даже такое многотрудное дело, как нахождение взаимоприемлемого компромисса между цивилизацией и природой, начинало казаться в конечном итоге осуществимым — но не сразу, не сразу, конечно.
Оттого-то и бывало так приятно, — думала Ева, яростно растирая ступни и лодыжки, совсем уже потерявшие чувствительность, — приходить сюда вечерами по изящному мосту, прекрасно вписанному в пейзаж, и смотреть — не с этого дикого пригорка, но с другого холма, повыше, куда и лестницы удобные вели, и вершина была выровнена и забетонирована, имелось, на чем посидеть, и напитки и легкие закуски продавались в изобилии. Приятно было любоваться сияющим хрустальным монолитом, привычно узнавая и административный этаж, и ярусы ресторана и увеселительных заведений, а выше — технические службы, а еще выше — этажи математиков, физиков, экономистов, правоведов, философов, теологов наконец. Клиника, как и полагается,находилась не в Кристалле, а в собственном здании, на отшибе, как и многие другие институты; однако лабораторию ОДА разместили, когда стало необходимым ее создать, именно в монолите, потеснив историков и филологов, специалистов по мертвым языкам: жизнь предстоящая как бы вытесняла память о былом, но это лишь казалось, потому что чистый воздух, которого требовали пациенты лаборатории, был намного древнее и мертвых языков, и старейших мифов — не говоря уже о каких угодно письменных свидетельствах. Такое решение было понятными клиника, с ее постоянной угрозой переноса инфекции, для младенцев ни как не подходила, а свой собственный корпус, не с десятком гермобоксов, а с сотнями, должны были заложить лишь в конце года, чтобы открыть его весной. Да, и Кристаллом можно было любоваться, и многими другими сооружениями, среди которых даже самые прозаические по назначению выглядели маленькими шедеврами архитектуры и инженерии, — да такими, собственно, и были, хотя поражали не столько красотой своей, сколько неожиданностью. Жизнь цвела и двигалась во всех этих строениях, в переходах, воздушных и подземных, и на автомобильных аллеях и стоянках, и на вертолетной площадке на самом верху Кристалла — одним словом, везде. Кроме разве парка; так называлось пространство вокруг небольшого пруда (официально его предпочитали называть озером), упорно зараставшего всякой дрянью, — эта часть территории была засажена деревьями, еще не так давно совершенно здоровыми, а теперь несколько привядшими, как и везде, и газоны разграфлены аллеями: предполагалось, что там будут в свободные часы прогуливаться корифеи науки, а поучающиеся станут с жадностью; подхватывать их глубокие мысли и безумные идеи; ученые, однако, эту рощу невзлюбили, потому что от пруда несло откровенной тухлятиной научно-технического происхождения — зато ночами там собиралось множество кошек..
Правда, окрестное население, — такое было, — уже не раз и не два выражало неудовольствие самим существованием Центра, от которого якобы передохла рыба, и хорошо еще, если только рыбой дело ограничится. Жители даже, наняв адвоката, составили однажды петицию, в которой требовали перенести науку куда-нибудь, хоть в центр Антрактиды, а их, туземцев, оставить в покое и презренном невежестве. До суда, однако, не дошло, потому что истцам резонно ответили: во-первых, что если не Центр, то тут воздвигли бы что-нибудь еще погромче, погрязнее, подымнее и поядовитее: прогресс нельзя остановить, и всякое место, на котором можно что-то построить, никак не имеет права оставаться в первозданной запущенности; и во-вторых, — в Европе полно продовольствия, куда же местные фермеры станут девать продукты своего труда, если Центр вдруг исчезнет с лица земли? Даже и русский рынок ведь не бесконечен. Обитатели окрестных ферм и деревень смирились, по крайней мере внешне, а к тем, кто все еще ворчала — привыкли. Как-никак. Центр платил хорошо и хорошими деньгами, настоящими. Так что и днем и ночью научно-технический прогресс являл здесь миру свой лик — несколько надменный и самоуверенный, но исполненный выражением заботы о всяческом расширении Знания — на благо людей, разумеется, кого же еще.
И сейчас, ночью, взгляду с пригорка, поросшего травой, что начинала сохнуть, едва успев проклюнуться, и болезненным, тоже как бы расхотевшим расти кустарником, лик этот казался настолько внушительным, успокаивающим, обнадеживающим, а элегантные линии строений — такими неизменно-вечными, что уже не верилось, что вот еще только минуты тому назад людям приходилось спасаться в узких пещерных ходах и убивать других, чтобы не быть убитыми этими другими — по причинам, пока еще совершенно непостижимым. Успокоение внушало и несильное, зарево, поднимающееся далеко отсюда, за лесом, над небольшой очень надежной АЭС, делавшей и Центр, и насело ученых совершенно независимыми от всей остально Намурии. Когда ставили Центр, энергии в стране не хватало, большая гидростанция только еще строилась и Центру удалось получить разрешение намурийского правительства, что обошлось, правда, недешево. Теперь ГЭС уже давала ток, обширное водохранилище заполнилось до проектной отметки, затопив, правде с десяток селений — естественно, без человечески жертв, остальное же, с точки зрения прогресса, сожаления не заслуживало.
Да, красиво все это было и внушительно, Но стреляли-то — почему и зачем?
* * *
— Так что же все-таки у вас стряслось? — поинтересовался Милов.
Уже почти совсем оправившись после неожиданных приключений, волнений, страха и вынужденного купания, они все еще сидели, чувствуя себя в относительной безопасности и как бы оттягивая мгновение, когда, придется встать и, очень возможно, снова подвергнуть себя каким-то угрозам. Было тихо — только Граве временами громко и каждый раз неожиданно икал — вернее, никак еще не мог согреться.
— Да перестаньте, — сказала Ева, — уймите свои страхи и не нарушайте торжественной тишины.
— Я не боюсь, — возразил Граве. — Просто я так реагирую на охлаждение. Вы спрашиваете, что стряслось, господин Милф? Нечто такое, что не укладывается в моем сознании. Нечто небывалое, скажу я вам Вот именно. Поселок жил своей нормальной вечерней жизнью, поселок, в котором живут ученые и кое-кто из служб Центра. Ну, вы представляете, как в таких поселках проходят вечера…
Черта с два я представляю, — подумал Милов. — Ни когда не жил в таких поселках, да и с учеными что меня общего? С этими одно, пожалуй: я тоже представляю здесь ООН — только в другой области деятельности. У каждого свои проблемы…
— Ну, разумеется, могу себе представить, — ответим он вслух.
— И вот в этот спокойный, совершенно благопристойный, могу вас заверить, поселок внезапно врываются какие-то… Не знаю даже, как их назвать,..
— Психи, — сказала Ева.
— Во всяком случае, какие-то совершенно неприличные люди, хулиганье. Вооруженные — пистолетами охотничьими ружьями, не знаю, чем… Врываются в коттеджи. И начинают, вы не поверите, избивать людей крушить все вокруг себя — мебель, посуду, лампы, книги, бьют окна… Я как раз занимался терминалом в доме профессора Ляйхта. Они разбили весь компьютер, это акт вандализма, нет другого слова… Меня сильно ударили в спину, я вынужден был покинуть дом. Я хотел сесть в свою машину и уехать, но на стоянке было множество таких же головорезов — боюсь, что машина может пострадать… Тогда я побежал ко входу в пещеры. В этом направлении бежали и другие, за нами гнались, но мне удалось ускользнуть — мне и вот доктору Рикс… Это было ужасно, ужасно-они избивали людей, стреляли — я надеюсь, что в воздух, но выстрелы раздавались совершенно отчетливо…
— Интересно, — пробормотал Милов. — Откуда же они взялись?
— О, на этот вопрос я, к сожалению, могу ответить совершенно точно: это были местные жители, фермеры, сельскохоэяйственные рабочие… Да, как ни постыдно — это 6ыли намуры; а ведь мы испокон веку отличались спокойным, уравновешенным характером; если бы это совершили фромы, я, откровенно говоря, не очень удивился бы; поверьте, мне чужда всякая национальная ограниченность, я ни в коем случае не расист,но фромы есть фромы, это вам скажет кто угодно…,Но это были намуры, господин Милф…
— Люди бежали, — добавила Ева, — как я заметила, главным образом к Центру; а куда еще можно было деваться? Надеюсь, им удалось добежать.
Граве снова икнул. Ева подошла к нему, села рядом, сказала что-то успокоительное. Милов краем уха услышал их разговор, думал же о другом. Нет, это все к нему отношения не имело. У меня другая задача, — думал он. — Главное — оказаться в нужное время в нужном месте, не то груз опять уйдет — и канет неизвестно куда, как и в прошлый раз. Нет, чую — цепочка не зря ведет через этот самый Центр…
— Простите? — спохватился он, поняв, что обращаются к нему.
— Я говорю: скорее всего, это месть фермеров. Центру не следовало отказываться от закупок. Это было так неожиданно и для фермеров столь болезненно… Нет, я не оправдываю их, не поймите превратно, но ведь они на это рассчитывали, и вдруг…
— Вовсе не вдруг, — не согласилась Ева. — Мы их уже не раз предупреждали: содержание нитратов в овощах выше всяких допустимых пределов. У Центра достаточно денег, чтобы получать за них доброкачественную пищу.
— Простите меня, доктор, но это эгоизм, — сказал Граве обиженно, — Конечно, вы иностранка, но мне, намуру, не все равно, как будут жить наши фермеры.
— Понятно, — сказал Милов, хотя рассуждения Граве его совсем не убедили. Впрочем, чего не случается на свете… — Значит, поселок они разгромили? — Он встал, с удовольствием потянулся. — Ну, кажется, мы достаточно отдохнули… Глядите-ка, а ведь там уже не так темно, как было только что!
И в самом деле, облака над местом, где находился поселок, словно бы посветлели.
— Ну, слава Богу, — сказала Ева. — Значит, все кончилось, люди вернулись. Может быть, и мне?.. — подумала она вслух. Милов смотрел на облака; они становились все ярче, зарево разгоралось неровно, как бы играя — но упорно. «Если это поселок, то он горит, — сказал Милов, — другого объяснения не нахожу». После этих слов они смотрели молча. Потом Граве сказал: «Да, это, несомненно, пожар. Колоссальный. Какой смысл был исправлять компьютер, который все равно сгорит?» «Господи, — пробормотала Ева, — ну, почему, почему? За то, что мы не купили у них сколько-то тонн капусты или томатов? Это же немыслимо и бессмысленно, это невозможно понять!» «Ну, — сказал Граве, — люди бежали в спешке, кто-нибудь забыл выключить нагревательный прибор, а от этого до пожара — один шаг». «Пожалуй, нет, — сказал Милов. — Очень уж бойко горит. Случайный пожар не распространяется так быстро: ветра почти нет. Тут скорее поджог, с разных сторон одновременно. Очень благородно с их стороны, что хоть людей выгнали из домов». Ева усмехнулась, сказала: «Ну, меня-то не очень выгоняли — наоборот, несколько молодых людей хотели задержаться со мной в доме. Юнцы, физиономии в прыщах, решили, видимо, познакомиться вплотную. Да, вот еще: у них на груди у каждого был пришпилен дубовый лист — по-моему, не настоящий, а то ли пластиковый, то ли матерчатый… Отличительный знак, так сказать».
— Как бы там ни было, господа, — сказал Граве и тоже встал, — надо идти. Машины наши, вероятно, погибли, но моя застрахована, и ваша, доктор, тоже, надеюсь? Воспользуемся ранним автобусом, пойдем к мосту, там он делает остановку. Да, да, я понимаю, очень прискорбно, но сейчас мы никому и ничем помочь не в состоянии — кроме наших семей. Вот и поспешим к ним. Или вы собираетесь оставаться здесь до скончания веков?
— Боюсь, — сказала Ева, — что скончание веков уже насупило,
* * *
Мужчины повернулись к ней. Ева стояла, вся подавшись вперед, глядя туда, где за лесом, едва проступавшим на левом берегу, в отдалении (за годы лес медленно, но решительно отступил от реки, которая вместо жизни — или вперемешку с нею — несла все более концентрированную гибель; у деревьев, надо думать, есть какой-то свой инстинкт, и если каждое в отдельности уйти от опасности не может, то лес в Целом такой способностью обладает, так же, как и противоположной: возвращаться, когда угроза миновала и враг леса — цивилизованный человек — оказался вынужден убраться прочь) — за лесом стоял город, и хотя отсюда не увидеть было и высочайшей из его кровель или башен, но и над ним должно было светить ночное зарево; однако сейчас в той стороне было совершенно темно, и для всех, исключая Милова, в этом было неестественное и страшное.
— Ни искорки, — сказала Ева почти жалобно. — Ни проблеска…
— Наверное, перебой с энергией, — услоконя Милов. — Это лучше, чем пожар.
— Знаете, господа, — неожиданно откровенно произнес Граве, — мне страшно. Не напрасно ли мы успокаиваем себя?
Ева вцепилась пальцами в его плечо, тоже напуганная молчаливым мраком, которого даже горящий поселок не мог одолеть.
Милов остался как бы в одиночестве. Он был чужаком тут, и не его город это был, и дела у него были свои, особенные, его спутников совершенно не касающиеся. Наверное, пора было прощаться с ними и следовать своим путем; город пока его не интересовал, его очередь, города, должна была наступить позже. Надо было уходить, иначе он рисковал попасть в жестокий цейтнот. И все же что-то мешало вот так сразу повернуться и двинуться своим путем. Может быть, как раз потому, что был он здесь посторонним, он сохранял способность думать трезвее и, не имея пока никаких доказательств, как-то нутром, что ли — чувствовал: что-то не так, не в отказе покупать капусту было дело, а значит, инцидент мог оказаться не единственным, и опасность, какой бы она ни была, далеко еще не миновала; интуиция говорила так, а он привык доверять ей. Он уже повернулся было, чтобы поторопить спутников, но те и сами вышли, наконец, из своей бездвижности.
— Я чувствую, как Лили зовет меня! — патетически сказал Граве. Дрожь его прошла, голос звучал едва ли не героически. Ева же, напротив, попыталась погасить волнение насмешкой.
— Браво! — сказала она. — Вот заговорил мужчина. А вы, Дан, не спешите спасать свою благоверную? Туристы ведь ездят семьями. Где вы, кстати, ухитрились потерять ее? Или она предоставляет вам неограниченную свободу действий?
(Черт знает, что я говорю, — подумала она сама. — Зачем).
— Я езжу один, — сказал Милов. — Догадался своевременно развестись — давным-давно.
— О, — сказала Ева, — куда только смотрят женщины? Какой шанс упускают! Ну, пора идти. Вы, надеюсь, с нами? — Это был даже не вопрос, но утверждение.
— С вами, — сказал Милов, прикинув еще, что до Центра добраться куда быстрее по шоссе, доехав на автобусе до перекрестка. — Во всяком случае, часть пути проделаем вместе, а уж там — помашу вам рукой на прощание.
— Значит, бросите нас на произвол судьбы, — сказала Ева.
Вместо ответа Милов протянул оба захваченных в пещере пистолета:
— Возьмите на всяким случай…
— Нет-нет, от этого избавьте, — сказал Граве и спрятал руки за спину. — У меня нет разрешения полиции на ношение оружия, и я не вправе…
— Давайте, Дан, — кивнула Ева.
— Справитесь?
— Ну, я современная женщина. Не беспокойтесь.
— Гм, — сказал Милов несколько смущенно и засунул второй пистолет в карман. — А я-то надеялся избавиться от лишнего груза. Господин Граве, вы можете получить его, как только попросите.
— Нет-нет. Очень вам благодарен, но… Обождите, господин Милф, нам же не в ту сторону! Мост-там!
— Знаю. Но вы уверены, что на мосту — чисто?
— А вам нужно, чтобы было подметено? — не утерпела Ева. Милов усмехнулся:
— Простите, это жаргон… Понимаете ли, у меня есть сильное подозрение, что там не безопасно. Поверьте: охота на людей — старый, но вечно увлекательный спорт. Поэтому я предлагаю идти вброд.
Это говорилось уже на ходу; они все прибавляли и прибав-ляли шагу.
Трое шли, наискось приближаясь к воде, и Милов, как и в пещере, шагал впереди — уверенно, словно был гидом и не раз водил экскурсии по этим местам. Граве этого даже не заметил; торопливо переступил короткими ногами, он был душою уже весь в городе, у себя дома, рядом с Лили. Ева оказалась наблюдательнее: и потому, что была женщиной, и еще, наверное — ничья судьба не волновала ее настолько, чтобы совершенно отвлечь от реальности. Увязая каблучками в песке, она нагнала Милова и пошла рядом.
— Вы говорили, что впервые здесь, Дан?
— Так оно и есть. Что вас смущает?
— Слишком уж уверенно идете.
— Я опытный путешественник и заблаговременно изучаю местность по картам.
— И на них обозначен каждый брод? Милов усмехнулся.
— Дан, вы…
— Что, Ева?
— Нет, ничего. Милов замедлил шаг.
— Что такое? — Она невольно перешла на шепот. Он ответил так же:
— Кусты на берегу. Стойте тут, я проверю. Шагнул — и растворился в темно-серой мгле. Еве сразу стало зябко. Река плескалась совсем рядом, и в стороне — выше по течению — на поверхности воды играли блики: строенный из дерева поселок горел так сильно, что отблески пламени достигали даже реки. Граве стоял у Евы за спиной, громко сопя.
— Нет, нет, — вдруг сказал он в полный голосом. Все чушь. Нелепость. Земледельцы сошли с ума, но это еще не зчачит…
Ева, не поворачиваясь, нашарила его руку, стиснула до боли.
— Граве, смотрите… Видите?
— А что я должен увидеть, доктор?
— Да не вверх глядите, а на воду! Что-то плыло по течению — темное, удлиненное, слишком маленькое, чтобы оказаться лодкой.
— Да, вижу. Какая-то колода, я думаю.
— Граде, я боюсь…
То плыл труп. Река несла его неторопливо, словно в торжественной похоронной процессии. Милов возник неслышно, как и ушел.
— Идемте, — сказал он. — Тут спокойно.
— Дан, я не полезу в эту воду… в ней плавают мертвецы. Ужасно!.. Что это значит?
— Что убивают людей.
— Но почему, зачем?
— Боюсь, что мы это скоро узнаем. Мужайтесь, Ева, другого пути нет. — Он остановился у самого уреза воды, прислушался. — Тут.
— Ладно, — со вздохом проговорила Ем. — Только на этот раз я пойду последней: уж очень густой загар ложится на голое тело от ваших взглядов.
Они медленно двинулись, слышался только легкий плеск, к лишь однажды Ева издала сдавленное «Ох!» — оступилась, видно, однако справилась и шла вместе со всеми, не отставая. «Вы осторожно, — тихо сказал Милов, — тут дно паршивое». «Это я уже поняла», — так же приглушенно отозвалась женщина.
Вода, которую они расталкивали сначала бедрами, потом грудью, казалось, стала еще жирнее, неприятнее на ощупь, чем была, в ней попадалось больше всякого плавучего мусора, потом проплыли еще два трупа, один-ближе к левому берегу, к которому они направлялись, другой проскользнул почти рядом: он плыл лицом вверх, но черты лица было не разглядеть, еще слишком темно было, и Милов лишь понадеялся, что это не тот был, чей снимок он видел и запомнил, кого нужно было встретить в Центре не далее, как утром, которое все приближалось.. Милов ногой нащупывал место для каждого нового шага, середину они уже миновали — и вдруг с левого берега неожиданно и сокрушительно хлестким потоком голубого света ударил прожектор, уперся в правый, теперь уже дальний берег, подполз к воде, осторожно опустился на нее и начал высвечивать, но не равномерным сканированием, а рывками, зигзагами-видимо, управляли им люди неопытные. После едва ощутимой заминки Милов прошипел: «Нырять!» — настолько повелительно, что у спутников его не мелькнуло и мысли о неподчинении. Головы скрылись под маслянистой поверхностью, луч прошел мимо, хотя и под водой свет был так силен, что ощущался даже кожей. Ева, начав уже задыхаться, первой высунула голову, волосы ее повисли, словно водоросли, с них стекала вода, едва слышно журча. «Прощай, красота», — пробормотала она с печальной насмешкой. «Быстро к берегу!» — скомандовал Милов. Они зашагали, расталкивая воду теперь уже коленями, не стесняясь более шума: тут и сама река не молчала в неровностях берега. «Глаза щиплет», — пожаловалась Ева. «Надо было зажмуриться плотнее, тут вам не Майами Бич, — сердито выговорил ей Милов. — Ну-ка, давайте сюда». Они были уже на берегу, на песке, и Милов, повернувшись, подступил вплотную к женщине — она отчаянно терла глаза пальцами, но легче не становилось, — с силой отнял ее руки, взял голову Евы в ладони. «Да не жмурьтесь сейчас! — тихо прикрикнул он. — Раньше надо было, там, в воде!» Ева машинально положила руку на его плечо, он и не почувствовал вроде бы, приблизил свое лицо к ее, пегому от растекшегося грима (Граве возмущенно отвернулся и поспешил отойти подальше, происходившее выходило, по его мнению, далеко за всякие мыслимые пределы приличий) и стал языком вылизывать ее глаза, поминутно сплевывая. Она стояла покорно и еще секунду оставалась так, когда он уже отошел, и только после этого вдруг едва не захлебнулась дыханием, словно придя в себя. Граве в отдалении успел уже обтереться травой и теперь поспешно одевался, бормоча: «Господа, я сильно опасаюсь, что мы опоздаем…» Луч прожектора широко промахнул поверху, но теперь они его не боялись: они были внизу, под обрывом, а прожектор — высоко на берегу.
— Как фильм о войне, — сказала Ева, одеваясь. — А я думала, что такое никогда не повторится…
— Нет, — сказал Милов задумчиво, — на войну не по-хоже, но и на полный мир тоже. Трудно сказать, что происходит, но думаю, что мы не зря пренебрегли мостом.
— Я сейчас мечтаю о примитивной вещи, — сказал Граве; он приблизился к ним медленно, как бы опасаясь какой-то новой нескромности, что было бы, по его затаенное мнению, совершенно неудивительным: русский, американка — чего еще можно от них ожидать?.. — Да, о крайне примитивной: добраться до дому, поцеловать жену, лечь в постель, а утром, проснувшись, узнать, что все это наваждение кончилось — и забыть раз и навсегда.
— А если я не хочу забыть? — подняла голову Ева. — А вы, Дан? Мне было хорошо, Дан, когда мы так стояли.
— Господа, — просительно сказал Граве, — сделайте одолжение… Мы, намуры, относимся ко всем аспектам морали чрезвычайно серьезно… Мы — спокойный, уравновешенный народ, мы любим тишину и порядок во всем.
— Это заметно, — сказал Милов. — А сейчас ведите нас, Граве.
Идти по влажному песку было легко. Все более светлело. Поселок вдалеке, видимо, уже догорал — зарево совсем ослабло, пламя не поднималось столбами, и река казалась теперь черной, как только что заасфальтированная дорога. Почти ничто не нарушало тишины; впрочем, это, может быть, сюда, под обрыв, не доносились звуки: и Центр, и город были там, наверху. После очередного порыва ветерка Милов принюхался.
— Бензин? — предположил он вслух.
— Ну вот, пора подняться, — вместо ответа проговорил Граве. — Тут должна быть тропинка, попробуйте отыскать ее, господин Милф — я плохо вижу при таком свете.
— Обождите, — Милов медленно прошел вперед. — Кажется, вот она. Да, похоже.
— Да, — сказал Ева, — а тропинок на вашей карте не было?
— Таких — нет. Я поддержу вас, Ева, тут круто. Через минуту-другую они вышли на асфальтированную площадку рядом с дорогой. Автобуса не оказалось.
— Придется, видимо, немного подождать, — сказал Граве. Он взглянул на часы. — Нет, не разберу… Однако я уверен, что автобус еще не проходил.
— И не пройдет, — ответил Милов невесело. — Глядите.
Если бы они все еще шли низом, то неизбежно наткнулись бы на него. Автобус валялся под откосом берега на боку, передняя часть его уходила в воду.
— Вот откуда бензином пахло, — сказал Милов.
— Что же нам делать? — растерянно проговорил Граве.
— Идти пешком.
— Смотрите, и столбы повалены, — сказала Ева тревожно.
— Похоже, это не только капуста, — проговорил Милов. — Ну, в путь. Жизнь становится чем дальше, тем интереснее. И они двинулись быстрым шагом.
— Вы не могли бы помедленнее? — попросила Ева. Туфли свои она еще внизу то ли потеряла, то ли бросила, и снова шла босиком. — Тут все колется, — объяснила она, — и мне надоело прыгать, как горной козочке.
— Я не узнаю Намурии… — проговорил в ответ Граве с искренним трагизмом в голосе.
И в самом деле, то, что они видели сейчас и среди чего находились, не очень походило на то представление о Намурии, которое возникало по рассказам путешественников, туристским проспектам и рекламным плакатам — хотя многое, в общем, и соответствовало действительности. В таких странах, как Намурия — да в любой, и не только европейской или североамериканской даже — признаки машинной цивилизации давно уже проникли в самые глухие уголки, так что лес порой мог удивить ровностью рядов, в каких росли многолетние уже, дородные деревья, и в разных направлениях расходились от трансформаторов — в каменных будках или на деревянных и бетонных устоях располагались они-провода, толстые, силовые, а на столбах а пониже держались телефонные и телеграфные, а если мачт с проводами — не было, то в определенном ритме попадались таблички, предупреждающие, что под землей здесь проходит кабель; аккуратные павильончики автобусных остановок виднелись у дорог; и где-то в пределах видимости оказывался фермер на своем тракторе, оснащенном по сезону — плугом, сеялкой, косилкой, граблями; и уж, разумеется, не умолкало на дорогах, только среди ночи ослабевая, шуршание шин по асфальту, гудрону, бетону, легкое жужжание легковых и сердитое гудение грузовых моторов — немецких, французских, итальянских, американских, японских, реже — советских, чешских, румынских, к темноте сползавшихся к кемпингам и мотелям, а со светом вновь разлетавшихся во всех направлениях ради дела или прихоти. Да, еще вчера так было. И, похоже, кончилось как-то сразу и по причинам, которые пока еще было не понять.
Сейчас на дороге, по которой шли трое, ни машины не попадалось, не рокотали тракторы на аккуратных полях; столбы с проводами были где повалены, где сильно наклонены; повалены были дорожные указатели и щиты с описанием предстоящих дорожных развязок; зато вдруг масса всякого мусора взялась откуда-то — мусора, в котором можно было угадать обломки и останки того, что вчера еще было нужными, полезными и желанными в жизни вещами: главным образом электрическими и электронными приборами, от утюга до стереофонического двухкассетника или какой-то из приставок к персональному компьютеру, без которого не обходился уже давно ни один фермер. Словно бы кто-то сначала собрал и изуродовал это все как только сумел, а потом погрузил на многотонные трейлеры и, медленно двигаясь по дороге, неустанно расшвыривал по сторонам — и на дорогу, и в кюветы, по которым сейчас медленно текла вода, неизвестно откуда взявшаяся, потому что дождей давно уже не было. Местами ровное темно-серое покрытие дороги было усеяно мелкими крошками разбитых автомобильных стекол; какие-то тряпки валялись, остатки одежды, клочья газет, яркие журнальные обложки. Вот на какую дорогу вышли и двинулись по ней Ева с двумя спутниками; что же удивительного в том, что нелегко было ей ступать босиком.
— Господи, Ева! — воскликнул Милов, прямо-таки ужаснувшись. — Нельзя же так! Где ваши туфли?
— Где прошлогодний снег, — она старалась еще шутить. Милов снял свои туфли, носки.
— Немедленно обуйтесь. Не смущайтесь — носки я меняю дважды в день, старый предрассудок.
— Вот еще! — сказала она. — У меня двадцать три с половиной, а у вас…
— Двадцать пять, — сказал Милов, — набейте в носы травы, или вот вам тряпка…
— Я, к сожалению, не могу помочь, — сказал Граве, — у меня двадцать девятый номер. А как же вы теперь, господин Милф?
— Обойдусь. Да и, наверное, на этой дороге можно найти все, что угодно — и пару обуви в том числе. За меня не волнуйтесь, я считаю, что легко отделался: иначе мне пришлось бы нести Еву на руках — это было бы, конечно, приятней, но тогда я лишился бы маневренности.
— И почему я не отказалась от ваших ботинок наотрез? — усмехнулась Ева, но во взгляде, который она подняла на Милова, было странное какое-то выражение — словно она впервые его увидела; да так оно и было по сути дела: при свете — впервые. И тут она неудержимо, звонко расхохоталась:
— О Дан, что это такое? Нет, я не могу, не выдержу! Прелестно, неподражаемо прелестно…
Она заливалась, будто не было страхов, пещер, грязной реки, заваленной дороги, стертых ног. Может быть, и было в ее смехе что-то от истерики, но все же главным оставалось веселье.
— Да в чем дело? — Мидов уже готов был обидеться.
— Галстук, Дан, ваш галетук! Где вы ухитрились откопать такой шедевр?
Галстук у Милова, теперь уже хорошо видимый в глубоком вырезе свитера, был и на самом деле выдающимся: шириной в лопату, таких давно уже никто не носил, он бросался в глаза еще и редкой по безвкусию расцветкой — громадными красными розами, зелеными листьями, а над ними-райской птицей всех цветов радуги…
— Это у вас там делают такие? Снимите, Дан, ради Бога, иначе я просто не выживу — смех убьет меня!
— Ни за что! — сказал Милов торжественно. У него и в самом деле были причины не снимать эту часть экипировки — до поры, до времени во всяком случае. — И не просите: я дал обет носить его, и не могу от этого отказаться. Проиграл пари, понимаете?
Пари — дело святое, это Ева знала. И, отсмеявшись, уступила. Встала, прошла два шага, вернулась.
— Что же, вполне приемлемо. Спасибо, Дан. Хотя если вы ждете, что теперь я понесу вас на руках, то не надейтесь напрасно: и не подумаю.
— Если вы готовы, доктор, то идемте, — поторопил Граве. — Мне кажется, мы теряем очень много времени.
— А вот мне кажется, нужно еще помедлить, — неожиданно возразил Милов. — Там, впереди, по-моему, автобусный павильончик еще не разгромили, давайте посидим там и немного подумаем.
— О чем думать? — не понял Граве. — Пора домой!
— Да вот хотя бы об этом, — Милов повел рукой округ. — О том, что все это должно означать, Или вы попрежнему думаете, что это не более, чем капустный бунт?
Граве еще поколебался — видимо, всякая задержка сейчас вызывала у него даже не досаду, а просто злость. Но шагать дальше одному, надо полагать, улыбалось еще меньше.
— Хорошо, — буркнул он наконец. — Но сделайте одолжение, думайте побыстрее. Только почему для этого надо забираться в будку?
— Дорога, может быть, просматривается, — сказал Милов, — и движущийся предмет легче заметить. Если же мы сосредоточимся только на наблюдении.
— Ну, хорошо, хорошо. Идемте. До павильончика дошли без приключений. Скамья в нем сохранилась — была она каменной.
— Очень уютно, — сказала Ева. — Ну, Дан, начинайте. И постарайтесь успокоить нас, потому что от вида этой дороги мне хочется плакать.
— Согласен, — сказал Милов. — Поделюсь своими мыслями. Нет, тут не вспышка фермерского гнева. Тут что-то куда более серьезное. Господин Граве, вы — местный житель, вы лучше знаете свою страну, чем, вероятно, Ева, и во всяком случае, чем я. Что, по-вашему, могло произойти? Внешне это напоминает некий эмоциональный взрыв, причем тут действовали не одиночки, а масса: даже банде хулиганов сотворить такое не под силу, по-моему, за всем этим чувствуется какая-то организация. Тут творилось не просто бесчинство. Вы обратили внимание? Ни одно деревце не сломано, ни один куст не помят; только изделия рук человеческих, и тоже не всякие. Я насчитал восемь электрических утюгов — и ни одного простого, полдюжины разбитых стиральных автоматов — и ни единого корыта…
— Да их наверняка давно уже не осталось? — сказала Ева.
— Может быть. Но вот журналы на дороге нам попадались только связанные с техникой, а не, скажем, с порнографией…
— У нас нет таких, — хмуро сказал Граве.
— Я чувствую, это звучит неубедительно но дело в том, что я стараюсь перевести на язык доказательств то, что ощущаю интуитивно… Хорошо, не стану доказывать, скажу только о моих наблюдениях. Я не очень хорошо разбираюсь в намурском и совсем не знаю фромского; однако, мне кажется, и журналы, и газеты — обрывки их — попадались тут на обоих языках. Если бы не это, я предположил бы, что речь идет о национальном конфликте: по слухам, между намурами и фромами вовсе не всегда царят мир и согласие…
— Это и неудивительно, — сказал Граве. — Мы, намуры — народ работящий, тихий, законопослушный; кроме того, мы живем на этой земле столько, сколько себя помним. Фромы же появились тут каких-нибудь четыреста лет назад; это пришлый народ, работают спустя рукава, зато любят повеселиться, да… Не возьмусь утверждать, что мы с ними всегда ладим. Но чтобы дело дошло до такого… — Он пожал плечами.
— Намуры и нас, иностранцев, не очень любят, — сказала Ева. — Не в действиях это, насколько могу судить, никогда не проявлялось. Я всегда чувствовала себя тут спокойно, как и во всякой цивилизованной стране. Теряюсь в догадках…
— Вот вы оба, — сказал Милан, — были свидетелями, даже участниками этого… назовем его инцидентом в поселке. Наверное ведь люди, ворвавшиеся к вам, что-то говорили, даже кричали, может быть. А вот что?
— Нет, конечно, они вовсе не молчали, — подтвердила Ева. — Один из тех, что вторглись в дом моего приятеля, сказал мне очень даже выразительно: «А ты, цыпка, сейчас получишь массу удовольствия, ручаюсь».
— Гм, — неопределенно сказал Милов. — Ясно, однако не совсем на тему. А что слышали вы, господин Граве?
— Ну, я не возьмусь передать дословно и, признаться, был достаточно взволнован, чтобы… Но смысл был примерно таков: умные головы, погодите, мы вам еще не такое покажем, убийцы очкастые… Да, нечто подобное. Были и другие выражения, но они — не для женского уха.
— А вот это уже ближе к сути дела, — сказал Милов. — Ведь Намурия, господин Граве, страна промышленная, не так ли?
— О, да! — ответил Граве, и в голосе его прозвучала гордость. — Наши изделия известны во всем мире. Наша электроника, наша химия — мы успешно конкурируем с Америкой, Японией, Германией…
— И природа при этом гибнет, — закончил за него Милов.
— Что верно, то верно, — сказала Ева. — Найти зеленое местечко стало почти невозможно. А даже я еще помню…
— Вам легко говорить это, доктор, — Граве, казалось, несколько обиделся. — А что творится у вас дома?
— Бордель, — сказала Ева. — Но мы спохватились раньше вашего. Уже почти во всех штатах приняты законы… Как и у вас, Дан, по-моему…
— Ну, у нас принятие законов — фактор скорее тревожный, — усмехнулся Милов. — Мы ничего не умеем так хорошо, как обходить законы, и если до их принятия нарушаем правила кое-как, то после — начинаем делать это уже профессионально. Правда, я уже некоторое время не бывал дома, и что там сегодня — могу только представлять…
— Все путешествуете, — сказал Граве.
— Все путешествую, — подтвердил Милов. — У вас же, Ева, насколько я понимаю, просто сильно возросли цены за убийство природы — как охота на львов стала обходиться дороже, когда их осталось мало. Цены возросли, но охота не прекратилась. Ну, а тут, в вашей стране, господин Граве…
— У нас, — сухо проговорил Граве, — происходит то же, что и везде. Мы вовсе не желали и не желаем отставать от уровня цивилизации. Да, конечно, есть издержки — но наше демократическое общество успешно протестует. Партия Зеленых — вам о ней, разумеется,известно, — уже прочно утвердилась в парламенте и активно действует. Наши молодые защитники природы предприняли у берегов Новой Зеландии…
— А, ну, это, конечно, колоссально, — согласился Милов. — Судьба Новой Зеландии, безусловно, должна волновать вас безмерно. Ну, а на берегах вот этой реки — Дины, кажется, я верно назвал — что они сделали?
— Я полагаю, немало, — сказал Граве. — В частности, даже Научный центр вынужден платить немалые штрафы…
— Все верно, — согласился Милов. — Зелень исчезает в природе, но вместо зеленых листьев возникают зеленые бумажки на банковских счетах. Вы никогда не пробовали приготовить салат из двадцатидолларовых бумажек? Свою валюту я не предлагаю… У нас зеленые только трешки, их нужно очень много, чтобы насытиться. Скажите: вот то, что происходило и в поселке, и, видимо, тут, на дороге, и может быть, сейчас творится еще где-нибудь — не могло ли все это произойти, как реакция на уничтожение природы? Понимаете ли, если убийца ближнего вам человека осужден или даже приговорен к смерти — разве убитый воскресает? Разве возмещается ваша потеря? Почему в вашей страна, Ева, в свое время существовал суд Линча, а у нас — так называемый самосуд? Потому что или не было судебной власти, или на нее не надеялись. Так сказать, прямое волеизъявление жителей. И для того, чтобы оно возникло, порой достаточно бывает одного-единственного события, даже не самого важного…
— Такое событие было, — сказала Ева хмуро. — Еще один случай ОДА. Как раз вчера. И нужно же было, чтобы ребенок оказался дочерью Растабелла.
— Я слышал эту фамилию, — сказал Милов. — Но это не здешний министр-президент. Кто он?
— Общественный деятель, — сказала Ева.
— Сказать так — ничего не сказать, — обиделся Граве. — Растабелл — это наш голос, звучный и неподкупный. Он всегда говорит о том, что больнее всего сейчас. А ныне — вы правы, Милф, — природа болеет у нас больше всего. За Растабеллом идет народ и пойдет дальше, куда бы он ни повел. Вполне можно предположить, что народ, узнав о несчастьи, постигшем его любимца, и справедливо полагая, что корень зла — в засилье современной технологии… м-м… несколько нарушил общепринятые нормы поведения…
— Ну, что же, — сказал Милов задумчиво. — Тогда, пожалуй, можно уже понять, что происходит — пусть это и кажется невероятным: научно-техническая контрреволюция, если хотите. По-моему, точнее не определить.
— Ну, господин Милф, — сказал Граве, — вы видите вещи в слишком мрачном свете. Это у вас в национальном характере?
— Да нет, напротив, — сказал Милов, хотя можно было и не отвечать — просто пожать плечами. — Мы ужасные оптимисты, иначе давно наложили бы на себя руки.
— Странный оптимизм, — недоверчиво покачал головой Граве. — Допустим, я принял ваше предложение и поверил, что жители целой округи набросились на жителей поселка — в основном ученых — чтобы таким способом выразить свое отношение к… к тому вреду, который цивилизация вынужденно наносит природе. Я согласен, что наше правительство в области экологических проблем вело себя не лучшим образом, что, безусловно, отразится на результатах ближайших же выборов. Но ведь это не только у нас, мистер Милф, это происходит действительно во всем мире — и нигде люди не свирепеют, не накидываются на других, не валят столбы, не сбрасывают в реку автобусы…
— Еще немного, Граве, — сказала Ева, — и вы убедите меня в том, что автобус сбросили мы с вами.
— Простите, доктор, не могу принять вашей шутки: для меня все выглядит достаточно серьезно, чтобы не сказать более. Я лучше знаю нас с нашим национальным характером, чем вы, — о господине Милфе я уже не говорю. И вот что я утверждаю: произошел инцидент, да; но не надо сразу же давать ему громкие названия, эпизод есть эпизод, и если пошел дождь, даже сильный, не надо спешить с заключением о начале потопа!
— Лавина может начаться с одного камушка, разве не так? И почему бы этому событию не оказаться таким вот камушком? А лавина — это и есть та самая контрреволюция. Кстати, вы не замечали, что у революций проявляется тенденция — завершиться собственной противоположностью?
— Не изучал революций, — буркнул Граве.
— Точно так же жизнь кончается смертью, — неожиданно серьезно молвила Ева. — Что удивительного? Все в мире приходит к своей противоположности.
— Революция! — проговорил Граве сердито. — Я этого слова никогда не любил, потому что оно означает нарушение порядка, то есть мешает жить и заниматься делом. Но почему? Неужели нельзя обойтись без этого?
— В общем, потому, — ответил ему Милов, — что революция чаще всего не знает своей цели, хотя и провозглашает ее; вернее, она не знает, достижима ли цель принципиально, реальна ли она; следовательно, и пути к цели она знать не может и лишь совершает простейшие и не всегда логичные действия, уповая на то, что нечто получится. Но чаще всего выходит совершенно не то, что хотелось и думалось. Потому что к людскому обществу чаще всего относятся так же, как и природе: оно неисчерпаемо, все стерпит и потому — вперед, без оглядки! А общество, как и природа, несет потери и что-то теряет безвозвратно.
— Это ваше общество, — сказал Граве с раздражением, — хваталось за оружие, когда его морили голодом, лишали свобод — хотя даже и при таких условиях далеко не всегда… Но наше общество! Сегодня! Нет, это лежит за пределами здравого смысла. Мы живем в прекрасной, мирной и благоденствующей стране, где нет ни одной хижины, куда не была бы подведена горячая вода!
— Вот в ней-то могут утопить каждого, кого сочтут виновным. Вы не хотите понять, Граве. Потому что люди прежде всего нуждаются не в горячей воде. И не в автомобилях, тряпках или космических кораблях. Им куда нужнее другое. Жизнь. Когда люди начинают понимать, что все блага жизни они получают за счет этой же самой жизни, и сами люди живы лишь до тех пор и потому, что живым остается это живое — вот тогда революция, — я имею в виду нашу с вами научно-техническую, великую протезную революцию, — вот тогда она и обращается в свою противоположность, а мы с вами встречаемся в пещере и стараемся унести ноги подобру-поздорову… Граве явно нужна была поддержка.
— Доктор, надеюсь, вы-то не разделяете взгляды нашего спутника? Вам, жителю цивилизованной страны, было бы непростительно делать столь экстремальные предположения: будто у нас может произойти нечто… подобное.
Ну, если говорить серьезно, — не сразу ответила Ева, — мне, откровенно говоря, страшно не хочется говорить серьезно, мне спать хочется… Но раз уж затеяли серьезную беседу. Мы, медики, кое-что начали понимать всерьез и раньше. А биологи — еще раньше нас. Начали… Но понимание, мне кажется — это не миг, не прозрение, это влюбиться можно мгновенно… а понимание — процесс длительный. Хотя для начала нужен какой-то толчок… вроде нашей ОДЫ.
— Это нервы, только нервы, — сказал Граве. — За последние десятилетия человечество выиграло великую битву — против ракет и ядерных головок. Мы победили без крови. И это настолько грандиозно, что на то,что вас беспокоит как врача, я смотрю, как на относительно мелкие неприятности.
— То была первая холодная война, — сказал Милов. — А сейчас мы вступили во вторую, и она будет посложнее. Потому что тогда воевать приходилось в основном с предрассудками, амбициями политиков и военных, ложными понятиями престижа, просто упрямством, порой — тупоумием, интересами военной промышленности, но тут можно было победить, потому что в глубине души все были согласны с самого начала: уж очень конкретной выглядела смерть. Как в авиакатастрофе: если вы падаете с неба — надежды не остается. Вот мы и выиграли, А сейчас идет та же самая битва за выживание. Но если там враг был конкретен, оружие можно было при случае увидеть и потрогать, то сейчас все неопределенно, опасность не концентрируется на десятке или сотне военных баз, она в нашем гараже, холодильнике, тарелке, стакане, она везде. И поняв это, человек хочет возвращения к первозданной чистоте воздуха, воды, пищи — но еще не согласен жертвовать ради этого всем комфортом, и пока он торгуется со смертью — процесс идет…
— Не согласен, — решительно объявил Граве. — Не могу признать, что мы ничего не сделали для устранения опасности. Да вот хотя, бы: супруг доктора, господин Рикс, человек у нас весьма уважаемый и не раз оказывавший стране услуги, не получил разрешения правительства на создание тут, у нас, какого-то своего предприятия — оно оказалось неэкологичным, и парламент… Впрочем, доктор нааерняка знает все это значительно лучше меня.
— Ничего я не знаю, — сказала Ева, нахмуриашись, — и не желаю знать, мы занимаемся каждый своими делами… Видите, мы снова пришли к разговору о смерти; однако это будет уже не падение с высоты, это будет рак, и та его форма, которую излечивает только нож. Рак — это не только Лестер, это и мы с вами, Граве, и еще миллионы умных, образованных, деятельных людей. Мы упустили миг, когда цивилизация из доброкачественной начала перерождаться в раковую.
— Вот именно, — подхватил Милов. — А ведь если больной понял, что у него — скверная опухоль, и хирурга нет-он согласится, чтобы ее хоть топором удалили, и пусть это сделает хоть дровосек — иначе смерть… И вот процесс понимания этого шел достаточно давно, и ему помогали — журналисты, парламентарии, гуманисты, проповедники…
— Уж лучше бы они молчали, — вздохнул Граве. — Конечно, свобода печати — великая вещь, однако порой…
— Наоборот: надо было договаривать до конца. Кричать: рак не проходит от аспирина! Мы гуманно предупреждаем каждого курильщика: гляди, парень, наживешь себе рак легких. Но курить не запрещаем: насилие над личностью, да и все же доходная статья… Точно так же пытались предупредить человечество — но никто не попытался что-то сделать всерьез. Очищение? Но сигарета с фильтром не становится безвредной, верно? Курильщик скажет вам: бросить трудно, привычка, потребность… Так же и человечество: оно привыкло, у него есть потребность во всем, что дает современная цивилизация. Но ведь и наркотик становится потребностью! Так что если в результате начинаются серьезные осложнения, или, как теперь любят говорить, непредсказуемые события — хотя на самом деле они легко предсказуемы, — то единственное, что можно сделать, это выбрать: на чьей ты стороне.
— Как легко рассуждать, господин Милф, — сказал Граве холодно, — когда горит дом соседа… Интересно, а что бы вы сделали, происходи это у вас дома?
— Я был бы с теми, кто за жизнь, — сказал Милов, — жизнь ценой комфорта, а не наоборот. Я не из самоубийц. И думаю — вы, господин Граве, тоже. Хотя — вы ведь не верите, что здесь, у вас, может происходить что-то серьезное. Граве промолчал.
— Видимо, автобуса не будет, — сухо произнес он затем. — Что же, идемте. К сожалению, мы потеряли немало времени.
— Пешком в город? — воскликнула Ева. — Даже если мы и дойдем, то в лучшем случае к вечеру…
— Важно дойти до перекрестка, — сказал Граве. — Тут мы в стороне, но между Центром и городом какое-то движение наверняка существует; остановим первую же машину…
— Дан, придумайте что-нибудь, — сказала Ева. — Понимаете, я все-таки ухитрилась стереть ноги на мой дороге, и не знаю теперь…
— Все очень просто, — сказал Милов. — Вы вдвоем оставайтесь пока здесь. Я доберусь до перекрестка и первую же попавшуюся машину пригоню сюда.
— Вы полагаете, водитель согласится? — на всякий случай спросил Граве.
— Я его очень попрошу, — сказал Милов. — Так, чтобы он не смог мне отказать.
* * *
Да нет, — подумал Милов. — Я здесь человек посторонний, я не нахожусь в состоянии войны с этой страной, что бы тут ни происходило. Значит, если он просит меня подойти — подойду спокойно и вежливо…
Это было, когда он уже приближался к перекрестку и шел открыто, по дороге, не канавой и не придорожным кустарником; шел так, чтобы не вызвать никаких подозрений у возможного наблюдателя; такой наблюдатель мог существовать — давний и многогранный опыт подсказывал это. Вооруженный человек возник внезапно — появился из-за толстого дерева, до которого Милову оставалось еще шагов двадцать; на человеке был солдатский комбинезон, только вместо погон на плечах были дубовые листья — суконные или пластиковые, отсюда не разглядеть. Придерживая правой рукой висевший на плече и направленный на Милова автомат, человек махнул левой, подзывая:
— Ты! Ну-ка, сюда!
Это было сказано по-намурски: тексты такой сложности Милов понимал без напряжения. И повернул чуть наискось, пересекая полотно дороги — спокойно и вежливо, даже с доброжелательной улыбкой.
— Стоять!
Три метра, — привычно определил Милов дистанцию. Остановился, уже не улыбаясь, но взгляд выражал полное спокойствие.
— Руки за голову!
Пистолет — тот, что в кармане, — он заметит сразу, если только не совершенный младенец. Однако, судя по его повадке — опытный парень. Руки за голову? Да пожалуйста, сколько угодно… Милов послушно охватил ладонями затылок.
— Повернись спиной!
— Послушайте, — сказал Милов медленно, стараясь подбирать слова поточнее и ставить их в нужной форме, — я тут случайно, ни в чем не участвую, у меня больная женщина…
— Спиной! — теперь вооруженный крикнул с явной угрозой и шевельнул автоматом.
Пуля в спину — не очень приятно, — подумал Милов, поворачиваясь, — однако без всякого повода стреляет только маньяк, а этот вроде бы не похож… Нет, надо сохранять спокойствие до последнего… — и все же почувствовал, как пот проступает на спине; не любил Милов таких положений.
— Ты фром? — услышал он сзади; судя по голосу, человек оставался на том же месте.
— Я иностранец, — ответил он, чуть повернув голову — чтобы тому было слышнее, но и затем еще, чтобы видеть его уголком глаза. — Турист.
— Еще один, — проговорил вооруженный мрачно. — Чужак. Слишком много чужаков развелось в Намурии, налетело, как на падаль. Но мы еще живы… Что у тебя там в кармане? Может, фотоаппарат?
— Могу показать, — ответил Милов.
— Руки! И не шевелись, если хочешь пожить еще хоть немного!
Вооруженный шагнул вперед, теперь до него осталось около метра. Левая рука его была вытянута, чтобы сразу залезть Милову в оттопыренный карман; подходил он не прямо со спины, а чуть справа. Опытный, — подумал Милов, — но у меня-то опыта побольше, так что давай лучше поговорим на равных…
Он крутанулся на левой пятке, ударил правой ногой — руки снимать было некогда. Как и ожидал Милов, тот запоздал с реакцией на долю секунды — пуля прошла рядом. Когда такой удар наносит нога в тяжелом армейском ботинке, человек больше не поднимается; Милов был босиком, да и не хотел он убивать, старался только, чтобы самого его не убили. Противник лишь согнулся вдвое от боли; Милов сцепил пальцы вместе, рубанул.
Что же мне с тобой делать? — размышлял он, глядя на скорчившееся у его ног тело. — В канаву? Захлебнешься… Вот оружие придется позаимствовать: наверное, ты тут не последний такой… Значит, иностранцы тут нынче не в чести… — Он нагнулся, ухватил лежавшего под мышки, оттащил к дереву; тот, с закрытыми глазами, судорожно дышал. Милов распустил ему ремень, чтобы легче дышалось, потом взгляд упал на добротную армейскую обувь. Милов колебался несколько секунд: мародерство было ему противно. Придется все же считать это трофеем, — схитрил он сам перед собой, — ему теперь спешить некуда, а у меня полно дел… — Он расшнуровал башмаки, надел — были они номера на два больше, однако босиком по стеклу было куда хуже. Так, — подумал он затем. — Ну, лежи, приходи в себя, да поучись, когда очнешься, вежливее обращаться с прохожими, тебя не задевающими…
Он успел сделать шагов десять; инстинкт заставил его резко обернуться. Тот, под деревом, лежал, опираясь на локоть левой руки, правая резко, пружинно распрямилась, свистнул нож. Бросок был хорошим, острие скользнуло по щеке. Милов не успел ни о чем подумать — пальцы сработали сами. Тот, в комбинезоне, дернулся, откинулся на спину.
* * *
— Ну, где он там? — пробормотала Ева. — Мог бы и вспомнить о нас.
— Странный человек, вам не кажется, доктор? Некоторые его ухватки заставляют подумать… Впрочем, не знаю.
— С ним что-то случилось, — сказала женщина. — Надо что-то делать. Идти на помощь, может быть.
— Осмелюсь предположить: ничего с ним не случилось. Просто остановил на дороге машину и пустился по своим делам. В конце концов, он не обязан…
— Перестаньте, Граве, — произнесла Ева таким тоном, что у инженера пропала охота продолжать. — Оставайтесь, если вам страшно, а я пойду.
— Лучше уж всем вместе, — услышала она сзади.
— Дан! Откуда вы взялись?!
Он подошел совершенно бесшумно — вынырнул из-за автобусной будки и остановился, чуть усмехаясь. Щеку его пересекала свежая царапина, на груди висел автомат.
— Почему так долго? — спросила Ева, и в голосе ее промелькнула капризная нотка. — Мы уже боялись за вас. Особенно Граве.
— Нет, — сказал Граве, — доктор и тут не уступала первен-ства.
— Стоял на перекрестке, хотел дождаться машины…
— Откуда у вас это… оружие? — строго спросила Ева.
— Нашел, — очень серьезно сказал Милов. — Оно там валялось, я и подобрал.
— А оно стало сопротивляться и оцарапало вам лицо?
— В этом роде.
— Постойте. Царапину надо прижечь. У меня есть… Она выудила из сумочки флакончик. Попрыскала. Странный, горьковатый аромат расширил Милову ноздри, заставил глубоко вздохнуть воздух.
— Чистой воды «Березка», — определил он.
— Не знаю, что вы имеете в виду, Дан. Это парижские…
— Нет, это у нас такая терминология, Ева… Так вот, дорогие спутники: машина нам пока не светит. Придется все же двигаться самым примитивным способом: пешком. Ева вздохнула.
— Если вы не побежите слишком быстро, буду вам очень благодарна.
— А знаете что? Давайте-ка, я понесу вас! — Милов вдруг понял, что ему очень хочется взять ее на руки.
— Нет, Дан, я привыкла стоять на своих ногах. Как вы думаете, эту воду можно пить? У меня пересохло горло…
Милов отрицательно покачал головой. И не только потому, что в этой же канаве, только там, подальше, лежал труп.
— Ева, вы же врач, сами понимаете, что нет. Эту воду пусть пьют наши враги.
— Где же найти другую?
Милов завел руку за спину, а когда вытянула — в ней была плоская фляжка.
— Пейте, отважный доктор. А вы, господин Граве, наверное, не отказались бы от чего-нибудь покрепче? Вот, держите.
— Как вам удалось раздобыть это, господин Милф?
— Я же говорил вам: на этой дороге можно найти все, что угодно.
— Что-то очень крепкое, — Граве вытер губы.
— Из солдатского репертуара. Ну, что же; вперед! На шее паруса сидит уже ветер!..
Теперь можно было идти смелее, но Милов тем не менее внимательно наблюдал, не отвлекаясь на разговоры. Солнце поднималось все выше, изредка налетали порывы ветра, и тогда по дороге, навстречу идущим, с шуршанием бежали клочья бумаги, сухие листья; порой ветер приносил отзвуки непонятного гула. Идти приходилось все медленнее — Ева уже явственно прихрамывала, но на новое предложение Милова — взять ее на плечи — лишь отрицательно качала головой, и Граве заметно нервничал: видимо, непонятное всегда раздражало его, беспокоило, выводило из себя. Человек регламента, — подумал о нем Милов, — таким приходится трудно, когда часы начинают показывать день рождения бабушки. Приободрить бы его немного, а то он ведь и женщину до города доставить не сможет…
— Ничего, господин Граве, — весело молвил он, — не унывайте, ничего плохого ведь, по сути, не происходит. Вспомните: мало ли что бывало в двадцатом веке: войны объявленные, войны необъявленные, войны внутренние… и ничего — живем!
— Может быть, в вашей стране к этому и привыкли, — нехотя ответил Граве, — у вас, действительно, чего только не бывало…
— Вот тут вы не совсем правы: на экологической почве у нас как раз до такого не доходило. Пока, во всяком случае.
— Видимо, вы все же бережнее относитесь к природе?
— Я бы этого не сказал, — усмехнулся Милов. — Природу мы душили не меньше вашего, а может быть,и больше. Беда в том, что у нас и так было слишком много запущенных болезней — и наших собственных, и ваших недугов, которые мы усваивали, добиваясь ваших успехов. Так что об этом нашем общем, всепланетном раке, — ваше сравнение, Ева, кажется мне очень точным, — мы думали никак не больше вашего, а действовали, пожалуй, меньше — хотя поразговаривали, безусловно, вдосталь, что есть, то есть. Но ведь рак не из тех болезней, которые можно заговорить. А у нас еще и традиция сработала: ждать, пока вы начнете, чтобы на вашем опыте убедиться, что дело стоящее… Давняя привычка: во всем, кроме политических экспериментов, начинать вторым номером, за вами — чтобы было, кого догонять. Вот если бы мы с самого начала сказали себе и всему миру: не догонять то, что устремлено в тупик не-по социальной своей структуре, но из-за в корне неверного отношения к обитаемой нами планете, не догонять, а — идти другим путем! Строить иную цивилизацию, а не другую общественную или государственную форму в рамках все той же, технологической, которая и по сути своей более ваша, чем наша — потому что вашим способом жизни она и порождена. Иную цивилизацию. Подите-ка решитесь! А ведь больной канцером — он, как известно, старается в него не верить: верить страшно, тогда надо начинать о душе думать!.. И мы утешаемся: ну, какой там рак, это язвочка, гастритик какой-нибудь, ну, попьем таблеточек, в крайнем случае-лучевую терапию, но и это уже из чистой перестраховки, только чтобы домашних успокоить. Да и времени нет болеть, работа продохнуть не дает! И ведь верно, есть работа, есть — а новообразованьице разрастается, а жизнь гибнет, вся планета гибнет, а безотходная технология — это то самое лекарство от рака, хотя и не стопроцентное, которое изобрели бы — да больной раньше помрет… Но вот приходит мгновение, когда больной вдруг понимает: нет, не язва, не воспаление какое-то — это он, кого и называть страшно. И наступает сумятица, потому что глубокий, животный страх только к ней и приводит. И от смертельного ужаса, конечно, многое может возникнуть: и кровь, и погромы — бей ученых, вон до чего довели, бей инженеров — понастроили, позатопляли, поизуродовали, бей начальство — докомандовалось, довело до ручки. А уж заодно, конечно — бей инородцев, или иноверцев, или жидомасонов, или там черных котов — опыт-то во всем этом есть, он едва ли уже не в генетической памяти сидит…
Милов перевел дух и почувствовал: говорить больше не хотелось; достаточно уже сказал. Да и времени не осталось.
— Однако, прекрасные мои спутники, вот мы и пришли!
— Слава Богу, — пробормотал Граве.
Они стояли на том самом перекрестке, на котором уже побывал Милов. Сейчас тут было спокойно, никто не мешал осмотреться и решить, как быть дальше.
Продолжение дороги, что вела от моста — по этой дороге они пришли сюда — уводило к лесу; левая дорога шла к Научному Центру, правый поворот — к городу. По-прежнему не видно было ни одной машины, только на правой дороге, метрах в двухстах отсюда, сбоку что-то чернело, словно бы машина сорвалась с дороги и теперь лишь багажник торчал из кювета.
— Это новое, — сказал Милов скорее самому себе; однако английский вошел уже в привычку, и сказано было по-английски, так что остальные поняли. — Когда я здесь был, ее не было.
— Значит, все-таки проезжают машины, — проговорил Граве таким голосом, словно ему было все равно: ездят они, или нет.
— Вы могли просто не заметить, Дан, — сказала Ева.
— Не заметить я не мог, — ответил он, внутренне уязвленный. Впрочем, для нее он ведь до сих пор оставался лишь туристом; турист, понятно, мог бы и не заметить. — Да ладно, не все ли равно-есть она или ее нет? — Он взглянул на часы. — Ну что же, как принято говорить в таких случаях — был рад познакомиться, сохраню о вас лучший воспоминания.
— Что это значит, Дан? — вопрос Евы прозвучал и тревожно, и высокомерно. — Вы что, собираетесь бросить нас тут?
Вы меня способны оставить — вот как следовало понимать фразу; Милов, однако, в этом был глуховат.
— Я ведь с самого начала предупредил; мне нужно быть в Центре — там меня ждут…
— Вы… — сказала Ева. — Вы… Она не договорила — резко повернулась и, даже почти не хромая, быстро пошла прочь, чтобы, наверное, не сказать лишнего, пошла, не разбирая пути, скорее всего инстинктивно, к толстому дереву — укрыться, может быть, за его стволом и там дать волю слезам. Милое глядел ей вслед; он был несколько удивлен, не понял происходящего и поэтому спохватился не сразу.
— Ева! Постойте, Ева!
Она, не оборачиваясь, махнула рукой, сделала еще два шага — и увидела. Как схваченная, остановилась. Поднесла ладони к щекам. Медленно повернулась. Глаза ее были широко раскрыты и неподвижны.
— Что это? Дан, что это? Он, тяжело ступая, подошел к ней.
— Это вы его?.. Милов пожал плечами.
— Напал он. Вот и… так получилось. — Он не ощущал вины, но понял вдруг, что это был, возможно, первый убитый, увиденный ею в жизни.
— И у вас поднялась рука?
— А вам бы хотелось, чтобы тут лежал я?
Ева лишь медленно покачала головой, пошевелила губами, но не произнесла ни слова.
Граве подошел, остановился и тоже стал смотреть на убитого.
— Он напал на вас, вы сказали? Но почему?
— По-моему, ему не понравилось, что я иностранец и плохо говорю по-намурски. Может быть, он решил, что я — фром.
— Не могу поверить, — сказал Граве, в голосе его слышалась неприязнь. — Вы, надо полагать, наслушались о нас всякого вздора. Вот доктор Рикс тоже иностранка — разве она когда-либо чувствовала на себе чью-то неприязнь по этой причине?
— В наше время все меняется быстро, — сказал Милов почти механически, задумавшись совсем о другом. — Вы, помнится, сказали что-то о дубовых листьях — у тех, кто напал на поселок?
— В этом нет ничего страшного, — ответил Граве. — Символ «воинов природы» — есть у нас такое движение, его возглавляет господин Растабелл. Однако я сомневаюсь, чтобы те люди…
— Минутку, господин Граве. У них такая форма — солдатские комбинезоны?
— Ну что вы, никакой формы у них нет, да и оружия тоже, это гражданское движение, совершенно мирное. А этот… этот, мне кажется, из волонтеров.
— Тоже защитники природы?
— Я мало что о них знаю. Так, слышал краем уха, что возникла такая организация — из бывших солдат в основном.
— Мещерски, — сказала Ева неожиданно; до этого мгновения она, казалось, даже не прислушивалась к разговору. — Это его отряды. Лестер хорошо знаком с ним.
— Господин Лестер Рикс, — произнес Граве торжественно, словно церемонийместер. — Муж доктора.
— Их девиз — «Чистая Намурия», — дополнила Ева.
— Ну, что же, — сказал Милов. — Это уже яснее.
— Извините, доктор, — сказал Граве, — но все это лишь досужие разговоры. Волонтеры никогда не вступали в конфликт с властями. И вас, господин Милф, я призываю не делать поспешных выводов. Лучше подумайте вот о чем: вы, вольно или невольно, убили человека, гражданина Намурии, и должны нести за это ответственность: мы живем в цивилизованном государстве. Если вы сейчас покинете нас, то это можно будет расценить лишь еае попытку уклониться от ответственности. Как лояльный гражданин моей страны, я вынужден буду помешать вам в этом!
Он даже плечи расправил и приподнялся на носках — бессознательно, наверное, и выглядеть он стал не грознее, а комичнее. Господи, — подумал Милов, — сморчок этакий грозит мне… Но он ведь прав — с точки зрения нормальных условий жизни, и уважения достойно, что так выступил — не круглый же он идиот, чтобы не понимать, что я даже со связанными за спиной руками в два счета его утихомирю. Мне надо в Центр, это верно, однако ситуация не тривиальная, да и женщина, чего доброго, подумает, что я испугался и спешу унести ноги…
— Вы убедили меня, господин Граве, — сказал он почти торжественно, краем глаза следя за Евой — сейчас она повернулась к нему лицом и на губах ее возникла улыбка, одновременно и радостная, и насмешливая: она-то, женщина, ясно видела, кто из двоих чего стоил. — Убедили, и я готов последовать за вами. — Милов почувствовал, как легко вдруг стало на душе; неужели было у него внутреннее нежелание расстаться с этой женщиной тут, на распутье, возможно ли, чтобы он… он оборвал сам себя. — Итак?
— Бросьте, — сказала Ева. — Противно слушать. Дан, вам и в самом деле нужно в Центр? В таком случае мы пойдем с вами.
— Доктор, это необычайно глупо, — сказал Граве. — Что мы будем там делать?
— Я? Да мне просто стыдно оттого, что сбежала, поддалась страху. Я врач. И там мои пациенты. Дети. Забыли?
— Но ведь вы только вечером закончили дежурствах А в городе у вас семья. Семья!
Он выговорил это слово так, словно семья была превыше всего — кроме Бога одного, как сказано. Ева в ответ невесело усмехнулась.
— Ну, Лестеру-то все равно… если я не приду, он, по-моему, просто вздохнет с облегчением.
— Вы не должны говорить так, доктор, а мы — слушать… Но постойте, у меня возникла блестящая мысль! Что, если мы посмотрим ту машину? Может быть, она еще способна двигаться — тогда мы за полчаса доберемся до города, вы, Милф, дадите в полиции свопоказания, а мы поручимся за вас, и вы сможете на ней же съездить в Центр. Поверьте, вы все равно выиграете во времени.
Насчет выигрыша не знаю, — подумал Милов. — Мне надо было оказаться там еще полтора часа назад, теперь все будет сложнее. А мысль и на самом деле неплохая.
Они пошли быстро, почти побежали к торчавшей из канавы машине. Ева медленно шла вслед им, прикусив губу: ноги болели все сильнее, женщина не сводила глаз с быстро отдалявшихся спутников и то и дело спотыкалась. Двое приближались к машине; вот они достигли ее, остановились, немного постояли. Милов поглядел в сторону Евы, — она махнула ему рукой, сигнализируя о благополучии, — тогда он спрыгнул в канару. Ева шла, ожидая, что машина вот-вот дрогнет и начнет задним ходом вылезать из канавы. Вместо этого, когда идти осталось уже совсем немного, мужчины словно бы пытались вытащить на дорогу что-то тяжелое. Вытащили. Положили. Ева подняла ладони к щекам: то был человек. Она побежала, уже не обращая внимания на боль, припадая на ногу. Милов бросился ей навстречу, подбежал, поднял на руки, хотя она и на этот раз попыталась было протестовать, и понес к машине, испытывая странное, самому ему непонятное чувство, ощущение ноши, которая не тяготит, напротив, прибавляет сил, чуть ли не в воздух поднимает. Маленькая ты, — подумал он, — легонькая…
Он бережно опустил ее наземь — посадил невдалеке от вытащенного из машины и теперь лежащего на траве под деревом тела. Ева взглянула и невольно вскрикнула.
— Вы его знаете, Ева?
— Это же доктор Карлуски! Мой шеф по клинике… Он должен был сейчас находиться с детьми. Ничего не понимаю…
— Это точно он? — быстро, требовательно спросил Милов.
— Я работаю с ним шестой год… — Ева, встав на колени, поискала у лежавшего пульс, подняла веки. — Еще теплый… Снимите с него… или хотя бы расстегните… Рубашку тоже… По-моему, пуля, хотя я, конечно… Почти нет крови — скорее всего внутреннее кровоизлияние…
Она еще что-то говорила — Милов не слушал. Он бежал, — думал Милое. — Значит, меня все же опознали и его предупредили. Убили его случайно? Если нет-значит, они сами рвут свою цепочку. Решили затаиться, переждать? Или что-то другое? Так или иначе, в Центре теперь делать нечего. Остается город. Карму гант, шесть, квартира тринадцать, ключ «Дромар»… Да. Город.
— Какой ужас? — сказал Граве, он был ошеломлен. — Теперь просто необходимо вызвать полицию сюда…
— Давайте без лишних слов займемся делом, — Милов стал влезать в кабину через левую переднюю, не помятую дверцу. Приглушенно взвыл стартер-раз, другой. Мотор не заводился. Милов вылез, поднял капот, посмотрел.
— Тут электронное зажигание. Граве, вы в нем смыслите?
— Надо посмотреть… — ответил Граве осторожно. Он подобрался к мотору справа, — пришлось даже опуститься на колени, — с минуту смотрел. — Найдите мне кусочек фольги, здесь просто сгорел внутренний предохранитель.
— У меня есть сигареты, — сказала Ева. Милов несколько мгновений смотрел на нее очень пристально, словно то, что у женщины оказались сигареты, было случаем из ряда вон выходящим.
— Интересно, а какие вы курите?
— «Салем», — сказала она, — при случае, по настроению… Вот вам фольга.
Минуты через две мотор взревел. Милов, сидя за рулем, включил задний. Машина, завывая и пробуксовывая, выползла на дорогу.
— Там, впереди, обычно дежурит дорожная полициям — предупредил Граве. — Я полагаю, нужно остановиться и дать необходимые объяснения. Иначе…
— Посмотрим… — ответил Милов неопределенно.
— Прошу вас, не относитесь к этому легкомысленно. Мой гражданский долг… Видите? Вот они стоят! Тормозите, прошу вас.
— Это не полиция, — сказал Милов. — Какие-то штатские. Мы им не обязаны давать показания.
* * *
Впереди, близ щита с названием города, и в самом деле стояло трое. Один из них повелительно взмахнул рукой, приказывая остановиться.
— Шутник, — проворчал Милов сквозь зубы. Он включил правый поворот и подвернул чуть ближе к обочине, чтобы можно было подумать, что машина сейчас остановится. Но, почти поравнявшись со стоявшими, резко нажал на газ. Машина рванулась, едва не сбив стоявшего у самого полотна.
— Пригнитесь, Граве, — посоветовал Милов. В зеркале заднего обзора он видел, как один из оставшихся позади поднял автомат, но как-то нерешительно — и опустил, так и не выстрелив. Однако тот, которого чуть не сбили, вытянул руку с пистолетом. Прозвучал выстрел, но машина была уже далеко.
— Разве можно стрелять! Мы же не сделали ничего такого — возмутился Граве.
— Сукины дети, — ответил Милов.
Они въехали в город. Но не в тот, из которого Граве выехал прошлым утром, чтобы, как обычно, провести рабочее время, надзирая над многочисленными компьютерами Научного Центра. Нет, внешне многое осталось прежним: гладкий асфальт улицы с аккуратной белой разметкой, узкие дома под красной черепицей, старинные шпили церквей, а впереди — серые силуэты современных деловых и жилых башен. Уже настал для улицы час быть оживленной: обычно люди в эту пору спешили на работу, шли за покупками, совершали утреннюю. — для укрепления здоровья — пробежку собаки тоже требовали моциона. Однако сейчас тихий пригород скорее смахивал на поле недавно отгремевшего сражения.
Тротуары, прежде к этому часу уже чисто выметенные и обрызганные водой, сейчас тут и там были усеяны осколками стекол, обломками ящиков, картонными коробками, краем глаза Милов заметил валявшуюся на дороге мужскую шляпу и машинально шевельнул рулем, чтобы объехать ее.
Ставни магазинов были закрыты, на втором и третьем этажах многих домов окна смотрели пустыми глазницами, и на ветру парусили выллеснувшиеся наружу гардины.
Лежал на боку автомобиль; другой, подальше, догорал, испуская струйки сине-серого дыма, он был покрыт пятнами пены или порошка из огнетушителей. Ударило запахом сгоревшей резины.
На краю проезжей части валялся круглый обеденный стол без ножки.
Распахнулась дверь утреннего кафе, оттуда вывалилось несколько человек, пестро одетых, но все — с дубовыми листьями на груди, на рукавах, у одного — на каскетке. Они тащили, держа за руки, человека — ноги того волочились по земле; глянув в зеркало, Милов успел увидеть, как его приподняли и стали бить головой о стену дома; человек не пытался вырваться — видимо, был уже без сознания, а может, и мертв.
Проехали перекресток; на нем стоял волонтер — с карабином, с дубовыми листьями на плечах. Он скользнул по машине равнодушным взглядом. Граве схватил Милова за плечо:
— Остановитесь, пожалуйста — спросим у него… Милов дернул плечом, сбрасывая ладонь соседа.
— Может, лучше спросите у этого? Он кивнул влево; там, впереди, у тротуара валялось тело в черном полицейском мундире — форменная каскетка откатилась в сторону, ноги были подогнуты, словно полицейский в последний миг пытался уползти, укрыться, но не успел. Граве откинулся на спинку сиденья, тяжело задышал.
— Куда же поедем теперь, Граве? — спросил Милов, — Будем искать полицейский участок? Или, может быть, остановимся вот тут?
Слева по движению, на двери, за которой, судя по вывеске, помещалась часовая мастерская, виднелся кусок ватмана, в пол-листа, на нем косо, корявыми буквами было написано: «Запись добровольцев». Около двери стояло несколько молодых парней. Они тоже поглядели на машину, один крикнул — разглядев, видно, через боковое стекло: «Эй, куда бабу везешь, давай сюда!», другой сделал вид, что расстегивает брюки, остальные засмеялись. Хорошо, что Ева не видит, — подумал Милов невольно. Однако, слышать-то она наверняка слышала, но промолчала, лишь закрыла глаза.
* * *
На следующем перекрестке тоже оказался волонтер, как и те, предыдущие — парень моложе тридцати, в комбинезоне и с автоматом, не современным, однако, а времен второй мирной войны. Рядом с ним топтался штатский — в руках он сжимал дробовик, на поясе висела ручная граната музейного образца.
* * *
Волонтер что-то сказал штатскому, и тот бросился, размахивая ружьем, но не к машине Милова, а на противоположную сторону улицы. Там тоже показалась — выехала на следующем перекрестке — машина, на крыше ее, на верхнем багажнике, было наложено и увязано множество узлов и картонных коробок, видимо, тяжелых — машина прижималась к самой дороге: кто-то хотел выехать из города. Штатский остановился посредине проезжей части, встречная машина набрала скорость, и он отскочил в последний миг. Волонтер вскинул автомат. Милов успел увидеть, как ветровое стеклю встречного рассыпалось в крошки, машина вильнула, наискось пересекла улицу и врезалась едам.
— Интересные пироги, — сказал Милов. — Выехать, оказывается, куда труднее, чем въехать.
— Здесь направо, — с трудом, сквозь зубы, проговорил Граве.
Милов аккуратно показал правый поворот; никаких помех не было, светофоры смотрели слепыми глазами, на рельсах стоял пустой трамвай, соьершенно целый, и, насколько хватало глаз, нигде не только не ехало, но даже и у тротуаров не стояло ни одмой машины, все они словно испарились, растаяли. Теперь Милов со спутниками ехали по проспекту. Наверное в нормальной жизни он был очень красив, старинные, чистые и ухоженные дома в пять и шесть этажей с балконами, эркерами, порою с гербами или латинскими изречениями над входом чередовались с домами явно современными, но той же высоты, широкооконными,то гладкими, то рустованными, со стеклянными входами, порой — с аккуратно разграфленной небольшой-стоянкой для машин перед домом, арочные въезды вели во дворы. Здесь было чище и еще менее людно, только один-единственный дворник, в фартуке и почему-то с лопатой, медленно шел по тротуару, едва заметно покачиваясь: может быть, он был пьян. Впереди на одном из изящно выгнутых фонарных столбов висел человек.
— Меня тошнит… — пробормотал Граве, судорожно глотая. Лишь через минуту он смог спросить: — Что вы об этом думаете?
— Думаю, что на современных фонарях вешать куда труднее, чем на старинных, — спокойно ответил Милов. — Они куда выше, да и конфигурация не располагает. Но традиции — великая вещь…
— Перестаньте! Как вы можете…
— Прикажете рвать на себе волосы? Вам трудно это понять, Граве, ваша история не располагает к пониманию таких вещей. Но согласитесь: это не очень-то похоже на благородную борьбу за спасение природы?
— Замолчите!
В молчании квартал скользил мимо за кварталом, лишь едва слышно сипел мощный мотор, машина была из дорогих. Карлуски мог себе позволить, — подумал Милов мельком. — И телефон, и комп — только на мои вопросы он все равно не ответит… Было тихо и странно, как будто все, что произошло здесь — и выбитые окна, и сожженные машины, и выкаченные кое-где на улицу и опрокинутью мусорные контейнеры, и еще несколько убитых людей, попавшихся на дороге, и две мертвых собаки даже — все это было сотворено в полной тишине, в каком-то ритуальном молчании, хотя на самом деле было наверняка не так. И, если не считать того дворника, ни единой живой души, лишь из одного-другого окна чье-то лицо украдкой выглядывало — и тут же снова пряталось в неразличимости.
— Сейчас налево, — сказал Граве каким-то неживым голосом.
Машина нагнала шагавшую по проспекту группу человек в пятьдесят. Судя по пестроте одежды, то были добровольцы; хотя название это означало то же самое, что волонтеры, однако разница между одними и другими была разительной; эти хотя и старались выдерживать воинский строй, и маршировали с неподвижными, а каменно-серьезными лицами, незнакомство их с военным делом ощущалось сразу: не было в их строю ни равнения, ни дистанции, большая половина не была вооружена, прочие несли кое-как разнообразные устройства, стрелять из которых можно было разве что теоретически; музей, да и только, — подумал Милов, — половина всего этого взорвется при первом же выстреле.
Колонна осталась позади, но, проехав еще метров двести, они увидели и настоящих солдат. Проспект здесь расширялся, образуя как бы небольшую площадь, и сейчас посреди этой площади стоял танк, монументальный, словно памятник самому себе, живой в своей металлической мертвости, громко угрожающий в молчании, многотонный призрак, овеществленное «мементо мори»; и единством противоположности с ним были солдаты — десятка два молодых и здоровых ребят, подтянутых и вместе вольно стоявших, или сидевших на зеленой броне, или прогуливавшихся подле танка — не выходя, однако, за пределы некоего не обозначенного, но, видимо, четко ощущавшегося ими круга. Они не держали автоматы на изготовку, наоборот, улыбались дружелюбно тем немногим людям, что молча стояли на тротуарах, как бы завороженные зрелищем боевой машины (есть для людей небоенных нечто странно-привлекательное во всем военном, какая-то тайна чудится им за необычным обликом по-своему прекрасных в своей жестокой целесообразности машин уничтожения, и они не могут просто пройти мимо); вдруг возникли на площади две или три девушки — они всегда возникают, материализуясь из ничего, там, где появляются солдаты — наверное, сама солдатская мечта и материализует их".
Милов плавно объехал площадь, повинуясь знаку «круговое движение». Ева позади тихо застонала, Милов бросил взгляд в зеркальце — глаза ее были закрыты, нога, видимо, не успокаивалась.
— Теперь уже недалеко, — сказал Граве голосом,близким к нормальному. — Тут скоро будет небольшая улочка — направо…
Милов кивнул. Однако, когда пришло время поворачивать, он резко затормозил. Там, куда надо было свернуть, шла драка, сражались две группы, с каждой стороны человек по двадцать, ни волонтеров, ни солдат среди них не было. Дрались безмолвно и жестоко, кто-то уже валялся на асфальте — трое или четверо, на них наступали ногами, о них спотыкались. Мелькали кулаки, палки, велосипедные цепи — впрочем, цепи, может быть, шли в дело и мотоциклетные.
— Это все фромы, — проворчал Граве. — Сводят счеты…
— С обеих сторон фромы? — уточнил Милов.
— Нет, я имел в виду, что напали, конечно, фромы — это их квартал. Как мы ни стараемся…
— Здесь нам вряд ли удастся проехать.
— Ничего, — сказал Граде. — Можно и на следующей улице.
В следующую они свернули беспрепятственно. Было почти безлюдно, только навстречу шли трое: один впереди, двое за ним. У переднего руки были связаны за спиной, лицо в кровоподтеках, один глаз заплыл, на груди его висел на веревочке кусок картона или фанеры, на нем что-то было написано. Двое конвоиров-добровольцев — были вооружены: один берданкой, другой обрезом, на боку второго висела старинная сабля, ножны чиркали по тротуару, Милов сбавил скорость. Ева открыла глаза, спустила ноги с заднего сиденья, стала садиться: решила, видимо, что приехали. Арестованный, увидев машину, вдруг кинулся к ней; тот, что был вооружен обрезом, не колеблясь, выстрелил. Промахнулся, но бежавший упал на колени — может быть, от страха подогнулись ноги, но выходило так, словно он на коленях умолял спасти его.
— Остановитесь! — крикнула Ева. Милов прибавил скорость.
— Ужасно… Вы видели, что там было написано? "Я отравлял планету, а заслужил смерть! Остановитесь же, Дан, может быть, он только ранен…
— Добьют, — выговорил Милов сквозь зубы. — Вам хочется лечь рядом с ним? Поймите, наконец: мы сейчас в другом мире, где все ваши добрые принципы не действуют.
— Перестаньте быть таким невозмутимыми-крикнула Ева. — Ненавижу…
— Да что господину Милфу, — горько сказал Граве. — Это ведь не его страна, доктор, и не его соотечественники…
— Дан, ну отчего вы так жестоки?
— Для меня люди — везде люди, — проговорил Милов, круто выворачивая влево; навстречу шли волонтеры, числом не менее роты; вооружены они были, как полагалссь, у трех или четырех были даже пулеметы.
— Может быть, хоть они наведут порядок? — вслух подумал Граве.
— Возможно, — буркнул Милов, — только какой?
— Я лежала, — сказала Ева, — и мне были видны верхние этажи — с транспарантами, с надписями… «Сжечь машины», «Долой технику», «Мы хотим дышать», «К ответу ученых», «Позор правительству», «Спасем наших детей»… Но ничего не говорилось о том, что надо убивать людей.
— А это и не полагается говорить, — сказал Милов, слегка пошевеливая руль. — В наше время это делается без предварительной рекламы. Серьезная сила всегда молчалива… Нам далеко еще?
— Совсем близко. Видите улочку? Налево. Сворачивая, Милов успел прочитать табличку на углу. Карму гант — так назывался переулок.
— Куда вы привезли нас, Граве? — не удержался он.
— Это вы привезли меня, Милф. Домой. Я немного растерян, и… Надо решить, что делать дальше, и мне хотелось застать Лили, пока она еще не ушла. Да и вам не мешает отдохнуть, выпить хотя бы по чашке кофе… Прямо, прямо.
Улочка была застроена небольшими домами, не выше четырех этажей, но добротными, солидными — домами для зажиточных людей. Она была, наверное, зеленой и тенистой — когда деревья еще были зелеными. Но стволы их, полумертвые, окаймляли проезжую часть и сейчас.
Вон к тому дому — серому, номер шесть. Так, — подумал Милов, послушно снижая скорость. — Карму гант, номер шесть.
Смешные совпадения бывают в жизни: совершенно случайно я оказался там, куда не только Граве, но и мне самому нужно. Однако он, похоже, к моим делам никакого отношения не имеет мне нужен другой человек, тот, что живет в тринадцатой квартире… Он затормозил, и Граве тут же выскочил из машины.
— Слава Богу — кажется, все в порядке… И подъезд, возле которого они остановились, и вся улочка выглядели спокойно, мирно, достойно — словно тут же неподалеку, на главных улицах, не убивали людей.
— Спасибо, мистер Милф, огромное спасибо! — Милов и не подозревал, что Граве способен быть таким оживленно-радостными — Откровенно говоря, я и не надеялся уже — ведь происходит что-то апокалипсическое… Ева, я надеюсь. Лили немедленно сделаем вам перевязку, и сразу же позвоните домой, чтобы успокоить… Милф, вас я, разумеется, тоже приглашаю!
— Принимаю, — ответил Милов, потому что ему все равно нужно было а этот дом, а кода он не знал-тут в инструктаже был пробел, код он должен был выжать из Карлуски вместе со множеством всякой другой полезной информации.
Они вошли в подъезд. В вестибюле было темно, в швейцарской — пусто.
— Странно, — сказал Граве. — У нас тут всегда освещено, да и Мартин не позволяет себе… Сюда, прошу вас, направо, к лифту.
Он нажал кнопку; но лампочка не вспыхнула, дверцы не разъехались, не послышалось и приглушенного рокота снижающейся кабины.
— Не понимаю. Похоже, что в доме нет электричества Какой этаж? — спросил Милов.
— Четвертый. Мне очень жаль, но…
— Побережем время. Вы, Ева, все-таки добились своего: придется мне нести вас.
Он сказал это с улыбкой, ясно показывавшей, насколько приятно это будет-для него, во всяком случае. Не дожидаясь ответа, он поднял ее на руки. Даже Граве позволил себе улыбнуться.
— Достается вам сегодня, господин Милф, не правда ли?
— Похоже, мы были для вас не самой лучшей компанией. — Он обогнал поднимавшегося с ношей Милова и, когда тот появился на площадке четвертого этажа, уже вкладывал пластинку с личным кодом в щель замка.
— Не будем шуметь, друзья, — проговорил он почти шепотом, отворив дверь. Милое позволил Еве встать на ноги, поднял глаза. Квартира была номер тринадцать.
— Прошу извинить, — говорил шепотом Граве, пропуская их в прихожую, — мы редко принимаем гостей, но у нас очень уютно. Вообще, в доме живут солидные, добропорядочные люди… Вот сюда, прошу — располагайтесь, посмотрите пока на моих рыбок, у меня прекрасный аквариум… — Он машинально щелкнул выключателем. — Все еще нет тока — странно. И уборщица, кажется, сегодня не приходила — чувствуется, что пыль не вытерла. Еще раз приношу свои извинения… Милов нагнулся и поднял с пола окурок.
— Граве, — сказал он негромко. — Ваша жена курит «Дромар»?
— Она вообще не курит, — сказал Граве, — но вы правы, такие сигареты у нее есть — иногда за рюмкой ликера, с подругами — современные женщины, понимаете ли, должны… Сейчас, я только загляну в спальню. Лили придется встать…
— Где у вас телефон? — спросила Ева.
— На столике, рядом с аквариумом, да проходите же, садитесь, прошу вас.
Он бесшумно отворил дверь спальни и шагнул; после мгновенного колебания Милов последовал за ним. «Дромар», — думал он. — «Не найдется ли у вас сигареты?» — «Только „Дромар“, ничего другого я не курю». — «Слабоваты, не правда ли?» — «Зато какой аромат!» То были ключевые слова в звене цепочки, при обмене репликами пачка «Дромара» должна была появиться на свет. Если они всерьез рвут цепочку, — подумал Мялов, — если с Карлуски не просто случайность, то…
* * *
Окно спальни было закрыто тяжелой шторой, но и в полутьме можно было увидеть белую кровать, широчайший шкаф, зеркало в полстены. Милов смотрел на отраженную в зеркале кровать — на ней лежала женщина, до подбородка накрытая пухлым одеялом, глаза ее были закрыты. «Спит», — прошептал Граве с нежностью, осторожно пятясь. Он наткнулся на Милова, не сводившего глаз с зеркала — с одеяла в нем, которое не шевелилось, словно бы под ним лежала статуя, а не молодая и красивая женщина. «Пойдемте, — тем же шепотом пригласил Граве, — пусть еще отдохнет, она страшно устает порой…»
Милов взял его за плечи, грубо отодвинул в сторону. Подошел к окну, рывком откинул штору. Приблизился к кровати. «Что вы делаете, как вы посмели! — зашипел Граве. — Это… это переходит всякие границы! Вы дикарь!» Милов, стоя вплотную к кровати, смотрел на лицо женщины; оно было серо-бледным. Милов решительно откинул одеяло. Лили лежала в пижаме, чуть раскинув руки, на груди краснело пятнышко. Крови почти не было. «Что… что это значит?» — задыхаясь, произнес Граве за спиной. Милов взял руку убитой. Рука была холодной, безжизненной. «Ева! — крикнул Милов. — Подойдите, пожалуйста, вы здесь нужны!» «Я, конечно, не судебный медик, — видимо, такое предисловие Ева считала обязательным, — но видно, что борьбы не было, вероятнее всего, в нее выстрелили, когда она спала-кто-то вошел в квартиру…» «Никто не мог войти в квартиру! — снова закричал Граве. — Замок настроен только на ее и мой дактошифр!» Милов пожал плечами: он знал, что ключи есть к любым замкам. Граве в комнате уже не было — он стоял в прихожей, прижав телефонную трубку к уху, и что-то громко и возбужденно говорил по-намурски. «Телефон, видимо, работает», — сказал Милов. Тут, в спальне, тоже был аппарат — на ночном столике, со стороны Лили; Милов поднял трубку, поднес к уху, покачал головой: «Ни звука». «Дан, я боюсь, он… вы понимаете?» Милов кивнул и спросил: «Что он говорит? Я не воспринимаю, когда разговор идет на такой скорости». Он не сказал, что вообще Намурия — не его регион, и его послали сюда только потому, что заболел Мюнх, если можно считать болезнью две пули, в груди и в плече, и на язык ему дали неделю времени. Ева прислушалась. «Я тоже знаю не в совершенстве, но… Он разговаривает с канцелярией Господа, требует, чтобы его соединили с Самим, поскольку ему необходимо, чтобы Спаситель прибыл и воскресил Лили. Сейчас угрожает обратиться к конкуренту…» «Печально, — сказал Милов. — Он, кажется, всерьез тронулся». «Дан, это все, что вы можете сказать? — со внезапной тоской в голосе спросила Ева. — Рехнулся, не рехнулся… Это ведь любовь, знакомо вам такое слово? Понимаете хоть, что оно означает? Любовь, о которой может только мечтать — и мечтает всякая женщина, но только редкая встречает в жизни такую… Вы просто никогда не любили, Дан, если ничего другого не можете сказать…» Милов увидел, что на глазах ее выступили слезы, и внезално, помимо желания, представил, что не Лили лежит убитой в собственной постели — Лили, какими-то неведомыми путями впутавшаяся в опасные игры, ставшая звеном цепочки, которую теперь хозяева рвали — безжалостно, уничтожая звено за звеном, — не Лили, а Ева, всего лишь несколько часов назад им впервые встреченная, но чем-то его уже зацепившая, уже прирастившая к себе, как он сейчас почувствовал; он представил себе Еву в постели мертвой — и ощутил вдруг, как перехватило горло, и понял, что куда сложнее обстояло дело с ним самим, чем ему казалось, и не просто из чувства долга он брал ее на руки и нес, но уже ощущая какую-то ответственность за нее — неизвестно перед кем, но ответственность, как за существо, данное ему, и близкое ему, и необходимое ему во всей жизни, сколько бы ее ни оставалось… Он изумился внезапному ощущению и испугался его, и подумал, что если бы это Ева лежала, то он — нормальный, здоровый и ко многому привыкший человек — пожалуй, тоже сошел бы с рельс-не так, наверное, как Граве, но сошел бы…
Сам того не сознавая, он все эти секунды, пока такие мысли проносились в голове, а импульсы — в сердце, смотрел на Еву в упор крепко схватив ее за плечи — и она смотрела на него и, видимо, понимала и читала нечто в его глазах, потому что умолкла и тоже только смотрела…
Громкий звук, донесшийся из прихожей, заставил их опомниться. Милов мгновенно оказался у двери, в руке его как-то сам собой возник пистолет. Опасности не было: это Граве, потерявший сознание, упал, опрокинув столик с телефоном, валявшийся теперь рядом. Ева подбежала, встала на колени около упавшего.
Так или иначе, — думал Милов, глядя на ее узкую спину и светлые, уже высохшие волосы, — свое дело я кажется, благополучно провалил. Были известны две звена цепочки — и вот они, одно за другим, ликвидированы. Куда шла цепочка дальше — у меня лишь слабые представления, да и у всех наших… Да никто не давал мне полномочий идти дальше: цепочка-то вела наверх, тут, наверное, нужен работник с другим статусом. Значит, программа теперь выглядит так: доставить Еву домой, — хоть одно благое дело будет сделано, — Граве отвезти в больницу, а самому спешить в Регину, их столицу, и оттуда доложить, что и как — ну, а дальше как прикажут.
— Думаю, надо поторопиться, Ева, — сказал он.
— Мне никак не удается…
Милов нагнулся, не без усилия поднял Граве с пола и взвалил себе на спину. Что-то осталось в руке, вроде тряпочки, он сунул это в карман, не думая, машинально, из привычки не бросать ничего на пол. Ева отворила выходную дверь, придержала ее, Милов вынес Граве. Дверь мягко защелкнулась за спиной. Рыбки теперь передохнут, — вдруг почему-то подумал Милов и даже пожалел их, как будто рыбки станут единственными жертвами происходившего. Ева шла впереди, Милов тяжело спускался вслед-веса в Граве было куда больше, чем в женщине.
— Дан…
— Ева?
— Странно, правда? И неожиданно… Ему не надо было объяснять, что не о Лили было это сказано, и даже не обо всем том, не вполне понятном, что происходило нынче в городе и вокруг него.
— Ева, я…
— Да. Я ведь поняла.
— Но если бы вы не сказали там, я бы не понял — о себе…
— Не надо объяснять, — сказала она.
— А мне надо, — сказал он. — Только не сейчас. Что с ногой?
— Посмотрим потом. Терпимо.
В машине он спросил:
— К вам домой?
— Да, — сказала она, помедлив. — Наверное, да, Он включил мотор.
До перекрестка доехали беспрепятственно. Там, однако, пришлось уменьшить скорость: за то время, что они провели у Граве, на пересечении улиц собралось довольно много людей, — с дубовыми листьями и без них, вооруженных и безоружных, молодых и пожилых; общим для них было, пожалуй, выражение лиц — какое-то мрачное ожидание читалось на них. Людей пришлось едва ли не расталкивать машиной-дорогу уступали неохотно, в самый последний миг. Милов спросил негромко:
— Где пистолет?
— В сумочке.
— Выньте и держите на коленях. Прикройте хотя бы платочком…
— Знаете, Дан, — помедлив, сказала Ева, — я не поеду сейчас домой: передумала. Мне нужно в Центр. К ним. Тем более, что Карлуски погиб. Так что выезжайте на проспект, и — прямо, пока сумеем. Главное — выскочить на шоссе.
— Ваше слово — закон, — согласился он. — И Граве там пристроим, кстати. Только надо бы где-нибудь заправиться — едем на остатках…
— Направо и еще раз направо, — сказала она.
— Спасибо, мой штурман.
На проспекте прохожих стало намного больше, и с первого взгляда можно было подумать, что все в порядке; однако, в отличие от хаотического движения людей на улицах в обычное время, здесь почти все направлялись в одну сторону; почти не было женщин, и совсем-детей. И никакого транспорта, за исключением той машины, в которой ехали они сами.
— Дан! — это было сказано почти с ужасом.
— Что с вами, Ева? — он резко затормозил.
— Вы что, тоже… из них?
— С чего вы взяли?
— Дубовый лист…
— Он торчит у вас из кармана!
Сняв руку с руля, он вытащил зеленую суконную тряпочку из кармана. Помял в пальцах.
— Шинельное сукно… Не бойтесь, Ева, это я подобрал у Граве в прихожей. Верно, потерял кто-то… тот, кто приходил.
— Дан, я и в самом деле начинаю бояться: что происходит с миром?
— Не знаю, хотя предположения можно строить. Может быть, он, как змея, меняет кожу. Выползает из старой.
— И старая кожа — мы?
— Может быть.
— Слушайте, а это хорошо, что мы едем в ту же сторону, куда идут все они?
— Мы ведь направляемся к центру, если нам нужно на шоссе?
— Но можно и обратным путем-так, как приехали…
— Боюсь, что там выехать из города будет трудно: помните? Ну вот; и люди тоже идут в центр. Да, теперь я уверен: это не само собой случилось. Кто-то это затеял, готовил, командовал. Ну, а теперь — здесь, во всяком случае, — они, видимо, одержали верх. И сейчас должны изложить свою программу и обнародовать указы. И есть лишь один способ сделать это.
— Как в средние века?
— Тока ведь нет, а значит — ни радио, ни теле, ни газет. Нет информации. А без нее-многое ли отличает нас от средних веков?
— Вы всерьез?
— Не совсем, может быть. Думаю, что какие-то качества нас все же отличают, даже когда нет электричества. — Милов кивнул в сторону одного из немногих прохожих, что шли против движения; этот был без листка и тащил два ведра с водой. — Даже когда приходится заменять водопровод вот этим…
— Дан, а вы помните танк? И солдат? Вот это меня всерьез пугает…
— А меня, напротив, успокаивает. Армия бездействует — значит, ждут команды. Откуда? Из столицы, естественно. В таких случаях правительство, как правило, не реагирует мгновенно: нужно взвесить последствия, и внутренние, и внешние.,. А пока армия под контролем правительства, могут быть эксцессы, но до всеобщей резни не дойдет.
— Думаете, в столице не происходит ничего подобного?
— Если правительство хоть чего-то стоит, его не так легко разогнать, как ваших коллег в поселке… Ага! Бензоколонка. Давно мечтал о встрече.
— Дан, я боюсь: вы плохо говорите по-намурски, а они…
— У вас есть какая-нибудь булавка, шпилька? Приколите мне повязку, как только остановимся.
Он подъехал к колонке, затормозил, протянул ей левую руку.
— Теперь пересядьте за руль. Пистолет оставьте на сиденье, под платочком. И если увидите, что у меня осложнения…
— Буду стрелять.
— Нет. Вы немедленно уедете.
— Не выйдет, Дан. С моей ногой мне сейчас даже не выжать сцепления. Так что обходитесь без осложнений.
Он вышел из машины. Заправщика не было. Просунув руку в окошко, погудел; никто не вышел из конторки. Тогда Милов сам отвинтил пробку бака, вставил наконечник шланга. На всякий случай еще раз погудел. Теперь человек вышел и махнул рукой. Проговорил лениво:
— Ты что, только проснулся? Тока нет.
Дурак старый, — подумал Милов о себе. — Знал ведь, что город без энергии, как же насосы станут её качать? Однако же, бензин мне нужен. — Он заметил, что за будкой, почти целиком скрытая ею, стоит «тойота» — наверное, самого заправщика. Ну, — подумал Милов, — у него-то, надо думать, бак полон, не в ту эпоху живем, когда сапожники ходили без сапог… — Милое направился к будке неторопливыми, уверенными шагами.
— Зайдем на минуту к тебе, — он сказал это по-намурски, заранее построив фразу и несколько раз произнеся ее мысленно, чтобы не запнуться.
Заправщик смерил его взглядом, усмехнулся, отступил. Милов шел вплотную за ним. Затворил за собою дверь. Тот обернулся.
— Твоя минута пошла.
— Надо залить бак. У тебя есть запас. Плачу вдвойне.
— Нет у меня бензина, да и некогда: пора на площадь, сам Растабелл, говорят, обратится к народу. И тебе полезно сходить, раз уж листочек надел, хоть ты и иностранец, говоришь как-то дубово. И бабу свою захвати, ей тоже не помешает послушать. — Он кивнул в сторону окна, из которого видна была машина, и в ней — Ева, опустившая боковое стекло. Она тоже смотрела в их сторону — напряженно, упорно. И в самом деле, выстрелит, если что, — поверил Милов, и от этой мысли ему стало весело.
— Ты пешком пойдешь? — спросил он.
— А как же. От машин-вред, ты что, не знал?
— Тогда отдай свой бензин.
— Ого! А до аэропорта я ее плечом толкать буду, по-твоему?
— Куда лететь?
— Дурак ты. Мы их там жечь будем? А ты разве не туда ехал? Постой, постой, а куда же…
Милов нанес удар по всем правилам искусства. Заправщик рухнул, не издав ни звука, хотя и здоровый был парень, бульонный. Милов нагнулся, снял с лежавшего дубовый листок вместе с булавками, ощупал, вытащил тяжелый пистолет. Обойдешься, — подумал он, перешагнул через заправщика и вышел. Аккуратно затворил за собой дверь, подошел к машине. Ева смотрела на него и улыбалась, улыбалась — у него даже дыхание перехватило. Он тоже улыбнулся ей, сказал: "Сдай задним ходом вон туда, к «теисте» — и сам направился туда. Открыл бак — бензина, как он и полагал, было по самую пробку. Подъехала Ева. Милов открыл багажник своей (в сложившейся игре) машины, нашел шланг и стал качать грушу, Бензин полился из бака в бак. Милов внимательно глядел-не появится ли хозяин, но тот, как видно, не спешил прийти в себя. Закончив, Милов аккуратно завинтил обе пробки, шланг уложил в багажник, захлопнул крышку и протянул Еве листок; этот, в отличие от найденного им, был из тонкого пластика.
— Очень модное украшение. Наденьте. Как тут Граве?
— Все по-прежнему.
Они осторожно выехали на улицу. Прохожих стало еще больше. Шли они все в том же направлении. Одиночки, нестройные ряды добровольцев, время от времени — ровно печатавшие шаг небольшие отряды волонтеров. Не было лишь военных…
— Смотрите, Дан!
То были совсем другие люди; прямо посреди улицы шла колонна, человек до сотни, у большинства руки были связаны за спиной, кое на ком одежда разорвана. Их вели люди, одетые одинаково, как волонтеры, но не в отслужившее солдатское, а в черные брюки и черные же облегающие свитеры, и дубовые листья на груди каждого были не зелеными, но ярко-желтыми и сразу бросались в глаза.
— То ли кунсткамера, — пробормотал Милов, — то ли расцвет плюрализма… Это еще что за формирование?
— Молодые стражи, — ответила Ева.
— Все-то вы знаете…
Колонна мешала проехать. Милов решительно загудел.
Строй не сразу, как бы нехотя, начал принимать влево. Объезжать ее пришлось медленно, начти вплотную. Арестованные шли, угрюмо глядя кто под ноги,кто прямо перед собой, никто не шарил глазами по сторонам — видимо, стыдно было своего положения. Один, уже очень немолодой, споткнулся, страж крикнул ему: «Под ноги гляди, морда безродная!» — но тот поднял голову, оглянулся на звук мотора, встретился со взглядом Милова — в глазах старика стояла тяжелая тоска. Ева отшатнулась, припала головой к плечу Милова.
— Осторожно, девочка, — сказал Милое. — А то я врежусь не в того, в кого стоило бы… Она всхлипнула.
— Не понимаю, — сказала она с отчаянием в голосе. — Не могу понять… Ученые, инженеры — дико, но в этом есть хоть какая-то логика. А это?.. Не укладывается в сознании.
— Ну почему же? — сказал Милов даже как-то лениво, словно ему предстояло объяснять ребенку вещи очевидные и понятные едва ли не от рождения. — Для одних истребление природы было причиной требовать изменения самой сути цивилизации, постепенного перевода ее из материального в духовное русло. А для тех, кто организовал все это, — он кивнул в сторону колонны, мимо которой они все еще ехали, — то был лишь повод для обвинения властей в несостоятельности — чтобы захватить все в свои руки.
* * *
Колонна осталась, наконец, позади, и он увеличил скорость — ненамного, потому что люди шли не только по тротуарам.
— Болит голова, — пожаловалась Ева.
— Крепитесь, милая… Вот дьявол! Ну, что ты скажешь!
Впереди, перегораживая улицу, тесно друг к другу стояли грузовики.
— Через такую баррикаду я прорваться не берусь. Разве что на танке. Тут можно двигаться только вместе со всеми.
— Погодите, — хрипло послышалось сзади; Граве очнулся. — Где мы? Куда вы меня везете? Почему?..
— Лежите спокойно, — посоветовал Милов.
— Остановитесь! Выпустите меня! Я убью их, я всех убью! Дайте мне! — он протянул руку между передними сиденьями. — Вы предлагали мне пистолет!
— Разве вы стрелок, Граве? Да и вообще, это не выход.
— Но ведь они убили ее… — проговорил Граве и зарыдал, словно только сейчас поняв, что означали эти слова, — тяжело, истошно, не умея остановиться. Машина тащилась на второй передаче.
— Все, — сказал Милов. — Дальше не проехать. Сделаем так…
Непрерывно гудя, он стал сворачивать в первую же подворотню. Машину нехотя пропускали. Въехали в неширокий дворик с росшим посредине деревом; почти вся кора с него уже опала. Милов остановил машину.
— Придется переждать здесь, — сказал он. — Кончится же когда-нибудь это шествие. Граве, вы сидите и не высовывайте носа, воздавать будете потом, сейчас это невозможно. А вы, Ева…
— Я с вами, — решительно заявила она.
— Но я хочу пойти на площадь — посмотреть, послушать, меня все это чем дальше, тем больше интересует. А у вас нога…
— Мне очень нравится, — сказала Ева, — когда меня носят на руках.
— Ну, если так, то сдаюсь, — капитулировал Милов. Милов вылез, помог выйти Еве.
— Я сразу возьму вас на руки. Так будет надежнее.
— Боитесь потерять меня? — спросила она, улыбнувшись. — Нет, я хоть немного хочу пройти сама.
Он крепко взял ее за руку.
— Все равно, я вас не потеряю.
* * *
Это была Ратушная площадь, и люди заполняли ее до предела; правда, была она не так уж велика, как и в большинстве старых европейских городов. Люди стояли, разделившись на две четко обозначенные группы, одна побольше, другая — не столь многочисленная; видимо, намуры непроизвольно подходили к намурам, фромы — к своим, никто не устанавливал их так, но все же между группами оставался неширокий проход, тянувшийся до самой ратуши, и там, вдоль здания, стояла третья группа, самая маленькая — но то были волонтеры.
— Не станем углубляться, — сказал Милов, когда он и Ева вышли на площадь, несомые потоками — Входя, думай о том, как будешь выходить. — Встав перед Евой, он начал расталкивать толпу и вскоре добрался до одного из окаймляющих площадь домов, остановился близ подъезда. — Вот здесь и останемся. — Он поправил висевший за спиной автомат, ни у кого не вызывавший удивления: вооруженных тут было немало. — Надеюсь, — сказал Милов, — стрелять нам не придется.
— Будем говорить поменьше, — тихо отозвалась Ева, — кто знает, как здесь воспримут иностранцев…
Над площадью стоял гул, неизбежный, когда собирается вместе такое множество людей. Местами над толпой поднимались наспех изготовленные лозунги, намалеванные, скорее всего, на полосах от разодранных простыней. Тут и там размахивали национальными флагами, но в стороне, занятой фромами, мелькали и еще какие-то цвета — возможно, у фромов был и свой флаг, особый. Потом словно кто-то подал знак, Миловым не замеченный, — и все запели что-то, что Милов принял за марш, но то был государственный гимн, и пели его на двух языках, изо всех сил, стараясь как бы перекричать не только другой язык, но и все шумы в стране. Затем вдруг настала полная тишина. На длинном балконе второго этажа показалось несколько человек, все — штатские, только один, очень немолодой уже, был в комбинезоне, как все волонтеры, без знаков различия, но с дубовыми листьями. Они выходили не спеша, один за другим, и останавливались, подойдя вплотную к балконным перилам. Судя по всему, это и были главари-или вожди, те, кто возглавлял это не до конца еще понятное движение с его не до конца еще понятной жестокостью. Можно было ожидать, что их ветретят взрывом энтузиазма, но это, видимо, здесь не было и принято; а может быть, люди и не знали всех в лицо — ведь и суток еще не прошло с минуты, когда все началось.
Наконец, вышел, видимо, последний — их оказалось девять человек всего. Милов машинально огляделся в поисках телекамер, усмехнулся силе привычки: телевидения на сей раз не будет, как не бывало его прежде сотни и тысячи лет…
Люди на балконе помолчали, потом стоявший в середине поднял руку, как бы призывая ко вниманию, хотя и без того все внимание было устремлено на него. По прямой Милова отделяло от балкона не более пятидесяти метров; щурясь, он вглядывался в лица девятерых — лица были обыкновенными, не очень выразительными. Он вдруг ощутил, как Ева сильно вцепилась в его руку. «Больно?» «Нет, ничего…» — не сразу ответила она. И через секунду повторила: «Нет, ничего, ничего». И словно дождавшись именно этих слов, стоявший в середине девятки начал говорить.
— Сограждане — произнес он, потом понял, видно, что на этот раз усилителей и микрофонов нет, и нужно говорить громко, чтобы услышали все, и повторил, на сей раз почти выкрикнул: — Сограждане! Мы с вами решились и совершили великое дело. Вы сами знаете, какое: мы спасли жизнь. Жизнь с большой буквы: нашу, наших детей, всех предстоящих поколений. Десятки и сотни лет люди и правительства, не имевшие или потерявшие чувство ответственности перед настоящим и будущим, убивали, отравляли, калечили мир, в котором мы все живем, в котором только и можем жить. Вы все знаете, и не по рассказам знаете — на самих себе, на детях своих испытали, как все это происходило. Как вырубались и отравлялись леса, как вода превращалась в химический рассол, в котором ничто живое существовать уже не могло, как земля, данная нам от Бога, наша плодородная земля становилась порошком вроде тех, каким морят насекомых — но это не насекомых морили, это нас медленно, но верно убивали, начиняя плоды нив, и садов, и пастбищ такими количествами противных жизни веществ, что мы, сами того не понимая, подходили уже к той грани, за которой нача" лось бы стремительное и неудержимое вымирание… Ради чего все это совершалось, сограждане? Ничто не требовало этого, потому что нет смысла в росте населения, если оно растет лишь для того, чтобы быть отравленным, удушенным и сожженным". И мы, в нашей маленькой стране, тоже пользовались ядовитыми плодами этого образа жизни, и к нам приезжало все больше людей из других стран, привлеченных нашим кажущимся благополучием, и приезжали они не с пустыми руками, вначале привозили особой горькие плоды науки и техники, а затем стали выращивать их и на нашей благословенной земле — и мы не запретили им въезд не подумали о своем будущем — говоря «мы», я имею в виду то правительство, которое существовало до вчерашнего дня; но бремя его вины перед народом превысило все мыслимые пределы, и Создатель — или судьба, если угодно — сурово покарали преступных властителей: рухнула, как многие из вас уже слышали, плотина, и потоп обрушился на столицу, и все они утонули, подобно крысами…
Рев толпы прервал его. Господи, что за идиоты, — подумал Милов, понимавший не все, но главное. — Радуются беде — как же они не соображают, что погибли наверняка и сотни тысяч людей, таких же, как они сами, ни в чем не виноватых… Так вот, Значит, в чем дело, почему нет энергии и откуда вода в канавах… Но он подставляется очень необдуманно — опыта не хватает?..
Опыта, видимо, было достаточно, потому что оратор продолжал:
— Да, погибли многие и многие, и мы скорбим о них. Но разве не сами они привели себя к погибели? Разве не им, жителям столицы, разве не их заводам и вертепам прежде всего нужна была та сила, ради которой и воздвигали плотину, чтобы вода, наша чистая, природная вода вертела их машины, убивавшие и уже убившие жизнь в нашей реке и других водоемах? Да, и мы с вами, сограждане, остались без электричества, и нам отныне придется многое делать не так, как до вчерашнего дня, — но предки наши на нашей земле столетиями жили без него — и только благодаря их здоровой жизни мы и появились на свет! Вспомним о предках, сограждане, и пожелаем стать такими, как они, и не сетовать, но благославлять ту волю, благодаря которой все произошло… Ограничим себя, сограждане, и в потребностях, и в поступках, будем жить скромно, строго, целеустремленно и чисто…
— Дан! — возбужденно прошептала Ева. — Но ведь все это верно, он прав! Он прав!
— Согласен. И все же… где-то в рукаве у него крапленая карта. Очень уж не вяжется…
— Это же Растабелл, Дан! Он честный человек…
— Ну, может быть, и не он сам, но кто-то из близких к нему гнет свою линию: идет к власти, к полной власти, к диктатуре, может быть… Погодите, послушаем еще.
— …Вы скажете, сограждане: но ведь и мы виноваты! Да. Но разве мы не поняли? Разве не раскаялись и не доказали этого делом?
Тут толпа снова на несколько мгновений взорвалась ревом; Милов почувствовал, как вздрогнула Ева, да и самому ему стало не по себе, хотя он вроде бы привык в жизни ко всякому. Он их доведет до кипения, — подумал Милов, — тогда уже не помогут никакие танки… Люди ревели, топали, аплодировали, поднимали в воздух оружие — те, у кого оно было, остальные вздымали над головой сжатые кулаки, размахивали флагами. Казалось, взрыв этот никому не под силу унять, но оратор снова поднял руку — и толпа затихла сразу, доверчиво, покорно. Да, он хорошо держит их в руках, — подумал Милов. — Не зря оказался во главе.
Растабелл, Растабелл… что-то я слышал — или читал?.. — Но оратор уже заговорил снова:
— Мы это сделали, да, сограждане. Но это не значит, что мы целиком оправданы. Мы все еще виноваты, виноваты в том, что были слишком нерешительны, И на нашей благословенной Господом земле возникла страшная язва, рассадник гибели. Вы отлично знаете, о чем; я говорю: о Международном Научном центре. Нельзя было допускать его. Нельзя было идти ни на какие соглашения. Мы — допустили. И в этом — наша общая вина, и теперь получить прощение матери-природы и самого Творца мы можем только все вместе, общими действиями. Потому что, дорогие сограждане, дело дошло до того, что и на, нашей земле стали рождаться дети, которые не хотят жить. Это наша с вами гибель. Это преступление не одного только нашего века — это величайшее преступление за всю историю рода людского?
Снова взрыв. Ева сказала в самое ухо Милова — громко, иначе ему не услышать бы:
— Дан, он все равно прав-куда бы ни гнул. — Милов кивнул:
— А лозунги всегда правильны. Они — начало. Но потом…
Он умолк одновременно со всеми: снова над головой оратора взлетела рука.
— Но мы выступили вовремя, все еще в наших руках! Сограждане… — тут он запнулся, почти незаметно, на полсекунды только, но все же запнулся, словно ему надо было в чем-то преодолеть, убедить самого себя, и это ему удалось, хотя и недешево стоило. — Всего лишь несколько часов прошло с той поры, как остановились заводы, как перестали они отравлять воздух — наш с вами воздух. И вот — результаты! Наши дети (он снова на мгновение прервался, словно перехватило горло), наши дети, о которых я сказал, были помещены в условия, в которых не должны жить люди, только лабораторных крыс можно использовать так. Вы спросите: а что еще было делать, нельзя же было позволить им умереть! Отвечу: да, нельзя! Но не надо было для этого замыкать их в непроницаемые камеры, словно приговоренных к пожизненной тюрьме; надо было сделать то, что и сделали мы: убрать, обезвредить источники отравления! Мы сделали это — и вот…
Он повернулся к выходившей на балкон двери. Толпа замерла. И тут же, одна за другой, на балкон вышли четыре рослых женщины, одетых, как сестры милосердия, и каждая держала на руках младенца — крохотное тельце, аккуратно укутанное в одеяльце. Один ребеночек заплакал, и такая тишина стояла на площади, что этот тихий плач услышал каждый.
Растабелл поднял голову, раскрыл рот, но, наверное, не нашел нужных слов; молчание на миг стало невыносимо тяжелым — и тут заговорил другой, стоявший рядом с ним, слева:
— Вы видите, сограждане! — крикнул он. — Вот они! Всего несколько часов — и они уже дышат, как мы с вами, обыкновенным воздухом. Не потому, что изменились они: изменился воздух!
На этот раз ликующий рев достиг такой силы, что даже Растабеллу не по силам оказалось бы справиться с ним, не то, что новому оратору; люди клокотали, как лава в кратере проснувшегося вулкана. Многие плакали, не стесняясь.
— Дан… Я не верю, этого не может быть, мне кажется, тут совсем другие дети…
— Кричите «Ура!» — ответил он, — кричите громче! — И сам заорал: — Да здравствует! Ура! Ура!
Не менее десяти минут прошло, пока второй оратор смог заговорить снова:
— Сограждане! Наш Первый гражданин напомнил вам, что минувшей ночью многие выступили против источников гибели. И обезвредили некоторые из них. Но не, все! Успокаиваться рано, снова могут закипеть котлы с адским варевом, в воздух и воду снова извергнутся плоды дьявольской кухни! И еще не наказаны те, кто занимался и дальше готов заниматься этими человеконенавистническими делами — если мы не помешаем… Что же удивительного, мои сограждане, намуры и фромы: ведь большинство из них не принадлежит к нашим народам, это пришлые люди, чуждые нам, и они не станут щадить ни нас, ни наших детей, и если даже все мы поголовно вымрем, никто из них не почешется. Люди бушевали, и ров их, отражаясь от каменных стен, вихрился, креп, оконные стекла звенели и, калалось, вот-вот разлетятся осколками. Говоривший снова терпеливо обождал.
— Как же мы, друзья, поступим с ними? Тут были разные мнения: проявить милосердие и просто выбросить их за пределы страны; или же, поскольку они ели наш хлеб и наносили нам ущерб, заставить их честным человеческим трудом покрыть причиненные нам убытки. Да, собратья, мы люди милосердные, и нам чуждо стремление причинить кому-либо вред. Но ответьте: а они о нас думали, они нас жалели? Нет и нет! И мы поняли одно: этих людей не переделать. Поступить со всеми ними, и преступниками, и пособниками, милосердное — означало бы снова предать наш народ, не избавить его от давно нависавшего дамой… дакло… ну, от меча гибельной угрозы, черт меня возьми, мне эти чужие слова всегда нелегко давались… — Он переждал одобрительное гудение толпы, постепенно он обретал власть над нею. — Нет! — выкрикнул он затем. — Мы не пойдем на предательство — да вы и не позволите нам, потому что в своем сердце вы уже вынесли им приговор, и приговор этот — смерть!
На этот раз шторм грянул не сразу, и как-то вроде бы нерешительно, но в разных углах площади все громче и определеннее раздавалось: «Смерть! Смерть!» — и в конце концов сборище загремело еще грознее, чем прежде.
— Дан, я боюсь…
— Вот теперь обозначилось направление, понимаете?
— Кто бы мог подумать: в наше время, во вполне цивилизированной стране, с традициями…
— Диалектика, — усмехнулся Милов. — Единство противоположностей, новое вызревает в недрах старого… Довольно противный голос, кстати.
— …Не месть и не расправа — наша цель, но уничтожение всего того, что угрожает жизни. Все, что принесено извне в нашу жизнь, в наши дома, на улицы, в леса и поля, реки и озера той болезнью, которую именуют научно-техническим прогрессом — все это подлежит уничтожению. Долой! Долой все то, что, как нам по нашей наивности казалось, делает нашу жизнь удобнее, комфортабельнее, приятнее! Ибо все это, братья, действительно делало удобнее-но не жизнь нашу, а смерть, нашу с вами и всех тех, кому надлежало прийти от нас — после нас. Поэтому — не надо жалости! Не надо сомнений! Чистый воздух, чистая земля, чистая вода, чистый народ!..
— Дан, вы понимаете, что это значит? Это же призыв разгромить Центр и расправиться…
— Чего уж проще.
— До сих пор я надеялась, что дети послужат защитой, те, что у нас в Центре: это же их дети! Но теперь… Дан, они ведь, по сути, решили принести их в жертву, раз объявили здесь, что они здоровы и благополучны, что там их больше нет. И Растабелл среди них, вот этого я не могу понять…
— Почему?
Ответа он не получил: почувствовал, что кто-то оттесняет Еву от него, насколько это было возможно в плотной толпе. Не размышляя, Милов резко двинул рукой, почти наугад. Но в этой каше нельзя было ударить, как следует, и кулак лишь скользнул по чьей-то скуле. Ева, изловчившись, перехватила его руку.
— Дан, милый, это же Гектор, из Ю-Пи-Ай, это свой… Гектор, это Дан Милов, из России. Гектор, кто это вас так? Дан не мог… — Простите, Гектор! — заорал Милов, чтобы перекричать толпу. — Я было решил…
— Пустяки, Дан, то ли бывает. Вы от кого?
— Я тут в общем случайно.
— Жаль-обменялись бы информацией. Меня потрясло чудо с детьми: за несколько часов…
— Чистый блеф. А меня — то, что он сказал о плотине. Действительно — потоп?
— Плотина рухнула, как по заказу, с нее и началось, хотя терпение у людей давно было на исходе; я здесь третий год, и жизнь за это время не становилась легче…
Погодите, о чем он?
— …Сограждане! Еще одно усилие! И оно будет последним. Сотрем с лица земли, и плугом проведем борозду…
— Ну, программа изложена исчерпывающе. Знаете, Гектор, я, откровенно говоря, побаиваюсь.
— Ничего, выберемся…
— Я не об этом. Понимаете, такое напряжение ведь не только в Намурии. Легче сказать, где его нет: в Швеции и Швейцарии, может быть, А примеры заразительны. И если в других странах не начнут принимать серьезных мер".
— То есть, не прибегнут к армии?
— Глупости, Гектор. Серьезные меры могут быть лишь одни: немедленно жать на тормоза, наводить порядок в защите жизни от «Хомо Фабер», иначе мир может в несколько дней превратиться в черт знает во что… Вы уже ударили в свой колокол?
— Как бы не так! Нет связи, понимаете? Столько информации, и нет возможности передать…
— А Центр? — спросила Ева. — Там-то энергия, наверное, есть: станция своя, и радиоцентр — тоже…
— Я всегда говорил, что женщины умнее нас, — сказал Гектор; они говорили по-английски, и на них все чаще косились те близстоявшие, кто мог хоть что-то услышать, кроме не прекращавшегося рева толпы. — Давайте исчезнем, пока это еще возможно. И постараемся пробиться в Центр. Хотя не представляю…
— У нас тут рядом машина.
— Тогда я с вами. Берете?
— С радостью. Помогите Еве, Гектор, у нее нога. А я пойду ледоколом: меня сегодня еще не били. Ну — вперед!
* * *
Они опоздали на несколько секунд: уже вся масса людей устремилась в улицы, уводящие с площади, и троих просто-напросто потащило вместе со всеми. Противостоять потоку было невозможно. К счастью, их понесло по той же улице, по которой они пришли.
— Страхуйте Еву справа, иначе ее сомнут.
— Понял, Дан. Когда-то я умел…
Журналист и сейчас не утратил способности ввинчиваться в толпу решительно, но не грубо, без обострений.
Как течение выносит щепку в спокойную заводь, их вытолкнуло в подворотню. Двор был пуст, лишь дерево по-прежнему медленно умирало, и ему не легче было оттого, что судьба его наконец-то заинтересовала людей всерьез.
— Прыжки и гримасы, — пробормотал Милов. — Где машина?
— Наверное, там, где Граве, — ответила Ева, вытирая пот со лба. — У меня чуть не вырвали сумочку… О, да в ней кто-то успел похозяйничать!
— Пистолет?
— Цел: в кармане жилета. А вот кошелек…
— Выживем — разбогатеем. Как удалось Граве вырваться? Почему он не дождался нас? Хотя, может быть, он ни при чем, а машину угнали, чтобы сжечь; призывы здесь, похоже, осуществляются быстро.
— Дан, — сказала Ева. — Кажется, я смертельно устала, и нога никак не успокаивается. Пешком до Центра не добраться. Выход пока один: идемте ко мне.
— А там у вас машина? — с надеждой спросил Милов.
— Моя осталась в Центре, но другая, надеюсь, дома. Там можно будет подумать спокойно, для меня найдется неплохая аптечка. Гектор покачал головой:
— Я неплохо знаю Лестера, Ева. И, откровенно говоря…
— Его сейчас нет дома, — сказала Ева уверенно. — Дан, не размышляйте глубокомысленно. Поверьте: я права. Идемте. Теперь моя очередь возглавить шествие.
* * *
Улица, на которой они вскоре оказались, была застроена красивыми многоэтажными домами, теперь уже старыми, но по уроню удобств наверняка превосходившими те жилища, которые во множестве воздвигал нынешний век. Было нечто величественное в этих строениях, среди которых не было и двух одинаковых, но все вместе они выглядели архитектурным целым; объединяло их, кроме единой школы, и еще одно: ощущение неприступности, замкнутости, какой-то крепостной уверенности в себе…
Но сейчас незримые крепостные валы словно бы рухнули, и возле домов толпился народ, тяжелые, привыкшие стоять замкнутыми двери подъезда были распахнуты настежь, зеркальные окна — тоже, и уже летели на мостовую книги; некоторые падали тяжело, кирпичом, словно за годы стояния на полках книжных шкафов-семейных, переходивших из поколения в поколение, — листы их так срослись друг с другом, что уже не могли более разъединиться, как не могли разъединиться судьбы их героев или символы их формул; другие книги, как будто стараясь подольше удержаться в воздухе, а может быть, и вовсе улететь от ожидавшей их судьбы, раскрывались на лету и были похожи на подстреленных из засады птиц; третьи, самые старые, возможно, или более других читанные, уже в падении разлетались отдельными страницами, и можно было подумать, что кто-то швыряет сверху пачки листовок, чтобы донести до людей неизвестно чей яростный призыв… Внизу люди сгребали упавшие книги, сносили на руках, толкали ногами, прикладами ружей, громоздя кучу, и кто-то уже подносил к куче зажигалку, бережно прикрывая ладонью лисий хвостик пламени.
— Боже мой, боже мой, — бормотала Ева. — Книги, но зачем же книги — они же не вредят природе, почему же их…
— А почему же нет? — сказал Милов, криво усмехнувшись, — Где граница, до которой можно, а дальше — нельзя? Если можно убивать людей — почему же не жечь книги? Трудно бывает начать, но еще труднее — остановиться, особенно если катишься с кручи в каменный век…
— Ненавижу ваше спокойствие, — задыхаясь, проговорила она.
Тем временем еще другие окна распахнулись, и, вперемешку с книгами, стали грохаться на тротуары и проезжий асфальт радиоприемники, от карманных транзисторов до массивных настольных всеволновых суперов — один, маленький, угодил в голову кому-то из усердствовавших внизу — тот схватился рукой за поврежденный череп, сквозь пальцы проступила кровь, кто-то засмеялся, никто не подошел помочь; гулко взрывались выброшенные телевизоры; откуда-то волокли, кряхтя, аппарат телекса; из другого подъезда вышвырнули сильно, словно из катапульты выстрелили, человека — лицо его было в крови, он прижимал к груди пачку каких-то бумаг, их рвали у него, несколько раз ударили, швырнули на тротуар; там он сел, глаза его близоруко моргали, по лицу текли слезы, но обрывки бумаг он все же сжимал в пальцах… «Господи, — простонала Ева, у нее подгибались ноги, Милов и Сектор едва не силой тянули ее вперед, поддерживая с двух сторон, — это же поэт, я его знаю, мы здороваемся, его, наверное, спутали с братом, тот — ученый, но занимается астрофизикой, ну какой от нее вред природе?..»
Они подошли к дому, где жила Ева. Из дома тащили уже не книги, а книжный шкаф, старинный, резной, черный, одна дверца его все время открывалась, ее со злостью захлопывали, но она снова падала. «Это не ваш, Ева?» — спросил Гектор. Она медленно качнула головой, «Нет. У нас все современное, мы ведь здесь недавно…» Люди со шкафом застряли в подъезде, войти было невозможно. «Гектор, помогите им», — попросил Милов. «Чтобы я, своими руками?..» — «Именно вы, и своими руками: должны же мы попасть внутрь». Гектор выругался и пошел на помощь тащившим; те были хлипковаты, чего нельзя было сказать о корреспонденте. С его помощью шкаф выволокли, бросили на улицу, стали, усердно пыхтя, разламывать на доски. Гектор вернулся. «Чувствую себя подонком», — сказал он, снова взяв Еву под руку. «Зачем, зачем? — снова не проговорила, скорее простонала Ева. — Культура же не враг экологии, наоборот, зачем же они все это?..» «Когда же вы здесь, в вашем западном парадизе, научитесь понимать, что лозунг — одно, а действие — совсем другое», — с досадой пробормотал Милов. «Теперь, наверное, уже никогда, — ответил Гектор, — просто не успеем. По-моему, третий этаж, Ева?» «Третий», — подтвердила женщина безразличным голосом. Лифт, естественно, не работал. Милов поднял Еву на руки, сказал Гектору: «Идите вперед». На площадке второго этажа двое, один с дубовым листом добровольца, другой в полицейской форме, но без нашивок, преградили им дорогу. «Кто такие? Здесь живете?»-спросил доброволец. Полицейский молчал, внимательно глядя на Милова; Даниил опустил Еву, помог ей встать на ноги, чувствуя, что сейчас понадобятся свободные руки — тогда полицейский перевел взгляд на обезьяний галстук Милова — всмотрелся внимательно, словно там было написано нечто, — потом посмотрел Милову прямо в глаза. Гектор тем временем тихо и зловеще втолковывал добровольцу; «Ты что, сукин сын, не видишь — это мадам Рикс?» «А на ней не написано, какая она такая мадам, — не без некоторой наглости отвечал тот. Полицейский сдержанным и уверенным голосом произнес: „Пр-рапустить!“ „Слушаюсь!“ — немедленно ответил доброволец. Полицейский, все еще глядя в глаза Милову, едва уловимо качнул головой, чуть заметно приподнял плечи, Милов же не то, чтобы кивнул, но сделал какой-то неуловимый намек на такое движение. После этого он, поддерживая Еву, повел ее наверх. Гектор замыкал шествие. „Сейчас“, — сказала она и стала рыться в сумочке. Потом подняла глаза на Милова. „Наверное, вытащили вместе с кошельком… Господи, я устала, устала, не могу больше…“ — и заплакала. Милов смерил взглядом дверь — она была даже на вид массивной, не из тех, какие вышибают плечом или ногой с разбега. „Ничего, — сказал Милов, — не волнуйтесь, Ева, милая: сейчас все уладим“. Он перегнулся через перила. „Капитан, — крикнул он вниз, — поднимитесь, пожалуйста, нужна ваша помощь“. Человек в полицейском мундире поднялся по ступенькам. „Мадам потеряла ключ, — объяснил Милов, — дайте возможность попасть в квартиру“. „Но, господин по…“ Милов прервал мгновенно: „Это моя личная просьба“. Полицейский, не колеблясь более, вынул из кармана черную коробочку с кнопками, повозился с полминуты, открыл дверь — за ней оказалась другая, она тоже отняла несколько секунд. „Прошу“, — сказал он и отступил в сторону. Ева вошла, за ней Гектор, Милов задержался на мгновение. „Что тут? — спросил он капитана полиции. — Что-то еще можно сделать?“ Полицейский покачал головой. „Мы зашли в тупик, сейчас все порвано, обстановка неясная — пока стараемся уцелеть“. „Же — лаю“, — кратко попрощался Милов, потому что изнутри уже звала Ева: „Дан, ну где вы там!“ Он вошел, закрыл за собой обе двери. „На засовы, пожалуйста, — попросила Ева, — механика не действует“. Вслед за хозяйкой они вошли в обширную комнату, где она не села, а просто рухнула на широченный диван. „Сядем, передохнем, — сказал Гектор, — тут мы в безопасности“. Милов кивнул: он знал это лучше Гектор, однако говорить об этом счел излишним: это только его было дело и еще нескольких человек в этой стране (и капитана полиции-или бывшего капитана, черт его теперь знал) — и ничьим больше. „Понимаю, — сказал он, — раз тут живет Рикс, то и выставлена охрана, не так ли7“ „Если бы только Рикс! — усмехнулся Гектор. — Там, на втором этаже, где они стоят — сам Мещерски!“ „Ах, да, Мещерски, — сказал Милов с понимающим видом, — ну, конечно, как же я сразу не подумал! Кстати, а кто такой этот Мещерски?“ Тут они оба расхохотались. „Нет, Дан, в покер с вами я не сяду, — сказал, посмеявшись, Гектор, — я было и вправду поверил, что вы в курсе всех дел, Мещерски — это тот, кто выступал на площади вслед за Растабеллом. Глава добровольческого движения, председатель партии борьбы за жизнь, и так далее“. „Высоко залез, — сказал Милов. — Судя по фамилии, он мой соотчич? Из эмигрантов, что ли?“ „Нет, не думаю, чтобы он был русским — возможно, кто-то из предков, но вообще-то он свой род ведет, по слухам, от каких-то греков, или из тех краев, во всяком случае“. „Интересно, — проговорил задумчиво Милов, — деятель культуры и глава штурмовиков — в одной упряжке?..“ „Ну, это до поры до времени, — уверенно промолвил Гектор, — Растабелла они сразу же, как только утвердятся у власти, ну, не то, чтобы выкинут, но сделают из него — как это у вас, русских, называется — образец…“ „Образ, — поправил Милов, — икону, вы это имели в виду?“ „Вот-вот, и будут ему поклоняться, но делать-то станут по-своему“. „Ясно, — сказал Милов и встал. — Ева, — позвал он осторожно; женщина лежала с закрытыми глазами и отозвалась лишь на повторное обращение. — Вам что-нибудь нужно?“ „Спасибо, Дан, ничего, я просто полежу, только, если можно, снимите с меня ваши туфли — я вам очень благодарна за них, но теперь я уже дома“. Милов осторожно снял с нее туфли. „Ева, с ногами нужно что-то сделать. Где тут поблизости живет врач?“ „Не нужно врача, в ванной откройте аптечку, там есть такая коричневая туба с мазью — это все, что нужно“. Милов не сразу (жилище было обширным) нашел ванную, принес требуемое, выдавил мазь на пальцы, осторожно начал втирать. „Как приятно, — тихо проговорила Ева, — еще, пожалуйста… и вторую тоже…“ Это заняло минут пятнадцать; Гектор тем временем, сперва поглядев на них с иронией, закрыл глаза и, кажется, задремал. „Я еще полежу немного, — сказала Ева, — а потом чем-нибудь покормлю вас“. Милов и в самом деле почувствовал, что закусить было бы не лишне. Услышав о еде. Гектор мгновенно открыл глаза. „Кстати, о еде — а где у вас телефон? Серьезный, я имею в виду“. „В его кабинете, — сказала Ева бесцветным голосом, — из холла по коридору прямо, в самом конце“. „Да не работают телефоны, Гектор, — напомнил Милов, — тока ведь нет“. „Ну, — сказал Гектор, — правил без исключения не бывает, это-то вам известно?“ „Тогда я с вами“, — сказал Милов. Он снова подошел к Еве, погладил ее по голове-она слабо улыбнулась. Гектор уже вышел, чтобы, по журналистской привычке, первым захватить связь. „Дан, — тихо сказала женщина, — вы меня презираете?“ „За что, Ева?“ „Ведь Рикс — мой муж, вы знаете… И он во всем этом играет какую-то роль — похоже, немалую, Но я не знала, и сейчас не знаю, честное слово…“ Милов пожал плечами. „Ну, и что? Почему вы должны стыдиться своего замужества? Я вот тоже был женат, и надеюсь, что вы простите мне это: тогда я ведь не знал вас…“ Он ожидал, что она снова улыбнется, но женщина оставалась серьезной.»Рикс, — повторила она, — он ведь тоже стоял там, на балконе, по соседству с Растабеллом и Мещерски…" Милов присвистнул. «Но какое отношение он, иностранец, может иметь…» «Я не знаю, как и что, — сказала она, — честное слово, хотя и знала, что у него есть какие-то дела с политиками-но ведь деловому человеку без этого нельзя. Но я не предполагала, клянусь вам…» «Ева, — серьезно сказал Милов, — я тоже клянусь вам, что никогда не стану целоваться с Риксом». На этот раз она все же подняла уголки губ. «А со мной?» Милов нагнулся и поцеловал: поцелуй был долгим. «Идите, — сказала она, — не то моего терпения не хватит».
Он прошел в кабинет. Гектор сидел за обширным пустым столом. Тихо звучал транзисторный приемник; передача шла на английском языке. Кроме приемника здесь были два телефона, стоял телекс, факсмашина,на отдельном столике — персональный компьютер, по стенам — закрытые полки с видеокассетами и дискетками. Гектор нажимал клавиши одного из телефонов. Окна были зашторены, шум улицы сюда не доносился.
— Ну, есть успехи?
— Вот этот аппарат дышит. Остальное мертво.
— А компьютерная связь?
— То же самое. Звоню всем подряд. Аэропорт, вокзалы, телевизионный центр — все молчат. Ни междугородный, ни международный каналы на действуют, Впечатление такое, что все телефоны в городе выключены — кроме таких вот, особых, Это специальная линия, с питанием от установки в Министерстве порядка.
— Но ведь эти, работающие, должны для чего-то служить?
Гектор не успел ответить: телефон зазвонил — негромким, приятным жужжанием.
— Не снимайте, — поспешно сказал Милов. Гектор кивнул. Телефон прожужжал несколько раз и умолк.
— Кому-то нужен Рикс, — сказал Милов.
— Вероятно, Рикс должен скоро явиться, — сказал Гектор. — Это было бы некстати.
— А может быть, он сам разыскивает жену?
— Если так,то теперь он знает, что ее нет дома.
— Кстати, что вы успели услышать по радио?
— Сообщили, что связь со страной прервана и граница закрыта. Больше никто ничего не знает: ни Рейтер, ни ваш ТАСС, ни, естественно, Ю-Пи-Ай — поскольку я сижу здесь и молчу. Значит, ни у кого нет связи, не только я один страдаю.
— Попробуйте позвонить еще. Может быть, в префектуру?
— Мысль не банальна. Спрошу хотя бы, какие возможности связи будут предоставлены иностранным корреспондентам.
— Постойте… Если префектура работает, там в два счета установят, откуда вы звоните.
— От Рикса, не откуда-нибудь.
— Не годится. Если вы рядом с Риксом, то он знает больше, чем сам префект — вам не понадобилось бы звонить.
— Верно. Значит, у нас остаются две возможности выйти на связь: через армию или научный центр. Надо спешить, Милов, не то во мне крепнет ощущение не просто дармоеда, но плохого журналиста, а я всю жизнь считал себя хорошим… Что там, на улице? Милов подошел к окну, отодвинув штору.
— Работают вовсю.
— То есть жгут?
— В лучших традициях.
— Жутковато становится, честное слово… Не знаю, как вас, Дан, а меня успокаивает лишь то, что у нас это было бы невозможно.
— Не знаю, Гектор, не знаю. Конечно, у вас великие демократические и гуманные традиции и все такое прочее, однако люди везде боятся за свою жизнь, людям всюду надоела расправа с миром, в котором мы живем, и людям повсеместно осточертело, что правительства много говорят, еще больше обещают, но слишком мало делают для того, чтобы цивилизация перестала быть смертоносной. И вот под знаменем борьбы с этими уродствами людей можно повести в конечном итоге на что угодно.
— Хорошо, — Гектор встал. — Я понял, что работать мы должны каждый в своем напраалении: так больше шансов. Я попробую договориться с военными.
— А я поспешу в Центр. Постараюсь не опоздать.
— Боитесь, что там будет жарко?
— Уверен в этом. Но что делать?
— Вы правы. Но только — Дан, не обижайтесь, вроде бы и не мое дело, однако, хочу сказать вам… Не тащите женщину на гибель. Да-да, Еву, не делайте большие глаза, тут и слепой бы все увидел. Я понимаю — она сама хочет, там ее пациенты, и так далее. Но все они-все, кто есть и еще окажется там — скорее всего, обречены: вы же слышали речь и видели толпу. Зачем же лишние жертвы?
— Простите, Гектор, но вы не понимаете…
— Да все я понимаю, я же вам сказал… Но вот именно поэтому — не берите греха на душу. Вы малый прочный и, надеюсь, выкрутитесь, а если и нет — что же, все от Бога; но вот она… Так что я вам всерьез советую: уходите, пока она еще не пришла в себя, Иначе вам ее не удержать, а без вас она, быть может, и на рискнет, а может, муж удержит…
— Вы правы, Гектор, — сказал Милов, помолчав. — Тогда объясните — как мне добраться туда кратчайшим путем. Я плохо знаю город, вернее — почти совсем не знаю, На листке блокнота Гектор набросал схему.
— Вы легко разберетесь. Двинете пешком?
— Как получится.
— Сейчас пешком проще. Милое кивнул и сказал:
— Давайте-ка и мне листочек.
Не садясь, он написал: «Ева, дорогая. Вам лучше пока побыть дома. Я навещу Центр и вернусь. Берегите себя». Он покосился на Гектора и дописал: «Целую. Ваш Дан». Проставил время.
Он на цыпочках вошел в комнату, где лежала Ева. Она спала, постанывая во сне, один раз скрипнула зубами. Милов постоял, глядя на нее, борясь с искушением подойти. Туфли — его, миловские — свалялись рядом с диваном. Их он подобрал, чтобы потом, в холле, переобуться. Записку сложил пополам, домиком, и поставил на низенький круглый стол близ дивана. Еще раз посмотрел на Еву. Вдруг усмехнулся, снял свой дивный галстук, — теперь он уже не нужен был, — и тоже положил на стол по соседству с запиской; эту пеструю тряпку она заметит во всяком случае — и улыбнется… Повернулся и вышел. В холле переобулся, взял прислоненный к стене автомат, закинул за спину.
— Вы обещали мне пистолет, — напомнил Гектор. Милов вынул из глубокого кармана армейский, позаимствованный на бензозаправке.
— Постарайтесь при случае раздобыть что-нибудь более убедительное, — посоветовал он.
— Вроде этого, вашего?
Они тихо затворили за собой обе двери. На втором этаже по-прежнему дежурили. Гектор сказал строго:
— Мадам остается дома. Господин Рикс скоро прибудет. Так что будьте внимательны.
Он начал спускаться. Полицейский сказал своему напарнику: «Проводи господ, чтобы там — сам понимаешь…» Доброволец щелкнул каблуками и последовал за Гектором. Тогда полицейский проговорил едва слышна:
— Колонель…
Милов посмотрел на него взглядом, выражавшим абсолютное непонимание.
— Простите, офицер, вы и тогда уже что-то говорили мне, но, боюсь, что приняли меня за кого-то другого. Извините, я спешу.
— Прекрасная погода на дворе, не правда ли? — спросил капитан полиции вместо ответа. Милов прищурился:
— Вы полагаете, можно не-брать зонтика?
— Разве что от солнца. Милов напрягся:
— Слушаю. Докладывайте.
— Капитан Серос, из Службы. Мы вас ждали еще вчера, я опознал вас по галстуку.
— Вчера я попал в охоту.
— Вам просто не повезло: вы видите, что здесь происхо-дит. Полиция, по сути, распущена, армия стоит в сто-роне… Но даже вчера было бы уже поздно. Все мыопозда-ли, Но главное — мы ошибались: по цепочке шел не наш товар. Мы не успели выяснить, что именно перевозили, но только не нарки. Теперь цепочка порвана. Будут приказа-ния, колонель? Милов пожал плечами.
— Цепочку я видел — обрывки… Не знаю, капитан. Старайтесь выжить, не влезая в эти дела слишком глубоко — вот все, что могу посоветовать.
— Голова идет кругом… — пожаловался полицейский. — А вы попытаетесь выехать?
— Капитан! — сказал Милов с упреком: начальство, как известно, не спрашивают. Повернулся и заспешил вниз.
Гектор ждал в подъезде. Добровольца не было видно.
— Что у вас там за секреты? — подозрительно спросил журналист.
— Ну, какие у нас могут быть секреты, — сказал Милов. — Просто хотел уточнить дорогу.
— Ладно, не хотите — не говорите, — обиженно проговорил Гектор. — Зато я тут узнал еще одну интересную новость. Этот доброволец — фром, понимаете?
— Да будь он хоть папуасом…
— Вы не понимаете ситуации, Дан. Понимаете, оказывается, фромы под шумок решили отделиться от Намурии, раз все идет вверх дном…
— Я же вам говорил: экологические кризисы порой принимают странные формы, — усмехнулся Милов. — Ну, двинулись?
Они вышли на улицу. Там было дымно. Гектор сказал:
— Будем живы — встретимся.
— Все бывает, — сказал Милов, И они зашагали — каждый в свою сторону.
* * *
Милов шел по тротуару тем обманчивым шагом, какой кажется неторопливым, но на самом деле позволяет развивать немалую скорость. С дубовым листом на рукаве, с автоматом за спиной он ничем не отличался от большинства других людей на улице; те жители, у которых не было ни листьев, ни оружия, ни желания участвовать в происходящем, отсиживались, надо полагать, в домах, надеясь, что происходящее их не коснется. Костры из книг чадили, зато мебель, тоже выброшенная кое-где под горячую руху, горела весело. Интересно, — думал Милов, спокойно вышагивая, — очень даже интересно… По правилам мне действительно надо как можно скорее покинуть страну — мне здесь больше делать нечего, как должностному лицу. Но вот как человеку… Если ты человек, то не можешь так просто сказать себе: это не моя страна, не мой народ, это их внутренние дела, меня вся кутерьма совершенно не касается, пусть жрут друг друга, если это им нравится — главное, чтобы у меня дома все обстояло благополучно… Не можешь хотя бы потому, что нет больше домов-крепостей, и все, что происходит в одном, завтра перекинется и на другой, в наши дни всякий политический процесс подобен если не чуме, то уж во всяком случае СПИДу, и сколько ни кричи «у нас этого нет» — завтра же убедишься, что — есть, и еще сколько… Нет, удрать сейчас — это не для меня. Но, значит, надо становиться на чью-то сторону. А на чью? Я и сам считаю, что наука с техникой вместе с политическим руководством виноваты, беспредельно виноваты — не думали, не хотели предвидеть последствий, полагали, что нашли путь к счастью, а на деле предавались эгоистической эйфории безответственного создавательства, а создавательство не имеет права быть безответственным и бесконтрольным, порнография существует не только в искусстве, но и в науке, в прикладной науке, и уже тем более — в инженерном творчестве. Надо было вовремя схватить за руку — никто не схватил; поэтому теперь хватают за горло, чтобы задушить. И ведь задушат, рука не дрогнет. Постой, по сути дела, ты сам себе и от собственного имени излагаешь программу Растабелла? Выходит, так. Значит, ты на их стороне-? Да нет же! Ну, а почему же? Он прав, а ты против него — означит, ты неправ?
Да нет, не так просто, — ответил он себе. — Потому что ты отлично понимаешь: Растабелл прав, но борьба сейчас идет не за Растабелла или против него; идет самая обычная, примитивная борьба за власть, причем не демократическая, а борьба за диктатуру, за власть фашистского типа, природа же пригодилась, как лозунг, только и всего. Думаешь, новое правительство, утвердившись, сразу же станет заботиться о природе? С первого взгляда можно подумать, что таи и будет: заводы не дымят, что-то уже взорвано… Но интересно; что именно оставлено, что именно взорвано, а что просто приостановлено на денек-другой? Это же крайне сложно: людей-то кормить все равно надо, и если ломают одну систему кормления, ее надо заменить другой — а кто об этом слышал? Вот интересно, а деловые интересы того же Рикса при этой операции пострадали? Не верю. Просто мы предполагали, что Рикс оперирует по-крупному наркотиками, а оказывается, у него был другой бизнес, и мне очень интересно — какой же, и что ему это дает…
Он бессознательно изменил направление, чтобы обойти лежавшего на мостовой убитого, вымазанного кровью; лицом мертвец походил на еврея. Ну да, — подумал Милое, — без этого никак нельзя, как же без этого…
Он шел мимо магазинов, больших и маленьких; большинство было закрыто, но некоторые все же торговали — булочные, овощные, мясные лавки, те, где товар не мог ждать. Покупали немногие: никто, похоже. не собирался делать запасы. Да, поотвыкали, — подумал Милое. — И еще не поняли, что такое для их страны остановка гидростанции и затопление; вот что значит — нет информации. Надеются на помощь остального мира? Поможет, конечно — если только в остальном мире не начнется тоже самое. А если…
Он понял, наконец, что окликают его — и, кажется, уже не в первый раз; окликали по-намурски, так что он как-то не принял на свой счет, выпал на несколько мгновений из реальности — и только когда его дернули за рукав, сообразил. Остановил его доброволец, у которого кроме дубового листа на груди была еще и узкая зеленая повязка на рукаве; видимо, был он каким-то начальником. Начальник сердито смотрел на него, сурово выговаривая; из его слов Милов понял — хорошо, если четверть, однако уразумел, что ему следовало присоединиться к стоявшей посреди улицы группе человек в двадцать, кое-как вооруженных — они старались образовать какое-то подобие воинского строя. Никакого другого решения мгновенно не пришло в голову, и Милов поспешно проговорил: "Юр, юр — то есть «да, да» — в значении этого слова у него сомнений не возникало, — и присоединился к группе. Начальника это, кажется, совершенно удовлетворило. Он строгим оком оглядел строй, громко скомандовал — и отряд двинулся, Милов шагал в последней шеренге. Глупо, конечно, — думал он, — ну, а что другое оставалось? Знать бы язык как следует — я бы ему, понятно, втер очки, а так… Пуститься наутек? Сопротивляться? Несерьезно, несерьезно… Ладно, помаршируем. Давно не приходилось. Но эта наука вспоминается быстро. Пока воинство идет, кажется, в том направлении, куда и мне нужно. Легион спасения планеты… А может, они и действительно направляются в Центр? Ломать приборы, убивать чужестранцев? Он покосился на соседей по шеренге. На убийц они походили так же мало, как и на солдат. Не люмпены, не хулиганы, не пьянь — все они были, судя по облику, добропорядочными гражданами, приличными и наверняка по сути своей миролюбивыми — из тех, что живут, стараясь не обижать других, хотя и не позволяют, — чтобы их самих обижали; нормальный продукт демократии… И вот они шли, быть может, убивать, и не потому шли, что их гнали, но были наверняка убеждены в своей правоте, в том, что все, что им предстоит совершить — необходимо, неизбежно и, главное, справедливо… Рядом с Миловым старательно маршировал человек, ну, скажем, второго среднего возраста, почти совсем лысый, в золотых очках на носу; на плече он нес старинное, наверняка коллекционное, музейное ружье, которое если и стреляло, то в последний раз, пожалуй, не менее двухсот лет назад; приклад и ложе были инкрустированы красным деревом и перламутром, зато ремня не было, багинет тоже отсутствовал. Человека этого можно было бы принять и за скромного труженика науки — но тех наверняка не было в строю, нынче они были дичью. Сосед перехватил взгляд Милова и спросил по-намурски нечто, чего Милов не понял и попросил повторить помедленнее. Сосед улыбнулся и легко перешел на английский:
— Мне так и показалось, что вы иностранец. Ничего иного не оставалось, как кивнуть.
— Англичанин? Американец?
— Ну, собственно…
— Я так и понял, — удовлетворенно кивнул сосед. — У меня не очень хорошее зрение, но людей я различаю сразу. Что же, весьма приятно, что вы с нами. Это даже, я бы сказал, в какой-то мере символично.
Милов не стал выражать сомнения, лишь промычал нечто-при желании звук можно было принять за подтверждение.
— Много лет все беспорядки шли от вас, — сказал сосед. — Из Америки.
— Разве? — улыбнулся Милов. — Я понимаю еще, если бы вы сказали — из России…
— Ну, уж это сама собой разумеется! Но вся эта машинизация, ведшая к уничтожению природы, а значит — и нас с вами… Ведь порядок — это гармония, человек всегда должен жить в гармонии с природой, но вы это забыли-хотя был ведь у вас Тора, но вы им пренебрегли, не прислушались… А то, в чем мы с вами сейчас участвуем — отнюдь не беспорядки, напротив, это восстановление исконного порядка, возврДщение к нормальной жизни, а следовательно, и к нормальной морали, этике, уважению к человеку,..
— Как-то это не вяжется с трупами на улицах — вы не считаете?
— Разумеется, это прискорбно. Крайне прискорбно. Но ведь согласитесь; гниющую ветвь отсекают, хотя на ней может сохраниться и несколько еще здоровых листочков.
— Возврат к нормальной жизни, — проговорил Милов. — В таком случае, те, кто ведет нас, вероятно — люди высоких душевных качеств, а не просто защитники природы?
— Ну конечно же! Растабелл…
— А Мещерсни? Рикс? Вы простите мне мое невежество, но я и в самом деле, горячо сочувствуя идее спасения мира, не очень осведомлен о тех, кто возглавляет движение здесь, в вашей прекрасной стране.
Они молча прошагали с минуту, прежде чем сосед ответил:
— Я понимаю, на что вы намекаете. Вы хотите сказать, что во главе движения встали, кроме чистых душ, подобных Растабеллу, еще и некоторые политиканы, а также деловые люди, Конечно, это несколько омрачает… Но согласитесь, что всякое дело должны совершать специалисты, иначе оно обречено на провал. Мы, друзья и защитники природы, к сожалению, не всегда обладаем нужными способностями, и еще менее — опытом. Мы умеем насаждать сады и леса, поверьте. Но для этого нам нужно дать такую возможность, сами мы создать ее не умеем, увы. Ведь моментально возникает сложнейший узел проблем, чье разрешение доступно лишь профессионалам. Да, разумеется, от нас не укрылось, что на первый план в движении выходят люди действия. Но мы не препятствовали, потому что они несли наши знамена, а не наоборот. Они делают необходимое дело: расчищают место, на котором потом будет посажен — и вырастет зеленый, шумящий, животворный лес. И вот тогда-то настанет наша пора!
— То есть, люди действия отойдут в сторону и предоставят руководить вам?
— Разумеется, я не имел в виду себя лично, я всего лишь нотариус… Но, конечно, главную роль станут играть те, кто сумеет организовать восстановление природы и жизнь на новых, разумных основах.
— Ученые? Однако, разве не против них мы с вами выступаем сейчас?
— Ну, не поголовно же всех… Ботаников, зоологов и тому подобных мы стараемся сохранить.
— И это удается?
— Ну, знаете, — сказал сосед, чуть нервничая; прежде чем продолжить, он попытался пристроить ружье на плече поудобнее: рука, видимо, устала и вместе с прикладом сползала вниз. — Конечно, что-то могло получиться не так… Люди разгорячены, разгневаны, чаша терпения переполнилась… Но все же мы стараемся.
— Значит, руководить будут ботаники с зоологами?
— Да! И мы создадим общество гармонии с миром.
— Да, — сказал Милов. — Вы жили в демократической стране — пусть и не в самой, но все же… И у вас никогда не было фашизма какой бы то ни было расцветки. А раз вы не знаете, не испытали, что это такое…
— Простите, что вы имеете в виду? Тут раздался громкий окрик — даже не разобрав слов, Милов по одной лишь интонации понял, что сказано было нечто вроде «Разговорчики в строю!». Сосед, видимо, понял больше и умолк.
Они зашагали молча. Но третий в шеренге, все время топавший с мрачно-сосредоточенным видом, — вооружен был он автоматом, как и Милов, — наверное, тоже хоть что-то понимал по-английски, и теперь вдруг заговорил, громко и сердито, словно ему на запрещение было наплевать.
— Ну, и что, — говорил второй сосед, — если маши командиры потом не захотят отдать власть? Они умеют руководить, они сохранят и страну, и нас, и вырвут с корнем все сорное семя. Они-сила, а что смогли ваши либералы и демократы? Довели до того, что пришлось взяться за оружие! Милов с усилием подобрал слова для ответа:
— А вы понимаете, что есть фашизм? Что фашизм неизбежно уничтожает людей: некоторых — физически, но всех — мораль-но?
— Не всякую силу надо называть фашизмом, — убежденно сказал автоматчик, — и не всякое стремление к чистоте нации — расизмом. И если охранять законы можно при помощи жестокости, и будущее нации — при помощи силы, то пусть будет жестокость и пусть будет сила!
Кажется, убежденность автоматчика заразила и нотариуса, все более изнемогавшего под тяжестью своей фузеи, так что он не удержался, несмотря на страх перед запретом: Да! — подтвердил он. — Природу уничтожали силой — и лишь при помощи силы ее можно восстановить!
Да, — подумал Милов, когда после второго, еще более свирепого окрика они замолчали окончательно; да, все просто, и не опровергнешь. Все логично: надо обуздать науку и технику, чтобы сохранить планету и самих себя, а чтобы обуздать — необходима сила, и вот она, сила… Судя по истории, демократия быстро восстанавливается после крушения фашизма, но боюсь, что и фашизм может не менее быстро восстановиться после крушения демократии — под лозунгом наведения порядка в чем угодно. А ведь при демократии абсолютного порядка всегда и во всем быть не может: чем выше уровень демократии, тем сложнее, а не проще, становится общество, вопреки чаяниям утопистов; а в сложной системе возможность какой-то частной неполадки всегда больше. Это фашизм стремится упростить общество: так ему легче править; но сложное демократическое общество всегда содержит какой-то процент любителей железного порядка, прямо-таки машинного, — хотя тут сейчас именно против машин и выступают, — они согласны жить и поступать от и до, но чтобы и все остальные жили и поступали точно так же; и что за беда, что тем самым пресечется всякое развитие?
Додумывая эту мысль, Милов пропустил команду и налетел вдруг на шагавшего впереди: отряд остановился. Передний, однако, даже не выругался, только передернул плечами. Остановка могла означать, что сейчас начнется что-то конкретное, дело дойдет до оружия — и людям делалось не по себе, потому что почти все они никогда не были солдатами и не привыкли к тому, что убийство может быть священным долгом, а не преступлением против личности. Если бы армия выступила на стороне законного правительства, — размышлял Милов, — если бы, конечно, такое правительство существовало — я бы на все это ополчение не поставил и пяти копеек. Но армия пока бездействует, может быть — просто ждет, пока вся грязная работа не будет сделана энтузиастами, а потом возьмет власть — легко, одной рукой возьмет, — и настанет военная диктатура. Только вот армия, придя к власти, станет ли задумываться о сохранности природы? Будет ли искать равнодействующую между интересами природы — и человека в ней, искать компромисс? Диктатура, все равно, гражданская или военная, компромиссов не любит…
— Что? — переспросил он, не расслышав сказанного его очкастым соратником.
— Я говорю: слава Богу, пока только остановка для соединения с другим отрядом.
Милов посмотрел. Вблизи стояла еще одна группа таких же добровольцев, более многочисленная — ничем другим она не отличалась, и воины в ней были такого же, солидного уже, возраста.
— Скажите, — повернулся он к нотариусу, — неужели защита природы интересует только людей зрелых? Где же молодые люди?
— О, вы ошибаетесь. Просто у них свои отряды. Согласитесь, что это разумно: у них и сил побольше, и темперамента… Не беспокойтесь, они уж не останутся в стороне!
Да, организация и в самом деле была неплохо продуманной.
И командиров, видимо, подобрали заранее. Милов поглядел на того, кто командовал их отрядом — сейчас тот, повернувшись к строю спиной, разговаривал с другим человеком, тоже носившим красную повязку на рукаве. Казалось, по их жестикуляции, оба в чем-то не соглашались, но вот пришли, наконец, к единому мнению, повернулись и медленно пошли вдоль фронта прибывшего отряда; когда строй повернулся направо, Милов оказался в первой шеренге. Командиры приближались, и Милов все более пристально всматривался в того, другого. Что-то было в нем очень знакомое, очень… Что-то… Граве! — подумал Милов изумленно. — Черт бы взял, это же Граве!..
* * *
Да, именно Граве то был, живой и здоровый, с командирской повязкой на рукаве и пистолетом за поясом-тем самым пистолетом, что Милов оставил в машине. Ну, молодец, — подумал Милов, весело глядя на товарища по скитаниям, — всех нас за пояс заткнул. Зря я боялся, что он спятил необратимо — видимо, нервная система крепкая, психика устойчивая, погоревал, пережил, понял, что не рыдать надо, а дело делать — и уехал, не стал дожидаться нас. Нехорошо, конечно, с его стороны, но при таком раскладе трудно его упрекнуть. Зачем только он полез в добровольцы? А куда еще? — сам себе ответил Милов. — Вот и сам я, получается, пошел же. Если он не один тут такой — это хорошо, люди здравомыслящие крайностей не допустят, сыграют, может быть, роль этакого тормоза. Да увидь же ты меня, увидь, нам с тобой обоим в Центр надо, спасать людей, предупредить об опасности, выйти на связь со всем миром…
Граве увидел его, когда был уже почти рядом. Остановился. Долго смотрел на Милова, и на губах его возникло даже нечто вроде улыбки — но не более того, а Милов-то ожидал, что тот ему чуть ли не на шею бросится. Хотя — какие могут быть нежности в воинском строю… Граве повернул голову ко второму командиру, негромко сказал что-то; пожал плечами и кивнул. Тогда Граве скомандовал громко, по-намурски:
— Милов, выйдите из строя, подойдите ко мне!
Милов вышел с удовольствием — по всем правилам, «дав ножку», приблизился, щелкнул каблуками.
— Ну что ж — поехали, — сказал Граве.
— Куда? — осмелился спросить Милов.
— Туда, куда вы и хотели попасть. Вот и прекрасно, — подумал Милов. — Все же молодец он. Кто бы подумал: казался, в общем, божьей коровкой, пистолета взять не хотел — и на тебе, командует отрядом и собирается, похоже, делать именно то, что нужно.
— Слушаюсь! — ответил он громко. Граве зашагал первым, не оглядываясь. Свернули за угол. Там стояла машина — та самая, наследие покойного Карлуски. Завидев ее, Милов обрадовался, словно встретил старого, доброго знакомого.
— И как это у вас ее не отобрали? — весело спросил Милов.
Граве ничего не ответил, только покосился на Милова, глаза его странно блестели. Под газком? — подумал Милов. — Для смелости, что ли? Ну, если и принял, то не много.
— Еву я доставил домой, — сказал Милов; вовсе не обязательно было ему отчитываться, командирская повязка Граве была, по разумению Милова, такой же липой, как и его собственный листок на груди. Однако, должна же была интересовать Граве судьба их спутницы в ночных приключениях. Граве на сей раз откликнулся — что-то пробормотал. Милов переспросил:
— Простите?
— Я говорю; все равно, — ответил Граве погромче. Он сел за руль, кивнул Милову на первое сиденье. А больше сесть и некуда было: сзади на сиденьи и на полу машины что-то лежало, укрытое сверху брезентом. Повернувшись, Милов хотел, любопытствуя, приподнять брезент. Граве резко осадил его:
— Это не трогать!
Милов пожал плечами. Играем в секреты? Ладно, все равно, приедем — увижу; ясно же, что инженер везет что-то для Центра.
Граве вел машину не быстро, повороты брал плавно, старательно объехал выбоину, что попалась на пути — то была, впрочем, одна-единственная на всей дороге.
Въехали в промышленный район; по сторонам, за бесконечными бетонными заборами тянулись фабричные корпуса, многоэтажные заводские строения, старые и новые, но все — крепкие, добротные; складские помещениям — и капитальные, и легкие металлические полуцилиндры, на которых отблескивало давно уже прошедшее зенит солнце; порой улицу пересекали железнодорожные рельсы подъездных путей — на переездах Граве был особенно осторожен, проезжал их со скоростью пешехода, хотя рельсы шли заподлицо с мостовой и толчков ждать не приходилось. Ни деревца не было вокруг, ни кустика, ни травинки даже, пусть и убогих, умирающих, как в жилой части города: здесь цивилизация победила безоговорочно, чтобы теперь умереть. Хотя пока это была еще, пожалуй, не смерть, скорее летаргия, и пробудить уснувших оказалось бы делом нетрудным — было бы желание. Интересно все же, — подумал Милов, — люди-то что будут делать? Те, что еще вчера здесь работали? Разрушить до основаниям — работа простая, но ведь потом надо и строить что-то? Можно, конечно, и города разрушить, и всех на землю посадить — но — ведь и тут профессионализм нужен, да и земли свободной нет, значит, нддо ее отнимать у кого-то — может быть, конечно, есть у них уже какой-нибудь теоретически изящный проект, который на практике, вернее всего, ничего не стоит… Нельзя ведь «назад к природе», можно только — вперед к ней…
— Интересно, как теперь будет использоваться все эти корпуса — спросил он вслух.
— Никак, — ответил Граве, не отводя глаз от дороги. — Их просто взорвут. Разве не слышите? Я потому поехал этой дорогой, что здесь это начнется позже.
— Почему вы думаете, что взорвут?
— Не думаю — знаю. Растабелл сказал.
— Я слышал его речь, но не помню…
— Это он мне сказал. Мне.
Заговаривается? — подумал Милое. — Может, он все-таки… — Громко же сказал:
— Ну, на все взрывчатки не хватит.
— Вы думаете? — равнодушно спросил Граве; так говорят просто, чтобы не прерывать разговора, не более того.
— Да тут и думать нечего.
— Ну, почему же, — сказал Граве. — Думать всегда есть о чем — если человек умеет думать…
Город заканчивался, мимо проскальзывали унылые пустыри, где еще ничего не успели построить. Дальше пошли хилые, хворые рощицы, два или три раза машина по аккуратным, чистым мосткам проскочила над ручьями-вода их отблескивала радужной пленкой, и в эти ручейки кто-то что-то сбрасывал — дерьмо хотя бы, если не было ничего другого. Окрестность выглядела, как давно брошенное жилье, в котором воцаряется запустение — однако же люди здесь жили, на всей планете люди — то ухитрялись жить…
— Когда-то, — неожиданно заговорил Граве, — тут шумели леса. В них жили олени. Вы хорошо стреляете, Милф?
— Хотите предложить охоту на оленей?
— Кто-нибудь предложит. Кому-нибудь. Не сейчас, конечно. Но тут снова вырастут леса. И в них будет жизнь.
— И тогда вы снова повезете меня по этой дороге и скажете…
— Нет, — сказал Граде все так же равнодушно. — Я не повезу. И не скажу. Да и никто другой вас не повезет.
— Понимаю: машин не будет. Но воскреснут лошади…
— Лошади воскреснут. А вот мы с вами — никогда.
— Ну, не так уж мы стары, чтобы не дожить…
— Мы не стары, — сказал Граве. На шоссе он немного прибавил скорости, но по-прежнему был осторожен и внимателен. — Мы не стары. Мы мертвы, Милф. Неужели вы не понимаете?
— Нет, — честно сказал Милов. — Не понимаю. После этого еще несколько километров они проехали в молчании.
— Мы мертвы, — сказал Граве, словно решив посвятить спутника в некую, ему одному ведомую тайну, — потому что мертвы те, кого мы любим.
— Я очень, очень сочувствую вам, Граве, — сказал Милов искренне.
— Как и я вам.
— Мне?
— Потому что Ева тоже мертва.
— Что за вздор! Я сам привел ее домой, я же говорил вам! И там была охранам. Кто решился бы убить жену Риста? — Бред!
— Я.
— ВЫ?!
— Я сам пришел к ней. Потом, уже после вас. И убил ее; теперь вам ясно?
— Вы с ума сошли! — пробормотал Милов; ничто другое не подвернулось на язык.
— Может быть, да. А может, нет. Какая разница?
— Врете, Граве!.
— Зачем?
Сейчас я убью его, — со странным-спокойствием подумал Милов. — Просто задушу. Своими руками. Пусть он врет — за одно уже то, что такая мысль возникла в его безумной голове. А если не врет? Господи, что же это делается, что делается в нашем сумасшедшем мире…
— Граве, если это правда — почему?
— А почему убили мою жену?
— Если хотите знать — потому, что она была ввязана в мощную контрабандную сеть…
— Да, Теперь я это знаю. Как и то, что вы никакой не турист, а агент, ушедший по их следам…
— Кто сказал вам?
— Лестер Рикс. Я пришел к нему и потребовал ответа: за что? Я хотел убить и его. Но ом мне все объяснил. Ничего не случилось бы, если бы вы не шли по следам.
— Не во мне дело, Граве.
— Не объясняйте: я теперь знаю все. Вы — охотник за наркотиками. Но ведь не их ввозили сюда, Милф. Везли совсем другое.
— А что же, в таком случае? Косметику? Электронику? Бросьте, Граве, не рассказывайте сказок. Граве усмехнулся.
— Нет, Милф, не косметику, тут вы правы. Пластик. Взрывчатку — Теперь машина шла километров на сто с небольшим, дорога была гладкой, прямой и пустынной. — И только ее. Но много. Очень много! Однако, это же совершенно не ваше дело, Милф! Так что вы зря вмешались в эту коммерцию. И те, кто вас послала — тоже. Не будь вас — Лили жила бы. И Ева Рикс не встретила бы вас — и тоже осталась бы жива. Пластик, Милф! Другая технология доставки. И ни одна из ваших тренированных собак его не чуяла. Потому что это — не пахнет! И его ввозили сюда вагонами! А вы искали двойные донца в чемоданах и прочую ерунду…
— Зачем и кому понадобилось столько взрывчатки? Рыбу глушить — так она и без того давно вымерла. Я знаю, сколько можно заработать на взрывчатке; поверьте, Граве, не так уж много.
— Все-то вы знаете, умница Милф! Но мыслите стандартно. А вы попробуйте подумать как следует — и поймете…
— На такой скорости мне трудно думать, Граве; не гоните так, никто нас не преследует.
— Может быть, нет. Но какая-то машина видна далеко позади. И я не хочу, чтобы нас догнали.
— Так что же я должен понять?
— Да хотя бы то, что вряд ли было простым совпадением: плотина рухнула и потоп случился именно тогда, когда все было готово, вплоть до дубовых листьев на груди, и именно тогда, когда еще один ребенок, родившись, отказался дышать…
— Что вы плетете, Граве…
На такой скорости мне с ним ничего не сделать, — думал Милов, быстро-быстро проигрывая в уме варианты, — надо как-то отвлечь его, чтобы он, втянувшись в спор по-настоящему, машинально снизил скоростц и тогда — как собаку.
— Вы говорите глупости, Граве!
— Вы, Милф, просто ничего не знаете. Сыщик! Плотине помогли развалиться! А вы представляете, сколько для этого потребовалось взрывчатки? Это вам не самолет взорвать… И ведь хватило, не правда ли? И осталось еще много! Много! Вы говорите — заработок, прибыль… А сколько стоит, по-вашему, власть? Сколько стоит спасение планеты? Да-да, не одной только маленькой Намурии, но всей планеты! Потому что — и об этом вы и сами начали догадываться еще раньше — мы всего лишь запал, сигнальная ракета, сегодня одержим победу мы — и завтра это начнется везде,потому что повсюду есть единомышленники и Растабелла — чтобы провозглашать лозунги, — и Мещерски, чтобы реализовать замыслы.
— Граве, Граве, что вы говорите! Вы так тяжело переносите гибель вашей жены — но ведь одно только наводнение наверняка унесло сотни тысяч жизней…
— Им некогда было спастись, да и некуда…
— А все то, что вы начинаете, унесет еще больше. По всей планете — страшно подумать, сколько…
— Чего же тут страшного, Милф? Дурная традиция, только и всего. Современная технология губит мир, это аксиома. Но только при ее помощи можно прокормить столько людей, сколько населяет сейчас Землю! Слишком много людей! Возврат к охранительному ведению хозяйства неизбежно потребует уменьшения их числа. Перенаселение, Милф, — вот наша беда. И не надо пугаться рациональных мер, которые приведут к сокращению числа жителей! Не надо! Потому что гибель части лучше, чем всеобщая гибель. Простая и неопровержимая логика, не правда ли? Вот зачем власть, вот для чего нужна сила! И вот для чего — взрывчатка. Вся она пойдет в дело, не беспокойтесь. Чтобы уничтожить! Вырвать с корнем! Выжечь! — Теперь Граве почти кричал, капельки слюны вылетали изо рта и оседали на приборном щитке. — И начнем с этого самого Центра, потому что он уже не просто учреждение, он стал символом! Уничтожим символ!
— Вы же сами там работали…
— Да. Но они — сначала Растабелл, а потом Мещерски, я и с ним ведь разговаривал, — помогли мне понять, что постигшее меня — кара за то, что я был с вами. Чинил ваши проклятые «Ай-Би-Эм» и прочие дьявольские орудия. Поделом мне! Но я искуплю. У меня нет другого пути!..
Граве на мгновение повернул к Милову лицо с глазами — дикими, словно искра разума уже совсем покинула их.
— Граве, — сказал Милов, — прошу вас, остановимся на минутку. Вместо ответа Граве сильнее нажал на педаль газа.
— Остановитесь же; мне нужно…
— Потерпите, — равнодушно ответил Граве, — недолго осталось. Или обходитесь, как знаете… — и, краем глаза уловив-почти незаметное движение Милова: — Стоп! Не пытайтесь что-то сделать! Машина набита взрывчаткой, все установлено, как надо, и мы взлетим на воздух даже просто от резкого торможения! Так что сидите тихо, как маленькая мышка — если хотите прожить еще некоторое время!
Милов откинулся на спинку, положил ладони на колени, закрыл глаза. Неожиданно пришло расслабление, и странное спокойствие охватило его, покой безжизненности. Ева, — думал он, — родная, нелеп этот мир, и мы с тобой были в нем так же нелепы во всем — начиная с нашего знакомства и кончая тем, чем все это завершается… Нелепо было, наверное, ввязываться в чужую драку, надо было сразу, как только я понял, в чем суть — хватать тебя и мчаться прочь, пусть бы они сводили свои счеты, а мы должны были предупредить весь мир. Но у тебя были твои дети, которые не желают дышать, а у меня — другие дети, свои, потому что ведь каждое дело, которое мы начинаем — наше дитя, и мы стремимся заботится о нем и растить его… Я виноват в том, что тебя нет; я, потому что оставил тебя там, хотя должен был понять, что спокойнее тебе быть со мною даже под огнем, чем пусть и у себя дома, но без меня… Поверил логике, а тут ведь логика ни при чем, когда чувствуешь к человеку то, что почувствовал совсем другим надо руководствоваться, не логике верить, а подсознанию. Ты прости меня, маленькая… Почему я в тот миг не подумал, что наши помогают событиям реализоваться — то, что раньше называлось «накликать беду»? Помешало то, что я старый коп, старая ищейка международного масштаба, у меня был след, и я бежал по нему, думая, что смогу вернуться к тебе — забыл, что если мы и возвращаемся, то не туда, откуда вышли, а в иное время с иным расположением планет. Тебя нет, и мне все равно — пусть убийца жмет на газ, спеша доставить свою взрывчатку в Центр, где она… Где она — что?
— Послушайте, Граве, а на кой черт вы тащите в Центр такое количество пластика?
Граве засмеялся — как-то странно, судорожными выдохами. Господи, — догадался Милов, — он же просто не умеет смеяться, наверное, никогда в жизни по-настоящему не смеялся…
— А вот увидите, Милф! Пройдет совсем немного времени — и вы увидите, или, во всяком случае, почувствуете… Да ведь вы и сами прекрасно все поняли, зачем же задавать лишние вопросы?
Милов покосился на спидометр: было где-то под сто сорок.
— Я просто хотел сказать вам, Граве, что если вы действительно хотите доставить ее в Центр, эту вашу контрабандную взрывчатку, то не гоните так, как сейчас: мало ли — не выдержит камера…
— Скорость придает решимости, Милф, вселяет уверенность — разве не знаете? Я бы гнал еще быстрее, но эта колымага уже на пределе, быстрее она просто не может, а другой машины мне достать не удалось — не до того было. М-да. К сожалению, у того, сзади, мотор, видимо, посильнее — да и нет у него, наверняка, причин ехать осторожно. Гонит, как ненормальный… Милф, мне не нравится этот преследователь. Оглянитесь. Я разрешаю. Только без глупостей. Понимаю, что у вас может возникнуть искушение, однако, что бы вы ни сделали, Центр вам все равно не спасти, и людей в нем — тоже, но я везу им судьбу легкую и быструю, а другая может оказаться куда мучительнее… Теперь я вас предупредил. Можете посмотреть.
Милов послушно посмотрел в заднее стекло-для этого пришлось извернуться в кресле. Широкая, приплюснутая к дороге машина и в самом деле была теперь куда ближе, чем когда Граве заметил ее впервые.
— Хорошо идет, — сказал Милов. — Классная машина.
— Слишком хорошо. Возьмите ваш автомат, Милф. С какой радости?
Сейчас вы будете стрелять. Старайтесь попасть в водителя. Или по колесам. Надо остановить его, слышите? Он определенно гонится за нами, хочет помешать мне.
— По-моему, он больше не приближается: держит дистанцию. Ну и пусть себе держит, а?
— Милф, где же ваш опыт? Они держатся позади, потому что собираются стрелять по нам — и не хотят пострадать в случае, если мы взорвемся. А для этого может хватить и одного попадания: у меня ведь и весь багажник набит… Не медлите, стреляйте через стекло — нам оно все равно не понадобится, до своего конца мы дойдем и так…
Слишком многословен был и слишком лихорадочно сыпал словами — нет, конечно, с психикой у Граве было совсем плохо, но он сидел за рулем, и ничего с этим не поделаешь. Хотите сигарету, Граве?
— Ну ладно, если вам так не терпится… Я везу пластик, чтобы взорвать ваш чертов Центр, Милф. Все, кто виноват, ответят мне. И уж вы в первую очередь — с вами счет особый.
— Вы же не умеет взрывать, Граве.
— Я же говорил вам: все сделано — мне нужно только доехать, въехать, вбиться в проклятый Черный Кристалл. О, какой это будет торжественный въезд!
— Судя по тому, что я слышал, Кристалл — постройка прочная. Тут вашего заряда не хватит. Зря пыхтите.
— Не волнуйтесь. Там есть свой запас, его не успели до конца вывезти — а может быть, намеренно оставили…
Ну да, — подумал Милов. — Не зря меня ориентировали первую очередь на Центр. Покойный доктор Карлуски. Тогда это, пожалуй, серьезно… Что там визжит этот псих?
— Заткнитесь, Граве, — сказал он. — Они не приближаются, на таком расстоянии попасть трудно, а у меня всего один рожок, и если я потрачу патроны зря…
— Слушайте, Милф: черт с вами! Обойдусь без вашей жалкой жизнишки. Обещаю: сшибете их с дороги я вас выпущу, только без оружия, и живите, как вам будет угодно-если вы еще способны жить. Иначе погибнете вместе со мной, все равно — на Дороге от их пули или в Центре, под обломками Кристалла. Выбор прост, Милф. Хотите жить? Тогда стреляйте и помните: только попадание идет в зачет.
Жить-то я, конечно, не против, — подумал Милов. — Не ради себя, но получается так, что кроме меня некому предупредить мир. Гектор? На знаю, очень мало уверенности, что армия захочет помочь, раз уж она объявила невмешательство, и значит, только из Центра еще возможно выйти на связь. Так что надо сберечь Кристалл, и себя тоже. Если там, в машине, предположим, люди Мещерски, и вцепились они в нас, чтобы убедиться в выполнении задания, то пустить их под откос — вполне приличное дело.
— Ладно, уговорили, — проворчал он. — Сейчас. Он неспешно, осторожно переместился на сиденьи — встал на него коленями, оперся локтями о спинку, изготовил автомат.
— Не медлите, Милф, стреляйте же!
Милов всматривался в преследовавшую машину; окна ее были из поляризованного стекла, и увидеть водителя не удавалось. Но определить, где должна находиться его голова, было нетрудно.
— Черт, они, видно, заметили меня — отстают… Граве, вам придется немного сбавить скорость, чтобы восстановить дистанцию.
— Очень не хотелось бы.
— Иначе мне не попасть. У него черные стекла, ничего не видно.
— Бейте по колесам.
— Вы даже в зеркале видите, что это не просто. Если бы сбоку, но он не хочет подставиться. Подтормозите.
— Н-ну… хорошо.
И Граве начал медленно сбрасывать газ.
* * *
Гектор остановился. Часовой смотрел на него невозмутимо, не снимая рук с висевшего поперек груди автомата. Не угрожал, но и пропускать, похоже, не собирался. Спокойно тут, — подумал Гектор, — словно бы ничего и не происходило вокруг. Сила есть сила — даже если это армия настолько условная, как здесь, в Намурии. Но это хорошо, что не чувствуется нервозности: больше шансов получить содействие..
— Приятель, — сказал он. — Я к полковнику Фрезу, по его приглашению.
Он не врал: приглашение такое действительно было сделано — месяца два назад, когда военные устраивали пресс-конференцию по поводу состоявшихся учений; после вопросов и ответов состоялся дружеский ужин с напитками-за столом Гектор и познакомился с полковником, и на какой-то рюмке даже подружился, так что на прощанье они обменялись адресами и приглашениями, испытывая друг к другу искреннее уважение, потому что принадлежали к немногим, еще державшимся на ногах. Полковник Фрез был парень что надо, и именно он командовал расквартированной в городе частью. На его содействие Гектор и рассчитывал, и жалел только о том, что не было с собой бутылки, чтобы на хорошей ноте возобновить прервавшийся тогда разговор.
Гектор старался держаться уверенно, и свою кор-респондентскую карточку протянул жестом небрежным и достойным одновременно, и сделал еще шаг одновременно. Часовой шевельнул автоматом; движение было достаточно выразительным.
— Вызови разводящего, — сказал он, не поворачивая головы.
За узкой дверцей, которую часовой закрывал собою, послышались шаги, потом приглушенный голос; так говорят в телефонную трубку при хорошей слышимости. Видимо, армия не испытывала трудностей со связью.
Да и во всем остальном порядок, похоже, не понес ущерба: разводящий возник почти сразу, взял карточку Гектора, внимательно оглядел, потом столь же пристально посмотрел на корреспондента.
— Обождите…
Разводящий скрылся. Снова послышались приглушенные голоса. Вот номер будет, — подумал Гектор, — если дружок прикажет собщить мне, что не имеет быть в расположении части: с незнакомым договориться по такому щекотливому делу шансов практически нет. Хотя попробую, конечно. Разводящий возвратился.
— Идите за мной.
Часовой стоял все так же невозмутимо; поравнявшись с ним. Гектор ощутил трудно определимый армейский запах — кожаных ремней и солдатских башмаков, оружейной смазки и мужского пота: солнце светило вовсю, и часовой стоял на самом припеке. За дверью оказалось неширокое помещение с телефонным аппаратом. Разводящий кивнул головой:
— Говорите. Гектор взял трубку.
— Алло! Полковник, вы?
— Алло, приятель! — услышал он. — Рад вас слышать, хотя, откровенно говоря, время для встречи не самое лучшее. Ничего, ничаго, понимаю: журналист всегда на службе, как и наш брат, военный. Только хочу сразу предупредить о двух вещах: информации для вас у меня практически никакой, сами понимаете, да и посидеть как следует не сможем.
— Рад буду увидеть вас хоть на пять минут.
— Ну, вы меня тронули до глубины души. Не могу противиться столь дружескому чувству. Отдайте трубку капралу.
В голосе полковника явственно слышалась ирония, но сейчас это Гектора нимало не смутило: ради связи он на что угодно мог пойти. Капрал, сказав в телефон «Слушаюсь!», положил трубку, задвинув предварительно антенну, и повернулся к журналисту.
— Идите за мной, — повторил разводящий уже однажды сказанное. Видимо, с людьми гражданскими здесь предпочитали общаться строго по уставу. Гектор еще раз убедился в этом, когда, послушно следуя за капралом, как бы невзначай спросил его: «Ну, а вам как все это нравится?» — и получил в ответ лаконичное «Не положено». Неясным осталось, что именно было не положено: вступать в разгойоры с посторонними, иметь свое мнение о происходящем, или и то, и другое вместе. Пересекая обширный плац, Гектор, однако, не заметил ничего, что свидетельствовало бы хоть о малейшем волнении. Покой царил и в том здании — одном из окружавших плац военного городка, — в которое он вошел вслед за разводящим; внизу, сразу за дверью, их встретил средних лет офицер, попросил еще раз показать карточку и вежливо кивнул журналисту:
— Командир ждет вас..
Гектор хотел было и ему задать тот же вопрос, но подумал, что успеха и тут не добьется, и единственная надежда — что дружеские чувства полковника существуют не только на словах. На втором этаже офицер отворил обитую пластиком дверь; за нею была комната; с письменным столом и несколькими шкафами, двумя железными в том числе; за столом никого не было, зато в левой стене существовала еще одна дверь, тоже с обивкой. Офицер отворил ее, ступил в сторону и кивнул Гектору:
— Прошу. Полковник встал навстречу, вышел из-за стола, сделал несколько шагов. Был он высок, молод для своего звания — в маленьких армиях командиры редко бывают; молодыми; румянец свидетельствовал о завидном здоровье. Он приветливо улыбался и крепко, словно стараясь выжать из ладони Гектора всю жидкость, пожал руку журналиста.
— Вот приятная неожиданность, — проговорил он хорошо поставленным командным голосом. — А я уже думал, не поставить ли свечку за упокой: ваш брат обычно трется в столице и если уж гибнет, то близ начальства, верно? Рад, рад видеть тебя в наших краях. Ну, садись; к сожалению, служба — дело строгое, но честь, как говорится, превыше, верно?
Говоря это, полковник успел усадить Гектора в кресло, извлечь из шкафа бутылку рома и две рюмки. Закуской должны были служить картофельные чипсы в изящной вазочке.
— Вот так, — удовлетворенно кивнул он, все еще не давая журналисту произнести ни слова. — Погоди, погоди. Я ведь понимаю, не одни лишь дружеские чувства привели тебя ко мне именно сейчас; что-то занадобилось, верно? Но у меня свои условия. Я в твоем распоряжении примерно на час, больше не выйдет. Так вот, из этого часа десять минут я беру себе, что означает: ни слова о делах. Ну, а уж потом твоя очередь. — Он налил. — Ну — виват!
— Хайль! — произнес Гектор в ответ, и это полковника нимало не удивило; он лишь подмигнул, выливая шершавое пойло в рот. Пришлось не отставать. Оказалось, однако, что именно этой маленькой дозы и не хватало Гектору, чтобы прийти в себя.
— Ну, давай, кайся, — сказал он. — Как семья, дети? Ты ведь теперь, наверное, стал кем-то вроде военного министра?
— Не нарушай уговора. Лучше я тебе сперва расскажу, как провел отпуск. Махнул я, понимаешь, в Испанию — ну ты, представляешь, верно? Три дня скучал в шикарном отеле, стал уже подумывать — не сорваться ли куда-нибудь, где повеселее. Но тут…
Гектор слушал, не забывая кивать, но то, что расска-зывал полковник о своих шалостях, до него не дохолило, не ко времени было. Он глядел за окно; видна была часть плаца, и на нем сейчас занимался, судя по численности, взвод — комендантский, наверное; занятия, однако, были отнюдь не строевыми — отрабатывался штурм здания, из которого вели огонь. Солдаты действовали умело, и это было куда интереснее, чем рассказ полковника, хотя в иное время он, пожалуй, доставил бы журналисту немало удовольствия: он и сам любил временами расслабиться.
— Лихо, верно? — завершил полковник свою исповедь. — Ну, вот, свое время я использовал. Слушаю тебя. Что, кроме нерушимой дружбы, принесло тебя ко мне?
— Связь.
— А подробнее? Что, почему и зачем? Монолог Гектора занял минут десять.
— Понял тебя, — кивнул полковник. — Объясню теперь нашу позицию. Армия нейтральна. Старого правительства нет, новое еще не создалось. Программа тех, кто претендует на власть, не ясна до конца, но в общих чертах нас устраивает, поскольку на наши права не посягает.
— Но разве не долг армии — восстановить порядок, когда он так явно нарушается?
— А почему, собственно, она должна защищать и восстанавливать то, что ты называешь порядком? Подумай: люди сейчас выступили не против какого-то правопорядкам-коммунизма, капитализма или, скажем, христианства или ислама. Они выступают против цивилизации, вмещающей и одно, и другое, и третье, и четвертое, и еще великое множество всяких множеств, верно? Люди выступили против того, чтобы пилить сук, на котором мы все восседаем. Так почему армия должна защищать пильщиков?
— Хотя бы потому, что армию такой, какова она есть, сделали именно, как ты говоришь, пильщики — люди науки, люди техники. Что такое она без них?
— Без них? Да все та же армия. Или ты думаешь, что легионеры Цезаря считали себя ущербными оттого, что у них не было танков и сверхзвуковой авиации? Они обо всем этом и представления не имели, и это не мешало им вести и выигрывать войны — с куда меньшими энергетическими затратами… Наоборот, все эти люди нам, армии, надоели хуже горькой редьки, потому что мы вынуждены слишком во многом считаться с ними, а науку никогда не удавалось — и не удалось бы сделать одним из родов войск с беспрекословным подчинением главнокомандующему… Нет, мы — те, кто командует армией, — отлично понимаем, что без науки и техники нам легче. Зачем же способствовать восстановлению порядка, который нам не нужен?
— Интересно. Ну, а предполагаемый противник, который не лишится ни танков, ни авиации — как вы, в случае чего, будете с ним справляться?
— Мы полагаем, что происходящее у нас — только начало глобального процесса. А пока он не стал таким, вовсе не собираемся выбрасывать свою технику. Но скорее всего, процесс будет развиваться именно так не только у нас: другого пути, вероятно, просто нет.
— А согласится ли с вами правительство — то, которое возникнет? Ведь сейчас армия намного сильнее любой другой внутренней силы именно потому, что вооружена современным оружием. Если же вы поставите себя на один уровень с просто вооруженным населением, власть уже не сможет чувствовать себя столь уверенно.
— Есть, конечно, политики, которые так думают. Но есть и другие — понимающие, что власть может существовать в ядерный век, но что и в неядерные века — а их было множество — она существовала даже с большим, возможно, комфортом. Правители не хуже своих подданных понимают, что можно обойтись без танков и роллс-рейсов, даже без горячей воды можно, но вот без воздуха — нельзя, и без неотравленной пищи — тоже…
— Вот тут ты ошибаешься, логика тебя подводит. Если бы дело обстояло так, правительства давно приняли бы меры. Но они как раз делали очень мало…
— Правительства плывут по течению цивилизации; не они правят ею, а она — ими. И сломать ее им не под силу, ее надо медленно-медленно гнуть. Но это надо было начинать немного раньше, а сейчас уже поздно. Сейчас ее начали ломать снизу. И наше, армии, дело — лишь позаботиться о том, чтобы это не стоило большой крови и невосполнимых потерь. Это — единственное, что мы сейчас себе позволяем: следить, чтобы игра велась по определенным правилам. Те, кто руководят процессом, понимают это, а те, кто пытается нарушить -…Вот только сегодня утром мы отобрали и привезли целую машину стрелкового оружия: пришлось разоружить два чересчур лихих отряда. Иными словами, мы не против того, чтобы перевести поезд на другой путь, но не желаем, чтобы его пустили под откос. Мы как бы стоим над схваткой — пока нет никакого законного правительства, да и когда оно возникнет, мы признаем его лишь на определенных условиях и гарантиях — и сегодняшние руководители это прекрасно понимают. Итак, мы ни на одной стороне; если же я, предположим, дам тебе связь, получится, что мы приняли какую-то из сторон…
— Ничего подобного: я — это мировая пресса, я тоже ни на чьей стороне.
— Возможно — ты лично. Но те, для кого предназначена твоя информация — как они воспримут ее?
— Брось, брось, полковник, не в этом дело, не считай меня таким дурачком. Скажи откровенно, ты не хочешь, чтобы внешний мир знал подробности о просходящем — чтобы они не успели там, у себя, принять меры. Значите — в глубине души ты все же на стороне этих?
— Я на стороне жизни. А ты?
— Я тоже. В частности — я за то, чтобы сохранить жизнь тем ученым и техникам, которые находятся сейчас в Черном Кристалле, в Центре. Если ты не хочешь дать мне связь…
— Совершенно исключено.
— …то хотя бы пошли войска, чтобы защитить Центр, его людей от самосуда.
— То есть откровенно выступить на их стороне? Нет, милый друг, ни в коем случае.
— Послушай. Но ведь новое правительство, судя по тому, что знаю я — да и ты, наверное, тоже — ни в коем случае не будет демократическим…
— А меня это не очень шокирует. Армии легче жить с правительством, несовершенно демократическим — потому, может быть, что сама она совершенно демократической организацией никогда не будет — не может быть по сути своей.
— Значит — пусть гибнут люди? Но ведь это даже не ваши подданные, полковник! И если те державы, чьими гражданами эти ученые являются, захотят обеспечить их безопасность — так это называется в наши времена… долго ли сможет твоя армия противостоять рейнджерам? И что от нее потом останется?
— Ну, — сказал полковник, помолчав, — международных осложнений мы вовсе не желаем…
— Так защитите людей!
— Понимаешь ли, мы не можем сделать этого открыто. Не говорю уже о том, что я не командующий армией, и если отдам такой приказ моим солдатам — завтра же меня здесь может не оказаться, Правительства нет, но генералы живы и находятся на своих местах. А что военного министра нет — так он все равно был штатским, и интересы армии не впитал с молоком матери. Но, в конце концов, почему этих людей надо защищать? Я знаю Центр; Черный Кристалл — с точки зрения его обороны — вовсе неплохая крепость, там полно людей, способных носить оружие…
— Беда в том, что им нечего носить! Хоть поделись оружием, если ты не согласен ни на что другое!
— Ты с ума сошел: оружие — это армейское имущество, и я не имею никакого права… Это было бы просто преступлением! Минуту-другую они помолчали.
— М-да, — пробормотал затем полковник. — Рейнджеры…
Нет-нет, я не вправе дать ни одного автомата, ни одного патрона. Трудно даже сказать, какой шум поднялся бы, а ведь у нас сейчас обстановка тоже напряженная, ты не представляешь, как тяжело поддерживать несение службы на должном уровне… Да вот, зачем далеко искать: пригнали, ты уже слышал, машину с оружием, отнятым у хулиганов — там и автоматы, и патроны, и карабины, — и даже не потрудились загнать в гараж, машина так и стоит неразгруженной, даже не в распоряжении, а за забором… И вот уверен: если бы кто-нибудь сел в нее и поехал — разгильдяи на проходной даже не почесались бы… Нет, события, безусловно, влияют и на нас, на дисциплину, на воинский порядок… Понял?
— Так точно, — ответил Гектор бодро.
— Разгильдяи, говорю тебе — разгильдяи! Уверен даже, что ключ из зажигания никто не позаботился вынуть… Вот я обожду еще с полчасика — и специально пойду, проверю, стоит ли она еще там — вдоль забора направо…
— Боюсь, — сказал Гектор, — что мне придется покинуть тебя еще до этого.
— Кажется, ты прав: час уже истек, у меня тут неотложные дела… Жаль, что не получилось посидеть по-настоящему, но погоди вот, уладится все, успокоится как-то — тогда уж…
— Непременно, — подтвердил журналист. — Только тогда меню выберу я, а то от этого твоего в глотке першит…
Полковник развел руками и проводил Гектора до двери. Дальше все шло в обратном порядке; адъютант проводил его до подъезда, там уже ожидал разводящий; в его сопровождении Гектор беспрепятственно вышел за пределы расположения, постоял минутку, размышляя, рассеянно свернул вправо. Часовой изо всех сил смотрел в противоположную сторону. Грузовик стоял, и ключ на самом деле был в замке зажигания. Гектор усмехнулся. Сел. Мотор включился сразу. Гектор глянул в зеркальце. Часовой по-прежнему глядел влево, хотя ничего особенно интересного там не происходило. Гектор набрал скорость. Все было тихо. Дорогу он знал. Груз негромко позвякивал в закрытом брезентом кузове. Ну, что же, — подумал Гектор, — и такой клок шерсти пригодится, и на том спасибо. Но теперь предстоит еще уговорить профессоров стрелять, боюсь, это окажется труднее…
* * *
Граве начал медленно сбрасывать газ. Расстояние между машинами сокращалось. Милов прищурил глаз. Потом широко раскрыл оба. Что там такое? Флаг? Нет, не флаг…
Водитель машины-преследователя на ходу опустил стекло и высунул руку, в которой что-то яркое, цветастое билось, извивалось на ветру. Милов вгляделся — и ударило в виски, мурашки побежали по спине. Ах, ты… Ах, ты!
— Еще чуть медленнее!
Сверну шею, — подумал он. — И уж что-нибудь поломаю наверняка. Но выбирать не приходится. Тряхнем стариной… Нет, никому другому это не пришло бы в голову — значит…
— Граве, поближе к обочине!
— Это еще зачем?
— Солнце бьет в глаза — от его стекла…
— Ладно.
Милов опустил левую руку, нашарил. Машина шла совсем рядом с травянистой обочиной.
— Ну, что же вы? Огонь!!!
— Слушаюсь, господин ефрейтор, — ответил Милов и левой рукой рванул ручку дверцы.
Он вывалился спиной вперед, сгруппировавшись на лету. Автомата он не удержал, и оружие лязгнуло по асфальту, но не выстрелило — предохранитель не подвел. Боль ударила, казалось, сразу со всех сторон, рванула, вонзилась… Кажется, жив еще, — успел подумать Милов, клубком катясь по траве. Рядом взвизгнули тормоза. Линкольн-континенталь, низкий, длинный, как летний день, остановился рядом. Первая дверца распахнулась.
— Дан, вы живы? Чему вы смеетесь?
— Ева! Ева, сумасшедшая вы женщина… Он с трудом, как бы по частям, поднялся. Граве был уже далеко, машина его все уменьшалась, превращаясь в точку. Автомат валялся на шоссе, сзади, шагах в тридцати.
— Ева, милая, задний ход — подберем игрушку.
— Я развернусь.
— Потеря времени. Надо настичь его! Ева все еще сжимала в пальцах нелепый галстук Милова.
— Не спрашивайте, Ева, некогда — объясню по дороге…
Он подхватил автомат, перегнувшись с сиденья, захлопнул дверцу. Кости, кажется, в порядке. Жива, — подумал он, — жива, как ей удалось?
— Ева, как вы спаслись?
— От чего, Дан?
— Граве говорил…
— Граве? Он заходил, да; разговаривал с Лестером. Ко мне только заглянул мимоходом — сказал, что хочет разыскать вас, я объяснила, что вы постараетесь попасть в Центр.
Выдумал? — пытался сообразить Милов. — Нет, он же сумасшедший-ему хотелось убить ее, но он не решился, конечно, — а потом поверил, что так и сделал… А может, и остальное-фантазия, и в машине у него нет никакой взрывчатки? Ладно, увидим.
— Как нога? — спросил он.
— Спасибо, Дан, — сказала она. — Вспомнить сейчас о моей ноге — это говорит о многом. Еще побаливает. Но я терплю. Дети… И вы.
— Глупая, — сказал он.
— Это у меня от рождения, — сказала Ева. Машина бесшумно летела — не по дороге, кажется, а уже над нею; точка впереди начала снова обретать очертания.
— Хорошая у вас машина, — сказал Милов.
— Рикс не любит маленьких.
— А поживее она способна?
— По такой дороге я легко дам сто двадцать миль, если понадобится. А он держит примерно восемьдесят.
— Быстрее не может. Приблизься метров до пятидесяти. Ближе не надо. И как только я начну стрелять — жми на тормоза.
— Что ты хочешь с ним сделать? Я надеюсь…
— Только то, чего он сам захотел. Как тут опустить стекло?
— Кнопкой.
Милов опустил стекло, высунулся: сперва руки с автоматом, потом голову — но ее пришлось тут же убрать: резкий ветер бил в лицо, заставлял закрыть глаза. Ничего, мы и так… Хотя бы по колесам. Не уйдет, и отстреливаться не сможет — он же не рейнджер, он нормальный гражданин, честный, добродетельный умалишенный.
Он выпустил короткую очередь. Вторую. Граве вилял по дороге, по всем четырем ее полосам. Мимо. Опять мимо. Что я — стрелять разучился?.. Так, заднее стекло — в крошки. Виден затылок, голова, пригнувшаяся к рулю. Нет, в него не буду. Дам шанс: если он все выдумал — пусть живет. Только сбить с дороги: если в машине не пластик, он уцелеет, отделается синяками, может быть. Только сбить с дороги. Сейчас он снова вильнет — и можно будет по колесам…
Длинной очередью, последними патронами он повел сверху вниз наискось. Но Граве в последний миг вильнул, и багажник закрыл колесо.
Ревущее пламя клубком оторвалось от дороги, на лету рассыпаясь на части. Налетела взрывная волна. Ева вскрикнула. Линкольн рвануло, занесло, швырнуло в канаву. Сталь скрежетала, сминаясь. Земля перевернулась. Финиш, конец пути.
— Ева, вы живы?
Она лежала на траве, куда Милов вытащил ее из смятой, невосстановимо изуродованной машины; у него самого был рассечен лоб, кровь текла по лицу, и, кажется, пару ребер придется капитально ремонтировать. Но, может быть, и не так все плохо.
— Ева!
Она открыла глаза:
— Что с нами было?
— Дорожно-транспортное происшествие. Она несколько раз моргнула. Глубоко вздохнула и охнула.
— Где болит? — спросил Милоз.
— Спросили бы, где не болит…
— Минутку. Здесь болит? А здесь? А так? Тут?
— Дан, кто, из нас врач? Подозреваю, что вы.
— Ну, что вы, Ева, милая… Но в санитары гожусь. Теперь попробуем подняться. Держитесь за меня. Так, та-ак… В общем, отделались мы с вами чрезвычайно легко.
— Однако, мой рыцарь, ваша внешность несколько пострадала. Пора и мне вспомнить, что я медик. В машине есть аптечка…
— Пусть ее поищет кто-нибудь другой, нам некогда. Да и заживает на мне мгновенно. До Центра далеко еще?
— Рядом. Километра полтора, если идти напрямик. Но я, кажется…
— Ева, Ева, как вам не стыдно! Усидеть сможете?
— Вы рыцарь или лошадь?
— Я кентавр.
— А если всерьез: вам по силам будет?
— Я в форме, — сказал он. — Ну раз-два… Удобно?
— Никогда больше не слезу. Хотел бежать от меня. Каково?
— Я бы вернулся, — сказал он искренне.
— Знаю. Потому и погналась. Но не очень-то воображайте: у меня ведь дети. Все равно, я бы поехала к ним.
* * *
— Наверное, там есть, кому присмотреть?
— Нет, я должна быть с ними сама. Хоть ползком…
— До этого не дойдет. А машина все равно дальше не повезла бы, — сказал Милов, когда они поравнялись с глубоким провалом во всю ширину шоссе — там, где взорвалась машина Граве. — Ну, мир праху его.
— А мне жаль его, — сказала она.
— Да и мне тоже — теперь… Он любил свою жену.
— Дан, а ведь мы, наверное, сами во многом виноваты.
— Конечно, — сказал он, постепенно привыкая к ритму ходьбы с грузом. — И мы, и он, и все, кто только говорил, но ничего не делал, чтобы подхлестнуть наши правитель-ства — ждал, пока это совершит кто-нибудь другой. Ну что же, кто-то другой и осуществил — по-своему…
Пришпорьте-ка меня, Ева, не то мы придем слишком поздно.
— Запрут крепостные ворота?
— Нас могут обогнать — те, кто идет уничтожить Центр.
— И мы вдвоем их остановим?
— Нет. Но предупредим Центр. И весь мир.
— И там погибнем?
— Может быть.
Метров сто они прошли молча; но идти в безмолвии было труднее.
— Знаете, Ева, мне страшно повезло.
— Конечно, знаю. А в чем именно?
— В том, что вы весите килограммов пятьдесят, не больше.
— Девяносто шесть фунтов.
— Представляете, если бы вы весили двести?
— Я? Никогда! — возмущенно заявила она.
— Ну, не вы, а другая женщина…
— Дан! На свете нет других женщин, ясно? Есть только я!
Он медлил с ответом.
— Немедленно опустите меня на землю! — потребовала она. — Не желаю иметь с вами ничего общего!
— Их нет, Ева, — сказал он. — Никогда не было. И не будет. Пока мы живы. Но если бы когда-нибудь раньше они были, то не обязательно носили бы брюки и брюки, вечно брюки. Знаете, кентавры очень любят ощущать…
— Терпение, Дан, — сказала она. — Они не приросли ко мне.
— Только на это я и надеюсь, — сказал он, ускоряя шаг.
* * *
Сквозь редкую цепочку окружавших Центр добровольцев они прошли беспрепятственно, никто даже не попытался задержать их, а Милов, к тому же, все еще носил на груди дубовый лист. Широкие стеклянные двери распахнулись перед ними, пропустили и захлопнулись. И сразу показалось, что все беды и опасности, пожары и убийства, свидетелями которых они были, на самом деле не существовали, что сами они выдумали и поверили в них, как Граве — в убийство Евы. На самом же деле везде царил порядок, и разумная жизнь текла, как ей и полагалось, и можно было спокойно думать о своей работе и своей любви. Потому что здесь, в обширном вестибюле Кристалла, где лежали ковры и на стенах висели подлинники кисти мастеров, и сиял мягкий, неназойливый свет, и стояла крепкая, благословенная тишина, — где, одним словом, все выглядело так же, как и неделю, и месяц, и год назад — здесь можно было почувствовать себя защищенным всею той силой, которая была у остального, пока еще (хотелось надеяться) жившего нормальной жизнью мира. Хотя как раз в с устойчивости остального мира Милов был не очень-то уверен.
— А я думал, здесь яблоку упасть некуда, — сказала он, остановившись посреди вестибюля.
— Ну, Кристалл достаточно велик… Дан, а вам не кажется, что мы уже приехали? Пожалуйста, здесь мне неудобно…
Он бережно опустил Еву на пол и с удовольствием перевел дыхание.
— Бедный мой кентавр, — сказала она и провела рукой по его грязной от пота и пыли, колкой щеке. — Извините меня.
— Нет, не так, — сказал он. — Спасибо. Спасибо за первобытное ощущение: я вдруг почувствовал себя мужчиной не только по первичным признакам.
— Зато теперь я принимаю на себя роль женщины и хозяйки дома. Вам нужны ванна, бритва и гардероб. Потом нам не помешает что-нибудь выпить и немного поесть.
— Лазурная перспектива, — согласился он. — Но это потом. Прежде всего отведите меня на радиостанцию. Необходимо как можно скорее оповестить весь мир. Скорее всего, это уже сделано, однако я не знаю, в какой степени здесь понимают ситуацию: глядя из этого райского уголка, кажется, трудно составить верное представление. Ева покачала головой.
— Вы не знаете наших порядков, Дан. Никто и близко не подпустит вас к микрофону и не примет от вас ни единого слова без разрешения администрации. И никто не даст вам этого разрешения прежде, чем вы убедите их в необходимости этого…
Что-то неуловимо изменилось в ней, когда она оказалась внутри Кристалла: там, в дороге, она была только женщиной, а тут — еще и человеком, работающим в Центре и подчиняющимся его порядкам.
— Черт бы побрал ваших бюрократов, — сказал Милов. — Ладно, ведите, я им в двух словах объясню…
— В двух словах они не поймут. Научная администрация, Дан, консервативнее любой другой. И до тех пор, пока вы больше всего напоминаете беглого каторжника, с вами и разговаривать не станут, и я ничем не смогу помочь. Я ведь хозяйка около своих гермобоксов, а для всего Центра — величина столь малая, что никто даже не заметит, если я вообще исчезну.
— Ну! Супруга самого Рикса…
— Рикс — это звучит там, в городе. А для Центра он всего лишь обосновавшийся здесь бизнесмен, далеко не из самых крупных.
Разговаривая, она медленно, припадая на ногу, вела его к стене, в которой виднелись двери лифтов. Он попытался было воспротивиться, но тут же понял, что она права. Ладно, — подумал он, — у нас есть фора. Мы опередили пехоту, пожалуй, часа на четыре. Ему показалось удивительным, что где-то еще могут работать лифты; но здесь исправно вспыхнул зеленый треугольничек, и видно было, как кабина заскользила сверху по прозрачной шахте.
— Фантасмагория! — не удержался он. — Я начинаю всерьез бояться, что ваши шефы могут не понять, насколько дела плохи.
— Вы и сами уже не так уверены, правда? Он промолчал.
Они вышли на двадцать втором. Широким пустым коридором добрались до ее отделения. Дежурная сестра сидела на своем месте у пульта — с головы до ног в голубом, накрахмаленная, спокойная, уверенная в себе.
— Добрый вечер, доктор Рикс. — Тонкие брови сестры выразили нечто вроде удивления. — Вы с больным? Секунду, я вызову доктора Нулича, чтобы отправить пациента в-клинику… — Она говорила с акцентом.
— Нет нужды, сестра Пельце. Душ и что-нибудь, во что можно его переодеть.
— Только не в пижаму, пожалуйста, — попросил Милов.
— Позвоните в клинику, пусть там посмотрят в гардеробной — может быть, у кого-то из больных найдется подходящее.
— Там мало что осталось, доктор. Почти всех больных сегодня вывезли эти… местные. Остались только иностранцы.
— Скажите, сестра, может быть, мне самой сходить в гардероб. Привычка к подчинению возымела действие.
— Наши палаты — те, что для родителей — пусты. Душ можно принять там. А вы сами, доктор? Похоже, что вы попали в катастрофу.
— Не мы одни, сестра.
— Знаете, наши палаты едва удалось отстоять: сейчас в Кристалле так много людей — ученых со всех концов Центра, жены, дети… Странно, гостиница почти пуста. Так нет, всех привезли сюда. Теперь они в кабинетах, гостиных, комнатах для переговоров… Но у нас, к счастью, тишина: дети.
— Их не увезли вместе с больными?
— Кто бы позволил!
— Хорошо. Я пойду к себе, приведу себя в порядок. Дан, когда будете готовы — приходите ко мне, сестра вас проводит.
Она пошла, стараясь хромать как можно меньше. Милов смотрел вслед, пока сестра не окликнула его:
— Мистер Дан, пожалуйста — я уже пустила воду. — Она с неодобрением посмотрела на автомат Милова. — А это можно оставить здесь — потом выйдете и заберете.
— Да, конечно, — спохватился Милов. Усмехнулся: — Когда насмотришься на происходящее в городе, кажется странным, что где-то еще есть вода в кранах.
— Мы не зависимы от властей, — сказала гордо сестра Пельце.
— Дай-то Бог, — пробормотал Милов, направляясь в палату.
Перед тем, как идти в ванную, заглянул в комнату — кровать была застлана свеженьким, пестрым, с острыми складками бельем. Сейчас бы отключиться минуток на шестьсот, — подумал он мечтательно. — Да если бы еще не в одиночку… Но, похоже, в этой жизни выспаться больше не придется, да и ничего другого тоже. Ему все яснее становилось, до чего незащищенным был Центр; если дей-ствительно придется защищать его-задача может оказаться непосильной: стеклянные двери — и никакого оружия, нечем оборонять, да и некому. Это ведь не военная база на чужой территории… Что может спасти? Только вмешательство со стороны. Но там ничего не знают, и узнают наверняка слишком поздно. Ладно, а вымыться все-таки не мешает…
Он так и сделал, стараясь не совершать лишних движе-ний, и почувствовал, что боль во всем теле начала уни-маться по мере того, как Милов расслаблялся, выгонял из себя напряжение. Когда он вышел из ванной, одежда оказа-лась в палате. Дисциплина тут у них почище армейской, — усмехнулся он, — но в медицине, наверное, только так и можно — если всерьез работать, если не для формы. — Он глянул на себя в зеркало. — Все-таки совсем иное впечатление. Правда, автомат к этому костюму как-то не идет. И все же без него — никуда. Вот патронов бы еще раздобыть — выйти, ограбить добровольцев, что ли, пока к ним еще не подоспела подмога?
Сестра Пельце снова осуждающе покосилась, когда он подхватил автомат и закинул за спину. Однако не сказала ни слова. Они дошли до замыкавшей коридор перегородки с дверью. В полутемной палате Ева сидела за столиком, опираясь подбородком о кулаки — посвежевшая, причесанная, в халате. Компьютер. Приборы, экраны со струящимися кривыми. Еде уловимое дыхание каких-то механизмов…
— Вот они, — сказала Ева, и Милова поразила прозвучавшая в ее словах нежность женщины, у которой, видно, своих детей не было — а не просто сострадание врача. Она встала и подвела Милова к прозрачным камерам, в которых мирно спали младенцы, дыша воздухом, какого более не существовало в окружающем мире: чистым воздухом, диким, нецивилизованным, первобытным. Вот они, — подумал Милов, чувствуя, как комок возникает в горле, — те, ради кого следует сломать эту цивилизацию, сделать из нее что-то, пригодное для жизни. Не только для них, конечно. Для всех. И самих себя. Но это они принесли нам сообщение, подали сигнал: медлить больше нельзя. Они просигналили — но те, кому следовало, не обратили на него внимания…
— Идемте, Ева, — сказал он. — Где там ваши вседержители?
— Сейчас все собрались в ресторане. Очень кстати, не правда ли?
— Лучше бы они собрались на радиостанции, — ответил Милов.
— Там бы нас не накормили.
— Хозяйка дома, — улыбнулся он.
— Нет, к сожалению. Будь я хозяйкой, сразу дала бы вам микрофон. Но должна ведь женщина хотя бы накормить своего любовника?
— Я уже любовник? — спросил он.
— Будешь, — сказала Ева, — куда ты денешься.
Большой зал ресторана оказался битком набитым — одни ели, другие сидели за бутылкой вина или чего-нибудь покрепче, но везде разговаривали; видимо, неопределенность положения Центра все же ощущалась и тревожила если не всех, то многих. Разговоры велись на разных языках: в предчувствии опасности люди сознательно или бессознательно группировались землячествами. Заграница, — подумал Милов. — Наши бы наверняка засели в конференц-зале, тут, надо думать, не один такой, а эти, видишь — в ресторане, не привыкли, как мы: с президиумом, с докладчиком… Зато там сразу было бы ясно, где начальство, а тут я даже не пойму, кто директора, а кто лаборанты…
Ева, видно, в этом все же разбиралась, и уверенно вела Милова по сложной траектории между расставленными, могло показаться, в полном беспорядке столиками. Он успевал уловить обрывки разговоров — на тех языках, какие понимал:
— Когда вернусь в Кембридж, подниму кампанию протеста…
— В конце концов. Германия вложила в этот Центр так много, и мы ведем здесь важнейшие разработки…
— …И вы понимаете, Смарт, это семнадцатая элементарная частица, я полагаю…
— …Накупила кучу барахла. И если нас будут вывозить отсюда вертолетами, то придется все бросить. Но комп я все-таки постараюсь вытащить…
Земляки, — с удовольствием подумал Милов, прислушиваясь к русскому языку. Но сейчас не было времени даже окликнуть соотчичей, поздороваться с ними.
— …Глупости, ничего не случится. Они еще принесут извинения, вот увидите. Государственный секретарь, я уверен, уже…
— Обождите минутку здесь, Дан, — сказала Ева. — Сперва я представлю вас заочно, — и она, почти не хромая, направилась к столику, стоявшему в едва уловимом, но все же отдалении от прочих. Милов остановился. Рядом несколько столиков было сдвинуто вместе; здесь, судя по разнообразию акцентов, компания была интернациональной.
— …Ну, а чего же вы ждали? Да я в любой миг могу перечислить все преступления, какие мы совершили и продолжаем совершать по отношению к природе. Только это займет не часы — дни, недели… Возьмите хотя бы все Красные книги. Везде! Леса. Мировой океан. Почвы. Ископаемые. Воздух. Флора. Фауна. Озон. Даже космос успели уже изрядно запакостить…
— Прискорбно, конечно, и все же это не повод для эксцессов. Просто — такова жизнь, и другой она быть не могла.
— Такой ее сделали — при нашем усердном способствовании. Не дав себе труда подумать — должна ли она быть такой.
Еще один:
— Да, мы исправно выполнили все, что было предсказано за сотни лет до нас…
— Ну конечно, вы же коммунист, кого начнете цитировать сейчас — Ленина или Маркса?
— Всего лишь Ламарка, успокойтесь. Того самого, Жана-Батиста. Он сказал примерно так: «Назначение человека, похоже, заключается в том, чтобы уничтожить свой род, сперва сделав земной шар непригодным для обитания».
— Чепуха. Возьмите хотя бы продолжительность жизни: когда раньше она была такой? Когда раньше планета была в состоянии прокормить столько людей? Можно привести сотни возражений! Вы просто пессимист…
— Возражать мне легко. А вы возразите им!
— А кто «они» такие?
— Да все остальные, Кто верил нам или в нас, не задумываясь, шел за нами, полагая, что мы-то уж знаем, куда ведем. Люди. Человечество, если угодно. Надо быть совершенными идиотами или слепцами, чтобы не видеть, что именно к такой развязке идет дело. Потому что человечеством все больше овладевал ужас. А ужас, когда достигнута его критическая масса, взрывается. Это было ясно уже годы назад!
— Кому ясно? Вам, допустим, было ясно? Мне, например — заявляю и клянусь! — ничего подобного и в голову не приходило! Вам было ясно — вот и предупредили бы. Что же вы тогда молчали?
— Да потому что я, как и все мы, получил нормальное современное воспитание, научившее нас думать одно, говорить другое и делать третье — то, что все делают. Все катились под гору — и я катился со всеми заодно, и, как любой из нас, старался съехать как можно комфортабельнее…
— Да перестаньте! Пусть мы и нанесли некоторый ущерб, не отрицаю, но в наших силах — все исправить. Дайте мне только время…
— Берите, берите все время, сколько его есть и будет до скончания веков, я не жаден, дарю вам вечность. Но вот дадут ли вам время они? Понявшие, что надежды на нашу совесть тщетны, цивилизация сильнее совести-и что если они хотят сохранить хотя бы те воздух и воду, какие еще существуют сегодня, то им надо стрелять в нас с вами, громить лаборатории, взрывать заводы и станции, раскалывать головы с оптимально организованным серым веществом… Они не хотят больше, чтобы взрывались реакторы, рушились плотины, шли желтые дожди, выбрасывались удушливые газы, чтобы ширилась ОДА…
— Опять-таки позвольте усомниться: уже был СПИД — и никто не начал стрелять.
— Потому что там речь шла все-таки о природном явлении. Хотя в наших условиях эта локальная болезнь быстро стала повсеместной. Но вот ОДА — уже целиком наших рук дело…
— Да к чему валить все на нас? Уничтожение природы начали не мы, его начали еще кроманьонцы — уничтожали целые виды животных!
— Учтите: природа вовсе не беззащитна, она и сама может постоять за себя. У нее есть охранительные средства, и в их числе — то стремление к самоуничтожению, которое сидит в нас изначально. Да-да, коллега, и эпидемии прошлых веков, и ядерные бомбы нашего времени, и взрыв СПИДа, и ОДА, и даже нынешнее выступление против нас — все это способы, какими природа стремится защитить себя от человека — при помощи человека же.
— Перестаньте! Самоубийство — в том, чтобы пытаться уничтожить все наши достижения! И человечество на это не решится.
— А я вот давно говорил: цивилизация изжила себя. Ее перо свертывать. Но без лишней резкости и торопливости, иначе в мире начнется такое…
— Началось уже. Только вы никак не хотите понять… Наступает хрустальная ночь. Вы помните, хотя бы из курса истории, что такое была хрустальная ночь?
— Знаете ли, я могу обидеться. В моей семье, среди моих недавних предков… Я еврей, в конце концов!
— Вот она и повторилась, только наша ночь — ночь Черного хрусталя: недаром Черным Кристаллом называется это здание… А вместо евреев будут уничтожать и всех, кто хоть как-то содействовал нашим свершениям. Ужасно, несправедливо? Согласен. Но уже ничего не поделаешь, процесс пошел.
— Ну, не думаю. Нет, нет. Но знаете что? Мне кажется, пришла пора писать письмо главам государств — наподобие того, как написал Рузвельту Эйнштейн…
Наконец-то Ева вернулась к Милову. Он посмотрел на нее с нежностью.
— Пойдемте, Дан, — она взяла его за руку. — Они вас выслушают.
— Словно я за подачкой пришел, — буркнул Милов.
— Не обижайтесь: они так привыкли. Уже одно то, что вы не ученый…
Шестеро сидевших за столом потеснились, и, как будто без всякого сигнала, официант тут же подставил еще стул; место для Евы нашлось еще раньше.
— Ну, господин Милов, чем вы хотите нас напугать? — почти весело обратился к нему тот, напротив которого Милов оказался.
— Я волею судеб возглавляю этот питомник гениев и инкубатор открытий…
Они слушали Милова внимательно, не перебивая. Он старался говорить как можно короче и выразительнее.
Итак, вы хотите использовать нашу станцию, чтобы обратиться к правительству всего мира и предупредить их об опасности? Скажу сразу: нам положение не представляется столь трагичным. И мы уже сообщили о том, что здесь произошло. Так что мы полагаем: остается лишь спокойно ждать. Не сомневаюсь, что правительствами будут предприняты все необходимые действия.
— Нельзя ли уточнить: что именно вы сообщили?
— Только факты: местные власти выразили несогласие с пребыванием нашего Центра на их террито" рии и требуют его ликвидации; местное население про" явило некоторую несдержанность, в результате чего пострадал поселок ученых, однако посягательств на их жизнь не было — если не считать двух или трех спонтанных проявлений… Вообще вопрос, как вы понимаете, весьма спорный. Существует соглашение с правительством этой страны, так что переговоры будут весьма долгими, а мы тем временем спокойно продолжим нашу работу.
— Однако, того правительства больше нет.
— Но нет и никакого другого.
— Прошлой ночью сожгли поселок; в следующую, может быть…
— Это нереально: ни одно новое правительство не станет начинать свою деятельность с таких поступков.
— Боюсь, что вы не поняли главного: в стране устанавливается — или уже установился — новый режим, фашистского типа. Могу напомнить: один из основных признаков таких режимов — полная бесконтрольность внутри и обильная дезинформация, направленная как вовнутрь, так и вовне. Я уже рассказал вам, что нам с доктором Рикс едва удалось предотвратить диверсию против Центра. А у вас ведь и реактор на ходу!
— Ну, он в полусотне миль отсюда, там полная автоматизация, ни одного человека. Ну хорошо, сумасшедшие могут найтись везде, и мы вам очень благодарны — вы подвергались немалому риску… Что же касается характера, который имеет новый, как вы говорите, режим, то, простите, в это трудно поверить. В наши дни, в нашем мире…
— А взрыв плотины?
Теперь говорили все шестеро, разговор стал общим.
— Ну, знаете ли, слова сумасшедшего — еще не дока-зательство. Просто бред. Тем более, как вы сами рассказали, он считал, что совершил… некоторые действия, но, как оказалось…
— Да, да. Я был на станции буквально несколько дней назад — согласитесь, что такую диверсию нельзя провести без подготовки, плотина — не автомобиль; а там абсолютно ничего не было заметно. Другое дело-уровень воды повышался, действительно, быстрее обычного, и если при постройке плотины были допущены ошибки или злоупотребления…
— Я тоже не верю в гипотезу преднамеренного взрыва. Слишком уж… романтически.
— Вот именно — чересчур пахнет кинематографом.
— Во всяком случае, мы не можем выступить с заявлением такого рода. Наш престиж…
— Да поймите же! — Милов, утратив обычное спокойствие, едва не кричал, по сторонам уже стали оборачиваться. — Процесс может стать глобальными Изменение характера цивилизации, отказ от многих производств, регулирование населения — все это неизбежно, и если этим немедленно не займутся правительства, то сделают другие — как это случилось здесь. В борьбе со всеобщим страхом молчание и бездействие — плохое оружие! А другие тем временем говорят и действуют — но цели у них свои, совсем не те, что у нас…
— Дорогой друг, мы понимаем, что увиденное в городе не могло не подействовать на ваше восприятие событий, на ваше воображение-тем более, что вы, как м-м…
— Скажите: полицейский!
— Ну, назовем хотя бы так, — вы, естественно, должны болезненно воспринимать всякое отступление от принятого порядка-согласитесь, что профессиональное мышление полицейского не может быть чрезмерно широким и демократичным; зато мы, ученые, привыкли… Одним словом, мы не допустим никакого использования нашего радиоцентра — во всяком случае, пока обстановка не прояснится.
— Может оказаться слишком поздно, — сказал Милов мрачно.
— Мы так не думаем. Бесполезно, — подумал Милов. Он встал.
— Благодарю вас, господа, за то, что вы меня выслушали.
— Господин Милов, — услыхал он сказанное вдогонку. — Нам хотелось бы, чтобы вы не расхаживали здесь с оружием. Мы не привыкли, и к тому же это могут увидеть женщины, дети…
— Я приму это к сведению, — сказал Милов учтиво. Ева тоже встала и догнала его.
— Я с вами, Дан.
— Доктор Рикс, — сказал кто-то из шестерки, — нужно, чтобы мистер Милов как следует отдохнул, пришел в себя. Позаботьтесь об этом.
— О, разумеется, — сказала она, улыбаясь, — Поужинаем, Дан, и поднимемся ко мне.
Он взглянул на нее. Да пропади все пропадом, — подумал он. — Почему мне должно хотеться большего, чем остальным? Мне сейчас ничего, кроме нее, не нужно. Я-то выкручусь, и ее хоть на руках, хоть в зубах, но вытащу, а эти — пусть подыхают под облаками вместе со своими мнениями и традициями. Зато те, кому удается выжить, поймут, наконец, что к чему… Они поднялись на лифте, подошли к ее двери.
— Чувствуй себя, как дома, — сказала она.
* * *
Стояли уже сумерки, когда они снова вышли в коридор. Там, внутри, они не говорили о том, что наверняка предстояло в ближайшие же часы; вообще говорили мало, больше молчали, как если бы хотели до конца насладиться тишиной, с которой — понимали они — скоро придется распрощаться. И вышли потому, что Ева вдруг сказала: «Смешно, но я жутко голодна. Зря мы не взяли ничего с собой. Спустимся, поедим чего-нибудь». «Если там еще осталось, — с сомнением пробормотал Милов. — У многих, знаешь ли, перед смертью возникает страшный аппетит». «Почему перед смертью?» — Ева тревожно поглядела на него, пытаясь заглянуть в глаза, но уже слишком было темно, а света они не зажигали, и она не смогла понять их выражения. «Потому что те нападут, — невесело ответил он, — а здешний люд — никудышные вояки, да и оружия нет». Эти слова окончательно вернули их в тот мир, что находился за стенами комнаты. Ева включила свет, поправила прическу перед зеркалом. Милов поцеловал ее, закинул автомат за спину, и они вышли. По дороге Ева сказала: «Давай заглянем ко мне на миг». Они заглянули. «Сестра, все в порядке?» — спросила Ева строго. «Все в порядке, доктор Рикс. Вот только тут звонили — искали вас». «Кто?» Сестра посмотрела на экран. «Он назвался Гектором. Просил передать, что ждет вас и господина в ресторане. Если я не ошибаюсь, это тот самый корреспондент, американец, который…» «Спасибо, сестра», — сказала Ева. Прошла вдоль гермобоксов, останавливаясь, внимательно вглядываясь, и трудно было понять — просто ли она наблюдает спокойным взглядом врача, или же прощается со своими крохотными пациентами.
* * *
В ресторане было еще больше людей, чем в прошлый раз, теперь тут сидели и женщины, и дети, и стоял невообразимый шум, а найти свободное местечко оказалось нелегко.
— Не просто будет искать здесь Гектора, — сказал Милов.
— К чертям Гектора, — сказала Ева. — Я хочу есть.
Кое-как они уселись. Официанты куда-то исчезли, но фрак метрдотеля Милов углядел в царившем хаосе. С трудом удалось заполучить его к столику.
— Вы решили уморить нас голодом? — строго спросила Ева.
— О, мадам… Просто беда: у нас ничего нет! Все съедено, и сегодня не привезли ни горсточки продуктов! У нас не осталось ни одной машины, все они увезли больных еще утром и не вернулись, а поставщики и не показывались. Говорят, что-то происходит, мадам, и я готов в это поверить, и я в отчаянии, и не знаю, что делать…
— А вы пошарьте в холодильниках, — мрачно посоветовал Милов.
— Бесполезно. Мы никогда не оставляем продукты на завтра, нельзя кормить гостей несвежим…
— Ну, хоть что-нибудь, — сказала Ева самым нежным голосом, излучая обаяние.
— Ну, разве что… — Не решаюсь выговорить — может быть, яичницу? Допускаю, что осталось еще с дюжину яиц.
— Давайте все, что найдете! — сказал Милов, придав голосу оттенок угрозы. — И я надеюсь, не все еще выпито?
— С этим пока благополучно, такие продукты не портятся. Я сделаю все, что в моих силах…
И действительно, яичница возникла, и еще какие-то обрезки ветчины, какие в нормальное время никто не решился бы предложить клиентам. Но сейчас все годилось.
— А, вот вы! А я разыскиваю вас по всему Кристаллу…
— Погодите, Гектор, дайте доесть, — попросила Ева. Журналист внимательно изучал их лица.
— Ну что ж, я так и думал, что без этого не обойдется. Но, откровенно говоря, удивлен, что вы все-таки нашли друг друга. От души поздравляю.
— Принимаю, — сказал Ева. — И не ждите, Гектор, что я стану смущаться. И Дан тоже.
— Я? Да я лопаюсь от гордости, — сказал Милов. — Ладно. Гектор, удалось вам добраться до армии? Дадут они связь? Или уже дали?
— Категорический отказ. Никакой надежды. Но кое-что все все же удалось выпросить. Оружие. Полный грузовик — старое, но еще стреляет. И патроны, конечно.
— Прелестно, — сказал Милое. — Кто только будет стрелять? Ну, а здесь что вы успели сделать?
— Побеседовать с начальством.
— У меня с ним, как пишут в газетах, не возникло взаимопонимания.
— Меня тоже поначалу слушали очень скептически. Но я их расшевелил, потому что у меня нашелся аргумент, какого у вас не было. Вы ведь лишь предположительно говорили о том, что на Центр могут напасть. Ну, а я видел отряды собственными глазами. Пришлось немножко попетлять по дорогам. Стягиваются со всех сторон. И сейчас они уже недалеко отсюда.
— Добровольцы? Если только они, то чем черт не шутит — таких солдат и тут полно, может, и отобьемся. А вот если вступят волонтеры…
— Думаю, что подойдут и они, но сильно опасаюсь, что их первым объектом будет электростанция — чтобы оставить Центр без энергии, простейшая логика диктует такой образ действий. А потом уже могут подойти и сюда — к тому времени, как это их ополчение докажет свою неспособность… Волонтеры, видите ли, честолюбивы. Везде свои сложности.
— Вернемся к начальству.
— Охотно. Моя информация заставила их призадуматься, и они поручили мне разыскать вас. Так вот, Дан, ученые мужи созрели для того, чтобы предоставить нам радио. Мы с вами должны составить текст. Давайте работать. — Движением руки Гектор смахнул посуду на пол — никто, кажется, даже не услышал звука, не оглянулся, не подбежал, — вытащил из кармана крохотный диктофон, поставил на стол. — Нет, пожалуй, на таком звуковом фоне мы и сами себя не поймем. — Он вынул блокнот, раскрыл. — Ну, вперед. Что для начала?
— К правительствам и народам всех стран… — начал Милов.
— К мужчинам и женщинам всего мира, — сказала Ева.
— Ну, конечно, — усмехнулся Гектор. — Решающее слово всегда остается за женщиной.
— Потому что оно правильно, — сказала Ева.
* * *
— …Теперь вы поняли, насколько положение серьезно. Не только здесь, где беда уже произошла, и не только наши жизни в опасности. Так будет и у вас. В вашей стране. На вашей улице. В вашем доме. События будут развиваться быстро, очень быстро. Вы должны успеть предотвратить их. Спасти природу, не забыть о человеке. Руководствоваться разумом и требовать того же от вашего правительства. Вы не должны опоздать! И еще… мы просим спасти нас. Мы ведь тоже очень хотим жить…
Закончив, Ева откинулась на спинку стула. Красная лампочка погасла. Передача закончилась.
— Хорошо, — сказал оператор из своего отсека. — И записалось нормально. Будем повторять непрерывно.
— Пока есть энергия, — негромко проговорил Милов.
— Кажется, мы ничего не забыли, — сказал Гектор.
— Но решится ли хоть одно правительство выбросить десант? — усомнился Милое. — Это ведь не просто. Существует международное и всякие другие права…
Гектор пожал плечами:
— Поживем-увидим. А пока давайте послушаем эфир. Лондон? Вашингтон, Ди Си? Или кого-нибудь поближе?
Они внимательно прослушали известия. Полным ходом шла подготовка конференции по Ближнему Востоку. Снова — в который уже раз — кто-то из великих спортсменов был уличен в употреблении допинга. Министры иностранных дел стран НАТО собрались на совещание, посвященное предстоящей встрече в верхах. Экипаж орбитальной станции чувствовал себя прекрасно… «Из Намурии сообщают…»
— Ага! — воскликнул Гектор. «Власти провинции, в которой расположен Международный научный центр ООН, потребовали его закрытия. Данные наблюдений со спутников позволяют прадположить, что столица все еще залита водами, хлынувшими из водохранилища после прорыва плотины. Связь со страной по-прежнему прервана, и новых сообщений, в том числе и о судьбе правительстм, не поступало. Правительства некоторых стран привели в готовность спасательные отряды, однако еще не ясно, будет ли им разрешен въезд на территорию страны. Остальные ее районы внешне не пострадали, в них наблюдаются активные действия населения. Погода на завтра:..» Гектор выключил приемник:
— Мы, конечно, слишком многого захотели: чтобы сразу…
— Вы должны что-то сделать! — сказала Ева. — Придумайте же, вы ведь умные люди!
— Пойду раздавать оружие, — сказал Гектор. — Поможете, Дан? По-моему, все остальное, что могли, мы сделали.
— Теперь вы должны сказать: «И можем умереть с чистой совестью», — добавила Ева иронически.
— Черта с два, — сказал Милов и обнял ее за плечи, — У нас еще все впереди"
* * *
— Миссис Рикс и джентльмены, — сказал шеф Центра. — Последний вопрос: как мы используем наш вертолет? Он дает нам возможность спасти хотя бы несколько ученых-людей с мировым именем. Цвет науки. И некоторые, уже законченные работы. Я наметил вот кого… — Он прочитал фамилии. — Боюсь, что это последний и единственный способ. Надежда, что мир отзовется на наш крик отчаяния, пока не оправдалась — и никто не может сказать, оправдается ли вообще. Так что иного решения, я полагаю, быть не может.
— Не только может, — сказала Ева, — но и должно быть. Дети. Вертолет оборудован кислородной установкой для их перевозки. До границы — час полета, а еще час — от границы до ближайшей клиники с гермобоксами. Надо спасать детей. Почему вы не подумали о детях?
— Было бы по меньшей мере странно, если бы мы не подумали о них, — ответил шеф. — Но мы решили, что они нужнее здесь. Как ни неприятно говорить это, однако они оказались как бы в роли заложников. Это ведь их дети — тех, кто нападает. И нигде в стране больше нет установок для устойчивого обеспечения их жизни. Дети находятся в Кристалле. И это обстоятельство может спасти Кристалл, если даже погибнет все остальное.
— А станция? — спросил Милов. — Если они взорвут ее, ни о каком жизнеобеспечении и речи не будет.
— Мы рассчитываем, что на станцию покушаться не станут. Взорвать со — значит, вызвать сильнейшее радиоактивное заражение местности. Это не в их интересах, не так ли?
— Вы полагаете, что они руководствуются логикой, — ответил Милов, — а это не так. Сейчас это — клубок эмоций. И еще одно обстоятельство: взрыв и заражение потом свалят на вас, и оно послужит еще одним доказательством бесчеловечности науки.
— Хватает и подлинных доказательств, — негромко прого-ворил кто-то из ученых. — К чему еще выдумывать их? Ну что же, ваша логика подсказывает, что мы ни в коем случае не можем позволить им хозяйничать на станции. Можем ли мы защитить ее? Милов покачал головой.
— Значит, в критический момент придется уничтожить ее отсюда. Вы, мистер Милов, может быть, не знаете, но наша станция покоится на плите, прикрывающей шахту глубиной в милю с лишним. Мы заглушим реактор и взорвем плиту. Станция провалится, а потом сработают заряды, обрушивающие породу.
— И мы останемся без энергии, — сказал Милов.
— Да. Останемся без энергии.
— И дети погибнут, — сказала Ева. — Самыми первыми.
— Да и не спасут они никого и ничего, — добавил Гектор. — Потому что народу еще утром объявлено, что дети вывезены. Их даже показывали с балкона.
— Но это же неправда! — сказал шеф.
— Объясните это им, когда они начнут стрелять. Наступило молчание.
— Вряд ли кто-нибудь из нас, — сказал один из адми-нистраторов, человек, известный всем, ветеран физики, чье имя стояло третьим в списке, — согласится спасти свою жизнь за счет ребенка. Меня, Майк, во всяком случае вычеркните. Я всю жизнь старался оставаться порядочным человеком, и, думаю, это мне в общем удавалось — зачем же на склоне лет… И я вам ручаюсь, Майк: при такой дилемме не согласится никто. Среди нас есть люди более способные, есть — менее, но подлецов я здесь не встречал.
— Джеп, — сказал шеф. — А может быть, это у вас просто срабатывает комплекс вины?
— Вот если я воспользуюсь вашим предложением, такой комплекс просто убьет меня. А так… да, каждому из нас можно осудить многое в своей жизни и работе, но я человек религиозный и отвергаю самоубийство в любой форме. Нет, Майк, я просто действую в соответствии с логикой. А вы на моем месте?
— Вы же слышали, Джеп, — сказал шеф, — что меня в списке не было. Я капитан, и сойду последним или — пойду ко дну. А вы, Анатолий — вы тоже есть в списке…
— Естественно, что я там есть, — сказал названный по имени ученый. — Но вот тут мой соотечественник, — он подмигнул Милову, — засвидетельствует, что мы — народ далеко не трусливый. Могли бы и не спрашивать, Майк.
— Боюсь, что вы правы, — сказал шеф и медленно разорвал список. — Следовательно: дети и обслуживающий их персонал. Я имею в виду и детей сотрудников Центра — по принципу возраста: самые младшие, столько, сколько возьмут пилоты. А возглавите вы, доктор Рикс.
— Ни за что! Я все сделаю, погружу их, но долететь они могут и без меня. В Центре множество женщин…
— Вы отвечаете за этих детей, — сказал шеф. — Без вас я просто не позволю отправить их. Нам же не жест важен — важно, чтобы они выжили!
— Дан, скажи им, — она прижалась к Милову, — объясни, что я не могу!..
— Ничего, родная, — тихо сказал Милов, — сможешь. Я понимаю, что сейчас остаться тут куда легче, чем улететь. На этот раз тебе придется труднее, чем всем нам. Но не спеши отпевать нас: мы еще не покойники, и не собираемся стать ими.
— Не хочу, не могу без тебя, — бормотала она, нимало не стесняясь присутствовавших. — Только что мы. Ни за что!
— Лети, Ева, — сказал Милов. — Сам-то я выпутывался и не из таких еще передряг. Это твои дети, ты сама говорила.
— Доктор Рикс, — сказал шеф. — Никто не расторгал контракта с вами, вы здесь работаете и, следовательно, выполняете мои распоряжения. Извольте заняться эвакуацией детей. Чтобы, самое позднее, через час машина была в воздухе.
— Час двадцать, быстрее невозможно, — сказала Ева, утирая слезы.
— Ну, вот и умница, — сказал Милов. — Идем, мы тебе поможем.
— Если все же придется взорвать станцию, долгой осады мы не выдержим, — сказал шеф. — Кондиционирование, подача воды, все, что нам нужно — прекратится. И у нас нечего есть.
— Но если они ворвутся, — сказал Гектор, — все кончится еще скорее. Только не надо иллюзий, шеф: они будут убивать. Нужно время, чтобы они пришли в себя.
— Или чтобы кто-то выбросил десант, — сказал старик, которого звали Джепом.
— Наше слабое место — ворота, — сказал Анатолий. — Они не рассчитаны на осаду. Ничто тут не рассчитано на осаду, но воротам — вообще чистая декорация.
— И еще стеклянный подъезд…
— Ну, тут легче: двери не столь уж велики, — сказал Гектор. — Я в этом кое-что смыслю: бывал в Бейруте, в Анголе, в Афганистане… Радио еще работает?
— Передает непрерывно, — сказал шеф. — И будет, пока стоит станция. Ну что же, пора спускаться, джентльмены. — По-моему, там уже началась перестрелка.
* * *
Куд-да! — подумал Милов, нажимая на спуск. — Вот то-то? Нет, это, конечно, не «Калашников», — думал он дальше. — Но для одиночной стрельбы — ничего, годится. А хорошо я устроился. Очень приятный ветерок. Вообще, чудесная ночь. Ночь черного хрусталя — так, кажется, говорил тот, в ресторане?
Он находился в том из помещений второго этажа, которое нависало над подъездом со стеклянными дверями. Окно, наклоненное вниз, как и все окна нижней половины Кристалла, было разбито, чтобы удобнее было стрелять; оно доходило до самого пола, и Милов лежал, опираясь на локти. Очередная атака была только что отбита, и напа-давшие вновь отступили за бетонный забор, где находились в безопасности от пуль. Менее сотни стрелков защищало Кристалл, но каждый из них находился в своем помещении, и наступавшим казалось, что обороняющихся много. Это не на моей совести, — думал Милов, глядя на тело, лежавшее вблизи ворот, ярко, как и все подступы к подъезду, освещенное сильным прожектором — одним из тех, что были установлены по периметру Кристалла в самой широкой его части. — Это на совести тех, кто взбаламутил и послал сюда несчастных дилетантов — они даже по прожектору попасть не могут… Ничего, воевать можно, только — долго ли? Если не будет десанта, наше дело проиграно, это ясно. Хорошо, что станция работает-значит, до нее еще не добрались. А когда доберутся — нам придется куда солонее… Боюсь, что волонтеры пошли именно туда: они-то понимают, что втемную нам куда труднее будет отстреливаться. Хотя — и тогда света будет, пожалуй, больше чем достаточно…
Наверное, света хватило бы, потому что на территории Центра многое уже горело — одно догорало, другое только занималось еще, третье горело вовсю, как будто зданиям надоела неподвижность, полета захотелось, полета — пусть и в виде пламени и дыма, пусть — в последний в своем существовании раз. Горело, выло, шипело, разлеталось густыми брызгами, пламена были где синие, где — зеленые, фиолетовые, желтые, оранжевые, белые — знатнейший получался фейерверк. Ветер дул от реки, и временами горящие куски и клочья чего-то, как бы лохмотья пламени, долетали до подножия Кристалла, догорали и бессильно гасли. Но гигантская глыба хрусталя стояла еще неповрежденной, если не считать разбитых окон; в какие-то мгновения" Милову казалось, что и Кристалл сейчас расколется, грянет обломками, осколками, дребезгами во все стороны, — то, наоборот, неизвестно откуда возникала вера в то, что — устоит, выстоит, всех перестоит, будет выситься до той поры, пока правительства всех сопре-дельных и отдаленных стран не перестанут чесать в за-тылках и начнут отдавать распоряжения. Но так ли получит-ся или иначе, — думал Милов, используя минуты передышки, одновременно заряжая обоймы, — молодец Ева, что не побоялась улететь. Она-то уж теперь в безопасности, за нее мне не страшно — и поэтому я могу воевать совершенно спокойно. Если уцелею — дома с меня, конечно, три шкуры спустят за вмешательство во внутренние дела чужой страны; но это не чужие дела, это и наши, сейчас все общее, потому что планета стала общей. А вообще — сейчас я не домашний, сейчас я ооновский, и защищаю институт, принадлежащий ведомству, в котором я работаю. Так, вот оно, — подумал он, потому что пол под ним слегка содрогнулся, и прожекторы разом погасли, а за бетонной оградой раздался радостный вой. — Станции конец! Сейчас, сию минуту надо им кинуться — пока мы еще не привыкли к новому освещению. Из-за забора, из темноты — и сразу на штурм дверей. Ага! Вот они! Ну, покажите, какие вы вояки…
Он стрелял, когда ему почудился шорох позади, за спиной, в комнате — не тот глухой стук, с которым врезались в стену влетавшие в окно пули, а именно шорох: кто-то неуверенно пробирался в темноте. Кому-то жить надоело, — подумал он, — или за патронами пришел? Нет уж, самому нужны…
— Эй, ты! — крикнул он. — Ползком двигайся, если уж такой настырный. Чего тебе? Стрелять надо, а не ползать!
— Погоди. Я сейчас.
— Ева?!
Она улегласо рядом. Выпустила очередь. Откуда у нее автомат? Хотя это мой автомат, по голосу узнаю. А патроны откуда взяла?
— Ева, патроны откуда?
— Привезла с собой? Как ты тут ведешь себя? Скромно?
— Кто тебе позволил вернуться?
— Никто не запрещал. Дело я сделала. А летчики тоже люди, и у них здесь товарищи…
— Ну погоди, негодная, я тебе… Стреляй, стреляй!
Наступавшие не выдержали и на этот раз. Откатились. Снова наступила передышка.
— Иди сюда, Ева.
— Зачем?
— Наложу взыскание. Он поцеловал со — насколько хватило дыхания.
— Ох, Дан… — сказала она.
— Ты абсолютно распутная, моя любимая женщина, — сказал он. — Без тебя тут так спокойно стрелялось.. Значит, довезла?
— Конечно же.
— Что там слышно?
— Слышно нас. Уже зашевелились. Пока я там возилась с малышами, прошли даже слухи о том, что готовится десант…
— Если бы!
— Но сверху мы видели — люди все еще идут сюда. Пилоты говорят, что это волонтеры.
— Далеко они?
— Нет, не очень уже. Знаешь, они не идут, они бегут, и через час-полтора могут оказаться здесь.
— Профессионалы, — сказал Милов. — Против волонтеров нам тут долго не продержаться. Они и вооружены лучше, и, главное — сноровка не та. Так что… Ты смотри: мало получили — опять собираются! Знаешь что, отдай-ка мне автомат, вот тебе карабин, тебе ведь все равно…
Даже лучше, — сказала она. — Держи. Вот патроны. — Ну, теперь я кум королю, — сказал он.
Перестрелка длилась несколько минут — и снова впереди опустело.
— Когда придут волонтеры, нечем будет стрелять, — сказал Милов. — На это они и рассчитывают: победить малой кровью. Наших, по-моему, поубавилось — большинство ведь тоже воюет на уровне здешних добровольцев. Ты уж, пожалуйста, будь добра, не щеголяй геройстром, не суйся под пули — тут не дикий Запад. О большем даже не прошу.
— Потому что понимаешь, я ведь и правда не уйду от тебя. Не могу. Когда-нибудь, может, сумею, а сейчас — нет. Ты понимаешь это? Серьезно?
— Знаешь, — сказал он, — после того, что у нас с тобой было, и правда можно, наверное, умирать спокойно: ничего лучшего в жизни не было и не будет. Но — хочешь смейся, хочешь нет — я все-таки надеюсь на здравый смысл человечества. Если даже где-то в правительствах сидят дураки или рохли, то не обязательно же на смену им должны прийти фашисты: бывает, что возникают и умные… И вот я надеюсь, что они успеют. Они должны успеть, понимаешь?
Ева не успела ответить: снова началась атака.
Милов бил прицельно, короткими очередями. Он видел, как падали люди, и ему было жаль их, но он знал, что иначе нельзя.
AN id=title>
* * *
— Доктор Рикс! Срочно — город! ОДА!
Женщина выхватила из кармана халата плоскую коробочку коммутива. Нажала кнопку.
— Доктор Рикс? — Голос в коробочке казался сплющенным. — Снова ОДА! Девочка, роды проходили нормально…
Женщина опустила веки — может быть, чтобы никто не увидел в ее глазах отчаяния. Но голос ее в наступившей мгновенно тишине прозвучал спокойно, почти безмятежно, как если бы ей сообщили — ну, что лампочка в прихожей перегорела, например; только свободная рука непроизвольно сжалась в кулак:
— Что предприняли?
— Сразу же, по инструкции, дали кислород. Затем…
Она слушала еще несколько секунд.
— Пока дышит нормально. Однако…
Она перебила:
— Готовьте к перевозке. Сейчас к вам вылетит вертолет.
— Доктор, хотелось бы… Видите ли, ее отец — Растабелл. Она знала, кто такой Растабелл.
— Не волнуйтесь, все будет отлично.
Рука с коммутивом медленно опустилась, бессильно повисла, но лишь на секунду.
— Доктор Карлуски, разрешите… Он кивнул узким, морщинистым лицом.
— Разумеется, доктор Рикс. Я уверен — это вчерашний выброс; следовало ожидать…
На несколько мгновение выдержка изменила ей:
— Шесть наших обращений к этому их правительству, шесть успокоительных ответов — и все на бумаге, только на бумаге… В конце концов, это же их дети, а не мои.
— Ну, что вы, — сказал доктор Карлуски, стянув морщины в улыбку. — Правительства всегда бездетны. Хорошо, что у нас еще есть гермобоксы.
— Еще три, — ответила она уже в дверях. — Что будет потом — не знаю…
— А кто знает? — сказал ей вслед доктор Карлуски.
* * *
Что будет потом, не знал никто. Ни здесь, в Международном Научном центре ООН, располагавшемся в уютном уголке Европы, в Намурии, — ни, пожалуй, во всем мире.
Правда, не было уже той растерянности, что сопутствовала первым подобным случаям — сперва вовсе непостижимым, потому что младенцы рождались вроде бы совершенно здоровыми, были они доношены, выходили правильно, не было ни удушения пуповиной и никаких других бед из числа тех, что подстерегают еще не родившегося. Вскрытия показали, что дети были совершенно нормальными — только их крохотные легкие выглядели как бы сожженными если не кислотой, то удушливым газом; а ведь ничего, кроме воздуха, каким все дышат, не содержалось в родильных залах. Все дышат, а эти вдруг не захотели: один, другой, третий, четвертый — и, как говорится, пошло-поехало. Не только в Намурии, хотя небольшая страна эта сказалась одной из первых, и не только в Европе; другая закономерность, правда, прослеживалась: чем ближе к большим промышленным районам, тем чаще такие случаи происходили, потому что тем меньше оставалось в этих местах того, чем можно дышать. Отказ дышать в атмосфере; вот что такое ОДА.
И в самом деле: можно ли было называть старым и легким словом «воздух» нынешнюю смесь кислорода и азоте со всеми теми неисчислимыми добавками, какими обильно обогащала ее цивилизация: продуктами сгорания твердого, жидкого и газообразного топлива в цилиндрах и камерах автомобилей, тепловозов, теплоходов, самолетов, энергостанций, заводов и фабрик, ракет; отходами промышленности — химической прежде всего, но не только, продуктами сжигания мусора; тончайшей цементной, фосфатной, другой всякой пылью; отбросами горнодобывающей и горнообрабатывающей промышленности — да что перечислять, тут впору заводить Черную книгу, чтобы на множестве ее страниц всерьез заняться поименованием всего того, чем мы за десятилетия усовершенствовали наивно-примитивную стихию, а здесь немеете для этого; добавим только, что уже не воздухом, конечно, была эта смесь — скорее уж следует назвать ее «Аэрозоль-ХХ» — по номеру нашего благодатного столетия и по ее физической сущности. Не будем говорить здесь и о том, что не одна только атмосфера подверглась подобному обогащению, но и мзда, и поверхность земли, и недра ее, да и ближний космос, пожалуй, тоже; попытаемся лишь назвать этот процесс приспособления природы к человеку самым пригодным для этого словом вместо существующего бодрого термина «техническая цивилизация»; словом этим будет война и не просто война, а гражданская. Потому что только на войне убийства происходят не исподтишка, но явно, и почитаются не за преступление, а за подвига — не так ли поступает цивилизация с природой? И не подвигом считали мы разве все достижения вышепоименованной? Подвигом, несомненно; и гордились, и подвигали на дальнейшее в том же духе. Итак, война. А почему гражданская? Потому что в гражданской войне народ уничтожает сам себя, для народа гражданская война — форма самоубийства или, если уж не до смерти, то самокалечения во всяком случае.
Не вчера это уже стало ясным. И не вчера впервые были произнесены власть предержащими во всех концах планеты правильные и весьма достойные слова относительно пресечения, недопущения, исправления, восстановления. Так клянется алкоголик: вот сегодня еще выпью, а с завтрашнего дня — завяжу! Так обещает сам в себе запутавшийся человек: с понедельника начну новую жизнь. Сколько завтрашних дней прошло, сколько понедельников.
Ты еще дышишь, человек? Ну живуч, прямо сказать.
Кто как, впрочем. Кому сейчас, скажем, семьдесят — тем дышится легче. Было время адаптироваться: родились-то они тогда, когда дышать было куда проще. Конечно, двести, или две тысячи, или двадцать тысяч лет назад воздух был еще чище. Но даже семьдесят лет назад над полями и в лесах еще держалась благодать, с неба не лились еще желтые, а то и радиоактивные дожди, а поля и грядки удобрялись более по старинке, навозцем. Так что хоть в детстве подышали вволю, а потом приспосабливались понемножку. Тридцатилетние, особенно горожане — уже другой коленкор: вдыхали аэрозоль с младых ногтей, хотя не столь еще густой, как нынче. Ну, а теперь и вовсе не осталось мест населенных, куда не проникли бы механизмы и химикаты. И вот в разгар научно-технической революции, грозившейся привести благодарное человечество к полному познанию всего на свете и безмятежному благоденствию, детишки как-то уж и вовсе хлипкими стали входить в сей мир, юдоль не слез, но небезвредных отбросов. Естественные компенсаторы и фильтры первыми не выдержали нагрузки, тем более, что их оставалось все меньше; они были природными богатствами, которые человек транжирил вместо того, чтобы разумно жить на проценты. И вот наконец и он, наиболее приспособляющаяся (за исключением разве крысы, клопа или таракана) часть природы, исчерпал, похоже, свои резервы адаптации и выносливости. Так что к тому дню, с которого началось наше повествование, на всех материках уже не на сотни, а, по статистике Всемирной Организации Здравоохранения, на тысячи шел счет представителям разумного вида, при рождении требовавшим для дыхания первобытно-чистого воздуха — или вовсе отказывавшимся жить. То ли мутантами они были, то ли спираль развития вышла на такую вертикаль — но так получилось.
Сперва, как уже сказано, растерялись. Но теперь научились крохотных бунтовщиков сберегать: помещали в герметические боксы, куда подавалась приемлемая для младенцев дыхательная смесь, с ароматом хвои даже. Кормить их тоже приходилось с самого начала искусственными составами из натуральных (по возможности) продуктов. И дети жили, словно драгоценные экспонаты музеев — за броневыми стеклами. Старшему из них во всем мире шел сейчас четвертый год. Самая младшая — вот только что родилась, при нас, можно сказать.
Что будет потом — это, конечно, не только доктора Рикс интересовало, не одну лишь эту молодую, красивую и (под белым халатом) несколько даже вызывающе одетую женщину, но и людей не столь уж молодых, строго одетых и занимавших куда более высокие, а порой даже и высочайшие уровни в мировой иерархии. Но как-то всегда оказывалось, что «сегодня» было важнее, чем «потом». Мир все усложнялся, но дышать не становилось легче. Что же касается людей, общества, человечества, то с ним было, как с ядерным реактором: работает, и взорваться вроде бы не должен. Но — может.
* * *
— Вызывает клиника Научного центра. Вертолет прибыл?
— Да, доктор Рикс, благодарю вас, только что погрузили малышку. Но господин Растабелл очень встревожен. Он…
— Успокойте его.
— Доктор Рикс, а не могли бы вы лично поговорить с ним? Вы специалист, да и американская медицина…
— Позвоню ему, как только дитя окажется у нас и я осмотрю его.
— И еще одна просьба, доктор: если…
Пол под ее ногами ощутимо дрогнул; звякнули инструменты в стеклянных шкафчиках, колыхнулась вода в стеклянном сифоне, листок бумаги спланировал со стола, и закачалась подвешенная к абажуру настольной лампы куколка: фантастический астронавт-десантник с бластером наизготовку.
Физики стали слишком много позволять себе, — мельком подумала женщина. — Совершенно не считаются с тем, что у нас — дети.
— Да, я слушаю: какая просьба? Алло! Вы меня слышите? Но телефон молчал.
* * *
— А теперь, доктор, вопрос на засыпку…
— Честное слово, Гектор, у меня не осталось ни секунды. Надо проверить, как новенькая дышит в боксе, затем…
— Что ж, я могу брать интервью не только на бегу, но и стоя на голове. Скажите: вот вы спасаете этих несчастных. Но что ожидает их потом? Герметичные дома, конторы, цеха, города? Или вы надеетесь научить их дышать той гадостью, какой дышим мы?
— Это задача для ученых. Я всего лишь врач.
— Их становится все больше. Не опасаетесь ли вы, что в один прекрасный день общество возмутится — с непредсказуемыми последствиями?
— Это не мои проблемы, Гектор. Наше дело — убедить власти в том, что надо срочно принимать меры не на словах, а на деле, иначе человечеству грозит гибель в недалеком будущем.
— Какие меры вы считаете необходимыми?
— Любые, которые могут привести к очищению среды.
— Вы верите в возможность таких мер?
— Я оптимистка. Ну, все, на этом — наилучшие пожелания.
— А у меня еще целая связка вопросов. Чем вы заняты сегодня вечером? Что, если я навещу вас дома, в городе? Ваш муж ревнив?
Она усмехнулась.
— Вечером я приглашена на вечеринку — тут рядом, в Сайенс-вилледж.
— И пойдете?
— Почему бы и нет? А вообще, на возникающие вопросы человек должен находить ответы сам.
— Браво, это я использую. Что же, раз так — мчусь в город, к Растабеллу. Думаю, они вот-вот начнут атаковать правительство всерьез — теперь, когда он пострадал, так сказать, лично. Но сперва забегу к вашим сейсмикам: они, кажется, что-то такое засекли.
— Был какой-то странный толчок. Но землетрясений тут не бывает…
* * *
Вот поют, — подумал Милов, — ну прямо соловьи…
Во тьме вспыхнула искра; мгновенный взвизг резанул по слуху, потом глухо загудело — словно в глубочайший колокол ударили: ухнул неимоверным басом, покачался из стороны в сторону и стал затухать. Но Милов успел уже нырнуть в дыру — вход в пещерный лабиринт.
Собственно, и не пещеры это были, скорее катакомбы, тут естественные пустоты, характерные для таких геологических структур, с обширными залами (в одном из них даже подземное озерцо плескалось), которые соединялись вымытыми некогда водой ходами и рукотворными коридорами, в прошлом — горными выработками. В седой древности в пещерах жили, во время Второй войны их использовало Сопротивление, а после нее, хотя и не сразу, проложили несколько маршрутов для туристов; маршруты эти оборудовали электрическим освещением, но стоило отклониться от нахоженной трассы — и человек попадал в первозданную мглу. Входов в катакомбы имелось несколько, все они были снабжены прочными дверями — сперва деревянными, потом их заменили пластинами из котельного железа: чтобы предотвратить несчастные случаи, какие время от времени приключались с «дикими» туристами и с детьми. Одна из этих дверей сейчас оказалась, на счастье Милова, приотворенной, и пули пришлись по ней.
Рикошет, — подумал он, переводя дыхание и напряженно вслушиваясь. — Плохо стреляют, — а странно, они должны уметь профессионально, и по звуку в том числе; но и так ничего, чуть левее — тут бы мне и конец. Конечно, найдись среди них хоть один порешительнее — выпрыгнул бы за мной, и длинной очередью вдоль хода, и все… Если они меня опознали — человек я заметный, их могли предупредить, — то преследовать они вряд ли сунутся, репутация у меня достойная; но уж постараются и живым не выпустить, залягут, как кот у норки: наверняка ведь думают, что я этих ходов не знаю, а если и знаю, то лишь официальные маршруты. Плохо они обо мне думают, плохо…
Он спешил уйти подальше, прикидывая на ходу, как побыстрее и побезопаснее выбраться отсюда, чтобы попасть наконец в Научный центр, найти там одного человека и выжать из него все, что можно, а потом найти другого, уже в городе, и с ним сделать то же самое. Несколько раз Милов свернул почти наугад: надо было сойти с туристской тропы. Сейчас ход расширился, двигаться можно было почти бегом, лишь немного пригибаясь. Воздух был сырой и затхлый — значит, другого входа поблизости не было. Хорошо: никто не успеет забежать и устроить засаду впереди. Подумав так, Милов усмехнулся и еще ускорил шаг. И, словно в отместку за ухмылку, кто-то или что-то долбануло его по лбу с такой жестокой силой, что он не устоял на ногах — рухнул и, кажется, отключился.
Ненадолго, впрочем. Милов пришел в себя то ли от невыносимой, дергающей и стучащей боли в виске, но, может быть, и от слабого, осторожного шороха, что послышался. Милов с силой притиснул висок к холодному,мокрому песку, чтобы умерить боль. Никуда не деться; звуки были звуками шагов, и они приближались осторожно, но упорно.
Значит, решились все-таки пакостники, — подумал он с неожиданным спокойствием, — пошли на добивание… Ну, о такой непроглядности в меня еще попасть надо. Правда, и мне по звуку трудно будет их упредить: здесь многократное отражение. Ладно, пусть они начинают, а я тогда — по вспышкам…
Шаги приближались все медленнее, охотники, видимо, не хотели рисковать. Что же они — даже фонариками не запаслись, дурачье, неужели думали, что я по туристским ходам побегу? — с некоторым пренебрежением подумал Милов. — А ведь готовились, наверное, всерьез… Или просто боятся?.. — Тут шаги и вовсе замерли. Милов старался дышать как можно реже, тише, отбойный молоток в черепе перестал частить. Потом он услышал совсем рядом едва различимый шепот очень удивился: разговаривали по-английски, а не по-намурски и не по-фромски — то были два местных языка.
«Нет, мне помнится, тут пройти можно, надо только опасаться сталактитов, они тут мощные, их не вырубали, это дикий ход».
Странный акцент, — подумал Милов. — Местный, надо полагать. В местных языках я — с грехом пополам… Так вот, значит, на что я налетел; надо было идти поосторожнее, как это я оплошал… О чем это они там?
«Жаль, мне бы хоть фонарик захватить, но кто мог знать?»
«Как тихо… Может быть, мне почудилось, и никто не стонал?»
Второй-явно из Штатов, — решил Милов.
«Нет, не почудилось, я хорошо слышал стон». Это был уже не шепот, а негромкий голос, и Милов едва не присвистнул от удивления: голос принадлежал женщине.
Нет, — подумал Милов, — это не мои друзья-приятели. Это случайный народ. Любовники, может быть — искали уединения и заблудились. Пора объявиться — не то они, от безвыходности, начнут делать что-нибудь нескромное…
Он подтянул ноги к животу, изготовленный было к бою пистолет водворил на место. Бесшумно привстал — и снова ткнулся головой в сталактит, в самое острие, и невольно зашипел.
— Кто там? — вскрикнула женщина испуганно. Сразу же зашуршало: мужчина шагнул вперед, дыхание его сделалось шумным. Он мог сейчас, пожалуй, и напасть, не рассуждая — просто чтобы подавить страх в себе самом.
— Эй, приятель, — по-английски окликнул его Милов — негромко, словно сидел за столиком в кафе и мимо прошел официант. — Осторожно, не запачкайте об меня обувь.
Тот снова остановился.
— Что вы тут делаете? — через мгновение осторожно спросил он.
— Принимаю солнечные ванны, — ответил Милов, чувствуя, как возвращается уверенность. — Предупреждаю: я занял лучшее Место и не собираюсь уступить его просто так.
Тот усмехнулся — просто потому, что того требовало чувство собственного достоинства.
— Меня радует ваш юмор, — ответил он. — Но не окажете ли вы любезность говорить серьезно? Тут собственно, нет ничего смешного…
— Кончайте болтовню — неприязненно сказала женщина; судя по звуку ее голоса, она отступила шага на три-четыре — на случай, если завяжется схватка, наверное. — Не знаю, может быть, пещеры — ваше постоянное обиталище, но нам не хотелось бы медлить.
— Вы совершенно правы, — согласился Милов; он тянул время, чтобы совсем уже оправиться от Можно простудиться. Да и воздух, откровенно должен сказать, снаружи он тоже не заслуживает доброго слова. Дайте нам пройти! — потребовала женщина.
— Обождите секунду, — примирительно сказал Милов, — я попытаюсь встать.
— Вам плохо? Или вы ранены? — спросила женщина и шагнула вперед.
Стойте там! — на всякий случай задержал ее Милов.
Она обиженно хмыкнула, но остановилась, говоря:
— Надеюсь, ваш утренний туалет не затянется? Кофе в постель здесь не подают. Может быть, конечно, дома у вас горничная… Вы из поселка?
— Дома у меня гарем, — сказал Милов и, упираясь ладонями в шершавые стенки хода, стал подниматься.
— Боюсь, что господин не из поселка, — сказал мужчина своей спутнице так, словно Милов был далеко и не слышал их. — Я там знаю всех — и персонал тоже. — Он повысил голос. — Не могли бы вы сказать, кто вы и как оказались здесь?
Милов ощупал пальцами голову.
— Ничего, — вслух сказал он самому себе. — Кажется, обошлось без телесных повреждений, связанных с длительным расстройством здоровья.
— А может быть, он из этих, которые напали на поселок? Поджидал нас? — предположил мужчина. Видимо, темнота придавала ему смелости; вообще-то, судя по манере говорить, он не принадлежал к забиякам.
— Встали? — нетерпеливо спросила женщина. — Поздравляю. А теперь, пожалуйста, пропустите нас, если вам не нужна помощь.
— Боюсь, она потребуется вам, — ответил Милов. — Если не ошибаюсь, вы хотите воспользоваться ближним выходом? Не советую: там ждут меня, но могут открыть огонь, даже не спросив, кто идет. Нервные люди.
— Вы — контрабандист? — нерешительно спросил мужчина. — Извините за такое предположение, — тут же заспешил он.
— Нет, — сказал Милов, — все не столь романтично. Я турист-одиночка, много слышал об этих пещерах, но возле входа меня хотели ограбить и, кажется, даже убить. Оставалось лишь улизнуть сюда, где потемнее.
— Это необычно, — задумчиво проговорил мужчина. — О грабителях у нас давным-давно не слыхивали. Знаете, — оживился он, — скорее, это были… ну, те самые, что в поселке. Вы не знаете разве, что произошло вечером, в Сайенс-вилледж?
— Никогда не бывал там.
— Перестаньте, Граве, — сказала женщина. — Господин хочет сохранить инкогнито. Во всяком случае, английский — не его родной язык.
— Я из России, — сказал Милов вежливо. — Турист.
— Все равно; сейчас все мы сидим в одном и том же джеме по уши. Итак, мистер русский, вы полагаете, тут нам не выйти?
— Милов, — представился турист. — Даниил Милов, и вашим услугам, мэм.
— Очень приятно, Дан. Меня зовут Евой. А это господин Граве. Его воспитание не позволяет, чтобы его называли по имени.
Что делать, — сказал Граве, — мы, намуры, консервативны и, признаться, даже гордимся этим. Но скажите, господин Милф: о засаде вы говорили серьезно?
— К сожалению.
— Я не очень уверен относительно других выходов. — сказал Граве виновато. — Слишком давно не бывал здесь, хотя работаю рядом со дня основания Центра. Знаю только, что выходы есть, но вот где они?..
— Ну же, решим что-нибудь, — нетерпеливо сказала Ева. — Не люблю неподвижности. Ну а вы. Дан — вы и самом деле собирались заночевать тут? Мне такая спальня не по вкусу.
— Ночлег не входил в мои планы, — признал Милов. — Я рассчитывал попасть в Центр — там ведь есть какой-нибудь странноприимный дом, надеюсь?
* * *
— Гостиница, — сказал Граве. — Но в Центр еще надо попасть, а это, я полагаю, сейчас затруднительно. В той стороне один-единственный выход, через него мы и попали сюда. Однако, — в голосе его проскользнула нотка горечи, — в старой тихой Намурии стали происходить невообразимые вещи: там тоже люди с оружием, и мы едва спаслись от них, когда бежали из поселка…
— Так что выбираться придется вместе, — заключила Ева. — Осталось лишь придумать — как.
— Отчего ж не придумать, если подумать… — пробормотал Милов, занятый сейчас другими мыслями. Ни к чему были ему сейчас эти спутники, а в одиночку он, вероятнее всего, прорвался бы; но бросить здесь женщину было бы не по-мужски, а от компаньона ее, похоже, большого толку ждать не приходилось. Ну что же, воспримем, как лишнюю помеху, только и всего.
— Мне известен еще один выход, — сказал он. — Правда, он не для туристов: над рекой, в обрыве; но невысоко. Есть в нем одно неудобство: спуститься вниз там нельзя — берег нависает, подняться — тем более. Можно только прыгнуть в реку.
— Просто ужасно, сколь многого я с собой не захватила, — сказала Ева, — ни пижамы, ни купальника…
— Я тоже, — сказал Милов, — я путешествую налегке. — Он не стал объяснять, что сумку ему пришлось бросить, когда за ним гнались; по счастью, ничего серьезного там не было, опыт давно научил самое необходимое носить в памяти и в карманах. — Да и господин Граве вряд ли предусмотрел такую потребность…
— Вы же видите, господин Милф, у нас с собой ничего…
— Не вижу, как ни удивительно. Здесь не слишком светло, а? Ну что же, раз мы не экипированы, придется лезть в воду в чем мать родила.
— Это будет крайне неприлично, господин Милф, — сурово произнес Граве. — Если бы еще с нами не было дамы…
— Вы знаете, Граве, — сказала Ева, — я не очень любопытна.
— Тем более, что все равно ничего не видно, — добавил Милов. — Впрочем, дело ваше. Только не забудьте, что придется переплывать реку; и из-за обрыва, и чтобы обойтись без неожиданностей.
— Вы полагаете, там тоже опасно? — с некоторым беспокойством спросил Граве.
— Полагаю, тот выход известен не только мне. Итак, плыть придется, а разводить потом костер для просушки — потеря времени, да и небезопасно. Поэтому, плывя, держите одежду над головой.
— Давно так не пробовала.
— Ну, отдадите мне, — сказал Милов. — Верну сухим.
— Вы крайне любезны, — сказала Ева. — Ведите нас, пещерный лев!
— Вы хотели сказать — пещерный человек, — поправил Граве.
— Хотела то, что сказала. Не придирайтесь.
— Нам придется, — предупредил Милов, — миновать тот вход, которым воспользовался я. — Он знал, что обходного пути нет: схема ходов в окрестностях Центра была крепко запечатлена в его профессиональной памяти — Так что — никакого шума. Я иду первым, вы, Ева, кладете руку мне на плечо, а господин Граве замыкает — точно так же.
Он ощутил, как легкая ладонь легла на его плечо.
— Тронулись!
Они шагали молча, стараясь ступать в ногу. Ева сняла туфли и несла их в руке: острые каблуки тонули в песке; ноги сразу промокли. Одно приключение вместо другого, — думала она, ощущая под пальцами твердое плечо. — Хороший свитер, надеюсь, он не какой-нибудь дикой расцветки, хотя от русских, говорят, можно ожидать чего угодно — и прекрасного вкуса, и самого дурного… Напрасно я не надела кроссовки — с брюками вполне уместно… Правда, их снимать труднее. — Тут ее мысли пошли в другом направлении. — Странно и ужасно: еще днем мы жили в цивилизованном мире, пусть не таком зеленом и душистом, как некогда, но все же… Да, мир… В нем прежде всего страдают дети. Я недолюбливала Растабелла, слишком уж он фанатичен и ограничен, хотя и талантлив, конечно, а теперь мне его жаль. Бедная девочка… Растабелл теперь, наверное, и вовсе перестанет сдерживаться, а ведь за ним идут люди, его даже правительство побаивается. Кстати, я ему так и не позвонила. С телефоном никогда такого не случалось. Что-то произошло в столице? Или здесь, в городе? Этот город — как теневая столица: здесь живет Растабелл, и еще многие из его компании, этот странный Мещерски, другие… Лестер давно дружит с Мещерски, у них, по-моему, каки-то общие дела. Лестер. — Слишком много секретов завелось у него в последние два года, и это не бабы — все его налеты на баб мне были известны едва ли не заранее; нет, тут другое — я думаю, он…
Мысли прервались, когда она услышала тихое: «Т-с… стоп». Милов остановился, остальные — тоже, но рука женщины оставалась на его плече, он снял ее пальцы осторожно, почти ласково. Повернув голову, едва уловимо выдохнул:
— Обоим — лечь, только тихо… Скажу — бегите, как на сотке, свернете в первый ход направо — там я вас догоню…
Помедлил еще секунду и бесшумно двинулся дальше. Выход, тот самый, его, чуть серел в кромешной тьме пещерного хода, и более светлым пятном выделялась часть стенки напротив. Ползком? Опасно: кто-то может сидеть у самого проема — незачем подставлять ему спину… Он все же опустился на живот, подобрался, без единого шороха подполз к выходу — сейчас дверь была распахнута настежь, значит, стерегли, иначе заперли бы. Что делать? Ладно, я-то проползу, но те двое — нет, не имею права…
Решившись, он коротко кашлянул — и в ту же секунду ударили выстрелы, пули врезались в стенку хода. Охотники не ушли, у них хватило терпения. Неосторожно мы там разговаривали, — подумал Милов, — громко и долго, и я хорош — потерял ощущение реальности. Так что эти знали, что я возвращаюсь, лишь на долю секунды не хватило у них выдержки — начали стрелять, не дожидаясь, пока голова возникнет в проеме, на сером фоне. Странно все же, кого они против меня послали; профессионалы уже раза два подловили бы. Интересно, что у них тут вообще происходит? Меня об этом не предупреждали. Ну ладно, еще поиграем… — Он не двигался с места, вслушиваясь в шорохи снаружи: там стрелявшие меняли места, хруст их башмаков по гравию был отчетливо слышен. Опершись локтями, Милов медленно изготовился, зная, что сейчас один окажется в поле зрения; там снаружи, казалось, верно, что в ночи их не увидеть, они не понимали, что по сравнению с непроглядностью пещеры ночная темнота была едва ли не ясным днем. Черное появилось; Милов нажал на спуск. Человек снаружи вскрикнул и упал. Снова заскрипел гравий и застучали выстрелы, но Милов лежал сейчас в мертвой зоне, чтобы убить его, надо было подойти вплотную к двери и вскочить в ход, но на это никто не отваживался. Да, странных людей они послали, — подумал он, — хотя и знают, что я ухватился за цепочку… — Нервная пальба заглохла, когда Милов снял еще одного — выстрелил по вспышке. Наступила пауза, и тогда он негромко скомандовал:
— Ну, бегом!..
Он знал, что у них в распоряжении несколько секунд: находившиеся снаружи чуть отступили, решая, какую теперь применить тактику, и можно стало промелькнуть мимо хода. А вот ему самому придется еще выждать: наверняка те все-таки решатся вскочить и стрелять в упор… Граве протопал мимо, Ева тоже — и вдруг остановилась прямо над ним, подставляясь под пули, упала на колени — и он почувствовал прикосновение губ;ее поцелуй пришелся в висок, «С ума сошла! — сдавленно крикнул он. — Дура!» — забывшись, выругался по-русски. Но она уже вскочила, кинулась дальше, и выстрелы извне опоздали на долю секунды. Сумасшедшая девка, — подумал Милов с невольным одобрением, хотя и зол на нее был сейчас. И снова замер: судя по звукам, двое подкрадывались к выходу с разных сторон, держась вплотную к склону, чтобы не подставиться, замерли у самого проема-он слышал их дыхание. Прошла секунда, другая, десятая — тогда Милов шумно вскочил, затопал ногами, оставаясь на месте. И мгновенно один из затаившихся влетел в ход, чтобы ударить в спину убегающему. Милов свалил его — в упор, наповал. И выметнулся наружу, прикончил последнего, не дав ему опомниться. Ну-ка, а что сейчас снаружи — может быть; здесь и выйти, путь-то расчищен…
Он замер на секунду — и выстрелы снова прозвучали, хотя и с дистанции: видимо, заслышав перепалку, сюда начали стягиваться. Милов подхватил пистолет свалившегося у входа — плоский браунинг, оружие непрофессиональное; подскочил к первому убитому — у того был винтовочный обрез, и вовсе ненужный, зато у лежащего в пещере оказался армейский пистолет. Странно, — подумал Милов, — ни одного автомата, нет, как-то не так все происходит, непривычно, любительство какое-то, а меня ведь ориентировали на специалистов… Но больше думать было некогда, и Милов побежал вдогонку своим. Надо было правым ходом пробираться к реке, пока не принялись травить всерьез.
Двое ждали его, как и было условлено. Он подошел к ним, как умел, бесшумно. Те приглушенно разговаривали. «Чужой человек, — говорил Граве, — по-моему, он не заслуживает доверия. Не будь он еще русским…» Милов застыл: интересно было, что прозвучит в ответ. «Подите вы к черту, Граве, — ответила женщина спокойно, — мы ведь не по схеме компьютера пробираемся, там я бы вам доверилась… Да и все равно: своих не бросают. Вы стойте тут, а я вернусь: может быть, его ранили…» «Может быть убили, — ответил в свою очередь Граве, — и вы попадете прямо в руки этим…» — «Чем это здесь пахнет?» — спросила Ева. Милов невольно принюхался: и в самом деле, воздух здесь был немного другим, отдавал чем-то этаким — не бензином, не кислотой, но что-то было в нем постороннее. «Да, — сказал Граве, — что-то такое есть на самом деле…» — «Это запах вашей трусости», — сказала Ева. Граве обиженно засопел, Милов усмехнулся: сказано было не по делу, но весьма определенно. Он беззвучно ступил. «Нет, без меня вам не выбраться, господин Граве, — сказал он, — тут впереди лабиринт, и вы проплутаете в нем до конца жизни, а мне маршрут известен. Тут озерцо впереди, подземное-видимо, в него натекло всякой дряни — вот оно и пахнет. Ваш Центр, видимо, что-то сбрасывает не по адресу». — "Ох, Дан, — сказала Ева, и он с непонятным удовольствием уловил в ее голосе радость. — Наконец-то, а то я уже испугалась. — «Спасибо, Ева, — сказал Милов. — Теперь поторопимся: похоже, что становится все более сыро, словно бы вода выступает снизу — не знаю, отчего. Готовы?» — «Да», — ответила Ева, и он нашел в темноте ее руку и положил на свое плечо. «Двинулись», — сказал он, и они пошли. Под ногами уж ощутимо хлюпало, хотя уровень реки находился намного ниже, это Милов помнил. Сплошные загадки, — подумал он, идя с вытянутыми вперед руками — одна прямо, другая чуть выше головы — чтобы не налететь ни на что сослепу.
Выбраться удалось благополучно; три мягких всплеска, прозвучавших почти слитно, не нарушили черного безмолвия ночи ни окриком, ни выстрелом. Вода была не холодной, но какой-то скользкой, маслянистой, противной по ощущению и запаху. В этой реке уже лет пять не купались, наука и техника своего добились. Трое поплыли к противоположному, правому берегу не быстро и бесшумно-равняясь по женщине, она плыла медленнее других, и Милов все время держался рядом — греб он одной рукой, другую, со своей и ее одеждой, держал над головой.
Добравшись до берега, трое вздохнули облегченно: пусть и бессознательно, в воде каждый из них каждую секунду ожидал выстрелов вдогонку, а здесь уже можно было как-то укрыться. Пригнувшись, пробежали в прибрежный кустарник. Граве на бегу закашлялся. Нет, все-таки в пещере воздух был чище, — подумал Милов. Среди кустов он, не одеваясь, стал рвать жухлую траву, обтираться пучками — кожа требовала, чтобы с нее сняли грязь, экскременты цивилизации, Глядя на Милова, стали вытираться и те двое, только Ева отошла чуть подальше, заслонилась кустом, Милов покосился туда, где двигалось тускло-белое, невольно сбивавшее с нужных сейчас мыслей женское тело. Вдруг вспомнил, как они с Аллочкой вот так, среди ночи купались в Оке; сколько же это времени прошло? Он не стал подсчитывать, ни к чему было. Одевшись, все трое поднялись на пригорок и присели, чтобы оглядеться и собраться с мыслями, Ева же — еще и для того, чтобы растереть совершенно окоченевшие ступни.
Отсюда, с холмика, открывался хороший вид на Научный центр, и можно было залюбоваться гигантским, хорошо ограненным, сияющим огнями монолитом хрусталя: именно таким представлялся отсюда главный корпус. На Центр денег не пожалели, начиная уже с проекта, строили всем миром и собрали в него едва ли не все лучшее, что только существовало в современной науке — чтобы умерить национальные и державные амбиции и принести побольше пользы всем, а не сидеть по углам, общаясь через журналы. Время на Земле стояло вроде бы спокойное, разоружались искренне, снова начали ощущать забытый было вкус к жизни, без сердечного сбоя поднимать глаза к небу, не опасаясь, что безоблачная глубина вдруг разразится дождем тяжелых семян, из которых вырастают гигантские грибы, дышащие ветром пустынь. Из оружейной науки пошло в цивильную так много, как никогда еще: демонтировали ракеты и боеголовки, но технологии оставались, и оставались мозги, серое вещество требовало нагрузки. Международный штиль позволял людям из разных, порой очень различных стран общаться и работать без задних мыслей; не то, чтобы все противоречия в мире разрешились, этого придется — все понимали — ждать еще долго, долго, — но все же человечество куда больше почувствовало себя чем-то единым, планету — неделимой территорией, где границы, оставаясь на своих местах, перестали быть стенами или занавесами — если и не для политиков, то уж для ученых — во всяком случае. Поэтому такие вот центры — и отдельных наук, и синтетические, и технические — возникали все чаще; ведь и с деньгами в государственных бюджетах стало полегче: демонтаж ракет обходился все-таки дешевле, чем их строительство и испытания. Так что золотой век если и не наступил, то уже, по крайней мере, мерещился где-то не в самом далеко. Даже такое многотрудное дело, как нахождение взаимоприемлемого компромисса между цивилизацией и природой, начинало казаться в конечном итоге осуществимым — но не сразу, не сразу, конечно.
Оттого-то и бывало так приятно, — думала Ева, яростно растирая ступни и лодыжки, совсем уже потерявшие чувствительность, — приходить сюда вечерами по изящному мосту, прекрасно вписанному в пейзаж, и смотреть — не с этого дикого пригорка, но с другого холма, повыше, куда и лестницы удобные вели, и вершина была выровнена и забетонирована, имелось, на чем посидеть, и напитки и легкие закуски продавались в изобилии. Приятно было любоваться сияющим хрустальным монолитом, привычно узнавая и административный этаж, и ярусы ресторана и увеселительных заведений, а выше — технические службы, а еще выше — этажи математиков, физиков, экономистов, правоведов, философов, теологов наконец. Клиника, как и полагается,находилась не в Кристалле, а в собственном здании, на отшибе, как и многие другие институты; однако лабораторию ОДА разместили, когда стало необходимым ее создать, именно в монолите, потеснив историков и филологов, специалистов по мертвым языкам: жизнь предстоящая как бы вытесняла память о былом, но это лишь казалось, потому что чистый воздух, которого требовали пациенты лаборатории, был намного древнее и мертвых языков, и старейших мифов — не говоря уже о каких угодно письменных свидетельствах. Такое решение было понятными клиника, с ее постоянной угрозой переноса инфекции, для младенцев ни как не подходила, а свой собственный корпус, не с десятком гермобоксов, а с сотнями, должны были заложить лишь в конце года, чтобы открыть его весной. Да, и Кристаллом можно было любоваться, и многими другими сооружениями, среди которых даже самые прозаические по назначению выглядели маленькими шедеврами архитектуры и инженерии, — да такими, собственно, и были, хотя поражали не столько красотой своей, сколько неожиданностью. Жизнь цвела и двигалась во всех этих строениях, в переходах, воздушных и подземных, и на автомобильных аллеях и стоянках, и на вертолетной площадке на самом верху Кристалла — одним словом, везде. Кроме разве парка; так называлось пространство вокруг небольшого пруда (официально его предпочитали называть озером), упорно зараставшего всякой дрянью, — эта часть территории была засажена деревьями, еще не так давно совершенно здоровыми, а теперь несколько привядшими, как и везде, и газоны разграфлены аллеями: предполагалось, что там будут в свободные часы прогуливаться корифеи науки, а поучающиеся станут с жадностью; подхватывать их глубокие мысли и безумные идеи; ученые, однако, эту рощу невзлюбили, потому что от пруда несло откровенной тухлятиной научно-технического происхождения — зато ночами там собиралось множество кошек..
Правда, окрестное население, — такое было, — уже не раз и не два выражало неудовольствие самим существованием Центра, от которого якобы передохла рыба, и хорошо еще, если только рыбой дело ограничится. Жители даже, наняв адвоката, составили однажды петицию, в которой требовали перенести науку куда-нибудь, хоть в центр Антрактиды, а их, туземцев, оставить в покое и презренном невежестве. До суда, однако, не дошло, потому что истцам резонно ответили: во-первых, что если не Центр, то тут воздвигли бы что-нибудь еще погромче, погрязнее, подымнее и поядовитее: прогресс нельзя остановить, и всякое место, на котором можно что-то построить, никак не имеет права оставаться в первозданной запущенности; и во-вторых, — в Европе полно продовольствия, куда же местные фермеры станут девать продукты своего труда, если Центр вдруг исчезнет с лица земли? Даже и русский рынок ведь не бесконечен. Обитатели окрестных ферм и деревень смирились, по крайней мере внешне, а к тем, кто все еще ворчала — привыкли. Как-никак. Центр платил хорошо и хорошими деньгами, настоящими. Так что и днем и ночью научно-технический прогресс являл здесь миру свой лик — несколько надменный и самоуверенный, но исполненный выражением заботы о всяческом расширении Знания — на благо людей, разумеется, кого же еще.
И сейчас, ночью, взгляду с пригорка, поросшего травой, что начинала сохнуть, едва успев проклюнуться, и болезненным, тоже как бы расхотевшим расти кустарником, лик этот казался настолько внушительным, успокаивающим, обнадеживающим, а элегантные линии строений — такими неизменно-вечными, что уже не верилось, что вот еще только минуты тому назад людям приходилось спасаться в узких пещерных ходах и убивать других, чтобы не быть убитыми этими другими — по причинам, пока еще совершенно непостижимым. Успокоение внушало и несильное, зарево, поднимающееся далеко отсюда, за лесом, над небольшой очень надежной АЭС, делавшей и Центр, и насело ученых совершенно независимыми от всей остально Намурии. Когда ставили Центр, энергии в стране не хватало, большая гидростанция только еще строилась и Центру удалось получить разрешение намурийского правительства, что обошлось, правда, недешево. Теперь ГЭС уже давала ток, обширное водохранилище заполнилось до проектной отметки, затопив, правде с десяток селений — естественно, без человечески жертв, остальное же, с точки зрения прогресса, сожаления не заслуживало.
Да, красиво все это было и внушительно, Но стреляли-то — почему и зачем?
* * *
— Так что же все-таки у вас стряслось? — поинтересовался Милов.
Уже почти совсем оправившись после неожиданных приключений, волнений, страха и вынужденного купания, они все еще сидели, чувствуя себя в относительной безопасности и как бы оттягивая мгновение, когда, придется встать и, очень возможно, снова подвергнуть себя каким-то угрозам. Было тихо — только Граве временами громко и каждый раз неожиданно икал — вернее, никак еще не мог согреться.
— Да перестаньте, — сказала Ева, — уймите свои страхи и не нарушайте торжественной тишины.
— Я не боюсь, — возразил Граве. — Просто я так реагирую на охлаждение. Вы спрашиваете, что стряслось, господин Милф? Нечто такое, что не укладывается в моем сознании. Нечто небывалое, скажу я вам Вот именно. Поселок жил своей нормальной вечерней жизнью, поселок, в котором живут ученые и кое-кто из служб Центра. Ну, вы представляете, как в таких поселках проходят вечера…
Черта с два я представляю, — подумал Милов. — Ни когда не жил в таких поселках, да и с учеными что меня общего? С этими одно, пожалуй: я тоже представляю здесь ООН — только в другой области деятельности. У каждого свои проблемы…
— Ну, разумеется, могу себе представить, — ответим он вслух.
— И вот в этот спокойный, совершенно благопристойный, могу вас заверить, поселок внезапно врываются какие-то… Не знаю даже, как их назвать,..
— Психи, — сказала Ева.
— Во всяком случае, какие-то совершенно неприличные люди, хулиганье. Вооруженные — пистолетами охотничьими ружьями, не знаю, чем… Врываются в коттеджи. И начинают, вы не поверите, избивать людей крушить все вокруг себя — мебель, посуду, лампы, книги, бьют окна… Я как раз занимался терминалом в доме профессора Ляйхта. Они разбили весь компьютер, это акт вандализма, нет другого слова… Меня сильно ударили в спину, я вынужден был покинуть дом. Я хотел сесть в свою машину и уехать, но на стоянке было множество таких же головорезов — боюсь, что машина может пострадать… Тогда я побежал ко входу в пещеры. В этом направлении бежали и другие, за нами гнались, но мне удалось ускользнуть — мне и вот доктору Рикс… Это было ужасно, ужасно-они избивали людей, стреляли — я надеюсь, что в воздух, но выстрелы раздавались совершенно отчетливо…
— Интересно, — пробормотал Милов. — Откуда же они взялись?
— О, на этот вопрос я, к сожалению, могу ответить совершенно точно: это были местные жители, фермеры, сельскохоэяйственные рабочие… Да, как ни постыдно — это 6ыли намуры; а ведь мы испокон веку отличались спокойным, уравновешенным характером; если бы это совершили фромы, я, откровенно говоря, не очень удивился бы; поверьте, мне чужда всякая национальная ограниченность, я ни в коем случае не расист,но фромы есть фромы, это вам скажет кто угодно…,Но это были намуры, господин Милф…
— Люди бежали, — добавила Ева, — как я заметила, главным образом к Центру; а куда еще можно было деваться? Надеюсь, им удалось добежать.
Граве снова икнул. Ева подошла к нему, села рядом, сказала что-то успокоительное. Милов краем уха услышал их разговор, думал же о другом. Нет, это все к нему отношения не имело. У меня другая задача, — думал он. — Главное — оказаться в нужное время в нужном месте, не то груз опять уйдет — и канет неизвестно куда, как и в прошлый раз. Нет, чую — цепочка не зря ведет через этот самый Центр…
— Простите? — спохватился он, поняв, что обращаются к нему.
— Я говорю: скорее всего, это месть фермеров. Центру не следовало отказываться от закупок. Это было так неожиданно и для фермеров столь болезненно… Нет, я не оправдываю их, не поймите превратно, но ведь они на это рассчитывали, и вдруг…
— Вовсе не вдруг, — не согласилась Ева. — Мы их уже не раз предупреждали: содержание нитратов в овощах выше всяких допустимых пределов. У Центра достаточно денег, чтобы получать за них доброкачественную пищу.
— Простите меня, доктор, но это эгоизм, — сказал Граве обиженно, — Конечно, вы иностранка, но мне, намуру, не все равно, как будут жить наши фермеры.
— Понятно, — сказал Милов, хотя рассуждения Граве его совсем не убедили. Впрочем, чего не случается на свете… — Значит, поселок они разгромили? — Он встал, с удовольствием потянулся. — Ну, кажется, мы достаточно отдохнули… Глядите-ка, а ведь там уже не так темно, как было только что!
И в самом деле, облака над местом, где находился поселок, словно бы посветлели.
— Ну, слава Богу, — сказала Ева. — Значит, все кончилось, люди вернулись. Может быть, и мне?.. — подумала она вслух. Милов смотрел на облака; они становились все ярче, зарево разгоралось неровно, как бы играя — но упорно. «Если это поселок, то он горит, — сказал Милов, — другого объяснения не нахожу». После этих слов они смотрели молча. Потом Граве сказал: «Да, это, несомненно, пожар. Колоссальный. Какой смысл был исправлять компьютер, который все равно сгорит?» «Господи, — пробормотала Ева, — ну, почему, почему? За то, что мы не купили у них сколько-то тонн капусты или томатов? Это же немыслимо и бессмысленно, это невозможно понять!» «Ну, — сказал Граве, — люди бежали в спешке, кто-нибудь забыл выключить нагревательный прибор, а от этого до пожара — один шаг». «Пожалуй, нет, — сказал Милов. — Очень уж бойко горит. Случайный пожар не распространяется так быстро: ветра почти нет. Тут скорее поджог, с разных сторон одновременно. Очень благородно с их стороны, что хоть людей выгнали из домов». Ева усмехнулась, сказала: «Ну, меня-то не очень выгоняли — наоборот, несколько молодых людей хотели задержаться со мной в доме. Юнцы, физиономии в прыщах, решили, видимо, познакомиться вплотную. Да, вот еще: у них на груди у каждого был пришпилен дубовый лист — по-моему, не настоящий, а то ли пластиковый, то ли матерчатый… Отличительный знак, так сказать».
— Как бы там ни было, господа, — сказал Граве и тоже встал, — надо идти. Машины наши, вероятно, погибли, но моя застрахована, и ваша, доктор, тоже, надеюсь? Воспользуемся ранним автобусом, пойдем к мосту, там он делает остановку. Да, да, я понимаю, очень прискорбно, но сейчас мы никому и ничем помочь не в состоянии — кроме наших семей. Вот и поспешим к ним. Или вы собираетесь оставаться здесь до скончания веков?
— Боюсь, — сказала Ева, — что скончание веков уже насупило,
* * *
Мужчины повернулись к ней. Ева стояла, вся подавшись вперед, глядя туда, где за лесом, едва проступавшим на левом берегу, в отдалении (за годы лес медленно, но решительно отступил от реки, которая вместо жизни — или вперемешку с нею — несла все более концентрированную гибель; у деревьев, надо думать, есть какой-то свой инстинкт, и если каждое в отдельности уйти от опасности не может, то лес в Целом такой способностью обладает, так же, как и противоположной: возвращаться, когда угроза миновала и враг леса — цивилизованный человек — оказался вынужден убраться прочь) — за лесом стоял город, и хотя отсюда не увидеть было и высочайшей из его кровель или башен, но и над ним должно было светить ночное зарево; однако сейчас в той стороне было совершенно темно, и для всех, исключая Милова, в этом было неестественное и страшное.
— Ни искорки, — сказала Ева почти жалобно. — Ни проблеска…
— Наверное, перебой с энергией, — услоконя Милов. — Это лучше, чем пожар.
— Знаете, господа, — неожиданно откровенно произнес Граве, — мне страшно. Не напрасно ли мы успокаиваем себя?
Ева вцепилась пальцами в его плечо, тоже напуганная молчаливым мраком, которого даже горящий поселок не мог одолеть.
Милов остался как бы в одиночестве. Он был чужаком тут, и не его город это был, и дела у него были свои, особенные, его спутников совершенно не касающиеся. Наверное, пора было прощаться с ними и следовать своим путем; город пока его не интересовал, его очередь, города, должна была наступить позже. Надо было уходить, иначе он рисковал попасть в жестокий цейтнот. И все же что-то мешало вот так сразу повернуться и двинуться своим путем. Может быть, как раз потому, что был он здесь посторонним, он сохранял способность думать трезвее и, не имея пока никаких доказательств, как-то нутром, что ли — чувствовал: что-то не так, не в отказе покупать капусту было дело, а значит, инцидент мог оказаться не единственным, и опасность, какой бы она ни была, далеко еще не миновала; интуиция говорила так, а он привык доверять ей. Он уже повернулся было, чтобы поторопить спутников, но те и сами вышли, наконец, из своей бездвижности.
— Я чувствую, как Лили зовет меня! — патетически сказал Граве. Дрожь его прошла, голос звучал едва ли не героически. Ева же, напротив, попыталась погасить волнение насмешкой.
— Браво! — сказала она. — Вот заговорил мужчина. А вы, Дан, не спешите спасать свою благоверную? Туристы ведь ездят семьями. Где вы, кстати, ухитрились потерять ее? Или она предоставляет вам неограниченную свободу действий?
(Черт знает, что я говорю, — подумала она сама. — Зачем).
— Я езжу один, — сказал Милов. — Догадался своевременно развестись — давным-давно.
— О, — сказала Ева, — куда только смотрят женщины? Какой шанс упускают! Ну, пора идти. Вы, надеюсь, с нами? — Это был даже не вопрос, но утверждение.
— С вами, — сказал Милов, прикинув еще, что до Центра добраться куда быстрее по шоссе, доехав на автобусе до перекрестка. — Во всяком случае, часть пути проделаем вместе, а уж там — помашу вам рукой на прощание.
— Значит, бросите нас на произвол судьбы, — сказала Ева.
Вместо ответа Милов протянул оба захваченных в пещере пистолета:
— Возьмите на всяким случай…
— Нет-нет, от этого избавьте, — сказал Граве и спрятал руки за спину. — У меня нет разрешения полиции на ношение оружия, и я не вправе…
— Давайте, Дан, — кивнула Ева.
— Справитесь?
— Ну, я современная женщина. Не беспокойтесь.
— Гм, — сказал Милов несколько смущенно и засунул второй пистолет в карман. — А я-то надеялся избавиться от лишнего груза. Господин Граве, вы можете получить его, как только попросите.
— Нет-нет. Очень вам благодарен, но… Обождите, господин Милф, нам же не в ту сторону! Мост-там!
— Знаю. Но вы уверены, что на мосту — чисто?
— А вам нужно, чтобы было подметено? — не утерпела Ева. Милов усмехнулся:
— Простите, это жаргон… Понимаете ли, у меня есть сильное подозрение, что там не безопасно. Поверьте: охота на людей — старый, но вечно увлекательный спорт. Поэтому я предлагаю идти вброд.
Это говорилось уже на ходу; они все прибавляли и прибав-ляли шагу.
Трое шли, наискось приближаясь к воде, и Милов, как и в пещере, шагал впереди — уверенно, словно был гидом и не раз водил экскурсии по этим местам. Граве этого даже не заметил; торопливо переступил короткими ногами, он был душою уже весь в городе, у себя дома, рядом с Лили. Ева оказалась наблюдательнее: и потому, что была женщиной, и еще, наверное — ничья судьба не волновала ее настолько, чтобы совершенно отвлечь от реальности. Увязая каблучками в песке, она нагнала Милова и пошла рядом.
— Вы говорили, что впервые здесь, Дан?
— Так оно и есть. Что вас смущает?
— Слишком уж уверенно идете.
— Я опытный путешественник и заблаговременно изучаю местность по картам.
— И на них обозначен каждый брод? Милов усмехнулся.
— Дан, вы…
— Что, Ева?
— Нет, ничего. Милов замедлил шаг.
— Что такое? — Она невольно перешла на шепот. Он ответил так же:
— Кусты на берегу. Стойте тут, я проверю. Шагнул — и растворился в темно-серой мгле. Еве сразу стало зябко. Река плескалась совсем рядом, и в стороне — выше по течению — на поверхности воды играли блики: строенный из дерева поселок горел так сильно, что отблески пламени достигали даже реки. Граве стоял у Евы за спиной, громко сопя.
— Нет, нет, — вдруг сказал он в полный голосом. Все чушь. Нелепость. Земледельцы сошли с ума, но это еще не зчачит…
Ева, не поворачиваясь, нашарила его руку, стиснула до боли.
— Граве, смотрите… Видите?
— А что я должен увидеть, доктор?
— Да не вверх глядите, а на воду! Что-то плыло по течению — темное, удлиненное, слишком маленькое, чтобы оказаться лодкой.
— Да, вижу. Какая-то колода, я думаю.
— Граде, я боюсь…
То плыл труп. Река несла его неторопливо, словно в торжественной похоронной процессии. Милов возник неслышно, как и ушел.
— Идемте, — сказал он. — Тут спокойно.
— Дан, я не полезу в эту воду… в ней плавают мертвецы. Ужасно!.. Что это значит?
— Что убивают людей.
— Но почему, зачем?
— Боюсь, что мы это скоро узнаем. Мужайтесь, Ева, другого пути нет. — Он остановился у самого уреза воды, прислушался. — Тут.
— Ладно, — со вздохом проговорила Ем. — Только на этот раз я пойду последней: уж очень густой загар ложится на голое тело от ваших взглядов.
Они медленно двинулись, слышался только легкий плеск, к лишь однажды Ева издала сдавленное «Ох!» — оступилась, видно, однако справилась и шла вместе со всеми, не отставая. «Вы осторожно, — тихо сказал Милов, — тут дно паршивое». «Это я уже поняла», — так же приглушенно отозвалась женщина.
Вода, которую они расталкивали сначала бедрами, потом грудью, казалось, стала еще жирнее, неприятнее на ощупь, чем была, в ней попадалось больше всякого плавучего мусора, потом проплыли еще два трупа, один-ближе к левому берегу, к которому они направлялись, другой проскользнул почти рядом: он плыл лицом вверх, но черты лица было не разглядеть, еще слишком темно было, и Милов лишь понадеялся, что это не тот был, чей снимок он видел и запомнил, кого нужно было встретить в Центре не далее, как утром, которое все приближалось.. Милов ногой нащупывал место для каждого нового шага, середину они уже миновали — и вдруг с левого берега неожиданно и сокрушительно хлестким потоком голубого света ударил прожектор, уперся в правый, теперь уже дальний берег, подполз к воде, осторожно опустился на нее и начал высвечивать, но не равномерным сканированием, а рывками, зигзагами-видимо, управляли им люди неопытные. После едва ощутимой заминки Милов прошипел: «Нырять!» — настолько повелительно, что у спутников его не мелькнуло и мысли о неподчинении. Головы скрылись под маслянистой поверхностью, луч прошел мимо, хотя и под водой свет был так силен, что ощущался даже кожей. Ева, начав уже задыхаться, первой высунула голову, волосы ее повисли, словно водоросли, с них стекала вода, едва слышно журча. «Прощай, красота», — пробормотала она с печальной насмешкой. «Быстро к берегу!» — скомандовал Милов. Они зашагали, расталкивая воду теперь уже коленями, не стесняясь более шума: тут и сама река не молчала в неровностях берега. «Глаза щиплет», — пожаловалась Ева. «Надо было зажмуриться плотнее, тут вам не Майами Бич, — сердито выговорил ей Милов. — Ну-ка, давайте сюда». Они были уже на берегу, на песке, и Милов, повернувшись, подступил вплотную к женщине — она отчаянно терла глаза пальцами, но легче не становилось, — с силой отнял ее руки, взял голову Евы в ладони. «Да не жмурьтесь сейчас! — тихо прикрикнул он. — Раньше надо было, там, в воде!» Ева машинально положила руку на его плечо, он и не почувствовал вроде бы, приблизил свое лицо к ее, пегому от растекшегося грима (Граве возмущенно отвернулся и поспешил отойти подальше, происходившее выходило, по его мнению, далеко за всякие мыслимые пределы приличий) и стал языком вылизывать ее глаза, поминутно сплевывая. Она стояла покорно и еще секунду оставалась так, когда он уже отошел, и только после этого вдруг едва не захлебнулась дыханием, словно придя в себя. Граве в отдалении успел уже обтереться травой и теперь поспешно одевался, бормоча: «Господа, я сильно опасаюсь, что мы опоздаем…» Луч прожектора широко промахнул поверху, но теперь они его не боялись: они были внизу, под обрывом, а прожектор — высоко на берегу.
— Как фильм о войне, — сказала Ева, одеваясь. — А я думала, что такое никогда не повторится…
— Нет, — сказал Милов задумчиво, — на войну не по-хоже, но и на полный мир тоже. Трудно сказать, что происходит, но думаю, что мы не зря пренебрегли мостом.
— Я сейчас мечтаю о примитивной вещи, — сказал Граве; он приблизился к ним медленно, как бы опасаясь какой-то новой нескромности, что было бы, по его затаенное мнению, совершенно неудивительным: русский, американка — чего еще можно от них ожидать?.. — Да, о крайне примитивной: добраться до дому, поцеловать жену, лечь в постель, а утром, проснувшись, узнать, что все это наваждение кончилось — и забыть раз и навсегда.
— А если я не хочу забыть? — подняла голову Ева. — А вы, Дан? Мне было хорошо, Дан, когда мы так стояли.
— Господа, — просительно сказал Граве, — сделайте одолжение… Мы, намуры, относимся ко всем аспектам морали чрезвычайно серьезно… Мы — спокойный, уравновешенный народ, мы любим тишину и порядок во всем.
— Это заметно, — сказал Милов. — А сейчас ведите нас, Граве.
Идти по влажному песку было легко. Все более светлело. Поселок вдалеке, видимо, уже догорал — зарево совсем ослабло, пламя не поднималось столбами, и река казалась теперь черной, как только что заасфальтированная дорога. Почти ничто не нарушало тишины; впрочем, это, может быть, сюда, под обрыв, не доносились звуки: и Центр, и город были там, наверху. После очередного порыва ветерка Милов принюхался.
— Бензин? — предположил он вслух.
— Ну вот, пора подняться, — вместо ответа проговорил Граве. — Тут должна быть тропинка, попробуйте отыскать ее, господин Милф — я плохо вижу при таком свете.
— Обождите, — Милов медленно прошел вперед. — Кажется, вот она. Да, похоже.
— Да, — сказал Ева, — а тропинок на вашей карте не было?
— Таких — нет. Я поддержу вас, Ева, тут круто. Через минуту-другую они вышли на асфальтированную площадку рядом с дорогой. Автобуса не оказалось.
— Придется, видимо, немного подождать, — сказал Граве. Он взглянул на часы. — Нет, не разберу… Однако я уверен, что автобус еще не проходил.
— И не пройдет, — ответил Милов невесело. — Глядите.
Если бы они все еще шли низом, то неизбежно наткнулись бы на него. Автобус валялся под откосом берега на боку, передняя часть его уходила в воду.
— Вот откуда бензином пахло, — сказал Милов.
— Что же нам делать? — растерянно проговорил Граве.
— Идти пешком.
— Смотрите, и столбы повалены, — сказала Ева тревожно.
— Похоже, это не только капуста, — проговорил Милов. — Ну, в путь. Жизнь становится чем дальше, тем интереснее. И они двинулись быстрым шагом.
— Вы не могли бы помедленнее? — попросила Ева. Туфли свои она еще внизу то ли потеряла, то ли бросила, и снова шла босиком. — Тут все колется, — объяснила она, — и мне надоело прыгать, как горной козочке.
— Я не узнаю Намурии… — проговорил в ответ Граве с искренним трагизмом в голосе.
И в самом деле, то, что они видели сейчас и среди чего находились, не очень походило на то представление о Намурии, которое возникало по рассказам путешественников, туристским проспектам и рекламным плакатам — хотя многое, в общем, и соответствовало действительности. В таких странах, как Намурия — да в любой, и не только европейской или североамериканской даже — признаки машинной цивилизации давно уже проникли в самые глухие уголки, так что лес порой мог удивить ровностью рядов, в каких росли многолетние уже, дородные деревья, и в разных направлениях расходились от трансформаторов — в каменных будках или на деревянных и бетонных устоях располагались они-провода, толстые, силовые, а на столбах а пониже держались телефонные и телеграфные, а если мачт с проводами — не было, то в определенном ритме попадались таблички, предупреждающие, что под землей здесь проходит кабель; аккуратные павильончики автобусных остановок виднелись у дорог; и где-то в пределах видимости оказывался фермер на своем тракторе, оснащенном по сезону — плугом, сеялкой, косилкой, граблями; и уж, разумеется, не умолкало на дорогах, только среди ночи ослабевая, шуршание шин по асфальту, гудрону, бетону, легкое жужжание легковых и сердитое гудение грузовых моторов — немецких, французских, итальянских, американских, японских, реже — советских, чешских, румынских, к темноте сползавшихся к кемпингам и мотелям, а со светом вновь разлетавшихся во всех направлениях ради дела или прихоти. Да, еще вчера так было. И, похоже, кончилось как-то сразу и по причинам, которые пока еще было не понять.
Сейчас на дороге, по которой шли трое, ни машины не попадалось, не рокотали тракторы на аккуратных полях; столбы с проводами были где повалены, где сильно наклонены; повалены были дорожные указатели и щиты с описанием предстоящих дорожных развязок; зато вдруг масса всякого мусора взялась откуда-то — мусора, в котором можно было угадать обломки и останки того, что вчера еще было нужными, полезными и желанными в жизни вещами: главным образом электрическими и электронными приборами, от утюга до стереофонического двухкассетника или какой-то из приставок к персональному компьютеру, без которого не обходился уже давно ни один фермер. Словно бы кто-то сначала собрал и изуродовал это все как только сумел, а потом погрузил на многотонные трейлеры и, медленно двигаясь по дороге, неустанно расшвыривал по сторонам — и на дорогу, и в кюветы, по которым сейчас медленно текла вода, неизвестно откуда взявшаяся, потому что дождей давно уже не было. Местами ровное темно-серое покрытие дороги было усеяно мелкими крошками разбитых автомобильных стекол; какие-то тряпки валялись, остатки одежды, клочья газет, яркие журнальные обложки. Вот на какую дорогу вышли и двинулись по ней Ева с двумя спутниками; что же удивительного в том, что нелегко было ей ступать босиком.
— Господи, Ева! — воскликнул Милов, прямо-таки ужаснувшись. — Нельзя же так! Где ваши туфли?
— Где прошлогодний снег, — она старалась еще шутить. Милов снял свои туфли, носки.
— Немедленно обуйтесь. Не смущайтесь — носки я меняю дважды в день, старый предрассудок.
— Вот еще! — сказала она. — У меня двадцать три с половиной, а у вас…
— Двадцать пять, — сказал Милов, — набейте в носы травы, или вот вам тряпка…
— Я, к сожалению, не могу помочь, — сказал Граве, — у меня двадцать девятый номер. А как же вы теперь, господин Милф?
— Обойдусь. Да и, наверное, на этой дороге можно найти все, что угодно — и пару обуви в том числе. За меня не волнуйтесь, я считаю, что легко отделался: иначе мне пришлось бы нести Еву на руках — это было бы, конечно, приятней, но тогда я лишился бы маневренности.
— И почему я не отказалась от ваших ботинок наотрез? — усмехнулась Ева, но во взгляде, который она подняла на Милова, было странное какое-то выражение — словно она впервые его увидела; да так оно и было по сути дела: при свете — впервые. И тут она неудержимо, звонко расхохоталась:
— О Дан, что это такое? Нет, я не могу, не выдержу! Прелестно, неподражаемо прелестно…
Она заливалась, будто не было страхов, пещер, грязной реки, заваленной дороги, стертых ног. Может быть, и было в ее смехе что-то от истерики, но все же главным оставалось веселье.
— Да в чем дело? — Мидов уже готов был обидеться.
— Галстук, Дан, ваш галетук! Где вы ухитрились откопать такой шедевр?
Галстук у Милова, теперь уже хорошо видимый в глубоком вырезе свитера, был и на самом деле выдающимся: шириной в лопату, таких давно уже никто не носил, он бросался в глаза еще и редкой по безвкусию расцветкой — громадными красными розами, зелеными листьями, а над ними-райской птицей всех цветов радуги…
— Это у вас там делают такие? Снимите, Дан, ради Бога, иначе я просто не выживу — смех убьет меня!
— Ни за что! — сказал Милов торжественно. У него и в самом деле были причины не снимать эту часть экипировки — до поры, до времени во всяком случае. — И не просите: я дал обет носить его, и не могу от этого отказаться. Проиграл пари, понимаете?
Пари — дело святое, это Ева знала. И, отсмеявшись, уступила. Встала, прошла два шага, вернулась.
— Что же, вполне приемлемо. Спасибо, Дан. Хотя если вы ждете, что теперь я понесу вас на руках, то не надейтесь напрасно: и не подумаю.
— Если вы готовы, доктор, то идемте, — поторопил Граве. — Мне кажется, мы теряем очень много времени.
— А вот мне кажется, нужно еще помедлить, — неожиданно возразил Милов. — Там, впереди, по-моему, автобусный павильончик еще не разгромили, давайте посидим там и немного подумаем.
— О чем думать? — не понял Граве. — Пора домой!
— Да вот хотя бы об этом, — Милов повел рукой округ. — О том, что все это должно означать, Или вы попрежнему думаете, что это не более, чем капустный бунт?
Граве еще поколебался — видимо, всякая задержка сейчас вызывала у него даже не досаду, а просто злость. Но шагать дальше одному, надо полагать, улыбалось еще меньше.
— Хорошо, — буркнул он наконец. — Но сделайте одолжение, думайте побыстрее. Только почему для этого надо забираться в будку?
— Дорога, может быть, просматривается, — сказал Милов, — и движущийся предмет легче заметить. Если же мы сосредоточимся только на наблюдении.
— Ну, хорошо, хорошо. Идемте. До павильончика дошли без приключений. Скамья в нем сохранилась — была она каменной.
— Очень уютно, — сказала Ева. — Ну, Дан, начинайте. И постарайтесь успокоить нас, потому что от вида этой дороги мне хочется плакать.
— Согласен, — сказал Милов. — Поделюсь своими мыслями. Нет, тут не вспышка фермерского гнева. Тут что-то куда более серьезное. Господин Граве, вы — местный житель, вы лучше знаете свою страну, чем, вероятно, Ева, и во всяком случае, чем я. Что, по-вашему, могло произойти? Внешне это напоминает некий эмоциональный взрыв, причем тут действовали не одиночки, а масса: даже банде хулиганов сотворить такое не под силу, по-моему, за всем этим чувствуется какая-то организация. Тут творилось не просто бесчинство. Вы обратили внимание? Ни одно деревце не сломано, ни один куст не помят; только изделия рук человеческих, и тоже не всякие. Я насчитал восемь электрических утюгов — и ни одного простого, полдюжины разбитых стиральных автоматов — и ни единого корыта…
— Да их наверняка давно уже не осталось? — сказала Ева.
— Может быть. Но вот журналы на дороге нам попадались только связанные с техникой, а не, скажем, с порнографией…
— У нас нет таких, — хмуро сказал Граве.
— Я чувствую, это звучит неубедительно но дело в том, что я стараюсь перевести на язык доказательств то, что ощущаю интуитивно… Хорошо, не стану доказывать, скажу только о моих наблюдениях. Я не очень хорошо разбираюсь в намурском и совсем не знаю фромского; однако, мне кажется, и журналы, и газеты — обрывки их — попадались тут на обоих языках. Если бы не это, я предположил бы, что речь идет о национальном конфликте: по слухам, между намурами и фромами вовсе не всегда царят мир и согласие…
— Это и неудивительно, — сказал Граве. — Мы, намуры — народ работящий, тихий, законопослушный; кроме того, мы живем на этой земле столько, сколько себя помним. Фромы же появились тут каких-нибудь четыреста лет назад; это пришлый народ, работают спустя рукава, зато любят повеселиться, да… Не возьмусь утверждать, что мы с ними всегда ладим. Но чтобы дело дошло до такого… — Он пожал плечами.
— Намуры и нас, иностранцев, не очень любят, — сказала Ева. — Не в действиях это, насколько могу судить, никогда не проявлялось. Я всегда чувствовала себя тут спокойно, как и во всякой цивилизованной стране. Теряюсь в догадках…
— Вот вы оба, — сказал Милан, — были свидетелями, даже участниками этого… назовем его инцидентом в поселке. Наверное ведь люди, ворвавшиеся к вам, что-то говорили, даже кричали, может быть. А вот что?
— Нет, конечно, они вовсе не молчали, — подтвердила Ева. — Один из тех, что вторглись в дом моего приятеля, сказал мне очень даже выразительно: «А ты, цыпка, сейчас получишь массу удовольствия, ручаюсь».
— Гм, — неопределенно сказал Милов. — Ясно, однако не совсем на тему. А что слышали вы, господин Граве?
— Ну, я не возьмусь передать дословно и, признаться, был достаточно взволнован, чтобы… Но смысл был примерно таков: умные головы, погодите, мы вам еще не такое покажем, убийцы очкастые… Да, нечто подобное. Были и другие выражения, но они — не для женского уха.
— А вот это уже ближе к сути дела, — сказал Милов. — Ведь Намурия, господин Граве, страна промышленная, не так ли?
— О, да! — ответил Граве, и в голосе его прозвучала гордость. — Наши изделия известны во всем мире. Наша электроника, наша химия — мы успешно конкурируем с Америкой, Японией, Германией…
— И природа при этом гибнет, — закончил за него Милов.
— Что верно, то верно, — сказала Ева. — Найти зеленое местечко стало почти невозможно. А даже я еще помню…
— Вам легко говорить это, доктор, — Граве, казалось, несколько обиделся. — А что творится у вас дома?
— Бордель, — сказала Ева. — Но мы спохватились раньше вашего. Уже почти во всех штатах приняты законы… Как и у вас, Дан, по-моему…
— Ну, у нас принятие законов — фактор скорее тревожный, — усмехнулся Милов. — Мы ничего не умеем так хорошо, как обходить законы, и если до их принятия нарушаем правила кое-как, то после — начинаем делать это уже профессионально. Правда, я уже некоторое время не бывал дома, и что там сегодня — могу только представлять…
— Все путешествуете, — сказал Граве.
— Все путешествую, — подтвердил Милов. — У вас же, Ева, насколько я понимаю, просто сильно возросли цены за убийство природы — как охота на львов стала обходиться дороже, когда их осталось мало. Цены возросли, но охота не прекратилась. Ну, а тут, в вашей стране, господин Граве…
— У нас, — сухо проговорил Граве, — происходит то же, что и везде. Мы вовсе не желали и не желаем отставать от уровня цивилизации. Да, конечно, есть издержки — но наше демократическое общество успешно протестует. Партия Зеленых — вам о ней, разумеется,известно, — уже прочно утвердилась в парламенте и активно действует. Наши молодые защитники природы предприняли у берегов Новой Зеландии…
— А, ну, это, конечно, колоссально, — согласился Милов. — Судьба Новой Зеландии, безусловно, должна волновать вас безмерно. Ну, а на берегах вот этой реки — Дины, кажется, я верно назвал — что они сделали?
— Я полагаю, немало, — сказал Граве. — В частности, даже Научный центр вынужден платить немалые штрафы…
— Все верно, — согласился Милов. — Зелень исчезает в природе, но вместо зеленых листьев возникают зеленые бумажки на банковских счетах. Вы никогда не пробовали приготовить салат из двадцатидолларовых бумажек? Свою валюту я не предлагаю… У нас зеленые только трешки, их нужно очень много, чтобы насытиться. Скажите: вот то, что происходило и в поселке, и, видимо, тут, на дороге, и может быть, сейчас творится еще где-нибудь — не могло ли все это произойти, как реакция на уничтожение природы? Понимаете ли, если убийца ближнего вам человека осужден или даже приговорен к смерти — разве убитый воскресает? Разве возмещается ваша потеря? Почему в вашей страна, Ева, в свое время существовал суд Линча, а у нас — так называемый самосуд? Потому что или не было судебной власти, или на нее не надеялись. Так сказать, прямое волеизъявление жителей. И для того, чтобы оно возникло, порой достаточно бывает одного-единственного события, даже не самого важного…
— Такое событие было, — сказала Ева хмуро. — Еще один случай ОДА. Как раз вчера. И нужно же было, чтобы ребенок оказался дочерью Растабелла.
— Я слышал эту фамилию, — сказал Милов. — Но это не здешний министр-президент. Кто он?
— Общественный деятель, — сказала Ева.
— Сказать так — ничего не сказать, — обиделся Граве. — Растабелл — это наш голос, звучный и неподкупный. Он всегда говорит о том, что больнее всего сейчас. А ныне — вы правы, Милф, — природа болеет у нас больше всего. За Растабеллом идет народ и пойдет дальше, куда бы он ни повел. Вполне можно предположить, что народ, узнав о несчастьи, постигшем его любимца, и справедливо полагая, что корень зла — в засилье современной технологии… м-м… несколько нарушил общепринятые нормы поведения…
— Ну, что же, — сказал Милов задумчиво. — Тогда, пожалуй, можно уже понять, что происходит — пусть это и кажется невероятным: научно-техническая контрреволюция, если хотите. По-моему, точнее не определить.
— Ну, господин Милф, — сказал Граве, — вы видите вещи в слишком мрачном свете. Это у вас в национальном характере?
— Да нет, напротив, — сказал Милов, хотя можно было и не отвечать — просто пожать плечами. — Мы ужасные оптимисты, иначе давно наложили бы на себя руки.
— Странный оптимизм, — недоверчиво покачал головой Граве. — Допустим, я принял ваше предложение и поверил, что жители целой округи набросились на жителей поселка — в основном ученых — чтобы таким способом выразить свое отношение к… к тому вреду, который цивилизация вынужденно наносит природе. Я согласен, что наше правительство в области экологических проблем вело себя не лучшим образом, что, безусловно, отразится на результатах ближайших же выборов. Но ведь это не только у нас, мистер Милф, это происходит действительно во всем мире — и нигде люди не свирепеют, не накидываются на других, не валят столбы, не сбрасывают в реку автобусы…
— Еще немного, Граве, — сказала Ева, — и вы убедите меня в том, что автобус сбросили мы с вами.
— Простите, доктор, не могу принять вашей шутки: для меня все выглядит достаточно серьезно, чтобы не сказать более. Я лучше знаю нас с нашим национальным характером, чем вы, — о господине Милфе я уже не говорю. И вот что я утверждаю: произошел инцидент, да; но не надо сразу же давать ему громкие названия, эпизод есть эпизод, и если пошел дождь, даже сильный, не надо спешить с заключением о начале потопа!
— Лавина может начаться с одного камушка, разве не так? И почему бы этому событию не оказаться таким вот камушком? А лавина — это и есть та самая контрреволюция. Кстати, вы не замечали, что у революций проявляется тенденция — завершиться собственной противоположностью?
— Не изучал революций, — буркнул Граве.
— Точно так же жизнь кончается смертью, — неожиданно серьезно молвила Ева. — Что удивительного? Все в мире приходит к своей противоположности.
— Революция! — проговорил Граве сердито. — Я этого слова никогда не любил, потому что оно означает нарушение порядка, то есть мешает жить и заниматься делом. Но почему? Неужели нельзя обойтись без этого?
— В общем, потому, — ответил ему Милов, — что революция чаще всего не знает своей цели, хотя и провозглашает ее; вернее, она не знает, достижима ли цель принципиально, реальна ли она; следовательно, и пути к цели она знать не может и лишь совершает простейшие и не всегда логичные действия, уповая на то, что нечто получится. Но чаще всего выходит совершенно не то, что хотелось и думалось. Потому что к людскому обществу чаще всего относятся так же, как и природе: оно неисчерпаемо, все стерпит и потому — вперед, без оглядки! А общество, как и природа, несет потери и что-то теряет безвозвратно.
— Это ваше общество, — сказал Граве с раздражением, — хваталось за оружие, когда его морили голодом, лишали свобод — хотя даже и при таких условиях далеко не всегда… Но наше общество! Сегодня! Нет, это лежит за пределами здравого смысла. Мы живем в прекрасной, мирной и благоденствующей стране, где нет ни одной хижины, куда не была бы подведена горячая вода!
— Вот в ней-то могут утопить каждого, кого сочтут виновным. Вы не хотите понять, Граве. Потому что люди прежде всего нуждаются не в горячей воде. И не в автомобилях, тряпках или космических кораблях. Им куда нужнее другое. Жизнь. Когда люди начинают понимать, что все блага жизни они получают за счет этой же самой жизни, и сами люди живы лишь до тех пор и потому, что живым остается это живое — вот тогда революция, — я имею в виду нашу с вами научно-техническую, великую протезную революцию, — вот тогда она и обращается в свою противоположность, а мы с вами встречаемся в пещере и стараемся унести ноги подобру-поздорову… Граве явно нужна была поддержка.
— Доктор, надеюсь, вы-то не разделяете взгляды нашего спутника? Вам, жителю цивилизованной страны, было бы непростительно делать столь экстремальные предположения: будто у нас может произойти нечто… подобное.
Ну, если говорить серьезно, — не сразу ответила Ева, — мне, откровенно говоря, страшно не хочется говорить серьезно, мне спать хочется… Но раз уж затеяли серьезную беседу. Мы, медики, кое-что начали понимать всерьез и раньше. А биологи — еще раньше нас. Начали… Но понимание, мне кажется — это не миг, не прозрение, это влюбиться можно мгновенно… а понимание — процесс длительный. Хотя для начала нужен какой-то толчок… вроде нашей ОДЫ.
— Это нервы, только нервы, — сказал Граве. — За последние десятилетия человечество выиграло великую битву — против ракет и ядерных головок. Мы победили без крови. И это настолько грандиозно, что на то,что вас беспокоит как врача, я смотрю, как на относительно мелкие неприятности.
— То была первая холодная война, — сказал Милов. — А сейчас мы вступили во вторую, и она будет посложнее. Потому что тогда воевать приходилось в основном с предрассудками, амбициями политиков и военных, ложными понятиями престижа, просто упрямством, порой — тупоумием, интересами военной промышленности, но тут можно было победить, потому что в глубине души все были согласны с самого начала: уж очень конкретной выглядела смерть. Как в авиакатастрофе: если вы падаете с неба — надежды не остается. Вот мы и выиграли, А сейчас идет та же самая битва за выживание. Но если там враг был конкретен, оружие можно было при случае увидеть и потрогать, то сейчас все неопределенно, опасность не концентрируется на десятке или сотне военных баз, она в нашем гараже, холодильнике, тарелке, стакане, она везде. И поняв это, человек хочет возвращения к первозданной чистоте воздуха, воды, пищи — но еще не согласен жертвовать ради этого всем комфортом, и пока он торгуется со смертью — процесс идет…
— Не согласен, — решительно объявил Граве. — Не могу признать, что мы ничего не сделали для устранения опасности. Да вот хотя, бы: супруг доктора, господин Рикс, человек у нас весьма уважаемый и не раз оказывавший стране услуги, не получил разрешения правительства на создание тут, у нас, какого-то своего предприятия — оно оказалось неэкологичным, и парламент… Впрочем, доктор нааерняка знает все это значительно лучше меня.
— Ничего я не знаю, — сказала Ева, нахмуриашись, — и не желаю знать, мы занимаемся каждый своими делами… Видите, мы снова пришли к разговору о смерти; однако это будет уже не падение с высоты, это будет рак, и та его форма, которую излечивает только нож. Рак — это не только Лестер, это и мы с вами, Граве, и еще миллионы умных, образованных, деятельных людей. Мы упустили миг, когда цивилизация из доброкачественной начала перерождаться в раковую.
— Вот именно, — подхватил Милов. — А ведь если больной понял, что у него — скверная опухоль, и хирурга нет-он согласится, чтобы ее хоть топором удалили, и пусть это сделает хоть дровосек — иначе смерть… И вот процесс понимания этого шел достаточно давно, и ему помогали — журналисты, парламентарии, гуманисты, проповедники…
— Уж лучше бы они молчали, — вздохнул Граве. — Конечно, свобода печати — великая вещь, однако порой…
— Наоборот: надо было договаривать до конца. Кричать: рак не проходит от аспирина! Мы гуманно предупреждаем каждого курильщика: гляди, парень, наживешь себе рак легких. Но курить не запрещаем: насилие над личностью, да и все же доходная статья… Точно так же пытались предупредить человечество — но никто не попытался что-то сделать всерьез. Очищение? Но сигарета с фильтром не становится безвредной, верно? Курильщик скажет вам: бросить трудно, привычка, потребность… Так же и человечество: оно привыкло, у него есть потребность во всем, что дает современная цивилизация. Но ведь и наркотик становится потребностью! Так что если в результате начинаются серьезные осложнения, или, как теперь любят говорить, непредсказуемые события — хотя на самом деле они легко предсказуемы, — то единственное, что можно сделать, это выбрать: на чьей ты стороне.
— Как легко рассуждать, господин Милф, — сказал Граве холодно, — когда горит дом соседа… Интересно, а что бы вы сделали, происходи это у вас дома?
— Я был бы с теми, кто за жизнь, — сказал Милов, — жизнь ценой комфорта, а не наоборот. Я не из самоубийц. И думаю — вы, господин Граве, тоже. Хотя — вы ведь не верите, что здесь, у вас, может происходить что-то серьезное. Граве промолчал.
— Видимо, автобуса не будет, — сухо произнес он затем. — Что же, идемте. К сожалению, мы потеряли немало времени.
— Пешком в город? — воскликнула Ева. — Даже если мы и дойдем, то в лучшем случае к вечеру…
— Важно дойти до перекрестка, — сказал Граве. — Тут мы в стороне, но между Центром и городом какое-то движение наверняка существует; остановим первую же машину…
— Дан, придумайте что-нибудь, — сказала Ева. — Понимаете, я все-таки ухитрилась стереть ноги на мой дороге, и не знаю теперь…
— Все очень просто, — сказал Милов. — Вы вдвоем оставайтесь пока здесь. Я доберусь до перекрестка и первую же попавшуюся машину пригоню сюда.
— Вы полагаете, водитель согласится? — на всякий случай спросил Граве.
— Я его очень попрошу, — сказал Милов. — Так, чтобы он не смог мне отказать.
* * *
Да нет, — подумал Милов. — Я здесь человек посторонний, я не нахожусь в состоянии войны с этой страной, что бы тут ни происходило. Значит, если он просит меня подойти — подойду спокойно и вежливо…
Это было, когда он уже приближался к перекрестку и шел открыто, по дороге, не канавой и не придорожным кустарником; шел так, чтобы не вызвать никаких подозрений у возможного наблюдателя; такой наблюдатель мог существовать — давний и многогранный опыт подсказывал это. Вооруженный человек возник внезапно — появился из-за толстого дерева, до которого Милову оставалось еще шагов двадцать; на человеке был солдатский комбинезон, только вместо погон на плечах были дубовые листья — суконные или пластиковые, отсюда не разглядеть. Придерживая правой рукой висевший на плече и направленный на Милова автомат, человек махнул левой, подзывая:
— Ты! Ну-ка, сюда!
Это было сказано по-намурски: тексты такой сложности Милов понимал без напряжения. И повернул чуть наискось, пересекая полотно дороги — спокойно и вежливо, даже с доброжелательной улыбкой.
— Стоять!
Три метра, — привычно определил Милов дистанцию. Остановился, уже не улыбаясь, но взгляд выражал полное спокойствие.
— Руки за голову!
Пистолет — тот, что в кармане, — он заметит сразу, если только не совершенный младенец. Однако, судя по его повадке — опытный парень. Руки за голову? Да пожалуйста, сколько угодно… Милов послушно охватил ладонями затылок.
— Повернись спиной!
— Послушайте, — сказал Милов медленно, стараясь подбирать слова поточнее и ставить их в нужной форме, — я тут случайно, ни в чем не участвую, у меня больная женщина…
— Спиной! — теперь вооруженный крикнул с явной угрозой и шевельнул автоматом.
Пуля в спину — не очень приятно, — подумал Милов, поворачиваясь, — однако без всякого повода стреляет только маньяк, а этот вроде бы не похож… Нет, надо сохранять спокойствие до последнего… — и все же почувствовал, как пот проступает на спине; не любил Милов таких положений.
— Ты фром? — услышал он сзади; судя по голосу, человек оставался на том же месте.
— Я иностранец, — ответил он, чуть повернув голову — чтобы тому было слышнее, но и затем еще, чтобы видеть его уголком глаза. — Турист.
— Еще один, — проговорил вооруженный мрачно. — Чужак. Слишком много чужаков развелось в Намурии, налетело, как на падаль. Но мы еще живы… Что у тебя там в кармане? Может, фотоаппарат?
— Могу показать, — ответил Милов.
— Руки! И не шевелись, если хочешь пожить еще хоть немного!
Вооруженный шагнул вперед, теперь до него осталось около метра. Левая рука его была вытянута, чтобы сразу залезть Милову в оттопыренный карман; подходил он не прямо со спины, а чуть справа. Опытный, — подумал Милов, — но у меня-то опыта побольше, так что давай лучше поговорим на равных…
Он крутанулся на левой пятке, ударил правой ногой — руки снимать было некогда. Как и ожидал Милов, тот запоздал с реакцией на долю секунды — пуля прошла рядом. Когда такой удар наносит нога в тяжелом армейском ботинке, человек больше не поднимается; Милов был босиком, да и не хотел он убивать, старался только, чтобы самого его не убили. Противник лишь согнулся вдвое от боли; Милов сцепил пальцы вместе, рубанул.
Что же мне с тобой делать? — размышлял он, глядя на скорчившееся у его ног тело. — В канаву? Захлебнешься… Вот оружие придется позаимствовать: наверное, ты тут не последний такой… Значит, иностранцы тут нынче не в чести… — Он нагнулся, ухватил лежавшего под мышки, оттащил к дереву; тот, с закрытыми глазами, судорожно дышал. Милов распустил ему ремень, чтобы легче дышалось, потом взгляд упал на добротную армейскую обувь. Милов колебался несколько секунд: мародерство было ему противно. Придется все же считать это трофеем, — схитрил он сам перед собой, — ему теперь спешить некуда, а у меня полно дел… — Он расшнуровал башмаки, надел — были они номера на два больше, однако босиком по стеклу было куда хуже. Так, — подумал он затем. — Ну, лежи, приходи в себя, да поучись, когда очнешься, вежливее обращаться с прохожими, тебя не задевающими…
Он успел сделать шагов десять; инстинкт заставил его резко обернуться. Тот, под деревом, лежал, опираясь на локоть левой руки, правая резко, пружинно распрямилась, свистнул нож. Бросок был хорошим, острие скользнуло по щеке. Милов не успел ни о чем подумать — пальцы сработали сами. Тот, в комбинезоне, дернулся, откинулся на спину.
* * *
— Ну, где он там? — пробормотала Ева. — Мог бы и вспомнить о нас.
— Странный человек, вам не кажется, доктор? Некоторые его ухватки заставляют подумать… Впрочем, не знаю.
— С ним что-то случилось, — сказала женщина. — Надо что-то делать. Идти на помощь, может быть.
— Осмелюсь предположить: ничего с ним не случилось. Просто остановил на дороге машину и пустился по своим делам. В конце концов, он не обязан…
— Перестаньте, Граве, — произнесла Ева таким тоном, что у инженера пропала охота продолжать. — Оставайтесь, если вам страшно, а я пойду.
— Лучше уж всем вместе, — услышала она сзади.
— Дан! Откуда вы взялись?!
Он подошел совершенно бесшумно — вынырнул из-за автобусной будки и остановился, чуть усмехаясь. Щеку его пересекала свежая царапина, на груди висел автомат.
— Почему так долго? — спросила Ева, и в голосе ее промелькнула капризная нотка. — Мы уже боялись за вас. Особенно Граве.
— Нет, — сказал Граве, — доктор и тут не уступала первен-ства.
— Стоял на перекрестке, хотел дождаться машины…
— Откуда у вас это… оружие? — строго спросила Ева.
— Нашел, — очень серьезно сказал Милов. — Оно там валялось, я и подобрал.
— А оно стало сопротивляться и оцарапало вам лицо?
— В этом роде.
— Постойте. Царапину надо прижечь. У меня есть… Она выудила из сумочки флакончик. Попрыскала. Странный, горьковатый аромат расширил Милову ноздри, заставил глубоко вздохнуть воздух.
— Чистой воды «Березка», — определил он.
— Не знаю, что вы имеете в виду, Дан. Это парижские…
— Нет, это у нас такая терминология, Ева… Так вот, дорогие спутники: машина нам пока не светит. Придется все же двигаться самым примитивным способом: пешком. Ева вздохнула.
— Если вы не побежите слишком быстро, буду вам очень благодарна.
— А знаете что? Давайте-ка, я понесу вас! — Милов вдруг понял, что ему очень хочется взять ее на руки.
— Нет, Дан, я привыкла стоять на своих ногах. Как вы думаете, эту воду можно пить? У меня пересохло горло…
Милов отрицательно покачал головой. И не только потому, что в этой же канаве, только там, подальше, лежал труп.
— Ева, вы же врач, сами понимаете, что нет. Эту воду пусть пьют наши враги.
— Где же найти другую?
Милов завел руку за спину, а когда вытянула — в ней была плоская фляжка.
— Пейте, отважный доктор. А вы, господин Граве, наверное, не отказались бы от чего-нибудь покрепче? Вот, держите.
— Как вам удалось раздобыть это, господин Милф?
— Я же говорил вам: на этой дороге можно найти все, что угодно.
— Что-то очень крепкое, — Граве вытер губы.
— Из солдатского репертуара. Ну, что же; вперед! На шее паруса сидит уже ветер!..
Теперь можно было идти смелее, но Милов тем не менее внимательно наблюдал, не отвлекаясь на разговоры. Солнце поднималось все выше, изредка налетали порывы ветра, и тогда по дороге, навстречу идущим, с шуршанием бежали клочья бумаги, сухие листья; порой ветер приносил отзвуки непонятного гула. Идти приходилось все медленнее — Ева уже явственно прихрамывала, но на новое предложение Милова — взять ее на плечи — лишь отрицательно качала головой, и Граве заметно нервничал: видимо, непонятное всегда раздражало его, беспокоило, выводило из себя. Человек регламента, — подумал о нем Милов, — таким приходится трудно, когда часы начинают показывать день рождения бабушки. Приободрить бы его немного, а то он ведь и женщину до города доставить не сможет…
— Ничего, господин Граве, — весело молвил он, — не унывайте, ничего плохого ведь, по сути, не происходит. Вспомните: мало ли что бывало в двадцатом веке: войны объявленные, войны необъявленные, войны внутренние… и ничего — живем!
— Может быть, в вашей стране к этому и привыкли, — нехотя ответил Граве, — у вас, действительно, чего только не бывало…
— Вот тут вы не совсем правы: на экологической почве у нас как раз до такого не доходило. Пока, во всяком случае.
— Видимо, вы все же бережнее относитесь к природе?
— Я бы этого не сказал, — усмехнулся Милов. — Природу мы душили не меньше вашего, а может быть,и больше. Беда в том, что у нас и так было слишком много запущенных болезней — и наших собственных, и ваших недугов, которые мы усваивали, добиваясь ваших успехов. Так что об этом нашем общем, всепланетном раке, — ваше сравнение, Ева, кажется мне очень точным, — мы думали никак не больше вашего, а действовали, пожалуй, меньше — хотя поразговаривали, безусловно, вдосталь, что есть, то есть. Но ведь рак не из тех болезней, которые можно заговорить. А у нас еще и традиция сработала: ждать, пока вы начнете, чтобы на вашем опыте убедиться, что дело стоящее… Давняя привычка: во всем, кроме политических экспериментов, начинать вторым номером, за вами — чтобы было, кого догонять. Вот если бы мы с самого начала сказали себе и всему миру: не догонять то, что устремлено в тупик не-по социальной своей структуре, но из-за в корне неверного отношения к обитаемой нами планете, не догонять, а — идти другим путем! Строить иную цивилизацию, а не другую общественную или государственную форму в рамках все той же, технологической, которая и по сути своей более ваша, чем наша — потому что вашим способом жизни она и порождена. Иную цивилизацию. Подите-ка решитесь! А ведь больной канцером — он, как известно, старается в него не верить: верить страшно, тогда надо начинать о душе думать!.. И мы утешаемся: ну, какой там рак, это язвочка, гастритик какой-нибудь, ну, попьем таблеточек, в крайнем случае-лучевую терапию, но и это уже из чистой перестраховки, только чтобы домашних успокоить. Да и времени нет болеть, работа продохнуть не дает! И ведь верно, есть работа, есть — а новообразованьице разрастается, а жизнь гибнет, вся планета гибнет, а безотходная технология — это то самое лекарство от рака, хотя и не стопроцентное, которое изобрели бы — да больной раньше помрет… Но вот приходит мгновение, когда больной вдруг понимает: нет, не язва, не воспаление какое-то — это он, кого и называть страшно. И наступает сумятица, потому что глубокий, животный страх только к ней и приводит. И от смертельного ужаса, конечно, многое может возникнуть: и кровь, и погромы — бей ученых, вон до чего довели, бей инженеров — понастроили, позатопляли, поизуродовали, бей начальство — докомандовалось, довело до ручки. А уж заодно, конечно — бей инородцев, или иноверцев, или жидомасонов, или там черных котов — опыт-то во всем этом есть, он едва ли уже не в генетической памяти сидит…
Милов перевел дух и почувствовал: говорить больше не хотелось; достаточно уже сказал. Да и времени не осталось.
— Однако, прекрасные мои спутники, вот мы и пришли!
— Слава Богу, — пробормотал Граве.
Они стояли на том самом перекрестке, на котором уже побывал Милов. Сейчас тут было спокойно, никто не мешал осмотреться и решить, как быть дальше.
Продолжение дороги, что вела от моста — по этой дороге они пришли сюда — уводило к лесу; левая дорога шла к Научному Центру, правый поворот — к городу. По-прежнему не видно было ни одной машины, только на правой дороге, метрах в двухстах отсюда, сбоку что-то чернело, словно бы машина сорвалась с дороги и теперь лишь багажник торчал из кювета.
— Это новое, — сказал Милов скорее самому себе; однако английский вошел уже в привычку, и сказано было по-английски, так что остальные поняли. — Когда я здесь был, ее не было.
— Значит, все-таки проезжают машины, — проговорил Граве таким голосом, словно ему было все равно: ездят они, или нет.
— Вы могли просто не заметить, Дан, — сказала Ева.
— Не заметить я не мог, — ответил он, внутренне уязвленный. Впрочем, для нее он ведь до сих пор оставался лишь туристом; турист, понятно, мог бы и не заметить. — Да ладно, не все ли равно-есть она или ее нет? — Он взглянул на часы. — Ну что же, как принято говорить в таких случаях — был рад познакомиться, сохраню о вас лучший воспоминания.
— Что это значит, Дан? — вопрос Евы прозвучал и тревожно, и высокомерно. — Вы что, собираетесь бросить нас тут?
Вы меня способны оставить — вот как следовало понимать фразу; Милов, однако, в этом был глуховат.
— Я ведь с самого начала предупредил; мне нужно быть в Центре — там меня ждут…
— Вы… — сказала Ева. — Вы… Она не договорила — резко повернулась и, даже почти не хромая, быстро пошла прочь, чтобы, наверное, не сказать лишнего, пошла, не разбирая пути, скорее всего инстинктивно, к толстому дереву — укрыться, может быть, за его стволом и там дать волю слезам. Милое глядел ей вслед; он был несколько удивлен, не понял происходящего и поэтому спохватился не сразу.
— Ева! Постойте, Ева!
Она, не оборачиваясь, махнула рукой, сделала еще два шага — и увидела. Как схваченная, остановилась. Поднесла ладони к щекам. Медленно повернулась. Глаза ее были широко раскрыты и неподвижны.
— Что это? Дан, что это? Он, тяжело ступая, подошел к ней.
— Это вы его?.. Милов пожал плечами.
— Напал он. Вот и… так получилось. — Он не ощущал вины, но понял вдруг, что это был, возможно, первый убитый, увиденный ею в жизни.
— И у вас поднялась рука?
— А вам бы хотелось, чтобы тут лежал я?
Ева лишь медленно покачала головой, пошевелила губами, но не произнесла ни слова.
Граве подошел, остановился и тоже стал смотреть на убитого.
— Он напал на вас, вы сказали? Но почему?
— По-моему, ему не понравилось, что я иностранец и плохо говорю по-намурски. Может быть, он решил, что я — фром.
— Не могу поверить, — сказал Граве, в голосе его слышалась неприязнь. — Вы, надо полагать, наслушались о нас всякого вздора. Вот доктор Рикс тоже иностранка — разве она когда-либо чувствовала на себе чью-то неприязнь по этой причине?
— В наше время все меняется быстро, — сказал Милов почти механически, задумавшись совсем о другом. — Вы, помнится, сказали что-то о дубовых листьях — у тех, кто напал на поселок?
— В этом нет ничего страшного, — ответил Граве. — Символ «воинов природы» — есть у нас такое движение, его возглавляет господин Растабелл. Однако я сомневаюсь, чтобы те люди…
— Минутку, господин Граве. У них такая форма — солдатские комбинезоны?
— Ну что вы, никакой формы у них нет, да и оружия тоже, это гражданское движение, совершенно мирное. А этот… этот, мне кажется, из волонтеров.
— Тоже защитники природы?
— Я мало что о них знаю. Так, слышал краем уха, что возникла такая организация — из бывших солдат в основном.
— Мещерски, — сказала Ева неожиданно; до этого мгновения она, казалось, даже не прислушивалась к разговору. — Это его отряды. Лестер хорошо знаком с ним.
— Господин Лестер Рикс, — произнес Граве торжественно, словно церемонийместер. — Муж доктора.
— Их девиз — «Чистая Намурия», — дополнила Ева.
— Ну, что же, — сказал Милов. — Это уже яснее.
— Извините, доктор, — сказал Граве, — но все это лишь досужие разговоры. Волонтеры никогда не вступали в конфликт с властями. И вас, господин Милф, я призываю не делать поспешных выводов. Лучше подумайте вот о чем: вы, вольно или невольно, убили человека, гражданина Намурии, и должны нести за это ответственность: мы живем в цивилизованном государстве. Если вы сейчас покинете нас, то это можно будет расценить лишь еае попытку уклониться от ответственности. Как лояльный гражданин моей страны, я вынужден буду помешать вам в этом!
Он даже плечи расправил и приподнялся на носках — бессознательно, наверное, и выглядеть он стал не грознее, а комичнее. Господи, — подумал Милов, — сморчок этакий грозит мне… Но он ведь прав — с точки зрения нормальных условий жизни, и уважения достойно, что так выступил — не круглый же он идиот, чтобы не понимать, что я даже со связанными за спиной руками в два счета его утихомирю. Мне надо в Центр, это верно, однако ситуация не тривиальная, да и женщина, чего доброго, подумает, что я испугался и спешу унести ноги…
— Вы убедили меня, господин Граве, — сказал он почти торжественно, краем глаза следя за Евой — сейчас она повернулась к нему лицом и на губах ее возникла улыбка, одновременно и радостная, и насмешливая: она-то, женщина, ясно видела, кто из двоих чего стоил. — Убедили, и я готов последовать за вами. — Милов почувствовал, как легко вдруг стало на душе; неужели было у него внутреннее нежелание расстаться с этой женщиной тут, на распутье, возможно ли, чтобы он… он оборвал сам себя. — Итак?
— Бросьте, — сказала Ева. — Противно слушать. Дан, вам и в самом деле нужно в Центр? В таком случае мы пойдем с вами.
— Доктор, это необычайно глупо, — сказал Граве. — Что мы будем там делать?
— Я? Да мне просто стыдно оттого, что сбежала, поддалась страху. Я врач. И там мои пациенты. Дети. Забыли?
— Но ведь вы только вечером закончили дежурствах А в городе у вас семья. Семья!
Он выговорил это слово так, словно семья была превыше всего — кроме Бога одного, как сказано. Ева в ответ невесело усмехнулась.
— Ну, Лестеру-то все равно… если я не приду, он, по-моему, просто вздохнет с облегчением.
— Вы не должны говорить так, доктор, а мы — слушать… Но постойте, у меня возникла блестящая мысль! Что, если мы посмотрим ту машину? Может быть, она еще способна двигаться — тогда мы за полчаса доберемся до города, вы, Милф, дадите в полиции свопоказания, а мы поручимся за вас, и вы сможете на ней же съездить в Центр. Поверьте, вы все равно выиграете во времени.
Насчет выигрыша не знаю, — подумал Милов. — Мне надо было оказаться там еще полтора часа назад, теперь все будет сложнее. А мысль и на самом деле неплохая.
Они пошли быстро, почти побежали к торчавшей из канавы машине. Ева медленно шла вслед им, прикусив губу: ноги болели все сильнее, женщина не сводила глаз с быстро отдалявшихся спутников и то и дело спотыкалась. Двое приближались к машине; вот они достигли ее, остановились, немного постояли. Милов поглядел в сторону Евы, — она махнула ему рукой, сигнализируя о благополучии, — тогда он спрыгнул в канару. Ева шла, ожидая, что машина вот-вот дрогнет и начнет задним ходом вылезать из канавы. Вместо этого, когда идти осталось уже совсем немного, мужчины словно бы пытались вытащить на дорогу что-то тяжелое. Вытащили. Положили. Ева подняла ладони к щекам: то был человек. Она побежала, уже не обращая внимания на боль, припадая на ногу. Милов бросился ей навстречу, подбежал, поднял на руки, хотя она и на этот раз попыталась было протестовать, и понес к машине, испытывая странное, самому ему непонятное чувство, ощущение ноши, которая не тяготит, напротив, прибавляет сил, чуть ли не в воздух поднимает. Маленькая ты, — подумал он, — легонькая…
Он бережно опустил ее наземь — посадил невдалеке от вытащенного из машины и теперь лежащего на траве под деревом тела. Ева взглянула и невольно вскрикнула.
— Вы его знаете, Ева?
— Это же доктор Карлуски! Мой шеф по клинике… Он должен был сейчас находиться с детьми. Ничего не понимаю…
— Это точно он? — быстро, требовательно спросил Милов.
— Я работаю с ним шестой год… — Ева, встав на колени, поискала у лежавшего пульс, подняла веки. — Еще теплый… Снимите с него… или хотя бы расстегните… Рубашку тоже… По-моему, пуля, хотя я, конечно… Почти нет крови — скорее всего внутреннее кровоизлияние…
Она еще что-то говорила — Милов не слушал. Он бежал, — думал Милое. — Значит, меня все же опознали и его предупредили. Убили его случайно? Если нет-значит, они сами рвут свою цепочку. Решили затаиться, переждать? Или что-то другое? Так или иначе, в Центре теперь делать нечего. Остается город. Карму гант, шесть, квартира тринадцать, ключ «Дромар»… Да. Город.
— Какой ужас? — сказал Граве, он был ошеломлен. — Теперь просто необходимо вызвать полицию сюда…
— Давайте без лишних слов займемся делом, — Милов стал влезать в кабину через левую переднюю, не помятую дверцу. Приглушенно взвыл стартер-раз, другой. Мотор не заводился. Милов вылез, поднял капот, посмотрел.
— Тут электронное зажигание. Граве, вы в нем смыслите?
— Надо посмотреть… — ответил Граве осторожно. Он подобрался к мотору справа, — пришлось даже опуститься на колени, — с минуту смотрел. — Найдите мне кусочек фольги, здесь просто сгорел внутренний предохранитель.
— У меня есть сигареты, — сказала Ева. Милов несколько мгновений смотрел на нее очень пристально, словно то, что у женщины оказались сигареты, было случаем из ряда вон выходящим.
— Интересно, а какие вы курите?
— «Салем», — сказала она, — при случае, по настроению… Вот вам фольга.
Минуты через две мотор взревел. Милов, сидя за рулем, включил задний. Машина, завывая и пробуксовывая, выползла на дорогу.
— Там, впереди, обычно дежурит дорожная полициям — предупредил Граве. — Я полагаю, нужно остановиться и дать необходимые объяснения. Иначе…
— Посмотрим… — ответил Милов неопределенно.
— Прошу вас, не относитесь к этому легкомысленно. Мой гражданский долг… Видите? Вот они стоят! Тормозите, прошу вас.
— Это не полиция, — сказал Милов. — Какие-то штатские. Мы им не обязаны давать показания.
* * *
Впереди, близ щита с названием города, и в самом деле стояло трое. Один из них повелительно взмахнул рукой, приказывая остановиться.
— Шутник, — проворчал Милов сквозь зубы. Он включил правый поворот и подвернул чуть ближе к обочине, чтобы можно было подумать, что машина сейчас остановится. Но, почти поравнявшись со стоявшими, резко нажал на газ. Машина рванулась, едва не сбив стоявшего у самого полотна.
— Пригнитесь, Граве, — посоветовал Милов. В зеркале заднего обзора он видел, как один из оставшихся позади поднял автомат, но как-то нерешительно — и опустил, так и не выстрелив. Однако тот, которого чуть не сбили, вытянул руку с пистолетом. Прозвучал выстрел, но машина была уже далеко.
— Разве можно стрелять! Мы же не сделали ничего такого — возмутился Граве.
— Сукины дети, — ответил Милов.
Они въехали в город. Но не в тот, из которого Граве выехал прошлым утром, чтобы, как обычно, провести рабочее время, надзирая над многочисленными компьютерами Научного Центра. Нет, внешне многое осталось прежним: гладкий асфальт улицы с аккуратной белой разметкой, узкие дома под красной черепицей, старинные шпили церквей, а впереди — серые силуэты современных деловых и жилых башен. Уже настал для улицы час быть оживленной: обычно люди в эту пору спешили на работу, шли за покупками, совершали утреннюю. — для укрепления здоровья — пробежку собаки тоже требовали моциона. Однако сейчас тихий пригород скорее смахивал на поле недавно отгремевшего сражения.
Тротуары, прежде к этому часу уже чисто выметенные и обрызганные водой, сейчас тут и там были усеяны осколками стекол, обломками ящиков, картонными коробками, краем глаза Милов заметил валявшуюся на дороге мужскую шляпу и машинально шевельнул рулем, чтобы объехать ее.
Ставни магазинов были закрыты, на втором и третьем этажах многих домов окна смотрели пустыми глазницами, и на ветру парусили выллеснувшиеся наружу гардины.
Лежал на боку автомобиль; другой, подальше, догорал, испуская струйки сине-серого дыма, он был покрыт пятнами пены или порошка из огнетушителей. Ударило запахом сгоревшей резины.
На краю проезжей части валялся круглый обеденный стол без ножки.
Распахнулась дверь утреннего кафе, оттуда вывалилось несколько человек, пестро одетых, но все — с дубовыми листьями на груди, на рукавах, у одного — на каскетке. Они тащили, держа за руки, человека — ноги того волочились по земле; глянув в зеркало, Милов успел увидеть, как его приподняли и стали бить головой о стену дома; человек не пытался вырваться — видимо, был уже без сознания, а может, и мертв.
Проехали перекресток; на нем стоял волонтер — с карабином, с дубовыми листьями на плечах. Он скользнул по машине равнодушным взглядом. Граве схватил Милова за плечо:
— Остановитесь, пожалуйста — спросим у него… Милов дернул плечом, сбрасывая ладонь соседа.
— Может, лучше спросите у этого? Он кивнул влево; там, впереди, у тротуара валялось тело в черном полицейском мундире — форменная каскетка откатилась в сторону, ноги были подогнуты, словно полицейский в последний миг пытался уползти, укрыться, но не успел. Граве откинулся на спинку сиденья, тяжело задышал.
— Куда же поедем теперь, Граве? — спросил Милов, — Будем искать полицейский участок? Или, может быть, остановимся вот тут?
Слева по движению, на двери, за которой, судя по вывеске, помещалась часовая мастерская, виднелся кусок ватмана, в пол-листа, на нем косо, корявыми буквами было написано: «Запись добровольцев». Около двери стояло несколько молодых парней. Они тоже поглядели на машину, один крикнул — разглядев, видно, через боковое стекло: «Эй, куда бабу везешь, давай сюда!», другой сделал вид, что расстегивает брюки, остальные засмеялись. Хорошо, что Ева не видит, — подумал Милов невольно. Однако, слышать-то она наверняка слышала, но промолчала, лишь закрыла глаза.
* * *
На следующем перекрестке тоже оказался волонтер, как и те, предыдущие — парень моложе тридцати, в комбинезоне и с автоматом, не современным, однако, а времен второй мирной войны. Рядом с ним топтался штатский — в руках он сжимал дробовик, на поясе висела ручная граната музейного образца.
* * *
Волонтер что-то сказал штатскому, и тот бросился, размахивая ружьем, но не к машине Милова, а на противоположную сторону улицы. Там тоже показалась — выехала на следующем перекрестке — машина, на крыше ее, на верхнем багажнике, было наложено и увязано множество узлов и картонных коробок, видимо, тяжелых — машина прижималась к самой дороге: кто-то хотел выехать из города. Штатский остановился посредине проезжей части, встречная машина набрала скорость, и он отскочил в последний миг. Волонтер вскинул автомат. Милов успел увидеть, как ветровое стеклю встречного рассыпалось в крошки, машина вильнула, наискось пересекла улицу и врезалась едам.
— Интересные пироги, — сказал Милов. — Выехать, оказывается, куда труднее, чем въехать.
— Здесь направо, — с трудом, сквозь зубы, проговорил Граве.
Милов аккуратно показал правый поворот; никаких помех не было, светофоры смотрели слепыми глазами, на рельсах стоял пустой трамвай, соьершенно целый, и, насколько хватало глаз, нигде не только не ехало, но даже и у тротуаров не стояло ни одмой машины, все они словно испарились, растаяли. Теперь Милов со спутниками ехали по проспекту. Наверное в нормальной жизни он был очень красив, старинные, чистые и ухоженные дома в пять и шесть этажей с балконами, эркерами, порою с гербами или латинскими изречениями над входом чередовались с домами явно современными, но той же высоты, широкооконными,то гладкими, то рустованными, со стеклянными входами, порой — с аккуратно разграфленной небольшой-стоянкой для машин перед домом, арочные въезды вели во дворы. Здесь было чище и еще менее людно, только один-единственный дворник, в фартуке и почему-то с лопатой, медленно шел по тротуару, едва заметно покачиваясь: может быть, он был пьян. Впереди на одном из изящно выгнутых фонарных столбов висел человек.
— Меня тошнит… — пробормотал Граве, судорожно глотая. Лишь через минуту он смог спросить: — Что вы об этом думаете?
— Думаю, что на современных фонарях вешать куда труднее, чем на старинных, — спокойно ответил Милов. — Они куда выше, да и конфигурация не располагает. Но традиции — великая вещь…
— Перестаньте! Как вы можете…
— Прикажете рвать на себе волосы? Вам трудно это понять, Граве, ваша история не располагает к пониманию таких вещей. Но согласитесь: это не очень-то похоже на благородную борьбу за спасение природы?
— Замолчите!
В молчании квартал скользил мимо за кварталом, лишь едва слышно сипел мощный мотор, машина была из дорогих. Карлуски мог себе позволить, — подумал Милов мельком. — И телефон, и комп — только на мои вопросы он все равно не ответит… Было тихо и странно, как будто все, что произошло здесь — и выбитые окна, и сожженные машины, и выкаченные кое-где на улицу и опрокинутью мусорные контейнеры, и еще несколько убитых людей, попавшихся на дороге, и две мертвых собаки даже — все это было сотворено в полной тишине, в каком-то ритуальном молчании, хотя на самом деле было наверняка не так. И, если не считать того дворника, ни единой живой души, лишь из одного-другого окна чье-то лицо украдкой выглядывало — и тут же снова пряталось в неразличимости.
— Сейчас налево, — сказал Граве каким-то неживым голосом.
Машина нагнала шагавшую по проспекту группу человек в пятьдесят. Судя по пестроте одежды, то были добровольцы; хотя название это означало то же самое, что волонтеры, однако разница между одними и другими была разительной; эти хотя и старались выдерживать воинский строй, и маршировали с неподвижными, а каменно-серьезными лицами, незнакомство их с военным делом ощущалось сразу: не было в их строю ни равнения, ни дистанции, большая половина не была вооружена, прочие несли кое-как разнообразные устройства, стрелять из которых можно было разве что теоретически; музей, да и только, — подумал Милов, — половина всего этого взорвется при первом же выстреле.
Колонна осталась позади, но, проехав еще метров двести, они увидели и настоящих солдат. Проспект здесь расширялся, образуя как бы небольшую площадь, и сейчас посреди этой площади стоял танк, монументальный, словно памятник самому себе, живой в своей металлической мертвости, громко угрожающий в молчании, многотонный призрак, овеществленное «мементо мори»; и единством противоположности с ним были солдаты — десятка два молодых и здоровых ребят, подтянутых и вместе вольно стоявших, или сидевших на зеленой броне, или прогуливавшихся подле танка — не выходя, однако, за пределы некоего не обозначенного, но, видимо, четко ощущавшегося ими круга. Они не держали автоматы на изготовку, наоборот, улыбались дружелюбно тем немногим людям, что молча стояли на тротуарах, как бы завороженные зрелищем боевой машины (есть для людей небоенных нечто странно-привлекательное во всем военном, какая-то тайна чудится им за необычным обликом по-своему прекрасных в своей жестокой целесообразности машин уничтожения, и они не могут просто пройти мимо); вдруг возникли на площади две или три девушки — они всегда возникают, материализуясь из ничего, там, где появляются солдаты — наверное, сама солдатская мечта и материализует их".
Милов плавно объехал площадь, повинуясь знаку «круговое движение». Ева позади тихо застонала, Милов бросил взгляд в зеркальце — глаза ее были закрыты, нога, видимо, не успокаивалась.
— Теперь уже недалеко, — сказал Граве голосом,близким к нормальному. — Тут скоро будет небольшая улочка — направо…
Милов кивнул. Однако, когда пришло время поворачивать, он резко затормозил. Там, куда надо было свернуть, шла драка, сражались две группы, с каждой стороны человек по двадцать, ни волонтеров, ни солдат среди них не было. Дрались безмолвно и жестоко, кто-то уже валялся на асфальте — трое или четверо, на них наступали ногами, о них спотыкались. Мелькали кулаки, палки, велосипедные цепи — впрочем, цепи, может быть, шли в дело и мотоциклетные.
— Это все фромы, — проворчал Граве. — Сводят счеты…
— С обеих сторон фромы? — уточнил Милов.
— Нет, я имел в виду, что напали, конечно, фромы — это их квартал. Как мы ни стараемся…
— Здесь нам вряд ли удастся проехать.
— Ничего, — сказал Граде. — Можно и на следующей улице.
В следующую они свернули беспрепятственно. Было почти безлюдно, только навстречу шли трое: один впереди, двое за ним. У переднего руки были связаны за спиной, лицо в кровоподтеках, один глаз заплыл, на груди его висел на веревочке кусок картона или фанеры, на нем что-то было написано. Двое конвоиров-добровольцев — были вооружены: один берданкой, другой обрезом, на боку второго висела старинная сабля, ножны чиркали по тротуару, Милов сбавил скорость. Ева открыла глаза, спустила ноги с заднего сиденья, стала садиться: решила, видимо, что приехали. Арестованный, увидев машину, вдруг кинулся к ней; тот, что был вооружен обрезом, не колеблясь, выстрелил. Промахнулся, но бежавший упал на колени — может быть, от страха подогнулись ноги, но выходило так, словно он на коленях умолял спасти его.
— Остановитесь! — крикнула Ева. Милов прибавил скорость.
— Ужасно… Вы видели, что там было написано? "Я отравлял планету, а заслужил смерть! Остановитесь же, Дан, может быть, он только ранен…
— Добьют, — выговорил Милов сквозь зубы. — Вам хочется лечь рядом с ним? Поймите, наконец: мы сейчас в другом мире, где все ваши добрые принципы не действуют.
— Перестаньте быть таким невозмутимыми-крикнула Ева. — Ненавижу…
— Да что господину Милфу, — горько сказал Граве. — Это ведь не его страна, доктор, и не его соотечественники…
— Дан, ну отчего вы так жестоки?
— Для меня люди — везде люди, — проговорил Милов, круто выворачивая влево; навстречу шли волонтеры, числом не менее роты; вооружены они были, как полагалссь, у трех или четырех были даже пулеметы.
— Может быть, хоть они наведут порядок? — вслух подумал Граве.
— Возможно, — буркнул Милов, — только какой?
— Я лежала, — сказала Ева, — и мне были видны верхние этажи — с транспарантами, с надписями… «Сжечь машины», «Долой технику», «Мы хотим дышать», «К ответу ученых», «Позор правительству», «Спасем наших детей»… Но ничего не говорилось о том, что надо убивать людей.
— А это и не полагается говорить, — сказал Милов, слегка пошевеливая руль. — В наше время это делается без предварительной рекламы. Серьезная сила всегда молчалива… Нам далеко еще?
— Совсем близко. Видите улочку? Налево. Сворачивая, Милов успел прочитать табличку на углу. Карму гант — так назывался переулок.
— Куда вы привезли нас, Граве? — не удержался он.
— Это вы привезли меня, Милф. Домой. Я немного растерян, и… Надо решить, что делать дальше, и мне хотелось застать Лили, пока она еще не ушла. Да и вам не мешает отдохнуть, выпить хотя бы по чашке кофе… Прямо, прямо.
Улочка была застроена небольшими домами, не выше четырех этажей, но добротными, солидными — домами для зажиточных людей. Она была, наверное, зеленой и тенистой — когда деревья еще были зелеными. Но стволы их, полумертвые, окаймляли проезжую часть и сейчас.
Вон к тому дому — серому, номер шесть. Так, — подумал Милов, послушно снижая скорость. — Карму гант, номер шесть.
Смешные совпадения бывают в жизни: совершенно случайно я оказался там, куда не только Граве, но и мне самому нужно. Однако он, похоже, к моим делам никакого отношения не имеет мне нужен другой человек, тот, что живет в тринадцатой квартире… Он затормозил, и Граве тут же выскочил из машины.
— Слава Богу — кажется, все в порядке… И подъезд, возле которого они остановились, и вся улочка выглядели спокойно, мирно, достойно — словно тут же неподалеку, на главных улицах, не убивали людей.
— Спасибо, мистер Милф, огромное спасибо! — Милов и не подозревал, что Граве способен быть таким оживленно-радостными — Откровенно говоря, я и не надеялся уже — ведь происходит что-то апокалипсическое… Ева, я надеюсь. Лили немедленно сделаем вам перевязку, и сразу же позвоните домой, чтобы успокоить… Милф, вас я, разумеется, тоже приглашаю!
— Принимаю, — ответил Милов, потому что ему все равно нужно было а этот дом, а кода он не знал-тут в инструктаже был пробел, код он должен был выжать из Карлуски вместе со множеством всякой другой полезной информации.
Они вошли в подъезд. В вестибюле было темно, в швейцарской — пусто.
— Странно, — сказал Граве. — У нас тут всегда освещено, да и Мартин не позволяет себе… Сюда, прошу вас, направо, к лифту.
Он нажал кнопку; но лампочка не вспыхнула, дверцы не разъехались, не послышалось и приглушенного рокота снижающейся кабины.
— Не понимаю. Похоже, что в доме нет электричества Какой этаж? — спросил Милов.
— Четвертый. Мне очень жаль, но…
— Побережем время. Вы, Ева, все-таки добились своего: придется мне нести вас.
Он сказал это с улыбкой, ясно показывавшей, насколько приятно это будет-для него, во всяком случае. Не дожидаясь ответа, он поднял ее на руки. Даже Граве позволил себе улыбнуться.
— Достается вам сегодня, господин Милф, не правда ли?
— Похоже, мы были для вас не самой лучшей компанией. — Он обогнал поднимавшегося с ношей Милова и, когда тот появился на площадке четвертого этажа, уже вкладывал пластинку с личным кодом в щель замка.
— Не будем шуметь, друзья, — проговорил он почти шепотом, отворив дверь. Милое позволил Еве встать на ноги, поднял глаза. Квартира была номер тринадцать.
— Прошу извинить, — говорил шепотом Граве, пропуская их в прихожую, — мы редко принимаем гостей, но у нас очень уютно. Вообще, в доме живут солидные, добропорядочные люди… Вот сюда, прошу — располагайтесь, посмотрите пока на моих рыбок, у меня прекрасный аквариум… — Он машинально щелкнул выключателем. — Все еще нет тока — странно. И уборщица, кажется, сегодня не приходила — чувствуется, что пыль не вытерла. Еще раз приношу свои извинения… Милов нагнулся и поднял с пола окурок.
— Граве, — сказал он негромко. — Ваша жена курит «Дромар»?
— Она вообще не курит, — сказал Граве, — но вы правы, такие сигареты у нее есть — иногда за рюмкой ликера, с подругами — современные женщины, понимаете ли, должны… Сейчас, я только загляну в спальню. Лили придется встать…
— Где у вас телефон? — спросила Ева.
— На столике, рядом с аквариумом, да проходите же, садитесь, прошу вас.
Он бесшумно отворил дверь спальни и шагнул; после мгновенного колебания Милов последовал за ним. «Дромар», — думал он. — «Не найдется ли у вас сигареты?» — «Только „Дромар“, ничего другого я не курю». — «Слабоваты, не правда ли?» — «Зато какой аромат!» То были ключевые слова в звене цепочки, при обмене репликами пачка «Дромара» должна была появиться на свет. Если они всерьез рвут цепочку, — подумал Мялов, — если с Карлуски не просто случайность, то…
* * *
Окно спальни было закрыто тяжелой шторой, но и в полутьме можно было увидеть белую кровать, широчайший шкаф, зеркало в полстены. Милов смотрел на отраженную в зеркале кровать — на ней лежала женщина, до подбородка накрытая пухлым одеялом, глаза ее были закрыты. «Спит», — прошептал Граве с нежностью, осторожно пятясь. Он наткнулся на Милова, не сводившего глаз с зеркала — с одеяла в нем, которое не шевелилось, словно бы под ним лежала статуя, а не молодая и красивая женщина. «Пойдемте, — тем же шепотом пригласил Граве, — пусть еще отдохнет, она страшно устает порой…»
Милов взял его за плечи, грубо отодвинул в сторону. Подошел к окну, рывком откинул штору. Приблизился к кровати. «Что вы делаете, как вы посмели! — зашипел Граве. — Это… это переходит всякие границы! Вы дикарь!» Милов, стоя вплотную к кровати, смотрел на лицо женщины; оно было серо-бледным. Милов решительно откинул одеяло. Лили лежала в пижаме, чуть раскинув руки, на груди краснело пятнышко. Крови почти не было. «Что… что это значит?» — задыхаясь, произнес Граве за спиной. Милов взял руку убитой. Рука была холодной, безжизненной. «Ева! — крикнул Милов. — Подойдите, пожалуйста, вы здесь нужны!» «Я, конечно, не судебный медик, — видимо, такое предисловие Ева считала обязательным, — но видно, что борьбы не было, вероятнее всего, в нее выстрелили, когда она спала-кто-то вошел в квартиру…» «Никто не мог войти в квартиру! — снова закричал Граве. — Замок настроен только на ее и мой дактошифр!» Милов пожал плечами: он знал, что ключи есть к любым замкам. Граве в комнате уже не было — он стоял в прихожей, прижав телефонную трубку к уху, и что-то громко и возбужденно говорил по-намурски. «Телефон, видимо, работает», — сказал Милов. Тут, в спальне, тоже был аппарат — на ночном столике, со стороны Лили; Милов поднял трубку, поднес к уху, покачал головой: «Ни звука». «Дан, я боюсь, он… вы понимаете?» Милов кивнул и спросил: «Что он говорит? Я не воспринимаю, когда разговор идет на такой скорости». Он не сказал, что вообще Намурия — не его регион, и его послали сюда только потому, что заболел Мюнх, если можно считать болезнью две пули, в груди и в плече, и на язык ему дали неделю времени. Ева прислушалась. «Я тоже знаю не в совершенстве, но… Он разговаривает с канцелярией Господа, требует, чтобы его соединили с Самим, поскольку ему необходимо, чтобы Спаситель прибыл и воскресил Лили. Сейчас угрожает обратиться к конкуренту…» «Печально, — сказал Милов. — Он, кажется, всерьез тронулся». «Дан, это все, что вы можете сказать? — со внезапной тоской в голосе спросила Ева. — Рехнулся, не рехнулся… Это ведь любовь, знакомо вам такое слово? Понимаете хоть, что оно означает? Любовь, о которой может только мечтать — и мечтает всякая женщина, но только редкая встречает в жизни такую… Вы просто никогда не любили, Дан, если ничего другого не можете сказать…» Милов увидел, что на глазах ее выступили слезы, и внезално, помимо желания, представил, что не Лили лежит убитой в собственной постели — Лили, какими-то неведомыми путями впутавшаяся в опасные игры, ставшая звеном цепочки, которую теперь хозяева рвали — безжалостно, уничтожая звено за звеном, — не Лили, а Ева, всего лишь несколько часов назад им впервые встреченная, но чем-то его уже зацепившая, уже прирастившая к себе, как он сейчас почувствовал; он представил себе Еву в постели мертвой — и ощутил вдруг, как перехватило горло, и понял, что куда сложнее обстояло дело с ним самим, чем ему казалось, и не просто из чувства долга он брал ее на руки и нес, но уже ощущая какую-то ответственность за нее — неизвестно перед кем, но ответственность, как за существо, данное ему, и близкое ему, и необходимое ему во всей жизни, сколько бы ее ни оставалось… Он изумился внезапному ощущению и испугался его, и подумал, что если бы это Ева лежала, то он — нормальный, здоровый и ко многому привыкший человек — пожалуй, тоже сошел бы с рельс-не так, наверное, как Граве, но сошел бы…
Сам того не сознавая, он все эти секунды, пока такие мысли проносились в голове, а импульсы — в сердце, смотрел на Еву в упор крепко схватив ее за плечи — и она смотрела на него и, видимо, понимала и читала нечто в его глазах, потому что умолкла и тоже только смотрела…
Громкий звук, донесшийся из прихожей, заставил их опомниться. Милов мгновенно оказался у двери, в руке его как-то сам собой возник пистолет. Опасности не было: это Граве, потерявший сознание, упал, опрокинув столик с телефоном, валявшийся теперь рядом. Ева подбежала, встала на колени около упавшего.
Так или иначе, — думал Милов, глядя на ее узкую спину и светлые, уже высохшие волосы, — свое дело я кажется, благополучно провалил. Были известны две звена цепочки — и вот они, одно за другим, ликвидированы. Куда шла цепочка дальше — у меня лишь слабые представления, да и у всех наших… Да никто не давал мне полномочий идти дальше: цепочка-то вела наверх, тут, наверное, нужен работник с другим статусом. Значит, программа теперь выглядит так: доставить Еву домой, — хоть одно благое дело будет сделано, — Граве отвезти в больницу, а самому спешить в Регину, их столицу, и оттуда доложить, что и как — ну, а дальше как прикажут.
— Думаю, надо поторопиться, Ева, — сказал он.
— Мне никак не удается…
Милов нагнулся, не без усилия поднял Граве с пола и взвалил себе на спину. Что-то осталось в руке, вроде тряпочки, он сунул это в карман, не думая, машинально, из привычки не бросать ничего на пол. Ева отворила выходную дверь, придержала ее, Милов вынес Граве. Дверь мягко защелкнулась за спиной. Рыбки теперь передохнут, — вдруг почему-то подумал Милов и даже пожалел их, как будто рыбки станут единственными жертвами происходившего. Ева шла впереди, Милов тяжело спускался вслед-веса в Граве было куда больше, чем в женщине.
— Дан…
— Ева?
— Странно, правда? И неожиданно… Ему не надо было объяснять, что не о Лили было это сказано, и даже не обо всем том, не вполне понятном, что происходило нынче в городе и вокруг него.
— Ева, я…
— Да. Я ведь поняла.
— Но если бы вы не сказали там, я бы не понял — о себе…
— Не надо объяснять, — сказала она.
— А мне надо, — сказал он. — Только не сейчас. Что с ногой?
— Посмотрим потом. Терпимо.
В машине он спросил:
— К вам домой?
— Да, — сказала она, помедлив. — Наверное, да, Он включил мотор.
До перекрестка доехали беспрепятственно. Там, однако, пришлось уменьшить скорость: за то время, что они провели у Граве, на пересечении улиц собралось довольно много людей, — с дубовыми листьями и без них, вооруженных и безоружных, молодых и пожилых; общим для них было, пожалуй, выражение лиц — какое-то мрачное ожидание читалось на них. Людей пришлось едва ли не расталкивать машиной-дорогу уступали неохотно, в самый последний миг. Милов спросил негромко:
— Где пистолет?
— В сумочке.
— Выньте и держите на коленях. Прикройте хотя бы платочком…
— Знаете, Дан, — помедлив, сказала Ева, — я не поеду сейчас домой: передумала. Мне нужно в Центр. К ним. Тем более, что Карлуски погиб. Так что выезжайте на проспект, и — прямо, пока сумеем. Главное — выскочить на шоссе.
— Ваше слово — закон, — согласился он. — И Граве там пристроим, кстати. Только надо бы где-нибудь заправиться — едем на остатках…
— Направо и еще раз направо, — сказала она.
— Спасибо, мой штурман.
На проспекте прохожих стало намного больше, и с первого взгляда можно было подумать, что все в порядке; однако, в отличие от хаотического движения людей на улицах в обычное время, здесь почти все направлялись в одну сторону; почти не было женщин, и совсем-детей. И никакого транспорта, за исключением той машины, в которой ехали они сами.
— Дан! — это было сказано почти с ужасом.
— Что с вами, Ева? — он резко затормозил.
— Вы что, тоже… из них?
— С чего вы взяли?
— Дубовый лист…
— Он торчит у вас из кармана!
Сняв руку с руля, он вытащил зеленую суконную тряпочку из кармана. Помял в пальцах.
— Шинельное сукно… Не бойтесь, Ева, это я подобрал у Граве в прихожей. Верно, потерял кто-то… тот, кто приходил.
— Дан, я и в самом деле начинаю бояться: что происходит с миром?
— Не знаю, хотя предположения можно строить. Может быть, он, как змея, меняет кожу. Выползает из старой.
— И старая кожа — мы?
— Может быть.
— Слушайте, а это хорошо, что мы едем в ту же сторону, куда идут все они?
— Мы ведь направляемся к центру, если нам нужно на шоссе?
— Но можно и обратным путем-так, как приехали…
— Боюсь, что там выехать из города будет трудно: помните? Ну вот; и люди тоже идут в центр. Да, теперь я уверен: это не само собой случилось. Кто-то это затеял, готовил, командовал. Ну, а теперь — здесь, во всяком случае, — они, видимо, одержали верх. И сейчас должны изложить свою программу и обнародовать указы. И есть лишь один способ сделать это.
— Как в средние века?
— Тока ведь нет, а значит — ни радио, ни теле, ни газет. Нет информации. А без нее-многое ли отличает нас от средних веков?
— Вы всерьез?
— Не совсем, может быть. Думаю, что какие-то качества нас все же отличают, даже когда нет электричества. — Милов кивнул в сторону одного из немногих прохожих, что шли против движения; этот был без листка и тащил два ведра с водой. — Даже когда приходится заменять водопровод вот этим…
— Дан, а вы помните танк? И солдат? Вот это меня всерьез пугает…
— А меня, напротив, успокаивает. Армия бездействует — значит, ждут команды. Откуда? Из столицы, естественно. В таких случаях правительство, как правило, не реагирует мгновенно: нужно взвесить последствия, и внутренние, и внешние.,. А пока армия под контролем правительства, могут быть эксцессы, но до всеобщей резни не дойдет.
— Думаете, в столице не происходит ничего подобного?
— Если правительство хоть чего-то стоит, его не так легко разогнать, как ваших коллег в поселке… Ага! Бензоколонка. Давно мечтал о встрече.
— Дан, я боюсь: вы плохо говорите по-намурски, а они…
— У вас есть какая-нибудь булавка, шпилька? Приколите мне повязку, как только остановимся.
Он подъехал к колонке, затормозил, протянул ей левую руку.
— Теперь пересядьте за руль. Пистолет оставьте на сиденье, под платочком. И если увидите, что у меня осложнения…
— Буду стрелять.
— Нет. Вы немедленно уедете.
— Не выйдет, Дан. С моей ногой мне сейчас даже не выжать сцепления. Так что обходитесь без осложнений.
Он вышел из машины. Заправщика не было. Просунув руку в окошко, погудел; никто не вышел из конторки. Тогда Милов сам отвинтил пробку бака, вставил наконечник шланга. На всякий случай еще раз погудел. Теперь человек вышел и махнул рукой. Проговорил лениво:
— Ты что, только проснулся? Тока нет.
Дурак старый, — подумал Милов о себе. — Знал ведь, что город без энергии, как же насосы станут её качать? Однако же, бензин мне нужен. — Он заметил, что за будкой, почти целиком скрытая ею, стоит «тойота» — наверное, самого заправщика. Ну, — подумал Милов, — у него-то, надо думать, бак полон, не в ту эпоху живем, когда сапожники ходили без сапог… — Милое направился к будке неторопливыми, уверенными шагами.
— Зайдем на минуту к тебе, — он сказал это по-намурски, заранее построив фразу и несколько раз произнеся ее мысленно, чтобы не запнуться.
Заправщик смерил его взглядом, усмехнулся, отступил. Милов шел вплотную за ним. Затворил за собою дверь. Тот обернулся.
— Твоя минута пошла.
— Надо залить бак. У тебя есть запас. Плачу вдвойне.
— Нет у меня бензина, да и некогда: пора на площадь, сам Растабелл, говорят, обратится к народу. И тебе полезно сходить, раз уж листочек надел, хоть ты и иностранец, говоришь как-то дубово. И бабу свою захвати, ей тоже не помешает послушать. — Он кивнул в сторону окна, из которого видна была машина, и в ней — Ева, опустившая боковое стекло. Она тоже смотрела в их сторону — напряженно, упорно. И в самом деле, выстрелит, если что, — поверил Милов, и от этой мысли ему стало весело.
— Ты пешком пойдешь? — спросил он.
— А как же. От машин-вред, ты что, не знал?
— Тогда отдай свой бензин.
— Ого! А до аэропорта я ее плечом толкать буду, по-твоему?
— Куда лететь?
— Дурак ты. Мы их там жечь будем? А ты разве не туда ехал? Постой, постой, а куда же…
Милов нанес удар по всем правилам искусства. Заправщик рухнул, не издав ни звука, хотя и здоровый был парень, бульонный. Милов нагнулся, снял с лежавшего дубовый листок вместе с булавками, ощупал, вытащил тяжелый пистолет. Обойдешься, — подумал он, перешагнул через заправщика и вышел. Аккуратно затворил за собой дверь, подошел к машине. Ева смотрела на него и улыбалась, улыбалась — у него даже дыхание перехватило. Он тоже улыбнулся ей, сказал: "Сдай задним ходом вон туда, к «теисте» — и сам направился туда. Открыл бак — бензина, как он и полагал, было по самую пробку. Подъехала Ева. Милов открыл багажник своей (в сложившейся игре) машины, нашел шланг и стал качать грушу, Бензин полился из бака в бак. Милов внимательно глядел-не появится ли хозяин, но тот, как видно, не спешил прийти в себя. Закончив, Милов аккуратно завинтил обе пробки, шланг уложил в багажник, захлопнул крышку и протянул Еве листок; этот, в отличие от найденного им, был из тонкого пластика.
— Очень модное украшение. Наденьте. Как тут Граве?
— Все по-прежнему.
Они осторожно выехали на улицу. Прохожих стало еще больше. Шли они все в том же направлении. Одиночки, нестройные ряды добровольцев, время от времени — ровно печатавшие шаг небольшие отряды волонтеров. Не было лишь военных…
— Смотрите, Дан!
То были совсем другие люди; прямо посреди улицы шла колонна, человек до сотни, у большинства руки были связаны за спиной, кое на ком одежда разорвана. Их вели люди, одетые одинаково, как волонтеры, но не в отслужившее солдатское, а в черные брюки и черные же облегающие свитеры, и дубовые листья на груди каждого были не зелеными, но ярко-желтыми и сразу бросались в глаза.
— То ли кунсткамера, — пробормотал Милов, — то ли расцвет плюрализма… Это еще что за формирование?
— Молодые стражи, — ответила Ева.
— Все-то вы знаете…
Колонна мешала проехать. Милов решительно загудел.
Строй не сразу, как бы нехотя, начал принимать влево. Объезжать ее пришлось медленно, начти вплотную. Арестованные шли, угрюмо глядя кто под ноги,кто прямо перед собой, никто не шарил глазами по сторонам — видимо, стыдно было своего положения. Один, уже очень немолодой, споткнулся, страж крикнул ему: «Под ноги гляди, морда безродная!» — но тот поднял голову, оглянулся на звук мотора, встретился со взглядом Милова — в глазах старика стояла тяжелая тоска. Ева отшатнулась, припала головой к плечу Милова.
— Осторожно, девочка, — сказал Милое. — А то я врежусь не в того, в кого стоило бы… Она всхлипнула.
— Не понимаю, — сказала она с отчаянием в голосе. — Не могу понять… Ученые, инженеры — дико, но в этом есть хоть какая-то логика. А это?.. Не укладывается в сознании.
— Ну почему же? — сказал Милов даже как-то лениво, словно ему предстояло объяснять ребенку вещи очевидные и понятные едва ли не от рождения. — Для одних истребление природы было причиной требовать изменения самой сути цивилизации, постепенного перевода ее из материального в духовное русло. А для тех, кто организовал все это, — он кивнул в сторону колонны, мимо которой они все еще ехали, — то был лишь повод для обвинения властей в несостоятельности — чтобы захватить все в свои руки.
* * *
Колонна осталась, наконец, позади, и он увеличил скорость — ненамного, потому что люди шли не только по тротуарам.
— Болит голова, — пожаловалась Ева.
— Крепитесь, милая… Вот дьявол! Ну, что ты скажешь!
Впереди, перегораживая улицу, тесно друг к другу стояли грузовики.
— Через такую баррикаду я прорваться не берусь. Разве что на танке. Тут можно двигаться только вместе со всеми.
— Погодите, — хрипло послышалось сзади; Граве очнулся. — Где мы? Куда вы меня везете? Почему?..
— Лежите спокойно, — посоветовал Милов.
— Остановитесь! Выпустите меня! Я убью их, я всех убью! Дайте мне! — он протянул руку между передними сиденьями. — Вы предлагали мне пистолет!
— Разве вы стрелок, Граве? Да и вообще, это не выход.
— Но ведь они убили ее… — проговорил Граве и зарыдал, словно только сейчас поняв, что означали эти слова, — тяжело, истошно, не умея остановиться. Машина тащилась на второй передаче.
— Все, — сказал Милов. — Дальше не проехать. Сделаем так…
Непрерывно гудя, он стал сворачивать в первую же подворотню. Машину нехотя пропускали. Въехали в неширокий дворик с росшим посредине деревом; почти вся кора с него уже опала. Милов остановил машину.
— Придется переждать здесь, — сказал он. — Кончится же когда-нибудь это шествие. Граве, вы сидите и не высовывайте носа, воздавать будете потом, сейчас это невозможно. А вы, Ева…
— Я с вами, — решительно заявила она.
— Но я хочу пойти на площадь — посмотреть, послушать, меня все это чем дальше, тем больше интересует. А у вас нога…
— Мне очень нравится, — сказала Ева, — когда меня носят на руках.
— Ну, если так, то сдаюсь, — капитулировал Милов. Милов вылез, помог выйти Еве.
— Я сразу возьму вас на руки. Так будет надежнее.
— Боитесь потерять меня? — спросила она, улыбнувшись. — Нет, я хоть немного хочу пройти сама.
Он крепко взял ее за руку.
— Все равно, я вас не потеряю.
* * *
Это была Ратушная площадь, и люди заполняли ее до предела; правда, была она не так уж велика, как и в большинстве старых европейских городов. Люди стояли, разделившись на две четко обозначенные группы, одна побольше, другая — не столь многочисленная; видимо, намуры непроизвольно подходили к намурам, фромы — к своим, никто не устанавливал их так, но все же между группами оставался неширокий проход, тянувшийся до самой ратуши, и там, вдоль здания, стояла третья группа, самая маленькая — но то были волонтеры.
— Не станем углубляться, — сказал Милов, когда он и Ева вышли на площадь, несомые потоками — Входя, думай о том, как будешь выходить. — Встав перед Евой, он начал расталкивать толпу и вскоре добрался до одного из окаймляющих площадь домов, остановился близ подъезда. — Вот здесь и останемся. — Он поправил висевший за спиной автомат, ни у кого не вызывавший удивления: вооруженных тут было немало. — Надеюсь, — сказал Милов, — стрелять нам не придется.
— Будем говорить поменьше, — тихо отозвалась Ева, — кто знает, как здесь воспримут иностранцев…
Над площадью стоял гул, неизбежный, когда собирается вместе такое множество людей. Местами над толпой поднимались наспех изготовленные лозунги, намалеванные, скорее всего, на полосах от разодранных простыней. Тут и там размахивали национальными флагами, но в стороне, занятой фромами, мелькали и еще какие-то цвета — возможно, у фромов был и свой флаг, особый. Потом словно кто-то подал знак, Миловым не замеченный, — и все запели что-то, что Милов принял за марш, но то был государственный гимн, и пели его на двух языках, изо всех сил, стараясь как бы перекричать не только другой язык, но и все шумы в стране. Затем вдруг настала полная тишина. На длинном балконе второго этажа показалось несколько человек, все — штатские, только один, очень немолодой уже, был в комбинезоне, как все волонтеры, без знаков различия, но с дубовыми листьями. Они выходили не спеша, один за другим, и останавливались, подойдя вплотную к балконным перилам. Судя по всему, это и были главари-или вожди, те, кто возглавлял это не до конца еще понятное движение с его не до конца еще понятной жестокостью. Можно было ожидать, что их ветретят взрывом энтузиазма, но это, видимо, здесь не было и принято; а может быть, люди и не знали всех в лицо — ведь и суток еще не прошло с минуты, когда все началось.
Наконец, вышел, видимо, последний — их оказалось девять человек всего. Милов машинально огляделся в поисках телекамер, усмехнулся силе привычки: телевидения на сей раз не будет, как не бывало его прежде сотни и тысячи лет…
Люди на балконе помолчали, потом стоявший в середине поднял руку, как бы призывая ко вниманию, хотя и без того все внимание было устремлено на него. По прямой Милова отделяло от балкона не более пятидесяти метров; щурясь, он вглядывался в лица девятерых — лица были обыкновенными, не очень выразительными. Он вдруг ощутил, как Ева сильно вцепилась в его руку. «Больно?» «Нет, ничего…» — не сразу ответила она. И через секунду повторила: «Нет, ничего, ничего». И словно дождавшись именно этих слов, стоявший в середине девятки начал говорить.
— Сограждане — произнес он, потом понял, видно, что на этот раз усилителей и микрофонов нет, и нужно говорить громко, чтобы услышали все, и повторил, на сей раз почти выкрикнул: — Сограждане! Мы с вами решились и совершили великое дело. Вы сами знаете, какое: мы спасли жизнь. Жизнь с большой буквы: нашу, наших детей, всех предстоящих поколений. Десятки и сотни лет люди и правительства, не имевшие или потерявшие чувство ответственности перед настоящим и будущим, убивали, отравляли, калечили мир, в котором мы все живем, в котором только и можем жить. Вы все знаете, и не по рассказам знаете — на самих себе, на детях своих испытали, как все это происходило. Как вырубались и отравлялись леса, как вода превращалась в химический рассол, в котором ничто живое существовать уже не могло, как земля, данная нам от Бога, наша плодородная земля становилась порошком вроде тех, каким морят насекомых — но это не насекомых морили, это нас медленно, но верно убивали, начиняя плоды нив, и садов, и пастбищ такими количествами противных жизни веществ, что мы, сами того не понимая, подходили уже к той грани, за которой нача" лось бы стремительное и неудержимое вымирание… Ради чего все это совершалось, сограждане? Ничто не требовало этого, потому что нет смысла в росте населения, если оно растет лишь для того, чтобы быть отравленным, удушенным и сожженным". И мы, в нашей маленькой стране, тоже пользовались ядовитыми плодами этого образа жизни, и к нам приезжало все больше людей из других стран, привлеченных нашим кажущимся благополучием, и приезжали они не с пустыми руками, вначале привозили особой горькие плоды науки и техники, а затем стали выращивать их и на нашей благословенной земле — и мы не запретили им въезд не подумали о своем будущем — говоря «мы», я имею в виду то правительство, которое существовало до вчерашнего дня; но бремя его вины перед народом превысило все мыслимые пределы, и Создатель — или судьба, если угодно — сурово покарали преступных властителей: рухнула, как многие из вас уже слышали, плотина, и потоп обрушился на столицу, и все они утонули, подобно крысами…
Рев толпы прервал его. Господи, что за идиоты, — подумал Милов, понимавший не все, но главное. — Радуются беде — как же они не соображают, что погибли наверняка и сотни тысяч людей, таких же, как они сами, ни в чем не виноватых… Так вот, Значит, в чем дело, почему нет энергии и откуда вода в канавах… Но он подставляется очень необдуманно — опыта не хватает?..
Опыта, видимо, было достаточно, потому что оратор продолжал:
— Да, погибли многие и многие, и мы скорбим о них. Но разве не сами они привели себя к погибели? Разве не им, жителям столицы, разве не их заводам и вертепам прежде всего нужна была та сила, ради которой и воздвигали плотину, чтобы вода, наша чистая, природная вода вертела их машины, убивавшие и уже убившие жизнь в нашей реке и других водоемах? Да, и мы с вами, сограждане, остались без электричества, и нам отныне придется многое делать не так, как до вчерашнего дня, — но предки наши на нашей земле столетиями жили без него — и только благодаря их здоровой жизни мы и появились на свет! Вспомним о предках, сограждане, и пожелаем стать такими, как они, и не сетовать, но благославлять ту волю, благодаря которой все произошло… Ограничим себя, сограждане, и в потребностях, и в поступках, будем жить скромно, строго, целеустремленно и чисто…
— Дан! — возбужденно прошептала Ева. — Но ведь все это верно, он прав! Он прав!
— Согласен. И все же… где-то в рукаве у него крапленая карта. Очень уж не вяжется…
— Это же Растабелл, Дан! Он честный человек…
— Ну, может быть, и не он сам, но кто-то из близких к нему гнет свою линию: идет к власти, к полной власти, к диктатуре, может быть… Погодите, послушаем еще.
— …Вы скажете, сограждане: но ведь и мы виноваты! Да. Но разве мы не поняли? Разве не раскаялись и не доказали этого делом?
Тут толпа снова на несколько мгновений взорвалась ревом; Милов почувствовал, как вздрогнула Ева, да и самому ему стало не по себе, хотя он вроде бы привык в жизни ко всякому. Он их доведет до кипения, — подумал Милов, — тогда уже не помогут никакие танки… Люди ревели, топали, аплодировали, поднимали в воздух оружие — те, у кого оно было, остальные вздымали над головой сжатые кулаки, размахивали флагами. Казалось, взрыв этот никому не под силу унять, но оратор снова поднял руку — и толпа затихла сразу, доверчиво, покорно. Да, он хорошо держит их в руках, — подумал Милов. — Не зря оказался во главе.
Растабелл, Растабелл… что-то я слышал — или читал?.. — Но оратор уже заговорил снова:
— Мы это сделали, да, сограждане. Но это не значит, что мы целиком оправданы. Мы все еще виноваты, виноваты в том, что были слишком нерешительны, И на нашей благословенной Господом земле возникла страшная язва, рассадник гибели. Вы отлично знаете, о чем; я говорю: о Международном Научном центре. Нельзя было допускать его. Нельзя было идти ни на какие соглашения. Мы — допустили. И в этом — наша общая вина, и теперь получить прощение матери-природы и самого Творца мы можем только все вместе, общими действиями. Потому что, дорогие сограждане, дело дошло до того, что и на, нашей земле стали рождаться дети, которые не хотят жить. Это наша с вами гибель. Это преступление не одного только нашего века — это величайшее преступление за всю историю рода людского?
Снова взрыв. Ева сказала в самое ухо Милова — громко, иначе ему не услышать бы:
— Дан, он все равно прав-куда бы ни гнул. — Милов кивнул:
— А лозунги всегда правильны. Они — начало. Но потом…
Он умолк одновременно со всеми: снова над головой оратора взлетела рука.
— Но мы выступили вовремя, все еще в наших руках! Сограждане… — тут он запнулся, почти незаметно, на полсекунды только, но все же запнулся, словно ему надо было в чем-то преодолеть, убедить самого себя, и это ему удалось, хотя и недешево стоило. — Всего лишь несколько часов прошло с той поры, как остановились заводы, как перестали они отравлять воздух — наш с вами воздух. И вот — результаты! Наши дети (он снова на мгновение прервался, словно перехватило горло), наши дети, о которых я сказал, были помещены в условия, в которых не должны жить люди, только лабораторных крыс можно использовать так. Вы спросите: а что еще было делать, нельзя же было позволить им умереть! Отвечу: да, нельзя! Но не надо было для этого замыкать их в непроницаемые камеры, словно приговоренных к пожизненной тюрьме; надо было сделать то, что и сделали мы: убрать, обезвредить источники отравления! Мы сделали это — и вот…
Он повернулся к выходившей на балкон двери. Толпа замерла. И тут же, одна за другой, на балкон вышли четыре рослых женщины, одетых, как сестры милосердия, и каждая держала на руках младенца — крохотное тельце, аккуратно укутанное в одеяльце. Один ребеночек заплакал, и такая тишина стояла на площади, что этот тихий плач услышал каждый.
Растабелл поднял голову, раскрыл рот, но, наверное, не нашел нужных слов; молчание на миг стало невыносимо тяжелым — и тут заговорил другой, стоявший рядом с ним, слева:
— Вы видите, сограждане! — крикнул он. — Вот они! Всего несколько часов — и они уже дышат, как мы с вами, обыкновенным воздухом. Не потому, что изменились они: изменился воздух!
На этот раз ликующий рев достиг такой силы, что даже Растабеллу не по силам оказалось бы справиться с ним, не то, что новому оратору; люди клокотали, как лава в кратере проснувшегося вулкана. Многие плакали, не стесняясь.
— Дан… Я не верю, этого не может быть, мне кажется, тут совсем другие дети…
— Кричите «Ура!» — ответил он, — кричите громче! — И сам заорал: — Да здравствует! Ура! Ура!
Не менее десяти минут прошло, пока второй оратор смог заговорить снова:
— Сограждане! Наш Первый гражданин напомнил вам, что минувшей ночью многие выступили против источников гибели. И обезвредили некоторые из них. Но не, все! Успокаиваться рано, снова могут закипеть котлы с адским варевом, в воздух и воду снова извергнутся плоды дьявольской кухни! И еще не наказаны те, кто занимался и дальше готов заниматься этими человеконенавистническими делами — если мы не помешаем… Что же удивительного, мои сограждане, намуры и фромы: ведь большинство из них не принадлежит к нашим народам, это пришлые люди, чуждые нам, и они не станут щадить ни нас, ни наших детей, и если даже все мы поголовно вымрем, никто из них не почешется. Люди бушевали, и ров их, отражаясь от каменных стен, вихрился, креп, оконные стекла звенели и, калалось, вот-вот разлетятся осколками. Говоривший снова терпеливо обождал.
— Как же мы, друзья, поступим с ними? Тут были разные мнения: проявить милосердие и просто выбросить их за пределы страны; или же, поскольку они ели наш хлеб и наносили нам ущерб, заставить их честным человеческим трудом покрыть причиненные нам убытки. Да, собратья, мы люди милосердные, и нам чуждо стремление причинить кому-либо вред. Но ответьте: а они о нас думали, они нас жалели? Нет и нет! И мы поняли одно: этих людей не переделать. Поступить со всеми ними, и преступниками, и пособниками, милосердное — означало бы снова предать наш народ, не избавить его от давно нависавшего дамой… дакло… ну, от меча гибельной угрозы, черт меня возьми, мне эти чужие слова всегда нелегко давались… — Он переждал одобрительное гудение толпы, постепенно он обретал власть над нею. — Нет! — выкрикнул он затем. — Мы не пойдем на предательство — да вы и не позволите нам, потому что в своем сердце вы уже вынесли им приговор, и приговор этот — смерть!
На этот раз шторм грянул не сразу, и как-то вроде бы нерешительно, но в разных углах площади все громче и определеннее раздавалось: «Смерть! Смерть!» — и в конце концов сборище загремело еще грознее, чем прежде.
— Дан, я боюсь…
— Вот теперь обозначилось направление, понимаете?
— Кто бы мог подумать: в наше время, во вполне цивилизированной стране, с традициями…
— Диалектика, — усмехнулся Милов. — Единство противоположностей, новое вызревает в недрах старого… Довольно противный голос, кстати.
— …Не месть и не расправа — наша цель, но уничтожение всего того, что угрожает жизни. Все, что принесено извне в нашу жизнь, в наши дома, на улицы, в леса и поля, реки и озера той болезнью, которую именуют научно-техническим прогрессом — все это подлежит уничтожению. Долой! Долой все то, что, как нам по нашей наивности казалось, делает нашу жизнь удобнее, комфортабельнее, приятнее! Ибо все это, братья, действительно делало удобнее-но не жизнь нашу, а смерть, нашу с вами и всех тех, кому надлежало прийти от нас — после нас. Поэтому — не надо жалости! Не надо сомнений! Чистый воздух, чистая земля, чистая вода, чистый народ!..
— Дан, вы понимаете, что это значит? Это же призыв разгромить Центр и расправиться…
— Чего уж проще.
— До сих пор я надеялась, что дети послужат защитой, те, что у нас в Центре: это же их дети! Но теперь… Дан, они ведь, по сути, решили принести их в жертву, раз объявили здесь, что они здоровы и благополучны, что там их больше нет. И Растабелл среди них, вот этого я не могу понять…
— Почему?
Ответа он не получил: почувствовал, что кто-то оттесняет Еву от него, насколько это было возможно в плотной толпе. Не размышляя, Милов резко двинул рукой, почти наугад. Но в этой каше нельзя было ударить, как следует, и кулак лишь скользнул по чьей-то скуле. Ева, изловчившись, перехватила его руку.
— Дан, милый, это же Гектор, из Ю-Пи-Ай, это свой… Гектор, это Дан Милов, из России. Гектор, кто это вас так? Дан не мог… — Простите, Гектор! — заорал Милов, чтобы перекричать толпу. — Я было решил…
— Пустяки, Дан, то ли бывает. Вы от кого?
— Я тут в общем случайно.
— Жаль-обменялись бы информацией. Меня потрясло чудо с детьми: за несколько часов…
— Чистый блеф. А меня — то, что он сказал о плотине. Действительно — потоп?
— Плотина рухнула, как по заказу, с нее и началось, хотя терпение у людей давно было на исходе; я здесь третий год, и жизнь за это время не становилась легче…
Погодите, о чем он?
— …Сограждане! Еще одно усилие! И оно будет последним. Сотрем с лица земли, и плугом проведем борозду…
— Ну, программа изложена исчерпывающе. Знаете, Гектор, я, откровенно говоря, побаиваюсь.
— Ничего, выберемся…
— Я не об этом. Понимаете, такое напряжение ведь не только в Намурии. Легче сказать, где его нет: в Швеции и Швейцарии, может быть, А примеры заразительны. И если в других странах не начнут принимать серьезных мер".
— То есть, не прибегнут к армии?
— Глупости, Гектор. Серьезные меры могут быть лишь одни: немедленно жать на тормоза, наводить порядок в защите жизни от «Хомо Фабер», иначе мир может в несколько дней превратиться в черт знает во что… Вы уже ударили в свой колокол?
— Как бы не так! Нет связи, понимаете? Столько информации, и нет возможности передать…
— А Центр? — спросила Ева. — Там-то энергия, наверное, есть: станция своя, и радиоцентр — тоже…
— Я всегда говорил, что женщины умнее нас, — сказал Гектор; они говорили по-английски, и на них все чаще косились те близстоявшие, кто мог хоть что-то услышать, кроме не прекращавшегося рева толпы. — Давайте исчезнем, пока это еще возможно. И постараемся пробиться в Центр. Хотя не представляю…
— У нас тут рядом машина.
— Тогда я с вами. Берете?
— С радостью. Помогите Еве, Гектор, у нее нога. А я пойду ледоколом: меня сегодня еще не били. Ну — вперед!
* * *
Они опоздали на несколько секунд: уже вся масса людей устремилась в улицы, уводящие с площади, и троих просто-напросто потащило вместе со всеми. Противостоять потоку было невозможно. К счастью, их понесло по той же улице, по которой они пришли.
— Страхуйте Еву справа, иначе ее сомнут.
— Понял, Дан. Когда-то я умел…
Журналист и сейчас не утратил способности ввинчиваться в толпу решительно, но не грубо, без обострений.
Как течение выносит щепку в спокойную заводь, их вытолкнуло в подворотню. Двор был пуст, лишь дерево по-прежнему медленно умирало, и ему не легче было оттого, что судьба его наконец-то заинтересовала людей всерьез.
— Прыжки и гримасы, — пробормотал Милов. — Где машина?
— Наверное, там, где Граве, — ответила Ева, вытирая пот со лба. — У меня чуть не вырвали сумочку… О, да в ней кто-то успел похозяйничать!
— Пистолет?
— Цел: в кармане жилета. А вот кошелек…
— Выживем — разбогатеем. Как удалось Граве вырваться? Почему он не дождался нас? Хотя, может быть, он ни при чем, а машину угнали, чтобы сжечь; призывы здесь, похоже, осуществляются быстро.
— Дан, — сказала Ева. — Кажется, я смертельно устала, и нога никак не успокаивается. Пешком до Центра не добраться. Выход пока один: идемте ко мне.
— А там у вас машина? — с надеждой спросил Милов.
— Моя осталась в Центре, но другая, надеюсь, дома. Там можно будет подумать спокойно, для меня найдется неплохая аптечка. Гектор покачал головой:
— Я неплохо знаю Лестера, Ева. И, откровенно говоря…
— Его сейчас нет дома, — сказала Ева уверенно. — Дан, не размышляйте глубокомысленно. Поверьте: я права. Идемте. Теперь моя очередь возглавить шествие.
* * *
Улица, на которой они вскоре оказались, была застроена красивыми многоэтажными домами, теперь уже старыми, но по уроню удобств наверняка превосходившими те жилища, которые во множестве воздвигал нынешний век. Было нечто величественное в этих строениях, среди которых не было и двух одинаковых, но все вместе они выглядели архитектурным целым; объединяло их, кроме единой школы, и еще одно: ощущение неприступности, замкнутости, какой-то крепостной уверенности в себе…
Но сейчас незримые крепостные валы словно бы рухнули, и возле домов толпился народ, тяжелые, привыкшие стоять замкнутыми двери подъезда были распахнуты настежь, зеркальные окна — тоже, и уже летели на мостовую книги; некоторые падали тяжело, кирпичом, словно за годы стояния на полках книжных шкафов-семейных, переходивших из поколения в поколение, — листы их так срослись друг с другом, что уже не могли более разъединиться, как не могли разъединиться судьбы их героев или символы их формул; другие книги, как будто стараясь подольше удержаться в воздухе, а может быть, и вовсе улететь от ожидавшей их судьбы, раскрывались на лету и были похожи на подстреленных из засады птиц; третьи, самые старые, возможно, или более других читанные, уже в падении разлетались отдельными страницами, и можно было подумать, что кто-то швыряет сверху пачки листовок, чтобы донести до людей неизвестно чей яростный призыв… Внизу люди сгребали упавшие книги, сносили на руках, толкали ногами, прикладами ружей, громоздя кучу, и кто-то уже подносил к куче зажигалку, бережно прикрывая ладонью лисий хвостик пламени.
— Боже мой, боже мой, — бормотала Ева. — Книги, но зачем же книги — они же не вредят природе, почему же их…
— А почему же нет? — сказал Милов, криво усмехнувшись, — Где граница, до которой можно, а дальше — нельзя? Если можно убивать людей — почему же не жечь книги? Трудно бывает начать, но еще труднее — остановиться, особенно если катишься с кручи в каменный век…
— Ненавижу ваше спокойствие, — задыхаясь, проговорила она.
Тем временем еще другие окна распахнулись, и, вперемешку с книгами, стали грохаться на тротуары и проезжий асфальт радиоприемники, от карманных транзисторов до массивных настольных всеволновых суперов — один, маленький, угодил в голову кому-то из усердствовавших внизу — тот схватился рукой за поврежденный череп, сквозь пальцы проступила кровь, кто-то засмеялся, никто не подошел помочь; гулко взрывались выброшенные телевизоры; откуда-то волокли, кряхтя, аппарат телекса; из другого подъезда вышвырнули сильно, словно из катапульты выстрелили, человека — лицо его было в крови, он прижимал к груди пачку каких-то бумаг, их рвали у него, несколько раз ударили, швырнули на тротуар; там он сел, глаза его близоруко моргали, по лицу текли слезы, но обрывки бумаг он все же сжимал в пальцах… «Господи, — простонала Ева, у нее подгибались ноги, Милов и Сектор едва не силой тянули ее вперед, поддерживая с двух сторон, — это же поэт, я его знаю, мы здороваемся, его, наверное, спутали с братом, тот — ученый, но занимается астрофизикой, ну какой от нее вред природе?..»
Они подошли к дому, где жила Ева. Из дома тащили уже не книги, а книжный шкаф, старинный, резной, черный, одна дверца его все время открывалась, ее со злостью захлопывали, но она снова падала. «Это не ваш, Ева?» — спросил Гектор. Она медленно качнула головой, «Нет. У нас все современное, мы ведь здесь недавно…» Люди со шкафом застряли в подъезде, войти было невозможно. «Гектор, помогите им», — попросил Милов. «Чтобы я, своими руками?..» — «Именно вы, и своими руками: должны же мы попасть внутрь». Гектор выругался и пошел на помощь тащившим; те были хлипковаты, чего нельзя было сказать о корреспонденте. С его помощью шкаф выволокли, бросили на улицу, стали, усердно пыхтя, разламывать на доски. Гектор вернулся. «Чувствую себя подонком», — сказал он, снова взяв Еву под руку. «Зачем, зачем? — снова не проговорила, скорее простонала Ева. — Культура же не враг экологии, наоборот, зачем же они все это?..» «Когда же вы здесь, в вашем западном парадизе, научитесь понимать, что лозунг — одно, а действие — совсем другое», — с досадой пробормотал Милов. «Теперь, наверное, уже никогда, — ответил Гектор, — просто не успеем. По-моему, третий этаж, Ева?» «Третий», — подтвердила женщина безразличным голосом. Лифт, естественно, не работал. Милов поднял Еву на руки, сказал Гектору: «Идите вперед». На площадке второго этажа двое, один с дубовым листом добровольца, другой в полицейской форме, но без нашивок, преградили им дорогу. «Кто такие? Здесь живете?»-спросил доброволец. Полицейский молчал, внимательно глядя на Милова; Даниил опустил Еву, помог ей встать на ноги, чувствуя, что сейчас понадобятся свободные руки — тогда полицейский перевел взгляд на обезьяний галстук Милова — всмотрелся внимательно, словно там было написано нечто, — потом посмотрел Милову прямо в глаза. Гектор тем временем тихо и зловеще втолковывал добровольцу; «Ты что, сукин сын, не видишь — это мадам Рикс?» «А на ней не написано, какая она такая мадам, — не без некоторой наглости отвечал тот. Полицейский сдержанным и уверенным голосом произнес: „Пр-рапустить!“ „Слушаюсь!“ — немедленно ответил доброволец. Полицейский, все еще глядя в глаза Милову, едва уловимо качнул головой, чуть заметно приподнял плечи, Милов же не то, чтобы кивнул, но сделал какой-то неуловимый намек на такое движение. После этого он, поддерживая Еву, повел ее наверх. Гектор замыкал шествие. „Сейчас“, — сказала она и стала рыться в сумочке. Потом подняла глаза на Милова. „Наверное, вытащили вместе с кошельком… Господи, я устала, устала, не могу больше…“ — и заплакала. Милов смерил взглядом дверь — она была даже на вид массивной, не из тех, какие вышибают плечом или ногой с разбега. „Ничего, — сказал Милов, — не волнуйтесь, Ева, милая: сейчас все уладим“. Он перегнулся через перила. „Капитан, — крикнул он вниз, — поднимитесь, пожалуйста, нужна ваша помощь“. Человек в полицейском мундире поднялся по ступенькам. „Мадам потеряла ключ, — объяснил Милов, — дайте возможность попасть в квартиру“. „Но, господин по…“ Милов прервал мгновенно: „Это моя личная просьба“. Полицейский, не колеблясь более, вынул из кармана черную коробочку с кнопками, повозился с полминуты, открыл дверь — за ней оказалась другая, она тоже отняла несколько секунд. „Прошу“, — сказал он и отступил в сторону. Ева вошла, за ней Гектор, Милов задержался на мгновение. „Что тут? — спросил он капитана полиции. — Что-то еще можно сделать?“ Полицейский покачал головой. „Мы зашли в тупик, сейчас все порвано, обстановка неясная — пока стараемся уцелеть“. „Же — лаю“, — кратко попрощался Милов, потому что изнутри уже звала Ева: „Дан, ну где вы там!“ Он вошел, закрыл за собой обе двери. „На засовы, пожалуйста, — попросила Ева, — механика не действует“. Вслед за хозяйкой они вошли в обширную комнату, где она не села, а просто рухнула на широченный диван. „Сядем, передохнем, — сказал Гектор, — тут мы в безопасности“. Милов кивнул: он знал это лучше Гектор, однако говорить об этом счел излишним: это только его было дело и еще нескольких человек в этой стране (и капитана полиции-или бывшего капитана, черт его теперь знал) — и ничьим больше. „Понимаю, — сказал он, — раз тут живет Рикс, то и выставлена охрана, не так ли7“ „Если бы только Рикс! — усмехнулся Гектор. — Там, на втором этаже, где они стоят — сам Мещерски!“ „Ах, да, Мещерски, — сказал Милов с понимающим видом, — ну, конечно, как же я сразу не подумал! Кстати, а кто такой этот Мещерски?“ Тут они оба расхохотались. „Нет, Дан, в покер с вами я не сяду, — сказал, посмеявшись, Гектор, — я было и вправду поверил, что вы в курсе всех дел, Мещерски — это тот, кто выступал на площади вслед за Растабеллом. Глава добровольческого движения, председатель партии борьбы за жизнь, и так далее“. „Высоко залез, — сказал Милов. — Судя по фамилии, он мой соотчич? Из эмигрантов, что ли?“ „Нет, не думаю, чтобы он был русским — возможно, кто-то из предков, но вообще-то он свой род ведет, по слухам, от каких-то греков, или из тех краев, во всяком случае“. „Интересно, — проговорил задумчиво Милов, — деятель культуры и глава штурмовиков — в одной упряжке?..“ „Ну, это до поры до времени, — уверенно промолвил Гектор, — Растабелла они сразу же, как только утвердятся у власти, ну, не то, чтобы выкинут, но сделают из него — как это у вас, русских, называется — образец…“ „Образ, — поправил Милов, — икону, вы это имели в виду?“ „Вот-вот, и будут ему поклоняться, но делать-то станут по-своему“. „Ясно, — сказал Милов и встал. — Ева, — позвал он осторожно; женщина лежала с закрытыми глазами и отозвалась лишь на повторное обращение. — Вам что-нибудь нужно?“ „Спасибо, Дан, ничего, я просто полежу, только, если можно, снимите с меня ваши туфли — я вам очень благодарна за них, но теперь я уже дома“. Милов осторожно снял с нее туфли. „Ева, с ногами нужно что-то сделать. Где тут поблизости живет врач?“ „Не нужно врача, в ванной откройте аптечку, там есть такая коричневая туба с мазью — это все, что нужно“. Милов не сразу (жилище было обширным) нашел ванную, принес требуемое, выдавил мазь на пальцы, осторожно начал втирать. „Как приятно, — тихо проговорила Ева, — еще, пожалуйста… и вторую тоже…“ Это заняло минут пятнадцать; Гектор тем временем, сперва поглядев на них с иронией, закрыл глаза и, кажется, задремал. „Я еще полежу немного, — сказала Ева, — а потом чем-нибудь покормлю вас“. Милов и в самом деле почувствовал, что закусить было бы не лишне. Услышав о еде. Гектор мгновенно открыл глаза. „Кстати, о еде — а где у вас телефон? Серьезный, я имею в виду“. „В его кабинете, — сказала Ева бесцветным голосом, — из холла по коридору прямо, в самом конце“. „Да не работают телефоны, Гектор, — напомнил Милов, — тока ведь нет“. „Ну, — сказал Гектор, — правил без исключения не бывает, это-то вам известно?“ „Тогда я с вами“, — сказал Милов. Он снова подошел к Еве, погладил ее по голове-она слабо улыбнулась. Гектор уже вышел, чтобы, по журналистской привычке, первым захватить связь. „Дан, — тихо сказала женщина, — вы меня презираете?“ „За что, Ева?“ „Ведь Рикс — мой муж, вы знаете… И он во всем этом играет какую-то роль — похоже, немалую, Но я не знала, и сейчас не знаю, честное слово…“ Милов пожал плечами. „Ну, и что? Почему вы должны стыдиться своего замужества? Я вот тоже был женат, и надеюсь, что вы простите мне это: тогда я ведь не знал вас…“ Он ожидал, что она снова улыбнется, но женщина оставалась серьезной.»Рикс, — повторила она, — он ведь тоже стоял там, на балконе, по соседству с Растабеллом и Мещерски…" Милов присвистнул. «Но какое отношение он, иностранец, может иметь…» «Я не знаю, как и что, — сказала она, — честное слово, хотя и знала, что у него есть какие-то дела с политиками-но ведь деловому человеку без этого нельзя. Но я не предполагала, клянусь вам…» «Ева, — серьезно сказал Милов, — я тоже клянусь вам, что никогда не стану целоваться с Риксом». На этот раз она все же подняла уголки губ. «А со мной?» Милов нагнулся и поцеловал: поцелуй был долгим. «Идите, — сказала она, — не то моего терпения не хватит».
Он прошел в кабинет. Гектор сидел за обширным пустым столом. Тихо звучал транзисторный приемник; передача шла на английском языке. Кроме приемника здесь были два телефона, стоял телекс, факсмашина,на отдельном столике — персональный компьютер, по стенам — закрытые полки с видеокассетами и дискетками. Гектор нажимал клавиши одного из телефонов. Окна были зашторены, шум улицы сюда не доносился.
— Ну, есть успехи?
— Вот этот аппарат дышит. Остальное мертво.
— А компьютерная связь?
— То же самое. Звоню всем подряд. Аэропорт, вокзалы, телевизионный центр — все молчат. Ни междугородный, ни международный каналы на действуют, Впечатление такое, что все телефоны в городе выключены — кроме таких вот, особых, Это специальная линия, с питанием от установки в Министерстве порядка.
— Но ведь эти, работающие, должны для чего-то служить?
Гектор не успел ответить: телефон зазвонил — негромким, приятным жужжанием.
— Не снимайте, — поспешно сказал Милов. Гектор кивнул. Телефон прожужжал несколько раз и умолк.
— Кому-то нужен Рикс, — сказал Милов.
— Вероятно, Рикс должен скоро явиться, — сказал Гектор. — Это было бы некстати.
— А может быть, он сам разыскивает жену?
— Если так,то теперь он знает, что ее нет дома.
— Кстати, что вы успели услышать по радио?
— Сообщили, что связь со страной прервана и граница закрыта. Больше никто ничего не знает: ни Рейтер, ни ваш ТАСС, ни, естественно, Ю-Пи-Ай — поскольку я сижу здесь и молчу. Значит, ни у кого нет связи, не только я один страдаю.
— Попробуйте позвонить еще. Может быть, в префектуру?
— Мысль не банальна. Спрошу хотя бы, какие возможности связи будут предоставлены иностранным корреспондентам.
— Постойте… Если префектура работает, там в два счета установят, откуда вы звоните.
— От Рикса, не откуда-нибудь.
— Не годится. Если вы рядом с Риксом, то он знает больше, чем сам префект — вам не понадобилось бы звонить.
— Верно. Значит, у нас остаются две возможности выйти на связь: через армию или научный центр. Надо спешить, Милов, не то во мне крепнет ощущение не просто дармоеда, но плохого журналиста, а я всю жизнь считал себя хорошим… Что там, на улице? Милов подошел к окну, отодвинув штору.
— Работают вовсю.
— То есть жгут?
— В лучших традициях.
— Жутковато становится, честное слово… Не знаю, как вас, Дан, а меня успокаивает лишь то, что у нас это было бы невозможно.
— Не знаю, Гектор, не знаю. Конечно, у вас великие демократические и гуманные традиции и все такое прочее, однако люди везде боятся за свою жизнь, людям всюду надоела расправа с миром, в котором мы живем, и людям повсеместно осточертело, что правительства много говорят, еще больше обещают, но слишком мало делают для того, чтобы цивилизация перестала быть смертоносной. И вот под знаменем борьбы с этими уродствами людей можно повести в конечном итоге на что угодно.
— Хорошо, — Гектор встал. — Я понял, что работать мы должны каждый в своем напраалении: так больше шансов. Я попробую договориться с военными.
— А я поспешу в Центр. Постараюсь не опоздать.
— Боитесь, что там будет жарко?
— Уверен в этом. Но что делать?
— Вы правы. Но только — Дан, не обижайтесь, вроде бы и не мое дело, однако, хочу сказать вам… Не тащите женщину на гибель. Да-да, Еву, не делайте большие глаза, тут и слепой бы все увидел. Я понимаю — она сама хочет, там ее пациенты, и так далее. Но все они-все, кто есть и еще окажется там — скорее всего, обречены: вы же слышали речь и видели толпу. Зачем же лишние жертвы?
— Простите, Гектор, но вы не понимаете…
— Да все я понимаю, я же вам сказал… Но вот именно поэтому — не берите греха на душу. Вы малый прочный и, надеюсь, выкрутитесь, а если и нет — что же, все от Бога; но вот она… Так что я вам всерьез советую: уходите, пока она еще не пришла в себя, Иначе вам ее не удержать, а без вас она, быть может, и на рискнет, а может, муж удержит…
— Вы правы, Гектор, — сказал Милов, помолчав. — Тогда объясните — как мне добраться туда кратчайшим путем. Я плохо знаю город, вернее — почти совсем не знаю, На листке блокнота Гектор набросал схему.
— Вы легко разберетесь. Двинете пешком?
— Как получится.
— Сейчас пешком проще. Милое кивнул и сказал:
— Давайте-ка и мне листочек.
Не садясь, он написал: «Ева, дорогая. Вам лучше пока побыть дома. Я навещу Центр и вернусь. Берегите себя». Он покосился на Гектора и дописал: «Целую. Ваш Дан». Проставил время.
Он на цыпочках вошел в комнату, где лежала Ева. Она спала, постанывая во сне, один раз скрипнула зубами. Милов постоял, глядя на нее, борясь с искушением подойти. Туфли — его, миловские — свалялись рядом с диваном. Их он подобрал, чтобы потом, в холле, переобуться. Записку сложил пополам, домиком, и поставил на низенький круглый стол близ дивана. Еще раз посмотрел на Еву. Вдруг усмехнулся, снял свой дивный галстук, — теперь он уже не нужен был, — и тоже положил на стол по соседству с запиской; эту пеструю тряпку она заметит во всяком случае — и улыбнется… Повернулся и вышел. В холле переобулся, взял прислоненный к стене автомат, закинул за спину.
— Вы обещали мне пистолет, — напомнил Гектор. Милов вынул из глубокого кармана армейский, позаимствованный на бензозаправке.
— Постарайтесь при случае раздобыть что-нибудь более убедительное, — посоветовал он.
— Вроде этого, вашего?
Они тихо затворили за собой обе двери. На втором этаже по-прежнему дежурили. Гектор сказал строго:
— Мадам остается дома. Господин Рикс скоро прибудет. Так что будьте внимательны.
Он начал спускаться. Полицейский сказал своему напарнику: «Проводи господ, чтобы там — сам понимаешь…» Доброволец щелкнул каблуками и последовал за Гектором. Тогда полицейский проговорил едва слышна:
— Колонель…
Милов посмотрел на него взглядом, выражавшим абсолютное непонимание.
— Простите, офицер, вы и тогда уже что-то говорили мне, но, боюсь, что приняли меня за кого-то другого. Извините, я спешу.
— Прекрасная погода на дворе, не правда ли? — спросил капитан полиции вместо ответа. Милов прищурился:
— Вы полагаете, можно не-брать зонтика?
— Разве что от солнца. Милов напрягся:
— Слушаю. Докладывайте.
— Капитан Серос, из Службы. Мы вас ждали еще вчера, я опознал вас по галстуку.
— Вчера я попал в охоту.
— Вам просто не повезло: вы видите, что здесь происхо-дит. Полиция, по сути, распущена, армия стоит в сто-роне… Но даже вчера было бы уже поздно. Все мыопозда-ли, Но главное — мы ошибались: по цепочке шел не наш товар. Мы не успели выяснить, что именно перевозили, но только не нарки. Теперь цепочка порвана. Будут приказа-ния, колонель? Милов пожал плечами.
— Цепочку я видел — обрывки… Не знаю, капитан. Старайтесь выжить, не влезая в эти дела слишком глубоко — вот все, что могу посоветовать.
— Голова идет кругом… — пожаловался полицейский. — А вы попытаетесь выехать?
— Капитан! — сказал Милов с упреком: начальство, как известно, не спрашивают. Повернулся и заспешил вниз.
Гектор ждал в подъезде. Добровольца не было видно.
— Что у вас там за секреты? — подозрительно спросил журналист.
— Ну, какие у нас могут быть секреты, — сказал Милов. — Просто хотел уточнить дорогу.
— Ладно, не хотите — не говорите, — обиженно проговорил Гектор. — Зато я тут узнал еще одну интересную новость. Этот доброволец — фром, понимаете?
— Да будь он хоть папуасом…
— Вы не понимаете ситуации, Дан. Понимаете, оказывается, фромы под шумок решили отделиться от Намурии, раз все идет вверх дном…
— Я же вам говорил: экологические кризисы порой принимают странные формы, — усмехнулся Милов. — Ну, двинулись?
Они вышли на улицу. Там было дымно. Гектор сказал:
— Будем живы — встретимся.
— Все бывает, — сказал Милов, И они зашагали — каждый в свою сторону.
* * *
Милов шел по тротуару тем обманчивым шагом, какой кажется неторопливым, но на самом деле позволяет развивать немалую скорость. С дубовым листом на рукаве, с автоматом за спиной он ничем не отличался от большинства других людей на улице; те жители, у которых не было ни листьев, ни оружия, ни желания участвовать в происходящем, отсиживались, надо полагать, в домах, надеясь, что происходящее их не коснется. Костры из книг чадили, зато мебель, тоже выброшенная кое-где под горячую руху, горела весело. Интересно, — думал Милов, спокойно вышагивая, — очень даже интересно… По правилам мне действительно надо как можно скорее покинуть страну — мне здесь больше делать нечего, как должностному лицу. Но вот как человеку… Если ты человек, то не можешь так просто сказать себе: это не моя страна, не мой народ, это их внутренние дела, меня вся кутерьма совершенно не касается, пусть жрут друг друга, если это им нравится — главное, чтобы у меня дома все обстояло благополучно… Не можешь хотя бы потому, что нет больше домов-крепостей, и все, что происходит в одном, завтра перекинется и на другой, в наши дни всякий политический процесс подобен если не чуме, то уж во всяком случае СПИДу, и сколько ни кричи «у нас этого нет» — завтра же убедишься, что — есть, и еще сколько… Нет, удрать сейчас — это не для меня. Но, значит, надо становиться на чью-то сторону. А на чью? Я и сам считаю, что наука с техникой вместе с политическим руководством виноваты, беспредельно виноваты — не думали, не хотели предвидеть последствий, полагали, что нашли путь к счастью, а на деле предавались эгоистической эйфории безответственного создавательства, а создавательство не имеет права быть безответственным и бесконтрольным, порнография существует не только в искусстве, но и в науке, в прикладной науке, и уже тем более — в инженерном творчестве. Надо было вовремя схватить за руку — никто не схватил; поэтому теперь хватают за горло, чтобы задушить. И ведь задушат, рука не дрогнет. Постой, по сути дела, ты сам себе и от собственного имени излагаешь программу Растабелла? Выходит, так. Значит, ты на их стороне-? Да нет же! Ну, а почему же? Он прав, а ты против него — означит, ты неправ?
Да нет, не так просто, — ответил он себе. — Потому что ты отлично понимаешь: Растабелл прав, но борьба сейчас идет не за Растабелла или против него; идет самая обычная, примитивная борьба за власть, причем не демократическая, а борьба за диктатуру, за власть фашистского типа, природа же пригодилась, как лозунг, только и всего. Думаешь, новое правительство, утвердившись, сразу же станет заботиться о природе? С первого взгляда можно подумать, что таи и будет: заводы не дымят, что-то уже взорвано… Но интересно; что именно оставлено, что именно взорвано, а что просто приостановлено на денек-другой? Это же крайне сложно: людей-то кормить все равно надо, и если ломают одну систему кормления, ее надо заменить другой — а кто об этом слышал? Вот интересно, а деловые интересы того же Рикса при этой операции пострадали? Не верю. Просто мы предполагали, что Рикс оперирует по-крупному наркотиками, а оказывается, у него был другой бизнес, и мне очень интересно — какой же, и что ему это дает…
Он бессознательно изменил направление, чтобы обойти лежавшего на мостовой убитого, вымазанного кровью; лицом мертвец походил на еврея. Ну да, — подумал Милое, — без этого никак нельзя, как же без этого…
Он шел мимо магазинов, больших и маленьких; большинство было закрыто, но некоторые все же торговали — булочные, овощные, мясные лавки, те, где товар не мог ждать. Покупали немногие: никто, похоже. не собирался делать запасы. Да, поотвыкали, — подумал Милое. — И еще не поняли, что такое для их страны остановка гидростанции и затопление; вот что значит — нет информации. Надеются на помощь остального мира? Поможет, конечно — если только в остальном мире не начнется тоже самое. А если…
Он понял, наконец, что окликают его — и, кажется, уже не в первый раз; окликали по-намурски, так что он как-то не принял на свой счет, выпал на несколько мгновений из реальности — и только когда его дернули за рукав, сообразил. Остановил его доброволец, у которого кроме дубового листа на груди была еще и узкая зеленая повязка на рукаве; видимо, был он каким-то начальником. Начальник сердито смотрел на него, сурово выговаривая; из его слов Милов понял — хорошо, если четверть, однако уразумел, что ему следовало присоединиться к стоявшей посреди улицы группе человек в двадцать, кое-как вооруженных — они старались образовать какое-то подобие воинского строя. Никакого другого решения мгновенно не пришло в голову, и Милов поспешно проговорил: "Юр, юр — то есть «да, да» — в значении этого слова у него сомнений не возникало, — и присоединился к группе. Начальника это, кажется, совершенно удовлетворило. Он строгим оком оглядел строй, громко скомандовал — и отряд двинулся, Милов шагал в последней шеренге. Глупо, конечно, — думал он, — ну, а что другое оставалось? Знать бы язык как следует — я бы ему, понятно, втер очки, а так… Пуститься наутек? Сопротивляться? Несерьезно, несерьезно… Ладно, помаршируем. Давно не приходилось. Но эта наука вспоминается быстро. Пока воинство идет, кажется, в том направлении, куда и мне нужно. Легион спасения планеты… А может, они и действительно направляются в Центр? Ломать приборы, убивать чужестранцев? Он покосился на соседей по шеренге. На убийц они походили так же мало, как и на солдат. Не люмпены, не хулиганы, не пьянь — все они были, судя по облику, добропорядочными гражданами, приличными и наверняка по сути своей миролюбивыми — из тех, что живут, стараясь не обижать других, хотя и не позволяют, — чтобы их самих обижали; нормальный продукт демократии… И вот они шли, быть может, убивать, и не потому шли, что их гнали, но были наверняка убеждены в своей правоте, в том, что все, что им предстоит совершить — необходимо, неизбежно и, главное, справедливо… Рядом с Миловым старательно маршировал человек, ну, скажем, второго среднего возраста, почти совсем лысый, в золотых очках на носу; на плече он нес старинное, наверняка коллекционное, музейное ружье, которое если и стреляло, то в последний раз, пожалуй, не менее двухсот лет назад; приклад и ложе были инкрустированы красным деревом и перламутром, зато ремня не было, багинет тоже отсутствовал. Человека этого можно было бы принять и за скромного труженика науки — но тех наверняка не было в строю, нынче они были дичью. Сосед перехватил взгляд Милова и спросил по-намурски нечто, чего Милов не понял и попросил повторить помедленнее. Сосед улыбнулся и легко перешел на английский:
— Мне так и показалось, что вы иностранец. Ничего иного не оставалось, как кивнуть.
— Англичанин? Американец?
— Ну, собственно…
— Я так и понял, — удовлетворенно кивнул сосед. — У меня не очень хорошее зрение, но людей я различаю сразу. Что же, весьма приятно, что вы с нами. Это даже, я бы сказал, в какой-то мере символично.
Милов не стал выражать сомнения, лишь промычал нечто-при желании звук можно было принять за подтверждение.
— Много лет все беспорядки шли от вас, — сказал сосед. — Из Америки.
— Разве? — улыбнулся Милов. — Я понимаю еще, если бы вы сказали — из России…
— Ну, уж это сама собой разумеется! Но вся эта машинизация, ведшая к уничтожению природы, а значит — и нас с вами… Ведь порядок — это гармония, человек всегда должен жить в гармонии с природой, но вы это забыли-хотя был ведь у вас Тора, но вы им пренебрегли, не прислушались… А то, в чем мы с вами сейчас участвуем — отнюдь не беспорядки, напротив, это восстановление исконного порядка, возврДщение к нормальной жизни, а следовательно, и к нормальной морали, этике, уважению к человеку,..
— Как-то это не вяжется с трупами на улицах — вы не считаете?
— Разумеется, это прискорбно. Крайне прискорбно. Но ведь согласитесь; гниющую ветвь отсекают, хотя на ней может сохраниться и несколько еще здоровых листочков.
— Возврат к нормальной жизни, — проговорил Милов. — В таком случае, те, кто ведет нас, вероятно — люди высоких душевных качеств, а не просто защитники природы?
— Ну конечно же! Растабелл…
— А Мещерсни? Рикс? Вы простите мне мое невежество, но я и в самом деле, горячо сочувствуя идее спасения мира, не очень осведомлен о тех, кто возглавляет движение здесь, в вашей прекрасной стране.
Они молча прошагали с минуту, прежде чем сосед ответил:
— Я понимаю, на что вы намекаете. Вы хотите сказать, что во главе движения встали, кроме чистых душ, подобных Растабеллу, еще и некоторые политиканы, а также деловые люди, Конечно, это несколько омрачает… Но согласитесь, что всякое дело должны совершать специалисты, иначе оно обречено на провал. Мы, друзья и защитники природы, к сожалению, не всегда обладаем нужными способностями, и еще менее — опытом. Мы умеем насаждать сады и леса, поверьте. Но для этого нам нужно дать такую возможность, сами мы создать ее не умеем, увы. Ведь моментально возникает сложнейший узел проблем, чье разрешение доступно лишь профессионалам. Да, разумеется, от нас не укрылось, что на первый план в движении выходят люди действия. Но мы не препятствовали, потому что они несли наши знамена, а не наоборот. Они делают необходимое дело: расчищают место, на котором потом будет посажен — и вырастет зеленый, шумящий, животворный лес. И вот тогда-то настанет наша пора!
— То есть, люди действия отойдут в сторону и предоставят руководить вам?
— Разумеется, я не имел в виду себя лично, я всего лишь нотариус… Но, конечно, главную роль станут играть те, кто сумеет организовать восстановление природы и жизнь на новых, разумных основах.
— Ученые? Однако, разве не против них мы с вами выступаем сейчас?
— Ну, не поголовно же всех… Ботаников, зоологов и тому подобных мы стараемся сохранить.
— И это удается?
— Ну, знаете, — сказал сосед, чуть нервничая; прежде чем продолжить, он попытался пристроить ружье на плече поудобнее: рука, видимо, устала и вместе с прикладом сползала вниз. — Конечно, что-то могло получиться не так… Люди разгорячены, разгневаны, чаша терпения переполнилась… Но все же мы стараемся.
— Значит, руководить будут ботаники с зоологами?
— Да! И мы создадим общество гармонии с миром.
— Да, — сказал Милов. — Вы жили в демократической стране — пусть и не в самой, но все же… И у вас никогда не было фашизма какой бы то ни было расцветки. А раз вы не знаете, не испытали, что это такое…
— Простите, что вы имеете в виду? Тут раздался громкий окрик — даже не разобрав слов, Милов по одной лишь интонации понял, что сказано было нечто вроде «Разговорчики в строю!». Сосед, видимо, понял больше и умолк.
Они зашагали молча. Но третий в шеренге, все время топавший с мрачно-сосредоточенным видом, — вооружен был он автоматом, как и Милов, — наверное, тоже хоть что-то понимал по-английски, и теперь вдруг заговорил, громко и сердито, словно ему на запрещение было наплевать.
— Ну, и что, — говорил второй сосед, — если маши командиры потом не захотят отдать власть? Они умеют руководить, они сохранят и страну, и нас, и вырвут с корнем все сорное семя. Они-сила, а что смогли ваши либералы и демократы? Довели до того, что пришлось взяться за оружие! Милов с усилием подобрал слова для ответа:
— А вы понимаете, что есть фашизм? Что фашизм неизбежно уничтожает людей: некоторых — физически, но всех — мораль-но?
— Не всякую силу надо называть фашизмом, — убежденно сказал автоматчик, — и не всякое стремление к чистоте нации — расизмом. И если охранять законы можно при помощи жестокости, и будущее нации — при помощи силы, то пусть будет жестокость и пусть будет сила!
Кажется, убежденность автоматчика заразила и нотариуса, все более изнемогавшего под тяжестью своей фузеи, так что он не удержался, несмотря на страх перед запретом: Да! — подтвердил он. — Природу уничтожали силой — и лишь при помощи силы ее можно восстановить!
Да, — подумал Милов, когда после второго, еще более свирепого окрика они замолчали окончательно; да, все просто, и не опровергнешь. Все логично: надо обуздать науку и технику, чтобы сохранить планету и самих себя, а чтобы обуздать — необходима сила, и вот она, сила… Судя по истории, демократия быстро восстанавливается после крушения фашизма, но боюсь, что и фашизм может не менее быстро восстановиться после крушения демократии — под лозунгом наведения порядка в чем угодно. А ведь при демократии абсолютного порядка всегда и во всем быть не может: чем выше уровень демократии, тем сложнее, а не проще, становится общество, вопреки чаяниям утопистов; а в сложной системе возможность какой-то частной неполадки всегда больше. Это фашизм стремится упростить общество: так ему легче править; но сложное демократическое общество всегда содержит какой-то процент любителей железного порядка, прямо-таки машинного, — хотя тут сейчас именно против машин и выступают, — они согласны жить и поступать от и до, но чтобы и все остальные жили и поступали точно так же; и что за беда, что тем самым пресечется всякое развитие?
Додумывая эту мысль, Милов пропустил команду и налетел вдруг на шагавшего впереди: отряд остановился. Передний, однако, даже не выругался, только передернул плечами. Остановка могла означать, что сейчас начнется что-то конкретное, дело дойдет до оружия — и людям делалось не по себе, потому что почти все они никогда не были солдатами и не привыкли к тому, что убийство может быть священным долгом, а не преступлением против личности. Если бы армия выступила на стороне законного правительства, — размышлял Милов, — если бы, конечно, такое правительство существовало — я бы на все это ополчение не поставил и пяти копеек. Но армия пока бездействует, может быть — просто ждет, пока вся грязная работа не будет сделана энтузиастами, а потом возьмет власть — легко, одной рукой возьмет, — и настанет военная диктатура. Только вот армия, придя к власти, станет ли задумываться о сохранности природы? Будет ли искать равнодействующую между интересами природы — и человека в ней, искать компромисс? Диктатура, все равно, гражданская или военная, компромиссов не любит…
— Что? — переспросил он, не расслышав сказанного его очкастым соратником.
— Я говорю: слава Богу, пока только остановка для соединения с другим отрядом.
Милов посмотрел. Вблизи стояла еще одна группа таких же добровольцев, более многочисленная — ничем другим она не отличалась, и воины в ней были такого же, солидного уже, возраста.
— Скажите, — повернулся он к нотариусу, — неужели защита природы интересует только людей зрелых? Где же молодые люди?
— О, вы ошибаетесь. Просто у них свои отряды. Согласитесь, что это разумно: у них и сил побольше, и темперамента… Не беспокойтесь, они уж не останутся в стороне!
Да, организация и в самом деле была неплохо продуманной.
И командиров, видимо, подобрали заранее. Милов поглядел на того, кто командовал их отрядом — сейчас тот, повернувшись к строю спиной, разговаривал с другим человеком, тоже носившим красную повязку на рукаве. Казалось, по их жестикуляции, оба в чем-то не соглашались, но вот пришли, наконец, к единому мнению, повернулись и медленно пошли вдоль фронта прибывшего отряда; когда строй повернулся направо, Милов оказался в первой шеренге. Командиры приближались, и Милов все более пристально всматривался в того, другого. Что-то было в нем очень знакомое, очень… Что-то… Граве! — подумал Милов изумленно. — Черт бы взял, это же Граве!..
* * *
Да, именно Граве то был, живой и здоровый, с командирской повязкой на рукаве и пистолетом за поясом-тем самым пистолетом, что Милов оставил в машине. Ну, молодец, — подумал Милов, весело глядя на товарища по скитаниям, — всех нас за пояс заткнул. Зря я боялся, что он спятил необратимо — видимо, нервная система крепкая, психика устойчивая, погоревал, пережил, понял, что не рыдать надо, а дело делать — и уехал, не стал дожидаться нас. Нехорошо, конечно, с его стороны, но при таком раскладе трудно его упрекнуть. Зачем только он полез в добровольцы? А куда еще? — сам себе ответил Милов. — Вот и сам я, получается, пошел же. Если он не один тут такой — это хорошо, люди здравомыслящие крайностей не допустят, сыграют, может быть, роль этакого тормоза. Да увидь же ты меня, увидь, нам с тобой обоим в Центр надо, спасать людей, предупредить об опасности, выйти на связь со всем миром…
Граве увидел его, когда был уже почти рядом. Остановился. Долго смотрел на Милова, и на губах его возникло даже нечто вроде улыбки — но не более того, а Милов-то ожидал, что тот ему чуть ли не на шею бросится. Хотя — какие могут быть нежности в воинском строю… Граве повернул голову ко второму командиру, негромко сказал что-то; пожал плечами и кивнул. Тогда Граве скомандовал громко, по-намурски:
— Милов, выйдите из строя, подойдите ко мне!
Милов вышел с удовольствием — по всем правилам, «дав ножку», приблизился, щелкнул каблуками.
— Ну что ж — поехали, — сказал Граве.
— Куда? — осмелился спросить Милов.
— Туда, куда вы и хотели попасть. Вот и прекрасно, — подумал Милов. — Все же молодец он. Кто бы подумал: казался, в общем, божьей коровкой, пистолета взять не хотел — и на тебе, командует отрядом и собирается, похоже, делать именно то, что нужно.
— Слушаюсь! — ответил он громко. Граве зашагал первым, не оглядываясь. Свернули за угол. Там стояла машина — та самая, наследие покойного Карлуски. Завидев ее, Милов обрадовался, словно встретил старого, доброго знакомого.
— И как это у вас ее не отобрали? — весело спросил Милов.
Граве ничего не ответил, только покосился на Милова, глаза его странно блестели. Под газком? — подумал Милов. — Для смелости, что ли? Ну, если и принял, то не много.
— Еву я доставил домой, — сказал Милов; вовсе не обязательно было ему отчитываться, командирская повязка Граве была, по разумению Милова, такой же липой, как и его собственный листок на груди. Однако, должна же была интересовать Граве судьба их спутницы в ночных приключениях. Граве на сей раз откликнулся — что-то пробормотал. Милов переспросил:
— Простите?
— Я говорю; все равно, — ответил Граве погромче. Он сел за руль, кивнул Милову на первое сиденье. А больше сесть и некуда было: сзади на сиденьи и на полу машины что-то лежало, укрытое сверху брезентом. Повернувшись, Милов хотел, любопытствуя, приподнять брезент. Граве резко осадил его:
— Это не трогать!
Милов пожал плечами. Играем в секреты? Ладно, все равно, приедем — увижу; ясно же, что инженер везет что-то для Центра.
Граве вел машину не быстро, повороты брал плавно, старательно объехал выбоину, что попалась на пути — то была, впрочем, одна-единственная на всей дороге.
Въехали в промышленный район; по сторонам, за бесконечными бетонными заборами тянулись фабричные корпуса, многоэтажные заводские строения, старые и новые, но все — крепкие, добротные; складские помещениям — и капитальные, и легкие металлические полуцилиндры, на которых отблескивало давно уже прошедшее зенит солнце; порой улицу пересекали железнодорожные рельсы подъездных путей — на переездах Граве был особенно осторожен, проезжал их со скоростью пешехода, хотя рельсы шли заподлицо с мостовой и толчков ждать не приходилось. Ни деревца не было вокруг, ни кустика, ни травинки даже, пусть и убогих, умирающих, как в жилой части города: здесь цивилизация победила безоговорочно, чтобы теперь умереть. Хотя пока это была еще, пожалуй, не смерть, скорее летаргия, и пробудить уснувших оказалось бы делом нетрудным — было бы желание. Интересно все же, — подумал Милов, — люди-то что будут делать? Те, что еще вчера здесь работали? Разрушить до основаниям — работа простая, но ведь потом надо и строить что-то? Можно, конечно, и города разрушить, и всех на землю посадить — но — ведь и тут профессионализм нужен, да и земли свободной нет, значит, нддо ее отнимать у кого-то — может быть, конечно, есть у них уже какой-нибудь теоретически изящный проект, который на практике, вернее всего, ничего не стоит… Нельзя ведь «назад к природе», можно только — вперед к ней…
— Интересно, как теперь будет использоваться все эти корпуса — спросил он вслух.
— Никак, — ответил Граве, не отводя глаз от дороги. — Их просто взорвут. Разве не слышите? Я потому поехал этой дорогой, что здесь это начнется позже.
— Почему вы думаете, что взорвут?
— Не думаю — знаю. Растабелл сказал.
— Я слышал его речь, но не помню…
— Это он мне сказал. Мне.
Заговаривается? — подумал Милое. — Может, он все-таки… — Громко же сказал:
— Ну, на все взрывчатки не хватит.
— Вы думаете? — равнодушно спросил Граве; так говорят просто, чтобы не прерывать разговора, не более того.
— Да тут и думать нечего.
— Ну, почему же, — сказал Граве. — Думать всегда есть о чем — если человек умеет думать…
Город заканчивался, мимо проскальзывали унылые пустыри, где еще ничего не успели построить. Дальше пошли хилые, хворые рощицы, два или три раза машина по аккуратным, чистым мосткам проскочила над ручьями-вода их отблескивала радужной пленкой, и в эти ручейки кто-то что-то сбрасывал — дерьмо хотя бы, если не было ничего другого. Окрестность выглядела, как давно брошенное жилье, в котором воцаряется запустение — однако же люди здесь жили, на всей планете люди — то ухитрялись жить…
— Когда-то, — неожиданно заговорил Граве, — тут шумели леса. В них жили олени. Вы хорошо стреляете, Милф?
— Хотите предложить охоту на оленей?
— Кто-нибудь предложит. Кому-нибудь. Не сейчас, конечно. Но тут снова вырастут леса. И в них будет жизнь.
— И тогда вы снова повезете меня по этой дороге и скажете…
— Нет, — сказал Граде все так же равнодушно. — Я не повезу. И не скажу. Да и никто другой вас не повезет.
— Понимаю: машин не будет. Но воскреснут лошади…
— Лошади воскреснут. А вот мы с вами — никогда.
— Ну, не так уж мы стары, чтобы не дожить…
— Мы не стары, — сказал Граве. На шоссе он немного прибавил скорости, но по-прежнему был осторожен и внимателен. — Мы не стары. Мы мертвы, Милф. Неужели вы не понимаете?
— Нет, — честно сказал Милов. — Не понимаю. После этого еще несколько километров они проехали в молчании.
— Мы мертвы, — сказал Граве, словно решив посвятить спутника в некую, ему одному ведомую тайну, — потому что мертвы те, кого мы любим.
— Я очень, очень сочувствую вам, Граве, — сказал Милов искренне.
— Как и я вам.
— Мне?
— Потому что Ева тоже мертва.
— Что за вздор! Я сам привел ее домой, я же говорил вам! И там была охранам. Кто решился бы убить жену Риста? — Бред!
— Я.
— ВЫ?!
— Я сам пришел к ней. Потом, уже после вас. И убил ее; теперь вам ясно?
— Вы с ума сошли! — пробормотал Милов; ничто другое не подвернулось на язык.
— Может быть, да. А может, нет. Какая разница?
— Врете, Граве!.
— Зачем?
Сейчас я убью его, — со странным-спокойствием подумал Милов. — Просто задушу. Своими руками. Пусть он врет — за одно уже то, что такая мысль возникла в его безумной голове. А если не врет? Господи, что же это делается, что делается в нашем сумасшедшем мире…
— Граве, если это правда — почему?
— А почему убили мою жену?
— Если хотите знать — потому, что она была ввязана в мощную контрабандную сеть…
— Да, Теперь я это знаю. Как и то, что вы никакой не турист, а агент, ушедший по их следам…
— Кто сказал вам?
— Лестер Рикс. Я пришел к нему и потребовал ответа: за что? Я хотел убить и его. Но ом мне все объяснил. Ничего не случилось бы, если бы вы не шли по следам.
— Не во мне дело, Граве.
— Не объясняйте: я теперь знаю все. Вы — охотник за наркотиками. Но ведь не их ввозили сюда, Милф. Везли совсем другое.
— А что же, в таком случае? Косметику? Электронику? Бросьте, Граве, не рассказывайте сказок. Граве усмехнулся.
— Нет, Милф, не косметику, тут вы правы. Пластик. Взрывчатку — Теперь машина шла километров на сто с небольшим, дорога была гладкой, прямой и пустынной. — И только ее. Но много. Очень много! Однако, это же совершенно не ваше дело, Милф! Так что вы зря вмешались в эту коммерцию. И те, кто вас послала — тоже. Не будь вас — Лили жила бы. И Ева Рикс не встретила бы вас — и тоже осталась бы жива. Пластик, Милф! Другая технология доставки. И ни одна из ваших тренированных собак его не чуяла. Потому что это — не пахнет! И его ввозили сюда вагонами! А вы искали двойные донца в чемоданах и прочую ерунду…
— Зачем и кому понадобилось столько взрывчатки? Рыбу глушить — так она и без того давно вымерла. Я знаю, сколько можно заработать на взрывчатке; поверьте, Граве, не так уж много.
— Все-то вы знаете, умница Милф! Но мыслите стандартно. А вы попробуйте подумать как следует — и поймете…
— На такой скорости мне трудно думать, Граве; не гоните так, никто нас не преследует.
— Может быть, нет. Но какая-то машина видна далеко позади. И я не хочу, чтобы нас догнали.
— Так что же я должен понять?
— Да хотя бы то, что вряд ли было простым совпадением: плотина рухнула и потоп случился именно тогда, когда все было готово, вплоть до дубовых листьев на груди, и именно тогда, когда еще один ребенок, родившись, отказался дышать…
— Что вы плетете, Граве…
На такой скорости мне с ним ничего не сделать, — думал Милов, быстро-быстро проигрывая в уме варианты, — надо как-то отвлечь его, чтобы он, втянувшись в спор по-настоящему, машинально снизил скоростц и тогда — как собаку.
— Вы говорите глупости, Граве!
— Вы, Милф, просто ничего не знаете. Сыщик! Плотине помогли развалиться! А вы представляете, сколько для этого потребовалось взрывчатки? Это вам не самолет взорвать… И ведь хватило, не правда ли? И осталось еще много! Много! Вы говорите — заработок, прибыль… А сколько стоит, по-вашему, власть? Сколько стоит спасение планеты? Да-да, не одной только маленькой Намурии, но всей планеты! Потому что — и об этом вы и сами начали догадываться еще раньше — мы всего лишь запал, сигнальная ракета, сегодня одержим победу мы — и завтра это начнется везде,потому что повсюду есть единомышленники и Растабелла — чтобы провозглашать лозунги, — и Мещерски, чтобы реализовать замыслы.
— Граве, Граве, что вы говорите! Вы так тяжело переносите гибель вашей жены — но ведь одно только наводнение наверняка унесло сотни тысяч жизней…
— Им некогда было спастись, да и некуда…
— А все то, что вы начинаете, унесет еще больше. По всей планете — страшно подумать, сколько…
— Чего же тут страшного, Милф? Дурная традиция, только и всего. Современная технология губит мир, это аксиома. Но только при ее помощи можно прокормить столько людей, сколько населяет сейчас Землю! Слишком много людей! Возврат к охранительному ведению хозяйства неизбежно потребует уменьшения их числа. Перенаселение, Милф, — вот наша беда. И не надо пугаться рациональных мер, которые приведут к сокращению числа жителей! Не надо! Потому что гибель части лучше, чем всеобщая гибель. Простая и неопровержимая логика, не правда ли? Вот зачем власть, вот для чего нужна сила! И вот для чего — взрывчатка. Вся она пойдет в дело, не беспокойтесь. Чтобы уничтожить! Вырвать с корнем! Выжечь! — Теперь Граве почти кричал, капельки слюны вылетали изо рта и оседали на приборном щитке. — И начнем с этого самого Центра, потому что он уже не просто учреждение, он стал символом! Уничтожим символ!
— Вы же сами там работали…
— Да. Но они — сначала Растабелл, а потом Мещерски, я и с ним ведь разговаривал, — помогли мне понять, что постигшее меня — кара за то, что я был с вами. Чинил ваши проклятые «Ай-Би-Эм» и прочие дьявольские орудия. Поделом мне! Но я искуплю. У меня нет другого пути!..
Граве на мгновение повернул к Милову лицо с глазами — дикими, словно искра разума уже совсем покинула их.
— Граве, — сказал Милов, — прошу вас, остановимся на минутку. Вместо ответа Граве сильнее нажал на педаль газа.
— Остановитесь же; мне нужно…
— Потерпите, — равнодушно ответил Граве, — недолго осталось. Или обходитесь, как знаете… — и, краем глаза уловив-почти незаметное движение Милова: — Стоп! Не пытайтесь что-то сделать! Машина набита взрывчаткой, все установлено, как надо, и мы взлетим на воздух даже просто от резкого торможения! Так что сидите тихо, как маленькая мышка — если хотите прожить еще некоторое время!
Милов откинулся на спинку, положил ладони на колени, закрыл глаза. Неожиданно пришло расслабление, и странное спокойствие охватило его, покой безжизненности. Ева, — думал он, — родная, нелеп этот мир, и мы с тобой были в нем так же нелепы во всем — начиная с нашего знакомства и кончая тем, чем все это завершается… Нелепо было, наверное, ввязываться в чужую драку, надо было сразу, как только я понял, в чем суть — хватать тебя и мчаться прочь, пусть бы они сводили свои счеты, а мы должны были предупредить весь мир. Но у тебя были твои дети, которые не желают дышать, а у меня — другие дети, свои, потому что ведь каждое дело, которое мы начинаем — наше дитя, и мы стремимся заботится о нем и растить его… Я виноват в том, что тебя нет; я, потому что оставил тебя там, хотя должен был понять, что спокойнее тебе быть со мною даже под огнем, чем пусть и у себя дома, но без меня… Поверил логике, а тут ведь логика ни при чем, когда чувствуешь к человеку то, что почувствовал совсем другим надо руководствоваться, не логике верить, а подсознанию. Ты прости меня, маленькая… Почему я в тот миг не подумал, что наши помогают событиям реализоваться — то, что раньше называлось «накликать беду»? Помешало то, что я старый коп, старая ищейка международного масштаба, у меня был след, и я бежал по нему, думая, что смогу вернуться к тебе — забыл, что если мы и возвращаемся, то не туда, откуда вышли, а в иное время с иным расположением планет. Тебя нет, и мне все равно — пусть убийца жмет на газ, спеша доставить свою взрывчатку в Центр, где она… Где она — что?
— Послушайте, Граве, а на кой черт вы тащите в Центр такое количество пластика?
Граве засмеялся — как-то странно, судорожными выдохами. Господи, — догадался Милов, — он же просто не умеет смеяться, наверное, никогда в жизни по-настоящему не смеялся…
— А вот увидите, Милф! Пройдет совсем немного времени — и вы увидите, или, во всяком случае, почувствуете… Да ведь вы и сами прекрасно все поняли, зачем же задавать лишние вопросы?
Милов покосился на спидометр: было где-то под сто сорок.
— Я просто хотел сказать вам, Граве, что если вы действительно хотите доставить ее в Центр, эту вашу контрабандную взрывчатку, то не гоните так, как сейчас: мало ли — не выдержит камера…
— Скорость придает решимости, Милф, вселяет уверенность — разве не знаете? Я бы гнал еще быстрее, но эта колымага уже на пределе, быстрее она просто не может, а другой машины мне достать не удалось — не до того было. М-да. К сожалению, у того, сзади, мотор, видимо, посильнее — да и нет у него, наверняка, причин ехать осторожно. Гонит, как ненормальный… Милф, мне не нравится этот преследователь. Оглянитесь. Я разрешаю. Только без глупостей. Понимаю, что у вас может возникнуть искушение, однако, что бы вы ни сделали, Центр вам все равно не спасти, и людей в нем — тоже, но я везу им судьбу легкую и быструю, а другая может оказаться куда мучительнее… Теперь я вас предупредил. Можете посмотреть.
Милов послушно посмотрел в заднее стекло-для этого пришлось извернуться в кресле. Широкая, приплюснутая к дороге машина и в самом деле была теперь куда ближе, чем когда Граве заметил ее впервые.
— Хорошо идет, — сказал Милов. — Классная машина.
— Слишком хорошо. Возьмите ваш автомат, Милф. С какой радости?
Сейчас вы будете стрелять. Старайтесь попасть в водителя. Или по колесам. Надо остановить его, слышите? Он определенно гонится за нами, хочет помешать мне.
— По-моему, он больше не приближается: держит дистанцию. Ну и пусть себе держит, а?
— Милф, где же ваш опыт? Они держатся позади, потому что собираются стрелять по нам — и не хотят пострадать в случае, если мы взорвемся. А для этого может хватить и одного попадания: у меня ведь и весь багажник набит… Не медлите, стреляйте через стекло — нам оно все равно не понадобится, до своего конца мы дойдем и так…
Слишком многословен был и слишком лихорадочно сыпал словами — нет, конечно, с психикой у Граве было совсем плохо, но он сидел за рулем, и ничего с этим не поделаешь. Хотите сигарету, Граве?
— Ну ладно, если вам так не терпится… Я везу пластик, чтобы взорвать ваш чертов Центр, Милф. Все, кто виноват, ответят мне. И уж вы в первую очередь — с вами счет особый.
— Вы же не умеет взрывать, Граве.
— Я же говорил вам: все сделано — мне нужно только доехать, въехать, вбиться в проклятый Черный Кристалл. О, какой это будет торжественный въезд!
— Судя по тому, что я слышал, Кристалл — постройка прочная. Тут вашего заряда не хватит. Зря пыхтите.
— Не волнуйтесь. Там есть свой запас, его не успели до конца вывезти — а может быть, намеренно оставили…
Ну да, — подумал Милов. — Не зря меня ориентировали первую очередь на Центр. Покойный доктор Карлуски. Тогда это, пожалуй, серьезно… Что там визжит этот псих?
— Заткнитесь, Граве, — сказал он. — Они не приближаются, на таком расстоянии попасть трудно, а у меня всего один рожок, и если я потрачу патроны зря…
— Слушайте, Милф: черт с вами! Обойдусь без вашей жалкой жизнишки. Обещаю: сшибете их с дороги я вас выпущу, только без оружия, и живите, как вам будет угодно-если вы еще способны жить. Иначе погибнете вместе со мной, все равно — на Дороге от их пули или в Центре, под обломками Кристалла. Выбор прост, Милф. Хотите жить? Тогда стреляйте и помните: только попадание идет в зачет.
Жить-то я, конечно, не против, — подумал Милов. — Не ради себя, но получается так, что кроме меня некому предупредить мир. Гектор? На знаю, очень мало уверенности, что армия захочет помочь, раз уж она объявила невмешательство, и значит, только из Центра еще возможно выйти на связь. Так что надо сберечь Кристалл, и себя тоже. Если там, в машине, предположим, люди Мещерски, и вцепились они в нас, чтобы убедиться в выполнении задания, то пустить их под откос — вполне приличное дело.
— Ладно, уговорили, — проворчал он. — Сейчас. Он неспешно, осторожно переместился на сиденьи — встал на него коленями, оперся локтями о спинку, изготовил автомат.
— Не медлите, Милф, стреляйте же!
Милов всматривался в преследовавшую машину; окна ее были из поляризованного стекла, и увидеть водителя не удавалось. Но определить, где должна находиться его голова, было нетрудно.
— Черт, они, видно, заметили меня — отстают… Граве, вам придется немного сбавить скорость, чтобы восстановить дистанцию.
— Очень не хотелось бы.
— Иначе мне не попасть. У него черные стекла, ничего не видно.
— Бейте по колесам.
— Вы даже в зеркале видите, что это не просто. Если бы сбоку, но он не хочет подставиться. Подтормозите.
— Н-ну… хорошо.
И Граве начал медленно сбрасывать газ.
* * *
Гектор остановился. Часовой смотрел на него невозмутимо, не снимая рук с висевшего поперек груди автомата. Не угрожал, но и пропускать, похоже, не собирался. Спокойно тут, — подумал Гектор, — словно бы ничего и не происходило вокруг. Сила есть сила — даже если это армия настолько условная, как здесь, в Намурии. Но это хорошо, что не чувствуется нервозности: больше шансов получить содействие..
— Приятель, — сказал он. — Я к полковнику Фрезу, по его приглашению.
Он не врал: приглашение такое действительно было сделано — месяца два назад, когда военные устраивали пресс-конференцию по поводу состоявшихся учений; после вопросов и ответов состоялся дружеский ужин с напитками-за столом Гектор и познакомился с полковником, и на какой-то рюмке даже подружился, так что на прощанье они обменялись адресами и приглашениями, испытывая друг к другу искреннее уважение, потому что принадлежали к немногим, еще державшимся на ногах. Полковник Фрез был парень что надо, и именно он командовал расквартированной в городе частью. На его содействие Гектор и рассчитывал, и жалел только о том, что не было с собой бутылки, чтобы на хорошей ноте возобновить прервавшийся тогда разговор.
Гектор старался держаться уверенно, и свою кор-респондентскую карточку протянул жестом небрежным и достойным одновременно, и сделал еще шаг одновременно. Часовой шевельнул автоматом; движение было достаточно выразительным.
— Вызови разводящего, — сказал он, не поворачивая головы.
За узкой дверцей, которую часовой закрывал собою, послышались шаги, потом приглушенный голос; так говорят в телефонную трубку при хорошей слышимости. Видимо, армия не испытывала трудностей со связью.
Да и во всем остальном порядок, похоже, не понес ущерба: разводящий возник почти сразу, взял карточку Гектора, внимательно оглядел, потом столь же пристально посмотрел на корреспондента.
— Обождите…
Разводящий скрылся. Снова послышались приглушенные голоса. Вот номер будет, — подумал Гектор, — если дружок прикажет собщить мне, что не имеет быть в расположении части: с незнакомым договориться по такому щекотливому делу шансов практически нет. Хотя попробую, конечно. Разводящий возвратился.
— Идите за мной.
Часовой стоял все так же невозмутимо; поравнявшись с ним. Гектор ощутил трудно определимый армейский запах — кожаных ремней и солдатских башмаков, оружейной смазки и мужского пота: солнце светило вовсю, и часовой стоял на самом припеке. За дверью оказалось неширокое помещение с телефонным аппаратом. Разводящий кивнул головой:
— Говорите. Гектор взял трубку.
— Алло! Полковник, вы?
— Алло, приятель! — услышал он. — Рад вас слышать, хотя, откровенно говоря, время для встречи не самое лучшее. Ничего, ничаго, понимаю: журналист всегда на службе, как и наш брат, военный. Только хочу сразу предупредить о двух вещах: информации для вас у меня практически никакой, сами понимаете, да и посидеть как следует не сможем.
— Рад буду увидеть вас хоть на пять минут.
— Ну, вы меня тронули до глубины души. Не могу противиться столь дружескому чувству. Отдайте трубку капралу.
В голосе полковника явственно слышалась ирония, но сейчас это Гектора нимало не смутило: ради связи он на что угодно мог пойти. Капрал, сказав в телефон «Слушаюсь!», положил трубку, задвинув предварительно антенну, и повернулся к журналисту.
— Идите за мной, — повторил разводящий уже однажды сказанное. Видимо, с людьми гражданскими здесь предпочитали общаться строго по уставу. Гектор еще раз убедился в этом, когда, послушно следуя за капралом, как бы невзначай спросил его: «Ну, а вам как все это нравится?» — и получил в ответ лаконичное «Не положено». Неясным осталось, что именно было не положено: вступать в разгойоры с посторонними, иметь свое мнение о происходящем, или и то, и другое вместе. Пересекая обширный плац, Гектор, однако, не заметил ничего, что свидетельствовало бы хоть о малейшем волнении. Покой царил и в том здании — одном из окружавших плац военного городка, — в которое он вошел вслед за разводящим; внизу, сразу за дверью, их встретил средних лет офицер, попросил еще раз показать карточку и вежливо кивнул журналисту:
— Командир ждет вас..
Гектор хотел было и ему задать тот же вопрос, но подумал, что успеха и тут не добьется, и единственная надежда — что дружеские чувства полковника существуют не только на словах. На втором этаже офицер отворил обитую пластиком дверь; за нею была комната; с письменным столом и несколькими шкафами, двумя железными в том числе; за столом никого не было, зато в левой стене существовала еще одна дверь, тоже с обивкой. Офицер отворил ее, ступил в сторону и кивнул Гектору:
— Прошу. Полковник встал навстречу, вышел из-за стола, сделал несколько шагов. Был он высок, молод для своего звания — в маленьких армиях командиры редко бывают; молодыми; румянец свидетельствовал о завидном здоровье. Он приветливо улыбался и крепко, словно стараясь выжать из ладони Гектора всю жидкость, пожал руку журналиста.
— Вот приятная неожиданность, — проговорил он хорошо поставленным командным голосом. — А я уже думал, не поставить ли свечку за упокой: ваш брат обычно трется в столице и если уж гибнет, то близ начальства, верно? Рад, рад видеть тебя в наших краях. Ну, садись; к сожалению, служба — дело строгое, но честь, как говорится, превыше, верно?
Говоря это, полковник успел усадить Гектора в кресло, извлечь из шкафа бутылку рома и две рюмки. Закуской должны были служить картофельные чипсы в изящной вазочке.
— Вот так, — удовлетворенно кивнул он, все еще не давая журналисту произнести ни слова. — Погоди, погоди. Я ведь понимаю, не одни лишь дружеские чувства привели тебя ко мне именно сейчас; что-то занадобилось, верно? Но у меня свои условия. Я в твоем распоряжении примерно на час, больше не выйдет. Так вот, из этого часа десять минут я беру себе, что означает: ни слова о делах. Ну, а уж потом твоя очередь. — Он налил. — Ну — виват!
— Хайль! — произнес Гектор в ответ, и это полковника нимало не удивило; он лишь подмигнул, выливая шершавое пойло в рот. Пришлось не отставать. Оказалось, однако, что именно этой маленькой дозы и не хватало Гектору, чтобы прийти в себя.
— Ну, давай, кайся, — сказал он. — Как семья, дети? Ты ведь теперь, наверное, стал кем-то вроде военного министра?
— Не нарушай уговора. Лучше я тебе сперва расскажу, как провел отпуск. Махнул я, понимаешь, в Испанию — ну ты, представляешь, верно? Три дня скучал в шикарном отеле, стал уже подумывать — не сорваться ли куда-нибудь, где повеселее. Но тут…
Гектор слушал, не забывая кивать, но то, что расска-зывал полковник о своих шалостях, до него не дохолило, не ко времени было. Он глядел за окно; видна была часть плаца, и на нем сейчас занимался, судя по численности, взвод — комендантский, наверное; занятия, однако, были отнюдь не строевыми — отрабатывался штурм здания, из которого вели огонь. Солдаты действовали умело, и это было куда интереснее, чем рассказ полковника, хотя в иное время он, пожалуй, доставил бы журналисту немало удовольствия: он и сам любил временами расслабиться.
— Лихо, верно? — завершил полковник свою исповедь. — Ну, вот, свое время я использовал. Слушаю тебя. Что, кроме нерушимой дружбы, принесло тебя ко мне?
— Связь.
— А подробнее? Что, почему и зачем? Монолог Гектора занял минут десять.
— Понял тебя, — кивнул полковник. — Объясню теперь нашу позицию. Армия нейтральна. Старого правительства нет, новое еще не создалось. Программа тех, кто претендует на власть, не ясна до конца, но в общих чертах нас устраивает, поскольку на наши права не посягает.
— Но разве не долг армии — восстановить порядок, когда он так явно нарушается?
— А почему, собственно, она должна защищать и восстанавливать то, что ты называешь порядком? Подумай: люди сейчас выступили не против какого-то правопорядкам-коммунизма, капитализма или, скажем, христианства или ислама. Они выступают против цивилизации, вмещающей и одно, и другое, и третье, и четвертое, и еще великое множество всяких множеств, верно? Люди выступили против того, чтобы пилить сук, на котором мы все восседаем. Так почему армия должна защищать пильщиков?
— Хотя бы потому, что армию такой, какова она есть, сделали именно, как ты говоришь, пильщики — люди науки, люди техники. Что такое она без них?
— Без них? Да все та же армия. Или ты думаешь, что легионеры Цезаря считали себя ущербными оттого, что у них не было танков и сверхзвуковой авиации? Они обо всем этом и представления не имели, и это не мешало им вести и выигрывать войны — с куда меньшими энергетическими затратами… Наоборот, все эти люди нам, армии, надоели хуже горькой редьки, потому что мы вынуждены слишком во многом считаться с ними, а науку никогда не удавалось — и не удалось бы сделать одним из родов войск с беспрекословным подчинением главнокомандующему… Нет, мы — те, кто командует армией, — отлично понимаем, что без науки и техники нам легче. Зачем же способствовать восстановлению порядка, который нам не нужен?
— Интересно. Ну, а предполагаемый противник, который не лишится ни танков, ни авиации — как вы, в случае чего, будете с ним справляться?
— Мы полагаем, что происходящее у нас — только начало глобального процесса. А пока он не стал таким, вовсе не собираемся выбрасывать свою технику. Но скорее всего, процесс будет развиваться именно так не только у нас: другого пути, вероятно, просто нет.
— А согласится ли с вами правительство — то, которое возникнет? Ведь сейчас армия намного сильнее любой другой внутренней силы именно потому, что вооружена современным оружием. Если же вы поставите себя на один уровень с просто вооруженным населением, власть уже не сможет чувствовать себя столь уверенно.
— Есть, конечно, политики, которые так думают. Но есть и другие — понимающие, что власть может существовать в ядерный век, но что и в неядерные века — а их было множество — она существовала даже с большим, возможно, комфортом. Правители не хуже своих подданных понимают, что можно обойтись без танков и роллс-рейсов, даже без горячей воды можно, но вот без воздуха — нельзя, и без неотравленной пищи — тоже…
— Вот тут ты ошибаешься, логика тебя подводит. Если бы дело обстояло так, правительства давно приняли бы меры. Но они как раз делали очень мало…
— Правительства плывут по течению цивилизации; не они правят ею, а она — ими. И сломать ее им не под силу, ее надо медленно-медленно гнуть. Но это надо было начинать немного раньше, а сейчас уже поздно. Сейчас ее начали ломать снизу. И наше, армии, дело — лишь позаботиться о том, чтобы это не стоило большой крови и невосполнимых потерь. Это — единственное, что мы сейчас себе позволяем: следить, чтобы игра велась по определенным правилам. Те, кто руководят процессом, понимают это, а те, кто пытается нарушить -…Вот только сегодня утром мы отобрали и привезли целую машину стрелкового оружия: пришлось разоружить два чересчур лихих отряда. Иными словами, мы не против того, чтобы перевести поезд на другой путь, но не желаем, чтобы его пустили под откос. Мы как бы стоим над схваткой — пока нет никакого законного правительства, да и когда оно возникнет, мы признаем его лишь на определенных условиях и гарантиях — и сегодняшние руководители это прекрасно понимают. Итак, мы ни на одной стороне; если же я, предположим, дам тебе связь, получится, что мы приняли какую-то из сторон…
— Ничего подобного: я — это мировая пресса, я тоже ни на чьей стороне.
— Возможно — ты лично. Но те, для кого предназначена твоя информация — как они воспримут ее?
— Брось, брось, полковник, не в этом дело, не считай меня таким дурачком. Скажи откровенно, ты не хочешь, чтобы внешний мир знал подробности о просходящем — чтобы они не успели там, у себя, принять меры. Значите — в глубине души ты все же на стороне этих?
— Я на стороне жизни. А ты?
— Я тоже. В частности — я за то, чтобы сохранить жизнь тем ученым и техникам, которые находятся сейчас в Черном Кристалле, в Центре. Если ты не хочешь дать мне связь…
— Совершенно исключено.
— …то хотя бы пошли войска, чтобы защитить Центр, его людей от самосуда.
— То есть откровенно выступить на их стороне? Нет, милый друг, ни в коем случае.
— Послушай. Но ведь новое правительство, судя по тому, что знаю я — да и ты, наверное, тоже — ни в коем случае не будет демократическим…
— А меня это не очень шокирует. Армии легче жить с правительством, несовершенно демократическим — потому, может быть, что сама она совершенно демократической организацией никогда не будет — не может быть по сути своей.
— Значит — пусть гибнут люди? Но ведь это даже не ваши подданные, полковник! И если те державы, чьими гражданами эти ученые являются, захотят обеспечить их безопасность — так это называется в наши времена… долго ли сможет твоя армия противостоять рейнджерам? И что от нее потом останется?
— Ну, — сказал полковник, помолчав, — международных осложнений мы вовсе не желаем…
— Так защитите людей!
— Понимаешь ли, мы не можем сделать этого открыто. Не говорю уже о том, что я не командующий армией, и если отдам такой приказ моим солдатам — завтра же меня здесь может не оказаться, Правительства нет, но генералы живы и находятся на своих местах. А что военного министра нет — так он все равно был штатским, и интересы армии не впитал с молоком матери. Но, в конце концов, почему этих людей надо защищать? Я знаю Центр; Черный Кристалл — с точки зрения его обороны — вовсе неплохая крепость, там полно людей, способных носить оружие…
— Беда в том, что им нечего носить! Хоть поделись оружием, если ты не согласен ни на что другое!
— Ты с ума сошел: оружие — это армейское имущество, и я не имею никакого права… Это было бы просто преступлением! Минуту-другую они помолчали.
— М-да, — пробормотал затем полковник. — Рейнджеры…
Нет-нет, я не вправе дать ни одного автомата, ни одного патрона. Трудно даже сказать, какой шум поднялся бы, а ведь у нас сейчас обстановка тоже напряженная, ты не представляешь, как тяжело поддерживать несение службы на должном уровне… Да вот, зачем далеко искать: пригнали, ты уже слышал, машину с оружием, отнятым у хулиганов — там и автоматы, и патроны, и карабины, — и даже не потрудились загнать в гараж, машина так и стоит неразгруженной, даже не в распоряжении, а за забором… И вот уверен: если бы кто-нибудь сел в нее и поехал — разгильдяи на проходной даже не почесались бы… Нет, события, безусловно, влияют и на нас, на дисциплину, на воинский порядок… Понял?
— Так точно, — ответил Гектор бодро.
— Разгильдяи, говорю тебе — разгильдяи! Уверен даже, что ключ из зажигания никто не позаботился вынуть… Вот я обожду еще с полчасика — и специально пойду, проверю, стоит ли она еще там — вдоль забора направо…
— Боюсь, — сказал Гектор, — что мне придется покинуть тебя еще до этого.
— Кажется, ты прав: час уже истек, у меня тут неотложные дела… Жаль, что не получилось посидеть по-настоящему, но погоди вот, уладится все, успокоится как-то — тогда уж…
— Непременно, — подтвердил журналист. — Только тогда меню выберу я, а то от этого твоего в глотке першит…
Полковник развел руками и проводил Гектора до двери. Дальше все шло в обратном порядке; адъютант проводил его до подъезда, там уже ожидал разводящий; в его сопровождении Гектор беспрепятственно вышел за пределы расположения, постоял минутку, размышляя, рассеянно свернул вправо. Часовой изо всех сил смотрел в противоположную сторону. Грузовик стоял, и ключ на самом деле был в замке зажигания. Гектор усмехнулся. Сел. Мотор включился сразу. Гектор глянул в зеркальце. Часовой по-прежнему глядел влево, хотя ничего особенно интересного там не происходило. Гектор набрал скорость. Все было тихо. Дорогу он знал. Груз негромко позвякивал в закрытом брезентом кузове. Ну, что же, — подумал Гектор, — и такой клок шерсти пригодится, и на том спасибо. Но теперь предстоит еще уговорить профессоров стрелять, боюсь, это окажется труднее…
* * *
Граве начал медленно сбрасывать газ. Расстояние между машинами сокращалось. Милов прищурил глаз. Потом широко раскрыл оба. Что там такое? Флаг? Нет, не флаг…
Водитель машины-преследователя на ходу опустил стекло и высунул руку, в которой что-то яркое, цветастое билось, извивалось на ветру. Милов вгляделся — и ударило в виски, мурашки побежали по спине. Ах, ты… Ах, ты!
— Еще чуть медленнее!
Сверну шею, — подумал он. — И уж что-нибудь поломаю наверняка. Но выбирать не приходится. Тряхнем стариной… Нет, никому другому это не пришло бы в голову — значит…
— Граве, поближе к обочине!
— Это еще зачем?
— Солнце бьет в глаза — от его стекла…
— Ладно.
Милов опустил левую руку, нашарил. Машина шла совсем рядом с травянистой обочиной.
— Ну, что же вы? Огонь!!!
— Слушаюсь, господин ефрейтор, — ответил Милов и левой рукой рванул ручку дверцы.
Он вывалился спиной вперед, сгруппировавшись на лету. Автомата он не удержал, и оружие лязгнуло по асфальту, но не выстрелило — предохранитель не подвел. Боль ударила, казалось, сразу со всех сторон, рванула, вонзилась… Кажется, жив еще, — успел подумать Милов, клубком катясь по траве. Рядом взвизгнули тормоза. Линкольн-континенталь, низкий, длинный, как летний день, остановился рядом. Первая дверца распахнулась.
— Дан, вы живы? Чему вы смеетесь?
— Ева! Ева, сумасшедшая вы женщина… Он с трудом, как бы по частям, поднялся. Граве был уже далеко, машина его все уменьшалась, превращаясь в точку. Автомат валялся на шоссе, сзади, шагах в тридцати.
— Ева, милая, задний ход — подберем игрушку.
— Я развернусь.
— Потеря времени. Надо настичь его! Ева все еще сжимала в пальцах нелепый галстук Милова.
— Не спрашивайте, Ева, некогда — объясню по дороге…
Он подхватил автомат, перегнувшись с сиденья, захлопнул дверцу. Кости, кажется, в порядке. Жива, — подумал он, — жива, как ей удалось?
— Ева, как вы спаслись?
— От чего, Дан?
— Граве говорил…
— Граве? Он заходил, да; разговаривал с Лестером. Ко мне только заглянул мимоходом — сказал, что хочет разыскать вас, я объяснила, что вы постараетесь попасть в Центр.
Выдумал? — пытался сообразить Милов. — Нет, он же сумасшедший-ему хотелось убить ее, но он не решился, конечно, — а потом поверил, что так и сделал… А может, и остальное-фантазия, и в машине у него нет никакой взрывчатки? Ладно, увидим.
— Как нога? — спросил он.
— Спасибо, Дан, — сказала она. — Вспомнить сейчас о моей ноге — это говорит о многом. Еще побаливает. Но я терплю. Дети… И вы.
— Глупая, — сказал он.
— Это у меня от рождения, — сказала Ева. Машина бесшумно летела — не по дороге, кажется, а уже над нею; точка впереди начала снова обретать очертания.
— Хорошая у вас машина, — сказал Милов.
— Рикс не любит маленьких.
— А поживее она способна?
— По такой дороге я легко дам сто двадцать миль, если понадобится. А он держит примерно восемьдесят.
— Быстрее не может. Приблизься метров до пятидесяти. Ближе не надо. И как только я начну стрелять — жми на тормоза.
— Что ты хочешь с ним сделать? Я надеюсь…
— Только то, чего он сам захотел. Как тут опустить стекло?
— Кнопкой.
Милов опустил стекло, высунулся: сперва руки с автоматом, потом голову — но ее пришлось тут же убрать: резкий ветер бил в лицо, заставлял закрыть глаза. Ничего, мы и так… Хотя бы по колесам. Не уйдет, и отстреливаться не сможет — он же не рейнджер, он нормальный гражданин, честный, добродетельный умалишенный.
Он выпустил короткую очередь. Вторую. Граве вилял по дороге, по всем четырем ее полосам. Мимо. Опять мимо. Что я — стрелять разучился?.. Так, заднее стекло — в крошки. Виден затылок, голова, пригнувшаяся к рулю. Нет, в него не буду. Дам шанс: если он все выдумал — пусть живет. Только сбить с дороги: если в машине не пластик, он уцелеет, отделается синяками, может быть. Только сбить с дороги. Сейчас он снова вильнет — и можно будет по колесам…
Длинной очередью, последними патронами он повел сверху вниз наискось. Но Граве в последний миг вильнул, и багажник закрыл колесо.
Ревущее пламя клубком оторвалось от дороги, на лету рассыпаясь на части. Налетела взрывная волна. Ева вскрикнула. Линкольн рвануло, занесло, швырнуло в канаву. Сталь скрежетала, сминаясь. Земля перевернулась. Финиш, конец пути.
— Ева, вы живы?
Она лежала на траве, куда Милов вытащил ее из смятой, невосстановимо изуродованной машины; у него самого был рассечен лоб, кровь текла по лицу, и, кажется, пару ребер придется капитально ремонтировать. Но, может быть, и не так все плохо.
— Ева!
Она открыла глаза:
— Что с нами было?
— Дорожно-транспортное происшествие. Она несколько раз моргнула. Глубоко вздохнула и охнула.
— Где болит? — спросил Милоз.
— Спросили бы, где не болит…
— Минутку. Здесь болит? А здесь? А так? Тут?
— Дан, кто, из нас врач? Подозреваю, что вы.
— Ну, что вы, Ева, милая… Но в санитары гожусь. Теперь попробуем подняться. Держитесь за меня. Так, та-ак… В общем, отделались мы с вами чрезвычайно легко.
— Однако, мой рыцарь, ваша внешность несколько пострадала. Пора и мне вспомнить, что я медик. В машине есть аптечка…
— Пусть ее поищет кто-нибудь другой, нам некогда. Да и заживает на мне мгновенно. До Центра далеко еще?
— Рядом. Километра полтора, если идти напрямик. Но я, кажется…
— Ева, Ева, как вам не стыдно! Усидеть сможете?
— Вы рыцарь или лошадь?
— Я кентавр.
— А если всерьез: вам по силам будет?
— Я в форме, — сказал он. — Ну раз-два… Удобно?
— Никогда больше не слезу. Хотел бежать от меня. Каково?
— Я бы вернулся, — сказал он искренне.
— Знаю. Потому и погналась. Но не очень-то воображайте: у меня ведь дети. Все равно, я бы поехала к ним.
* * *
— Наверное, там есть, кому присмотреть?
— Нет, я должна быть с ними сама. Хоть ползком…
— До этого не дойдет. А машина все равно дальше не повезла бы, — сказал Милов, когда они поравнялись с глубоким провалом во всю ширину шоссе — там, где взорвалась машина Граве. — Ну, мир праху его.
— А мне жаль его, — сказала она.
— Да и мне тоже — теперь… Он любил свою жену.
— Дан, а ведь мы, наверное, сами во многом виноваты.
— Конечно, — сказал он, постепенно привыкая к ритму ходьбы с грузом. — И мы, и он, и все, кто только говорил, но ничего не делал, чтобы подхлестнуть наши правитель-ства — ждал, пока это совершит кто-нибудь другой. Ну что же, кто-то другой и осуществил — по-своему…
Пришпорьте-ка меня, Ева, не то мы придем слишком поздно.
— Запрут крепостные ворота?
— Нас могут обогнать — те, кто идет уничтожить Центр.
— И мы вдвоем их остановим?
— Нет. Но предупредим Центр. И весь мир.
— И там погибнем?
— Может быть.
Метров сто они прошли молча; но идти в безмолвии было труднее.
— Знаете, Ева, мне страшно повезло.
— Конечно, знаю. А в чем именно?
— В том, что вы весите килограммов пятьдесят, не больше.
— Девяносто шесть фунтов.
— Представляете, если бы вы весили двести?
— Я? Никогда! — возмущенно заявила она.
— Ну, не вы, а другая женщина…
— Дан! На свете нет других женщин, ясно? Есть только я!
Он медлил с ответом.
— Немедленно опустите меня на землю! — потребовала она. — Не желаю иметь с вами ничего общего!
— Их нет, Ева, — сказал он. — Никогда не было. И не будет. Пока мы живы. Но если бы когда-нибудь раньше они были, то не обязательно носили бы брюки и брюки, вечно брюки. Знаете, кентавры очень любят ощущать…
— Терпение, Дан, — сказала она. — Они не приросли ко мне.
— Только на это я и надеюсь, — сказал он, ускоряя шаг.
* * *
Сквозь редкую цепочку окружавших Центр добровольцев они прошли беспрепятственно, никто даже не попытался задержать их, а Милов, к тому же, все еще носил на груди дубовый лист. Широкие стеклянные двери распахнулись перед ними, пропустили и захлопнулись. И сразу показалось, что все беды и опасности, пожары и убийства, свидетелями которых они были, на самом деле не существовали, что сами они выдумали и поверили в них, как Граве — в убийство Евы. На самом же деле везде царил порядок, и разумная жизнь текла, как ей и полагалось, и можно было спокойно думать о своей работе и своей любви. Потому что здесь, в обширном вестибюле Кристалла, где лежали ковры и на стенах висели подлинники кисти мастеров, и сиял мягкий, неназойливый свет, и стояла крепкая, благословенная тишина, — где, одним словом, все выглядело так же, как и неделю, и месяц, и год назад — здесь можно было почувствовать себя защищенным всею той силой, которая была у остального, пока еще (хотелось надеяться) жившего нормальной жизнью мира. Хотя как раз в с устойчивости остального мира Милов был не очень-то уверен.
— А я думал, здесь яблоку упасть некуда, — сказала он, остановившись посреди вестибюля.
— Ну, Кристалл достаточно велик… Дан, а вам не кажется, что мы уже приехали? Пожалуйста, здесь мне неудобно…
Он бережно опустил Еву на пол и с удовольствием перевел дыхание.
— Бедный мой кентавр, — сказала она и провела рукой по его грязной от пота и пыли, колкой щеке. — Извините меня.
— Нет, не так, — сказал он. — Спасибо. Спасибо за первобытное ощущение: я вдруг почувствовал себя мужчиной не только по первичным признакам.
— Зато теперь я принимаю на себя роль женщины и хозяйки дома. Вам нужны ванна, бритва и гардероб. Потом нам не помешает что-нибудь выпить и немного поесть.
— Лазурная перспектива, — согласился он. — Но это потом. Прежде всего отведите меня на радиостанцию. Необходимо как можно скорее оповестить весь мир. Скорее всего, это уже сделано, однако я не знаю, в какой степени здесь понимают ситуацию: глядя из этого райского уголка, кажется, трудно составить верное представление. Ева покачала головой.
— Вы не знаете наших порядков, Дан. Никто и близко не подпустит вас к микрофону и не примет от вас ни единого слова без разрешения администрации. И никто не даст вам этого разрешения прежде, чем вы убедите их в необходимости этого…
Что-то неуловимо изменилось в ней, когда она оказалась внутри Кристалла: там, в дороге, она была только женщиной, а тут — еще и человеком, работающим в Центре и подчиняющимся его порядкам.
— Черт бы побрал ваших бюрократов, — сказал Милов. — Ладно, ведите, я им в двух словах объясню…
— В двух словах они не поймут. Научная администрация, Дан, консервативнее любой другой. И до тех пор, пока вы больше всего напоминаете беглого каторжника, с вами и разговаривать не станут, и я ничем не смогу помочь. Я ведь хозяйка около своих гермобоксов, а для всего Центра — величина столь малая, что никто даже не заметит, если я вообще исчезну.
— Ну! Супруга самого Рикса…
— Рикс — это звучит там, в городе. А для Центра он всего лишь обосновавшийся здесь бизнесмен, далеко не из самых крупных.
Разговаривая, она медленно, припадая на ногу, вела его к стене, в которой виднелись двери лифтов. Он попытался было воспротивиться, но тут же понял, что она права. Ладно, — подумал он, — у нас есть фора. Мы опередили пехоту, пожалуй, часа на четыре. Ему показалось удивительным, что где-то еще могут работать лифты; но здесь исправно вспыхнул зеленый треугольничек, и видно было, как кабина заскользила сверху по прозрачной шахте.
— Фантасмагория! — не удержался он. — Я начинаю всерьез бояться, что ваши шефы могут не понять, насколько дела плохи.
— Вы и сами уже не так уверены, правда? Он промолчал.
Они вышли на двадцать втором. Широким пустым коридором добрались до ее отделения. Дежурная сестра сидела на своем месте у пульта — с головы до ног в голубом, накрахмаленная, спокойная, уверенная в себе.
— Добрый вечер, доктор Рикс. — Тонкие брови сестры выразили нечто вроде удивления. — Вы с больным? Секунду, я вызову доктора Нулича, чтобы отправить пациента в-клинику… — Она говорила с акцентом.
— Нет нужды, сестра Пельце. Душ и что-нибудь, во что можно его переодеть.
— Только не в пижаму, пожалуйста, — попросил Милов.
— Позвоните в клинику, пусть там посмотрят в гардеробной — может быть, у кого-то из больных найдется подходящее.
— Там мало что осталось, доктор. Почти всех больных сегодня вывезли эти… местные. Остались только иностранцы.
— Скажите, сестра, может быть, мне самой сходить в гардероб. Привычка к подчинению возымела действие.
— Наши палаты — те, что для родителей — пусты. Душ можно принять там. А вы сами, доктор? Похоже, что вы попали в катастрофу.
— Не мы одни, сестра.
— Знаете, наши палаты едва удалось отстоять: сейчас в Кристалле так много людей — ученых со всех концов Центра, жены, дети… Странно, гостиница почти пуста. Так нет, всех привезли сюда. Теперь они в кабинетах, гостиных, комнатах для переговоров… Но у нас, к счастью, тишина: дети.
— Их не увезли вместе с больными?
— Кто бы позволил!
— Хорошо. Я пойду к себе, приведу себя в порядок. Дан, когда будете готовы — приходите ко мне, сестра вас проводит.
Она пошла, стараясь хромать как можно меньше. Милов смотрел вслед, пока сестра не окликнула его:
— Мистер Дан, пожалуйста — я уже пустила воду. — Она с неодобрением посмотрела на автомат Милова. — А это можно оставить здесь — потом выйдете и заберете.
— Да, конечно, — спохватился Милов. Усмехнулся: — Когда насмотришься на происходящее в городе, кажется странным, что где-то еще есть вода в кранах.
— Мы не зависимы от властей, — сказала гордо сестра Пельце.
— Дай-то Бог, — пробормотал Милов, направляясь в палату.
Перед тем, как идти в ванную, заглянул в комнату — кровать была застлана свеженьким, пестрым, с острыми складками бельем. Сейчас бы отключиться минуток на шестьсот, — подумал он мечтательно. — Да если бы еще не в одиночку… Но, похоже, в этой жизни выспаться больше не придется, да и ничего другого тоже. Ему все яснее становилось, до чего незащищенным был Центр; если дей-ствительно придется защищать его-задача может оказаться непосильной: стеклянные двери — и никакого оружия, нечем оборонять, да и некому. Это ведь не военная база на чужой территории… Что может спасти? Только вмешательство со стороны. Но там ничего не знают, и узнают наверняка слишком поздно. Ладно, а вымыться все-таки не мешает…
Он так и сделал, стараясь не совершать лишних движе-ний, и почувствовал, что боль во всем теле начала уни-маться по мере того, как Милов расслаблялся, выгонял из себя напряжение. Когда он вышел из ванной, одежда оказа-лась в палате. Дисциплина тут у них почище армейской, — усмехнулся он, — но в медицине, наверное, только так и можно — если всерьез работать, если не для формы. — Он глянул на себя в зеркало. — Все-таки совсем иное впечатление. Правда, автомат к этому костюму как-то не идет. И все же без него — никуда. Вот патронов бы еще раздобыть — выйти, ограбить добровольцев, что ли, пока к ним еще не подоспела подмога?
Сестра Пельце снова осуждающе покосилась, когда он подхватил автомат и закинул за спину. Однако не сказала ни слова. Они дошли до замыкавшей коридор перегородки с дверью. В полутемной палате Ева сидела за столиком, опираясь подбородком о кулаки — посвежевшая, причесанная, в халате. Компьютер. Приборы, экраны со струящимися кривыми. Еде уловимое дыхание каких-то механизмов…
— Вот они, — сказала Ева, и Милова поразила прозвучавшая в ее словах нежность женщины, у которой, видно, своих детей не было — а не просто сострадание врача. Она встала и подвела Милова к прозрачным камерам, в которых мирно спали младенцы, дыша воздухом, какого более не существовало в окружающем мире: чистым воздухом, диким, нецивилизованным, первобытным. Вот они, — подумал Милов, чувствуя, как комок возникает в горле, — те, ради кого следует сломать эту цивилизацию, сделать из нее что-то, пригодное для жизни. Не только для них, конечно. Для всех. И самих себя. Но это они принесли нам сообщение, подали сигнал: медлить больше нельзя. Они просигналили — но те, кому следовало, не обратили на него внимания…
— Идемте, Ева, — сказал он. — Где там ваши вседержители?
— Сейчас все собрались в ресторане. Очень кстати, не правда ли?
— Лучше бы они собрались на радиостанции, — ответил Милов.
— Там бы нас не накормили.
— Хозяйка дома, — улыбнулся он.
— Нет, к сожалению. Будь я хозяйкой, сразу дала бы вам микрофон. Но должна ведь женщина хотя бы накормить своего любовника?
— Я уже любовник? — спросил он.
— Будешь, — сказала Ева, — куда ты денешься.
Большой зал ресторана оказался битком набитым — одни ели, другие сидели за бутылкой вина или чего-нибудь покрепче, но везде разговаривали; видимо, неопределенность положения Центра все же ощущалась и тревожила если не всех, то многих. Разговоры велись на разных языках: в предчувствии опасности люди сознательно или бессознательно группировались землячествами. Заграница, — подумал Милов. — Наши бы наверняка засели в конференц-зале, тут, надо думать, не один такой, а эти, видишь — в ресторане, не привыкли, как мы: с президиумом, с докладчиком… Зато там сразу было бы ясно, где начальство, а тут я даже не пойму, кто директора, а кто лаборанты…
Ева, видно, в этом все же разбиралась, и уверенно вела Милова по сложной траектории между расставленными, могло показаться, в полном беспорядке столиками. Он успевал уловить обрывки разговоров — на тех языках, какие понимал:
— Когда вернусь в Кембридж, подниму кампанию протеста…
— В конце концов. Германия вложила в этот Центр так много, и мы ведем здесь важнейшие разработки…
— …И вы понимаете, Смарт, это семнадцатая элементарная частица, я полагаю…
— …Накупила кучу барахла. И если нас будут вывозить отсюда вертолетами, то придется все бросить. Но комп я все-таки постараюсь вытащить…
Земляки, — с удовольствием подумал Милов, прислушиваясь к русскому языку. Но сейчас не было времени даже окликнуть соотчичей, поздороваться с ними.
— …Глупости, ничего не случится. Они еще принесут извинения, вот увидите. Государственный секретарь, я уверен, уже…
— Обождите минутку здесь, Дан, — сказала Ева. — Сперва я представлю вас заочно, — и она, почти не хромая, направилась к столику, стоявшему в едва уловимом, но все же отдалении от прочих. Милов остановился. Рядом несколько столиков было сдвинуто вместе; здесь, судя по разнообразию акцентов, компания была интернациональной.
— …Ну, а чего же вы ждали? Да я в любой миг могу перечислить все преступления, какие мы совершили и продолжаем совершать по отношению к природе. Только это займет не часы — дни, недели… Возьмите хотя бы все Красные книги. Везде! Леса. Мировой океан. Почвы. Ископаемые. Воздух. Флора. Фауна. Озон. Даже космос успели уже изрядно запакостить…
— Прискорбно, конечно, и все же это не повод для эксцессов. Просто — такова жизнь, и другой она быть не могла.
— Такой ее сделали — при нашем усердном способствовании. Не дав себе труда подумать — должна ли она быть такой.
Еще один:
— Да, мы исправно выполнили все, что было предсказано за сотни лет до нас…
— Ну конечно, вы же коммунист, кого начнете цитировать сейчас — Ленина или Маркса?
— Всего лишь Ламарка, успокойтесь. Того самого, Жана-Батиста. Он сказал примерно так: «Назначение человека, похоже, заключается в том, чтобы уничтожить свой род, сперва сделав земной шар непригодным для обитания».
— Чепуха. Возьмите хотя бы продолжительность жизни: когда раньше она была такой? Когда раньше планета была в состоянии прокормить столько людей? Можно привести сотни возражений! Вы просто пессимист…
— Возражать мне легко. А вы возразите им!
— А кто «они» такие?
— Да все остальные, Кто верил нам или в нас, не задумываясь, шел за нами, полагая, что мы-то уж знаем, куда ведем. Люди. Человечество, если угодно. Надо быть совершенными идиотами или слепцами, чтобы не видеть, что именно к такой развязке идет дело. Потому что человечеством все больше овладевал ужас. А ужас, когда достигнута его критическая масса, взрывается. Это было ясно уже годы назад!
— Кому ясно? Вам, допустим, было ясно? Мне, например — заявляю и клянусь! — ничего подобного и в голову не приходило! Вам было ясно — вот и предупредили бы. Что же вы тогда молчали?
— Да потому что я, как и все мы, получил нормальное современное воспитание, научившее нас думать одно, говорить другое и делать третье — то, что все делают. Все катились под гору — и я катился со всеми заодно, и, как любой из нас, старался съехать как можно комфортабельнее…
— Да перестаньте! Пусть мы и нанесли некоторый ущерб, не отрицаю, но в наших силах — все исправить. Дайте мне только время…
— Берите, берите все время, сколько его есть и будет до скончания веков, я не жаден, дарю вам вечность. Но вот дадут ли вам время они? Понявшие, что надежды на нашу совесть тщетны, цивилизация сильнее совести-и что если они хотят сохранить хотя бы те воздух и воду, какие еще существуют сегодня, то им надо стрелять в нас с вами, громить лаборатории, взрывать заводы и станции, раскалывать головы с оптимально организованным серым веществом… Они не хотят больше, чтобы взрывались реакторы, рушились плотины, шли желтые дожди, выбрасывались удушливые газы, чтобы ширилась ОДА…
— Опять-таки позвольте усомниться: уже был СПИД — и никто не начал стрелять.
— Потому что там речь шла все-таки о природном явлении. Хотя в наших условиях эта локальная болезнь быстро стала повсеместной. Но вот ОДА — уже целиком наших рук дело…
— Да к чему валить все на нас? Уничтожение природы начали не мы, его начали еще кроманьонцы — уничтожали целые виды животных!
— Учтите: природа вовсе не беззащитна, она и сама может постоять за себя. У нее есть охранительные средства, и в их числе — то стремление к самоуничтожению, которое сидит в нас изначально. Да-да, коллега, и эпидемии прошлых веков, и ядерные бомбы нашего времени, и взрыв СПИДа, и ОДА, и даже нынешнее выступление против нас — все это способы, какими природа стремится защитить себя от человека — при помощи человека же.
— Перестаньте! Самоубийство — в том, чтобы пытаться уничтожить все наши достижения! И человечество на это не решится.
— А я вот давно говорил: цивилизация изжила себя. Ее перо свертывать. Но без лишней резкости и торопливости, иначе в мире начнется такое…
— Началось уже. Только вы никак не хотите понять… Наступает хрустальная ночь. Вы помните, хотя бы из курса истории, что такое была хрустальная ночь?
— Знаете ли, я могу обидеться. В моей семье, среди моих недавних предков… Я еврей, в конце концов!
— Вот она и повторилась, только наша ночь — ночь Черного хрусталя: недаром Черным Кристаллом называется это здание… А вместо евреев будут уничтожать и всех, кто хоть как-то содействовал нашим свершениям. Ужасно, несправедливо? Согласен. Но уже ничего не поделаешь, процесс пошел.
— Ну, не думаю. Нет, нет. Но знаете что? Мне кажется, пришла пора писать письмо главам государств — наподобие того, как написал Рузвельту Эйнштейн…
Наконец-то Ева вернулась к Милову. Он посмотрел на нее с нежностью.
— Пойдемте, Дан, — она взяла его за руку. — Они вас выслушают.
— Словно я за подачкой пришел, — буркнул Милов.
— Не обижайтесь: они так привыкли. Уже одно то, что вы не ученый…
Шестеро сидевших за столом потеснились, и, как будто без всякого сигнала, официант тут же подставил еще стул; место для Евы нашлось еще раньше.
— Ну, господин Милов, чем вы хотите нас напугать? — почти весело обратился к нему тот, напротив которого Милов оказался.
— Я волею судеб возглавляю этот питомник гениев и инкубатор открытий…
Они слушали Милова внимательно, не перебивая. Он старался говорить как можно короче и выразительнее.
Итак, вы хотите использовать нашу станцию, чтобы обратиться к правительству всего мира и предупредить их об опасности? Скажу сразу: нам положение не представляется столь трагичным. И мы уже сообщили о том, что здесь произошло. Так что мы полагаем: остается лишь спокойно ждать. Не сомневаюсь, что правительствами будут предприняты все необходимые действия.
— Нельзя ли уточнить: что именно вы сообщили?
— Только факты: местные власти выразили несогласие с пребыванием нашего Центра на их террито" рии и требуют его ликвидации; местное население про" явило некоторую несдержанность, в результате чего пострадал поселок ученых, однако посягательств на их жизнь не было — если не считать двух или трех спонтанных проявлений… Вообще вопрос, как вы понимаете, весьма спорный. Существует соглашение с правительством этой страны, так что переговоры будут весьма долгими, а мы тем временем спокойно продолжим нашу работу.
— Однако, того правительства больше нет.
— Но нет и никакого другого.
— Прошлой ночью сожгли поселок; в следующую, может быть…
— Это нереально: ни одно новое правительство не станет начинать свою деятельность с таких поступков.
— Боюсь, что вы не поняли главного: в стране устанавливается — или уже установился — новый режим, фашистского типа. Могу напомнить: один из основных признаков таких режимов — полная бесконтрольность внутри и обильная дезинформация, направленная как вовнутрь, так и вовне. Я уже рассказал вам, что нам с доктором Рикс едва удалось предотвратить диверсию против Центра. А у вас ведь и реактор на ходу!
— Ну, он в полусотне миль отсюда, там полная автоматизация, ни одного человека. Ну хорошо, сумасшедшие могут найтись везде, и мы вам очень благодарны — вы подвергались немалому риску… Что же касается характера, который имеет новый, как вы говорите, режим, то, простите, в это трудно поверить. В наши дни, в нашем мире…
— А взрыв плотины?
Теперь говорили все шестеро, разговор стал общим.
— Ну, знаете ли, слова сумасшедшего — еще не дока-зательство. Просто бред. Тем более, как вы сами рассказали, он считал, что совершил… некоторые действия, но, как оказалось…
— Да, да. Я был на станции буквально несколько дней назад — согласитесь, что такую диверсию нельзя провести без подготовки, плотина — не автомобиль; а там абсолютно ничего не было заметно. Другое дело-уровень воды повышался, действительно, быстрее обычного, и если при постройке плотины были допущены ошибки или злоупотребления…
— Я тоже не верю в гипотезу преднамеренного взрыва. Слишком уж… романтически.
— Вот именно — чересчур пахнет кинематографом.
— Во всяком случае, мы не можем выступить с заявлением такого рода. Наш престиж…
— Да поймите же! — Милов, утратив обычное спокойствие, едва не кричал, по сторонам уже стали оборачиваться. — Процесс может стать глобальными Изменение характера цивилизации, отказ от многих производств, регулирование населения — все это неизбежно, и если этим немедленно не займутся правительства, то сделают другие — как это случилось здесь. В борьбе со всеобщим страхом молчание и бездействие — плохое оружие! А другие тем временем говорят и действуют — но цели у них свои, совсем не те, что у нас…
— Дорогой друг, мы понимаем, что увиденное в городе не могло не подействовать на ваше восприятие событий, на ваше воображение-тем более, что вы, как м-м…
— Скажите: полицейский!
— Ну, назовем хотя бы так, — вы, естественно, должны болезненно воспринимать всякое отступление от принятого порядка-согласитесь, что профессиональное мышление полицейского не может быть чрезмерно широким и демократичным; зато мы, ученые, привыкли… Одним словом, мы не допустим никакого использования нашего радиоцентра — во всяком случае, пока обстановка не прояснится.
— Может оказаться слишком поздно, — сказал Милов мрачно.
— Мы так не думаем. Бесполезно, — подумал Милов. Он встал.
— Благодарю вас, господа, за то, что вы меня выслушали.
— Господин Милов, — услыхал он сказанное вдогонку. — Нам хотелось бы, чтобы вы не расхаживали здесь с оружием. Мы не привыкли, и к тому же это могут увидеть женщины, дети…
— Я приму это к сведению, — сказал Милов учтиво. Ева тоже встала и догнала его.
— Я с вами, Дан.
— Доктор Рикс, — сказал кто-то из шестерки, — нужно, чтобы мистер Милов как следует отдохнул, пришел в себя. Позаботьтесь об этом.
— О, разумеется, — сказала она, улыбаясь, — Поужинаем, Дан, и поднимемся ко мне.
Он взглянул на нее. Да пропади все пропадом, — подумал он. — Почему мне должно хотеться большего, чем остальным? Мне сейчас ничего, кроме нее, не нужно. Я-то выкручусь, и ее хоть на руках, хоть в зубах, но вытащу, а эти — пусть подыхают под облаками вместе со своими мнениями и традициями. Зато те, кому удается выжить, поймут, наконец, что к чему… Они поднялись на лифте, подошли к ее двери.
— Чувствуй себя, как дома, — сказала она.
* * *
Стояли уже сумерки, когда они снова вышли в коридор. Там, внутри, они не говорили о том, что наверняка предстояло в ближайшие же часы; вообще говорили мало, больше молчали, как если бы хотели до конца насладиться тишиной, с которой — понимали они — скоро придется распрощаться. И вышли потому, что Ева вдруг сказала: «Смешно, но я жутко голодна. Зря мы не взяли ничего с собой. Спустимся, поедим чего-нибудь». «Если там еще осталось, — с сомнением пробормотал Милов. — У многих, знаешь ли, перед смертью возникает страшный аппетит». «Почему перед смертью?» — Ева тревожно поглядела на него, пытаясь заглянуть в глаза, но уже слишком было темно, а света они не зажигали, и она не смогла понять их выражения. «Потому что те нападут, — невесело ответил он, — а здешний люд — никудышные вояки, да и оружия нет». Эти слова окончательно вернули их в тот мир, что находился за стенами комнаты. Ева включила свет, поправила прическу перед зеркалом. Милов поцеловал ее, закинул автомат за спину, и они вышли. По дороге Ева сказала: «Давай заглянем ко мне на миг». Они заглянули. «Сестра, все в порядке?» — спросила Ева строго. «Все в порядке, доктор Рикс. Вот только тут звонили — искали вас». «Кто?» Сестра посмотрела на экран. «Он назвался Гектором. Просил передать, что ждет вас и господина в ресторане. Если я не ошибаюсь, это тот самый корреспондент, американец, который…» «Спасибо, сестра», — сказала Ева. Прошла вдоль гермобоксов, останавливаясь, внимательно вглядываясь, и трудно было понять — просто ли она наблюдает спокойным взглядом врача, или же прощается со своими крохотными пациентами.
* * *
В ресторане было еще больше людей, чем в прошлый раз, теперь тут сидели и женщины, и дети, и стоял невообразимый шум, а найти свободное местечко оказалось нелегко.
— Не просто будет искать здесь Гектора, — сказал Милов.
— К чертям Гектора, — сказала Ева. — Я хочу есть.
Кое-как они уселись. Официанты куда-то исчезли, но фрак метрдотеля Милов углядел в царившем хаосе. С трудом удалось заполучить его к столику.
— Вы решили уморить нас голодом? — строго спросила Ева.
— О, мадам… Просто беда: у нас ничего нет! Все съедено, и сегодня не привезли ни горсточки продуктов! У нас не осталось ни одной машины, все они увезли больных еще утром и не вернулись, а поставщики и не показывались. Говорят, что-то происходит, мадам, и я готов в это поверить, и я в отчаянии, и не знаю, что делать…
— А вы пошарьте в холодильниках, — мрачно посоветовал Милов.
— Бесполезно. Мы никогда не оставляем продукты на завтра, нельзя кормить гостей несвежим…
— Ну, хоть что-нибудь, — сказала Ева самым нежным голосом, излучая обаяние.
— Ну, разве что… — Не решаюсь выговорить — может быть, яичницу? Допускаю, что осталось еще с дюжину яиц.
— Давайте все, что найдете! — сказал Милов, придав голосу оттенок угрозы. — И я надеюсь, не все еще выпито?
— С этим пока благополучно, такие продукты не портятся. Я сделаю все, что в моих силах…
И действительно, яичница возникла, и еще какие-то обрезки ветчины, какие в нормальное время никто не решился бы предложить клиентам. Но сейчас все годилось.
— А, вот вы! А я разыскиваю вас по всему Кристаллу…
— Погодите, Гектор, дайте доесть, — попросила Ева. Журналист внимательно изучал их лица.
— Ну что ж, я так и думал, что без этого не обойдется. Но, откровенно говоря, удивлен, что вы все-таки нашли друг друга. От души поздравляю.
— Принимаю, — сказал Ева. — И не ждите, Гектор, что я стану смущаться. И Дан тоже.
— Я? Да я лопаюсь от гордости, — сказал Милов. — Ладно. Гектор, удалось вам добраться до армии? Дадут они связь? Или уже дали?
— Категорический отказ. Никакой надежды. Но кое-что все все же удалось выпросить. Оружие. Полный грузовик — старое, но еще стреляет. И патроны, конечно.
— Прелестно, — сказал Милое. — Кто только будет стрелять? Ну, а здесь что вы успели сделать?
— Побеседовать с начальством.
— У меня с ним, как пишут в газетах, не возникло взаимопонимания.
— Меня тоже поначалу слушали очень скептически. Но я их расшевелил, потому что у меня нашелся аргумент, какого у вас не было. Вы ведь лишь предположительно говорили о том, что на Центр могут напасть. Ну, а я видел отряды собственными глазами. Пришлось немножко попетлять по дорогам. Стягиваются со всех сторон. И сейчас они уже недалеко отсюда.
— Добровольцы? Если только они, то чем черт не шутит — таких солдат и тут полно, может, и отобьемся. А вот если вступят волонтеры…
— Думаю, что подойдут и они, но сильно опасаюсь, что их первым объектом будет электростанция — чтобы оставить Центр без энергии, простейшая логика диктует такой образ действий. А потом уже могут подойти и сюда — к тому времени, как это их ополчение докажет свою неспособность… Волонтеры, видите ли, честолюбивы. Везде свои сложности.
— Вернемся к начальству.
— Охотно. Моя информация заставила их призадуматься, и они поручили мне разыскать вас. Так вот, Дан, ученые мужи созрели для того, чтобы предоставить нам радио. Мы с вами должны составить текст. Давайте работать. — Движением руки Гектор смахнул посуду на пол — никто, кажется, даже не услышал звука, не оглянулся, не подбежал, — вытащил из кармана крохотный диктофон, поставил на стол. — Нет, пожалуй, на таком звуковом фоне мы и сами себя не поймем. — Он вынул блокнот, раскрыл. — Ну, вперед. Что для начала?
— К правительствам и народам всех стран… — начал Милов.
— К мужчинам и женщинам всего мира, — сказала Ева.
— Ну, конечно, — усмехнулся Гектор. — Решающее слово всегда остается за женщиной.
— Потому что оно правильно, — сказала Ева.
* * *
— …Теперь вы поняли, насколько положение серьезно. Не только здесь, где беда уже произошла, и не только наши жизни в опасности. Так будет и у вас. В вашей стране. На вашей улице. В вашем доме. События будут развиваться быстро, очень быстро. Вы должны успеть предотвратить их. Спасти природу, не забыть о человеке. Руководствоваться разумом и требовать того же от вашего правительства. Вы не должны опоздать! И еще… мы просим спасти нас. Мы ведь тоже очень хотим жить…
Закончив, Ева откинулась на спинку стула. Красная лампочка погасла. Передача закончилась.
— Хорошо, — сказал оператор из своего отсека. — И записалось нормально. Будем повторять непрерывно.
— Пока есть энергия, — негромко проговорил Милов.
— Кажется, мы ничего не забыли, — сказал Гектор.
— Но решится ли хоть одно правительство выбросить десант? — усомнился Милое. — Это ведь не просто. Существует международное и всякие другие права…
Гектор пожал плечами:
— Поживем-увидим. А пока давайте послушаем эфир. Лондон? Вашингтон, Ди Си? Или кого-нибудь поближе?
Они внимательно прослушали известия. Полным ходом шла подготовка конференции по Ближнему Востоку. Снова — в который уже раз — кто-то из великих спортсменов был уличен в употреблении допинга. Министры иностранных дел стран НАТО собрались на совещание, посвященное предстоящей встрече в верхах. Экипаж орбитальной станции чувствовал себя прекрасно… «Из Намурии сообщают…»
— Ага! — воскликнул Гектор. «Власти провинции, в которой расположен Международный научный центр ООН, потребовали его закрытия. Данные наблюдений со спутников позволяют прадположить, что столица все еще залита водами, хлынувшими из водохранилища после прорыва плотины. Связь со страной по-прежнему прервана, и новых сообщений, в том числе и о судьбе правительстм, не поступало. Правительства некоторых стран привели в готовность спасательные отряды, однако еще не ясно, будет ли им разрешен въезд на территорию страны. Остальные ее районы внешне не пострадали, в них наблюдаются активные действия населения. Погода на завтра:..» Гектор выключил приемник:
— Мы, конечно, слишком многого захотели: чтобы сразу…
— Вы должны что-то сделать! — сказала Ева. — Придумайте же, вы ведь умные люди!
— Пойду раздавать оружие, — сказал Гектор. — Поможете, Дан? По-моему, все остальное, что могли, мы сделали.
— Теперь вы должны сказать: «И можем умереть с чистой совестью», — добавила Ева иронически.
— Черта с два, — сказал Милов и обнял ее за плечи, — У нас еще все впереди"
* * *
— Миссис Рикс и джентльмены, — сказал шеф Центра. — Последний вопрос: как мы используем наш вертолет? Он дает нам возможность спасти хотя бы несколько ученых-людей с мировым именем. Цвет науки. И некоторые, уже законченные работы. Я наметил вот кого… — Он прочитал фамилии. — Боюсь, что это последний и единственный способ. Надежда, что мир отзовется на наш крик отчаяния, пока не оправдалась — и никто не может сказать, оправдается ли вообще. Так что иного решения, я полагаю, быть не может.
— Не только может, — сказала Ева, — но и должно быть. Дети. Вертолет оборудован кислородной установкой для их перевозки. До границы — час полета, а еще час — от границы до ближайшей клиники с гермобоксами. Надо спасать детей. Почему вы не подумали о детях?
— Было бы по меньшей мере странно, если бы мы не подумали о них, — ответил шеф. — Но мы решили, что они нужнее здесь. Как ни неприятно говорить это, однако они оказались как бы в роли заложников. Это ведь их дети — тех, кто нападает. И нигде в стране больше нет установок для устойчивого обеспечения их жизни. Дети находятся в Кристалле. И это обстоятельство может спасти Кристалл, если даже погибнет все остальное.
— А станция? — спросил Милов. — Если они взорвут ее, ни о каком жизнеобеспечении и речи не будет.
— Мы рассчитываем, что на станцию покушаться не станут. Взорвать со — значит, вызвать сильнейшее радиоактивное заражение местности. Это не в их интересах, не так ли?
— Вы полагаете, что они руководствуются логикой, — ответил Милов, — а это не так. Сейчас это — клубок эмоций. И еще одно обстоятельство: взрыв и заражение потом свалят на вас, и оно послужит еще одним доказательством бесчеловечности науки.
— Хватает и подлинных доказательств, — негромко прого-ворил кто-то из ученых. — К чему еще выдумывать их? Ну что же, ваша логика подсказывает, что мы ни в коем случае не можем позволить им хозяйничать на станции. Можем ли мы защитить ее? Милов покачал головой.
— Значит, в критический момент придется уничтожить ее отсюда. Вы, мистер Милов, может быть, не знаете, но наша станция покоится на плите, прикрывающей шахту глубиной в милю с лишним. Мы заглушим реактор и взорвем плиту. Станция провалится, а потом сработают заряды, обрушивающие породу.
— И мы останемся без энергии, — сказал Милов.
— Да. Останемся без энергии.
— И дети погибнут, — сказала Ева. — Самыми первыми.
— Да и не спасут они никого и ничего, — добавил Гектор. — Потому что народу еще утром объявлено, что дети вывезены. Их даже показывали с балкона.
— Но это же неправда! — сказал шеф.
— Объясните это им, когда они начнут стрелять. Наступило молчание.
— Вряд ли кто-нибудь из нас, — сказал один из адми-нистраторов, человек, известный всем, ветеран физики, чье имя стояло третьим в списке, — согласится спасти свою жизнь за счет ребенка. Меня, Майк, во всяком случае вычеркните. Я всю жизнь старался оставаться порядочным человеком, и, думаю, это мне в общем удавалось — зачем же на склоне лет… И я вам ручаюсь, Майк: при такой дилемме не согласится никто. Среди нас есть люди более способные, есть — менее, но подлецов я здесь не встречал.
— Джеп, — сказал шеф. — А может быть, это у вас просто срабатывает комплекс вины?
— Вот если я воспользуюсь вашим предложением, такой комплекс просто убьет меня. А так… да, каждому из нас можно осудить многое в своей жизни и работе, но я человек религиозный и отвергаю самоубийство в любой форме. Нет, Майк, я просто действую в соответствии с логикой. А вы на моем месте?
— Вы же слышали, Джеп, — сказал шеф, — что меня в списке не было. Я капитан, и сойду последним или — пойду ко дну. А вы, Анатолий — вы тоже есть в списке…
— Естественно, что я там есть, — сказал названный по имени ученый. — Но вот тут мой соотечественник, — он подмигнул Милову, — засвидетельствует, что мы — народ далеко не трусливый. Могли бы и не спрашивать, Майк.
— Боюсь, что вы правы, — сказал шеф и медленно разорвал список. — Следовательно: дети и обслуживающий их персонал. Я имею в виду и детей сотрудников Центра — по принципу возраста: самые младшие, столько, сколько возьмут пилоты. А возглавите вы, доктор Рикс.
— Ни за что! Я все сделаю, погружу их, но долететь они могут и без меня. В Центре множество женщин…
— Вы отвечаете за этих детей, — сказал шеф. — Без вас я просто не позволю отправить их. Нам же не жест важен — важно, чтобы они выжили!
— Дан, скажи им, — она прижалась к Милову, — объясни, что я не могу!..
— Ничего, родная, — тихо сказал Милов, — сможешь. Я понимаю, что сейчас остаться тут куда легче, чем улететь. На этот раз тебе придется труднее, чем всем нам. Но не спеши отпевать нас: мы еще не покойники, и не собираемся стать ими.
— Не хочу, не могу без тебя, — бормотала она, нимало не стесняясь присутствовавших. — Только что мы. Ни за что!
— Лети, Ева, — сказал Милов. — Сам-то я выпутывался и не из таких еще передряг. Это твои дети, ты сама говорила.
— Доктор Рикс, — сказал шеф. — Никто не расторгал контракта с вами, вы здесь работаете и, следовательно, выполняете мои распоряжения. Извольте заняться эвакуацией детей. Чтобы, самое позднее, через час машина была в воздухе.
— Час двадцать, быстрее невозможно, — сказала Ева, утирая слезы.
— Ну, вот и умница, — сказал Милов. — Идем, мы тебе поможем.
— Если все же придется взорвать станцию, долгой осады мы не выдержим, — сказал шеф. — Кондиционирование, подача воды, все, что нам нужно — прекратится. И у нас нечего есть.
— Но если они ворвутся, — сказал Гектор, — все кончится еще скорее. Только не надо иллюзий, шеф: они будут убивать. Нужно время, чтобы они пришли в себя.
— Или чтобы кто-то выбросил десант, — сказал старик, которого звали Джепом.
— Наше слабое место — ворота, — сказал Анатолий. — Они не рассчитаны на осаду. Ничто тут не рассчитано на осаду, но воротам — вообще чистая декорация.
— И еще стеклянный подъезд…
— Ну, тут легче: двери не столь уж велики, — сказал Гектор. — Я в этом кое-что смыслю: бывал в Бейруте, в Анголе, в Афганистане… Радио еще работает?
— Передает непрерывно, — сказал шеф. — И будет, пока стоит станция. Ну что же, пора спускаться, джентльмены. — По-моему, там уже началась перестрелка.
* * *
Куд-да! — подумал Милов, нажимая на спуск. — Вот то-то? Нет, это, конечно, не «Калашников», — думал он дальше. — Но для одиночной стрельбы — ничего, годится. А хорошо я устроился. Очень приятный ветерок. Вообще, чудесная ночь. Ночь черного хрусталя — так, кажется, говорил тот, в ресторане?
Он находился в том из помещений второго этажа, которое нависало над подъездом со стеклянными дверями. Окно, наклоненное вниз, как и все окна нижней половины Кристалла, было разбито, чтобы удобнее было стрелять; оно доходило до самого пола, и Милов лежал, опираясь на локти. Очередная атака была только что отбита, и напа-давшие вновь отступили за бетонный забор, где находились в безопасности от пуль. Менее сотни стрелков защищало Кристалл, но каждый из них находился в своем помещении, и наступавшим казалось, что обороняющихся много. Это не на моей совести, — думал Милов, глядя на тело, лежавшее вблизи ворот, ярко, как и все подступы к подъезду, освещенное сильным прожектором — одним из тех, что были установлены по периметру Кристалла в самой широкой его части. — Это на совести тех, кто взбаламутил и послал сюда несчастных дилетантов — они даже по прожектору попасть не могут… Ничего, воевать можно, только — долго ли? Если не будет десанта, наше дело проиграно, это ясно. Хорошо, что станция работает-значит, до нее еще не добрались. А когда доберутся — нам придется куда солонее… Боюсь, что волонтеры пошли именно туда: они-то понимают, что втемную нам куда труднее будет отстреливаться. Хотя — и тогда света будет, пожалуй, больше чем достаточно…
Наверное, света хватило бы, потому что на территории Центра многое уже горело — одно догорало, другое только занималось еще, третье горело вовсю, как будто зданиям надоела неподвижность, полета захотелось, полета — пусть и в виде пламени и дыма, пусть — в последний в своем существовании раз. Горело, выло, шипело, разлеталось густыми брызгами, пламена были где синие, где — зеленые, фиолетовые, желтые, оранжевые, белые — знатнейший получался фейерверк. Ветер дул от реки, и временами горящие куски и клочья чего-то, как бы лохмотья пламени, долетали до подножия Кристалла, догорали и бессильно гасли. Но гигантская глыба хрусталя стояла еще неповрежденной, если не считать разбитых окон; в какие-то мгновения" Милову казалось, что и Кристалл сейчас расколется, грянет обломками, осколками, дребезгами во все стороны, — то, наоборот, неизвестно откуда возникала вера в то, что — устоит, выстоит, всех перестоит, будет выситься до той поры, пока правительства всех сопре-дельных и отдаленных стран не перестанут чесать в за-тылках и начнут отдавать распоряжения. Но так ли получит-ся или иначе, — думал Милов, используя минуты передышки, одновременно заряжая обоймы, — молодец Ева, что не побоялась улететь. Она-то уж теперь в безопасности, за нее мне не страшно — и поэтому я могу воевать совершенно спокойно. Если уцелею — дома с меня, конечно, три шкуры спустят за вмешательство во внутренние дела чужой страны; но это не чужие дела, это и наши, сейчас все общее, потому что планета стала общей. А вообще — сейчас я не домашний, сейчас я ооновский, и защищаю институт, принадлежащий ведомству, в котором я работаю. Так, вот оно, — подумал он, потому что пол под ним слегка содрогнулся, и прожекторы разом погасли, а за бетонной оградой раздался радостный вой. — Станции конец! Сейчас, сию минуту надо им кинуться — пока мы еще не привыкли к новому освещению. Из-за забора, из темноты — и сразу на штурм дверей. Ага! Вот они! Ну, покажите, какие вы вояки…
Он стрелял, когда ему почудился шорох позади, за спиной, в комнате — не тот глухой стук, с которым врезались в стену влетавшие в окно пули, а именно шорох: кто-то неуверенно пробирался в темноте. Кому-то жить надоело, — подумал он, — или за патронами пришел? Нет уж, самому нужны…
— Эй, ты! — крикнул он. — Ползком двигайся, если уж такой настырный. Чего тебе? Стрелять надо, а не ползать!
— Погоди. Я сейчас.
— Ева?!
Она улегласо рядом. Выпустила очередь. Откуда у нее автомат? Хотя это мой автомат, по голосу узнаю. А патроны откуда взяла?
— Ева, патроны откуда?
— Привезла с собой? Как ты тут ведешь себя? Скромно?
— Кто тебе позволил вернуться?
— Никто не запрещал. Дело я сделала. А летчики тоже люди, и у них здесь товарищи…
— Ну погоди, негодная, я тебе… Стреляй, стреляй!
Наступавшие не выдержали и на этот раз. Откатились. Снова наступила передышка.
— Иди сюда, Ева.
— Зачем?
— Наложу взыскание. Он поцеловал со — насколько хватило дыхания.
— Ох, Дан… — сказала она.
— Ты абсолютно распутная, моя любимая женщина, — сказал он. — Без тебя тут так спокойно стрелялось.. Значит, довезла?
— Конечно же.
— Что там слышно?
— Слышно нас. Уже зашевелились. Пока я там возилась с малышами, прошли даже слухи о том, что готовится десант…
— Если бы!
— Но сверху мы видели — люди все еще идут сюда. Пилоты говорят, что это волонтеры.
— Далеко они?
— Нет, не очень уже. Знаешь, они не идут, они бегут, и через час-полтора могут оказаться здесь.
— Профессионалы, — сказал Милов. — Против волонтеров нам тут долго не продержаться. Они и вооружены лучше, и, главное — сноровка не та. Так что… Ты смотри: мало получили — опять собираются! Знаешь что, отдай-ка мне автомат, вот тебе карабин, тебе ведь все равно…
Даже лучше, — сказала она. — Держи. Вот патроны. — Ну, теперь я кум королю, — сказал он.
Перестрелка длилась несколько минут — и снова впереди опустело.
— Когда придут волонтеры, нечем будет стрелять, — сказал Милов. — На это они и рассчитывают: победить малой кровью. Наших, по-моему, поубавилось — большинство ведь тоже воюет на уровне здешних добровольцев. Ты уж, пожалуйста, будь добра, не щеголяй геройстром, не суйся под пули — тут не дикий Запад. О большем даже не прошу.
— Потому что понимаешь, я ведь и правда не уйду от тебя. Не могу. Когда-нибудь, может, сумею, а сейчас — нет. Ты понимаешь это? Серьезно?
— Знаешь, — сказал он, — после того, что у нас с тобой было, и правда можно, наверное, умирать спокойно: ничего лучшего в жизни не было и не будет. Но — хочешь смейся, хочешь нет — я все-таки надеюсь на здравый смысл человечества. Если даже где-то в правительствах сидят дураки или рохли, то не обязательно же на смену им должны прийти фашисты: бывает, что возникают и умные… И вот я надеюсь, что они успеют. Они должны успеть, понимаешь?
Ева не успела ответить: снова началась атака.
Милов бил прицельно, короткими очередями. Он видел, как падали люди, и ему было жаль их, но он знал, что иначе нельзя.
AN id=title>
* * *
— Доктор Рикс! Срочно — город! ОДА!
Женщина выхватила из кармана халата плоскую коробочку коммутива. Нажала кнопку.
— Доктор Рикс? — Голос в коробочке казался сплющенным. — Снова ОДА! Девочка, роды проходили нормально…
Женщина опустила веки — может быть, чтобы никто не увидел в ее глазах отчаяния. Но голос ее в наступившей мгновенно тишине прозвучал спокойно, почти безмятежно, как если бы ей сообщили — ну, что лампочка в прихожей перегорела, например; только свободная рука непроизвольно сжалась в кулак:
— Что предприняли?
— Сразу же, по инструкции, дали кислород. Затем…
Она слушала еще несколько секунд.
— Пока дышит нормально. Однако…
Она перебила:
— Готовьте к перевозке. Сейчас к вам вылетит вертолет.
— Доктор, хотелось бы… Видите ли, ее отец — Растабелл. Она знала, кто такой Растабелл.
— Не волнуйтесь, все будет отлично.
Рука с коммутивом медленно опустилась, бессильно повисла, но лишь на секунду.
— Доктор Карлуски, разрешите… Он кивнул узким, морщинистым лицом.
— Разумеется, доктор Рикс. Я уверен — это вчерашний выброс; следовало ожидать…
На несколько мгновение выдержка изменила ей:
— Шесть наших обращений к этому их правительству, шесть успокоительных ответов — и все на бумаге, только на бумаге… В конце концов, это же их дети, а не мои.
— Ну, что вы, — сказал доктор Карлуски, стянув морщины в улыбку. — Правительства всегда бездетны. Хорошо, что у нас еще есть гермобоксы.
— Еще три, — ответила она уже в дверях. — Что будет потом — не знаю…
— А кто знает? — сказал ей вслед доктор Карлуски.
* * *
Что будет потом, не знал никто. Ни здесь, в Международном Научном центре ООН, располагавшемся в уютном уголке Европы, в Намурии, — ни, пожалуй, во всем мире.
Правда, не было уже той растерянности, что сопутствовала первым подобным случаям — сперва вовсе непостижимым, потому что младенцы рождались вроде бы совершенно здоровыми, были они доношены, выходили правильно, не было ни удушения пуповиной и никаких других бед из числа тех, что подстерегают еще не родившегося. Вскрытия показали, что дети были совершенно нормальными — только их крохотные легкие выглядели как бы сожженными если не кислотой, то удушливым газом; а ведь ничего, кроме воздуха, каким все дышат, не содержалось в родильных залах. Все дышат, а эти вдруг не захотели: один, другой, третий, четвертый — и, как говорится, пошло-поехало. Не только в Намурии, хотя небольшая страна эта сказалась одной из первых, и не только в Европе; другая закономерность, правда, прослеживалась: чем ближе к большим промышленным районам, тем чаще такие случаи происходили, потому что тем меньше оставалось в этих местах того, чем можно дышать. Отказ дышать в атмосфере; вот что такое ОДА.
И в самом деле: можно ли было называть старым и легким словом «воздух» нынешнюю смесь кислорода и азоте со всеми теми неисчислимыми добавками, какими обильно обогащала ее цивилизация: продуктами сгорания твердого, жидкого и газообразного топлива в цилиндрах и камерах автомобилей, тепловозов, теплоходов, самолетов, энергостанций, заводов и фабрик, ракет; отходами промышленности — химической прежде всего, но не только, продуктами сжигания мусора; тончайшей цементной, фосфатной, другой всякой пылью; отбросами горнодобывающей и горнообрабатывающей промышленности — да что перечислять, тут впору заводить Черную книгу, чтобы на множестве ее страниц всерьез заняться поименованием всего того, чем мы за десятилетия усовершенствовали наивно-примитивную стихию, а здесь немеете для этого; добавим только, что уже не воздухом, конечно, была эта смесь — скорее уж следует назвать ее «Аэрозоль-ХХ» — по номеру нашего благодатного столетия и по ее физической сущности. Не будем говорить здесь и о том, что не одна только атмосфера подверглась подобному обогащению, но и мзда, и поверхность земли, и недра ее, да и ближний космос, пожалуй, тоже; попытаемся лишь назвать этот процесс приспособления природы к человеку самым пригодным для этого словом вместо существующего бодрого термина «техническая цивилизация»; словом этим будет война и не просто война, а гражданская. Потому что только на войне убийства происходят не исподтишка, но явно, и почитаются не за преступление, а за подвига — не так ли поступает цивилизация с природой? И не подвигом считали мы разве все достижения вышепоименованной? Подвигом, несомненно; и гордились, и подвигали на дальнейшее в том же духе. Итак, война. А почему гражданская? Потому что в гражданской войне народ уничтожает сам себя, для народа гражданская война — форма самоубийства или, если уж не до смерти, то самокалечения во всяком случае.
Не вчера это уже стало ясным. И не вчера впервые были произнесены власть предержащими во всех концах планеты правильные и весьма достойные слова относительно пресечения, недопущения, исправления, восстановления. Так клянется алкоголик: вот сегодня еще выпью, а с завтрашнего дня — завяжу! Так обещает сам в себе запутавшийся человек: с понедельника начну новую жизнь. Сколько завтрашних дней прошло, сколько понедельников.
Ты еще дышишь, человек? Ну живуч, прямо сказать.
Кто как, впрочем. Кому сейчас, скажем, семьдесят — тем дышится легче. Было время адаптироваться: родились-то они тогда, когда дышать было куда проще. Конечно, двести, или две тысячи, или двадцать тысяч лет назад воздух был еще чище. Но даже семьдесят лет назад над полями и в лесах еще держалась благодать, с неба не лились еще желтые, а то и радиоактивные дожди, а поля и грядки удобрялись более по старинке, навозцем. Так что хоть в детстве подышали вволю, а потом приспосабливались понемножку. Тридцатилетние, особенно горожане — уже другой коленкор: вдыхали аэрозоль с младых ногтей, хотя не столь еще густой, как нынче. Ну, а теперь и вовсе не осталось мест населенных, куда не проникли бы механизмы и химикаты. И вот в разгар научно-технической революции, грозившейся привести благодарное человечество к полному познанию всего на свете и безмятежному благоденствию, детишки как-то уж и вовсе хлипкими стали входить в сей мир, юдоль не слез, но небезвредных отбросов. Естественные компенсаторы и фильтры первыми не выдержали нагрузки, тем более, что их оставалось все меньше; они были природными богатствами, которые человек транжирил вместо того, чтобы разумно жить на проценты. И вот наконец и он, наиболее приспособляющаяся (за исключением разве крысы, клопа или таракана) часть природы, исчерпал, похоже, свои резервы адаптации и выносливости. Так что к тому дню, с которого началось наше повествование, на всех материках уже не на сотни, а, по статистике Всемирной Организации Здравоохранения, на тысячи шел счет представителям разумного вида, при рождении требовавшим для дыхания первобытно-чистого воздуха — или вовсе отказывавшимся жить. То ли мутантами они были, то ли спираль развития вышла на такую вертикаль — но так получилось.
Сперва, как уже сказано, растерялись. Но теперь научились крохотных бунтовщиков сберегать: помещали в герметические боксы, куда подавалась приемлемая для младенцев дыхательная смесь, с ароматом хвои даже. Кормить их тоже приходилось с самого начала искусственными составами из натуральных (по возможности) продуктов. И дети жили, словно драгоценные экспонаты музеев — за броневыми стеклами. Старшему из них во всем мире шел сейчас четвертый год. Самая младшая — вот только что родилась, при нас, можно сказать.
Что будет потом — это, конечно, не только доктора Рикс интересовало, не одну лишь эту молодую, красивую и (под белым халатом) несколько даже вызывающе одетую женщину, но и людей не столь уж молодых, строго одетых и занимавших куда более высокие, а порой даже и высочайшие уровни в мировой иерархии. Но как-то всегда оказывалось, что «сегодня» было важнее, чем «потом». Мир все усложнялся, но дышать не становилось легче. Что же касается людей, общества, человечества, то с ним было, как с ядерным реактором: работает, и взорваться вроде бы не должен. Но — может.
* * *
— Вызывает клиника Научного центра. Вертолет прибыл?
— Да, доктор Рикс, благодарю вас, только что погрузили малышку. Но господин Растабелл очень встревожен. Он…
— Успокойте его.
— Доктор Рикс, а не могли бы вы лично поговорить с ним? Вы специалист, да и американская медицина…
— Позвоню ему, как только дитя окажется у нас и я осмотрю его.
— И еще одна просьба, доктор: если…
Пол под ее ногами ощутимо дрогнул; звякнули инструменты в стеклянных шкафчиках, колыхнулась вода в стеклянном сифоне, листок бумаги спланировал со стола, и закачалась подвешенная к абажуру настольной лампы куколка: фантастический астронавт-десантник с бластером наизготовку.
Физики стали слишком много позволять себе, — мельком подумала женщина. — Совершенно не считаются с тем, что у нас — дети.
— Да, я слушаю: какая просьба? Алло! Вы меня слышите? Но телефон молчал.
* * *
— А теперь, доктор, вопрос на засыпку…
— Честное слово, Гектор, у меня не осталось ни секунды. Надо проверить, как новенькая дышит в боксе, затем…
— Что ж, я могу брать интервью не только на бегу, но и стоя на голове. Скажите: вот вы спасаете этих несчастных. Но что ожидает их потом? Герметичные дома, конторы, цеха, города? Или вы надеетесь научить их дышать той гадостью, какой дышим мы?
— Это задача для ученых. Я всего лишь врач.
— Их становится все больше. Не опасаетесь ли вы, что в один прекрасный день общество возмутится — с непредсказуемыми последствиями?


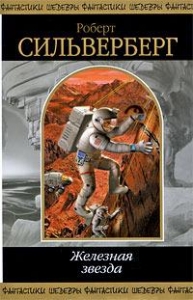
Комментарии к книге «Ночь черного хрусталя», Владимир Дмитриевич Михайлов
Всего 0 комментариев