ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ВЫПУСКУ АЛЬМАНАХА «ФАНТАСТИКА. ХХI ВЕК»
Альманах нужно купить!
Да, сейчас это самое главное. Купите и прочтите этот сборник фантастики молодых талантливых ребят. И, по возможности, напишите о нем.
Что понравилось, что не понравилось. Вы не представляете, как это авторам необходимо! К сожалению, «авторская слепота» не позволяет видеть им то, что видите вы. Поясняю на пальцах: автор смотрит на страничку и в любом случае видит свою яркую картинку, которую он для вас укладывал в эти значки, но для вас это в первую очередь ровные ряды значков на белом листе. Если написано плохо, ничего не увидите, кроме этих значков.
Если на уровне, то картинку все-таки увидите, но, скорее всего, не ту, что зрит сам автор.
А ему крайне важно знать, что же именно видите вы! Автор нуждается в вас, как снайпер нуждается в корректировщике. По первым публикациям невозможно определить какой силы будет автор. Спринтеры с коротким дыханием начинают ярко, интересно, красочно, но сгорают быстро, еще не успев показать себя и в половину силы, марафонцы наращивают потенциал медленно, неторопливо, без срывов, поднимаются со ступеньки на ступеньку… Но и тем, и другим необходимо ваше внимание, ваша поддержка! Так купите и почитайте эти вещи! Больше половины вещей в этом сборнике я не читал.
Конечно, это странное заявление от «главного редактора», но на то есть, как говорится, двенадцать причин. Назову первую, личную: я люблю этих ребят и не хочу с ними конфликтовать. А конфликтовать пришлось бы из-за каждого слова: я помню Никитина 60х, когда любое критическое замечание в свой адрес принимал как личное оскорбление, и если бы Никитин 90-х посмел ему сделать хоть одно замечание, да растерзал бы этого старого идиота, маразматика, тупого сталевара, выжившего из ума… и т. д. Ладно, еще и второе, поважнее: неизвестно, кем бы стал Никитин, если бы сразу начал прислушиваться к советам Старших Опытных Мастеров.
Прислушиваться и следовать им ревностно и слепо. Мол, Такой-то сказал! Скорее всего, дорос бы до уровня грамотного сотрудника районной газеты в Харьковской области. Которых как досок в заборе, одинаковых и не вызывающих возражений. Так что у вас в любом случае больше шансов им помочь, чем у меня, т. к. увешанная медалями грудь старого пердуна сразу вызывает протест и страстное желание возражать даже против нелепого утверждения, что дважды два — четыре. Пусть у каждого будет свой голос, который мне лично, может быть, крайне не нравится, но я не стану его настраивать под свой, конечно же, самый лучший на свете: ведь есть чудаки, которые думают иначе?:)
У меня на сайте выложена книга «Как стать писателем», но это не «Устав молодого бойца», а цикл лекций. Хочешь — пользуйся этими знаниями, хочешь — докапывайся до них сам. Однако, в этом альманахе не просто набор текстов разных авторов. На сайт в течении двух лет приходили рассказы, статьи, стихи, юмор. Был создан рейтинг читаемости. Счетчик сайта перевалил за 68 тысяч, многие из посетителей читали, давали оценку в «Откровенном разговоре». На основе полученных баллов для бумажного варианта альманаха отобраны в основном те вещи, которые получили наивысшие оценки!
Остальные — за борт. Что-то будет дорабатываться, что-то — в корзину без права помилования. Это к тому, что здесь не тот случай, когда самовлюбленный автор издает за свой счет все написанное им, вплоть до детских дневников. Есть закон, который годится на все случаи жизни: 90 % всего, что делается, пишется, говорится, создается — мусор. Это приложимо к музыке, книгам, изобретениям, политике, всем-всем сферам человеческой деятельности. Так вот, из всего присланного в электронный альманах, для этого, бумажного варианта, было отобрано всего 10 %:)))
Искренне Юрий Никитин.Примечание: Объем альманаха не позволил нам включить в этот выпуск сразу все «прошедшие проверку» лучшие вещи. Мы надеемся, что за первым альманахом последует второй, за ним и третий… Насколько реалистична такая надежда — зависит уже от вас, Читатель!
Рассказы. Повести. Новеллы
Свенельд Железнов ИЗБУШКА НА КУРЬИХ НОЖКАХ
Скрипя деревянными колесами, повозка медленно катилась на запад. Дорога причудливо петляла между деревьев и кустов, временами исчезая под ярко зеленым травяным покровом. Природа пела летние песни. Стрекотали сверчки, перестукивались дятлы-красноголовики, жужжали слепни, пищали комары. Повозкой управляла курносая девушка, одетая в драное холщовое рубище и лыковые лапти. Ее русые нечесаные волосы висели грязными хвостами, обрамляя чумазое личико, испещренное дорожной пылью и следами горючих слез. Большую часть телеги занимала большая клетка, сплетенная из прочных ивовых прутьев. На каждой значительной кочке клетка подпрыгивала и изнутри доносились охи и причитания. Рядом с повозкой на вороном коне ехал дюжий воин.
Растрепанные рыжие шевелюра и борода непокорно топорщились во все стороны, голубые глаза полыхали задором, а губы насвистывали пастуший мотивчик. Двухслойная кольчуга сидела на широких плечах будто влитая. С левого бока пояс воина был оттянут тяжестью увесистого кинжала, с правого — туго набитой калитой.
Притороченный к седлу, острый франкский меч шлепал по конскому боку в такт неторопливым шагам животного, круглый хазарский щит покачивался с другой стороны. Лук и колчан с двенадцатью калеными стрелами виднелись за спиной всадника, готовые к употреблению по первому желанию хозяина. — Покушать бы… — раздался слабый голос из клетки. — По что тебе, Соловей? — воин слегка качнулся в сторону повозки. — До Киева уж не далече. А там попотчуют тебя так, что не приведи господи! — Дай, хоть, сухарик, витязь… Три дня крошки во рту не держал.
Девушка подняла голову и с мольбой посмотрела на воина:
— Разрешите, добрый господин, я батюшке корочку суну…
— Не можно! Пусть побудет в шкуре тех, кого примучил. Нещадно извожу я татей! Нещадно! Святые угодники свидетели!
— Я не мучил никого, — послышалось из клетки. — А то рассказывать будешь! Вон Микулича Старого обобрал до нитки. Еле ноги до Мурома донес, бедолага. — Не мучил я его…
— А Горына тоже не мучил? Ни слуху о нем ни духу с тех пор, как он тебя искать ушел.
— Не видал я Горына, чем хочешь поклянусь…
— Нужны мне твои клятвы! — хмыкнул воин. — Такое чудище наговорит всякой небыли! Видал я, как ты клыками клацаешь, такими запросто голову откусишь! Внезапно конь под воином фыркнул и встрепенулся.
— Опять! — воин недовольно нахмурился. — Да, что ж это такое! Скажи, своей избушке что б не шла следом. А то, неровен час, потопчет кого, а мне отвечать пред князем! Объектом внимания всадника и его коня являлся небольшой бревенчатый сруб с простенькой соломенной крышей, вышедший на обочину дороги. Домик покачивался на двух четырехпалых ногах, напоминавших куриные, только значительно крупнее в размерах.
— Я ж говорил уже… Не в моей власти ее отогнать. Она за нашим родом издревле ходит.
— Ну, басурманин, благодари князя, что велел он тебя живым доставить пред светлые очи! Иначе б сгинуть тебе прямо сейчас! Чтоб род твой пресекся! Ох, ненавижу ворожбу! Воин обнажил меч и двинулся в сторону избушки.
— А ну проваливай, откуда явилась! Домик сделал пару шагов в сторону, потом повернулся и, с шумом продираясь сквозь кустарник, исчез в чаще.
— Вот так-то лучше, — воин спрятал меч в ножны и вернулся к повозке. — Ну, трогай, дивчина! Хоть и называешь ты это чудище батюшкой, не может оно быть тебе отцом! Такой красавице место в ясном тереме, а не сырой темнице. Всадник улыбнулся. Девушка просяще посмотрела ему в глаза:
— Отпусти нас, добрый господин… Обещаю, батюшка больше никому зла не причинит.
— Опять старая песня! За кого ты меня принимаешь? Татю — татья кара! И нечего тут обещать! Тебя б я еще отпустил. Да не идешь без этого поганца. Чудная!
Повозка со скрипом тронулась с места, приминая васильки и лютики. Девушка сидела опустив голову и тихонько плакала. Со стороны могло показаться, она дремлет, но воин знал, что это не так. Вместе они проделали долгий путь через луга и долы, из муромских лесов в полянские пределы — за это время понять привычки пленников было несложно.
— Да ладно, слезы лить, красавица! Вот увидишь, приедем в Киев — город все образуется. Забудешь этого страшилищу, найдешь достойного мужа! Уж князь о том позаботится. Он знаешь какой? — воин мечтательно улыбнулся. — Он такой… Он такой добрый! Когда пару лет назад впервые к нему явился, князь тут же в дружину меня взял. Сразу понял, что я за него и в огонь и в воду! Он в людях не ошибается! Хороших приголубит, а с плохих спросит.
— Я — нехорошая, — тихо ответила девушка.
— Отчего ж? — удивился воин. — Я — дочь татя…
— Вот нелепость! По что ему на дитя грехи отца перекладывать? Князь справедливый! Девушка спорить не стала и думала о своем. Воин ждал ответа…, потом хмыкнул и поехал вперед повозки.
* * *
В княжеском тереме уж пятые сутки подряд продолжался пир. Что именно праздновали — помнили немногие. Да это и не было важным. Те, кого позвали сюда, являлись гордостью Русского государства, его властью и силой. Лицом в квашеной капусте лежал бесчувственный воевода Путята. Рядом со скоморохами выплясывал поджарый седовласый старик — Добрыня, дядюшка великого князя. Тут же хвалились ратными подвигами два изрядно пьяных купца — Сотя и Хвалын. Оба владели десятками судов, уймой золота и драгоценных камней, о которых успели наговориться в предыдущие четверо суток. Теперь оставалось выяснить у кого больше воинской славы. Сам Владимир, великий князь Киевский, сидел в углу, лапая похотливыми руками грудастую молодицу.
Он уже почти протрезвел, но вспомнить имя этой румяной, податливой прелестницы не мог. Владимира это немного смущало. Он обещал дяде не трогать дочерей ближайших соратников, не будь на то согласия их родителей. Если окажется, что сидящая у него на коленях девица — родственница кого-нибудь из гостей, приглашенная вместе с родителями и соблазненная князем… У Владимира будет еще одна неприятная беседа с дядюшкой.
Князь глянул в пьяные глаза улыбающейся подруги. Она хотела его. Это князь за бурные годы практики научился определять так же верно, как и то сколько времени потребуется кату, чтобы выбить из татя первый крик. Владимир запустил руку под платье прелестницы и прошелся мягкими пальцами по внутренней стороне бедра.
Девушка затрепетала — ротик приоткрылся в сладострастном вздохе. Владимир двинул руку еще выше по бедру, почти касаясь срамного места. Вздох сменился стоном наслаждения, молодое тело затрепетало и прижалось к князю. Владимир начал подумывать, не уединиться ли с прелестницей в соседней горнице, как вдруг пред ним, будто из-под земли, вырос Лушок, ближний холоп великого князя.
— Княже, — Лушок старался не смотреть в то место, где исчезала рука Владимира. — Там Илюша прибыл. Опять с собой тварь дикую привез. Его сюда позвать? Али как?
— Ох, этот Муромский недотепа! Резвый какой! — заметил Владимир, не прекращал работать пальцами между ног прелестницы, — Что на этот раз поймал, наш богатырь? Жар-птицу? Лушок улыбнулся.
— Говорит, Соловья взял. Того самого, про которого Микулич рассказывал.
— Ну, раз такое дело, то пойду, взгляну на добычу!
Здесь одни искушения остались. Мы же нынче люди Христовы. Отец Михаил меня б одобрил, — князь подмигнул холопу, столкнул девушку с колен и поднялся на ноги.
Лушок, снова спрятав улыбку, повел господина через узенькую дверь во внутренние покои. — Я Илюшу просил во дворе тварь оставить. А то мало ли что от нее ожидать…
— Молодец. Заботливый мой, — князь сказал это таким тоном, что было непонятно, хвалит он или издевается. Миновав пару пустых помещений, Владимир и Лушок вышли из терема в небольшой двор, окруженный со всех четырех сторон бревенчатыми стенами. В тени крыльца сидел бородатый воин, перед ним стояли массивная клетка, боевой конь и девушка в рваном рубище. При виде князя воин вскочил и поклонился до земли.
— Исполать тебе, княже!
— Здорово, богатырь! — Владимир отечески похлопал Илью по крепкому плечу. — Ну, показывай своего Соловья! Как поет, послушаем.
— Княже, не надо его слушать. Велеречив безмерно. Гляди, тебя очарует!
— Да, ну? Уж не стройной ли фигурой? — в этот момент Владимир обратил внимание на девушку и, приблизившись, начал ее рассматривать.
— А это кто такая?
— Молвит, что дочь его. Ежкой звать. Но не может у такого чудища дочери быти.
— Наверно, не может, — Владимир осторожным движением руки приподнял голову девушки за подбородок. — Если тебя, дорогая, отмыть, то смотреться ты будешь великолепно… Илюша, открывай клетку!
— Да, княже, — воин выхватил меч и парой точных ударов развалил сооружение из ивовых прутьев.
— Батюшка! — вскрикнула девушка и бросилась к скорчившемуся на обломках существу.
— Доченька! — чудище, раскрыв объятья, прижало к себе легкое девичье тело.
— И это называется любовь? — задумчиво произнес князь, потом властно добавил: — Лушок, возьми девку и отведи в женские покои! Скажи Зорьке, чтобы отмыла ее и причесала!
— Слушаюсь, княже, — холоп схватил девушку за руку и сильно потянул на себя.
— Не-е-ет!
Ежка попыталась сопротивляться, но силы были явно не равны. Единственное, что девушке удалось — это порвать тесемку с золотистым амулетом на груди хлопца. Тот охнул, но смутился мало, подхватил свое сокровище в одну руку, девушку — в другую, и поволок пленницу внутрь терема. Когда крики Ежки стихли за дубовыми дверьми, князь пристальней взглянул на того, кого называли Соловьем. Руки и ноги пойманного разбойника были человеческими. По пять пальцев на каждой, обычная, немного желтоватая, кожа, дряблые мышцы и свежие ссадины на коленях. Чудищем Соловья делала голова. Огромная, не соразмерная туловищу, морда с единственным глазом посреди лба и зубастой пастью. Исключительная кривизна и желтизна зубов усугубляли облик пленника. Когда он открывал рот, у всякого возникало подсознательное желание отпрянуть. И Владимир живо отступил, едва Соловей запричитал:
— Не вели, великий князь, казнить… Напраслину на меня возводят люди.
— Хм… — Владимир с любопытством разглядывал чудище, корчащееся в дворовой пыли. — И что же они на тебя возводят?
— Говорят я жестокий мучитель и тать… Но посмотри на эти немощные руки могут ли они справиться с твоими богатырями? Мог ли я повергнуть тех великих воинов, в смерти которых винят меня?
— В самом деле… — Владимир задумчиво почесал подбородок.
— Не слушай его, княже! Брешет тварь! Брешет! — глаза Ильи полыхнули огнем. — Ворожбой он народ брал! Дикой силой людей корчил!
— Что ответишь на это, Соловей?
— Будь я искушен в ворожбе, разве был бы я здесь, несчастный и просящий о милости? Я — ни в чем не виноватый, бедный старик… — в единственном глазе разбойника навернулась прозрачная слезинка.
— Не слушай его, княже! Просто не слушай! Он красиво поет и мягко стелет, да только брешет! Разреши, я пихну его, чтоб больше не повадно было?
— Я лишь бедный, несчастный раб твой, великий князь… — чудище продолжало причитать, но Владимир на него уже не смотрел.
— Эй, ребята! — на окрик из тени выступили два дородных детины в кольчугах. — Этого — в темницу!
Продолжающего причитать Соловья схватили под руки и поволокли в сторону.
Владимир поморщился, не желая больше слышать навязчивый голос разбойника.
— А ты силен, Илюша. У этого татя хорошо подвешен язык. Я — тертый калач, а ты как его не отпустил, ума не приложу.
— Для светлого князя, старался! — Илья улыбнулся, преданно глядя в глаза хозяину.
— Крут ты становишься. Крут… Это заставляет задумываться, — Владимир насупил брови.
— Чем прогневил, княже?
— Нет, что ты, Илюша! — князь улыбнулся и похлопал богатыря по плечу. Ступай, выспись… У меня, может, для тебя особое слово будет. Илья поклонился до земли и, пружинисто впрыгнув на верхнюю ступеньку, шагнул на крыльцо.
Стражники, хоронившиеся за дверью в течение допроса, с неприязнью проводили его взглядами.
Владимир поморщился на яркое солнце, почесал в паху и, размышляя о будущем Киевского государства, направился к пирующим.
* * *
Доля младшего дружинника нелегка — всегда быть на подхвате у старших товарищей.
Если какую обязанность они сочтут скучной или грязной, самое время младшему взяться за нее. В этот раз Бусе досталось сидеть под дверью почивальни и сторожить заезжего богатыря. Приказ давал ни кто-нибудь, а сам воевода, потому Буса не посмел за ночь и чуточку вздремнуть. Все сидел и прислушивался к ровному сопению спящего воина. Ему было завидно и не мудрено. Илья замечательно выспался в личных покоях Лушка. Никто его не будил, над ухом ничем не гремел, петухам за окном воли не давал. Хозяин комнаты куда-то запропастился, князь к себе не звал.
Благодать! Илье это сразу не понравилось. Не понравилось еще во сне, перед самым пробуждением. Сладко зевнув и поднявшись со скрипучей лавки, Илья потянулся, разминая затекшие мышцы. Рука нечаянно скользнула по полке и задела глиняную крынку. Не успел богатырь и охнуть, как крынка ударилась об пол и невредимая покатилась в угол. Илья хмыкнул. Он уже привык к тому, что время от времени его неуклюжие движения чего-нибудь да попортят. На этот раз ущерба практически не было, что здорово насторожило Илью. День предстоит явно необычный.
Буса услышал, как за дверью заскрипело, потом стукнуло. Он довольно улыбнулся — похоже, его стража подошла к концу. Буса тихонько приоткрыл дверь и заглянул в почивальню.
— А… Пробудился…
— Ну, да. Что надо-то? Илья задавал вопрос уже в сторону захлопывающейся двери. Дружинник исчез, не удостоив его ответом.
Богатырь неторопливо оделся, натянул кольчугу, обул сапоги, опоясался мечом.
Распахнув толстые ставни, Илья выглянул наружу. День клонился к концу, хотя солнце стояло еще достаточно высоко, чтобы подчеркивать яркую зелень княжеских садов. — Ну, святые угодники, даруйте мне хороший денек! Илья улыбнулся. Он не знал отчего, но ему так захотелось.
Настроение стало улучшаться. Сила заклокотала внутри могучего тела. Напевая под нос детскую песенку, богатырь покинул почивальню Лушка. В тереме царил полумрак, а Илье хотелось к свету. Поэтому его первейшим желанием было, выйти во двор и подставить лицо порывам свежего ветра. Через пару мгновений первая половина желания была удовлетворена. Но с ветром не вышло… Запах фекалий и свежей крови ударил в нос богатырю. Перед его глазами предстал внутренний дворик. Но не такой дворик, каким он привык его видеть. В центре песчаной площадки возвышались два осиновых кола. Они были врыты в землю и увенчаны скрюченными изувеченными телами. Человеческими телами. Ветер слабо играл слипшимися от пота и грязи волосами на головах казненных.
Обнаженная кожа жертв, покрытая кровоподтеками и ссадинами, напоминала старую заскорузлую холстину, впитавшую самые отвратительные нечистоты мира.
Неестественно вывернутые и связанные конечности причудливо изгибались вокруг тел. По кольям, уходящим внутрь казненных через отверстия между ягодицами, медленно стекали кровь, моча, все то, что стремилось вырваться из ужасных ран наружу. Илья приблизился. Одного из посаженных на кол он узнал сразу. Это был пресловутый Соловей, тот, кто совсем недавно на этом же месте молил о пощаде.
Илья был уверен, что Соловья казнят. И гримаса боли застывшая на лице одноглазого ничуть его не тронула. Всех татей ждет тот же конец! Второго казненного Илья долго не мог признать. Точнее, он отказывался признать очевидное, пытаясь отыскать в чертах израненного лица, что-то противоположное собственным догадкам. Только когда солнечный луч упал на грудь умирающего, Илья окончательно уверился в своей страшной правоте. Блеск золотистого амулета развеял все сомнения. На колу принял смерть Лушок. Добрый, ненавязчивый парень, один из ближайших холопов великого князя. Пересохшие губы Лушка шевельнулись в надрывном хрипе:
— Илюша… Изуродованные глаза, прикрытые опухшими веками, не открывались. Илья удивился, что его присутствие замечено.
— Лушок, приятель. За что тебя так?
— Илюша, — мертвый голос повторил имя слабее, чем первый раз. — И ты…
Речь прервалась спазматическим кашлем. Багровая жижа начала сочиться через рот, стекая по подбородку, на грудь несчастного. Илья отвернулся. Он привык ко многому. Но не к виду медленной мучительной смерти. — Святые угодники, помогите ему… Внезапно в тени редких деревьев у дальней стены дворика что-то сверкнуло. Илья уловил мимолетное движение.
— Эй, кто там? Выходи! Ответа не последовало.
Илья, положив руку на рукоять меча, направился в сторону деревьев. Он двигался осторожно, ожидая любой неприятности. Для него не стало сюрпризом, когда воздух со свистом рассек острый нож, направленный точно в горло. Илья ловко перехватил руку нападавшего и стремительным рывком опрокинул противника на землю. Это удалось сделать необычайно легко. Что впрочем, не мудрено. Прижатая тяжелым воином, в редкой траве корчилась девочка.
— Ба! Ежка? — богатырь и не пытался скрыть удивления. — По что на меня с лезвием кидаешься?
— Я… Я… Я вас всех… — девушка задыхалась под весом могучего тела и захлебывалась слезами. — Ну, чего взгромоздился? Пусти! Илья помог ей подняться:
— Что ты нас всех?
— Убью… — сквозь слезы произнесла девушка. Раскрасневшиеся от плача глаза не глядели на богатыря, они искали упавший в сторону нож.
— Я понимаю… — Илья был не настолько глуп и догадывался, почему девушка испытывает к нему далеко не дружеские чувства. — Пойми и ты! Таков закон. Тать должен быть наказан.
— Вы сами тати! Ты и твой князь! Этот ублюдок! Палач! — девушка была не на шутку разгневана.
— Погоди. Не кричи так. Да слезу уйми! Тут уж ничем не поможешь…
— Но не долго вам осталось! Он тебя скоро казнит. А потом я расправлюсь с ним! — Ежка резко дернулась в сторону и, подхватив нож, вскочила на ноги.
— Стой! И не думай об этом! Я — добрый, а дружина порубит тебя от нечего делать!
— Ну и пусть! Все равно, я успею увидеть, как тебя затаскивают на кол! Рядом с твоим дружком — этим противным Лушком!
— Не надо так о нем. Он был хороший парень.
— Вот и корчись рядом с хорошим парнем! Гляди, вон кол для тебя заготовлен! — Ежка истерично рассмеялась, указывая в сторону места казни. Илья повернул голову и, действительно, увидел тесаный осиновый кол, валяющийся у свежевырытой ямки.
— Нет, это не для меня…
— Для тебя, для тебя! Я когда от этих гадких теток сбегала, слышала, о чем они судачат. Князю на тебя навет пришел. На тебя и на Лушка! Его взяли сразу, а тебе князь позволил выспаться. Он ведь тебя так любит! издевательски продолжала она.
— Замолчи! Брехунья! — Увидишь! — Ежка, продолжая смеяться, стала пятиться к крыльцу.
— Погоди! Не ходи туда. Хочешь, я помогу выбраться из города? Девушка ничего не ответила.
Она просто не успела и рта открыть, как за плечами стояли рослые дружинники, невесть как подобравшиеся к ним. Из княжьего терема повалили и другие.
— Ага. Вот они тут… — нехорошо ухмыльнулся красноносый воин. — Буса, держи девчонку. А мы потолкуем с Илюшей.
— Путята, мой поклон… — приветствовал воеводу, возглавлявшего отряд, Илья. — Только не делайте девчушке больно. Мала она и глупа еще.
— Это княжье дело. Но думаю, мы славно повеселимся сегодня ночью, — улыбка Путяты обнажила ряд гнилых зубов. — Так, робяты? Дружинники дружно загоготали и еще крепче стиснули Ежку.
— А ты, Илюша, за меч не хватайся. Скидывай, доспех-то. У князя в доме только мы при оружье право ходить имеем.
Полдюжины злых и наглых рож смотрели на застывшего в нерешительности богатыря.
— Пусть это мне сам князь скажет.
— Ишь чего захотел! Каков наглец! — Путята сделал пару шагов в сторону Ильи. Приторно-сладкая мина на лице воеводы вмиг сменилась угрюмой гримасой. — Быстро скидывай доспех. Третий раз повторять не стану! Илья живо отскочил и обнажил меч.
— Не, Путята. Так не пойдет!
Дружинники насупились и забряцали оружием.
— Бунт, Илюша? Что ж, пеняй на себя, — воевода махнул рукой. Пятеро крепких воинов ринулись на противника. Но богатырь был увертлив. Илья метнулся к воину, тому, что крепко держал перепуганную Ежку. Сталь клинков мелькала то справа, то слева, но ни разу не задела его. Дружинник не удержал равновесия и с размаху грохнулся наземь. Другой слишком неосторожно шагнул под меч Ильи и был тут же отмечен секущим ударом в бедро. Княжьи слуги двигались быстро, но Илья еще быстрее. Дружинники еще топтались во дворе, а богатырь, напоследок перерубив Бусе ключицу, уж взбегал по ступеням крыльца… Освобожденная Ежка, перепачканная яркой кровью порубленного дружинника, помчалась в дальний конец двора прочь от Ильи.
— Ежка! Ты куды? Сюда давай! — Илья хотел уже броситься за дурехой, но путь снова преградили дружинники.
— О ней не плачься!? С ней мы потом разберемся! — Путята смачно сплюнул и попал на распростертого Бусу. — А тебя, костяной мешок, щас нашинкуем.
Боярин взмахнул секирой, пытаясь подсечь Илью под колени. Богатырь легко подпрыгнул, вскочил на перила крыльца и оттуда с диким криком ринулся на врагов.
Налево и направо валились враги. Едва увернувшись от могучего бойца, Путята споткнулся о чей-то труп и ухнулся в пыль. Илья приметил Ежку, замершую в тупике частокола. К девушке, прихрамывая, приближался дружинник, занося меч для удара.
— Нет! Берегись! — вырвалось у Ильи. Но богатырь не поспевал, лети он, как молния, и то бы не поспел! Меч убийцы уже начал опускаться… Предчувствие свежей крови, предвкушение скорой смертной жатвы наполнило взгляд воина безумной жаждой. Он наносил верный удар. Расчетливый! От такого удара хрупкое, нежное девичье тело распалось бы на две половинки. Меньшая — с головой и правым плечом, большая — все остальное… Илья мчался через весь двор. Он бежал, он летел в отчаянной попытке обогнать время. Он уже угадывал на грубом лице убийцы изуверское любопытство. Отрубит ли меч тем же ударом и обе ладошки, беспомощно прикрывших мягкую плоть от твердой стали? Успеет ли насладиться видом кровоточащих культей?
Но Илья не успел. С грохотом и треском разлетелись в разные стороны бревна частокола, соединявшего два крыла княжьего терема.
В облаке щепок и пыли во двор ввалилось нечто огромное и свирепое. Опешивший дружинник на мгновение сдержал движение меча. Это и спасло Ежку. Тело неудавшегося убийцы отбросило в сторону могучим ударом огромной четырехпалой лапы.
— Избушка…? — удивленно и потерянно произнесла Ежка. Действительно, посреди оседавших на землю обломков, стояла изба — избушка на двух мускулистых куриных ногах. Со скрипом призывно приоткрылась дверь. Избушка явно приглашала внутрь. Илья не заставил себя долго ждать. За спиной суетились дворовые.
— Полезай в избу, дуреха! — прикрикнул он на девушку. — Шибче! Шибче! Ежка непонимающе уставилась на Илью, движения были вялыми и заторможенными.
— Ох, ну и беда ж с тобой… — Илья подхватил ее под мышки и резвым прыжком оказался на крыльце. Избушка тут же подалась в сторону пролома. И не напрасно. Путята орал на слуг и подгонял нерадивых пинками. Вслед беглецам уж летели каленые стрелы. Пара застряла в дверях.
— Как же! — ухмыльнулся Илья, — Ищи ветра в поле.
Перебравшись через Днепр, изба резвым шагом двинулась прочь от стольного града.
Могучие ноги несли ее в сторону разгоравшегося алым пламенем заката… В темномтемном лесу, на маленькой круглой полянке избушка остановила бег.
Сполоснув потное лицо водицей из ведра, стоявшего в углу единственной комнатки, Илья осушил корец сладкого квасу. Ежка пригубила из своего. Они впервые за этот сумасшедший день перевели дыхание и улыбнулись друг другу.
— Ты спас меня, добрый господин, — признала Ежка. — Я должна быть тебе благодарна.
— Да, ну, пустяки, — смутился Илья. — Так на моем месте поступил бы любой.
— Нет, не любой. Только храбрый и добрый вой. Как ты. Илья аж покраснел от того взгляда, что на него бросила девушка. Ему было чертовски приятно находиться рядом с ней, попивая холодный квас, в свете одинокого свечного огарка. — Я твоя должница. Скажи, что мне теперь делать?
— Ну, так уж и должница… — Илье от неожиданного вожделения стало тесно в штанах. Он поерзал по лавке, принимая более свободную позу и ненароком прижимаясь к девушке. — Ты — хорошая. Я хорошим помогаю, а плохих — бью.
— Я подумаю, как отблагодарить тебя, добрый господин, — ответила на это Ежка. — Утро вечера мудренее.
— И то верно, — Илья непроизвольно зевнул. — Тяжкий день выдался. Оправдывая свой поступок, он смутился еще больше.
— Да, пора спать, — Ежка окинула взором комнатку. — Я умещуся на печке. А ты ложись на лавке. Тебе подушку дать?
— Дай, — ответил, не задумываясь, Илья. Ежка поднялась и выволокла из ларя грубую, набитую соломой подушку.
— Вот. Принимая подушку, Илья коснулся нежной холодной руки девушки и замер в сладостном столбняке. Кровь забурлила в жилах, тело налилось предвкушением неги, взор затуманился радужными картинами.
— Пусти… — слабый просящий голос Ежки вывел богатыря из столбняка. Он очередной раз покраснел и промямлил извинения, отпуская тонкие девичьи пальчики.
— Все хорошо, — улыбнулась ему Ежка. — Укладывайся. Я пойду на воздух выйду. Скоро вернусь. А ты — спи. Спокойной ночи.
— Одного меня оставляешь? — в голосе Ильи слышалась наигранная укоризна.
— Я ненадолго.
— Ох, не люблю волшбу. А внутри этой волшбы спать — дважды не любо мне, проворчал Илья, укладываясь на лавку.
— Избушка — добрая. Она нам помогла, — Ежка мягко погладила богатыря по волосам. — Избушка — добрая. Как ты. Ежка исчезла в дверном проеме. Свет звезд и полной луны ворвался в комнату, осветив большую русскую печь, тяжелый железный ухват, кривую кочергу…
Что-то зловещее почудилось Илье в силуэтах, и он поторопился закрыть глаза.
Думать хотелось о приятном. О Ежке. Ее улыбке, мягком голосе, изящном теле…
Слабое поскрипывание половиц вернуло Илью из мира грез в реальность. Лениво приподняв веки, он не сразу понял, что темный силуэт на фоне белой печи принадлежит человеку. Человеку, который пристально смотрит на растянувшегося на лавке богатыря.
— Ежка? Ты что ль? Ответом был тихий смешок. Силуэт шевельнулся, и луна осветила знакомое драное рубище девушки. Мягкой походкой она приблизилась к богатырю.
— Ежка, ты меня не пужай! — попробовал пожурить ее Илья. Снова смешок. Илья протер глаза и… обомлел. Перед ним стояла древняя старуха, улыбаясь щербатым ртом и почесывая дряхлое тело через дыры в одежде. — Это что за… — Илья хотел подняться, но какая-то неведомая сила прижала его к лавке, не давая пошевелиться.
— Не так быстро, голубчик, — старуха говорила тихо, но веско. — Я с тобой еще не рассчиталась.
— Ты, кто такая? Что с Ежкой поделала? Старуха хихикнула. И в ночи раздался нежный девичий голос: — А ты сам догадайся, добрый господин!
— Ежка? Не может быть! Я хочу проснуться! — Илья закрыл и снова открыл глаза. — Сгинь, нечисть! Наважденье, сгинь!
— Сперва, ты заплатишь должок, добрый господин…
— Что я тебе должен?
— Жизнь моего сыночка.
— Ты о чем? Я толком не понимаю — кто ты, а уж о твоем сыночке не знаю и подавно! Старуха присела на край лавки и наклонилась к Илье. Ее морщинистое лицо было уродливо и отталкивающе. Но глаза… Эти глаза Илья уже видел. Это были глаза невинной девушки. Глаза Ежки.
— Ты отдал моего сыночка, бедного Соловейчика, на корм мухам и стервятникам. Я предам тебя на растерзание кошмарам и вечной боли.
— Ежка… Как это понимать?
— Поймешь, когда почувствуешь, — старуха загадочно ухмыльнулась. — Ты позавидуешь моему несчастному сыночку… Старуха взмахнула рукой, и в печи вспыхнул огонь. — Мы не будем откладывать. Мы начнем прямо сейчас. Илья напряг мышцы, пытаясь порвать невидимые путы.
— Хе-хе… — старуха окунула руку в бадью с водой и сделала несколько загадочных пассов, от которых у богатыря сперло дыхание. — Бесполезно стараешься, голубчик. Не следовало, так на квас налегать… Хе-хе…
— Эх! А я спасал тебя! С князем на век поругался! Эх, болван я, болван!
Илья выглядел расстроенным, но не поверженным.
— Тебе это приснилось, голубчик. Хотя, даже если было и так, мне все равно. Да и тебе скоро неприятности прежних лет покажутся детской забавой. Не думаю, что калеку, у которого вместо рук и ног культи, вместо глаз и лица ожоги, а во рту нет ни одного целого зуба, станет заботить княжья милость. Илья не обладал живым воображеньем, поэтому у него вырвалось только:
— Ах, ты, нечисть! Святые угодники, выручайте! Мы еще посмотрим, кто кого!
— Я посмотрю. А тебе недолго осталось любоваться красками этого мира. Старуха снова побрызгала на Илью водой и помахала руками. Внезапно налетевшим порывом ветра его приподняло и понесло к печи. Чугунная дверка услужливо распахнулась, изнутри пахнуло жаром. Илья в бессильной ярости попытался воспротивиться судьбе. Бесполезно. Пламя неумолимо приближалось.
Старуха пошевелила рукой, и движение в сторону печи прекратилось. Посмеиваясь, она склонилась к богатырю.
— Ну, что? Видишь, кто здесь Сила? Тут тебе твой меч не помощник.
— У! Подлая тварь! Надо было тебя рядом с сынком положить! Но ничего, доберется дружина и до избенки твоей! Не спасет волшба от силы княжьей!
— Этого ты в любом случае не увидишь. Но можешь облегчить свою участь. Если развлечь меня согласишься. — Старуха сделала многозначительную паузу. — Я вырежу тебе глаза, а ты их съешь. Проглотишь. Если не согласен, глаз тебя лишит огонь. Будь уверен, он сделает это гораздо больнее. А вместе с глазами прихватит еще кое-что. Илья молчал.
— Не согласен?
Илья накопил во рту достаточно слюны, чтобы его плевок в противное старушечье лицо оказался сильным и смачным.
— Тьфу! Вот мой ответ! Ведьма пошатнулась. Она явно не ожидала такого поступка своей жертвы. Старуха отступила на шаг и споткнулась о бадью. Бадья опрокинулась, вода с плеском хлынула на доски.
— Ух! — старая охнула и потом выругалась словами, из которых богатырь ни одного не понял. — Ну, держись, добрый господин! Она взмахнула обеими руками, как бы толкая Илью в печь.
Богатырь зажмурился… Но ничего не произошло. Он по-прежнему висел в локте над полом и полулокте от открытой топки. Колдунья повторила движение. Результат остался прежним.
Она снова выругалась на грубом, не знакомом языке. — Голубчик, тебе придется подождать.
Но не мечтай, что это будет длиться долго, — старуха схватила бадью и выскочила с нею за дверь. Илья очередной раз попытался сладить с невидимыми путами. Бесполезно. Еще раз.
То же самое. Илья собрал последние силы и… Будто что-то лопнуло богатырь рухнул на пол! Он еще не окончательно понял, что снова может владеть ногами и руками, когда в дверном проеме мелькнул знакомый силуэт.
— Ах ты…! — старуха окунула руку в воду и брызнула на Илью. Богатырь уклонился, волчком перекатился в сторону лавки и потянул рукоять. Верный клинок послушно покинул ножны.
— Держись, старая карга! — Илья поднялся на ноги.
— Тебе не уйти! Ты — мой!
Старуха плеснула водой в сторону богатыря.
Илья схватил левой рукой скамью и толкнул ее на ворожею, но тут же отшатнулся, опаленный колдовским жаром. Правда, и старуха рухнула, придавленная тяжелой скамьей.
Крики боли слились в один протяжный вопль. Старухе сломало руку и несколько ребер.
Но она пришла в себя первой. Ее здоровая рука принялась творить причудливые пассы.
Илья ощутил, как пальцы, сжимающие рукоять меча, начинают подчиняться чужой воле. И воля эта далеко не добрая. Чужой приказ был прост: клинок должен вонзиться в хозяина. Сейчас! Немедленно!
— Нет! — Илья схватился левой рукой за правую, препятствуя самоубийственному движению.
— Да…! — от напряжения на лице старухи вздулись вены и проступили жилы. Илья с огромным усилием переместился ближе к печке. Лезвие приблизилось к горлу богатыря почти вплотную. Он бросил взгляд на алые языки пламени. Меч скользнул по коже, оставляя кровавый след. Илья напряг мышцы и медленно, но верно, стал погружать правую руку в огонь. Царапина превратилась в рану — по горлу уже стекала тоненькая струйка крови. Кожа на пальцах правой руки вздулась волдырями, потом почернела и занялась губительным пламенем. Меч выпал, более не удерживаемый полыхающими мышцами. Илья заскрипел зубами, превозмогая дикую, безумную боль. Он выдернул обоженную руку из огня. Остаток руки. Старуха выглядела обессиленной. Ведьма вяло осела на пол, потерянно глядя на героя.
Илья, пошатываясь, шагнул в сторону двери. — Ты… Не можешь так просто уйти… — Могу. Но не буду! Илья поднял левой рукой меч. — Сначала я рассчитаюсь с тобой, нечистая сила! — Нет, это я с тобой, — усмехнулась в ответ старуха, окуная пальцы в бадью. — Поближе, добрый господин… Илья стремительно ринулся к ворожее, чтобы одним ударом снести голову. Но облако острых брызг швырнуло его назад…!
Хрустальные иглы раздирали плечо и грудь.
Боль была нестерпимой. Удушающей, обжигающей, раскалывающей… Илья кинулся в дверь. Старуха последовала за ним. Богатырь резко развернулся, выставляя перед собой клинок. Сталь с хлюпаньем вошла в брюшину и уткнулась в позвоночник.
— Ах, — вырвалось у Ежки, и Илья увидел, как девушка заваливается на бок. Да, да, именно девушка! Потому что не было больше безобразной старухи. Была юная девушка, пронзенная богатырским мечом.
— Что за…? — вырвалось у Ильи.
— Добрый господин, поверь мне… Я не хотела… — девушка боролась с ужасной болью, и ее слова были тихими и отрывистыми. — Она меня заставила…
— Кто? Что? — Илья осторожно склонился к поверженному телу.
— Избушка… — Ежка закашлялась, горлом хлынула кровь.
— Как так? Ты хотела меня замучить!
— Не я… Это испытание… Чтобы принять наследство… Я не справилась… Ты справился… едва слышно прохрипела она.
Илья хотел наклониться еще ниже, но иглы впившиеся в тело отозвались нудной болью. Богатырь вырвал из раны самую большую и хотел было ее выкинуть, но его остановил слабый вскрик: — Нет! Это частица твоей жизни!
— Что?
— Береги их… Пока, хотя бы одна из игл цела… Ты неуязвим… Я сделала так…
— Зачем???
— Мне не нужно наследство… Я не хочу… Извини…
— Э! Ну, а мне оно, скажи, зачем?
— Ты — лучший наследник, чем я… Избушка выбрала достойнейшего…
— Вот еще! Всегда не любил ворожбу!
— Теперь все здесь в твоей власти… И у тебя нет выбора… Тот мир и этот не смогут… жить вместе… Ты знаешь это…
Ежка закрыла глаза.
— Ежка! Да, что же это такое! — Илья приподнял голову девушки. — Не умирай! Я спасу тебя! Святые угодники, выручайте! Илья вцепился в нательный крест здоровой ладонью. — О, боже, умоляю! Единственный раз в жизни! Я больше ни о чем просить не буду! Никогда! Клянусь! Спаси ее! Спаси!!! Ежка последний раз хрипло вздохнула. И умолкла. — Ежка! Мертвое тело бледнело в лунном свете. Безжизненные очи смотрели на тусклые звезды застывшими зрачками.
Избушка скрипнула старыми бревнами.
— А ну, отойди! — Илья зло прикрикнул на избу. Та послушно поднялась на ноги и, как бравый дружинник, исполнила веление. — Дальше!!! Чтоб глаза мои тебя не видели! — Илья прокричал приказ громко и властно. Избушка засеменила в лес. Илья поцеловал Ежку в холодные губы. — Тяжкую ношу ты на меня взваливаешь… Ой, боюсь, не выдюжу…
Обугленная рука с силой сжала нательный крест.
— За что со мною так? За что?!!
Расплавленное серебро потекло по не чувствующим боли дымящимся пальцам.
Блестящие капли ярого металла оросили густую траву. Полная луна сияла в темносинем небе.
Глядевший на нее человек шептал странные слова:
— Ты, ночная хозяйка, будь моей единственной госпожой! И зови меня именем моим исконным, тем, что матушка нарекла…! Зови меня Кощеем…
Избушка тихо наблюдала за человеком сквозь ветви вековых деревьев. Она была довольна.
Антон Платов КРЫСОЛОВ
В году 1284. Чародей-крысолов звуками дудочки выманил из Гамельна детей
(Надпись на стене ратуши г. Гамельна)An Week nekt Schteen nekt Grants for Freend…
На Дороге не останавливайся нет преград для свободных…
(Надпись на одной старинной монетке из далекого Города)1
Он помнил. И пусть то была иная, чужая память, но он все-таки помнил. Страшный город. Грязные мостовые, дома серого камня, тускло-красные черепичные крыши.
Высокие, с золотом, шпили соборов. Городские стены, стража в воротах. Он видел город иначе, чем горожане. Он боялся задохнуться. Люди текли мимо него: бюргеры, солдаты, нищие, домохозяйки и проститутки… Улица была переполнена звуками, но он не различал даже брань и смех — то был один единый звук, голос города. В этом голосе был болезненный надрыв, и он понимал, что город болен, город умирает… но не умрет. Город всегда жил и всегда будет жить так…
Он помнил нищего на площади у собора святого Бонифация — это было так странно: золото цепей бюргеров и гноящиеся язвы на обнаженной руке старика. Бюргеры давали монетки своим детям, и те бросали медь в грязную шапку…
Он видел — они довольны друг другом, старик рад милостыне, бюргер — тому, что совершил «доброе». Молодой дворянин верхом на коне со вкусом сплюнул в сторону старика, рассмеялся, точно попав в его шапку. Старик заулыбался, кланяясь молодому господину… — Они все больны, — думал он, — они не виноваты. Это город заразил их всех, выел их души. Город их всех убил… Он помнил, как ночью били кого-то на улице.
В домах еще не спали — свет из окон пятнами лежал на мостовой. Никто не вышел на крик.
Он помнил монаха, схватившего за зад тощую торговку на рынке. Он помнил стражника, берущего деньги у вора. Он помнил страшное — улица, очень много людей, они все спешат куда-то, и глаза их пусты. Он помнил, как бежал из города, охваченный паникой и решивший, что ему нечего противопоставить злой силе города, пожирающего людей.
2
Переход на Парке Культуры опять был закрыт, и до Пресни пришлось добираться в обход.
Конечно, жаль было и потерянного времени, но гораздо больше Андрея раздражала необходимость лишнюю четверть часа провести в метро. Метро он не любил давно и прочно — за спертый воздух, напитанный запахами техники и потных тел, за вечные толпы людей, одуревших от грохота и толкотни. Сегодняшний день был расписан по часам.
Сначала надо было в издательство привычно ругаться по поводу задержки его новой книги. Конечно, Андрей давно уже не был тем двадцатидвухлетним юношей, который, получив пять авторских экземпляров своей первой книжки, целый час просидел на бульваре с двухлитровой бутылкой пива, снова и снова с восторгом перелистывая свое детище и не веря своим глазам. С тех пор прошло пять лет. Пять книг — не так уж мало для автора, которому нет еще и тридцати. И все же время, проходившее со сдачи каждой новой книги в печать и до ее выхода, всегда тянулось для Андрея мучительно долго. Он удивлялся, думая о том, как при «застое» авторы нередко дожидались своей очереди годами… Ругани, однако, не получилось. Директор отсутствовал, а с ним — и зам. по производству. Андрей потолкался по комнатам офиса, забрал у секретаря почту и уехал.
Следующим пунктом его сегодняшней программы было посещение редакции одного из журналов, с которыми он сотрудничал, — нужно было завезти рукопись статьи, обещанной уже год тому назад. Разговор с редактором, как всегда, затянулся: пришлось выпить несколько чашек кофе, выкурить четверть пачки сигарет, выслушать последние сплетни.
Андрей уже поглядывал на часы…
И снова — в метро, иначе не попадешь домой…
Мальчишки уже ждали его у подъезда. Сегодня их было только двое; впрочем, старший — Борис — уже скорее юноша, учится на втором курсе геологоразведочного института.
Черноволосому Максиму, его приятелю, пятнадцать.
— Привет, райдеры! — Андрей всегда искренне радовался, глядя, как улыбаются, приходя к нему в гости, эти ребята, еще не научившиеся при необходимости раздвигать губы в жалком подобии настоящей улыбки. Ему даже казалось, что Борис, тот, например, никогда этому не научится. (И дай Бог, думал Андрей.)
— Сам райдер! — отозвался Макс, протягивая ему руку.
— Здравствуй, — солидно сказал Борис. Они поднялись в его однокомнатную квартирку на девятом этаже; Борис достал из рюкзачка кулек с печеньем и привычно, похозяйски отправился на кухню ставить чай. Макс принялся помогать Андрею, разгребая сваленные на диване бумаги, чтобы было, куда сесть.
— Что это вы только вдвоем сегодня? — спросил Андрей.
— Может, еще Дэн с Сашкой придут. И Татьяна вроде собиралась, — Макс уже уселся на отвоеванный у рукописей уголок дивана и легкомысленно устраивался на нем с ногами. Потом чуть посерьезнел.
— Андрей, я новые стихи принес. Посмотришь? Как они изменились, подумал Андрей.
Тот же Макс, два года назад он был такой съеженный, обиженный миром и ощетинившийся в ответ на обиду. Борис едва не силком притащил его к Андрею. И только через год Макс первый раз показал ему свои стихи, хотя другие ребята давно, не стесняясь, читали свои вещи. Боги, какие это были стихи! С ломаным размером, иногда почти без рифмы, болезненно неумелые стихи тринадцатилетнего подростка. Андрей читал их, давясь непонятным стыдом пополам с жалостью. В этих стихах было пока только две краски: боль обиды и радость жить, но Андрей сразу увидел, что у мальчишки, смотрящего, как он читает, очень большой, настоящий талант. И тогда же он подумал, что Макс никогда не будет известным (популярным — это слово вызвало тогда отвращение) поэтом.
Ну и пусть, это была уже сегодняшняя мысль, — это не главное. Главное, чтобы он не стал одним из тех, кто с пустыми глазами трясется в вагонах метро, кто с довольной улыбкой бросает монетки в шапку нищего у собора святого Бонифация… Андрей вздрогнул, снова вспомнив тот город. Вздрогнул внутренне, но Макс сразу уловил это.
— Ты чего?..
Андрей улыбнулся.
— Ничего, Макс. Так… Да, все они сильно изменились за эти несколько лет. Разве что только Борис, меняясь внутренне, остается прежним внешне. Ну да ведь он и самый старший, и самый самостоятельный и спокойный… Бориса он встретил первым из них, три года тому назад, в экспедиции на самом севере Карелии. В тот день Андрей отпросился у начальника партии в самостоятельный маршрут, ушел с базы ранним утром и не обещал вернуться к вечеру — хотелось обойти сразу несколько далеких интересных обнажений, и Андрей не был уверен, что успеет все за один день. И не успел, конечно. К вечеру он тащился, обливаясь потом и сгибаясь под отяжелевшим от камней рюкзаком, вверх по склону очередной — последней на сегодня — заросшей лесом горушки.
Пахнуло вдруг дымом костра. Андрей поднажал и выбрался на вершину. Замер, пораженный открывшейся красотой. «Бараний лоб» горы — заглаженная ледником скала — выпуклым стометровым откосом уходил из-под ног вниз, к огромному зеркалу озера. Кое-где, там, где на скале могла удержаться земля, украшали «лоб» сосны. Ветер с озера отгонял комаров и мошку; опускалось за дальний лес солнце… А чуть в стороне от того места, где Андрей вышел из леса, горел на «лбу» костер — профессиональная «нодья», костер геологов и егерей, сложенный из трех бревнышек, не сдуваемый ветром и не гаснущий в дождь. Булькал над огнем маленький котелок. Чуть ниже, прикрытая от ветра скалой, стояла (опять-таки, профессионально была поставлена — не сдует, не зальет) одноместная брезентовая палатка.
Андрей не успел еще, как следует, рассмотреть чужой лагерь, как откуда-то изза скал появился мальчишка лет примерно пятнадцати, в потертых зеленых камуфлированных штанах, футболке и джинсовой жилетке, с пучком брусничных веточек в руке.
— Здравствуйте, — сказал мальчишка, кладя бруснику на камень и отряхивая с ладоней приставший мусор.
— Здравствуй, — сказал Андрей.
— Твой лагерь?
— Мой, — мальчик оглядел взмокшего под ношей Андрея. — Отдохните, у меня чай как раз вскипел.
— Спасибо, — Андрей улыбнулся и назвал свое имя.
— Борис, — сказал хозяин лагеря, пожимая протянутую Андреем руку. — Только заварка вот кончилась; ну, с брусникой не хуже.
— Да есть у меня чай, — Андрей принялся освобождаться от рюкзака; Борис сразу шагнул к нему, помог, ловко перехватив рюкзак сзади. Они уселись чаевничать между костром и палаткой — там был расстелен на земле вытащенный, видимо, из палатки пенополиуретановый коврик, именуемый в просторечии «пенкой». На пенке валялась заношенная, но относительно чистая энцефалитка, эмалированная миска, пара книжек. Андрей вдруг узнал несколько мрачновато оформленную обложку одной из них, рассмеялся. Молчаливый Борис недоуменно посмотрел на него, оторвавшись от приготовления чая.
— Панина читаешь? — спросил Андрей, кивнув в сторону книжек.
— Да. А что?
— Ну и как? Нравится?
— Нравится.
Такого спокойного и простого ответа Андрей почему-то не ожидал. Вздохнул.
— Это я — Андрей Панин.
Мальчишка, если и растерялся, то виду не подал. Несколько секунд смотрел оценивающе, потом, видимо, решил поверить.
— Здорово! И вернулся к котелку.
Потом, когда чай был готов, и была вскрыта банка сгущенки из андреевых припасов, Андрей все-таки не выдержал и спросил Бориса: — Послушай, так ты, что же, один здесь? — Да. — И чего ж ты тут делаешь? Мальчишка долго посмотрел на него и сказал:
— Я — райдер.
И Андрей, чувствуя, что ему оказано доверие, не стал в тот вечер ничего больше спрашивать… Но именно той ночью, лежа под светлым северным небом, над светлым же простором озера, видя пробивающийся сквозь неплотный брезент Борисовой палатки свет, слыша шелест мягких страниц и догадываясь, чью книгу листает Борис при свете фонаря, — именно той ночью Андрей вспомнил еще один кусочек прошлого.
Минувшего, которое было там, в Гамельне…
* * *
…Когда случилось Нашествие, был апрель. Он помнил, как сладко пели по ночам соловьи, как — изредка — голосили днем матери, потерявшие еще одного ребенка.
Был голод. Он ходил по деревням, помогая, чем умел. Неоткуда было взять хлеба, но он учил правильно варить суп из каштанов и буковых орешков — местные этого не умели, голод нечасто приходил в эти богатые земли. Он давал нужные травки отощавшим детям, и пару раз сумел уговорить мужиков забить несколько диких поросят в баронских лесах. Иногда он слышал звон колоколов Гамельна, город жил, город ждал, когда наступит пик голода, чтобы выгоднее распродать зерно. Тогда он вспоминал ужас городских улиц и обещал себе, что никогда больше не пройдет через городские ворота… Крысы пришли в Гамельн, когда город оказался последним в округе местом, где была еда. Он помнил ту ночь.
Неслышимый топот сотен маленьких лапок разбудил его после полуночи. Он открыл глаза и тотчас отпрянул к стволу древнего дуба, давшего ему приют на ночь. Крысы покидали деревню, где он был сегодня днем — так корабельные крысы покидают судно, которому предстоит пойти ко дну. Ни одна из них не решилась приблизиться, пока он спал; они далеко обходили его ложе из мягкого мха, выходя на имперский тракт в стороне от проселка. И тогда он вдруг понял, куда идут крысы. Крысы шли в Гамельн. — Со всей округи, — подумал он. В город, где много еды. В город, где нет добра и жизни. В город. Он поднял руки. Он заговорил на том языке, которого не помнили ни горожане, ни жители деревень. В город. Он видел, как по всей округе снимаются с насиженных мест, повинуясь его воле, крысиные стаи, как они уходят в сторону имперского тракта… В город. Он смотрел их глазами и их обонянием чувствовал сладкий запах зерна в амбарах Гамельна.
— В город, — сказал он. В город.
3
К восьми часам вечера Андрей добрался, наконец, в «Домбай», славную старую шашлычную, знакомую еще со школьных лет. Здесь всегда было полутемно и немноголюдно, а в дополнение к последнему достоинству здесь нередко подавали настоящий шашлык и неплохое харчо. Данька, конечно, был уже здесь.
Более того, вожделенный шашлык, политый кетчупом и обсыпанный луком, уже дымился на столе перед ним. Они поздоровались, и Данька, нагнувшись, выудил из-под стола бутылку «Красного Крымского». — У-у, — сказал Андрей, — «Массандра» — это к месту. Данька откупорил бутылку и разлил портвейн в стаканы…Даниил Матвеев был старинным (они вместе учились в школе, потом в Университете) другом Андрея.
Более того, Данька был еще и его «коллегой по перу». Правда, Андрей шутил иногда, что любая из его книг по тиражу превосходит все Данькины книги, взятые вместе. Данька не обижался — он знал цену своих книг. Андрей и сам понимал, что книга, которую прочитали и поняли десять мастеров, стоит книги, которую читают миллионы. Нет, и сам Андрей не писал «попсы».
Просто Данька не был «литератором» и не работал, как Андрей, в жанре fantazy.
Данька был магом и писал о магии. По крайне мере, именно так определял его деятельность Андрей.
Они выпили и принялись за шашлык.
— Спасибо за книгу, — сказал Андрей, одолев первый шампур и закуривая сигарету.
— Ты уже благодарил, — усмехнулся Данька, — неделю назад, по телефону.
— Все равно. Это здорово.
— Нашел в ней сюжет для новой повести?
— А то, как же! И не один. Хочешь, сделаю тебе комплимент?
— Хочу. Валяй, делай.
— Твоя книжка пришлась по душе моим райдерам.
— «Дорога на Монсальват»?
— Она. Знаешь, райдеры — суровые критики. Это действительно комплимент. Данька кивнул.
— Что же привлекло твоих странников в моем скромном труде?
— Не прикидывайся, сам знаешь, что.
Данька снова кивнул. Он знал, что — Андрей часто рассказывал ему о своих ребятах, в том числе и то, о чем сам мог только догадываться…Андрей никогда не был для них руководителем, — просто друг, один из очень немногих взрослых, которым они доверяли. Он почти никогда не задавал им прямых вопросов, предпочитая дожидаться тех редких случаев, когда райдеры сами рассказывали ему о себе. Борис — тот, кажется, ценил эту тактичность и в ответ старался помогать Андрею информацией, когда тот чего-то не понимал в их жизни. Борис был самым старшим из них — не только в Москве. Именно он — сам, по собственной инициативе, Андрей не настаивал — именно он в первый раз рассказал Андрею о райдерах. Это было уже в городе, осенью после той памятной встречи в тайге.
Потом Андрей познакомился с другими ребятами, узнал, что многие пишут стихи, а коекто — и прозу, стал возиться с ними, помогая выправлять стиль и слог, вот уже два лета надолго уводил нескольких ребят в лес, где вместе с Борисом учил их жить без метро и гамбургеров… Райдеры не были ни движением, ни — уж тем более! — организацией. Их и было-то всего: человек двадцать в Москве, да столько же в Питере, да по-нескольку человек в больших областных городах. При встрече они иногда рисовали на земле северную руну Дороги. Это не пароль, объяснял Борис, просто способ узнать друг друга.
От имени этой руны — «Райд» — и получилось само собой слово «райдер»… Одно время Андрею казалось, что райдеры немного похожи на хиппи. Но он быстро понял, что между ними нет ничего общего, кроме страсти к дороге и нелюбви к современному миру. Борис, например, коротко стригся, всегда был аккуратен в одежде, с равной простой элегантностью носил драную энцефалитку и тройку, подаренную отцом после поступления в институт. Райдеры не любили городов, никогда не тусовались, не болтались на трассе Москва-Питер. Но едва начиналось лето, райдеры, не собирая больших групп, «выходили на дорогу» и исчезали в лесах и на проселках России. Правда, один только Борис иногда выходил на дорогу в одиночку, остальные покидали города по двое или трое. Андрей давно уже привык присматриваться к людям, выясняя их литературные пристрастия.
В этом смысле «субкультура» райдеров была, несомненно, пропитана духом книг Крапивина. И еще — в меньшей степени — Толкиена и Кастанеды. И еще — его, Андрея Панина, книг. Он всегда удивлялся, думая об этом. Такое литературное «ирландское рагу» Андрей часто называл гремучей смесью (подразумевая Крапивина, Толкиена и Кастанеду, не себя, конечно). Да, райдеры не были движением, но Андрей чувствовал за ними неясную силу. Чувствовал, что, сложись некие обстоятельства, и райдерство охватит российских тинэйджеров, как эпидемия хиппи лет двадцать тому назад, когда московские мамы и папы дрожали от страха, как бы любимое дитя «не ушло в хиппи», подразумевая под этим полный социальный крах. Так действительно бывало — Андрей помнил и себя, и своих друзей…
И этим тоже райдеры отличались от хиппи — они не выпадали из социума, они вообще не любили внешних выражений. Андрей до сих пор многого не знал о них, хотя о многом догадывался. Так догадывался он, что каждый райдер верит в глубине души, что когда-нибудь лесная тропинка у него под ногами превратится в Дорогу… И потому так растрепался уже через неделю после выхода в свет подаренный Андрею экземпляр данькиной «Дороги на Монсальват». А Борис, подумал Андрей, он… он не верит, он знает. И ждет.
— Что-то с тобой сегодня?
— А? — Андрей встрепенулся. — Да вот… думаю о твоей книге.
— Ну и как? Думается?
— Еще как.
— А еще о чем думается?
— Еще? Еще — вот о чем, — Андрей расстегнул свою папку, достал вскрытое письмо, бросил на стол перед Данькой.
— Это что?
— Письмо, — Андрей пожал плечами. — Из сегодняшней почты.
Забрал в издательстве еще утром, да руки только сейчас дошли посмотреть. Вот ехал в метро, читал и думал.
— Мне прочитать? Можно вслух? Андрей кивнул. Данька взял конверт, повертел в руках, вытащил из него сложенный вчетверо тетрадный листок.
— Уважаемый Андрей Викторович, — Данька хихикнул: — Не иначе, как от восторженного поклонника. Или поклонницы? — он посмотрел вниз, на подпись. — Нет, все-таки от поклонника.
— Да ты читай, читай. Оно не длинное.
— Ага. Итак…
Уважаемый Андрей Викторович. Наверное, Вам покажется странным мое письмо.
Пожалуйста, поймите меня правильно. Мне очень нравятся Ваши книги, даже немного слишком… Хм, оригинально…
Но я хочу спросить Вас: Вы помните, давным-давно, при «застое», писателей называли «инженерами человеческих душ»? Мне казалась идиотизмом эта формулировка, но я был тогда всего лишь школьником. Теперь я знаю, что Настоящий (Настоящий с большой буквы, как у Лукьяненко в «Мальчике и Тьме») писатель действительно является этим самым инженером. Доводилось ли Вам задумываться, что происходит с читателем после того, как книга прочитана? Неделю назад… — Данька вдруг замолчал, быстро взглянул на Андрея.
— Читай, читай…
— Неделю назад один мой знакомый, совсем молодой, пытался уйти. По счастью, его нашли вовремя. Потом он рассказывал мне: это была очень хорошая книга, после нее было трудно жить здесь. Не пугайтесь — это была не Ваша книга.
Поверьте, я просто хочу предупредить Вас! Мне кажется, Вы можете подняться до уровня того Мастера, который написал эту книгу. Я не буду называть его фамилию, не надо. И еще: Вы знаете, что сказал Толкиен, когда ему рассказали о том, какую волну «толкиенизма» вызвали его книги? Он сказал: «Я испортил им жизнь»…
Прощайте. Всего Вам доброго.
Данька замолчал, потом сложил письмо, засунул его обратно в конверт. Отодвинул к Андрею. Спросил:
— Ты не знаешь, Толкиен действительно сказал эти слова?
— Да.
Они снова помолчали.
— Мне кажется, тебя должна радовать столь высокая оценка твоего таланта… — осторожно сказал Данька.
— Ты так думаешь?
— Я-то? Нет. Андрей хмыкнул, убирая письмо в папку. — Где там твой «Красный Крымский»? Под столиком, как в добрые старые времена?
— Не печалься, дружище, этот твой поклонник не прав, — сказал Данька, наполняя стаканы. — Ведь если не писать хороших книг, то останутся только плохие, и это будет неправильно. Кроме того, хорошие книги виноваты здесь не больше, чем омут, в который нужно бросить ребенка, чтобы тот научился плавать. Понимаешь?
— Да, - сказал Андрей. — «Я тот, кто вечно хочет зла, и вечно совершает благо». Классика. Ты что-то писал об этом.
— Писал, — согласился Данька. — Однако, учти, автор письма прав в другом:
Настоящий писатель всегда маг, обладающий огромной силой.
— Да, — снова сказал Андрей.
— Я знаю. Я помню…
* * *
…Он помнил. Коты бежали из Гамельна на второй день Нашествия. На третий день колокола собора святого Бонифация заговорили по-новому: больше они не пели благо славного Гамельна, они пели его смерть. — Я не могу бороться с городом, — думал он, — я могу только убить его. На пятый день в городе не осталось хлеба. На седьмой день Нашествия его отыскал мальчик. Это был Вилли — самый старший из тех, ради кого он приходил иногда в город, пока еще мог терпеть городскую жизнь.
Никто в городе не понимал, чему он учит Вилли и других детей — то ли игре на дудочке, то ли древним позабытым стишкам и считалкам… — Мастер, — сказал Вилли, — город умирает. Крысы… — Я знаю, — сказал он. Вилли посмотрел ему в глаза и понял. Медленно, словно ломаясь, мальчик опустился перед ним на колени. — Мастер… — Не надо, Вилли.
* * *
— Боги, — подумал Андрей… — Вилли, Борис…
* * *
— Мастер… там дети. Они же не виноваты. Там… моя мама… — Если мальчик заплачет, — подумал он, — я не выдержу и пойду в город. Вилли не заплакал. Но Мастер поднялся с мягкого мха и шагнул на имперский тракт — спасать город, который ненавидел.
4
Домой Андрей добирался уже заполночь. Вышел из метро на пустынный ночной проспект окраины Москвы. Ждать автобуса не хотелось, да и бесполезно было, скорее всего. Андрей поднял воротник плаща и зашагал… Вот и его дом. Перейти улицу, подняться на девятый этаж… Хорошо, если лифт не отключили… Машину он заметил, дойдя до разделительной полосы. Черный мерседес с тонированными стеклами. Андрей остановился на полосе, пропуская его. Мерседес вдруг выключил фары и притормозил, и Андрей сразу понял, в чем дело — слышал про такие развлечения. Стало жутко, как в кошмарном сне… Он метнулся назад, к тротуару, под защиту редких деревьев. И сразу понял не успеть. Мерседес вильнул в сторону, подрезая его. Андрей рванул, уже не надеясь убежать, обратно. Мерседес зацепил его на самой середине шоссе. Андрей упал, откатился, теряя сознание… Кто-то громко звал его по имени, и это почему-то было важно. И еще было очень важно найти что-то ценное, выпавшее из его руки… Андрей не понимал, что… Пересиливая боль, с трудом удерживая ускользающее сознание, он приоткрыл глаза. Грязная мостовая Гамельна была перед его лицом.
* * *
Скрутив руки за спиной, двое стражников выбросили его из здания ратуши, когда он пришел за обещанным золотом. Лишь час назад крысы покинули город, повинуясь волшебному напеву его дудочки. Теперь он лежал лицом в гамельнской грязи.
Бургомистр и его люди хохотали где-то очень далеко, у парадного подъезда, с которого его только что сбросили. Перед глазами плыло. Волшебная дудочка, подаренная владыками Дивных, выпала из-за пазухи и откатилась, и не было сил дотянуться, сберечь подарок от грязи и смеха… — Мастер… Мастер! Он приподнял голову. Вилли. — Мастер… — мальчик плачет. «Я не люблю, когда плачут дети. Я — Мастер». Он приподнялся. Встал на четвереньки.
Подобрал дудочку. Вилли бросился поддержать его, обнял за плечи, помог встать на ноги.
«Я не могу бороться с городом. Я не смог даже просто убить его. Но я Мастер. Я могу иное».
Он поднес дудочку к губам. Он заиграл. У ратуши засмеялись: они не поняли. Эта музыка — не для них. Но вот скрипнула дверь в доме напротив.
Маленькая девочка услышала — город еще не пожрал ее сердце. Хлопнули ставни в другом доме, и мальчишка постарше спрыгнул из окна на мостовую… Плачь, Гамельн!
«Плачь, Гамельн, ибо я — Мастер. Я знаю, как превратить в Дорогу даже твою грязную улицу. Я уведу твоих детей — тех, кто еще жив…»
— Мастер! Андрей снова открыл сомкнувшиеся было глаза: «Вилли? Нет, Борис.» Он приподнялся на локтях. Борис бросился поддержать его.
— Ты… что здесь… делаешь?.. Ночью…
— Я чувствовал плохое… Я звонил, никто не отвечал… Андрей, я боялся…
— Не надо, Борис. Не бойся, — он перевернулся на бок, потом исхитрился сесть. — Помоги мне встать, и пойдем домой. У нас много работы, ты же знаешь. Надо научиться превращать улицы в Дорогу…
Что-то было зажато в его кулаке. Он оторвал руку от асфальта и поднес к лицу. Дудочка. Он рассмеялся: «Я не могу победить тебя, город. Но я — Мастер. Я могу иное!»
— Пойдем, Борис.
— Да, Мастер. Что же, плачь, Гамельн…
Георгий Сагайдачный В ОДНОМ ИЗ ТЫСЯЧИ МИРОВ
— Ты все понял, Василий? — спросил, выходя из машины, высокий широкоплечий мужчина лет сорока с небольшим, одетый в элегантный серый плащ. — Жди меня здесь и сиди спокойно, что бы ты ни увидел и, что бы тебе не показалось. — Товарищ генералмайор, а может все-таки мне с вами? — начал, было, молодой человек, сидевший за рулем черной «Волги». — Вася, ну что ты в самом-то деле? Это всего лишь встреча с одним моим старым добрым знакомым. — И все же я… — Товарищ лейтенант, вам ясен приказ? Через несколько секунд генерал уже скрылся за деревьями, обступившими заброшенную лесную дорогу. Он мерно шагал по ночному лесу, и окружающая темнота, казалось, совсем ему не мешала. Генерал переступал через незаметные даже днем корни и сгнившие стволы, глубоко ушедшие в землю, отводил рукой загораживающие дорогу ветви. Ни разу не сбился он с выбранного направления. Хорошо знавшие генерала, увидев его в эту минуту, изумились бы тому, как разительно переменилось лицо этого человека. Оно, прежде грубовластное, было теперь преисполнено ледяного спокойствия и какой-то сверхчеловеческой мудрости. Во взоре светились громадная внутренняя сила и суровая непреклонная решимость. Мало кто сумел бы выдержать этот взгляд, не опустив глаза. Лес неожиданно кончился. На небольшой поляне, за низеньким ветхим забором стоял рубленый дом под тесовой крышей, с высоким крыльцом и побеленной печной трубой. В окнах горел неяркий желтоватый свет. Генерал улыбнулся. То была холодная, недобрая ухмылка, не сулившая обитателям домика ничего хорошего.
Бесшумно ступая, он прошел по тропинке через незапертую калитку, поднявшись на крыльцо, распахнул дверь и, перешагнув порог, окинул взглядом скромное жилище, освещенное керосиновой лампой, стоявшей на подоконнике. Большая изразцовая печь, широкая самодельная кровать, старые и новые книги на полках вдоль стен, медный, позеленевший от старости рукомойник. За квадратным некрашеным столом сидел уже давно немолодой человек, в накинутой на плечи ватной безрукавке. При появлении генерала он торопливо вскочил. Вошедший с удовольствием отметил, как мгновенное изумление сменяется на лице хозяина неподдельным испугом. — Я приветствую тебя, Даон, во имя завтра и вчера, — церемонно произнес он на языке, понятном из живущих на Земле лишь им двоим, — я очень рад видеть тебя… — Здравствуй, Фаргирм, — ответил по-русски старик после секундной паузы, Здравствуй… И прости, что не могу разделить твою радость. — Что же смущает тебя, мой старый друг? — столь же церемонно и преувеличенно вежливо, и вместе с тем с нескрываемой иронией спросил тот, кого назвали Фаргирмом. Лицо его собеседника вдруг приобрело точно такое же каменное выражение, как и у вопрошающего. Он вновь сел за стол. — Как ты все-таки нашел меня Фаргирм, неужели, я совсем ослеп и оглох, что ничего не почуял? Пододвинув ногой колченогий табурет, незваный гость тоже сел. — Не беспокойся, все твои способности остались при тебе, — уголки его губ насмешливо дрогнули, хотя голос оставался размеренным и спокойным. Просто я искал тебя без помощи магии, способами принятыми среди людей. Я знал, что ты не сможешь жить как обычный человек, и обязательно займешься чем-то сродни своему искусству. Остальное было делом времени. Ну, а как мне удалось выяснить, в какой именно из миров ты скрылся и где именно в этом мире ты обосновался — это уж, с твоего позволения, останется моей тайной. — Долго ты искал меня? — тихо спросил Даон. — Почти двести лет. — И как ты жил все это время? — Говорю — же, искал тебя. Служил в жандармах, в НКВД, в КГБ… А как жил ты? Впрочем, можешь не рассказывать… Врачевал людей и скотину, ворожил безмозглым девчонкам на женихов, и, должно быть, был не раз женат, помнится, ты был неравнодушен к смертным женщинам… — Да, Фаргирм, все правильно, все так и было, — кивнул Даон. — Только почему ты говоришь об этом с таким презрением? В моей жизни здесь было немало хорошего; и я, наконец, обрел покой. Ты, конечно, вряд ли меня поймешь. Ты всегда был другим; даже наше поражение тебя ни капли не изменило. Старик вздохнул, и вдруг пристально взглянул Фаргирму в лицо. — Что тебе нужно от меня, Фаргирм? — Сущие пустяки… Всего-навсего Талисман Хурана. Даон смертельно побледнел при этих словах, глаза его в ужасе округлились. Он порывисто вскочил, но тут же вновь опустился на стул под каменно-тяжелым взглядом Фаргирма. — Послушай… — выдохнул он, наконец, справившись с собой, — Я не могу понять, как ты узнал…, но не в этом дело…
Ответь мне, Фаргирм, чего ты хочешь?! Ты ведь сам говорил еще тогда, что наш мир стал совершенно иным, и изменить что-либо уже не в нашей власти. Ты ничего не добьешься, какими бы силами ты не располагал; только разрушишь то, что еще уцелело. Или ты просто желаешь отомстить? — Я рад, что ты не стал унижать меня и себя ложью, отрицая, что Талисман у тебя, — спокойно и чуть насмешливо произнес маг, — Но ты напрасно беспокоишься о судьбе мира, который называешь нашим, — он не интересует меня уже очень давно. — Зачем же тебе тогда Талисман Хурана?! — тоном человека, загнавшего противника в ловушку, воскликнул старик. — Что ж, не вижу причин это скрывать… С его помощью я намерен взять власть здесь, в этом мире. В моем мире… Сперва в этой стране, — сделать это сейчас будет совсем несложно, а после и на всей планете. — Ты хочешь власти над людьми? — пробормотал Даон, и в его голосе звучало бесконечное удивление. — Но зачем??
Ведь мы… Я хочу сказать: Фаргирм, ты же не человек… Впервые за все время их разговора Фаргирм искренне рассмеялся. — Как ты до сих пор этого не понял, Даон.
Человек остается человеком во всех мирах, сколько их ни есть, как бы он себя не именовал, и, кем бы ни считал себя сам. Пусть он даже бессмертен… почти бессмертен. Людям для их же собственного блага, — продолжил он, — нужен властитель возвышающийся над ними, неподвластный их ничтожным страстям и желаниям. Бессмертный, чье могущество беспредельно, а власть несокрушима, — кто еще сможет устроить их жизнь лучше? Здешнее человечество живет неправильно, многое нужно будет изменить… Лицо его хранило ледяное спокойствие, голос был бесстрастен, словно он размышлял вслух о вещах отвлеченных и малозначительных.
Но глаза Фаргирма давали ясно понять: то, о чем он сейчас говорит, уже очень давно стало смыслом и целью его жизни. — Но вспомни: не ты первый ищешь власти над миром смертных; и ты должен помнить, что ничего хорошего из этого не выходило. Ни для этих миров, ни для наших собратьев. — Ты забываешь, Даон, кое о чем весьма важном, — те, о ком ты упомянул, желали обрести эту власть не для блага людей, и даже не ради самой власти. В ней они видели только орудие для достижения своих, не относящихся к делам смертных, целей. Кроме того, эту власть у них оспаривали им подобные. А в этом мире бросить мне вызов будет некому, — он высокомерно усмехнулся. — Хорошо, — старик устало махнул рукой, — может быть ты и прав, не знаю. Но вспомни, какими силами повелевает Талисман Хурана, кто и что подчиняются ему.
Неужели, ты полагаешь, что удастся справиться с Теми, Кто За Пределом… — Даон опасливо понизил голос. — Тебе с ними не сладить, ты погибнешь, сам и погубишь невесть скольких людей, к которым причисляешь себя. — Но ведь удавалось же это создателю Талисмана? — Ты же знаешь, Фаргирм, Предшествующим было ведомо многое, что утрачено нами безвозвратно. — Это уже мои заботы! — отрезал Фаргирм. — Отдай мне Талисман Хурана и уходи в любой из миров, если боишься! Впрочем, можешь остаться, если хочешь. Мой мир достаточно велик. Старик вздохнул: — Я давал клятву… — Брось.
Само Всемогущее Время освободило тебя от нее. Не осталось ничего из нашего прошлого, — в голосе Фаргирма прозвучала вдруг глубокая горечь. — Уже давно нет ни тех, кому ты давал ее, ни даже тех, чьим именем ты клялся. — Кто может знать это наверняка? — еле слышно прошептал Даон. Повисло напряженное молчание. — Послушай, Фаргирм, — вдруг умоляюще воскликнул Даон, — Я взываю к твоему разуму; ты ведь был едва ли не умнейшим среди нас… Ты сказал правду, уже нет почти ничего из того, что было дорого всем нам. Подумай, ну, сколько нас еще осталось, рассеянных в тысячах миров! Десятки?
Сотни? Неужели же ты отринешь последнее, что еще… — Ну, хватит, — рявкнул Фаргирм, поднимаясь, — Ты отдашь мне Талисман Хурана?! Старик лишь покачал головой в ответ. — Очень жаль… За время, многократно меньшее, чем потребовалось бы самому тренированному и ловкому убийце, Фаргирм опустил руку в карман плаща, ладонь сжала рукоять. Не вынимая оружия, он нажал на спусковой крючок, мгновением позже осознав, что опоздал… Пробыв в одиночестве минут десять, лейтенант вышел из машины. Он постоял еще некоторое время, заложив руки в карманы и глядя в усыпанное ледяной крупой звезд прозрачное осеннее небо. Потом закурил, опершись на капот «Волги».
Чувствовал он себя не вполне уютно, непонятная тревога, сверлила, не отпуская сердце.
Василий отбросил уже второй окурок, когда из лесу, откуда-то издалека, донесся громкий сухой треск. Потом еще раз… И еще… Василий похолодел, вдруг поняв, что означает этот звук. Словно тугая, взведенная до отказа пружина внутри него начала стремительно разворачиваться. Рванув дверь, лейтенант выхватил из-под сидения короткоствольный автомат и, на бегу передергивая затвор, метнулся в лес.
Туда где трещали выстрелы…
Первая пуля, коротко взвизгнув, отскочила от невидимой преграды и, брызнув щепками, врезалась в потолок. Вторая, посланная вслед сразу за первой, разбила окно. В надежде, что у старика не хватит сил отразить все, Фаргирм выпустил подряд обойму. Когда затвор пистолета, лязгнув, загнал в ствол последний патрон, невидимое простым глазом свечение, окружавшее Даона, погасло, но в тот же миг оружие было выбито из руки Фаргирма, и грянувший выстрел угодил в потемневший от времени циферблат часов с кукушкой. А Даон уже занес, словно для удара, левую руку. Прямо в лицо Фаргирму устремился поток ослепительно белого, даже на вид, испепеляюще-горячего огня.
Устремился и погас, встретив на пути маленькое облачко серого тумана. Дом содрогнулся от фундамента до крыши, с полок посыпались книги и нехитрая утварь.
— Старик еще силен, — только и успел подумать Фаргирм, отражая последовавший почти сразу за первым новый магический удар и одновременно нанося свой… Стрельба внезапно прекратилась.
Лейтенант замер на бегу, едва не упав. Напряженно вслушиваясь в шелестящую лесную тишину, он почувствовал вдруг, как мелко-мелко затряслась земля. Накатила и схлынула сгибающая плечи тяжесть. Одновременно к горлу подступила отвратительная тошнота, будто в животе зашевелился клубок змей. Через секунду все потонуло во вспышке красного огня… и перед глазами Василия возникло удивительное яркое видение. У подножия черных, зеркально блестевших скал, возвышавшихся над каменистой пустыней под темнолиловым небом, стоял человек в белом одеянии. Его напряженный взгляд был устремлен к далекому горизонту, где на фоне бледного зарева грозно двигались исполинские тени.
Лицо его почему-то показалось лейтенанту странно знакомым, но понять, на кого он похож, Василий не успел, видение исчезло, и он обнаружил, что сидит на холодной земле, обняв ствол молодой сосенки. Какое то время, пытаясь отогнать колючую резь в висках, он пытался сообразить: что с ним творится. Но тут вновь ослепительно блеснула багровая зарница, и словно пропасть разверзлась у него под ногами… Лампа погасла, сплющенная в лепешку, но зато ярко засиял кувшинчик матового стекла, неприметно стоявший на полке.
Вот где ОН спрятан!! Мысль, как близка от него — только протяни руку — вожделенная цель, переполнила Фаргирма хищной радостью. Только на краткий миг он отвлекся, но и этого оказалось достаточно. Темное, цвета остывающего металла пламя взметнулось и опало на том месте, где стоял Фаргирм. Он остался невредим, но его невидимая защита исчезла, бесследно сожранная колдовским огнем. Только времени для второго удара у Даона уже не оказалось. Лишь несколько бессвязных слов, отозвавшихся мгновенной, но почти непереносимой болью во всем теле, произнес Фаргирм про себя… Где-то бесконечно далеко, в иной вселенной, услышав долетевший через неизмеримые бездны зов, пробудилось спавшее, уже Бог весть сколько лет в глубочайшей пещере, бесформенное чудовище. Представить такое был не в силах разум человека, и оно бросило мимолетный взгляд, сквозь толщу времени и пространства на крошечную планетку, вращающуюся вокруг тусклой маленькой звездочки, чтобы тут же погрузиться в сон… В этот миг, на едва пришедшего в себя лейтенанта дохнуло вдруг из ниоткуда запредельным космическим холодом, и что-то, чему не подобрать названия, краем своим задело его сознание, едва не сведя с ума… Даон закричал, и крик этот, исполненный непереносимой боли и муки, прозвучал для его противника победной музыкой. С искаженным, мертвым лицом старик, скорчившись, рухнул на пол. Мельком пожалев об истраченных без толку патронах, Фаргирм принялся готовить последнее, добивающее заклятье, представавшее перед его внутренним взором в виде огненного копья, направленного в неподвижно распростертую фигуру. Уже побежали по стенам быстрые темнофиолетовые отблески, уже заклубилась в воздухе мутная дымка… Но тут Даон, должно быть, собрав остаток сил, сделал ответный выпад. Даже многократно усиленный, он не смог бы причинить магу ни малейшего вреда, но целью его на этот раз был не Фаргирм. Направленный в самое слабое звено колдовских сплетений, он вдребезги разнес их. Шар оранжевого плотного огня возник под потолком и беззвучно лопнул, осыпав все вокруг множеством искр. Покачнувшись, Фаргирм скрежетнул зубами — освобожденные магические силы, подобно разорвавшейся цепи больно ударили его.
Даон уже вновь стоял на ногах, и вновь схлестнулись невидимые всесокрушающие смертоносные потоки энергий… Лопались, как хрупкие прутики, толстые бревна, со свистом летел вверх сорванный с крыши тес… А свет, лившийся из кувшинчика, с каждой секундой разгорался все сильнее, обычный человек давно бы ослеп, но сражающееся обращали на него не больше внимания, чем обычные люди — на неяркое осеннее солнце.
Он стремительно летел (или падал?) в бесконечном океане черной пустоты.
Навстречу ему проносились неведомые светящиеся существа (он откуда-то знал, что они живые).
Призрачные многоцветные медузы, рои танцующих огоньков, подобных множеству пчел, переливчатые облака, сотканные из одного света десятков чистейших оттенков. Василий попытался оглядеть себя, но не увидел тела. — Я умер? — подумал он. — Умер! Теперь я в том мире, куда попадают после смерти… Он и вправду существует. Мысль эта не вызвала у него почему-то ни страха, ни даже волнения. Он просто принял ее к сведению… Мрак неожиданно застлал взор, и лейтенант ощутил, что лежит ничком на холодной земле, уткнувшись лицом в сырые опавшие листья. В ушах звенело, и тело почти не повиновалось ему. Однако, он хорошо чувствовал его; тело у него, слава богу, есть. Значит жив. Превозмогая головокружение, он вскочил и, с неиспытанным доселе ужасом увидел, как разительно переменился окружающий мир. Все вокруг заливал мерцающий серебристосиний бледный свет, словно бы шедший ниоткуда. Множество синих, лиловых, зеленых искр носились стремительно туда-сюда низко над землей, и воздух, казалось, прочерчен пулеметными трассами. Клочья жемчужного тумана кружили меж деревьев, оставляя за собой прихотливо закрученные, быстро тающие спиральные следы.
Призрачные существа, схожие с теми, которых он видел в забытьи, появлялись прямо из воздуха, чтобы сразу исчезнуть. Вздрагивала время от времени земля, над вершинами деревьев стояло яркое белое зарево. — Господи, да что же это твориться?! — пробормотал, еле шевеля онемевшими губами, лейтенант, изо всех сил давя рвущийся из глотки безумный крик. Мысль о том, что наступает конец света, стрелой пронеслась в его взбаламученном сознании, но тут налетел, взвив листву, обжигающий ветер, зарево мигнуло, и, словно граната, взорвалась внутри черепа…Снова и снова возникали перед ним, стремительно сменяя друг друга картины множества миров — изломанные горные цепи под беспощадным солнцем, бурные моря, удивительные, совсем непохожие на земные леса, странные животные, растянувшиеся во весь горизонт пожарища и поля битв, усеянные останками незнакомых боевых машин, руины чуждых городов… Придя в себя, он обнаружил, что стоит на коленях, обхватив руками раскалываемую жуткой болью голову.
Потусторонний свет и призраки исчезли, а может быть остались позади, потому что зарево сияло уже рядом. Неимоверными усилиями лейтенант пригасил боль, подобрал валяющийся автомат и, почти не соображая ничего, побрел на подгибающихся ногах в его сторону. На поляне, куда он выбрался, было светло, как днем. В трех десятках шагов от него стоял полуразвалившийся, скособоченный дом.
Из окон, из дыр в развороченной крыше, из всех больших и малых щелей били потоки бело-голубого света. Это не было уже знакомое ему мертвенное и тусклое гнилушечное свечение. Нет, то был яркий, живой свет, порожденный источником громадной силы — так могла бы светить остановленная неведомым ухищрением молния.
И опять, неведомо как, он понял — там, за бревенчатыми стенами сейчас твориться что-то страшное, и именно там сейчас находиться генерал.
Вдруг слепящий свет погас. Изба затряслась, словно по стенам прошла судорога, съехала на бок, осыпаясь последними досками, крыша. Выбитая тяжелым ударом взвилась в воздух и, кувыркаясь, упала в каком-то метре от оцепеневшего лейтенанта дверь. Что-то басовито гудело, внутри дома клубилась тяжелая чернильная тьма, прорезываемая алыми сполохами… Фаргирм сознавал, что терпит поражение. Он уже не нападал, только отражал атаки Даона. Он чувствовал, как с каждой секундой все больше теряет свою силу — ту неведомую и непонятную, даже для мудрейших, подобных ему, делающую мага тем, что он есть. Как исчезающе мало ее в этом мире! Как долго, по крупицам собирал Фаргирм эту силу и хранил в ожидании решающего дня! И вот у его противника оказалось больше этой драгоценной Силы. Пусть ненамного, на малую толику, но и этого будет достаточно, чтобы уничтожить его. Его, Фаргирма, способного жить вечно! Ну, почему он не пристрелил Даона сразу, без всяких разговоров, он бы наверняка успел… Маг уловил перезвон множества колокольчиков — сигнал того, что мощь его почти исчерпана. И тогда ярость обреченного вспыхнула в нем, затмив на мгновение все остальное. И он сделал то, на что не решился бы никогда, будь у него хоть тень надежды на победу… Волшебство, сотворенное им, было совсем простым, но за этим могла последовать мгновенная гибель, растянувшаяся, однако, для него самого на неисчислимое количество полных неизбывными страданиями лет. Свет, шедший из уже начинавшегося плавиться кувшинчика, померк, и в грудь Фаргирму уперся ослепительно черный луч. В сознание лейтенанта ворвался грохочущий водопад звуков. Треск раздираемых небес, истерический хохот сорвавшихся с цепи демонов, заглушая который тысячи и тысячи нечеловеческих, но осмысленных голосов ревели, завывали, ухали, визжали, как будто необозримое войско чудовищ радостно приветствовало своего предводителя, в ожидании которого провело целые эпохи… То, что творилось с ним, Фаргирм не смог бы передать словами, ибо не было ни в одном из ведомых ему языков пригодных для этого слов… Окруженный непроницаемым мраком стоял он на неровном полу маленького, готового рассыпаться домика, скрытого среди густых лесов, на планете Земля — одной из тысяч таких же, или подобных ей.
Но, одновременно, через него проходил поток переплетенных меж собой вселенных.
Поток, где хватило бы места мириадам галактик, с их будущим и прошлым; и сам Фаргирм был частью этого потока миров Он слышал непостижимую, сводящую с ума своей красотой и силой музыку мироздания, и знал, что в силах привнести в ее звучание свои ноты. Это нельзя было сравнить ни с чем, и его переполняла до краев бесконечная радость, неведомая доселе. В ней воедино сливались высочайший восторг и животное удовольствие. Но даже ее перекрывало грандиозное и непередаваемое ощущение беспредельного могущества, нет — ВСЕСИЛИЯ… Однако, какая то часть его разума осталась незатронутой, и где-то в глубинах нечеловеческой души маг содрогался, осознавая, насколько противоестественны и чужды источники обретенной им мощи. Тьма поглотила Даона. То не было обычное отсутствие света, даже его малейших проблесков. Это была тьма иного рода: нечто материальное, почти осязаемое, даже как будто живое. — Он сделал это, он все-таки решился!! — простонал старик, падая на колени, — Он сделал это!! Тьма, порожденная орудием, созданным во времена, о которых не осталось и памяти, для неведомых целей, одним из тех, кого избегали вспоминать даже в мыслях, выпивала его силы, туманила разум, словно растворяя в себе. Даон понял, что его жизнь закончилась, и, быть может, заплакал бы, потому что бессмертному умирать стократно страшнее, чем тому, кто изначально знает свою судьбу. Но он не мог себе этого позволить, ибо оставался долг, исполнить который он был обязан, во что бы то ни стало… И хотя магические силы Даона были почти уничтожены окружающим мраком, их должно хватить. Он сосредоточился и различил в однородной, глухой черноте еще более черные, шевелящиеся, схожие со щупальцами тысячерукого спрута потоки. Еще усилие — и к одному из них протянулась тонкая, серебристая нить… Фаргирм позабыл обо всем, и о Даоне, и о незавершенном поединке, но вспомнил внезапно, почуяв, как в том мире, где осталось его тело, все резко и странно переменилось. Не без труда вернув большую часть (но не все) своего Я в принадлежащую ему материальную оболочку, он сосредоточил все старые и вновь обретенные чувства, устремив их в бывшую немалым препятствием, даже для него нынешнего, темноту… Неужели?! Нет, не может быть!! Его враг тоже, каким то образом, обрел доступ к Талисману Хурана и вот-вот обрушит на Фаргирма всю его мощь. Впервые за невесть сколько времени маг испытал подлинный, останавливающий сердце Ужас. Нет, не поддаваться! Нужно упредить того, кто так долго стоял на пути… Перед внутренним взором мага вспыхнули и побежали друг за другом цепочкой огненно рдеющие переменчивые знаки.
То был приказ страшным неисчислимым силам, ныне находящимся в его власти… Через доли секунды все на многие километры вокруг будет испепелено, и только Талисман, да еще Фаргирм — его владыка и повелитель, останутся невредимы…
Тьма вырвалась из дверей, окутав готовый рассыпаться дом, и над возникшим черным облаком поднялась, уходя ввысь, колонна зеленого света, пронизанная змеящимися молниями. Казалось, река изумрудного огня низвергается с небес… — Я просто сошел с ума, мне все это кажется? — подумал лейтенант. Сама по себе чудовищная, мысль эта сейчас принесла ему громадное облегчение. Но то была последняя мысль в его жизни.
Исполинский вихрь поднял смертного высоко в воздух, и, закрутив, швырнул прямо в сплетение пылающих струй… Перед тем, как исчезнуть, сгинуть бесследно во всепожирающем пламени нездешнего мира, Фаргирм успел понять: его враг все же успел и нанес свой удар одновременно с ним. Он умер, зная, что проиграл…
Прибывшие на место катастрофы люди долго не могли прийти в себя, потрясенные до глубины души всем увиденным. Молча, не в силах понять что-либо, бродили они среди поваленных, мертвых уже деревьев, разглядывали вырванные с корнем столетние ели, с которых осыпалась побелевшая хвоя, и разнесенные в щепки дубы.
Долго стояли они возле вбитой в землю груды металлического крошева — то было все, что осталось от машины. Потом, успокоившись, они тщательно осмотрели и обшарили все, что только можно, пытаясь найти ответ — как это все-таки произошло. Но никто из них, конечно, не обратил внимания на маленький, меньше ногтя мизинца, серый камешек, лежавший на месте исчезнувшего дома среди оплавленных кирпичей и тонкого серого пепла.
Дмитрий Казаков ЛЕГЕНДА О ЛОВЦЕ ВЕТРА
— Что, за новой сказкой явились? — улыбаясь, спросил старый Тафаки и замолчал, по старчески жуя сморщенными губами. — Ну, хорошо, слушайте. Будет вам сказка.
Да только не сказка это, а правдивая история, — продолжил он, поудобнее устаиваясь в тени хижины.
Раскаленный диск Солнца уже перевалил за полудень, небо истекало зноем, и на островах Тувуаи наступило время послеобеденного отдыха. Даже неугомонная ребятня, что обычно стайкой коричневокожих рыбок носится по селению и его окрестностям, в это время собиралась вокруг Тафаки, самого старого жителя острова Ротуа и лучшего рассказчика в селении. Говорили, что в молодости он был колдуном-кахуна, а потом по неведомым причинам оставил это занятие, но тело Тафаки было гладким, на нем не было и следов татуировок, которыми покрывают себя дети Акулы, не было и ритуальных шрамов идущего путем Леса. Да и мало ли что болтают люди. Но сказок и занимательных историй он знал больше, чем любой кахуна острова, и поэтому во время сиесты площадка около его хижины не пустовала почти никогда. — Да, быль! — повторил он. — Я сам видел все это, когда был еще совсем молодым, и волосы мои были еще черными, а не седыми. — Все вы знаете, что ураганы, которые уничтожают целые поселения на других островах, никогда не трогают наш остров? — ребятня согласно закивала. Действительно, страшные бури, регулярно проходящие над архипелагом и приносящие островитянам крупные неприятности, всегда обходили Ротуа стороной. — Во времена, когда я был молодым, на островах было гораздо больше кахуна, чем сейчас, и были они гораздо могущественнее.
Кроме тех, которых вы хорошо знаете, тех, кто помогает людям безопасно добывать пропитание из моря и выращивать хороший урожай на островах, кахуна Акулы и кахуна Леса, были тогда и другие колдуны, которые пытались обрести могущество, усмиряя могучие ветры, что носятся над просторами Великого Моря.
Называли их Ловцами Ветра, Мбату-Мане. В ученики к кахуна, использующему силу ветра, брали только юношу без телесных недостатков, на теле которого обнаруживалось все три десятка признаков склонности к колдовству и еще десять признаков избранности Ветром, ведомых только Ловцам. Избранника Ветра забирали из семьи после обряда совершеннолетия, после того, как юноша получал взрослое имя. С этого момента долгое время его не видел никто кроме учителей. Обучение свое кахуна проводили на самой вершине священной горы Мауна-Тоа, которая открыта всем ветрам. Никто не видел юношу до самого дня посвящения, когда все кахуна Ветра Тувуаи собирались вместе на нашем острове и испытывали своих учеников.
Теперь кахуна Ветра больше нет, и вы никогда не увидите обряд Посвящения Ветра, когда ученики показывают свою власть над прозрачной могучей стихией.
Ближе к концу обучения ученик должен выбрать для себя по подсказке Ветра, с силой какого из них он будет иметь дело. Кто выбирает обычный для островов восходный ветер, кто — редкого гостя — ветер с заката, кому-то достается ветер с полуночи, тот, что иногда приносит к нам на острова стужу из далеких холодных морей. Да, как же это было чудесно, оставить внизу свое тело и обрести свободу, самую большую свободу, которую может пожелать человек.
Воздушным столбом ринуться вверх, к престолу Ранги, до которого не могут долететь самые могучие ветра. Умчаться так высоко, что с этой высоты наши острова кажутся лишь россыпью зеленовато-коричневых камешков на странном голубом песке. Рухнуть внутрь самого себя, разделить себя на тысячу маленьких ветров, собраться вновь в единый ревущий поток и ринуться вниз, к воде. Промчаться над морем, срывая пену с самых высоких волн, набрать скорость и обрушиться на побережье, заставляя волны обезумевшими китами биться в берег, песчинки на пляже кружиться в сумасшедшем танце, и пальмы — склонять зеленые верхушки. Нестись по лесу, срывая аромат с цветов и топорща перья птицам, и, наконец, невиданной змеей обвиться вокруг священной горы, повторяя все ее изгибы.
Путь Ветра много давал своим последователям — кахуна Ветра были самыми могучими на островах, но и многое от них требовал. Более десяти жарких сезонов прошло после того, как меня избрали Ветром, прежде чем я был допущен к испытанию. Еще надо сказать, что ветер с полудня, который приносит ураганы на Тувуаи, выбирали самые талантливые из учеников, и пользовались они этой силой очень осторожно.
При рождении на моем теле были найдены все знаки, необходимые для хорошего Мбату-Мане. А сразу после Дарования Имени меня забрал на обучение старый Каи-тангата, самый сильный на тот момент из Ловцов Ветра. Бури тогда еще не щадили наш остров, но, благодаря могуществу Каи-тангата и его собратьев, они не были столь разрушительны для всего архипелага, как сейчас. Вместе со мной испытание должны были проходить еще двое учеников. Один — Карики, учился вместе со мной. Другой, звали его Моэа, учился у иного наставника. Как говорили кахуна, не было в народе наори более сильного колдуна за последние пять десятков поколений, со времен Хина Белой Акулы — о нем я вам уже рассказывал.
Именно из-за Моэа все и произошло, из-за него пресекся путь Ветра, из-за него ураганы обходят стороной наш остров. Моэа, который выбрал себе страшный ветер с полудня, должен был проходить испытание первым. Испытание проводили в середине жаркого сезона, когда безветрие стоит целыми днями. Ученик должен вызвать избранный им ветер, показать свою силу, обуздать его и после этого выстоять в схватке Ветра с наставником. Что это такое? И не спрашивайте — я так и не прошел испытания. Моэа лег, как предписывал обряд, я и Карики сели подле него — сторожить тело, один у ног, другой у головы.
Неподалеку от нас, тоже сидя, расположились трое наставников — все на тот момент посвященные кахуна пути Ветра.
Зрители, как всегда, толпились на изрядном отдалении от места посвящения.
Сначала все шло, как положено, Моэа почти сразу перестал дышать, войдя в транс.
Вскоре пожаловал и вызванный им ураган. Конечно не такой, как настоящий, который охватывает крыльями все Тувуаи сразу, оставляя лишь наш остров. Нет, это был ураган только для нашего острова, на другие продолжало светить Солнце, и ветра почти не было. Ураган ответил на зов. Моэа начал его укрощать: ветер то дул со страшной силой, постоянно меняя направление, то прекращался совсем, тучи заволокли небо над островом, в воздухе носился песок с пляжа вперемешку с листьями и брызгами с моря. И, как я понял потом, Моэа оказался слишком талантлив, слишком силен, слишком сильно ушел в Ветер и не захотел возвращаться, расставаясь с небесной свободой и могуществом. Любому приятно ощутить себя могучим, свободным и бессмертным — почти богом. А тогда я и Карики закричали одновременно: тело Моэа начало светиться, от него шло сильное, ясно различимое даже в мельтешении урагана сияние яркого небесно-голубого цвета. Я обернулся в сторону наставников и обомлел, они все трое (ВСЕ ТРОЕ!!!) были в трансе, хотя обычно для испытания ученика хватало и одного. Видимо, они пытались вернуть Моэа, но это оказалось даже им не под силу. Тело Моэа постепенно начало растворяться в воздухе, сначала кожа, потом мясо и кости. Вот в тот момент я и поседел, в один миг, совсем молодым, после этого меня и прозвали: Меченый Ветер.
Только шаманская выучка удержала меня тогда от позорного бегства. Вскоре Моэа целиком растворился в воздухе.
Почти сразу прекратился и ураган — ветер стих, море успокоилось, тучи исчезли.
Когда мы пришли в себя, то первым делом кинулись к наставникам — они были мертвы. Моэа-ураган попросту утащил их души с собой, когда его пытались остановить. С тех пор некому больше ловить ветер в паруса рыбачьих лодок, некому усмирять ураганы, закончился путь Ветра и людям в море приходится рассчитывать только на свои силы да на мастерство кахуна пути Акулы. — Что? Мы? Мы даже не прошли посвящение. И ураганы после того года стали обходить наш остров стороной.
Наверное, Моэа не до конца потерял память, когда слился в одно целое с ураганом.
Наверное, он помнит тот остров, где родился, где жили его предки, то место, где он стал тем, что он есть сейчас, и именно эта память мешает ему обрушить всю мощь свирепой бури на наш остров. — Да, он помнит! — повторил старик, а ветер, неизвестно откуда взявшийся посреди жаркого безветрия, ласково взъерошил совершенно седые волосы Тафаки, Меченого Ветром, и умчался прочь.
О'Сполох ЦЕПЬ
Однажды нас обокрали. Ночью. Вот тогда и появился этот пес. Его привел дед.
Злющего презлющего. Пес на всех бросался и с диким лаем начинал кусать, грызть.
От него можно было избавиться, только избив увесистой оглоблей или каким-нибудь подобным тяжелым предметом до состояния, когда злодей уже не мог двигаться. Но пес все равно не сдавался, продолжал яростно рычать и кусал орудие усмирения.
Пса отрекомендовали деду бывшие хозяева, причем не советовали усмирять его в одиночку. Поэтому его сразу посадили на цепь и никогда больше не отпускали.
Упаси Боже! Иметь дело с таким бандитом! Кобеля и прозвали — Бандит! Какие там воры — нас соседи обходили за десять километров. Одна внешность чего стоила! Он был здоровенный, как теленок. Шерсть длинная, темно-серого цвета, почти черная внутри, она свешивалась желто-белесыми космами наружу — как будто языки пламени из Преисподней. Морда была совершенно черная. Иссиня-черными были и нос, и губы, что лишний раз подчеркивали огромные белые клыки. Казалось, не было существа более непокорного, как и не было силы, способной удержать его в неволе.
Больше всего на свете он любил свободу. Не проходило и двух дней, чтобы Бандит не порвал цепи. Весь забор был изрыт его подкопами — в одном месте даже завалился.
Поэтому сидел он сразу на двух цепях — для страховки: когда рвал одну, то другая держала — и порванную сразу же старались заменить. Дед чертыхался на чем только свет стоял, но с не меньшим упорством продолжал делать свое дело — раз за разом, покупая новую. И вот однажды я услышал, как дед говорил отцу, что в городе заказал специальную цепь, которую никто и никогда не порвет. Он так и сказал: Никто и Никогда! Дед уехал под вечер и наутро вернулся довольный, потрясая приобретением. Да, цепь была длинная, толстая — я такой ни раньше, ни потом не видел. Каждое звено было изготовлено из прута нержавеющей стали, не менее полутора сантиметров толщиной. Сквозь любое звено мог свободно пройти кулак взрослого мужчины. Не менее двадцати метров этого многопудового образования заканчивалось таким же здоровенным, таким же неуклюжим и непомерно тяжелым металлическим ошейником. Я едва мог оторвать его ошейник от земли.
Бедный пес! Мне его стало даже жалко! На этой суперцепи он сидел теперь безвылазно. Бандит был вселенским вместилищем злобы. Днем он бросался на всех, кто приходил к нам в гости, и на нас тоже. К вечеру его злоба перебрасывалась на цепь, которую он грыз, рыча и воя всю ночь напролет. «И как только он не сдохнет от своей злости!?» — восклицали домашние и соседи. И я помню, как, будучи ребенком, с замиранием сердца всякий раз подходил к порогу дома, а Бандит рвался изо всех сил, до предела натягивая, казалось, готовые лопнуть звенья, яростно гавкая, хрипя и брызгая на меня бешеной слюною. Между порогом и зубами пса была лишь узкая условная тропинка дорога жизни, как я тогда называл ее, — все же остальное пространство находилось в полном распоряжении Бандита. Кроме бесконечной злобы Бандит обладал еще и невероятной хитростью. Будучи садистом по натуре, он умел заманивать свои жертвы.
Никогда не забуду, как пострадал мой крестный отец. Крестный зашел как-то в гости, и Бандит, увидев незнакомое лицо, пару раз «бреханув», вдруг решил изменить тактику: встал на задние лапы и завилял хвостом. — О! Кум! Да он совсем не злой! — воскликнул крестный и, несмотря на все предостережения моего отца, приблизился к Бандиту. Бандит положил лапы крестному на грудь и, танцуя, продолжая помахивать хвостом, стал пятиться, ослабевая натяжение цепи. Крестный, ничего не подозревая, гладил Бандита по голове и продвигался вперед шаг за шагом. Почувствовав, что цепь достаточно ослабла, и ничего не стесняет его движений, Бандит ужасающе рявкнул — мне даже показалось, что он не зарычал, а закричал, столько злобы было в этом звуке, — и впился крестному в плечо, выхватив изрядный кусок мяса. Тот вскрикнул и, отпрыгнув, упал на спину. — Я ж тебе говорил! — крикнул отец, оттаскивая пострадавшего. — Петро! Я убью его! — кровь бросилась в голову крестному и, схватив лопату, он набросился на Бандита.
Бандита лопата нисколько не смутила: он даже с какой-то гордостью встретил удары и, не обращая внимания на рассеченные раны, сомкнул челюсти на ноге нападавшего.
Крестный взвыл и, оставив еще кусок мяса, отполз в сторону. Бандит, яростно хрипя, тут же, у нас на глазах, перегрыз черенок лопаты. Цепь была единственным спасением. И все мы надеялись, что приковали его этой добытой дедом сверхцепью раз и навсегда. Действительно, уже прошло около трех лет, а он по-прежнему сидел прикованный, злобный. Но все же настал момент, когда Бандит неожиданно оказался на свободе. Как это ему удалось, одному Богу известно. Я обнаружил Бандита с мотающимся обрывком цепи на шее, когда был уже во дворе на полпути к дому.
Можете представить мой ужас, едва я оценил обстановку. Цепь оборвана, вокруг ни души, от калитки я отошел далеко, не близко и до двери — в любом случае Бандит перекусит меня пополам, прежде чем я убегу со двора. Так я и стоял, в растерянности, и даже зажмурился, мысленно прощаясь с жизнью… Я долго ждал нападения Бандита, но ничего не происходило. Я осмелел и открыл глаза. Бандит вел себя очень странно. Он не нападал. Более того, он прижал уши, поджал хвост, весь как-то скукожился, стал жалобно поскуливать, явно не находя себе места.
Сначала я подумал, что это очередная садистская уловка Бандита — хочет продлить мои мучения, прикидывается, чтобы я расслабился и тогда внезапно нападет. Но выражение растерянности на морде и страх в его глазах были столь неподдельны, что не могло быть никакого сомнения Бандит боится! Да-да! Просидев столько времени на цепи, он привык к ней и теперь, оборвав ненавистную, он не знал, что делать. Ему стало страшно! Меня охватило неописуемое чувство радости: наконец-то Бандит боится! Боится он, а не я! Я подошел и громко свистнул. Бандит заметался еще беспокойнее, заскулил еще жалобнее, в панике начал рыть землю. «Эй, ты!
Сволочь!» — грозно закричал я и замахнулся. Бандит отполз на брюхе, забился в угол между домом и забором, громко визжа, роняя мочу и кал. Видя столь плачевное его состояние, я рассмеялся. Потом мне стало жаль пса, и, вытащив кабель сварочного аппарата, стоявшего в гараже отца, я совершенно спокойно, пока Бандит визжал, заварил лопнувшее звено цепи. Черт меня дернул похвастаться своей работой! Я натянул цепь, как бы приглашая Бандита оценить — все, мол, нормально, смотри, как сделано! И тут песьи зрачки загорелись желтой злобой. Спустя мгновение я во все лопатки удирал к порогу дома, а сзади угадывались топот Бандита и его злорадное дыхание, предвкушающее поживу. Оглянувшись, краем глаза увидел развивающиеся космы желтой шерсти — языки адского пламени — прямо у меня за спиной. «Ой, мамочка, спаси меня!» — оторвавшись от земли, я прыгнул на порог. И все-таки он достал! В воздухе! К счастью, судьба меня оберегала — острые, как бритвы, клыки только скользнули по ноге. Но, тем не менее, четыре длинных глубоких бороздки до сих пор хранят память о том событии.
Злобно щелкнув зубами, Бандит захлебнулся неистовым лаем. Оказавшись на цепи, он снова стал злым и уверенным. Я по-прежнему со страхом проходил мимо Бандита, но с суеверным ужасом взирал уже не на пса, а на цепь. На цепь! Это жуткое изобретение человеческой цивилизации, сумевшее поработить и подчинить своей воле столь свободолюбивое, смелое, умное, злобное и непокорное существо, как Бандит.
Вот и сейчас он мрачно, прикованный, ходит по кругу. Вдруг, покосившись на извечного врага — цепь,
«Ррр…» — принимается злобно рычать. Потом приходит в бешенство: «Р… Гав-гавгэв!» Затем начинает кусать ее: « Гэв-гэв-эв-эв-эвевевев!» — Ев-ев-евев! — исступленно грызет цепь. Но теперь-то я знаю, он делает это только для вида, а на самом деле гордится ею — уже минуту спустя, пес бегает, весело потряхивая цепью, как бы любуясь: «Ах, какая она тяжелая, да блестящая, да звенящая, да красивая!»
О'Сполох ГЛАЗА (фантасмагория)
Эта девушка давно ему нравилась. Она была стройная, элегантная — гордо вскинутая головка, изящная походка и волны мужских взглядов, бегущих вслед. Сегодня Олег решился. До этого времени он смотрел на нее только издали, но сегодня решил: подойдет, возьмет за руку и скажет все, а там — будь что будет. Олег ждал у входа в ресторан, мимо которого обычно проходила девушка в этот час, видимо, работала где-то неподалеку. Уф!
Наконец-то… Даже пот выступил. Идет. От волнения подкашивались ноги, но резким движением, собрав волю, он двинулся с места и, не останавливаясь, почти бегом догнал ее, тронув за локоть. Девушка обернулась и… Обомлев, Олег отшатнулся. Он всегда наблюдал издали и вот теперь какую-то секунду видел близко ее лицо. Она была красива, ничего не скажешь, но глаза. Глаза… Менее всего заметные, загримированные косметикой и длинными ресницами, вечно полуопущенными. Они взглянули на него, вернее, открылись, и Олег увидел… Пустоту, страшную пустоту, как будто заглянул в пропасть…
Она успела скрыться, да не в ней уже, собственно, было и дело. Пустота… Он потер пальцами лоб, словно что-то лихорадочно припоминая, и вдруг, рванувшись, подбежал еще к какой-то красивой девушке. Схватил ее за руку и снова отпрянул.
Черная, зияющая пустота. Олега охватило нездоровое возбуждение: третья красавица — и ничего, пусто, вакуум… Ему показалось, что и вокруг стало как-то пусто, что вроде не слыхать городского грохота, и вообще, непривычно тихо. Бывает такая оглушительная тишина. И Олега понесло. Он бежал, как одержимый, хватая за плечи встречных молодиц и заглядывая им в глаза. Пустота… Темень… Ничего… Сначала он выбирал только красивых, но затем стал тормошить всех женщин подряд. «Понятно теперь, почему они так гримируются. Боже, я давно не видел глаз!» — подстегивали скакавшие беспорядочно мысли. Прохожие шарахались и с удивлением смотрели вслед.
А он искал глаза, человеческие глаза… Он не помнил, сколько дней и ночей бежал.
Мелькали бесчисленные лица. Ужас пустоты охватывал все более и более. Олегу стало казаться, что стоит он на одной горошине, а вокруг — темно и страшно.
Бездна. Сейчас он упадет. Олег расставил руки, держа равновесие, и внезапно осознал, что под горошиной ничего такого, за что можно схватиться. Он в отчаянии замахал руками, закричал… и… Он их увидел… Глаза. Большие человеческие глаза.
Глаза принадлежали пятидесятилетней женщине. Она была некрасива, неопрятно одета. За плечами у нее висел огромный мешок, видимо, куда-то торопилась по хозяйству. Олег упал к ней на грудь и зарыдал, как ребенок.
О'Сполох НЕ ТЕ (фантасмагория)
Я был тогда еще ребенком. Мы снимали квартиру — казенный дом на отдаленном хуторе, где работал мой отец. В тот вечер отец пришел злой. Ничего не стал есть, ходил, бормоча проклятья, а потом влепил пощечину матери. Я страшно испугался, мать расплакалась, и родители вытолкали меня в соседнюю комнату с единственным тусклым окошком, где была свалена старая мебель.
Они ругались за стеной, и мне все было слышно. Отец сначала что-то громко нетерпеливо, сердито объяснял, а потом стал просить мать, чтобы она его простила. А мать только горько плакала и причитала: «Ну, за что? За что такая несправедливость? Разве я тебе сделала зло? Они тебе напакостили их и бей! А меня за что?» Я не знал, что делать. Мне хотелось съежиться, стать маленькиммаленьким клубочком, таким маленьким, чтобы в мое ограниченное пространство уже не могли долетать никакие звуки. В комнате было большое растрескавшееся зеркало.
Не помню, как я оказался около него, вероятно, инстинктивно попятился прочь от комнаты родителей. В запыленном зеркале все предметы были расплывчатыми. «Ну, за что? Они… Их и бей!» — снова донеслись всхлипывания, и я заткнул уши.
— Да-да, так бывает всегда! — раздался чей-то мягкий и немного скрипучий голос. Я испуганно стал осматриваться.
— Посмотри сюда, глупыш! На зеркало из окошка падал последний луч угасающего вечера. В запыленном зеркальном стекле я увидел старую деревянную кровать. Что такое? Она говорила! У нее были лицо, рот, уши, глаза! Обернулся: кровать, как кровать. Повернулся — опять.
— Не удивляйся! Сегодня день твоего рождения. Да! Твои глупые родители будут праздновать его завтра, но ты родился ночью, уж я-то знаю. Слушай меня, мальчик, слушай внимательно. Всегда в мире так: бьют не тех, говорят не тем и мстят тоже не тем. На этом держится Великое Зло и повелевает миром. Вот и ты вырастешь большой. И тоже будешь бить не тех, мстить не тем. Будешь дружить, доверять другу — он тебя предаст, а за предательство отомстишь другому. Будешь любить девушку — она тебе изменит, сделает больно-больно, как ножичком зарежет, а ты ожесточишься и отыграешься на другой… И также сделаешь ей — как ножичком — больно-больно…
— Постой, я не хочу так! Слышишь, не хочу!
— Молчи, глупенький! Когда маленькие — все так не хотят. Но когда вырастают — они забывают и бьют НЕ ТЕХ. Пройдет несколько лет, и здесь, в этой комнате, ты будешь бить свою женщину, хотя обидят тебя другие, но ты будешь бить ее, как твой отец… — Стой! — закричал я, едва не вывихнув челюсть. Меня знобило и трясло, зубы стучали.
— Стой, я клянусь! — в отчаянии кричал я. — Кто ты там: Бог или черт, или Великое Зло! Никогда! Слышишь, никогда не обижу НЕВИНОВНОГО. Буду мстить только ТЕМ и бить только ТЕХ. Если нарушу клятву — убей меня! Клянусь!
Владимир Егоров ЧЕРНАЯ МАГИЯ
Старик упал. Верзила, потер слегка покрасневший кулак, мгновение смотрел, как по небритым щекам убогого течет кровь, а затем обстоятельно вытер ноги об его лицо. — Что вы делаете! Мужчины! Прекратите это безобразие! Я позову милицию! взвизгнула полная дама в старомодной шапочке. Пассажиры отворачивались с каменными лицами. Я тоже сделал каменное лицо. Автобус подошел к остановке.
Верзила оттолкнул молодого человека интеллигентного вида, поспешно шарахнувшегося в сторону, и соскочил со ступенек. Но я успел хлестнуть его вдогонку своим невидимым щупальцем. Мы поехали дальше. Почему-то мне стало интересно, и я придвинулся к окну. Верзила переходил улицу. Он шел быстрой походкой крутого парня и не смотрел по сторонам. Его сбил огромный грузовик-фургон. Автобус уже заворачивал, но я ясно увидел, как кожаная куртка крутого мелькнула в воздухе, как брызнули на мостовую его мозги, когда он ударился о бортик тротуара. Это была третья смерть за сегодняшний день. Я отвернулся.
Визгливая дама вытирала кровь старику, которому кто-то уступил место. Дед мотал головой и порывался лечь. У него было сотрясение средней тяжести. Рядом неловко стояли добровольцы, готовые отвести его в травмпункт. Я снова выпустил щупальце, на этот раз с другой целью. Взгляд у раненного заметно прояснился, и ссадина больше не кровоточила. Вот и моя остановка- пора выходить. Все скромные познания о правилах дорожного движения говорили мне о том, что водителя грузовика оправдают. Но все равно, это могло быть первым признаком новой опасной тенденции; удивительно, как она не проявилась ранее. Однако я слишком устал, чтобы переживать еще и по этому поводу.
Чисто автоматически я выбрал искомый дом и вошел в подъезд, пропахший человеческой мочой и пивом. На батарее сидели подростки, они курили и смачно ругались матом под аккомпанемент пропитого женского голоса из двухкассетника.
— Гражданин, закурить не найдется?!
— Я не курю.
— Какая жалость, а по виду не скажешь, такой умный дядя… а… а… — внезапно для дружков парень осел под моим взглядом, откинулся к стене и плотно прижался к ней, вытирая курткой всю ту пакость из пепла и слюны, что недавно там оставил. К моему удивлению он сумелтаки выдавить из себя еще какие-то звуки, когда его горло стиснула сомкнувшаяся капканом холодная пустота.
— Сам не курю и Вам не советую! — произнес я и шагнул в лифт… Дверь открыл худощавый человек неопределенного возраста. Он мельком взглянул на меня и предложил войти. Я подумал, что он либо очень отважен, либо просто не тот, кого я ищу.
— Нет, — ответил он на мой невысказанный вопрос, — Я отдаю себе отчет в том, кто преступил порог моего дома, — тут он выразительно посмотрел чуть выше моей головы, туда, где клубился невидимый для обычных людей призрачный нимб, — Но мне непонятно, зачем я мог вам понадобиться. Моя смерть отсрочит вашу не более, чем любая другая. Он был почти телепатом.
Мне это понравилось.
— Мне хочется исцелиться, — сказал я. Мы помолчали. — Расскажите все сначала, — попросил он. Это мне тоже понравилось. Другие никогда об этом не просили, впрочем, их было немного. Я вздохнул и стал говорить: — По профессии я химик. Органик. Тонкий органический синтез, ну и все такое. Хобби — старинные книги. Когда все это началось, я получал еще достаточно, чтобы кое-что себе позволить, и у меня были связи среди библиофилов. Рос я в обычной семье служащих, учился в аспирантуре, в общем, ничего особенного собой не представлял. Своей семьи у меня не было… да и сейчас нет. Я ухаживал за одной девушкой, которая особого внимания на меня не обращала, но я ее очень любил…
— А сейчас? — перебил он меня.
— Что? Нет, сейчас нет. Я все расскажу по порядку. Она просто увлеклась одним подонком и вышла за него замуж. Понимаете, она вышла по любви и, наверное, была с ним посвоему счастлива… но он — действительно, подонок. Был. Я понимал это вполне объективно, но ничего поделать не мог. Он выглядел чертовски представительным и вместе с тем остроумным. Вообще, такая яркая, энергичная личность, но внутри пустышка. Девушка не пожелала это замечать, она упала в моих глазах, а жуткое ощущение горечи осталось. Я замкнулся в себе и стал думать о природе добра и зла. Пригодились коллекционные фолианты. Читал, размышлял. Короче, пришел к выводу, что зло существует потому, что Творение еще не закончено. Тут я посмотрел на него. Он кивнул и попросил продолжать. Так вот, по моей теории выходило, что зло самостоятельного значения не имеет, оно просто существует на фоне добра, как «дырки» в полупроводнике на фоне электронов, как трещина — на фоне материала, ну и так далее. Но все эти рассуждения большого облегчения мне не принесли. Я ведь стремился не спрятаться от реальности, а вмешаться в нее, я грезил справедливостью. Путь боевикамстителя для меня не подходил, мои возможности этого не позволяли. Тут я снова взглянул на него.
— Вы знаете, как тушат степные пожары? Поджигают траву — естественно, при соответствующих условиях — впереди огня. Лишенный пищи, он гибнет. Точно также трещина, наткнувшись на полость, останавливает свое разрушительное продвижение.
— Это не ново, — спокойно сказал он, — но зла злом не поправишь, оно только умножится.
— А вы задумывались когда-нибудь, как карает карма? Кто возьмет на себя роль палача для негодяя, не боясь уподобиться, в конце концов, ему же? Только другой негодяй. Карма просто концентрирует зло, и оно исчезает, съеденное самим собой…
— Вы отвлеклись. Я пожал плечами.
— Все остальное очень просто. Чтобы уничтожить зло малое, конкретное, надо дополнить его до зла абсолютного, абстрактного. Те, кто пытались просто адекватно отвечать, терпели неудачу по причине негодности инструмента столь же малого зла, как и то, что они пытались уничтожить. В результате зло, действительно, умножалось. Ведь его намного меньше, чем добра, если убрать откуда-либо все хорошее, этот объект попросту исчезнет, распадется, будь то молекула, Вселенная, или живой организм. В научном же смысле злом является энтропия, ибо хаос существует только на фоне порядка.
— Не наоборот?
— Нет, ведь порядков может быть много, с различными свойствами, а хаос всегда один и тот же. Трещины в любом материале одинаковы, признаки упадка любого государства похожи, ну и тому подобное. Короче, анализируя древние рецепты, я отыскал состав снадобья, которое так перестроило мой обмен веществ, что вся энтропия, которую я теперь сбрасываю в окружающую среду, не рассеивается в мире равномерно, а концентрируется около меня в определенной структуре.
— Не слишком характерное поведение для энтропии.
— Мне не хотелось бы без нужды вдаваться в детали. Кроме, того, этот сгусток управляем моей волей, что я, действительно, понимаю хуже.
— Вы приручили демона…
— Которого вынужден кормить, иначе он съест меня. Первым, кого я уничтожил, был бывший муж моей безответной любви, к тому моменту они уже развелись. Мой демон был слаб тогда, и тот подлец не умер сразу, он облучился при попытке вывезти за рубеж расщепляющиеся материалы и перед смертью месяца три провалялся в больнице. Ну а теперь я могу разрушать даже неодушевленные предметы, только отсрочки мне это пока не прибавляет…
— Смерть всегда наступает от естественных причин?
Я вспомнил сегодняшний случай: — Пока что было так. Однако боюсь, это может измениться, и будут страдать невиновные.
Один раз мне очень были нужны деньги, я дрался до смерти на подпольном ринге с настоящим терминатором, и победил. Воцарилось молчание. Мой собеседник размышлял, прикрыв глаза.
— Много их было?
— Убитых? — он кивнул — Много. Два года назад я должен был разрушать по одному человеку в неделю, чтобы чувствовать себя здоровым, сейчас — по одному в день. Кроме того, мне часто случалось, так сказать, перекрывать норму.
— И откуда же вы их берете?
— Я работаю журналистом в газете, веду криминальную хронику. Кроме того, есть в городе места, где временами такое творится… Не беспокойтесь, я еще не начал питаться случайными прохожими, вполне хватает подонков. Но по моим подсчетам, если я не вылечусь в течение двух ближайших месяцев, то со мной произойдет нечто страшное. Может быть, я сойду с ума и начну убивать всех подряд. Может быть, меня съест-таки мой демон. В любом случае, так продолжаться дальше не может. Вот почему я здесь. Он прошелся по комнате, прижался лбом к оконному стеклу.
— Вы должны покаяться. Искренне простить их всех, начиная с самого первого.
— Тогда вы поможете мне?
— Тогда — да. И только тогда! Я стал собираться. У выхода он пожал мне руку и сказал:
— У вас должны быть очень необычные экскременты.
— Хотите, принесу? Он улыбнулся и ответил: «Специально не надо.» Безусловно, он по-своему прав.
Скорее всего, он просто не мог иначе. Так же, как я не мог выполнить его требование.
Конечно, можно было бы рассказать ему и об отпущенном из психушки людоеде, убившем и съевшем невесть сколько женщин. Поведать и о секте поклонников Сатаны, сжигавших заживо детей и состоявшей из отпрысков настолько высокопоставленных родителей, что ни строчки о них не просочилось ни в какое печатное издание, даже после того, как дело было полностью раскрыто, не говоря уже о наказании. Можно было бы упомянуть и о работорговцах, продающих девчонок кавказским бандам для одноразового использования, и о хирурге, убивавшем ради продажи органов своих пациентов, и о директоре завода, отравившем реку и вместе с ней жителей всех деревень вниз по течению… Да мало ли их было! Но это все равно ничего бы не решило. И прости я всех этих — кем должен был бы оказаться я сам, столь настойчиво и коварно отправлявший их в ад до срока?! Подходя к своему дому, я услышал шум. За углом два омоновца били дубинками хрипевшую девушку.
Через секунду их застрелил из двустволки выстрелами в голову наспех одетый кряжистый бородач, выскочивший из ближайшего подъезда. Ружье он бросил, а девушку унес на руках.
Я тщательно потоптался возле трупов, извлек из кобур пистолеты. Затем подобрал двустволку и аккуратно протер ее носовым платком. В конце улицы мелькнул свет фар.
Возможно, это наряд. Только бы успеть! Сталь плохо поддается магии, по сравнению с живой материей, конечно. Ее, словно грубую пищу, надо долго переваривать. Ну, да вода камень точит… Затем я сдамся. Если меня не пристрелят на месте, то я еще успею поработать в СИЗО, а может быть, и в какой-нибудь зоне…
Тишину мрачного октябрьского вечера нарушил лязг гусениц. Если не ошибаюсь — это танковый силуэт. Так что работы у меня — через край…
(1995)
Владимир Егоров ОБРЕЧЕННЫЙ МСТИТЬ
«— Справедливость и право на моей стороне, — сказал он. — Я угнетенный, а вот угнетатель! Это из-за него я потерял все, что любил, все, что мне было дорого и свято…»
(Жюль Верн «20000 лье под водой»)«…(записи на внешних листах скрутки полностью уничтожены морской водой) исторический фильм. Рядом с огромным авианосцем Империи он выглядел столь же хрупким, сколь и изящным. Я вспомнил детство, в котором мечтал плавать именно на таких кораблях, лазить на мачты, слушать, как хлопают паруса… Впрочем, они уже тогда считались глубоким анахронизмом; несколько трофейных бригов, кажется, использовали в учебных целях да, опять-таки, в кино. Неужели современные режиссеры еще не окончательно перешли на компьютерную графику? 18 мая. Снял номер в гостинице. Перед этим кружил по городу, по привычке пытаясь оторваться от воображаемого хвоста.
Конечно, это все бесполезно. Имперские ищейки должны выйти на меня, самое позднее, в начале июня — и то, если избыточность шифра (текст уничтожен)
…ловушка, но слишком изощренная для их тупых мозгов. Сначала появились калькуляторы, потом компьютеры — дети совсем разучились не только перемножать в уме числа, но даже складывать. Нет, агенты МБР схватили бы как-нибудь буднично.
Действительно, интересно, кто именно стоит за этой телеграммой! 20 мая. Они позвонили мне по телефону. Вот так, запросто. Обратились по тому имени, под которым я остановился. Голос в трубке вежливо предложил мне явиться на общее собрание (???) для обсуждения конкретных условий заманчивого предложения.
Послезавтра за мной заедет проводник; если передумаю — достаточно сказать ему об этом.
Он передаст мне пакет с деньгами, это компенсация за мои транспортные расходы (!!!), и удалится навсегда. Последний раз меня разыгрывали похожим образом в классе, кажется, в восьмом. Я шутку не оценил и набил за это морду. Не пора ли спалить дневник? А какая, собственно, разница? 21 мая. Все вышло совсем не так, как намечалось. День оказался переполненным событиями под завязку. Рано утром (текст уничтожен)…солдаты Имперского спецназа.
По-видимому, это был последний вариант, на случай, если первоначальные два сорвутся.
Я всегда мечтал погибнуть в прямой схватке с врагом, а не загнуться в лабораториях Невады, поэтому открыл огонь прямо из окна. Прохожие бросились врассыпную; у меня осталось около (текст уничтожен)…Второй дал мне несколько «Капканов-М» и приказал обвалить коридор «ступеньками». Пока я расставлял заряды, мои спасители прижимали спецназовцев к стене прицельной стрельбой.
Никогда ранее я не видел, как первым же выстрелом навскидку из обрезанного карабина (с расстояния в полсотни метров!) валят бронированного коммандос. Он прыгает, как обезьяна, и палит из двух стволов сразу, а целить ему имеет смысл только в колени, или в щель между каской и жилетом — если, конечно, у тебя в руках не (текст уничтожен)… Но верзила падает!..отвратительный запах.
Мы шли так, наверное, еще около четверти часа, а затем опять поднялись на сухой уровень. Первый периодически останавливался, чтобы дернуть какой-нибудь рубильник или прилепить «Капкан» с индикатором движения на трубу, а то и перекрытие. Этим путем нам больше не возвращаться. Я считал подобные предосторожности если не лишними, то, по крайней мере, избыточным, пока пару раз не различил сквозь шум воды эхо близких раскатов подземного взрыва. Уже перед выходом на поверхность (текст уничтожен)…Но я все равно его узнал. Это был ТикиТаки. Он же Человек-Страх. Он же — Самая Дорогая Голова. Он же Последний Красный. Он же — Враг Номер Один. Он же Король Террора. Так — и еще сотней прозвищ, — его называла бесноватая, вечно продажная пресса. Сам он сменил гораздо больше имен. Ни одна из известных Империи фотографий Последнего Красного истинной не являлась. Как-то раз Агентство заполучило его отпечатки пальцев и стало проверять на соответствие им всех лиц, которые, так или иначе, попадали в сферу пристального внимания МБР. Чистки и облавы продолжались полгода, пока не выяснилось, что эти отпечатки Тики-Таки не принадлежат. Мне повезло больше Агентства. Несколько лет назад я общался с ним достаточно близко и очень хорошо запомнил его взгляд. Подобный способ смотреть на мир (текст уничтожен)…отдыхать, пока есть такая возможность. Мне оставалось только подчиниться; я вспомнил о дневнике и, как ясно из вышеизложенного, принялся записывать все, чему был свидетелем. 22 мая…(текст уничтожен) не более трех десятков человек — но каких!
Это были самые отъявленные враги Империи (я знал не всех, но у меня не было оснований считать, что остальные отличались в этом отношении; близкое будущее показало, что я был прав).
Здесь были Ахмет-Ассасин, Карлос Пачи, неистовый Чен, Святомил Дружебович (более известный как Европейский Партизан) и тот самый Игорь Лютый, мой земляк, который из лазерной винтовки пристрелил полномочного представителя их Великой Демократии в Москве… во время парада по случаю окончательной… предали свой народ, страну и предков в угоду желтому дьяволу… (текст неразборчив) — туземцы, обреченные на вымирание… (текст уничтожен)…Тики-Таки. Я не могу здесь полностью привести его речь, да в этом и нет смысла. Говорил он очень немного. Все сказанное сводилось к тому, что, во-первых, Империя, несмотря на отчаянное сопротивление, теснит своих противников по всем фронтам, и нам при таком положении вещей осталось топтать планету недолго, а во-вторых, он располагает, все-таки, неким тайным оружием, которое способно доставить Империи очень много хлопот. Однако, применение этого оружия, по его словам, потребует полной самоотдачи, как от него самого, так и от тех, кто согласится составить команду.
На вопрос, что же это за оружие, он улыбнулся и ответил — Магия.
Свое невероятное везение в борьбе с Агентством Тики-Таки объяснил некоторыми паранормальными возможностями… это было убедительно, но не для всех. Потом он сказал, что довел бы эти силы до соответствующего уровня, если бы у него было достаточно времени, и тогда ему не пришлось бы собирать нас здесь и предлагать свои условия. Однако сейчас, когда за нами, и за ним в том числе, по пятам идет Имперский спецназ и агенты МБР (текст уничтожен)…бутылки из-под русской водки, то единственное, что еще производила некогда великая страна. Ему дали две. Он взял их в руки, закрыл глаза, напрягся, и смял, словно они были не из стекла, а пластилиновые.
Скомканную массу он предложил осмотреть всем желающим (текст уничтожен)…никто не ушел. Тогда он произнес ту самую клятву. Он клялся три раза подряд провести свой парусник туда и обратно мимо Мыса Горн, в самое что ни на есть гибельное (текст уничтожен)… проливом Дрейка…Желчь будет им вином, а железо раскаленное докрасна — мясом…отпечатки пальцев. Через десять минут надо начинать второй сеанс; изменения рисунка заметны уже сейчас, но мне до сих пор не верится…
Впрочем, после сплющенных бутылок поверишь в любое чудо. Хотя, с другой стороны, там необъяснимо все, а здесь вроде как обошлось без мистики, просто местная имплантация генотипа. Непонятно только, почему результат проявляется быстро, и почему нет отторжения трансформированных тканей. Интересно, как они собираются менять рельеф глазного дна, ведь этот способ (текст уничтожен)… (дата уничтожена, также как начало абзаца)…брошу в море — он мне больше не нужен. Что бы ни случилось, будущего у нашей команды нет и так, и этак. Если Капитан окажется не прав, будет обидно, что мы не смогли нагадить Империи перед смертью хоть еще немножко самыми обычными земными средствами.
Впрочем, Капитан, скорее всего, прав. Шторм вокруг нас не прекращается уже неделю, а судно прекрасно слушается руля и, несмотря на протекающие трюмы, сохраняет отличную плавучесть. Бешеный ветер и гигантские валы не пугают никого из команды, все относятся к ним, как к театральным декорациям. Ахмета один раз смыло за борт, но он легко и буднично забрался обратно. Паруса основательно истрепались, но на ходе и маневренности корабля это совершенно не сказывается.
Никому не хочется ни есть, ни пить; потребность во сне также уменьшилась до (текст уничтожен)…лучший авианосец империи, названный в честь диктатора «Президент… Интересно, что решит Капитан?
Дописываю последние строки… Лично я предложил бы посигналить ему в знак приветствия (текст уничтожен)…»
* * *
Настоящий документ был найден в стеклянной бутыли необычной формы (видимо, это результат значительного термического воздействия, с последующей механической деформацией), обнаруженной вахтенным рубки ближнего обзора в момент прохода «Специалистом» района Новых Бермуд. Бутыль, как показала предварительная экспертиза, была несколько лет тому назад закупорена полимерной пробкой и обмотана клейкой лентой, после чего подверглась продолжительному воздействию морской воды, разрушившей ленту и, частично, пробку. Просочившаяся внутрь бутыли влага уничтожила большую часть находившегося внутри документа (написанного от руки на блокнотной бумаге), сделав значительные его участки совершенно непригодными для чтения.
Приведенный выше текст суммирует ту информацию, которую удалось перевести. Не считая уместным в данное время комментировать представленный документ, отмечу только, что спустя трое суток после его нахождения, у двоих членов экипажа начался исторический психоз Блэксона в его классической форме они клялись, что видели своими глазами донельзя обветшалый парусник, обогнавший «Специалиста». На судне, тем не менее, были зажжены сигнальные огни и подняты в знак приветствия стяги. Во избежание последствий второй стадии болезни, им ввели психостабилизатор общего действия, и они были изолированы в медицинском стационаре. Второй помощник капитана, эксперт 3-го класса Майкл Д. Робертсон P.S. Буквально с минуту назад поступило сообщение о протечках в реакторе и, одновременно, о том, что один из больных ухитрился сбежать. Не думаю, что реактор — дело его рук, однако он может быть опасен. Рекомендую капитану не спешить с общей тревогой, сигнал бедствия от «Специалиста» не в интересах Великой Демократии после ста двадцати семи морских катастроф за этот год.
Штормовой прогноз, полученный вчера вечером, носит общий характер, и не может…
Помех… Не в порядке связь… Неизвестный компьютерный вирус, поразивший все жизненно-необходимые… обесточили… допотопное почтовое парусное судно, которое эти идиоты приняли за «Летучий Голландец»…бросили кипу желтых газет и писем… последние слова капитана… ради всего святого не читайте их!» (конец текста уничтожен морской водой).
Владимир Егоров ПОСЛЕДНИЙ РАССКАЗ О КОНАНЕ
Мне не нравятся низины. Самые неприятные места в низинах — города. Не могу сказать, что видел много городов, но считаю, что город отвратительней Таунабада людям уже вряд ли удастся построить. Ну, а самое гадкое место в Таунабаде это, несомненно, харчевня Тума Пеликана «Тум и Пеликан». Очевидно, что такое название мог придумать только непроходимый идиот, который там и заправляет. Тем не менее, в эту ночь я спустился со своей горы в Таунабад. Более того, я зашел в харчевню Пеликана и уселся в углу почище, теша себя напрасной надеждой, что предложат кружку эля. Но к моему приходу весь эль в харчевне уже был поделен на две части — на ту, которую выпил жирный цирюльник, выписанный герцогом откуда-то с юга, и ту, которая плескалась сейчас перед этим цирюльником в кружке, отличавшейся от хорошего бочонка разве что ручкой сбоку.
Цирюльник сидел за самым большим столом в окружении солдат герцога и громко рассуждал пьяным басом. — Никакой человек не может быть также силен, как тролль.
Все это выдумки! Если же все-таки найдется такой силач, то он будет не человеком, а троллем.
Тролль же, как известно, существо зловредное, он ест людей и скотину, разоряет дома и творит прочие безобразия. Вот потому-то и решил сиятельный герцог — да продлится вечно его жизнь! — снести памятник Конану. Либо этот памятник стоит зря, потому что Конан вовсе не был героем, либо стоит зря, потому что Конан был троллем. И вообще, пора вырасти из этих наивных сказок. Подумайте сами, господа, разве стал бы силач оберегать слабых? Нет, конечно! Это было бы несправедливо.
Стоило становиться сильным только для того, чтобы зависеть от капризов неудачников! — тут цирюльник прервал речь и приложился к своей кружке-бочонку.
Воспользовавшись этим, старикашка, сидевший у самых дверей, закричал фальцетом на весь зал: «Неправда! Не было равных Конану не только в силе, но и в благородстве! Памятник ему поставлен заслуженно, а в далекой Аквилонии он вообще был королем!» Стражники, окружавшие цирюльника, мрачно громыхнули доспехами, и старик замолчал. Цирюльник же, с видимым усилием оторвавшись от эля, продолжил, как ни в чем не бывало. — Так вот, о чем это я?… Ах да, о памятнике. В нем же десятки пудов бронзы! А бронза нужна сиятельному герцогу — да сдохнут в страшных мучениях все его враги! — чтобы делать из нее оружие для своих бесстрашных солдат. Уже одного этого было вполне достаточно, чтобы снести памятник давнымдавно. Но сиятельный герцог — да умножится бесконечно его казна! из уважения к старейшинам Таунабада позволил стоять ему, пока не будет доказано, что Конан никакого памятника не заслужил. Или, точнее, что не было вовсе никакого Конана.
Короче, что памятник стоит зря. Именно это я, Магистр Высоких Наук, и объясню завтра всем на общегородском собрании, перед лицом сиятельного герцога — да прольются на мою лысую голову его щедроты! И цирюльник вновь погрузился в кружку. Не был он, конечно, никаким магистром. Получив степень бакалавра в разорившемся университете благодаря взяткам и интригам, он зарабатывал себе на жизнь ремеслом цирюльника, да доносами на соседей. Поэтому когда герцогу, с самого начала точившему зубы на вольности горожан, потребовался умник, который сможет всякими учеными словами оправдать снос памятника, цирюльник решил, что настал его звездный час. Вообще, герцогу нельзя было отказать в сообразительности. Понимал, сволочь — сломав статую Конана, он лишит аборигенов главного символа свободы, безграничной когда-то. Ну, а чтобы уничтожение памятника не вызвало взрыв неповиновения, могущий перерасти в мятеж, совсем нежелательный во время войны со все еще грозной Лигой Баронов, памятник надлежало сперва снести в сердцах людей, опорочив имя Конана. Это и предстояло сделать цирюльнику. В этот момент снова обнаружился старикашка у выхода. Он встал, опершись руками на столешницу, и воскликнул: — То, что было сказано здесь этим приезжим выскочкой, полная ерунда! Ни один горожанин, ни в жизнь, не поверит в эти бредни.
Конан всегда был нашим героем и таковым останется. Просто герцог хочет, чтобы мы забыли гордость и начали лизать ему задницу, подобно южанам. Если бы Конан сейчас был жив, он бы быстро показал вашему герцогу, где его место, клянусь Кромом! Сказанное старикашкой мне понравилось. Но мое мнение не разделял командир солдат, сопровождавших цирюльника. В полной тишине, установившейся в харчевне после слов старика, раздался его негромкий зловещий голос. — Вонючий киммер! Ты, похоже, забыл, по чьей милости твои козлиные ноги все еще оскверняют землю его сиятельства. Что ж, мы можем тебе напомнить! Оробевший старик, слишком поздно понявший, что зашел в своем споре с цирюльником чересчур далеко, все же набрался смелости сказать:
— Когда-то это была наша земля…
— А ну-ка, герои, накормите этого киммерского козла его землей, как следует! Несколько солдат поднялись из-за стола и направились к старику. Он испуганно шарахнулся к дверям, но был легко пойман. Подхватив тщедушное тело за руки и за ноги, солдаты вышли на улицу. Я вышел за ними. Ярко светила полная луна. Солдаты, раскачав стонущего старика, швырнули его в глубокую сточную канаву. Яма была наполнена смердящей городской грязью, смытой с загаженных улиц недавним ливнем. Как только старик, отплевываясь, появился на поверхности, старший из солдат веско произнес:
— Считай, что легко отделался, червяк! В следующий раз выплыть не дадим. И они вернулись в харчевню. А дряхлый киммериец, кашляя и дрожа всем телом, выполз из канавы. С трудом переставляя ноги, он пошел вдоль улицы к главной площади, туда, где пока еще возвышалась статуя Конана. Я неслышно двинулся следом… Как всегда, у монумента лежало несколько сточенных ножей, сломанный топор и разбитый арбалет. К этому памятнику было принято приносить не цветы, а оружие, честно отслужившее свой срок. Хлюпая при каждом шаге набрякшей в жиже обувью, старик подошел к подножию скульптуры, изготовленной некогда великим ваятелем Луцци, и пал на колени. Трясясь, стуча зубами, он воздел глаза к небу и запричитал.
— Великий Кром! Обрати взор Свой на нас, ничтожных! Мы растеряли силу, позабыли гордость, утратили отвагу! Мы сидим по своим углам, как тараканы, дожидаясь в страхе, пока чванливые заморские вельможи раздавят нас поодиночке, и каждый утешает себя только тем, что именно до него очередь дойдет еще нескоро. Великий Кром, мы ходим, согнувшись, и уже не смеем бросить взгляд на Твои Вершины. Мы забыли Твое Имя, Великий Кром, мы молимся Чужому богу!
Неужели нам суждено навсегда стать рабами жадных трусов, заполонивших нашу землю и развративших наших детей?! Неужели мы так и сгинем в той гнилой трясине, в которую сами превратили свою жизнь?! Старик заплакал. Слезы ползли по морщинистым щекам, капали на землю и мешались со струйками вонючей слизи, натекшими с промокшей одежды. Потом старик снова стал молиться. — Великий Кром!
Я никогда не был ни очень смелым, ни очень сильным. Я бесцельно растратил свою молодость, не совершив ничего значительного и не принеся никакой пользы своей Родине. Но я умоляю Тебя, Великий Кром! Мне недолго осталось жить. Дай же мне в обмен на все то время, что осталось прозябать моей душе в этом жалком теле, хотя бы на день — волю Конана, силу Конана, разум Конана! Мне нечего более предложить Тебе в жертву, Великий Кром. Но я клянусь Тебе Твоим Именем, что распоряжусь этим днем достойно! И такая тоска была в его голосе, такое отчаяние, такая искренняя мольба, что чудо не могло не свершиться. И оно свершилось! Сначала старик перестал трястись. Потом поднялся с колен. Потом с треском лопнули его лохмотья, разорванные взбугрившимися мышцами. Затем он протянул руки к бронзовому мечу памятника. Металлический Конан легко отдал свое оружие Конану во плоти. Вооружившись, киммериец огляделся и бесшумно растворился в темноте.
Завтра, после того как цирюльник выступит на площади и солдаты герцога под недовольный ропот горожан опрокинут обезоруженный памятник, Конан поднимется во весь огромный рост на крыше особняка градского главы. Ошарашенная стража застынет в ужасе, а он с боевым кличем спрыгнет вниз и пришпилит герцога к носилкам. Народ сомнет растерявшихся солдат, и волна восстания покатится дальше по Киммерии, сметая и Лигу Баронов, и Имперских Наместников, и вообще всех паразитов, что успели налипнуть на вольную страну за полтора десятка предыдущих лет. Впереди восставших будет идти Конан, а перед ним будет лететь легенда об ожившем памятнике, заставляя трепетать сердца врагов. И так будет много, много дней подряд. А, победив, народ вновь изберет Конана своим королем. И он будет королем много, много лет подряд, королем сильным, мудрым и справедливым. Так что все закончится хорошо. Я, Великий Кром, знаю это абсолютно точно.
Эдуард Мухутдинов КОТ, КОТОРЫЙ ХОТЕЛ НАУЧИТЬСЯ ЛЕТАТЬ
Моему коту Ваське, которому от души наплевать на все романтические порывы.
Это был самый одинокий кот на свете. Все окружающие занимались своими делами, жили обычной размеренной жизнью, и их ничто остальное особо не заботило. Но этот кот, хотя и жил так же, это было на грани его сил и душевных возможностей. Он не хотел закончить свои дни в сером унылом обществе, являясь его мельчайшей составной частью.
Его тянуло ввысь, этот кот мечтал о полетах. Он прожил уже полжизни, и она нравилась ему все меньше. Как-то сдуру и по наивности он проболтался двум приятелям о мечтах, а те оповестили об этом всех остальных знакомых. Отныне, когда кот выходил из дома, его непременно окружали котята. Они начинали смеяться и упрашивали «взять с собой в полет». Котята полагали это очень смешным и думали, что кот тоже веселится вместе с ними. Но он едва мог вытерпеть эти издевательства над сокровенными мечтами и поэтому постепенно стал покидать стены квартиры лишь изредка, только по особой необходимости. Вскоре судьба приготовила ему тяжелый удар. Кошка, горячо любимая супруга кота, ушла к другому. Она лишь на мгновение забежала домой, чтобы попрощаться и забрать пожитки. Кот стоял в неподвижности и онемении, переваривая новость, пока кошка порхала по дому, собирая чемодан. Потом она подскочила к коту, чмокнула в нос, промурлыкала: «Адье, мон амурр», и исчезла.
Но это не сломало кота. Он все равно жил, почти как прежде, каждый день проходил обычно, а ночи — наполовину во сне, наполовину в мечтах. Он был романтик, этот кот. Раньше он рассказывал свои мечты кошке, и та слушала или притворялась, что слушала. Теперь кошки рядом не было, — но кот все равно говорил, тишина нарушалась еле слышным урчаньем. Он говорил в пространство, и звезды с безмолвной Луной слушали его, изредка чуть заметным подмигиванием выражая одобрение. Будь кот человеком, он мог бы выплеснуть свои рассуждения на бумагу и, несомненно, стал бы знаменит и менее романтичен. Но кошачий народ не любит словесных упражнений, он практичен. Поэтому кот все больше и больше отдалялся от собратьев. И даже птицы, в которых остальные коты видели всего лишь кусок пищи, иногда ускользающей, иногда — попадающей в лапы, не вызывали у кота инстинктивной хищнической реакции. Напротив, он почти был готов поклоняться им — ведь птицы летали! Пернатые как-то это чувствовали и не только не боялись кота, но стали даже навещать его, скрашивая одиночество. Но постепенно его обычным настроением стало мрачное недовольство собой и жизнью.
Окружающие сторонились кота, и он это замечал; и в свою очередь, тоже стал избегать общества. Только ночью, окруженный птицами, он преображался, глаза начинали сверкать странным фиолетовым светом, шерсть лоснилась, усы нетерпеливо вздрагивали в ожидании чего-то. Увы…
Ничего не происходило. Иногда ему снились сны. И в них он непременно летал.
Кот чувствовал как парит в пространстве тело. Он ощущал мощные потоки восходящего воздуха, наслаждался играми лучей заходящего солнца на горизонте…
Просыпаясь, он долго лежал, не двигаясь, заново переживая сон, вспоминая малейшие подробности; но тем тоскливее становилась обычная жизнь. Однажды кот встретил ту кошку. Она весело мурлыкала, слушая своего нового ухажера. Но едва ее зеленые глаза встретились с необычными фиолетовыми кота, осеклась, нос ее побледнел, словно она узрела призрак; и кошка поспешила увести ухажера подальше, стремясь избежать неприятного для всех троих разговора. Кот в мрачном настроении вернулся домой. «Все хуже и хуже», — горько подумал он и раздраженно отмахнулся от соловья, подлетевшего к нему. Ах, лучше бы он этого не делал. Этот жест оказался роковым. Отброшенный соловей ударился о стену, упал на землю и умер, сломав шею. Тут же испуганные и возмущенные птицы взлетели и начали в воздухе громко обсуждать преступление. Потом все вместе выразили ему презрение, как предателю — и разом покинули, оставив в одиночестве. Но кот ничего не слышал и не замечал. Сейчас для него существовал лишь этот комочек перьев, который только что летал, — летал! — а теперь уже не шевелится и не двигается. У кота была благородная душа, он не мог даже помышлять о ненависти к тем, кто от рождения наделен способностью парить, о чем сам мечтал без надежды. И, тем не менее, только что он убил одного из них — парящих. И вот тогда что-то сломалось в нем.
Кот медленно поплелся, не видя, куда идет, не осознавая даже, что идет. Так, в забытьи, он преодолел полгорода, пока лапы не привели его к самой высокой в городе башне. И только здесь, подняв взор, он прозрел. Все происходящее казалось ему сном. Страшным сном. Вот-вот он проснется, и все станет попрежнему. Не будет никакой встречи с кошкой, не будет убитого соловья. Не будет даже кота… Но он не проснулся. И кот начал карабкаться на вершину башни. С каждым шагом он словно выбирался из болота, день за днем поглощавшего его, — из болота уныния, бессмысленности, безнадежности. Каждое движение давалось с трудом, но приносило новую долю просвета в затуманенные кошачьи мысли. Когда он стоял на самой вершине башни, солнце уже начало заходить за далекий горизонт, собираясь покинуть эту половину мира. Тяжесть куда-то исчезла, удивительная легкость чувствовалась в теле. И, зная, что все только сон, кот понял: сейчас это свершится. Он ступил на самый край парапета, почти падая в бездну. Крикнул: «Смотрите, я лечу!» Напрягся. Выгнул спину. Прижал уши. Резко распрямил лапы.
Прыгнул. И полетел… Ловя потоки восходящего от земли теплого воздуха, кот взмывал все выше и выше, пока дома внизу не превратились в странные явления природы, и стали выглядеть с такой высоты просто смешными квадратными камешками.
Чувство необычайной, сверхъестественной легкости, никогда ранее во снах не испытанное, овладело котом, и он понял, что способен достичь звезд. Когда пролетавшие мимо благородные птицы, гордые короли воздушного царства, увидели кота, наравне с ними парившего в воздухе, то не поверили своим глазам. Но после внимательной проверки им пришлось признать невероятное. Тогда птицы стали звать его с собой. Кот согласился. Стая направлялась далеко, в те края, куда она улетала каждый год, лишь только появлялись первые признаки наступающей зимы.
Сейчас стая брала с собой кота. Он улетал из города, где вся жизнь его прошла в ожидании этого дня. Кот не хотел больше видеть те стены, о которые разбивались вдребезги его мечты, не хотел встречаться со своими сородичами, которые всегда смеялись над ним. Не хотел ощущать на себе презрение тех птиц, которые жестоко наказали его за нечаянное преступление. Не хотел всю оставшуюся жизнь ощущать отчаянную вину перед духом соловья, витающим все в тех же четырех стенах, откуда ни скрыться, ни убежать… Перед духом соловья! Кот тут же вспомнил мертвое тельце, вспомнил все события, предшествовавшие убийству и последовавшие за ним, — и вдруг совершенно ясно осознал: это не сон… И он на мгновение заколебался.
Всего лишь на мгновение. Широко раскинутые в вечернем воздухе лапы перестали держать его; кот на краткий миг потерял уверенность в себе — и уже не сумел ее вернуть. Птицы, сначала растерявшись, бросились вслед за стремительно падающим котом, чтобы поддержать его, и, подняв, точно птенца, на крыло, не дать разбиться о неумолимо надвигающуюся смертоносную землю. Среагируй они чуть раньше, может, это и удалось бы. Но они опоздали совсем ненамного. Кот услышал непередаваемо ужасный хлюпающий звук, когда его тело ударилось о землю. Он ничего не почувствовал, но в глазах все резко посветлело, и тут же наступила непроницаемая тьма. Больше он ничего не слышал. Тело дважды подбросило, оставляя на земле кровавые следы с клочками серой шерсти. Птицы успели затормозить перед самой землей и в крутом вираже взмыли обратно в небо. Запоздало громко замяукала какая-то кошка, и этот звук в течение минуты был единственным, что нарушал наступившую тишину. Потом воздух взорвался оглушительным хлопаньем множества больших крыльев. Это стая — все до единой птицы- спустилась с неба и уселась подле мертвого кота. Благородные птицы оплакивали ушедшего из жизни собрата, — да, они считали его собратом, равным себе по духу и крови, раз он сумел достичь невозможного для своего народа; так думали эти гордые и важные птицы, безраздельные властители подзвездного пространства. Позже, много позже, когда каждый член стаи отдал дань уважения коту, коснувшись его правым крылом, воздух вновь взорвался хлопаньем крыльев. Стая сделала три прощальных круга над мертвецом и величественно продолжила путь в дальние страны. Хватит! Уже и так много времени потрачено на этого неудачника. Лишь после того, как стая исчезла из виду, собравшиеся в отдалении коты осмелились приблизиться к несчастному. Они недоумевали, откуда он мог так свалиться здесь, когда до ближайшей высокой постройки — полгорода пути. Коты гордо приближались к телу, с любопытством осматривали его, признавая: «Да, это он. Я всегда говорил, что он плохо кончит.
Он был какой-то, если можно так сказать, не от мира сего».
И уходили, важно помахивая хвостами, довольные собой. Кошка слегка всплакнула, узнав о гибели бывшего мужа, но скоро успокоилась. Она уже успела его, как следует, позабыть, и только иногда, в лунные ночи, откуда-то издалека приходили мысли, так напоминающие мечты кота. К своему удивлению, она помнила их достаточно хорошо и долго, и рассказала детям и внукам. Где лежит тело кота, неизвестно. Его похоронили какие-то люди, специально занимающиеся мертвыми животными. Шкура не годилась на выделку, и кота просто закопали. Люди не посчитали нужным сообщить кошачьему народу, где именно. Да и зачем? Но где-то там, далеко, где размыты границы между сном и реальностью, пушистый и хвостатый, не опасающийся упасть, как никогда уверенный в себе, счастливый, резвится кот в потоках лучей восходящего Солнца; и, проделывая немыслимые пируэты, выводя заливистые трели, рядом с ним летает соловей.
(8 января 1996 г.)
Эдуард Мухутдинов СНАЙПЕР
Я все время промахивался, всю жизнь. Ни один учебный выстрел, мной произведенный, не только в яблочко не попадал, но даже в самый край мишени. И неважно, что прицел был идеальным. Однажды устроили эксперимент. Укрепили ружье в тисках, тщательно нацелили. Приятель выстрелил — яблочко. После него — моя очередь.
Выстрел — пуля проходит мимо мишени. Ну что тут поделать? Хуже всего, со временем эта особенность перешла и на другие мои действия. Нет, я, конечно, никогда не мог забить мяч в ворота, только изредка умудрялся попасть по нему ногой — и ни разу не сумел забросить в корзину. И сколько я не старался попасть снежком в окно — всегда выходило мимо. Но то в детстве… Чем старше я становился, тем более усугублялось положение. Я промахивался спичкой и зажигал, вместо сигареты, усы, — от них пришлось избавиться. Я подносил рюмку к подбородку вместо рта, делать записи начинал непременно на столе — промахивался по бумаге, надеть обувь стоило просто героических усилий и требовало много времени… И это — только часть моих новоприобретенных навыков. Друзья наивно полагали меня обычным рассеянным… ну может, чуточку рассеяннее прочих. Но я не был таким! Мне всегда удавалось хорошо сконцентрировать внимание, я всегда мог уловить суть дела, разговора, быстро ответить на самый запутанный вопрос. Так что насчет ясности ума вопросы должны были возникать редко. Однако физическая меткость портила все.
Почему я все это говорю в прошедшем времени? Дело в том, что я просто устал от такой жизни. Я собираюсь покончить с собой. Нет, никаких сожалений! Скорее — облегчение от окончательного принятия этого решения. Я устал — и хочу отдохнуть.
Минувшие годы представляются странным неправдоподобным сном, в котором все шло наперекосяк. Я желаю избавиться от прошлого; и если ценой этому является жизнь, — что ж, пусть будет так. Я недолго выбирал способ свести окончательные счеты со странной штукой, которая называется жизнью. Распространенных и верных методов немного. Но часть из них ко мне просто неприменима. Порезать вены — это хорошо, но я промахнусь ножом по руке. Повеситься — нет ничего лучше, но не попаду головой в петлю. Отравиться — замечательно, но мой подбородок уже изведал немало жидкости. Увольте. Надоело.
Больше всего понравилась мысль о большой высоте. Сброситься с многоэтажного здания, что может быть приятней! Испытать хотя бы раз чувство невероятной свободы, пьянящее ощущение счастья и завершенности это мечта! Я стою на последнем этаже самого высокого здания в городе. Никто меня не видит — это хорошо; не очень хочется перед смертью услышать вопли мелких людишек. Ветербродяга смело обдувает лицо, теребит волосы и воротник, забирается под одежду, приятно холодит кожу. Засиженный птицами парапет… Какая мелочь перед лицом вечности! Солнце, бодро сияющее и освящающее путь вниз, к родной земле, готовой принять меня в последние объятия. Перелезть через перила. Повернуться спиной к балкону следующим образом: переставить правую ногу, обратив ее пяткой к стене, перехватить правой ладонью перила, развернуться окончательно. Весь мир подо мной! Вперед!..Разжать ладони. Чуть присесть. Прыгнуть далеко вперед, изо всех сил толкаясь от парапета… Да здравствует полет! Земля приближается. Я внимательно слежу за этим. Тело, — я уже почти отвлеченно наблюдаю за самим собой, — переворачивается в воздухе, трудно удержать в полете одно и то же положение. Я делаю несколько оборотов… Ах, это пьянящее чувство свободы…Почему я до сих пор падаю? Сопротивление воздуха уменьшается, — но такого не должно быть!
Я открываю глаза. Передо мной — небо. Солнце, облака, далекие черные точки птиц.
Поворот… Дома, деревья… Земля… Почему она удаляется? Я же не птица! Я должен упасть! Рожденный ползать летать не может! Но земля удаляется… Небо постепенно темнеет. Удивленные птицы — и те поотстали от меня, не менее удивленного.
Становится все труднее дышать. Кровь приливает к голове… или это так кажется, ведь давление вокруг падает, а внутри менявсе то же, и, в конце концов, — я начинаю понимать, — меня разорвет на части. С ревом мимо пролетает истребитель, разворачивается — снова пролетел мимо. Я представил себе лицо пилота, и меня разобрал веселый кашель. На третий пролет от рева лопнули барабанные перепонки.
Все выше и выше. Дышать труднее и труднее. Кровь яростно стучит в висках, толчками вырывается из носа и ушей. Небо уже черное, и Солнце ослепительный желтый диск на нем; даже сквозь закрытые глаза я вижу его. Открываю глаза — и перед тем, как ослепнуть, замечаю россыпь звезд вокруг Светила. Я предчувствую приближение смерти за несколько мгновений до нее. Страшные боли внезапно утихают, кровь перестает идти… ее и осталось-то уже немного. Несколько секунд перед небытием…
Ах, эта чуждая реальности романтика… Но внезапная догадка омрачает конец моей жизни.
Я начинаю смеяться — тихий страшный хрип с бульканьем вырывается из опухшего горла.
Конечности конвульсивно дергаются, агония охватывает все члены, — и жизнь покидает изуродованное тело. Что за ирония!? Я промахнулся в последний раз. Но как промахнулся!
Я промахнулся по Земле!..
(19 апреля 1997, Казань).
Василий Купцов МОЦАРТ И САЛЬЕРИ, ДУБЛЬ ДВА
«Прости меня, Александр Сергеевич!» «Я опоздал родиться». Опоздал? Ну почему же я, несчастный Моцарт, страдать все время должен оттого, что некто, именем Антонио Сальери, успел родиться раньше на шесть лет.
Ведь он же пустоцвет, ведь он же бездарь? «Волшебную» мне «флейту» освистали, тупицы, бездари! Ну, а его пустые побрякушки успех имеют громкий… У кого? У публики тупой, что в музыке не смыслит ничего! И все — ему. И деньги, и монарха благосклонность, и слава, слава… Директор оперного театра! Вот и капелла придворная его…
А мне, что мне, свист публики — и только?! Я опоздал… Но почему же опоздал? Ведь и отец мой, Леопольд, он сделал все, чтоб я сумел нагнать. Учил меня, страдал, ночей не спал. И выучил, сумел.
Ведь в возрасте я шестилетнем давал концерты и в империи Австрийской, в Германских княжествах, во Франции, на Альбионе даже… Играл я, музыку писал, и дни да ночи я сидел за клавесином. И что ж? Каков мой титул? «Ученой обезьянкой», не больше и не меньше, назван был — и только…
О почему, ну почему, никто не видит, что я гений?! Ну, разве просто так не видно сразу, что лучше музыки моей никто не сочинял еще? Что лучший я, что Богу равен? Еще и в плагиате обвиняют. Смешно! Ведь я могу сыграть мелодию любую наизнанку, иль вывернуть симфонию любую хоть задом наперед. Да я вниз головой сыграю! Но — становлюсь я в их глазах презренным акробатом, не более. Как шулер, мол, сжигаю свой талант…
О, здесь-то мой талант все признают — мол, тратит он талант на развлеченья, пьет. И что забыл искусство ради дам. Все это ерунда! А, может, впрямь всему виной Сальери? Ведь если бы не он, то мне б сейчас рукоплескали, мои лишь оперы звучали бы везде и всюду Да что там говорить! Моей капелла б стала и моим — театр, и был бы я придворным музыкантом. И деньги, были б деньги у меня! И слава!!
Женщины, в конце концов!!! Но что же делать? Ведь Сальери, хоть старше он меня, здоров, как дуб и крепок. Не слишком много пьет вина и с девками распутными гулять не любит. И проживет, видать, еще не мало. Вот кабы смерть его забрала чуток пораньше… Но — как? Случайность? Нет, случайности бывают лишь типа одного — когда теряешь сам ты кошелек, или любимая тебя бросает. А этот будет жить! И жить богато… Мои деньжата получая, заняв то место, что моим должно быть.
И тратя деньги те, что обидно! Особенно!
Нет! Я сам, я сам, своею собственной рукою должен… Но что? Дуэль? Нет, стану я посмешищем, не боле! Тогда нанять убийцу? Так, где же деньги взять, ведь душегубу надо заплатить? Так что же?! Сам… Я сам. Но это — сказать лишь просто.
Как? Удар из-за угла?
Ну да… Ведь посильней меня, проклятый он, придворный капельмейстер. Опять же — драка и возня. Кровь… А потом убийцу сыщут! Нет, надо так, чтоб — наверняка, и риску не было б, и шума. Вот — заболел нежданно, да помер, и врачи бессильны были… Так значит — яд.
Ну, что ж, не первый я и не последний, уж точно, кто к средству верному прибегнуть решился. И яд ведь есть, надежный яд, достался мне давненько, но — до сих пор силен. Он действует не сразу, мой яд, на ужин принятый, лишь к ночи к смерти он приводит. Без вкуса и без запаха, испил — и не заметил! Что ж, решено?
Что решено?! Убийцей стать?
Позор? Но почему ж… Когда других путей Судьба мне не оставила. Нет, нет, не так — я лишь исполняю Судьбы предначертанье. Но — страшно мне. Страшно мне? Вотвот!
Доколе буду я лишь жалкой тварью, Судьбою понукаемой и битой? Да кто я, в самом деле?
Игрушка ли Судьбы, или ее я Повелитель? Да, стану я Судьбой повелевать! И будет все у ног моих. А сделать-то всего — подсыпать яду другу… Другу? Да он не друг мне, нет, он враг, а враг достоин смерти! И только так…»
* * *
— Ведь мы с тобой друзья, Сальери?
— Конечно же, друзья!
— Ты — лучший друг мне, и только ты лишь музыку мою воспринимаешь!
— Но, почему же, и другие, многие другие…
— Ты — мой учитель!
— Брось, Моцарт…
— Нет, послушай, — садится за клавесин, играет, — не будь тебя, не слыша оперы твоей, такого б я не написал!
— Ну, моего здесь — ничего, или почти что ничего!
— И все ж тебе я благодарен.
— А я тобою восхищен, ты гений, Моцарт, и я горд, что ты мой друг!
— Да брось, смущаешь ты меня!
— Нет, правда, горд… И дом мой всегда открыт тебе, дружище!
— Послушай, раз уж мы друзья, пора нам выпить так, как пьют друзья…
— На брудершафт? Пожалуйста, я буду рад, сейчас нальем бокалы мальвазии сладчайшей… Вот этот — вот, тебе, а этот — мне!
— Постой, сыграй-ка сейчас мою любимую, ну, знаешь сам… «Так, Сальери за клавесин уселся, бездарь, он думает, что нравится его набор нот жалких мне? Ну что ж, момент удачный, и вот он яд, а вот бокал. Густое красное вино, насыпал — и не видно! Теперь не ошибиться бы, хотя все просто…» — Всегда я рад сыграть тебе, дружище Моцарт! Давай же выпьем! — пьют, перекрестив руки, — Вот так, как настоящие друзья… Ведь знаю Моцарт, вот — меня забудут, а оперы твои, симфонии да пьесы, их сотни лет еще везде играть все будут!
— Да брось ты…
— Нет, я знаю! И «Реквием» — вершиной станет… — Мой «Реквием»? Об этом рано говорить еще… «Да, станет, станет, и как раз он вовремя готов к твоей кончине, счастливец мой!».
* * *
«А все же хитро я придумал. Скрестили руки, и бокалы — тоже. И яд подсыпал я себе, как будто, но потом, поскольку пили мы на брудершафт — попал бокал тот с ядом в рот Сальери. Как хитро! Я взял бокал, что рядом, с ядом, перекрестили руки… Но! Постой, постой, ведь я же сам и пил, а не его поил. Пил из бокала, что сам держал рукой. И сам же взял. Где? Да с собою рядом. И он был с ядом… Нет, не может быть! Так. Нет, все точно! Я выпил яд. Сам выпил свой яд… Но что же делать? Доктора! Врача немедля! Как не идет?
Но почему? В долгах я, нечем мне платить? Скажите — умирает. Пусть врач придет. Какойнибудь! И пусть меня спасает. Холера, вы скажите, у него, быть может…»
* * *
Моцарт скончался в холерном бараке. Жена отказалась забирать и хоронить его.
Такое ее посмертное отношение к гениальному композитору можно было отчасти понять. Ведь после смерти в доме Моцарта было найдено всего… 5 монет. Конечно, продать бы сейчас те монеты коллекционерам — и вдове бы хватило на безбедную жизнь. Но тогда — это была мелочь из мелочей… Моцарт, Вольфганг Амадей (17561791) был похоронен в общей могиле. Рассказывали, что за его гробом шли пять человек, включая могильщиков… Слава пришла к нему позже. Громкая, всемирная слава, позволившая Амадею затмить всех остальных композиторов своего века, исключая, разве что, неожиданно открытого Мендельсоном в пыли архивов Иоганна Себастьяна А Сальери, Антонио прожил еще очень, очень долгую жизнь (1750–1825).
Его путь был прям и прост. Именно он стал первым директором основанной в Вене Консерватории. Писал музыку, оставив после себя свыше 40 опер, работал над теорией композиции, учил детишек этому искусству. И — выучил! Ведь в числе его учеников, а их насчитывалось более шестидесяти, по классу композиции мы видим Бетховена и Шуберта!!! И, даже совсем дряхлый, успел он Листа поучить. Вот так!
(1999)
Василий Купцов ПРЕДСКАЗАНИЯ АННЫ
Я не поручусь, что все описанное ниже действительно имело место. Очень может быть, что я кое-что и присочинил для пущего эффекта. И соединил разные истории в одну. Но идея этой истории имела реальную основу, по крайней мере, я больше уже никогда не ходил к предсказателям по своей воле, а, попав в подобную ситуацию, больше не упоминал своего имени. Конец лета 1912 года. Я гуляю под ручку с шестнадцатилетней Настенькой. Настя — симпатичная, невысокая, с меня, пятнадцатилетнего (по виду — мне и шестнадцати не дашь!), ростом, девочка — девушка, русоволосая (правда, без косы — зато локоны!), с голубыми глазами и небольшим носиком. И еще довольно большой лоб, это, конечно, не украсило бы девушку в былые времена, но сейчас, в начале века, учитывая мечту Настеньки получить врачебный диплом, это неплохо смотрится. Умная девушка.
Кстати, медсестринские курсы она уже закончила и даже с отличием. Мы знакомы целых три дня. Ей понравился исключительно красивый подросток (это — я), мы разговорились, она сочла меня неглупым. Потом мы погуляли, она еще не воспринимала меня всерьез.
Потом как бы в шутку дала себя поцеловать. Стало приятно. Потом, к вечеру, я слегка прошелся губами по ее шейке и по легчайшему, хорошо знакомому мне запаху женских выделений (У меня сверхчувствительное обоняние, не хуже, чем у собаки!), понял, что дело сделано. Мы обнимались некоторое время, причем я делал все исключительно нежно. Когда же она, наконец, решилась проверить у меня между ног, я привел свои вооруженные силы в состояние боевой готовности. В результате уже через час мы были в постели. Увидев меня первый раз во всей красе, она, кажись, схлопотала только от этого женское удовольствие. Впрочем, у разных женщин это выражается по-разному, и никогда точно не знаешь, что чувствует в этот момент твоя возлюбленная… Я долго ее ласкал, используя как язык, так и основной орган ласк. Кажется, она еще пару — тройку раз доходила до предела ощущений. Когда же я ввел, она так задергалась, прямо вся изогнулась, что… я уж подумал, не прервать ли процедуру, а не то заболеет еще! Девушкой она уже не была, но предыдущие ораторы, по всей видимости, мастерством не отличались. Потому она сразу после первого раза в меня прямо-таки вцепилась и продолжала изводить любовью до самого утра. Итак, это наше знакомство — и любовное приключение одновременно продолжалось уже три дня. И не имело склонности к окончанию. О себе я ей ничего не рассказывал. Чем занимаюсь? — Бродяга… — Но бродяги грязные, оборванные. От них воняет. — А я такой вот культурный бродяга, у меня даже деньги есть, правда немного. — А когда кончатся? — продолжала докапываться Настя. — Деньги не проблема, — сказал я легкомысленно, потом подумал и уже куда более глубокомысленно добавил, — лишь бы девушки не кончились! Мы остановились у закрытого павильона. Если судить по афишке, в данном балаганном заведении восседала великая предсказательница будущего ясновидящая Анна Грушевская. — Хочу узнать свое будущее! — заявила мне Настя. — Да я тебе и так, бесплатно могу предсказать, — сказал я. — Ну, предскажи чего-нибудь важное — для меня. — Не далее, чем через три дня, — сказал я таинственным голосом, — у тебя будет красный флаг! Красный флаг — так до революции называли женские дни. Потом, естественно, отучили. — Ах ты, негодник, — замахала на меня руками Настенька, потом что-то подсчитала и спросила удивленно, — вообще-то правильно, так и получается, но ты то, как это узнал? — Но я же ясновидящий! — сказал я с победной интонацией. — Знаю я твое ясновидение, — сказала Настя, — просто ты по женским делам во всем сведущ, вот и все. Небось, знаешь какую-нибудь хитрость, вроде той точки на стопе, как давеча показывал. А я хочу настоящее предсказание!
Пошли, не пожалей гривенника! Пришлось заплатить и пройти в павильончик. Там уже набилось немало народу. Студент, двое военных, просто штатские господа, при этом все — с дамами.
Военные были при полном параде, дамы — разодеты в пух и прах. Я — самый молодой, по внешнему виду, разумеется. Да и одеты мы с Настенькой были довольно скромно по сравнению со всей этой публикой. — Эта ясновидящая девушка слепа от рождения, — говорила одна из дам, — ее мать погибла при странных обстоятельствах незадолго до родов, ребенка вытащили уже из мертвого чрева. — Какой ужас! — сказала другая дама. — И почему это все предсказательницы слепые? — спросила студента его девица. — В самом деле, почему? — толкнула меня локтем Настя. — Понятное дело, почему, — ответил я и продекламировал громко: Мне мама в детстве выколола глазки, Чтоб я варенье не нашел!
Теперь я не хожу гулять и не читаю сказки, Зато я нюхаю и слышу все так хорошо! — И как тебе не стыдно? — с возмущением спросила она. — А что, — пожал я плечами, — когда читал эти стихи Максиму Горькому, он аж прослезился… Правды ради стоит отметить — наверное, этих строк Горький все-таки не слышал. Но, вообще-то, слезы на глазах появлялись у него при прослушивании практически любых стихов. — Молодой человек, — сказал студент, обращаясь ко мне, — если подобная хулиганская выходка повторится, я буду вынужден… — Все, все… Буду хорошим, тихим мальчиком! — сказал я и сделал попытку спрятаться за свою девушку. Окружающие засмеялись. В этот момент зашла ясновидящая.
Анна Грушевская, если я правильно запомнил имя на афише. Совсем молодая, лет двадцать, не больше. На ней были темные очки, черное, без всяких украшений длинное платье. Она легко без посторонней помощи нашла кресло, предназначенное для нее. Нас предупредили, что можно подходить только по одному или парами со своими дамами, но вопрос должен задавать только один. Забавно, но вопросы в дальнейшем задавали только дамы, по всей видимости, именно их интересует всегда, что будет в дальнейшем.
Мужчины, как правило, предпочитают творить это самое будущее своими руками.
Первой к ясновидящей приблизилась самая пожилая пара — полковник с женой.
Последовал вопрос о замужестве старшей дочери полковника. К восторгу публики необыкновенная девушка сама назвала имя дочери, затем предсказала свадьбу с поручиком через полгода. И даже двойню еще через год. Потом подходили другие пары. Студенту была предсказана женитьба и продвижение в науке. Корнету — неожиданное улучшение в материальных делах, связанное с удачной женитьбой.
Ясновидящая Анна отгадывала имена, делала предсказания. Никому никаких несчастий она не предсказывала, поэтому настроение у публики быстро поднялось. Были даже небольшие подарки. Молодец, девочка! Чего зря расстраивать людей? Да и вообще, за дурные предсказания еще никто никого ничем не наградил… Ну, вот настала и наша очередь. Хотя мы подошли последними, публика не расходилась, всем хотелось все услышать до конца. Моя Анастасия начала задавать вопросы. Разумеется, о будущей учебе. Предсказательница ответила, что видит Настю, обучающуюся где-то там, где говорят на непонятном языке. Настенька пришла в восторг и спросила, любит ли ее тот, кто сейчас рядом с ней. — Кого вы имеете в виду? — переспросила ясновидящая. — Да вот же, его… — сказала Настя и указала на меня. — Но здесь же никого нет! — сказала Анна. — Да вот он я, — сказал я и протянул руку к руке ясновидящей, так, чтобы она могла слегка коснуться меня кончиками пальцев.
«Кажется, я попал в историю. Ну, ничего, как-нибудь выберусь из ситуации».
Ясновидящая коснулась меня, пощупала протянутую руку. На ее лице застыло удивленное выражение. — Как звать тебя, невидимый мне юноша? — спросила она. — Ган, — сказал я сдуру правду. Воистину — язык мой — враг мой! — Ган, Ган… хочу видеть все… Ган, — начала тихо повторять ясновидящая. — Странно, она тебя не почувствовала, — сказала Настя, глядя на меня. По спине пронеслась дрожь — на меня уставились и все остальные посетители. — Это потому, что я не человек, а самый страшный демон! — сказал я, потом растянул большими пальцами рот в обе стороны, а средними пальцами оттянул нижние веки книзу, да еще и завыл, — Уу-у!
— Я вас предупреждал, юноша, о недопустимости такого поведения! — сказал студент и сделал попытку поймать меня за ухо. Я увернулся и отпрыгнул в сторону. Парень — за мной. Он бы и не ухватил меня, но на плече сомкнулись чьи-то потные пальцы — это молодой корнет, решил присоединиться к студенту в деле борьбы против малолетних хулиганов. Пришлось провести прием, имеющий поэтичное китайское название «обезьяна крадет груши». Несильно, конечно, но вполне достаточно, чтобы корнет отпустил руку и схватился за свои оттянутые достоинства. Началась маленькая заварушка. Оставалось только выскочить из павильона и делу конец. Но, увы! Ясновидящая заговорила. Да так, что все забыли о маленьком хулигане, то есть обо мне, и замерли, слушая изменившуюся в голосе Анну. — Все не так, все плохо, все страшно, — говорила она, — все, все гибнут! Война, смерть, еще война.
Корнет, задыхающийся в каком-то дыму. «Иприт». Что такое «иприт»?
Полковника расстреливают собственные солдаты. Красные флаги. Этого молодого студента вешают. И его невесту. Какие-то бандиты. А вот эта дама умирает от голода.
Болезни. Вот Настя, умирает, заразившись чем-то от своих больных. А вот и я.
«За контрреволюционную агитацию». Меня убивают люди в одежде из кож… Ясновидящая лишилась чувств. Анастасия подбежала к ней, у моей девушки оказался при себе флакончик с нашатырным спиртом. Медик все-таки. Посетители молча расходились. Я остался ждать на улице. Ждать пришлось долго. Наконец, вышла Анастасия. — Я больше не хочу тебя видеть! — сказала она мне. — Между нами все кончено! Нелюдь…
Я не стал ее догонять. Бессмысленно. Слово не воробей… Да и было о чем подумать.
Прежде всего, что же произошло там на самом деле? Да проще некуда!
Предсказательница воспользовалась, вероятно, бессознательно, моим именем в качестве пароля. И прошла туда, куда никого не пускали. Вернее пускали, скажем, Нострадамуса и еще некоторых. Или имена тех избранных были записаны в плане.
Кажется, достаточно ясно… И еще. В тот момент, когда ясновидящая делала свои последние, трагические, предсказания, она как бы одновременно излучала телепатически то, что ей открылось. И я все это видел. Вот пожилой полковник.
Он даже не понимает, что происходит. Ведь он исполнял все приказы. В том числе и от нового правительства, и от нового верховного главнокомандующего Крыленко.
Почему его ставят к стенке? Он так и умирает, ничего не поняв. Вот корнет. Он умер раньше.
Газовая атака немцев в Первую Мировую. Мельчайшие капли иприта, попавшие на кожу — и сразу же огромные язвы. А теперь он лежит, среди других таких же, как он, лицо у него синее. Задыхается, легкие уже полны пены, она выходит изо рта и носа. Но вот, отмучился, сердце наконец-то остановилось. А вот Анастасия. Уже заболела сыпняком. Не надо было расчесывать укусы вшей, раз уж работаешь в тифозном бараке. А теперь сама слегла. Лихорадка. И до болезни сил оставалось всего — ничего. Нечем защититься от инфекции. Еще пару дней без сознания, в бреду — и все. Сама предсказательница. Если чтото там предсказывает, и не победу мировой революции при этом — стало быть — контра.
Таскать слепую в ВЧК? Зачем? Да и возни слишком много. За ручку ее води. Все равно, конец известен, только суета одна. Будем считать, что оказала сопротивление при аресте.
Выстрел. Вот так, просто. Без мучений. Я немного знал, как работают все эти мировые исторические механизмы в нашей вселенной. Что существуют определенные точки — имена и точки — даты, которые должны обязательно проявиться в истории.
Остальные события подталкиваются таким образом, чтобы оные точки зафиксировались бы в реальной истории. Знаю и закон неопределенностей — чем точнее определяется один признак чего-то, тем менее точен другой определяющий данный момент признак.
Но тут было все так определенно! Неужели все известно заранее? Тогда зачем эта комедия под названием жизнь, если все определено… Чем закончить рассказ?
Читатель не хуже меня знает, что случилось с Россией, начиная с 1914 года.
Казалось, все предсказания ясновидящей Анны были правдоподобны. Вот только, будучи в 1930 году в Париже, я проехался на такси, за рулем которого сидел тот самый корнет, постаревший, естественно.
Но я его узнал. Тот самый, который должен был умереть от иприта в Первую Мировую. Я не стал ему ничего напоминать. Зачем? Вот и все! Морали не будет!
(1997)
Василий Купцов ПОДАРОК ПАЛАЧУ
В моей жизни произошло все, что только могло произойти, точнее — даже больше, чем могло. А если уж совсем быть точным, то гораздо больше, чем мне бы хотелось.
Но судьбу не выбирают… Я — палач. Потомственный, наш род несет эту тяжкую повинность перед правосудием, людьми и короной не одну сотню лет. Служили, несмотря ни на что. Дед мой, Шарль Баптист, родившийся в Париже 19 апреля 1719 года, вступил в должность своего отца 2 октября 1726 года. Но так как было невозможно, чтобы ребенок его лет сам мог выполнять такую обязанность, на которую был обличен, то Парламент дал ему в помощники палача по имени Прюдом, требуя, чтобы он хотя бы присутствовал при всех казнях, совершавшихся в то время, чтобы придать им законный вид. Но никому из моих предков не приходилось исполнить то, что пришлось мне. Впрочем — кому неизвестно мое имя?! Имя, связанное с такими именами, как Людовик XV и Дантон. И еще многими и многими именами. Связано самым, что ни на есть роковым образом. Впрочем, на то он и палач. И не дай бог палачу жить и служить своим мечом в эпоху Революций!
Казалось бы, что еще могло произойти в моей жизни такого, особенного — так сказать. Куда уж больше?!
Но только сейчас, чувствуя приближение часа встречи со Всевышним, я почувствовал в себе силы и смелость рассказать о странном и мистическом случае, произошедшем со мной задолго до начала Революции. Этот день я бы запомнил в любом случае, ведь это был день моей свадьбы. Итак, к рассказу. Августовским вечером 1785 года несколько молодых людей провели вечер в одной из пригородных слобод, которая незаметно, мало-помалу, превращалась в предместье и стала называться предместьем Пуассонье. Возвращаясь, молодые люди заблудились в лабиринте дорог, которые, вследствие беспорядочных застроек и переделок были почти непроходимы. Ночь была темная, и шел проливной дождь. Долго блуждали молодые люди, спотыкаясь на каждом шагу и поминутно увязая в глубоких колеях, размытых дождем и наполненных грязью. Наконец, они заметили ряд ярко освещенных окон на мрачном фасаде одного большого дома. До них стали доноситься слабые звуки музыки, по-видимому, вылетавшие из этого дома. Подойдя еще ближе, молодые люди заметили, что в окнах мелькает несколько пар танцующих. Они смело постучали в двери и приказали вышедшему к ним слуге объявить их имена хозяину дома и передать ему, что они желали бы принять участие в его веселом празднике. Через минуту вышел к ним сам хозяин. Это был человек лет тридцати от роду, с открытым лицом и изящными манерами. Роскошный костюм указывал на человека из высшего общества, чего никак не предполагали молодые люди, исходя из внешнего вида этого мрачного дома.
Хозяин встретил их очень любезно, выслушал рассказ об их похождениях с улыбкой человека, еще сочувствующего увлечениям молодости. Затем он объявил им, что дает этот бал по случаю своей свадьбы, и прибавил, что ему очень приятно было бы иметь на своем празднике подобных гостей, но просит их подумать, достойно ли такой чести то общество, в которое они хотят войти. Молодые люди стали настаивать, и хозяин дома ввел их в зал и представил своей супруге и родным.
Скоро молодые люди освоились, стали танцевать, протанцевали до утра и от души были восхищены оказанным им приемом. Утром, когда они уже собирались удалиться, хозяин дома подошел к ним и спросил, не желают ли они знать имя и звание того, кого они удостоили своим посещением? Молодые люди полунасмешливо стали просить оказать им эту честь, уверяя его в своей признательности за приятно проведенный вечер. Тогда новобрачный объявил им, что он Шарль-ЖанБаптист Сансон, исполнитель уголовных приговоров, и что большая часть гостей, с которыми этим господам угодно было провести вечер, носили то же самое звание. Как нетрудно было догадаться, хозяином был я. При этом двое из молодых людей, повидимому, смутились, но третий, молодой человек с бледным и красивым лицом, в мундире ирландского полка, громко расхохотался и объявил, что от души благодарит судьбу за этот случай, что ему давно хотелось познакомиться с человеком, который рубит головы, вешает, колесует и сжигает преступников. Затем он стал просить меня показать орудия различных казней и пыток. Я поспешил удовлетворить это желание и повел своих гостей в комнату, которую он превратил в арсенал снарядов для пытки и казней. Между тем как товарищи офицера удивлялись необыкновенному виду некоторых орудий казней, сам он обратил исключительное внимание на мечи правосудия, которыми отсекались головы преступникам, и не переставал их рассматривать. Удивленный этим необыкновенным вниманием, я снял со стены и подал офицеру один из мечей. Это был тот самый меч, которым я в свое время отсек голову графу де Горн. Орудие правосудия было четырех футов длины; с тонким, но довольно широким клинком. Конец меча был округлен, а в середине клинка находилось углубление, в котором и было вырезано слово: «Правосудие».
Рукоять меча была сделана из кованого железа и имела около десяти дюймов длины. Несколько минут молча рассматривал офицер это орудие казни; попробовав на ногте лезвие меча. Некоторое время размахивал им с необыкновенной силой и ловкостью и наконец спросил меня, можно ли подобным мечом отсечь голову с одного удара. Я отвечал утвердительно на этот вопрос и прибавил, смеясь, что если господина офицера постигнет когда-нибудь участь господ де Буттевиля, дe Сент-Марса и де Рогана, то он может быть спокоен. Так как я никогда не доверяю своим людям казни дворянина, то могу дать вам честное слово — не будет необходимости повторять удара.
— Сие маловероятно, — заметил офицер, подавая руку на прощание. Я охотно пожал протянутую руку, этот молодой человек мне явно пришелся по сердцу. Но далее случился небольшой конфуз. Два других моих случайных гостя сделали вид, как будто они ни при чем, едва ли не с брезгливостью поглядывая на мою ладонь, протянутую им на прощание. Через секунду ситуация разрешилась и молодые люди покинули мой дом. Каково же было мое удивление, когда через пару минут молодой офицер вернулся.
— Мне стало неудобно за поведение моих спутников, — сказал он с какой-то внутренней сердечностью.
— Ну, что Вы, я привык… — усмехнулся я. Еще бы!
— Я Вас понимаю, — кивнул молодой человек.
— Вряд ли Вы можете меня понять, — вздохнул я, — но моя отверженность от общества давно перестала угнетать меня, я воспринимаю ее, как должное. — Мне очень захотелось сделать Вам подарок, — неожиданно молвил офицер, дело не только в том, что я очень весело провел время на Вашей свадьбе…
— А в чем?
— Ведь все остальные гости, те, кто занимается тем же самым… Они ведь пришли с подарками, не так ли? — И что? — Сложно объяснить, но с меня в этом случае тоже причитается.
— Вы… тоже палач?! — удивился я.
— Нет, или… Может, мне пришлось в свое время исполнять подобные функции… — замялся молодой человек. Я не стал расспрашивать, в жизни всякое бывает, по крайней мере, у этого дворянина была не только дворянская, но и настоящая человеческая честь…
— Значит, меня ждет еще один подарок? — улыбнулся я.
— Подарок… Ну, да… Только не простой, — теперь уже заулыбался офицер, — видите ли, некоторые мои желания… Ну, они сбываются… Денег или дворцов наколдовать не могу, сразу признаюсь. Только никому не говорите об этом, сбываются не все желания, а только — особенные!
— Никому не скажу! — я уж совсем развеселился.
— Так что бы Вы хотели? Какое желание может быть у палача?
— У палача? Сложно сказать… Ну, чтобы преступлений не совершалось, продолжал веселиться я.
— Это нереально, — его голос стал неожиданно серьезен, — давайте лучше чтонибудь ощутимое. Скажем, меч не тяжел?
— Устраивает.
— А если бы сам рубил?
— Так не бывает! — Отчего же, скажем, такая машина, чтобы сама головы рубила, ну, как в сказке — дерни за веревочку… голова и отрубится.
— Такая машина существует, — пожал плечами я.
— Да? — молодой человек несколько заинтересовался, — Расскажите!
Это орудие, известное в Италии с 1507 года, называется манайя, — блеснул я своими знаниями, затем увлекся — как видно, выпитое за ночь вино еще не совсем выветрилось из моей головы — и я прочитал офицеру небольшую лекцию, — как писал один человек, посетивший Италию, манайя представляет собой раму от четырех до пяти футов высотой и около пятнадцати дюймов шириной. Она состоит из двух брусьев и двух косяков около трех дюймов в квадрате, с выемками внутри, чтобы пропускать подъемную раму, назначение которой мы опишем ниже. Два бруса соединяются тремя поперечниками, снабженными шипами и гнездами для них: на однуто из этих перекладин осужденный, встав на колени, кладет свою шею. Над шеей последнего находится другая подвижная перекладина в рамке, которая входит в выемки брусьев. Ее нижняя часть снабжена широким острым и наточенным ножом от 9 до 10 дюймов длиной и 6 шириной. К верхней части перекладины крепко прикреплен кусок свинца от 60 до 80ти ливров весом: этот поперечник поднимают на один или два дюйма к верхней перекладине и прикрепляют к ней при помощи небольшой веревки; палачу стоит только перерезать ее, и рамка, падая всей своей тяжестью вниз, пересекает шею осужденного.
— Перерезать веревку? — удивился офицер, — А если казнить сразу десяток или сотню осужденных, веревки ведь не напасешься?! — Упаси Бог от такого! — Нет, пусть у Вас будет такая машина, но чтобы работала как часы… И без веревочек, повернул рычажок — и все дела!
— Что же, если мне будет дарована свыше машина для облегчения труда, то я буду благодарить Вас, как сделавшего мне подарок, — почему-то моя веселость прошла. Я сходил за вином. Мы молча выпили. Я ждал, когда он, наконец, уйдет. Для утра после свадебного пира мне было более чем достаточно. Однако молодого человека что-то угнетало.
— Все это не то…
— Что не то?
— Да, разве это подарок — орудие труда. Подарок должен осуществить какую-нибудь мечту. У Вас есть мечта?
— Есть, вернее, была, но вчерашнего вечера, — усмехнулся я, намекая на вполне прозрачное обстоятельство.
— Женитьба это хорошо, конечно, — кажется, мысли молодого человека были далеко, — но это не то. Орудие труда, жена… Нет, должна же быть какая-то мечта. Ну, скажем, мечта солдата — стать генералом…
— Но я уже парижский палач, выше некуда…
— Но у военного может быть мечта — совершить подвиг, победить в сражении.
— У палачей такого нет.
— Как нет, помню, совсем недавно срубили голову Карлу…
— Ну, не совсем недавно, и вряд ли помните такое Вы…
— Да, да, конечно… — он согласно закивал. Тоже мне «помню, как вчера»…
— Но все же, хотели бы Вы, чтобы под Ваш меч легла голова короля?
— Во-первых, это кощунство, а во-вторых, этого не будет никогда! — мне уже совсем не нравился этот разговор.
— Никогда не говори никогда, — парировал он английской пословицей, — лучше ответьте, хотели бы?
— Да нет же, не хотел! И отчего бы вдруг? Наш король — прекраснейший монарх, добрейший человек, чистейший…
— Заметано, — засмеялся офицер, — будет Вам королевская голова!
— Знаете что, — я вскипел не на шутку, — покиньте-ка лучше мой дом и считайте, что я ничего не слышал!
— Извольте! — и молодой человек ушел. Я собрался уже отправиться в спальню, как вдруг этот наглец заявился снова. Он где-то явно успел хлебнуть еще винца и теперь уже плохо держался на ногах. Я ожидал, что последуют извинения, но не тут то было! — А что такое королевская голова? — язык у него совсем заплетался, — Разве это подарок? Рубили им головы, и не раз! Нет, раз уж я задумал сделать подарок, так это должен быть ПО-ДА-РОК!
— Шел бы ты домой! — Сейчас, сейчас, вот только пойму, каков подарок должен быть… — Не надо мне твоих подарков пьяных! — А, понял, надо отрубить головки… всем дворянам… всем! Всему дворянству — вот… — Бедняга, ты совсем уже свихнулся…
— Нет, отчего ж, пусть так и будет… Вслед за чем молодой офицер запутался в собственных ногах и рухнул с грохотом прямо на пол. Я помог ему встать, довел до дверей. Неожиданно он несколько отрезвел и отправился дальше. Больше он не возвратился… А потом началась Революция.
И это начало совсем меня не насторожило. Первой ласточкой, заставившей пройтись мурашкам по моей коже, был указ от 21 января 1790 года: «Во всех случаях, когда правосудие произнесет смертный приговор обвиненному, то казнь будет одинакова для всех. Какого рода преступление бы ни было, преступник будет обезглавлен при помощи простой машины». Понятно, что Французская Революция, уравнявшая всех граждан перед лицом закона, должна была почти в то же время, в случае преступления, сделать их всех равными перед лицом смерти. Но машина… Эта машина, которая должна была носить имя не своего изобретателя, а доктора Ж.
Гийотена, ее усовершенствовавшего, была гильотина, на самом деле представлявшая собой усовершенствованную манайю, ту самую. И как усовершенствованную! Именно так, как говорил тот офицер — вместо того, чтобы перерезать веревку, достаточно было повернуть рычаг… Но я уже ждал следующего подарка. И он не замедлил себя ждать, прибыв на мой эшафот на позорной телеге, окруженный тысячами ликующих парижан. Королевская голова скатилась вниз, и это сделал я. А потом было то, чего быть никак не могло. Казни, казни, требование ста тысяч голов дворян. Я уже не поворачивал рычажка на гильотине, требовалось только мое присутствие. Но я знал, что происходило. То самое. Я отрубал голову всему дворянству.
* * *
Вот и скатились головы Дантона и, наконец, Робеспьера. И все закончилось. Но главный ужас еще только ждал меня. Я встретил его снова. Теперь он был одет уже в гвардейский мундир, и, как я понял, был близок к Бонапарту. И он совсем не изменился, не состарился ничуть… Наши взгляды скрестились. Он улыбнулся. А я — содрогнулся. Чуть позже он сам подошел ко мне.
— Кто Вы? — спросил я прямо, — Сам Сатана, или подручный?
— Все верно, но с точностью — «до наоборот», — засмеялся офицер.
— Как это? — пошептал я.
— Но ведь я сам Вам говорил, что исполнял что-то типа вашего дела… В Содоме… Библию читали?
Вот оно! Меня осенило. Но главное потрясение ждало дальше.
— Так вы творите, что хотите?
— Почти.
— А как же Бог?
— Что Бог? Ведь все мы смертны…
(1999)
Василий Купцов ШАРЛАТАН
Все началось с разговора Макса и Коли. Они давным-давно ходили в приятелях друг у друга, правда, до настоящих дружеских отношений дело так и не дошло. Но общаться им было друг с другом приятно и даже полезно. Из таких бесед рождались порой идеи, приносившие когда-то в советское время десятки и сотни рублей, позднее — примерно то же самое, но с учетом инфляции. Макс был врачом, всю свою сознательную жизнь (а таковая, по его мнению, начинается после получения диплома) он проработал на скорой помощи в качестве врача, побывав на всех существующих для его уровня должностях от рядового до временно исполняющего зав. отделения. Но, в основном, в рядовых. С Николаем он подружился, когда тот работал вместе с ним, правда, только фельдшером. Но уже в начале перестройки Коля рванул в свободное плавание, начав работать массажистом. Тогда это приносило неплохой доход. А сейчас — сейчас уже не то.
Конкуренция, эротический массаж и так далее. Ведь Коля весьма мало походил на красивенькую девушку. Разумеется, Николай не голодал, ведь он был неплохой мастер в своем деле, но того благополучия, что было при товарище Горбачеве, уже не было. Можно утешать себя лишь тем, что многие пострадали поболе — фотографы, например. — Ведь живут же люди, — сказал Максим, листая медицинские объявления, — но чего там говорить, чтобы сейчас свою клинику иметь, надо было больше раньше воровать. — Или быть в больших начальниках, — откликнулся Коля, — ты лучше взгляни, сколько объявлений с колдунами, ведьмами да экстрасенсами. Тоже неплохо зарабатывают. — Но это же откровенное надувательство! — Но, почему, собственно, — не согласился Николай, — вот в массаже это все очень хорошо заметно. — Ну, тыто хоть что-то умеешь, а эти… Хочешь, расскажу одну историю? — Давай! — Я лет десять назад был на курсах по неврологии. И там нам один доцент рассказал замечательную байку, основанную на факте, случившимся в их клинике. Как ее, забыл, ну на горе стоит… — Неважно, давай дальше. — Дело было еще при перестройке. Одну бабулю парализовало. Инсульт в самой тяжелой форме. Положили ее в хорошую неврологическую клинику. Врачи видят — высокая температура, рефлексов нет, глубокое частое дыхание — все по науке. Кровоизлияние куда-то в ствол. Ну, ты понимаешь… Пора звать служителя культа. Родственники же решили иначе и стали быстренько искать чудотворца. Нашли. Поскольку дело было ночью, а дежурный врач уже ко всему привык, к больной экстрасенса пустили. Чудотворец явился с неким самодельным агрегатом. Поскольку последней специальностью этого экстрасенса была профессия водителя на скорой помощи, то, как вы уже догадались, парапсихологический биоизлучатель представлял собой лампу маячок, снятую с машины скорой. Врубил он агрегат в сеть, но больше ничего делать не стал, намекает, что, мол, его энергетический потенциал истощен, необходима заправка.
Восьмидесятые годы, все понятно, сбегали за бутылкой. Заправился наш экстрасенс, начал вокруг головы умирающей включенным маячком водить. Потом еще заправлялся.
Наконец пришел дежурный врач, послушал больную и порекомендовал лечение прекратить, поскольку больная давно умерла. — Класс!
И что? — Ничего, все сошло всем с рук. — Вот чем надо было нам с тобой заняться, — сказал Николай, — помнишь, в начале восьмидесятых, я брошюрку написал о развитии экстрасенсорных способностей? — Ну, как же, хорошо помню, я еще титульный лист исполнил. Что-то типа «Для служебного пользования», — оживился Макс, — ее еще какие-то придурки начали на машинках размножать.
Представляю, как они руками над стаканами водили, а потом вкус день ото дня контролировали… — А что, написано было вполне грамотно, я это тебе точно говорю.
Вещи известные. — Да, да, — усмехнулся Макс, — ты талантливый. Темный народ и не подозревал тогда, кто «Тибетскую медицину» накропал. — Тоже было все грамотно написано. Ты думаешь, что я Бадмаева не читал? — Да я и не спорю… Поясню для читателя. Дело было так. Конец семидесятых. Некий озабоченный йогой, гомеопатией и парапсихологией товарищ обмолвился как-то Коле, что мечтает приобрести какоенибудь руководство по тибетской медицине. А Николай тут как тут.
Есть, говорит, у меня, но надо перепечатать, а то единственный экземпляр отдавать не хочу. И цену тут же заломил рублей этак двести. Ударили по рукам.
Пришел Николай домой, сел за машинку, и того начал эту самую тибетскую медицину кропать. Через неделю было готово. Сделка состоялась, Коля подработал.
Интересно, размножали ли рукопись в дальнейшем? И как проходило лечение по колетибетским рецептам? — Шарлатаны, не шарлатаны, а если хочешь денежек — надо делом заниматься, а не по вызову ездить, — сказал Коля. — Тебе хорошо, у тебя есть дело. — Ну и ты чего-нибудь придумай, — посоветовал Коля, — да хотя бы тоже в экстрасенсы подайся. Можно, к примеру, рак лечить. — Нет, это мне совесть не позволит, — покачал головой Макс. — Тогда ходи голодный! — Ну, хорошо, скажем, начну я лечить СПИД, — сказал задумчиво Макс, вылечить обещать не буду.
Повожу, например, руками, а потом пропишу диету, строгий, а может даже спортивный образ жизни… А иначе, скажу, не подействует. И чтоб бросил пить и курить, а то энергия, мол, улетучится! — И больным сразу станет легче! — засмеялся Коля, — классика, так все раньше поступали. — А теперь этим приемом пренебрегают, — сказал Максим, — а зря! — Конечно зря, — кивнул Коля, — если ты всерьез надумаешь, я тебе покажу, как себя вести.
Пассы будут, как у взаправдашнего колдуна. Что, слабо? — А вот и нет! Вот возьму и тоже уйду в мошенники! Показывай прямо сейчас, как там энергетические хвосты отрывают… — Смотри, вот простейшее движение. Да, ты ведь йогой занимался?
— Да, был грех в молодости. — Так вот, — сказал Коля, — эффект значительно повышается, если сопровождать движения руками глубоким дыханием, типа полного дыхания йога. — Доктор, почему вы так глубоко дышите? — засмеялся Макс. Самое удивительное, что приятели на полном серьезе начали репетировать сцены общения с больными. Максим узнал много нового и порой совершенно неожиданного.
Оказывается, игра в экстрасенса, как и все остальные игры, требовала соблюдения своих собственных правил. Но одно Макс решил твердо работать он будет в белом халате. Уж что-что, а действие этого магического предмета было изучено вдоль и поперек. Недаром многим больным, к которым приходит на дом участковый врач без халата, кажется, что это и не врач вовсе. Впрочем, часто они не далеки от истины. И Макс начал готовиться. Взял какие-то бумаги, где-то что-то подписал, уплатил. На руки ему дали какую-то дурацкую тетрадку, в которую он должен был вписывать свои доходы. А еще Макс купил роскошный белый халат. Договорился снимать кабинет по вечерам в родной больнице, это вышло даже дешевле, чем он ожидал. После долгих размышлений Макс решил все-таки остановиться на СПИДе. И начал давать объявления в разные там «Из рук в руки». И даже в одну из центральных газет. « Длительные клинические испытания подтвердили эффективность…» — так начиналась одна из его реклам. Что-то в стиле « Парикмахеръ из Парижу Хаврюшкинъ Савелий Ивановичъ». Умели же предки себя рекламировать! Пришел в гости Коля. Как соавтор идеи, принял некоторое участие нарисовал красочные плакаты для нового кабинета Макса. На первом из плакатов был изображен график в виде нисходящей кривой, разграфленный по обеим осям. С названием сверху — «Процент излечения больных СПИДом в зависимости от времени начала лечения». Какое излечение? Ведь ни одного еще никто не вылечил!
Второй плакат был озаглавлен «Твои новые правила жизни» и повествовал в текстовой форме о тех правилах здорового образа жизни, коим отныне должны будут следовать клиенты Макса. Те же правила были изложены в виде небольшой брошюрки, размноженной очень деловым Колей на ксероксе. Оставалось придумать стоимость услуги. — Чем больше заплатят, тем сильнее подействует! — сразу высказался Николай и предложил солидную цену в баксах. — А у кого таких денег нет? — засомневался Макс. — Тогда скажем так — «Скидки для социально незащищенных слоев населения». Короче, по договоренности. Но основная цена должна быть высокой.
Макс прекрасно знал, что эффективность действия любого лекарства зависит в прямой степени от того, насколько дороже, чем другие подобные, оно стоит. Вот в далекие семидесятые появился впервые такой бальзам со звездой в маленькой круглой жестяной коробочке. Достать его поначалу было невозможно, платили бешеные деньги. Зато тем счастливцам, которым тогда удавалось достать этот «дифсит», бальзам помогал — чуть ли не от всех болезней. Головная боль проходила, едва только палец с крохотной частичкой вонючего лекарства подносили к голове. Лет через пять бальзам уже можно было купить достаточно свободно, но он стоил дорого. И неплохо помогал при невралгиях, радикулите и так далее. Еще через несколько лет эта самая звезда валялась в каждой аптеке, ее покупали при радикулите и размазывали сразу всю банку, а то и две. Немного помогало. Сейчас, говорят, не помогает совсем. Самое удивительное, что первый клиент объявился довольно быстро. Макс, как и положено, расспросил, осмотрел его, потом побеседовал о здоровом образе жизни. Ну, а потом — потом исполнил те самые идиотские ритуалы, которым научил его Коля. Больной осведомился, может ли он надеяться на излечение. — Случай запущенный, но я постараюсь сделать все, что в моих силах, ответствовал Макс. Надев белый халат, он еще и самого себя загипнотизировал этим самым — теперь он говорил уверенно и, кажется, сам верил в свои слова, — но если вы будете регулярно ходить на лечение и выполнять предписываемые правила, то первые результаты будут уже через месяц. Вы почувствуете себя лучше. А примерно через полгода можно будет надеяться на изменение тестов. — Полгода я вытерплю, лишь бы выздороветь! — сказал больной. — Чтобы не травмировать психику, пока, до истечения этого полугода, вам не стоит делать повторные анализы, сами понимаете, излечение никогда не бывает мгновенным. Договорились? — Да, конечно, я постараюсь удержаться! — пообещал больной, — а как быть с лекарствами, которые я сейчас принимаю? Прекратить прием? — Ни в коем случае! — сразу сообразил Макс, — лечение должно быть комплексным. Лекарственные средства и биоэнергетика прекрасно взаимодействуют, дополняют и усиливают действие друг друга. Продолжайте принимать то, что вам прописано… В результате этого первого посещения первым клиентом Макс стал богаче сразу на половину своей месячной зарплаты. Причем, как показалось Максу, клиент ожидал, что с него потребуют гораздо больше. Макс не спрашивал, какой половой ориентации придерживается его первый клиент. Но после того как он привел с собой еще несколько молодых людей, больных тем же, стало и так ясно. Приходили и другие страдальцы по объявлениям в газетах. Им нравилось, как Макс обращается с ними. И новые клиенты приводили своих знакомых. Кончился месячный отпуск, взятый Максом на основной работе. Теперь прежние доходы казались ему совершенно смехотворными.
Разумеется, он написал заявление об уходе и не стал отрабатывать положенного по закону срока. И, вообще, никаких обходных и так далее. Через три месяца трудовую книжку ему принесли сами, прямо домой. И вот, наконец, наступил тот день, когда уже не Макс ждал клиентов, а больные сидели в очереди на прием к становившемуся все более известным врачу. Вероятно, эффективность лечения еще более возросла — ведь теперь на Макса работал и эффект ожидания приема у знаменитости. Столь же стремительно росли и доходы нашего героя. Он вышел на отметку тысяча баксов в день, потом дело пошло еще круче. По совету Николая, он еще больше увеличил плату для новых клиентов, оставив для старых прежнюю цену. А потом почувствовал, что скоро деньги уже некуда будет складывать. Разумеется, Макс нанял медсестру, секретаря, охрану и бухгалтера. И пригласил помогать (за невероятную сумму) Николая. Все шло прекрасно. В эти времена расцвета своего предприятия, Макс был на вершине всего, чего только можно было желать. Его лечение становилось все более профессиональным, он выработал уже свои, ни кого не напоминающие, приемы «энергетической передачи». Движения стали пластичными, напоминали, чуть ли не балет. Многие из больных, лечившихся ранее у других чародеев, сразу признавали превосходство Макса по всем пунктам. Особенно оставались довольны женщины. По словам многих представительниц прекрасного пола, у них прямо-таки кожа ходуном ходила, и волосы двигались в разные стороны, стоило нашему волшебнику поднести к ним руки. Впрочем, все это было достаточно ожидаемо и прогнозируемо. Тем более что Макс был хорошим врачом. В каком смысле?
Как раз в том, что отвечает известной медицинской присказке: « Плох тот врач, от одного появления которого у постели больного, тому не становилось бы лучше!». А от появления Макса больным всегда становилось лучше. Даже объективно. Еще на скорой не раз бывало — измерит артериальное давление, поговорит, снова измерит — а оно, родимое, уже почти в норме. Не говоря уже о том, что можно было делать почти любые, порой совершенно бесполезные средства, вроде дибазола внутримышечно. И через минуту — когда дибазол еще даже не вышел за пределы ягодицы — и голове становится легче, и тошнота проходит.
Померишь давление — тоже все как надо. Так что самого Макса признания больных СПИДом, что им становится лучше, совершенно не удивляли. И не вдохновляли.
Давление или, скажем, мигрень — одно, а инфекция — это совсем другое! И еще одной мерой признания явилось то, что к Максу начали подкатываться кандидаты в его ученики… Но Макс сразу сообразил, как от них отделаться, заявив, что лечением должны заниматься только врачи. И порекомендовал закончить сначала соответствующий ВУЗ. Прошло полгода, потом еще немного. Ну и что? Да то, что, пообещав первому из своих больных излечение через полгода, Макс и всем остальным обещал в дальнейшем примерно в те же сроки вылечить их. И вот срок подошел. — Ну и что? — недоумевал Коля, — ну перестанут к тебе ходить те, первые. Зато сейчас какая клиентура! — Нет, так не пойдет, — сказал Макс, — может и не начнут меня бить, не в этом дело. А как я смотреть сейчас в глаза им всем буду? — А как раньше смотрел? — Раньше я мог оправдаться перед собой, что я занимаюсь лечением, делаю все, что в моих силах, и надеюсь вылечить. Через полгода. А теперь срок подошел. И мне еще не хочется, чтобы на меня показывали пальцем и называли мошенником. — Но ты же сам решил наплевать на свою совесть, когда начал все это дело, — напомнил Николай, — а теперь такие сантименты. — Все сразу так на меня навалилось, — пожаловался Макс. — Это ты только сам на себя навалился, — засмеялся Коля, а на самом деле все идет хорошо. — Нет, я решил, денег у меня сейчас достаточно, я уезжаю. — Как? — Уезжаю и все, — сказал Макс твердо, — тебя я не обижу, остальным служащим выходные пособия по паре тысяч баксов. Все! — Так ты так и не сказал, куда ты едешь? — И не скажу, — покачал головой Макс, — будешь отвечать, что я за границу смотался по приглашению, там, мол, больных СПИДом пруд пруди. Я действительно, за границу. А куда и как — точно тебе не скажу, чтобы тебе же жилось спокойнее. И с этим шарлатанством я завязываю. Я даже русских газет читать не буду. Не хочу знать ничего. А то вдруг меня там, в прессе, громогласно мошенником назовут. — Когда едешь? — Завтра уже не выхожу.
Ладно, скажу, уже сегодня меня здесь не будет. Я все устроил, даже кое-что гдето там прикупил. Далее Коле был вручен пакет с немаленькой суммой в иностранной валюте. И еще несколько пакетов для обслуживающего персонала. А потом Макс уехал, и Николай больше никогда его не видел. А Николай приготовился к осаде.
Но, к его большому удивлению, никаких особых эксцессов не произошло. Клиенты воспринимали известие об отъезде их спасителя за границу совершенно спокойно.
Прямо как давно ожидаемое событие. То, что Макс немного поспешил, выяснилось уже через несколько дней. В контору ворвался тот самый первый клиент. — Где мой доктор? — воскликнул он, — да здравствует наш доктор! Я выздоровел! Через несколько минут Коле удалось выяснить, что первый больной Макса, добросовестно выдержав ровно полгода, сходил, наконец, в частную лабораторию. И его кровь оказалась свободной от вирусов. Резко упал также и уровень антител. Не веря в свое счастье, он отправился в другую клинику. То же самое. Его просто признали здоровым.
Чудо? Да! А теперь догадайтесь, что было дальше. Дальше к Николаю приходили один за другим старые клиенты Макса. И все они, сделав анализы, были признаны здоровыми. До Николая быстро дошло, в чем дело. Он обзвонил остальных больных, пользовавшихся лечением Макса. И попросил их сделать анализы. Через некоторое время началось…
Звонки, приходы с цветами и подарками, благодарные речи и немалые суммы.
Поправились все, даже те, кто всего один раз подвергся воздействию «энергетики» Макса.
Что же теперь? Когда оказалось, что Макс является единственным в мире человеком, который способен излечивать смертельную болезнь одним помахиванием в воздухе своими руками. Надо было найти Макса, сообщить ему, ничего не подозревающему, о его уникальном даре. Николай делал все, что в его силах. Давал объявления в газетах, в том числе и зарубежных, посылал письма в медицинские общества, в комиссии. Кое-кто за рубежом поверил, включился в поиски. Помогали в поисках и те счастливчики, которых Макс вылечил от СПИДа. Что только не делали!
Даже показывали где-то фотографию Макса по телевидению. Его искали. И ищут до сих пор. Просто, вполне возможно, купил Макс где-нибудь на краю земли домик, газет не читает, телевизор не смотрит. Может, вообще в какую-нибудь строгую религиозную секту вступил, грехи сейчас замаливает. А, может, просто погиб.
Ограбление, к примеру. Мало ли что случается с обогатившимися русскими, уехавшими жить подальше от своей Родины…
(1997)
Дмитрий Гаврилов ВЛАСЬЕВА ОБИТЕЛЬ (из романа «Падение Арконы»)
Люблю я в глубоких могилах
Покойников в иней рядить,
И кровь вымораживать в жилах,
И мозг в голове леденить…
Бабенки, пеняя на леших,
Домой удирают скорей.
А пьяных, и конных, и пеших
Дурачить еще веселей.
(Н.А. Некрасов, «Мороз, Красный Нос»)Сов. Информ. Бюро сообщало: «Осенью 1941 года, преодолевая упорное сопротивление частей Ленинградского и Северо-западного фронтов, немецкие войска под командованием фельдмаршала фон Лееба прорвались с юга к Ладожскому озеру. Против 16-ой армии и 4ой танковой группы Вермахта были брошены 54-ая, а также 4-ая и 52-ая отдельные армии, подчинявшиеся непосредственно Ставке, которые должны были обеспечить оборону вдоль реки Волхов на юг, к озеру Ильмень. Однако, продолжая массированное наступление, части группы армий «Север» вклинились между флангами наших двух фронтов и овладели городом Тихвин…»
Фон Лееб был, пожалуй, одним из старейших германских полководцев. Имея устоявшиеся консервативные взгляды, потомственный военный, он относился к тем генералам, которые не рукоплескали приходу нацистов к власти в начале тридцатых годов. Даже после опалы 1938-го, вернувшись в армию и получив звание генерал-фельдмаршала, он не приобрел привычной в то время осмотрительности. Фон Лееб имел смелость и мужество отговаривать фюрера от захвата Франции и конфронтации с английскими львами. Но именно Лееб был тем генералом, кто затем сковал французские силы на «линии Мажино», командуя группой армии «Ц». 30 июня 1941 года на дне рождения Гальдера фюрер сказал ему: «Лееб очистит для меня весь Север!» 20 июля особый поезд Гитлера вышел из Растенбурга. Фюрер отправился в свою первую поездку на оккупированную территорию России. 21-го на совещании он заслушал краткий доклад фельдмаршала Лееба, соблюдая формы приличия. Впрочем, фюрер не дал ему много говорить, полагая, что наперед знает все, о чем тот может сказать: «Необходимо как можно быстрее занять Ленинград и парализовать русский флот!» — Мой фюрер!
Возросшая деятельность партизан делает невозможным проезд через сельскую местность отдельных солдат и мелких отрядов! — сообщал фельдмаршал в начале августа, седьмого числа. Спустя неделю под впечатлением отчаянных действий советских войск у Старой Руссы фон Лееб потребовал от Ставки Гитлера новых сил.
— Наша разведка, по меньшей мере, в полтора раза недооценила численность русских. Мы несем серьезные потери.
Фюрер приказал передать 16-ой армии танковый корпус из группы фон Бока, устремленной на Москву. Но видимо уже тогда Гитлеру сообщили о неодобрительных высказываниях фельдмаршалов Руденштедта и Лееба относительно похода на русскую столицу, военные предлагали остаться «на зимние квартиры» на Украине, что означало срыв молниеносной войны. Так что на Лееба у фюрера вырос зуб. Оценивая ситуацию, сложившуюся на фронте, умудренный опытом бесчисленных баталий фельдмаршал советовал закрепиться на месте и перезимовать. Гитлер требовал замкнуть блокаду вокруг Ленинграда, выйдя в тыл 7-ой армии Мерецкова, которая на реке Свирь удерживала финнов. В декабре 1941 года войска образованного Волховского фронта под командованием К.А. Мерецкова, перейдя в наступление, освободили город Тихвин, а части Северо-западного фронта под командованием П.А.
Курочкина разгромили южный фланг 16-ой армии группы «Север». — Я слишком стар, мой фюрер, и порой не выдерживаю напряжения… — писал Лееб, сопровождая этими словами просьбу об отставке.
* * *
— Что делать, Вальтер? Похоже, зима доконает нас раньше, чем русские «катюши».
Вначале все шло хорошо. Непроходимое бездорожье и распутицу сменил морозец. Мы быстро продвинулись вперед. Но когда у фельдшера лопнул термометр, показав тридцать пять ниже нуля — отказали не только моторы, но даже крестьянские лошади. — А паровозы, Курт? Паровозы! Неужели, в этой варварской стране нет паровозов? — удивился Вальтер, разглядывая совсем незнакомое обмороженное лицо университетского друга. — У них ненормальная колея, мой дорогой! Она на девяносто миллиметров шире обычной. Когда это выяснилось, наши кинулись перешивать, но в этих кошмарных условиях, как я уже сказал, сталь Круппа идет трешницами. Наши топки приспособлены под уголь — русским некуда девать лес- они топят дровами. В Новгороде Иваны вывели из строя весь подвижной состав. У нас нет горючего, глизантина для радиаторов, зимней смазки… Эх! — Курт обречено махнул рукой, — Если уж говорить начистоту- в ротах лишь каждый пятый солдат имеет зимнее обмундирование. — Я привез вам шнапс, шоколад и табак. — Спасибо, Вальтер! Это по-христиански! А то моральный дух истинных арийцев не на высшем уровне… — Что ты этим хочешь? — Не лови меня на слове! В вашем Штабе, там, наверху должны сознавать, наши превосходные солдаты, которым до сих пор была под силу любая задача, начали сомневаться в безупречности своего командующего. — Если ты обещаешь молчать, скажу по секрету — уже подписан приказ о его отставке.
— Кто же взамен? — Вроде бы Кюхлер. — Один черт! Мы сдохнем здесь раньше, чем сойдет снег. Порою мне кажется, что близок Рагнарек. — А Донар тебе не мерещится? Или его пасынок на лыжах — ведь, как говорил профессор Линдмарк, Улль из этих мест? — насмешливо спросил Вальтер. — Здесь и не такое привидится!
Страна Снежных Великанов. Кругом болота, промерзшие до дна, лесные дебри, а в дебрях этих — бандиты. — Ты имеешь в виду партизан? — Бандиты!
Дикари! Они взрывают мосты, полотно. Они убивают своих же по малейшему подозрению в сотрудничестве с нами. Нервы стали никуда. По коварству и жестокости русские превосходят даже сербов. И вообще, оставим этот разговор!
Лучше скажи, что нового в Берлине? — прервал излияния души Курт. — Трудно сказать, — Вальтер задумался, — Я ведь, выражаясь фронтовым языком — тыловая крыса. Да, все обычно. Пригляделось…
Картину смотрел, называется «Фридерикус». Король ходит полфильма в дырявых ботинках наверное, наших женщин готовят к кадрам об убитых сыновьях. Но, вообще, все уверены в конечной победе. — Я тоже уверен, ты не думай, Вальтер! Я тоже уверен. Вот, согреюсь стану совсем уверенным… — Курт отхлебнул из фляги, затем, закрыв ее, встряхнул, чтобы убедиться в достаточном количестве содержимого.
* * *
— Товарищ сержант! А, товарищ сержант! — белобрысый паренек вытер рукавом нос.
На его лице расцвела лучистая улыбка. — Обожди, Зинченко! Дай, дух перевести… — А всетаки, утекли! Утекли, товарищ сержант! — Тихо, весь лес разбудишь…
Автоматная очередь аккуратно прошила вату телогрейки на спине паренька. Зинченко рухнул в снег. — Гады!!! — заорал Василий, опустошив рожок трофейного шмайсера в березы. — Рус, здавайсь! — услышал он в ответ. — Как же! А это видали! — Василий рванулся через сугробы, петляя среди деревьев. Вслед засвистели пули. Он пару раз огрызнулся из винтовки, отбросив бесполезный теперь автомат. Занималась вьюга. Немцы, было рассыпавшиеся в цепь, приотстали… Оглянулся. Никого. Спасибо Матушке-Зиме! Сам-то он привычный. Все русские «А»- любят быструю езду. «Б» — поют с детства военные песни, и, наконец, «В»- не боятся мороза. Но на немца надейся — а сам не плошай. Взяв пригоршню снега, Василий надраил порядком покрасневший нос, дошла очередь и до ушей. Это заняло у него минуты две.
Прислонившись к стволу высоченной сосны, он вслушивался в нарастающий вой, пытаясь различить скрип сапог. Попробуй, походи-ка Фриц по нашим-то по чащобам!
Достав из-за пояса рукавицы, он погрузил в них по пятерне, испытав несказанное удовольствие. До партизанской стоянки было километров десять-двенадцать. Снегу навалило, да еще вьюга. Затемно доберется. Жаль, правда, ребят. Но тут уж, как говорится, судьба. Ничего не попишешь… Фрицы, сволочи, для острастки по кустам стреляют. И надо же было Сашке высунуться. Их машина точно на мину шла, а он, дурак, возьми и покажись… А может, его и не заметили? Но так глупо — в самую грудь! Эх, Сашка! Только охнуть и успел. Немцы вылезли на дорогу и устроили такой салют, что если б не упал в ложбинку — крышка. Затем два часа преследования. Оторвались. Еще более нелепая смерть Зинченко. Как его… Мишка?
Ваня? Сева? Все звали по фамилии. Сержант обязан знать имя и отчество своих подчиненных. Завтра вернемся — похороним по-свойски. Не гоже человечьим мясом зверье кормить. И лежит теперь этот улыбчивый рядовой Зинченко, тупо уставившись в холодное небо. И нет ему больше дела до этой проклятой войны. Но не пройдет и дня, как напишет об нем комиссар — «ваш сын погиб смертью храбрых», и упадет мать, рыдая, сраженная скупыми строчками похоронки. А Зинченко лежит себе среди лесочка… Теперь, наверное, уж не лежит. А где-то там. Василий неопределенно посмотрел ввысь, но тут же одернул себя: «Ишь, засмотрелся! А ну, вперед!..Я всегда готов по приказу Рабоче-крестьянского Правительства выступить на защиту моей Родины — Союза Советских Социалистических Республик, и как воин, — тут он ускорил шаг, пряча щеки в кучерявый черный воротник-… и как воин Рабочекрестьянской Красной Армии, я клянусь защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами. Если же по злому умыслу я нарушу… Вон, брат отца. Умница.
Книжный человек. А двадцать лет отсидел ни за что… И чего он мог нарушить одному Богу известно». Впрочем, дядька Олег не любил распространяться на этот счет. И, что касается его срока — так это односельчане только подумали- не миновала, мол, Власова суровая кара советского закона. Ну, был мужик, да сгинул. А за что?
Куда? Деревенька маленькая. Худая. Всяк про соседа своего знает. Но про Олега никто ничего толком не ведал. Пропал дядька в двадцатом, Ваське тогда три годика было, а объявился лишь в тридцать восьмом. Вернулся, старый черт, ничуть не изменившись, будто под пятьдесят, хоть старше отца Васьки на пятнадцать лет, а тому уже к шестидесяти. Занял пустую избу у самого краю. Зарылся в тома книжек.
На расспросы отшучивался. Один раз из обкома заглянули, но как приехали, так и уехали. Мало ли заброшенных деревень на Святой Руси? «Что-то вьюга разыгралась?
Остановишься — помрешь. Нынче темнеет ранехонько. А уже часа три, три с половиною. Вперед, парень!
Не спи! Замерзнешь!.. Воспрещается оставлять поле боя для сопровождения раненых.
Каждый боец должен ненавидеть врага, хранить военную тайну, быть бдительным, выявлять шпионов и диверсантов, быть беспощадным ко всем изменникам и предателям Родины. Ничто, в том числе и угроза смерти — не может заставить бойца Красной армии сдаться в плен… Стоп!» — сквозь свист ветра ему почудился звук чьих-то шагов. Василий опустился на колено, присматриваясь. Нетронутый ни лыжней, ни звериным следом серебристый ковер ничем не выдал своей тайны. В тот же момент острая боль в плече напомнила об утренней шальной ране. На морозе-то он про нее совсем и забыл. Сдернув рукавицу, Василий сунул руку под полушубок. Так и есть…
Но засиживаться парень не стал. Скорей бы к своим добраться! Слегка кружится голова, но бывало и хуже. А хуже — это когда в августе выходили из окружения.
Смятые и раздавленные военной мощью вермахта. В обмотках. Без пищи и оружия — с одной винтовкой на троих. Злые, грязные, истощенные… Немец двигался быстрее. До своих они тогда так и не доползли, но хоть в родных местах оказался. И на том спасибо! Подобрали партизаны. Долго проверяли.
Потом, вроде, поверили. Сашка тоже был с ним. Но больше не будет!
Никогда!.. Перед глазами поплыли круги. Ухватившись за тоненькую осинку, он сполз вниз. Вьюга заглянула прямо в лицо, и без того обветренное, с белыми ресницами и наледью на усах.
Пришлось даже встать на четвереньки. В тот же миг он чуть ли не носом уткнулся в глубокие следы чьих-то ног. Сначала не поверил, но затем до него дошло, что при такойто пурге либо человек был здесь недавно, либо это его собственный след, а он плутает кругами, будто за чернушками охотится. — Ночью ориентироваться легче, если небо не заволочет мгла. «Найди созвездие Лося, которое все чаще называют Большой Медведицей, а по мне Лесная корова и есть, что выгнуто, ковшом семью заметными звездами.
Мысленно продли линию вверх через крайние две звезды, и упрешься в Полярную.
Лежит она в пяти расстояниях, что между этими солнцами, в хвосте Лосенка, и находится всегда в направлении на север…» — наставлял племянника Олег, перед отправкой на Финскую.
Завтра праздник — шестое января, как водится, Власьев День, хозяйки будут жечь дома шерсть, а старики на заре пить снеговую воду с каленого железа, чтобы кости не ломило. В этот день полагалось взять пучок сена и, обвязав его шерстинкой, сжечь на Новом огне.
Олег готовил дюже крепкое пиво, заваренное на сене, заправленное хмелем и медом, затем он цедил пиво через шерсть и угощал всех, кто к нему заглянул на огонек. Под хмельком отец с Олегом бродили по деревне, вывернув полушубки наизнанку, и пугали старух, приговаривая: «Седовлас послал Зиму на нас! Стужу он да снег принес древний Седовлас-Мороз!» «Помнится, у Некрасова… Ах, какая чудная была учителка! Как сейчас помню- Елена Александровна. Из самого Института благородных девиц. Сначала скрывалась от красных у знакомых, отец-то ее из зажиточных. Потом, видя доброе к себе отношение, школу открыла для сельских ребятишек. Откуда-то учебники достала. Еще с буквой «ять». За эту самую букву и пострадала. Како людие мыслите. Буки ведайте.
Глагольте добро. С математикой дела были хуже, но тут неожиданно помог отец.
Кто бы мог подумать… Давно это было. Очень давно. Ну, да я не Дарья, чтоб в лесу заморозили.
Держись боец, крепись солдат! А все-таки очень, очень холодно… Снова след. На этот раз звериный. Лапа-то, что у нашей кошки, но какой громадной. Неужели, рыси в убежище не сидится. На промысел вышла. У, зверюга. Целый тигр!» Рана снова дала о себе знать.
Василия зашатало и опрокинуло вниз: «И еще русские не прочь выпить чего-нибудь согревающего! Полежу маленько. Стоянка, видать, уже близко». Оцепенение подобралось незаметно. На лес навалились сумерки. Вьюга потихоньку вела свою заунывную песнь.
Ресницы слипались, пару раз он нарочно бередил плечо, чтобы жгучая боль не дала окончательно заснуть. Но Дрема все-таки одолел. Он спал и видел сон, как с самого неба, если и не с неба, то уж повыше макушек высоченных сосен, именно оттуда, медленно спускается к нему красивая дородная женщина, одетая в дорогую шубу. Как у нее получался этот спуск, было непонятно. Женщина парила в воздухе, словно пушинка. Возникало ощущение, что она сидит на гигантских качелях, и никакая вьюга не в силах их раскачать.
Ветер разбросал по ее плечам огненно-рыжую копну волос. Надоедливые белые мушки садились поверх и таяли, не выдержав проверки этим неестественным цветом.
Глубокие зеленые слегка раскосые глаза насмешливо разглядывали смертного. А Василий лежал себе и тоже смотрел на кудесницу из-под век. И казалось, ничто не может заставить его очнуться. Наконец, ведьма легко соскочила со своей метлы на снег и, ни разу не провалившись в него, подошла к полумертвому человеку… — Чтото, мать, у нас русским духом пахнет. Не иначе, опять кого-то спасла. — Ты сам, отец, хорош. Чуть, какая замерзшая скотина — так сразу в горницу, ладно еще, в сарай. Вон, давеча, прихожу, а по коврам целый лось свежеразмороженный бегает, — услышал Василий сквозь сон. — Мне, положено так, а иначе я не могу, — отозвалась Женщина под едва различимый перестук. — И мне Родом написано — беречь!..Ну, старая, показывай, где этот герой? — в который раз пробасил Голос. Василий приоткрыл один глаз, выкарабкиваясь из царства Дремы на Божий Свет. — Это я-то старая? Да ты, муженек, на себя посмотри! Тоже, небось, не первой свежести-то будешь! — взбеленилась женщина с огненно-рыжими волосами, покручивая колесико с нитью. Свет оказался ярок, и он захлопнул око, но тут же, исхитрившись, глянул из-под ресниц на обладателя зычного баса. — Ну, дак, тебе и подарок мой тогда ни к чему. А то, гляди-ка, мать, чего я тебе притащил! Из глубины комнаты Василий увидел, что в дверях стоит высоченный широкоплечий седобородый дед в тяжелой и длинной, до самого пола, белой шубе. Хитровато улыбаясь, старик полез за пазуху и извлек оттуда золотистое крупное яблоко. Божественный аромат моментально заполонил всю горницу. Женщина, оставив работу — колесо вертелось само — кокетливо приняла подарок. Последовал затяжной страстный поцелуй, при виде которого у Василия аж мурашки пошли по коже. Дед крякнул и огладил окладистую седую бороду.
Оглянувшись на парня, хозяйка живо поняла, что тот уже не спит, сколь Василий не притворялся. — С добрым утром, добрый молодец. Пора вставать. Отбросив теплую шкуру медведя, парень обнаружил, что на нем нет, не то что гимнастерки, но даже армейского нижнего белья. Зато была какая-то холщовая рубаха до колен. — Взять бы свечку в руки — сошел бы за ангела-послушника, — подумал он. — Ну, положим, на ангела ты не больно похож, а вот, на Ваньку-царевича смахиваешь здорово! — бесцеремонно расхохотался Хозяин и, сбросив шубу, присел на скамью. — Ну и стыд! — опять промелькнула мысль. — А чего срамного-то? Ноги, как ноги. Мои, вон, волосатее. Скинув здоровенный валенок, дед размотал портянку и показал заросшую густым рыжим волосом голень. — Вот это ножища? — удивился про себя Василий, — Даже у Виктюка с Донбасса поменьше будет. На это мужик ничего не ответил, а затопал босыми ступнями по доскам к кадушке с кипящей водой, что вынесла откудато женщина. Та забрала обувь и, подмигнув парню, снова зачем-то вышла.
— Долго же я спал, — промолвил Василий, испытывая почему-то странную робость в присутствии хозяев. — Разве ж это долго? Иные и по сто, и по двести лет могут всхрапнуть.
Время ничего не значит! — старец погрузил ногу в кипяток, блаженно зажмурившись. — А понимаю, летаргический сон, называется. Фельдшер сказывал. — А кто-то уже тысячу лет в беспамятстве, и все — ничего, — пробасил ученый старик.
— Ну, тут ты, отец, загнул! — оживился Василий. — Все может быть, — лаконично вымолвил тот в ответ и хлопнул в ладоши. То ли парню почудилось, но, скорее всего, так оно и было. Деревянная кадушка приподнялась на полом и зашагала из комнаты вон. — Елки-палки? — Василий протер глаза.
— Пойдем, умоемся с дороги! — предложил дед, как и его гость, оставшись в одной рубахе. — А баб стыдиться нечего, видали и еще голее. Неожиданно для парня они вышли во двор. — Видать, лесничество какое-то… — объяснил себе сержант.
Впрочем, ни на какое лесничество дом не походил, это был красивый двухэтажный терем, срубленный на старинный лад.
Неподалеку Василий приметил синюю гладь льда, сковавшего небольшой пруд. А между ним и самим теремом были вкопаны толстые столбы с физиономиями бородатых мужиков, вроде того, что дядька Олег установил у себя перед окном. На крыше дома, сложив крылья, громоздилась пернатое создание с женской головой и голой грудью. Тут Хозяин вообще скинул исподнее и, болтая здоровым мужским естеством, принялся обтираться снегом. Василий замер, глядя на мощный, достойный античных скульпторов, торс.
— Тебя как звать, отец?
— Кличут по-разному, когда Седобородым, когда Высоким, но чаще Власом! Эх, хорошо!.. Зови и ты меня так — не ошибешься!.. Что, не любо такое мытье? — усмехнулся Влас. — Да, не та нынче молодежь. Не та!
— Батюшки! — всплеснула руками хозяйка, выбегая на крыльцо, — Эк чего удумал! Гостя простудишь!
— В здоровом теле, Виевна, здоровый дух! — обернулся к ней дед, даже не прикрывшись, и Василий отметил, что шея у Власа со спины почему-то синяя. — У него дырка в плече… — Была… ты хочешь сказать. А на шею мою, добрый молодец, не удивляйся. Это она из-за чужой жадности такая.
Выпил, понимаешь, когда-то одну гадость. Вспоминать тошно. Но есть такое слово — надо. Василий рванул с себя рубаху и уставился на едва заметную звездочку чуть выше подмышки. — Я тут подлечила тебя малость, — просто сказала Виевна. — Спасибо, хозяйка? Но как? Каким образом. — Пустяки, — молвила она, улыбнувшись.
Влас самозабвенно купался в сугробе. При виде этого Василия потянуло назад на печку.
Буквально ворвавшись в дом с мороза, парень нашел на скамье выстиранную да выглаженную гимнастерку, в которую немедленно облачился. Еще раньше он приметил и свой тулупчик, все прорехи заштопала заботливая женская рука. Василий машинально ощупал подкладку, где у него были зашиты документы. Корочки на месте.
В кармане тулупа некстати обнаружилась большая еловая шишка, измазанная смолой.
Он оглядел помещение в поисках мусорной корзины, но ничего подходящего не нашел.
Правда, на широком подоконнике стоял высокий, объемный горшок, полный чернозему.
Мусорить не хотелось. Сержант подошел к окну и попытался расковырять ямку — авось шишка-то и сгниет. Нестерпимый жар обжег пальцы, Василий испуганно отдернул руку, едва сдержав бранные слова — на дне лунки искрился всеми цветами радуги яблочный огрызок. — Эх, ты!
Горемыка! — пожалела его Виевна, только что вернувшаяся в дом и помолодевшая на морозе лет эдак на двадцать. — Ничо! Не будет персты совать, куда не следует! — ехидно заметил Влас, показавшись вслед за Хозяйкой. — Я же не нарочно! — Ты слышал, дед, он нечаянно! — Я, вон, шишку хотел закопать! — Да их в лесу полно, чего же прятать? Не золотая, вроде бы? — Хозяин попробовал протянутую ему шишку на зуб и отдал в руки жене. — Выкинь ее на снег, мать. — Я как-то сразу не подумал. — Оно у русских всегда так…
Сначала делают, потом примериваются. Ну, да, ладно. Пора к столу. — Прах Чернобога!
Откуда такое в войну? — подивился Василий, глядя на яства, расставленные поверх узорчатой скатерти: блинчики с медом, лесные орехи, невесть откуда взявшаяся свежая малина, квашеная капуста и пироги с ней. Посреди стола стоял здоровенный горшок, где пыхтела гречка. — Ты хоть знаешь, кто Он такой? — рассердился Влас. — Да, я так! — смутился Василий, будто сболтнул лишнего. — Дядя ругался ну и я за ним эту привычку перенял сдуру. — А ты больше повторяй.
Вдруг он к тебе, и впрямь, Навь раньше срока обернет! — Ну-ка, молодой человек, дай-ка я тебе кашки положу! — суетилась рядом Виевна. Некоторое время Василий медлил, ему казалось несправедливым, что они там, в отряде, пухнут с голодухи, а здесь, совсем рядом живет некий лесник, и у него еды навалом. — Спасибо, однако!
Но мне к нашим пора, заждались поди. — Садись, герой! Тебе без проводника отсюда не выбраться. Да и как ты пойдешь, если ноги еле двигаются? — усомнилась Хозяйка. — Резонно. Ты, молодец, мою старуху больше слушай. Она — баба умная, хотя помогала одним дуракам. — А сам-то хорош, дурень старый! Раз помог сродственнику через реку перебраться, путь-дорогу указал, а тот возьми ЗлатоЯичко разбей, да и Потоп нам устрой. — Чего, вредитель оказался? — не понял сержант. — В некотором роде. — Так ведь, большую надо плотину взорвать, чтоб округу затопило. — Это, Вась, она так, фигурально выражаясь. После каши взялись и за сладкое. — Ох, крепка у тебя медовуха, хозяин!? — Есть такое дело! — согласился Влас. — Ты бы, муженек, рассказал нам что. Потешил бы гостя байкой. А после и проводишь его до отряду, — предложила Виевна. — Это можно, мать! Это я завсегда, пожалуйста! Васька заулыбался, ему было сытно, тепло, уютно. Он вдруг ощутил себя маленьким ребенком, которому добрый милый дедушка сказывает чудесные небылицы, а Васька сидит, разинув рот, и слушает их одну за другой, проглотив язык. — То случилось в стародавние времена, каких никто и не помнит. И не у нас это было, а в далекой стране, имя которой ныне Норвегия… — начал Хозяин сказочку:
«Близ свейской границы, в местечке Несьяр жил кузнец Торвильд. Жена его умерла молодой, а своих детей у них не появилось. Жениться вторично Торвильд не захотел, предпочитая жизнь вдовца, хоть и был вовсе не стар. Так и жил он пять лет один-одинешенек. По хозяйству правда иногда помогала сестра. Да обретался у него смышленый приблудный мальчонка. Кто и откуда он — никто не знал, потому как мальчик был нем, но для простолюдина — это скорее достоинство, чем недостаток.
Пацана нашли год назад на берегу — наверное, удрал с какого-то пиратского судна.
На хуторе жалели горемыку, хотя приютил его именно кузнец.
Найденыш работал, что называется, на побегушках. Сверстников дичился. Было свободное время — сидел на холодных камнях скалистого берега фьорда и тоскливо смотрел в море.
Случалось, Торвильд с горя крепко выпивал, да так что не мог найти кузню.
Мальчик помогал благодетелю доплестись до скамьи, стаскивал с кузнеца сырые грязные и вонючие сапоги, укрывал его теплой шкурой, словом терпел все невинные обиды со стороны Торвильда со смирением истинного христианина. Но набожная сестра Торвильда прозвала-таки пацана маленьким язычником, потому как никто не видел, чтобы он клал крест Господу. Впрочем, на хуторе смотрели на это сквозь пальцы, да и кузнецу было все равно. Немота оберегала мальчика от людской злобы, ибо его немощь виделась особой печатью Судьбы. Как-то раз в непогоду под вечер в дверь к Торвильду постучали: — Кого там черт принес? — буркнул кузнец, потянувшись за молотом на всякий случай. — Добрый человек, не пустишь ли ты усталого путника на ночлег? — Ну-ка, малец, посмотри! Сколько их там притаилось?
Мальчик глянул сквозь затянутое мутным пузырем окошко и показал кузнецу два пальца. — Что ж ты, странник, один просишься? Товарища не зовешь? — Это верно, мой конь и вправду мне лучший друг, чем иной человек! И если по утру ты берешься его подковать, то я в долгу не останусь! — рассмеялись за дверью. Торвильд вопросительно посмотрел на немого воспитанника, тот согласно закивал. — Ну, открывай тогда, да поживее. Не видишь, гость промок! Мальчик бросился выполнять приказание.
Он с трудом отомкнул тяжелый засов, пропустив незнакомца внутрь жилища. — Спасибо, Инегельд! — услышал хозяин дома. — Будь добр, позаботься о моем благородном скакуне. — Откуда ты знаешь, что этого немого мальчишку зовут Инегельдом. — Я много чего знаю.
Всяк имеет собственное имя, даже последняя тварь, а уже человек и подавно. Но ты сначала обсуши да напои гостя — потом и расспрашивай. «И что это я, в самом деле?» — подивился кузнец и, вспомнив законы гостеприимства, выложил на стол угощение, которое, конечно же, не могло бы удовлетворить изысканный вкус, но голодному сей ужин показался бы богатой трапезой. Тем временем незнакомец скинул длинный с капюшоном серый плащ и развесил его у очага. Торвильд сумел, наконец, рассмотреть ночного гостя во всех деталях. То был мужчина лет сорока пяти, несомненно, опытный воин, на что указывала пустая левая глазница, следствие ярой схватки. Густые светло-золотистые волосы путника стягивал стальной обруч с затейливым рисунком, кузнец вполне доверял своему взгляду мастера и был готов поклясться, что от Эльсинора до Упсалы вряд ли сыщется искусник, способный сотворить эдакое украшение. Рыжеватая правильно подстриженная борода незнакомца лопатой закрывала его бычью шею, спускаясь на могучую грудь. Широкие плечи и толстые, словно поленья, руки викинга свидетельствовали о недюжинной силе.
Вместе с тем его ночной гость был из знатных, потому что пальцы его обеих рук украшали богатые перстни. По роду занятий Торвильд знал толк в камушках.
Незнакомец почти ничего не ел, но пил он много, ничуть не хмелея.
— Где ты был прошлой ночью? — наконец осмелился спросить кузнец, видя, что гость сыт. — В долине Медальдаль. — Ну, уж этого никак не может быть. Видать, ты, незнакомец, большой шутник! Ведь до нее неделя пути. — Может быть, но у меня хороший конь, — возразил ему резонно гость. — Тогда твоему коню пришлось бы лететь! — захохотал Торвильд. — Я ему то же самое говорил! — весело заметил странник, ничуть не обидевшись.
Выпили. Стукнули кружки. Выпили еще. Тут вернулся Инегельд, который, наконец, управился с чудесным скакуном и теперь во все глаза уставился на ночного гостя.
Кузнец поманил хлопца к себе, тот, видя, что хозяин изрядно пьян, с опаской подошел поближе. — Так, значит, ты у нас Инегельд? — погладил Торвильд мальчугана по голове- Имя-то странное? — Обычное имя. Варяжское! — уточнил гость. — И откуда ты все знаешь? Может, ведаешь, кто его родичи? — Отца твоего хлопца звали Рангвальдом, а мать — Ольгою. Была она поляницей, стала женою верною. — Инегельд Рангвальдсон?! Звучит… — молвил кузнец и уронил голову на стол. Внимательно поглядев на спящего выпивоху, незнакомец вдруг усадил мальчика к себе на колено и, взяв за тонкие ручонки, сказал то ли Инегельду, то ли себе:
— Ну что, хелги? Пора начинать все сначала. Поедешь со мной? — Поеду! — улыбнулся ему ребенок. Утром ковалось Торвальду из рук вон плохо, подковы же получились такими громадными, каких никто еще не видывал. Да и нужно-то было четыре подковы, а вышло целых восемь. Когда же кузнец их примерил, то они оказались коню как раз в пору. Чудеса, да и только! — Пожалуй, я поверю, что с эдакими копытами он обставит любого скакуна.
Но откуда ж ты приехал, незнакомец, и куда держишь путь? — Явился я с севера и пока гостил тут, в Норвегии, но думаю податься ныне обратно в Свейскую державу, а оттуда — в Хольмгард. Я много ходил морем, но теперь снова надо привыкать к коню. Тебе он нравится? — Я не смыслю в хороших лошадях. — Слушай, хозяин! Мне подходит твой мальчуган. Я забираю его. — Как это так! Забираешь? — Хорошо.
Назови свою цену. Я готов купить этого хлопца. — Видишь ли, человек я неразумный да неученый. Если Инегельд и вправду готов тебе служить, то ничего я с тебя не возьму, грех наживаться на убогом. Хоть на старости лет трудно мне станет без молодого-то помощника. — Молодец, Торвальд! — похвалил одноглазый, снимая с указательного пальца золотой перстень с изумрудом. — Думаю, это немного скрасит твое вынужденное одиночество. Ну, зови мальчишку!
Сияющий Инегельд вскоре занял место впереди незнакомца, крепко держась хрупкими пальчиками за повод. Конь укоризненно посмотрел на людей непостижимо голубыми добрыми глазами. — Не притворяйся, старина, что тебе тяжело. Все равно не поверю, усмехнулся наездник. — Где же ты собираешься быть к вечеру? — спросил кузнец, хотя думал вовсе о другом. Он-то приметил, что ночной гость странно поседел к утру, только виду не подал. — Мне нужно на восток, я буду в Спармерке, не успеет и стемнеть, — ответил Седобородый. — Это уж верное хвастовство, потому что туда и за семь дней не добраться… — возразил Торвальд чудаковатому гостю. — Да, чуть не забыл! Как зовут тебя?
Потому, явись отец или мать ребенка, мне придется им все рассказать. — Слышал ли ты об Одине? — Еще бы, его у нас старики часто поминают. — Теперь ты можешь его видеть. И если снова мне не веришь — смотри! Вперед, Слейпнир! Вперед!
Торвильд только рот открыл, когда его гость пришпорил коня, и Слейпнир перелетел через ограду, даже не задев ее. Между прочим, колья в той ограде были восеми локтей в высоту. — А о родителях мальчика не беспокойся. Их больше нет среди живых, уж мне ли это не знать! — услышал кузнец сквозь грохот копыт. — Прощай, Торвильд! — вторил Одину чистый детский голос».
— Больше кузнец их не видел, — завершил Влас небылицу. — С тех пор многие рассказывали эту историю, и всяк по-своему, но все происходило именно так, а не иначе. — Хорошая сказка! Спасибо! — молвил парень, — Одного я лишь не понял. — Чего ж тут непонятного? — удивилась Хозяйка. — Да, кто таков этот Один? — Уф! — выдохнул Влас.
* * *
— Что-то вороны раскричались? — молвил Василий, указав водчему на двух крупных и черных, как смоль, птиц. — Не к добру это! Видать, опять каратели облаву затеяли.
— Не боись! Прорвемся. Я все тропы знаю! Только, поспевай! Влас ускорил шаг и теперь сержанту приходилось за ним бежать, что не особенно удобно в лесу, полном глубокого снега.
— А про воронов — люди брешут. Они — птицы в хозяйстве полезные. Иной раз и присоветовать что умное могут. Да, кстати, чуть не забыл! — Влас протянул парню небольшой сверток.
— Что это?
— Да, твой дружок просил матери его передать. Так, не поленись, съезди к ней. Воля умирающего и для меня — закон!
— Зинченко? — изумился Василий.
— Он самый. Постучал под вечер. И говорит — мол, передай Акулине Гавриловне! Обещал уважить — все-таки последняя просьба…
— Что ты несешь, старик?
— Вот и дорога! — оборвал Влас, переваливая через бугор. За ним вскарабкался и Василий.
Внизу, по ту сторону, у подножия склона извивалась черно-коричневой змеей довольно широкая дорога. Странный цвет объяснялся тем, что по ней медленно продвигалась вперед моторизованная колонна гитлеровцев.
— Тоже мне, проводник нашелся, — подумал Василий.
— Стой! — двое в форме сельской полиции направили на русских дула винтовок. — Кто такие? Откуда! Чего шляетесь по лесу?
— Да мы свои.
— Оно и видно, что свои. Держика этих своих на мушке! — приказал полицай напарнику, разглядывая Василия.
— Здешние мы… — быстро заговорил Василий, снимая ушанку, и положил руку на топор за поясом. — Вот, по дрова пошли. Холодно! Мороз!
— Ну-ка, спускайтесь сюда, лесорубы хреновы! Вниз и по одному. Да не вздумайте драпать! — скомандовал тот, что постарше. — Ишь, за дровами они вышли. Здесь до ближайшей деревни версты три с гаком. Уж мне ли не знать!
— Контра. Фрицам продался! — сплюнул Василий.
— Что ты сказал, щенок! — не расслышал полицай.
— Постой-ка тут, Вася. А я с ними пойду, договорюсь! — подмигнул сержанту Влас и шагнул вперед, поправляя на голове высокую меховую шапку.
— Почему остановились? — Курт подозвал к машине фельдфебеля.
— Заминка, господин капитан. Партизан поймали.
— Где они?
— А вот, один сюда топает. Вальтер посмотрел в ту сторону, куда указывал проводник. По склону к ним спускался высокий бородатый старик в серебристом, как паутина, шерстяном плаще, в широкополой не по сезону шляпе, надвинутой на глаза, изпод которой виднелась седая борода, заплетенная в косу. Странный русский опирался на длинную гладкую палку. У ног его, виляя хвостом, крутилась огромная овчарка.
— Руки вверх, дед! И быстро… Смотри, без шуток! — скомандовал полицай.
— Я те сейчас покажу, кому тут лапы подымать! — пробасил старец и полез в карман плаща.
— Граната! Стреляйте! — крикнул кто-то.
— Ах, ты так! — полицай разрядил в старика винтовку… Но к его несказанному удивлению дед не упал!!
— Твою мать, неужели промазал?! — он дал второй, а затем третий выстрел.
— А ну, давайте все разом! — захохотал седобородый старик. В тот же миг серая собака Ивана прыгнула на предателя, разом откусив ему голову. Да и не овчарка это вовсе, а волчище, каких поискать. Гитлеровцы старательно в упор расстреливали деда из автоматов, но тот стоял, заговоренный, и смеялся. Затем он вытянул руку, на которую, откуда ни возьмись, приземлился здоровенный ворон. Навья птица громко приветствовала Хозяина: — Харр! Харр!
Тут к своему ужасу Курт увидел, как этот старик свободной рукой поправляет край дурацкой шляпы. Как ее поля медленно приподымаются, обнажая открытый, широкий лоб мыслителя, мохнатые брови, и единственное страшное, неимоверное око. Это был глаз, пронизывающий взором насквозь, проникающий в самую подноготную, глаз, срывавший маски, то был леденящий душу глаз Великого Одина.
— Боже мой! — застонал Вальтер.
— Думаете, сварганили себе железки — и самые сильные? Ну, да я вас ужо поучу! — седобородый Старик легонько толкнул высоченную корабельную сосну. Та, не выдержав прикосновения, подалась вперед и начала тяжело, медленно и верно падать. Как только грянули первые выстрелы, Василий камнем упал в снег.
Перекатился, уходя от пули, и замер, обомлев. Влас стоял, окутанный кольцами распоясавшейся вьюги. Разудалый Дед Мороз. Пространство ревело в его честь.
Скрипели лесные великаны. Гигантская сосна рухнула на танк, сплющив, размозжив, размазав его в лепешку. Следовавшая за ним машина с офицерами исчезла среди вечнозеленой хвои. За этой сосной повалились и другие, перегораживая путь.
— Ура! Бей фрицев! За Родину! За Сталина! С обеих сторон на дорогу высыпали партизаны.
— Васька, ты чего? Ранили? — как ни в чем не бывало, ухнулся рядом в снег Кондрат.
— Не, скорее контузили. Посмотри на дорогу. Видишь там бородатого деда. Ну, лесника такого кряжистого, Власа!
— Да, где? Ни черта не видать! Никакого старика мы в отряде не держим.
— Да, вон! Там!
— Это, Вась, Госпожа Метелица фрицу Кузькину мать кажет.
— Может и так? — засомневался он, потому что его недавний Водчий исчез. Испарился, пропал Влас, словно бы и не приютил старец Василия в странной обители, будто бы и не случилось ничего волшебного. Лишь искристый снег да морозный ветер лепили в воздухе замысловатые фигуры.
Дмитрий Гаврилов СМЕРТЬ ГОБЛИНА
По утру лаяла очумелая собака… «Духи! Душманы приехали!» — раздалось с улицы.
«Молодых пригнали!» понеслась благая весть от одного к другому. «Где? Откуда?» — и пошло, поехало… Курилки опустели. Все, кто был в казарме, высыпали наружу и теперь заинтересованно всматривались вдаль, туда, где за густыми, но аккуратно подстриженными кустами акации мелькали бритые головы новобранцев. — Вот они, зайчики, — молвил Киреич и смачно сплюнул под ноги. Вешайтесь, духи! — Солобоны! — вторил ему Абдурашид и добавил что-то по-таджикски. Эта рота в учебке держалась особняком. Все, как один. Личный состав ее считал дни, когда окончатся распроклятые сборы, и они уже сержантами вернутся в свои части. Здесь — сам Устав, там- свобода и вольготная жизнь черпаков. Вот и долгожданное время завтрака. Старший сержант Лопатин построил своих подопечных, и они двинулись к солдатской столовой. На этот раз обошлось без лишних разговоров, подгонять роту не приходилось. Первые шеренги взяли ускоренный темп. Лопатин давно понял, в чем дело, и зло отсчитывал: «Ряз… з! Ряз… з!
Ряз… з, два, три…» Они поравнялись со зданием казармы какой-то учебной части.
Тут шеи черпаков вытянулись, и головы, как по команде, повернулись туда, где неизвестный старлей дрессировал плотный строй очередного призыва. — Вешайтесь, духи! Ждем к себе через пять месяцев! — Они у нас другой курс пройдут! — загоготали будущие сержанты.
Лопатин оборвал их: «Разговорчики! Третий взвод!» — Гы! — Рота! Стой!..Ну, сколько вам дать времени, чтобы насмотреться? — У, чмошник! — пробормотал Киреич. Но, как ни странно, подействовало. Все притихли и до столовой не проронили ни звука. «Откуда такая ненависть? Почему такое презрение? — думал Лопатин, — Подумаешь, год отслужили!» Он, впрочем, тут же поймал себя на мысли, что сам свысока относится к подопечным.
Была в сердце и досада, как Лопатин ее не прятал, старшего сержанта вот-вот должны были уволить. В Уфе его ждала девушка (если ждала), и он поспешил написать ей — после праздников будет уже дома. А сегодня — двадцатое мая.
Навязались командированные на голову. «Обучишь — сразу дембель!» — в который раз пообещал комбат, а замполит потупил глаза, поскольку клялся и божился отпустить отличника боевой и пока еще политической в неделю после мартовского приказа. В столовой дружно стучали ложками и выискивали в бело-желтом жирном вареве куски мяса. — Опять «дробь 16»! — скорчил рожу Киреич. — Эй!
Душара! Соль где? Дневальный Реншлер услужливо кинулся за солонкой, но Абдурашид ненароком подставил ему подножку, и бедняга растянулся на склизком плитчатом полу. — Ррота, встать! — гаркнул Лопатин. Он прекрасно видел, в чем дело, но ограничился лишь тем, что поднял и вновь посадил головорезов: — Ррота, сесть! Ррота встать… Рота, сесть!
Киреичу, кстати, не вняли, и перловка начала таять. Дмитрий сидел за тем же столом, каша и ему не лезла в горло, но он заставил себя через силу проглотить ненавистные калории. Пища для борьбы — так он это называл. Рыжий, щекастый, похожий на лисенка Дема, сокращенное от Деменева, спросил: «Все сахар взяли? А то — тут еще остался!» Наиболее ловкие потянулись к миске… — Кому нужна белая смерть! — попытался пошутить Дмитрий. — Это сахар Реншлера, он дневалит, если не заметили. — Кто не курит и не пьет — тот здоровеньким помрет! — провозгласил Киреич, сверкнул золотым зубом, и сахар исчез.
— Спасли, значит, «духа» от смерти! — рассмеялся Абу. — Зря ты, Киреич, это сделал!
Вспомни, как нас гоняли в свое время! — Все отлично помню, поэтому и съел. — Слишком ты правильный, дорогой! Стукач, наверное? — бросил Дмитрию Абдурашид. — Просто, не терплю уголовщины. И кликухи мне блатные тоже надоели. — Вот из таких и вырастают рвачи типа Лопатина! — похлопал его по плечу Абдурашид. Дмитрий не стал спорить с «дедом», как бы подчинившись незримой иерархической лестнице. Он промолчал, хотя внутри уже закипало, но год в армии научил его сдерживать эмоции. К чему радовать этих гоблинов? Не дождавшись ответа, враг решил подойти с иной стороны. — А что, — осведомился Абу у Демы с Киреичем, — он и в части такой же неразговорчивый? Те хитровато улыбнулись. «А, сволочи! Боитесь при мне!
Мало ли что случится?…Гоблины!
Вонючие грязные гоблины!..Хорошо, что дембель неизбежен, как крах империализма!» — заметил про себя Дмитрий. — Слушай сюда, парень! Будешь выступать — мы тебя не переведем! Пажа посвящали в рыцари, даруя ему шпоры и опуская меч на плечо.
Старослужащие по негласному неуставному закону раз в полгода переводили своих младших сослуживцев с одной ступени армейской феодальной лестницы на другую.
«Дух» превращался в «молодого» или «гуся», выдержав десяток ударов пряжкой по спине. Затем — в «черпака», тогда разрешалось ослабить ремень и расстегнуть верхний крючок гимнастерки. «Черпак» в ночь за полгода до приказа становился «дедом» и сам вершил торжественный ритуал посвящения. Но даже ему не дозволялось того, что мог вытворять после Приказа «дембель». — Ты понял? — настаивал Абу. — Гм… Можешь считать, что я испугался, если это так существенно, произнес Дмитрий и в упор посмотрел на мерзавца. С каким бы наслаждением он свернул эту ненавистную шею. «Гоблин! Я тебя не боюсь! Это ты должен меня опасаться!» — Дмитрий представил, как невидимая властная рука тянет свои пальцы к заветной цели, как они сжимаются все сильнее и сильнее… При этом у него и в самом деле нервно задрожала кисть, и он спрятал ее под стол. Абдурашид с синим лицом повалился на плитки. Он задыхался, тщетно пытаясь избавиться от беспредельно разросшегося языка. В глазах рябило. Грудь судорожно сжималась. Тело не слушалось.
Последнее, что он увидел- так это дежурный по столовой, который бежал к нему через весь зал, опрокидывая стулья. — Когда я ем — я глух и нем! — прошептал Дмитрий, склонившись над гоблином. — Что с ним? — спросил Лопатин. — Наверное, подавился, товарищ сержант! — предположил Киреич, не подозревая, что не далек от истины. — Уводи своих! — тихо, но внятно сказал офицер Лопатину. — Посуду на край столов! Встать!
Строиться на улице! — взводный степенно направился к выходу. Справа и слева его обгоняли, закончив трапезу, солдаты. Они любопытно поглядывали на скорчившегося Абдурашида, который уже не производил впечатление грозного «деда».
— Становись…! — сержант высек подковой искру, обернулся к строю. Подтянули ремешки! Застегнули крючки и верхние пуговицы!.. В частях у вас, должно быть, другие порядки? — продолжил Лопатин, выволакивая Киреича за болтающуюся пряжку из последней шеренги. — Но здесь вы в гостях. Так что, будьте добры, по уставу!
Он опустил слоистый кожаный ремень «жертвы» на асфальт и каблуком придал дугообразной бляхе выпрямленную форму. — Чмо! — сквозь зубы выругался маленький, гаденький, узкоглазый Киреич. — Вы что-то сказали, товарищ рядовой?… Встать в строй! — козырнул Лопатин. — Есть, «встать в строй»! — угрюмо согласился посрамленный. Еще бы он попробовал не согласиться, когда за Лопатиным Устав, и что самое неприятное — блатное неписаное право «дембеля». — Рравнясь! …Смирно!..Нале-во! И зашагали! С песней зашагали… Про пламенный мотор вместо сердца, про цвет нации, что отбывает срок в авиации. — Четче шаг! — Эй, длинный!
Не беги, как страус! — пнул Дмитрия сзади Киреич. — А ты поспевай, короткий! — отозвался он и судорожно стиснул пальцы невидимой ладони. — Рряз! Рряз! Рряз… два… три…! В ржавую канализационную трубу заползала помешанная беременная сука.
*Я намеренно использовал жаргонные слова, иначе этот рассказ стал бы похожим на фельетон.
Гоблин — при всеобщем увлечении Толкиеном это слово вряд ли нуждается в пояснении. Злое, страшное существо из мира, враждебного человеку; дух общее обозначение солдат самого младшего призыва в частях Советской армии в 80-х годах 20-го столетия («шуршать, как дух»); чмо, чмошник — наиболее универсальное ругательство солдатского жаргона; черпак — военнослужащий, отслуживший год; другой курс пройдут — новобранец, попав в часть, подвергается во время «курсов молодого бойца» наибольшим унижениям со стороны старослужащих, которые всецело подчиняют его зэковским законам и ломают волю к сопротивлению; дед — военнослужащий, прослуживший полтора года; дембель — солдат, приказ об увольнении которого уже подписан; стукач — доносчик, рвач — энтузиаст.
(1988)
Баллады. Песни. Стихи
Дмитрий Гаврилов КОЛЫБЕЛЬНАЯ
Ольге Куликовой
Ночь и Тьма всему начало, Гаснут фонари… Ты сегодня так устала, Но теперь — усни! Сумрак… В горнице прохлада… Часа нет милей! Ни о чем грустить не надо Утро — мудреней. О стекло, чуть слышно, бьется Глупый мотылек… Все хорошее вернется, Только путь далек… По тропе ступая Млечной, Ты за мной след в след, Вновь познаешь скоротечность Милых детских лет… В мягкой маминой подушке Волос утопи, Это верная подружка, Так что, крепко спи! И тебе приснится вскоре Полон лес берез…, И ромашковое поле…, И белесый плес… И нахлынет запах дыма, Ветром принесен… Папа, мама молодые Жаль, что это сон! Они твой не слышат голос…» Баюшки-баю! Колыбельную для Оли Тихо я пою…(1993)
«КОЛЫБЕЛЬНАЯ».
Слова, мелодия — Д.Гаврилов, интерпретация — Анатолий Гаврилов «КОЛЫБЕЛЬНАЯ», h moll.
Слова, мелодия — Д.Гаврилов, интерпретация — Ирина Литвак.
Дмитрий Гаврилов БАЛЛАДА
Ольге Куликовой
Чуть ночь возьмет свои права… И дня померкнет свет… Молва, ты, право, не права, Я — не безумен, нет! Двенадцать… Время настает… И хитроумный бес Меня сквозь Время проведет Из конца в конец. Мой Водчий колок на язык И носит черный цвет? Молва, ты, право, не права! Я не безумен, нет! «Пусть прочен будней серых круг, Но в грезах — всяк герой!» Он сладки речи говорит И манит за собой… Он обещает дружбу мне На вечные года, Молва, ты, право, не права! Но я в смятеньи, да! Он знает тайные пути В волшебную страну, И нити тысячи причин Им сплетены в одну. Молва, ты, право, не права, Я — не безумен, нет! Чуть ночь возьмет свои права… И дня померкнет свет…(1992)
«БАЛЛАДА», а moll. слова, мелодия — Д. Гаврилов, интерпретация — Ирина Литвак Для 7 куплета:
* * *
Ночи бездонной совершенство Тьма, что по Cути мне близка. Уединенности блаженство И одиночества тоска. Строка пугливой черной кошкой Скользнула. Лист безволен, смят Изломанные неосторожно Мои прощания лежат. А Навий вестник уж взметнул Крыла прохладны и иссини Я в очи Виевы взгляну, Чего бы там ни говорили… Наверно, к Вышнему Суду Все переврут, переиначат, Но Смерть уже ничто не значит И я за Велесом бреду…(1999)
Дмитрий Гаврилов СОНЕТ
Ольге Куликовой
Прозрев однажды, эту муку Ты узнаешь Да Навь разверзла черные крыла… О ком Ты думаешь теперь? По ком вздыхаешь? И этот вздох, увы, не для меня Последний раз сверкнут мне очи кари. Так вот в чем смысл Яви, Бытия? Служить им! Но глаза Твои устали, И этот взгляд, увы, не для меня. А молодость легко друзей меняет, Но будет меньше их день ото дня! Кому-то шепчешь в тишине… Тебе внимают… И лепет Твой, увы, не для меня. Не все слова Любви проникновенны! Как смел я выжить, Белый Свет кляня? И взор, и вздох, и шепот неизменны! Но все это уже не для меня?!Дмитрий Гаврилов ЗАКЛЯТИЕ
Ольге Сазоновой
Пред Небом вечным и Землей В полночный лунный час Я силы Космоса зову, Молю, о Боги, Вас! И заклинаю духов Тьмы, Коль Свет ко мне не льнет. Властитель Навьей стороны На зов волхва идет. Рун древних роспись по ножу… Кровь каплет на алтарь… — Яви ее! Я отслужу, Ночи рогатый царь! Любовь — фантазия и миф, Княжна из снов и грез. Смеется мудрый чаровник: «Неужто, ты всерьез? Да не смеши, мой юный друг, Ведь, клятвам нет числа. И эта Клятва никому Покой не принесла…» — Яви! Подписан договор! — Изволь, рад услужить. — За встречу с милой я готов Хоть душу заложить! И Навь — не Явь, а Свет — не Тьма, И Звук — не Тишина, Заклятьем из Небытия Возрождена Она.(1995)
Дмитрий Гаврилов ПЕСНЯ ЛУЧНИКА
Александру Городницкому
Оставь свои сомненья, Гони к чертям печаль! Спиваться как-то не с руки, Хоть прошлого и жаль… Бывалый старый воин, Наставь на верный путь. Не сладка жизнь героя, Но можно и рискнуть! Как глупо мир устроен, Коль нараспашку грудь, Так в спину, будь покоен, Кинжал спешат воткнуть. Искатель приключений До мозга и костей, Простись без сожалений Ты с кружкою своей! Вот лук мой смазан салом, И греет руку меч. Я им владею славно, Хочу предостеречь! А тетива запела, Рождая обертон Мне сладок с колыбели Ее надсадный звон.«ПЕСНЯ ЛУЧНИКА», а moll, 1/4=120, Allegro слова, мелодия - Д.Гаврилов, интерпретация - Ирина Литвак.
* * *
Где б ни просился на постой Девиц смазливых тьма, Но грош цена любви ночной И клятвам грош цена! Хотя соблазны их познал И свежесть алых щек, Но ты пропал, когда попал Под дамский каблучок…! В ночи забвение найдешь, Где трепет нежных губ, Но пропадешь, коль попадешь Под женский под каблук! И все ж, оставь сомненья! К чертям тоску-печаль! Спиваться, право, не с руки, Хоть прошлого и жаль!(1993)
*Для удобства чтения нот мы опустили линии «вольты». Интервал с 10 по 17 такт исполняется для 2–6 куплетов, а интервал с 18 по 25 такт — для 7–9 куплетов.
Ренат Мухамеджанов НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ
Закрылась дверь, Скрип чуткой половицы… И тихо в мире, и вселенной нет. В окно крадется полуночный свет Неслышным зовом полуночной птицы… И правит бал коварная царица Ненужных и непрошеных побед. А за окном декабрь топит снег, И утро подбирается к столице… По мановенью царственной руки Согнешься, пряча голову в колени… И забываешь о своих стремленьях, Как многоточье на конце строки. А за окном декабрь топит снег. И ночь гадает, будет ли рассвет.(1989)
Ренат Мухамеджанов НА ЛОК-БОТАН (БАКЛАЖКА)
Шлепал приклад по ляжке, Булькал «Агдам» в баклажке, А между ног «калашкин» Бился штык-нож… В небо не суйся — слепит, Ветер по морде метит, В звон конопляной меди Песню плетешь: Гей! Гей! Барабан! Взвод упрямый, как баран, Пыль на ране, Соль в кармане, На Лок-Ботан. Этот «агдам» — домашний, Прочее — суть не важно, Если же станет тошно Флягу целуй Даже инструктор ражий, Носом втянув парашу, Пьет, запрокинув рожу, Как не хмельной! Гей! Гей! Поспевай. Флягу с другом опростай, Шаг походный, Взвод безродный, Запевай! Гей! Гей! Веселей! Фляга полная страстей. По дороге Стопчешь ноги, Да не жалей… Будут дороги сниться, Будет душа томиться, Будешь всю жизнь молиться, Или стрелять… Степь конопляным духом В нос даст и звоном в ухо, Чтоб через жизнь по нюху С песней шагать.Слова и мелодия — Ренат Мухамеджанов, 1/4=120,Allegro
Антон Баргель КОЛЫБЕЛЬНАЯ
Толи дочка тихо плачет, Толи буря надвигается… Этой ночью сам бог назначил Тебе во поле свидание. Спи спокойно, будут звезды, Будет ветер в чистом поле… Бог с тобой, еще не поздно Взлететь птицей, да на волю… Дай мне руки подержаться, Не смотри на меня с укором… Тропкой узкой, дорожкой гладкой, Да под горочку, под гору… И не бойся, и не бейся: Сны гуляют в тихой спальне. Успокойся, не надейся: Все решится так, как надо. Толи дочка тихо плачет, Толи буря надвигается… Этой ночью сам Бог назначил В чистом поле тебе свидание.Cтатьи. Критика. Аннотации
Константин Крылов ВОЛШЕБСТВО И ПОЛИТИКА: МИРЫ ФЭНТЭЗИ КАК НОВЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИДЕАЛ
Для начала — немного «о птичках». Одним из «чисто человеческих» свойств наряду со стыдом и способностью смеяться — является воображение, эта удивительная и непонятно зачем данная способность представлять себе невозможное. При всем том нет ничего хитрого, чтобы вообразить «несуществующее»: то, чего здесь нет, но что вообще-то «бывает». На это способен и котенок, играющий с клубком шерсти: он прекрасно понимает, что это не мышь, не пытается его съесть — но все-таки бегает за ним как за мышью. Мыши, однако, водятся и на самом деле. Человеческое воображение другая, высшая способность, так сказать, второго порядка: оно пытается выдумать то, чего не просто нет, но и быть-то не может; представить «невозможное возможным». Более того, с завидным упорством воображение пытается перепрыгнуть через каждую придуманную им небывальщину в поисках еще более поразительной нелепости. Котенок вряд ли способен вообразить себе кентавра — и тем более океан Соляриса. Более того, ему и в голову не придет усердствовать в этом странном занятии. Судя по всему, воображение — что-то такое, что призвано дополнять другую чисто человеческое свойство, а именно логику, рациональность, то есть способность разоблачать и разрушать образы путем доказательства их невозможности.
Логика судит действительность по законам возможного. Логика — это, прежде всего, способность не верить глазам своим, даже если увиденное прямо-таки гипнотизирует своей очевидной убедительностью. Человек видит змею, ему даже кажется, что она шевелится — но он знает, что здесь не водятся змеи, что встретить здесь змею невозможно, и убеждает себя: «скорее всего, веревка». Но — увы и ах, наши способности ограничены, в том числе и эти две. Человек не может быть полностью логичен — но и его воображение не беспредельно. Мы не можем вовсе искоренить невозможное — но, с другой стороны, не способны и вообразить нечто совсем уж из ряда вон. Как не бейся головой о стену, какие грибочки-мухоморчики натощак не вкушай, как не дыши холотропно, а все равно квадратный шар не выдумаешь. Разумеется, попытки вообразить и описать квадратный шар во всей его красе не прекращаются и не прекратятся никогда. Каждый раз, однако, выясняется, что шар все-таки круглый. Поэтому истинной целью литературы — в первую очередь, конечно, литературы фантастической — является не просто вымысел, а вымысел правдоподобный, вымысел достоверный, то есть невозможное, замаскированное под возможное. При этом дозволяется, как угодно дурачить и любыми способами сбивать со следа нашу «внутреннюю ищейку» — логику, лишь бы только она не путалась под ногами и не мешала обливаться слезами над вымыслом. Казалось бы, рождение такого литературного течения, как «фэнтэзи», было обусловлено желанием в очередной раз проверить силу воображения. В отличие от science fiction, с ее всем опостылевшей привязанностью к машинерии, фэнтэзи вроде бы предоставляет его творцу полнейшую свободу, поскольку легализует свободное и неограниченное применение любых чудес, начиная со сказочных и вплоть до тех же самых технических. Правда, конструкции из очень уж податливого материала легко рассыпаются — но авторам не возбраняется накладывать на себя любые ограничения, любые вериги, лишь бы достичь желаемого результата, то есть построения «еще одного возможного мира», в котором можно было бы жить и дышать хотя бы часа два без громкого противного тявканья «внутренней ищейки».
Однако же, после многих — и каких! — трудов выяснилась поразительная вещь. А именно: все более-менее жизнеспособные фэнтэзийные миры неизменно оказываются необыкновенно похожими друг на друга, притом куда как более, чем даже бравые космические империи с их звездолетами-гравилетами и бластерами-шмастерами. Такое впечатление, что все (да-да, именно все!) творцы фэнтэзи, погружаясь в свои волшебные грезы, с завидным постоянством оказываются в одном и том же месте, ныне уже исхоженном нами, читателями, вдоль и поперек. При этом все попытки очередного бедолаги-сусанина вывести нас из этих (воистину заколдованных) краев еще куда-нибудь обычно заканчиваются ничем: автор просто попадает туда, откуда пришел. Итак, перед нами Магический Мир. Корректнее всего будет называть его Средиземьем. Во-первых, ad majorem gloriam JRRT. Во-вторых, это название почемуто очень подходит данной местности, так что подавляющее большинство авторов называют ее «как-то так» или «чтото вроде». Самое простое считать, что это и есть ее настоящее имя. Итак, Средиземье находится, выражаясь языком science fiction, на планете земного типа, с водой и сушей, с хорошо выраженной сменой сезонов, и довольно ровным климатом, соответствующим нашей средней полосе. Все вроде бы пристойно. Однако есть важное отличие: Средиземье — геоцентрический мир. Чувствуется, что здесь именно Солнце и Луна вращаются вокруг Земли, а никак не наоборот. Космология — вполне птолемеевская: наверху — каменное небо и хрустальные сферы. Поэтому какие-нибудь космические путешествия в этом мире вроде бы и возможны (все возможно!), но практически неосуществимы: путешествовать-то, собственно, некуда. Впрочем, путешествия по самому Средиземью тоже затруднены: вопервых, местность сильно пересеченная, во-вторых, этому препятствует его экономическое и общественное устройство. Здесь начинается самое интересное. Вся жизнь Средиземья определяется тем фактом, что в нем существует и успешно функционирует магия — то есть совокупность нетехнических приемов воздействия на природу и живых существ. Разумеется, кое-какая техника все же имеется в наличии (подавляющее большинство жителей ездят на повозках, а не летают на коврах-самолетах), но, по крайней мере, технические приспособления явно не делают погоды. К тому же магия почему-то (ниже мы увидим, почему) враждебна технике и препятствует ее развитию (в каких-то вариантах этому препятствуют «законы магической реальности», а кто-то в открытую пишет, что маги систематически обламывают все попытки создать что-нибудь посложнее колеса и сковородки). Поскольку магия — важнейшая черта жизни Средиземья, следует уделить ей «специальное внимание». Не будем останавливаться на описаниях разного рода магических приемов — здесь царит полнейшее разнообразие, чтобы не сказать неразбериха.
Однако во всех описаниях «магического» имеется кое-что общее. Оно-то нас и интересует.
Во-первых, магия не требует разделения труда. Магия — то, что может совершить один человек (маг), и не может совершить никто, кроме него. Магия — всегда Деяние, Gestio, причем деяние Одного. Даже если мага окружает сонм помощников, в решающий момент он оказывается один на один с Волшебной Силой (или как она там называется), и в этот миг все зависит только от него. «Магического конвейера» (скажем, ситуации, когда сотня магов каждый день операция за операцией «делают работу») не бывает — разве что в случае совсем уж рутинной работы. Кроме того, каждый акт магии уникален. Есть стандартные заклинания, но они отнюдь не гарантируют результат — в конечном итоге все зависит от мага. Попадаются, правда, магические предметы (разного рода кольца власти и прочие волшебные примочки), с помощью которых вроде бы можно колдовать, но и они, в свою очередь, есть результат Великих Деяний, каждая из этих вещей уникальна, и не может быть воспроизведена. Кроме того, многие волшебные вещи действуют один (или считанное число) раз, после чего «теряют силу», как севшая батарейка. Короче говоря, магия ближе всего к процессу «сотворению шедевра» — то есть к уникальному и неповторимому взлету духа и мастерства. Дело тут не в количестве шедевров, а именно в эксклюзиве: даже если мастер сотворил добрую сотню шедевров, каждый из них неповторим (даже самим мастером). Соответственно, маги находятся в таком же положении, что зачастую приводит к неприятным для них последствиям (так, многие из них попадают в зависимость от результатов собственных усилий, которые они не могут «просто повторить еще раз»).
Разумеется, никакой «общепринятой» системы магии не существует. Правда, магии можно научиться. Но, во-первых, для этого нужны особые врожденные способности, без которых никак (впрочем, как и в любом другом деле, так что ничего особенного в этом нет). Вовторых, магическое знание эзотерично (ну, это тоже не удивительно: какая-нибудь «теория устойчивости» является куда более эзотерическим знанием, нежели любое «калды-балды»).
А вот что по-настоящему важно: магия принципиально не является единым знанием.
Существует множество магических систем, друг к другу не сводимых и друг в друге не нуждающихся. Иногда их число невелико (скажем, соответствует числу стихий), но какихто принципиальных ограничений на это, в общем-то, нет. Наконец, last not least, магия — не просто «работа», но, прежде всего, образ жизни. Маг не похож на обычных людей, он другой, он живет иначе (лучше или хуже, неважно), и не может «слиться» с ними — не потому, что он выпендривается, но потому, что для мага не существует различия между officium и otium, официальными обязанностями и частной жизнью. Маг — всегда маг, а не «с 9 до 6». По определению, магия может все или почти все. Удивительно, но при этом она странным образом бесполезна для хозяйственных нужд. Маги, правда, могут немножечко подсуропить в сельском хозяйстве (скажем, наслать дождь или засуху), или в здравоохранении (вылечить безнадежно больного или воскресить мертвого), но это и все.
Нет ни одного сколько-нибудь интересного фэнтэзийного романа, в котором маги занимались бы изготовлением товаров «группы А» или «группы Б». Правда, иногда встречаются какие-то вещи, изготовленные магами, но это всегда предметы роскоши.
Экономика Средиземья держится, увы, на физическом труде. Кое-где практикуется рабство, кое-где царит махровый феодализм, имеются и свои «буржуины» (в основном купцы-мореходы). Но в целом уровень жизни большинства населения оставляет желать лучшего (в силу хотя бы того же самого отсутствия сложной техники). Причина такой бесполезности магии «для дела» — как раз те ее свойства, которые перечислены выше.
Любая экономическая деятельность требует разделения труда, рутинна, общедоступна, и предполагает четкое разделение на «работу» (для заработка) и «просто жизнь». Магия, если угодно, стилистически несовместима с «приростом первичного продукта» и тем паче «накоплением капитала». Зачем же тогда нужна магия? Ответ довольно прост.
Единственная область ее систематического применения — власть. Власть во всех ее видах и проявлениях, и, соответственно, все, что с ней связано, прежде всего, война. Развита и даже переразвита боевая и защитная магия, разного рода средства магического воздействия на психику и прочее в том же духе. Разумеется, политическая власть либо целиком сконцентрирована в руках магов, либо невозможна без их услуг. Существуют, правда, светские властители, но само их существование обусловлено административной бездарностью большинства волшебников: они предпочитают посадить на престол какогонибудь толкового военачальника, навязывая ему свою волю во всех существенных вопросах. Надо сказать, что власть в этих краях ценится чрезвычайно. Можно было бы сказать, что власть — основная и главная ценность Средиземья, оставляющая далеко позади все прочие человеческие страсти, будь то стремление к деньгам или удовлетворению «основных инстинктов».
Однако, ценится не всякая власть, а, прежде всего власть демонстративная.
Атрибуты властителя — роскошные одежды, высокие троны, пышные церемониалы.
Разумеется, серые плащи магов — тоже демонстрация: скрытое могущество видно немногим, но это именно скрытое могущество, а не настоящая серость. С другой стороны, лишенный официальных постов, но грозно выглядящий герой имеет в Средиземье все шансы на почет и уважение. Короче говоря, главной ценностью для обитателей Средиземья является ЛИЧНОЕ ПРЕВОСХОДСТВО. Это единственно точное определение того, вокруг чего и ради чего кипят страсти. Нетрудно сообразить, что при таком раскладе Средиземье — довольно-таки неспокойное место: в нем непрерывно ктонибудь с кем-нибудь да воюет. Установить относительное спокойствие на сколько-нибудь значительной территории планеты совершенно невозможно, и связано это опять-таки с магией: на всякое сильное колдовство обязательно найдется какая-нибудь всеми позабытая мантра, которая успешно его размочалит. На всякий лом рано или поздно находится прием. Возможно, поэтому, Средиземье — на редкость плюралистичное и деидеологизированное общество. Никакой общепринятой (или, на худой конец, разделяемой большинством населения) идеологии нет. Не существует и особого «магического мировоззрения»: разные маги верят в разные вещи или не верят ни во что. В некоторых описаниях подчеркивается явное противостояние Сил Добра и Сил Зла, но, если внимательно читать даже самые бескомпромиссно дуалистические книжки о Магическом Мире, то обнаруживается, что эта проблематика во многом надумана и сильно зависит от точки зрения автора.
Есть, однако, четко выраженная склонность приписывать злым силам некие «унитаристские» тенденции: как правило, Зло выступает крепко сколоченным «общим фронтом» и ставит себе целью достичь полного и тотального контроля над Средиземьем, а Добро представлено нестойкой коалицией разных сил, стремящихся сохранить прежний плюрализм. В общем-то, это единственные устойчивые признаки «средиземского» Добра и Зла. Зло олицетворяют все те, кто стремятся «всех покорить» и установить повсюду одни и те же порядки, а Добро — все те, кто этому сопротивляется. Отсюда и характерные свойства сил Добра — сварливость и ярко выраженная склонность к выяснению отношений между своими (обычно — в самый неподходящий момент). При этом на стороне Добра довольно часто воюют разного рода бандиты и подонки, а силы Зла при непредвзятом рассмотрении — иной раз производят довольно благоприятное впечатление (ну, разве что они бывают излишне занудны и чрезмерно любят порядок). Но, в общем-то, если честно, все конфликты в Средиземье сводятся к банальной борьбе за власть и престиж, короче говоря — за все то же самое личное превосходство. Ну, а теперь зададим нечестный вопрос, — тот самый, который читателю задавать «нехорошо». Хотели бы мы жить в таком мире?
Нет-нет, погодите, оставьте на минутку все наши убеждения, наш гуманизм, демократизм, патриотизм, нашу любовь к технике и науке, нашу мораль и нравственность, хотеться может и плохого, и невозможного, речь не о том, но всетаки хочется ведь туда, в Средиземье? Да чего уж там… Ja. Si. Yes. Да. Конечно, ДА. Но почему?…Тут-то чем плохо? Скажем уж честно — мы живем не в худшем из возможных миров. А уж те края, в которых зародился и расцвел жанр фэнтэзи, вообще напоминают Острова Блаженных. Жизнь на Западе с любой разумной точки зрения не просто хороша, а очень хороша — достаточно вспомнить, что тибетские буддисты одно время вполне серьезно обсуждали, не является ли Европа Западным Раем Амитабхи-Будды. Да что там тибетцы: я сам, не будучи особенно глупым или патологически завистливым человечком, где-то в глубине души до сих пор не могу понять, на что вообще может (в смысле — имеет моральное право) жаловаться человек, живущий на Западе и имеющий хотя бы среднеамериканский ежемесячный прибыток: если он, имея Это Все, еще и недоволен — значит, он просто кретин, или, того хуже, неблагодарная скотина. В Россию ссылать таких надо. Нет, в Монголию. В Бангладеш, мать вашу… Тем не менее недовольство существует. Более того, оно имеет вполне реальную причину. Современный человек в современном обществе чувствует себя глубоко униженным — и никакие радости для телес и душонки, никакое приумножение пожитков и животишек не компенсируют этого унижения. Самое обидное при этом то, что унижение исходит вовсе не от людей скажем, от злых и несправедливых правителей. О, если бы! С Большим Злым Парнем еще можно как-то пободаться. Но сейчас он бит повсеместно.
Современный плебей давно уже обзавелся всеми мыслимыми и немыслимыми правами, так что дело дошло до того, что президент величайшей державы современного мира вынужден опасаться каких-то там разоблачений какой-то там утконосой золушки.
Нет, нынешний правитель давно уже стал комической фигурой (примерно как нынешний отец семейства, которого весело и дружно третируют женушка и домочадцы).
Впрочем, и плебс тоже не страшен: скорее уж надо опасаться меньшинств, мелких, противных и невероятно наглых. Так что унижение не связано с людьми. Унизительны обстоятельства, в которых современный человек находится. Эти обстоятельства объективны, безличны, но главное — с ними «ничего не поделаешь». Если коротко, человек чувствует себя униженным потому, что лишен даже самомалейшей власти над тремя вещами: над собственной судьбой, над природой и над себе подобными. Начнем с первого. От человека сейчас ничего не зависит. Все, что он делает, касается только его, важно только для него одного. Так уж устроена цивилизация.
Незаменимых нет. Без любого, даже самого крутого профи, в принципе можно обойтись — и еще неизвестно, станет ли от этого хуже. Более того, сам профи тоже не уверен в своей незаменимости: вот придумают завтра какую-нибудь простенькую коробочку с проводками, которая делает то же самое, что и он, только в тысячу раз быстрее и лучше… ну, пусть даже медленнее и хуже, но зато ей не надо платить жалованье. И что тогда? То-то. Или еще проще: то, что ты так хорошо делаешь, в какой-то момент элементарно перестает быть нужным. Ну, хотя бы выходит из моды.
Не пользуется больше спросом на рынке. И дальше что? Это обидно? До слез. А кто виноват в этом, чтобы можно было хотя бы проклинать имя обидчика? Да никто.
Рынок. Обстоятельства.
Фишка так легла. Некого винить, даже себя. С другой стороны, и успех не добавляет самоуважения. Тебе повезло? Ты стал кинозвездой с миллионными гонорарами?
Прекрасно, только при чем тут ты? Тебя ж раскрутили. Почему тебя? Может быть — просто потому, что кто-то… ну, скажем, ногу подвернул, и нужно было срочно его заменить, а тут случайно подвернулся ты, и твоя рожица приглянулась кому-то из продюсеров. Опять же — так фишка легла. Современный «успех» настолько зависит от слепой случайности, от «удачи» в худшем смысле слова, что одно это может испортить всякое удовольствие, а самоуважения уж точно не прибавляет. За тебя все решили «обстоятельства», на сей раз «хорошо решили», но ты как был кукленком в руках каких-то непонятных сил, так им и остался. И, главное, так везде и во всем. Ничего нельзя достичь самому, во всем необходима львиная доля везения. А везение — такая вещь, что ему можно радоваться, но не гордиться. Нечем гордиться. Просто нечем. Таким же унизительным делом является, как ни странно, наша хваленая техника. Нет-нет, речь не идет о ее «бездуховности» и «антигуманности», и тем более о том, что она «природу портит». Ну, кого это, если честно, гребет?! Нет, дело тут в другом. Техника может дать очень многое, почти все, одного только она не может — она не дает нам ощущения власти над природой. Здесь мы подходим к важнейшей теме. На протяжении всей человеческой истории люди исступленно мечтали о Власти над Миром, и, прежде всего — над Миром Природы, прежде всего над Природой, а уж во вторую очередь над себе подобными (иногда кажется, что последнее — всего лишь заменитель первого). А ведь хочется именно этого: ощущать, как тебе повинуются стихии, как небо и земля покоряются твоей воле. А наука и техника… Это, увы, не власть над природой, это всегонавсего систематический обман природы. Мы не можем гордо и величаво приказать стихиям двигаться по нашей воле, мы не можем своей волей вводить и отменять законы мироздания. Нет, мы, как адвокаты-крючкотворы, выискиваем в этих самых законах лазейки, чтобы провернуть какие-то свои делишки. При этом надо выполнять сотни и тысячи разного рода условий, а то ничего не получится, законодательство природы довлеет… результат вроде бы есть, но нет никакого ощущения власти и победы. А техника… Ну, сравните сами: вот летит на ковре-самолете волшебник, летит куда хочет, как хочет, — а вот самолет, нашпигованный пассажирами (пассажиром, каким-то пассивным жиром…) стоит и не может взлететь, потому как «Владивосток не принимает»… Почему не принимает? Кто запретил? И неважно, что «и вправду нельзя», что там буря. Я ее не вижу, я не могу сам испугаться этой бури, повернуть назад — но сам! — а не потому, что какие-то дяди порешили «не принимать». Да уж, теперь-то мы можем ощутить вживе всю привлекательность магии.
Магия и Власть — синонимы. Власть как Превосходство, как Личное Превосходство над Миром и Стихиями — вот что такое магия, и вот чего не может дать самая крутая техника. Ну, разве что погонять на мотоцикле ночью по пустой трассе… чтото такое почувствовать… ну и все. Но и этого мало. Технические приемы проникли даже в политику — и превратили ее из опасной (но и волнующей) игры в скучное занятие. (Для сравнения: что-то вроде секса «без всякого удовольствия»…) Современные властители мира какие-то невыразительные типы, лишенные даже тени обаяния, пусть даже темного обаяния злодейства… Кабинетные политики, невнятные «эксперты», унылые финансовые воротилы, лишенные даже гобсековского величия…
Билли Гейтс и Жора Сорос на этом фоне представляются все-таки Чем-То… Но, боже мой, какой скукой веет от старейшей человеческой игры — политики! Это касается и современной войны. В наши дни война лишилась единственного морального оправдания, которое у нее еще оставалось: когда-то на войне личное мужество, честь, достоинство были реальными силами, с которыми приходилось считаться. В наши дни (отнюдь не став менее жестокой и кровавой) война окончательно превратилась в «дело техники» и «дело денег». Чеченская кампания, выигранная «свободолюбивым народом» просто за деньги (взятки военным, выплаты журналистам etc.), и образцово-показательные бомбардировки Ирака (с самого начала задуманные как телешоу) хорошо демонстрируют эту сторону дела.
Странно, что на боеголовки крылатых ракет еще не лепят рекламу «Олвейс» («…с крылышками!»), но вскорости придется делать и это, потому как вести войну без спонсоров-рекламодателей налогоплательщикам покажется слишком накладным.
Собственно, Война и Мир некогда понятия противоположные по значению — превратились в разновидности Работы: «мирный труд» и «военный труд». И разница между ними… ну, есть, наверное, но не принципиальная. Гадко? Гадко. И что самое ужасное — это отнюдь не сами люди «так опустились». Это такие обстоятельства.
Главный секрет современного мира как раз в том и состоит, что нами управляют отнюдь не Первые Лица Государств, — но, увы, и не Тайные Ордена, но и не Сионские Мудрецы, и даже не капризы Природы (все-таки не так обидно) — а ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. Рынок, Техника, Политика — все эти абстракции, безличные «процессы», эти слепые и безжалостные из-за своей слепоты Мойры нашего мира.
Нами управляет даже не Сатана, как надеются некоторые оптимисты. Нам не дано даже последнее утешение — представить себе эти абстракции в виде могучих и злобных существ и покориться им. Мы не можем даже сдаться на их милость.
Сдаваться-то некому. Нами правит «ничто». Вот что обидно.
Современный мир в этом смысле оскорбляет воображение: в нем не осталось ничего, вызывающего уважение и трепет. Даже звездное небо над нами, от величия коего даже черствый Кант трепетал — и то подвело. Мы-то теперь знаем, что Космос — не хитроумное и совершенное устройство, достойное хотя бы простодушного любования, а простонапросто агромадная дурная дыра, кое-где заполненная пылью и какими-то там «разрежонными газами», наверняка ведь вонючими… И эти вот вспученные клубы межгалактической вони в миллиарды раз превышают по размеру наше зачуханное «солнышко», не говоря уже о Земле! Чего же еще тогда ожидать от ТАКОГО мира?! Вот теперь понятно, что все очарование Средиземья в том и состоит, что там такого не бывает.
Жители Средиземья свободны от власти анонимных сил. Если что-то случилось (хорошее или плохое), значит, это кто-то сделал. Зло и несчастье — равно как и добро и благо — всегда результат чьих-то деяний. Все обозначенные нами выше приметы Волшебного Мира (вплоть до геоцентризма) сводятся, по существу, к этому — да и нужно-то это все только за сим. Еще раз: Средиземье — вовсе не «царство свободы». В нем имеет место самое дикое насилие. Но это все-таки насилие одних существ над другими, кого-то лично над кем-то конкретно. Неудивительно, что в Средиземье главной ценностью являются не деньги или иные «сокровища тленные» (хотя злых и алчных господ там навалом), а Власть, Слава и Личное Превосходство.
Это только здесь, у нас все это выглядит смешно. Там эти ценности действительно чего-то стоят. (Заметим, что в Средиземье к этим вожделенным вещам в равной мере стремятся и герои, и злодеи: в чем-чем, но уж в этом они вполне единодушны.) Все это, конечно, не значит, что действия средиземцев всегда преисполнены добра — или хотя бы смысла. Их дела могут быть дурными, недостойными, мелкими, противными, — но это ИХ дела, а не рефлекторные реакции на ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
Первый законченный текст в жанре фэнтэзи сочинил отнюдь не JRRT, а ортодоксальный продолжатель жюль-верновской линии Уэллс (прим. редактора: на самом деле и это мнение не бесспорно. Вспомним, хотя бы, «Щелкунчик и Мышиный Король» Гофмана). У него есть маленький и очень изящный рассказ про Дверь в Стене.
Позволю себе вкратце напомнить: маленький мальчик случайно проходит через магическую Дверь, возникшую в глухой стене, и попадает в волшебный сад.
Обитатели сада не могут оставить его у себя, но приглашают зайти еще раз. На следующий день он снова видит Дверь — но он куда-то торопится и проходит мимо, и дверь исчезает. Дальше мальчик растет, вырастает «большим», женится, становится папашей, потом бодреньким английским дедушкой. Несколько раз на протяжении жизни он видит Дверь в Стене, но каждый раз совершенно объективные ОБСТОЯТЕЛЬСТВА не позволяют ему войти: дела, обязанности, чувство долга, etc, etc… Но при этом он помнит о магическом саде, мечтает о нем и ждет, ждет, ждет, когда он, наконец, сможет… посмеет… получит моральное право…
Наконец, глубоким старцем, у которого не осталось ни дел, ни забот, ни врагов, ни друзей и любимых, одинокий и никому не нужный, он случайно проходит мимо той самой стены, опять видит магическую Дверь, все-таки открывает ее, входит… и падает в черную яму.
Это была не та дверь: просто накануне в стене сделали проход, ведущий в угольный погреб, на дне которого он и отдает концы.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА так и не отпускают его.
Средиземье довольно часто считают своего рода «стилизацией под Средневековье».
Это, однако, не означает, что оно ipso facto изображает именно прошлое.
Возможно, это будущее. Магический Мир часто противопоставляют миру техническому — но и это может оказаться не совсем верным. Возможно, для того, чтобы подчинить себе нашу технику, понадобится магия. Возможно, для того, чтобы обуздать анонимные силы, нужны волшебные герои. Возможно, новый феодализм — единственная альтернатива подступающей «тоталитарной анархии». Возможно, справиться с рыночными и техническими мойрами могут только настоящие Мойры. На то нам и дано воображение, чтобы представлять невозможное возможным, всего лишь возможным, хотя бы только возможным… может быть, затем, чтобы тихой сапой, на цыпочках, подобраться к действительности.
(28.02.1998)
Василий Купцов ШУТОЧКА ГЕНРИХА, ИЛИ ЯЙЦЕРЕЗКА
Итак, дело было лет сто назад, еще в восемнадцатом, или как его потом называли в Европе, галантном, веке. В тот самый момент, как и сейчас, я решил отдохнуть от трудов праведных. А тут еще на мое счастье компанию мне составил один мой старинный друг — приятель, назовем его условно Генрихом. Настоящего имени не скажу, он постоянно им пользуется сам, к псевдонимам не прибегает. А рассказывать эту историю он мне разрешения не давал, по крайней мере, скрыв его настоящее имя, я останусь честным перед ним. Дело было в центре Европы.
Семилетняя война уже окончилась, а революции еще не начались. Тишь да гладь.
Неплохой момент в истории… Мы с Генрихом шлялись по кабакам, ярмаркам, театрам и балам. Генрих развлекался, как мог, вовлекая в свои проделки порой и меня. Он даже в публичных домах ухитрялся придумать что-то новенькое, а уж просто приколам не было конца. Если я начну рассказывать подробнее, мы так и не дойдем до основного действия. Впервые я увидел героя этого эпизода, назовем его Каро, в театре. Давали оперу Генделя. Каро пел главную мужскую партию.
Тенор. Совершенно бесподобный голос, невероятно широкий диапазон. Мне понравилось, хоть я оперу, честно говоря, терпеть не могу. Что же до моего приятеля, то он заранее вооружился соответствующими предметами, предназначенными для кидания в актеров, и даже очень расстроился, что закидывание мочеными яблоками не состоялась. Опера имела успех. Публика преклонялась перед голосом Каро, особенно неистовы были итальянцы.
Что не удивительно, поскольку тенор был их соотечественником. Второй раз я столкнулся с великим певцом на большом пиру, прямо за столом. Не помню, кто там расщедрился на угощение, и как мы с Генрихом туда попали, помню только, что стол был довольно богат, а французские повара, как и полагается, весьма искусны. Что там ели, тоже не помню.
Вокруг нас с Генрихом сгрудились, в основном, так сказать, лица с неординарной половой направленностью, которые откровенно пялились на моего друга. Он, знаешь ли, очень красивенький и молодо выглядит. Лет на пятнадцать. Знали бы, сколько ему лет, живо охладели бы. А Генрих, небось, уже обдумывал какую-нибудь хитрую проказу. Я уже много раз наблюдал его в подобных ситуациях, и, порой, чуть не умирал от смеха после какойнибудь шутки. Иной раз шуточки бывали жестковатыми.
Еще полбеды, если потерпевшие потом бегали по улицам «в чем мать родила», один раз дошло до того, что… Ладно, это отдельная история! Но в этот раз вышло подругому. К нам подсел Каро. Прямо к Генриху, там, где потеснее. И так, чтобы ни одна из дам, следовавших за ним по пятам, не смогла бы приземлиться рядом. Этим бедняжкам оставалось лишь бросать на него томные взгляды. Правда, и сидя рядышком с Генрихом, певцу пришлось повертеться под откровенными взглядами любителей мальчиков. Но тут ему было проще. С женщинами трудность была двусторонней, как у женщин с ним, так и у него с женщинами. А на содомитов он просто не обращал внимания, ведь на сцене на него тоже глазеют… Так что пусть смотрят, это его не волновало. Какая именно трудность была у Каро с женщинами?
Что тут непонятного… Все итальянские теноры были кастратами. Тем, кому эта операция была сделана в раннем возрасте, было просто, они ведь даже не знали, что такое женщина.
В смысле ощущений. А вот Каро не повезло, его кастрировали лет в четырнадцать, когда ему уже снились сладкие сны. А может, он уже и успел попробовать запретный плод.
Короче, женщин он любил, но, увы… — Что, друг мой, слава и деньги требуют жертв? — обратился Генрих к Каро, — да, на что не пойдешь ради искусства. Я бы не смог этим пожертвовать, как ты! Ведь как вспомнишь постельку с нежным тельцем… — Заткнись! — кинул Каро грубо. — Что так, не понимаю, — пожал плечами Генрих, — я только выразил свое восхищение человеком, способным пойти на такое ради высокого искусства прекрасного пения… — Слушай, мальчик! — рассердился певец и продолжал, чуть ли не крича, даже с пеной у рта, — ни на какие жертвы я не шел, и ни какого вокала мне не нужно! Меня изуродовали насильно, понятно тебе! — и он схватил Генриха за грудки, поднял со стула и потряс им в воздухе. — Да я что, я ничего такого же не сказал, — промямлил Генрих. Все было очень натурально, я один лишь знал, что мой друг сейчас лишь старательно изображает испуг. В этот момент я понял, что вся эта провокация была задумана Генрихом изначально, с того момента, как к нам подсел Каро. — Тем, кто это надо мной проделал, пришлось потом худо, — продолжал кипятиться Каро. — И тем, кто смеет насмехаться, придется не лучше. Будь ты постарше, я бы вызвал тебя на дуэль… — Ой, прости, дяденька, я больше не буду, — сказал Генрих жалобно. Каро так и не понял, всерьез извиняется юноша или шутит, но решил не продолжать конфликта. — Если тебе, парень, хочется такой славы, — сказал он Генриху уже почти спокойно, но все еще зло, — то пойди к цирюльнику, заплати, и твой голос быстро станет таким же нежным и красивым. А я бы отдал все, чтобы вернуть все назад, стать здоровым мужчиной! — Так, прямо, все бы и отдал? — Да, - он взглянул на Генриха с сожалением, — но это, увы, невозможно… — Если ты серьезно насчет того, что все бы отдал, — Генрих посмотрел на Каро вполне серьезно, — то еще неизвестно, может и можно что-то сделать. — Как? — Заходи завтра ко мне, все и обсудим, — сказал Генрих, — если, конечно, хочешь… — Хочу!
* * *
— Что ты такое задумал с тем безяйцевым пареньком? — спросил я своего друга сразу же, как мы остались наедине. — Да пришла в голову одна мысль, — усмехнулся Генрих. — Поделишься? — А ты мне поможешь? — Что же я должен сделать? — спросил я насмешливо, — Их пришивать я еще не научился! — Вот это как раз и не твоя забота. — А что же будет моей заботой? — Ты не мог бы изобразить, — он хитро прищурился, — самого Сатану? — Глупая шутка! — А, по-моему, ничего сложного! — рассмеялся Генрих. — Немного огня, дыма, запах серы… — Рога и копыта, — продолжил я, слегка рассердившись, — не будет никаких рогов и копыт, запомни! — Хорошо, пусть не будет рогов и копыт, — Генрих был уже на все согласен, — но что тебе стоит побыть немного Владыкой Ада? — По-моему, я уже тридцать тысяч лет только тем и занимаюсь… — А теперь изобразишь себя так, как это представляют себе смертные! — Вот так глупость! — Ну, пожалуйста… — и мой друг начал меня уговаривать. Процесс продолжался около часа, после чего я сдался. А Генрих начал на полном серьезе писать сценарий предстоящего спектакля. На бумаге. Хорошо, хоть не кровью. Но на счет крови я, кстати, оказался провидцем.
* * *
— Ты хотел со мной поговорить, — Каро смотрел на Генриха с надеждой, сказал, что это возможно… — Да, возможно, — кивнул Генрих, — но очень дорого стоит! — Я готов платить любую цену, — Каро чуть ли не трясся, — у меня много денег, есть два дома, настоящие замки. Сколько хочет твой лекарь? — Ты не понял, — покачал головой Генрих, — нет никакого лекаря! — Ты что, посмеялся надо мной? — Да нет, просто тут не в медицине дело. — Тогда колдовство? — В своем роде… — Я готов на все! — сказал Каро, — Пусть будет колдун или ведьма. Пусть назначат цену! — Увы, не колдун и не ведьма, — покачал головой Генрих, — и оплата не деньгами. — А чем? — Посмотри на меня, — сказал Генрих, — я красив и юн, не так ли? — Да, разумеется, ну и что? — А то, что мне уже триста лет отроду! — Не может быть! Я наблюдал эту сцену из соседней комнаты. Тут мне стало смешно. Генрих, мягко говоря, несколько преуменьшил свой возраст, а ему еще и не верят! — Я открою тебе свою страшную тайну! — голос Генриха принял какой-то заговорщический оттенок, — Я действительно родился в одна тысяча четыреста шестьдесят втором году. И был очень, очень красивым парнем. Был я богат, умен, образован, всегда со вкусом одевался. И не имел отказов в любовных делах. Ты и представить себе не можешь, сколько у меня было женщин. И мне казалось, что не будет им конца.
Только однажды я услышал первое «нет».
И понял, что сам стал старым вонючим козлом, которых до этого так презирал.
Человек я был решительный. Нет — так нет, и жизнь такая ни к чему. И я решил покончить счеты с жизнью. Самоубийство, конечно, грех. Но, к нашему счастью, существуют еще и дуэли. Я стал заправским дуэлянтом. Бывал не раз ранен, но, увы, не убит. Я стал все больше и больше лезть на рожон. Оденусь побогаче, иду ночью гулять в самый гнусный квартал. А разбойники, гады, так от меня и шарахаются! Тогда пришла ко мне мысль — обратиться к наемному убийце. Но тут начали мысли разные приходить в голову — если я заплачу убийце, за то, чтобы он меня убил, не будет ли это все равно грехом? Тогда я пошел на исповедь к одному священнику. Люди считали, что он святой. И, действительно, никто за ним никогда греха не видел. Чудеса совершал, наложит руки на голову больного — тот и поправится. Бывало, прозревали слепые. А, уж, сколько припадочных излечил — так и числа нет. Вот пришел я к этому святому и задал свой вопрос. Он поинтересовался, почему я решил умереть до отпущенного мне срока. Я все ему и рассказал. Тогда тот священник и говорит мне, мол, как бы я это не сделал, все равно на мне грех смертельный будет. И не будет мне прощения от Господа! Тогда спросил я его, что же мне делать?
Думал, скажет, покайся, смирись и так далее. А он мне вдруг признался в том, в чем я тебе сейчас признаться собираюсь. Дело было так. Тот священник, будучи еще простым монахом, очень хотел стать настоящим святым. Молился истово, никогда не нарушал никаких запретов и заповедей, все посты держал, и плоть исправно умерщвлял. Многих похвал добился. Вот только тех чудес, коими прежние святые славны были, совершать не мог. И потому страдал. Дело разрешилось самым удивительным образом. Явился к нему сам Диавол, да сразу к такому искушению приступил, что и отказать монах ему не смог. А именно? Монах продает свою душу Сатане, а тот его, в награду, делает святым при жизни и канонизирует после смерти! Представляешь? Монах согласился. Написал договор, подписался. И начал чудеса творить… Потом его, действительно, к лику святых приобщили. После смерти.
Точно — я проверял через много лет. Вот мне тогда тот священник и говорит — хочешь, познакомлю с тем, кто все твои проблемы решит? Я и согласился. Свел меня тот священник с дьяволом. Тот сразу типовой договор предложил.
Ну, я там себе долгие годы жизни в юном прекрасном теле вытребовал, чтобы отказов от женщин не бывало — тоже, разумеется. И все это за свою бессмертную душу — после смерти, разумеется. Правила требовали, чтобы я сам, своей рукой, тот договор написал. А я стал писать еле-еле, медленно, буква за буквой. Да еще, ошибусь, порву, заново начинаю.
Сатана ждать устал, говорит, у меня и без тебя забот полон рот. Я пообещал к следующему утру непременно закончить. Ты, конечно, догадался, что это не зря я дело тянул. Договор я быстро написал. Да место свободное между двух строк оставил немножко, да так, что незаметно было. Потом взял молока и в то место еще несколько слов вписал. Молоком, разумеется. Когда оно высохло, так незаметно стало. На следующий день явился дьявол.
Договор прочитал, потребовал, чтобы подпись была моей кровью. Ну, я еще постарался, долго подписывал, чтобы нечистый не догадался ни о чем. Подписал кровью, потом Сатана подписался. И сказал, что теперь этот договор уничтожить уже нельзя. « В самом деле?» — говорю, а сам, якобы чтобы проверить, договор к свечке и поднес. Сатана лишь рассмеялся. А потом, когда увидел, что на договоре еще слова появляться стали, смеяться перестал и в бешенство пришел. Да поздно было, ведь и сам уже подписал. Что дарует мне абсолютное бессмертие… — Так, значит, ты продал душу дьяволу? — спросил Каро. — Да, но вот как он ее получит, если я все время жив буду! А если умру так ведь тогда будет неисполнение договора с его стороны, следовательно договор можно будет считать недействительным! Да, как видишь, я имею некоторые завязки с дьяволом, я ему даже душу вроде бы продал, — Генрих усмехнулся, — причем могу помочь в этом деле и тебе! — Я должен подумать, — сказал Каро. Думал Каро очень долго, аж до следующего утра. О чем?
Кто его знает… Может, мучился над проблемами греха, а может — придумывал хитрость какую. Как, скажем, глупого дьявола облапошить покруче? Представляю, какие сны ему снились, если он, конечно, вообще спать ложился. Как черный, рогатый, с хвостом вынимает из-за пазухи голеньких грудастых бабенок, демонстрирует и шепчет сладким голосом: «Отдай душу, отдай душу!». Итак, утром Каро заявился к Генриху домой и заявил, что согласен встретиться с нечистым. Но необходимо обсудить некоторые детали. Но об этом он уже будет говорить непосредственно с Сатаной, минуя посредников. А Генриху нужно только свести их.
— Хорошо, сейчас организуем! — обрадовался мой приятель. — Куда отправляемся? — Зачем отправляться? — пожал плечами Генрих, — мы его прямо сюда вызовем. — Что мне для этого надо сделать? — спросил певец. — Встань в угол и не мешайся!
После чего Генрих нарисовал большую пентаграмму посреди комнаты, сел рядом с ней, скрестив под собой ноги и начал что-то там говорить громким, торжественным голосом.
Были ли это кулинарные рецепты тринадцатой империи Дзинь на их родном языке или мой приятель импровизировал — неизвестно, но когда я почувствовал, что процесс мне уже изрядно надоел, то решил откликнуться на зов. Над моей внешностью мы уже изрядно поработали, причем Генрих сработал и за парикмахера (совсем не просто оказалось заставить волосы стоять дыбом — пришлось применить электричество и в таком виде опрыскать специальным лаком…), да еще и черты лица изменял, как считал нужным.
Пострашнее, само собой. Потом и костюмчик подобрал. Короче, я был готов.
Материализовался прямо в центре пентаграммы, предварительно запалив пару кусочков серы под каблуками. — Зачем ты звал меня, жалкий смертный? — сказал я шипящим голосом.
Грозным голосом я говорить бы не смог, потому как давился со смеху. — Этот человек, — Генрих указал на Каро, продолжавшего стоять в углу, как провинившийся мальчик, — хочет заключить с тобой договор. — Прекрасно, — сказал я и жестом фокусника вытащил из рукава свернутую в трубочку бумагу, положил ее на стол, развернул, — не будем терять время.
Здесь готовый типовой договор. Уже все написано и мною подписано. Остается расписаться. — А условия? — спросил ошеломленный Каро. — Все условия записаны, остается вписать желание. — Как, одно? — А ты, что думал, мильон, что ли? — Так обычно бывает три желания, по крайней мере… — Я тебе не джинн какой-нибудь! — продолжал шипеть я, — если тебе нужно три желания — отыщи амфору с джинном, открой, выпусти джинна и — вперед с песнями! А мне некогда с тобой тут возиться…
Или ты подписываешь договор, или больше меня не увидишь! — Ну, а условия? — Знаем мы эти условия! Каждый норовит обмануть бедного черта. Я теперь только сам договора пишу, заранее. Будем сделку заключать? — Да, - промямлил Каро, — но хотя бы одно желание у меня есть? — Говори свое желание, я сам впишу. — Я хочу стать мужчиной, — сказал, заикаясь, Каро. — А ты что, баба, что ли? — Нет, просто у меня кое-чего не хватает. — Разденься и покажи! После чего, напялив очки на свой страшный, горбатый, с бородавками нос, я начал рассматривать оголившегося Каро, приговаривая время от времени «Да-с». Генрих рассказывал потом, что я несколько перестарался, утратил свой грозный вид и стал сильно смахивать то ли на лекаря, то ли на ученого. Впрочем, оценить комизм сцены смог только мой приятель, Каро было не до шуток, он дрожал всем телом, стоя со спущенными панталонами перед самим Сатаною. — Что ж, вполне излечимо, — заключил я, наконец, — вписываем, что требуется антикастрация? Каро долго моргал глазами, потом до него, наконец, дошло, и он кивнул головой. Я вписал что-то в договор и предложил подписать его. Надо отметить решимость парня — он сам спокойно сделал себе надрез, окунул перо прямо в рану и расписался на моем документе. Я тут же свернул его и спрятал. Мне стало вдруг немного жалко объект нашей с Генрихом шутки, ведь для него все это было на полном серьезе. — Выпьешь половину, а другой половиной помажешь, где нужно! — я извлек из другого рукава флакончик и поставил на стол. Зелье мне дал Генрих. Что он туда намешал, я не знаю. Вернее, догадываюсь об одном компоненте, но, пожалуй, лучше промолчу… После этого я встал в центр пятиугольника, погрозил пальцем Генриху и со словами «я еще до тебя доберусь» растворился в воздухе. Материализовался я в соседней комнате и сразу приник к смотровому отверстию. Каро пытался быстро одеться. Генрих подошел между тем к столу, взял флакончик, начал разглядывать, вынул затычку, понюхал, сделал вид, что собирается попробовать. — Не тронь, это мое! — истошно завопил Каро, бросился к Генриху, выхватил флакончик, но, запутавшись при этом в спустившихся до колен панталонах, грохнулся на землю. Успев схватить ртом флакончик, между прочим.
Этакий хваткий паренек! Высосав почти все содержимое, Каро начал с остервенением мазать себя в известном месте, потом немного успокоился. Генрих подошел поближе, наклонился и начал рассматривать у певца между ног. На носу у него уже пребывали те самые очки, которые я позабыл на столе. — Интересно, как быстро они будут отрастать? — спросил Генрих самого себя, наморщив лоб и придав при этом себе голос и осанку ученого мужа.
* * *
По всей видимости, процесс прошел быстро, и уже на следующий день великого тенора видели в кампании сразу троих девиц. На лице у него отражалось прямо-таки райское блаженство. Согласно сообщениям Генриха, устроившего маленькое наблюдение за Каро, он выходил из дома лишь для того, чтобы привести очередную поклонницу. Во, разбаловался! Ну, это была самая скучная часть рассказа. А дальше случилось то, на что и рассчитывал мой злой приятель. Скандал произошел в конце той же недели, в опере.
Догадались? Великий тенор вышел на сцену, открыл рот, захрипел, а потом еще и запел… басом! Что творилось в театре! Точнее, что только не летело в бывшего кумира. Каро моментально оказался весь в моченых яблоках да тухлых яйцах. Дамы визжали, чуть ли не плевались. Хозяин театра тут же, за кулисами, подошел к Каро и объявил, что тот больше никогда не будет петь в его театре… Вернувшись домой, бывший великий тенор обнаружил, что лишился не только славы, но и женщин. Да, да, все его поклонницы прямо-таки испарились. Ведь они любили в нем великого артиста, купались в лучах его славы. А поскольку купаться стало уже не в чем, они отправились искать другой водоем.
Так Каро впервые за эту неделю улегся спать один. На следующее утро к нему явились кредиторы. Этот удивительный народ все чует — стоило распространиться слуху о фиаско Каро в театре, как они тут же кинулись проверять его кредитоспособность. Да еще и оба дома оказались на поверку заложенными, а закладные не выкупленными. Раньше Каро никакого внимания не обращал на свои денежные дела, любые бреши легко закрывались теми суммами, которые первый тенор Европы получал за свои выступления. А сейчас денег не было. Он кинулся, было, к прежним друзьям, покровителям, меценатам. Все двери оказались для него закрытыми. Что было делать? Ведь неожиданно за пару небольших предметов, болтавшихся сейчас между ног, пришлось заплатить утратой славы, денег, положения в обществе. А что он получил? Ведь женщин как не было, так и нет, только по разным причинам. Раньше — потому что он не мог, а теперь уже они не хотят.
Был кумир, да весь вышел. Сейчас он для светских дам — ноль без палочки. Даже на проституток нет денег! И за все это счастье он заплатил еще и своей бессмертной душой…
* * *
Генрих выждал некоторое время, а потом заявился к бывшему великому тенору, а ныне никому не известному басу прямо домой. Прислуги уже не было — по отсутствию денег отсутствовала и прислуга. Генрих ввалился прямо в спальню Каро. В руках мой приятель держал большие ножницы, коими весело пощелкивал. — Я нашел решение всех твоих проблем! — заявил он с ходу. — Как это, что это… — забормотал разбуженный и еще не пришедший в себя Каро. — Все просто, — сказал, лучезарно улыбаясь, Генрих, — раз, и готово! Мгновенная боль, я это очень быстро сделаю. И уже через неделю ты снова будешь петь в опере! — Ты что, предлагаешь мне… — Ну, конечно же, — чуть ли не пропел Генрих и попытался стащить с певца одеяло. При этом он продолжал пощелкивать ножницами, которые уже начали приводить Каро в состояние трепета. — Нет! Нет! — закричал Каро, спрыгнул с кровати и начал прятаться от Генриха по углам, закрывая при этом руками дорогие ему места. Мой злой приятель некоторое время преследовал его, прижимал к стене, щелкал ножницами и уговаривал всячески. Но Каро был тверд в намерении, не смотря ни на что, остаться в полном комплекте. — Так что же, не будем? — спросил, наконец, Генрих. В его голосе явно чувствовалось разочарование, — Ведь для тебя хотел постараться, как другу одолжение сделать! Ошибочку исправить! — Что-то мы раньше в друзьях не хаживали! — рассердился Каро, выхватил из рук Генриха ножницы и наставил их прямо к его горлу. — Ты-ы что де-елаешь? Я же к тебе с до-о-бром! — Генрих вовсю изображал испуг, очень правдоподобно заикаясь. — Не верю я тебе, — сказал Каро зло, — а ну, отвечай, что нечистый еще задумал? Мало ему моей души!
Зачем еще тебя послал? — Никто меня не посылал, я сам, по своей доброй воле… — Не верю я в твою доброту! — и Каро нажал острием ножниц в горло Генриха, — если сейчас же не расскажешь, почему это ты так обо мне печешься, то воткну и посмотрю, какой такой ты бессмертный стал после договора с дьяволом! — Я все расскажу, только отпусти! Каро выпустил Генриха, тот отряхнулся и начал «каяться». — Это грех такой с моей стороны. Все Испания проклятая виновата! — Причем тут Испания? — продолжал сердиться Каро. — Был я в Испании, в Мадриде.
Зашел в одну харчевню. Я любитель, знаешь ли, отведать что-нибудь новенькое, а та харчевня славилась особыми, исключительно специфическими испанскими особыми блюдами. У них бульон, к примеру, так там вообще все плавает, что только на кухне найти можно! И рыба, и мясо, и овощи, и деревяшки какие-то… — Хватит про бульон! — Ладно, ладно, — продолжал Генрих, — заказал я одно блюдо, оно самое дорогое там было, да и название понравилось. Приносят — оказывается это специально протушенные яйца быка. А хозяин еще и говорит, что прямо с корриды…
Мне блюдо это очень понравилось. Я там, в тот момент, с одной симпатичной испаночкой любовь крутил. Гордая такая, нипочем не даст, пока не… Ну да не об этом речь! — Вот именно! — у Каро было зверское лицо. Ведь Генрих опять осмелился наступить на больное место. — Так вот, привожу свою донну в то заведение. Заказываю себе снова то же блюдо. Решил свою брюнеточку удивить.
Приносят мне заказанное блюдо. Смотрю. Что такое? От теленка, что ли, от молочного отрезали?
Зову хозяина. Ругаюсь. А тот мне в ответ — это блюдо специальное, с корриды.
Так и называется — «Ядра с корриды» (Перевод с испанского не совсем удачен.
Звучало почти поэтически). И не всегда там быка побеждают, бывает, что и наоборот, бык в победителях оказывается! — Так это что, из тореадора, что ли? — Ну да. Делать нечего. Пришлось испробовать. И так мне те тушенные тореадоровы яйца понравились, что я рецепт у повара за немалые деньги купил. И все мечтал приготовить, да не из чего было. А тут услышал про твои проблемы с голосом. И решил — тебе, как другу, добро сделаю, да и сам полакомлюсь… Каро стоял в некоторой растерянности. Генрих, воспользовавшись моментом, бросился наутек.
Придумывать следующую забаву. И придумал.
* * *
В тот же день, к вечеру, он вновь завалился к новоиспеченному басу. И начал вновь… — Давай рассуждать, как юристы. Тебе ведь обещана декастрация? Правильно?
А количество раз не оговорено! Таким образом, если сейчас тебя кастрировать, то нечистому, для сохранения статус-кво, придется вновь тебя лечить. Если повторить это пару раз, то он поймет, что проще выделить тебе сразу бочонок эликсира. Я берусь его убедить! — Ага, значит, ты собираешься перед каждым выступлением в опере отрезать мне… — Ну и что же, — пожал плечами Генрих, — чего не вытерпишь ради высокого искусства! — А отрезанные куски моей плоти ты будешь тушить и поедать? — Знаешь, я тут на досуге все обдумал, — Генрих говорил с какой-то явно заинтересованной интонацией, жестикулируя и помахивая указательным пальцем перед лицом Каро, — мы можем открыть заведение, ресторацию такую роскошную, будут крупные деньги. Выручку разделим по-честному, напополам, ну я вообще то хотел шестьдесят процентов… — Я никогда не дам тебе до себя даже дотронуться! Генрих ничего не ответил, изобразил разочарование. Потом попробовал осторожно, с опаской, дотронуться пальцем до Каро и едва уклонился от удара кулаком. — Ладно, ладно, я беру свое предложение обратно! — Так-то лучше будет… — Но, послушай, если не я, найдем женщину с соответствующими наклонностями, купим ей острые ножницы… — начал Генрих, но увидев зверское выражение на лице Каро, умолк.
Потом все-таки продолжил. — Ну, хорошо, найдем женщину без наклонностей, будем ей деньги платить. Назначим яйцерезкой… Это была последняя капля. Пришлось покинуть помещение…
* * *
На следующее утро вновь является Генрих. Уже без ножниц. Будит Каро, садится, как ни в чем не бывало, к нему на постель и заявляет, что придумал, как делу помочь. — Что же ты еще такого придумал? — спрашивает Каро недоверчиво, даже не скрывая ненависти. — Смотри, какую штуку я тебе принес показать! — говорит Генрих и вынимает такой странный механизм, состоящий из таких меленьких железных листочков, приставленных друг к другу. Они образовывали две полосы, между которыми находился подвижный замочек. Это было изобретение одного гениального механика какого-то древнего царства и было предназначено для одежды императрицы.
Та была столь благодарна изобретателю и столь восхищена его умом, что приказала вставить это устройство ему прямо в голову, предварительно распилив череп. Так, чтобы она могла демонстрировать сей великолепный мозг иностранным послам, открывая его одним движением руки. Увы, бедняга почему-то не выжил после этой операции… Генрих между тем продолжал, — Хитрая штука, почти волшебная. Смотри, ведешь замочком с эту сторону — соединяется, в другую — расходятся! — он продемонстрировал действие устройства, — Прямо чудо! — Да, удивительный механизм, — согласился еще ничего не подозревающий Каро. — Мне за эту штуку парижские портные столько бы золота отвалили — вздохнул Генрих, — но долг есть долг, раз уж вовлек тебя в эту историю, надо выручать. Придется пожертвовать этим чудомеханизмом ради тебя (В.К.: Наверное, стоит пояснить, что удивительный механизм, принесенный Генрихом, был хорошо известной в наше время, но совершенно неведомой в XVIII веке молнией). — Не понял! — Каро уже почувствовал подвох. — Ну, чего тут непонятного, — пожал плечами Генрих, — мы твоих круглых друзей на эту штуку приделаем.
Как захочешь по дамам пройтись, раз, Генрих продемонстрировал смыкание металлических змеек, — и все у тебя как надо. А надо в опере спеть, — Генрих скорчил гримасу, открыв и скривив рот, — два! — он повел замочком в другую сторону, размыкая полоски, — и ты снова поешь тенором! — Ты что же, хочешь мне их… пристегнуть этой штукой? — Ага, разве не здорово? — С меня хватит! — воскликнул Каро, вскочил с кровати и выхватил неизвестно откуда шпагу. — Мы что, драться будем, что ли, — удивился Генрих, проворно вытаскивая свою коротенькую, под рост, шпажонку. — Да, и насмерть! — заорал Каро и бросился на моего юного друга, размахивая шпагой. Генрих отбил пару ударов, а потом просто выскочил из комнаты, успев запереть снаружи дверь. — Вернись, трус! — закричал ему вслед Каро. Потом выглянул в окно. Генрих стоял уже на улице. Причем эта рыжая скотина нагло улыбалась. — А ты неплохо фехтуешь, — крикнул Генрих и начал махать шпажонкой, имитируя бой, — советую поступить в армию. Фельдмаршалом станешь, если яйца ядром не оторвет!
* * *
Каро подумал — подумал, и… пошел в армию. А что было делать? Ни денег, ни голоса больше не было, славы — подавно. Сидеть в долговой тюрьме? Армия была наилучшим выходом. К тому же Каро твердо решил умереть мужчиной! Конечно, все уже ожидают грустного рассказа о том, как в первом же бою первое же вражеское ядро оторвало так дорого доставшиеся Каро мужские достоинства? Чего мотаете головой? Известно, что в боевых условиях первый же осколок первого взорвавшегося, все-равно-в-каком-месте снаряда попадает точно в бутыль с медицинским спиртом… Но, нет! Ничего подобного не случилось. Каро сделал удачную карьеру, показал себя неплохим солдатом и офицером.
Умер он через пять лет. Заразившись сифилисом… Думаете, на этом конец? Как бы ни так!
Наш друг Генрих присутствовал на похоронах. Не знаю, каким образом, но перед тем, как крышка гроба была заколочена, он ухитрился вложить в руку не способного теперь к сопротивлению покойника тот самый документ… Вообще, Генрих, как вы поняли, прескверный мальчишка. Для которого ничего святого не существует. И за что только я его так люблю? Итак, продолжим. Куда уж дальше, если героя повествования похоронили? Ну, если ты атеист и не веришь в загробную жизнь, можешь дальше не слушать. Интересно?
Тогда я продолжаю. Скажу сразу, общий настрой у тех, кто проводит так называемый суд на том свете, достаточно веселый. С одной стороны, вникая в житейские дела, по-другому и нельзя, а то с тоски повесишься! Да и чего печалиться, ведь у покойников уже все позади… — Гляди-ка, какая рожа недовольная! — воскликнул пробегавший посыльный, потом остановился и начал рассматривать Каро, — и с бумагой какой-то в руках! Держу пари, что это индульгенция какая-нибудь… — Бумаги, подписанные неофициальными лицами, вроде папы римского, недействительны! — монотонно произнес судья. — Это не индульгенция, это — договор… — растерялся Каро. — Дай посмотреть! — сказал посыльный, выхватил бумагу, прочитал и начал истошно хохотать, потом, не выдержав, сполз на пол, держась за живот. Вот умора! Одно дело, когда шутишь и слегка подкалываешь испуганно озирающиеся души только что прибывших. А тут, представьте, появляется личность с документом, из которого явствует, что данный субъект продал свою душу дьяволу со всеми вытекающими отсюда последствиями. Что тут началось. Собрались все-все. Читали документ, животы надорвали от смеха.
Потом начали пужать сковородками раскаленными да крюками острыми. Каждый стремился внести лепту в это веселье, придумывал свою, оригинальную страшилку.
Одному Каро было не до смеха, он и так шел сюда обречено. А тут еще стал всеобщим посмешищем. Когда веселье поутихло, Каро осведомился, что же тут было смешного. И разве его не собираются отправить в преисподнюю? Тогда судья, собрав все остатки серьезности, объяснил, что преисподняя — это такое, как бы точнее выразиться — лечебно-восстановительное учреждение, предназначенное для лечения тех заблудших душ, которые сами стремятся получить данное лечение. Причем лечение исключительно добровольное. Ведь у людей есть комплекс вины, греха. И помочь справиться с этими переживаниями могут те, кто работает под началом Люци.
В основном, лечение — это беседы, психоанализ как теперь говорят. Как? Дело добровольное? Каро страшно удивился. А ему еще и говорят, что попасть в преисподнюю трудно, просто так туда пускают только в самых тяжелых случаях, остальные ждут своей очереди. А с такими делами, как у Каро, даже на очередь не поставят — не с чем! А документ? Подпись? Ну что же… Если Сам подписал, так и быть, можешь отправляться…
Каро и глазом моргнуть не успел, как его переправили в ад. Там его уже ждали.
Ведь слухи распространяются в момент. Тем более, такие, почти анекдотические.
Как раз на следующий день должен был состояться большой ежегодный бал-карнавал.
Чего греха таить? Каро со своей неуничтожимой бумагой стал гвоздем программы.
Чуть ли не героем.
Часть славы и поздравлений досталась и Генриху, которого приглашали по традиции каждый год на этот карнавал. В конце концов, единственный за всю историю договор с Сатаной был вывешен на самое видное место, дабы в течение последующих веков им могли любоваться все желающие. А над Каро судьба вновь подшутила. В следующем рождении он стал женщиной и родил, вернее — родила, двадцать пять штук детей…
(1997)
Василий Купцов ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ…
— Что за книжку ты читаешь? — спросил старый Нойдак молодого геолога. — «Трудно быть богом» называется, — паренек несколько смутился, — ну, это сказка такая… — Ну и как, трудно быть богом? — спросил старый колдун. — Трудно! — засмеялся геолог, — Но я бы попробовал!
— Правильно! — согласился Нойдак, — Молодым везде у нас дорога! — А старикам — везде у нас почет! — засмеялся парень, — Тебе сколько лет, Нойдак? — Ой, много!
Много лет… — колдун покачал головой и развел руками. — Сто лет будет? — продолжал подтрунивать геолог. — Да поболе! — Да ну? — парень смеялся уже в открытую, — и сколько? — А вот, сколько у тебя пальцев на одной руке, да на другой руке, столько и сотен лет живу! — Ну, ты прямо как Квазимодо, нет, нет, как Калиостро! Вот! Он тоже всем рассказывал, как с Цезарем беседы вел, да Клеопатру целовал! А ты был, дедушка, с Цезарем знаком? — Не, не был… — А Клеопатру целовал? — Нет… — Чего ж ты так? Никак сплоховал? — Ой, сплоховал! — покачал головой Нойдак, — Совсем глупый у тебя голова, парень, Москва учился, а не знаешь, что Цезарь жил четыре руки пальцев сотен лет тому назад, а мне всего то две руки пальцев сотен будет… Как же Нойдак с ним знаком мог быть? — Да? — молодой геолог был несколько обескуражен, ведь старик неожиданно обнаружил некоторые познания в истории. Впрочем, парень быстро нашелся, Ну, а с кем ты знаком был? Наполеона хоть видывал? — На поле он чего делал? Парень непонимающе посмотрел на старого колдуна.
Что-то не так было! Ага, да ведь старый хрыч подловил его на слове.
Оказывается, он не так уж плохо владеет великим да могучим русским языком!
Придуряется, понятное дело… — Ну, лады! А хоть с Иваном Грозным парой слов перекидывался? — Иоанну Васильевичу?
Колдовал, как же, — спокойно сообщил Нойдак. — Да… А еще кому? — Да много кому, всех не упомнишь… Владимиру, тому, что каганом был, колдовал, Александру, того, которого Невским прозвали — тоже… Да я старый уже, не помню уж ничего, — и старик хитро прищурился. — Да, хорошо тебе, — парню и не верилось, и хотелось поверить в эти сказки, — я бы тоже попробовал бы… Ну, вот хоть богом побыть, — взгляд геолога вновь обратился на перечитанную в сотый раз книжку братьев Стругацких. — Нет, богом быть плохо! — неожиданно высказался старый колдун. — А ты что, пробовал? — Ой, пробовал! — И что? — Ой, сплоховал… — А ты расскажи! — А где шайтан-вода? — Да нет у меня никакой шайтанводы! — однако ж, парень уже догадался, чего именно требует старый колдун. — Обманывать плохо! — сказал Нойдак грозно. — Сейчас Нойдак колдовать будет, а горелый вино в стеклянной бутылке с надписью «Столичная» само о себе скажет! — Это как? — молодой геолог даже испугался. — А так! — Нойдак поднял бубен, встряхнул его, затряс, бормоча про себя какие-то тайные слова. Бубен зазвенел в каком-то странном ритме, от которого у молодого геолога мурашки пошли по телу. То, что произошло дальше, можно воспринимать по-разному. И с точки мистической, а можно — и вполне научно объяснить.
Короче, парень услышал вдруг, как заветная бутылка в его рюкзаке начала мелко дрожать и позванивать, как будто откликаясь на зов колдовского бубна старого Нойдака. Дольше паренек не выдержал, вытащил бутылку, и, вздыхая, сорвал пробку.
После того, как большая часть содержимого поллитровки была испита и заедена каким-то местным салом, о происхождении которого лучше было не думать, Нойдак устроился поудобнее и начал свой рассказ…
* * *
Грозный всемогущий Ыгыз был богом древним-предревним, а потому уставшим и злым на весь свет. Но мечты посидеть где-нибудь на бережку речки с печеным барашком в руках и умным собеседником в зубах… или наоборот — да не все ли равно, в конце концов — все эти мечты оставались только мечтами. В самом деле, бросишь свое хозяйство хоть ненадолго, так столько всего сразу накопится — денек отдохнешь, потом век не расхлебаешь.
— А ты найди себе кого-нибудь на подмену, — посоветовал ему его южный сосед Кришнявишня. — А кого? — переспросил Ыгыз. — Может, ты подменишь на недельку? — Да что ты! — замахал руками южанин, — У самого забот полон рот… — А может, свободен кто?
Вон, Буддабарахта все спит и спит, может разбудить? — Нет, опасно! — Что, разгневается? — Да нет, не в том дело, — вздохнул Кришнявишня, — Просто есть мнение, и хоть я с ним не согласен, однако ж, есть вероятность… Короче, говорят, что он спит, а мы все ему на самом деле снимся. И он сам себе снится! — И если его разбудить… — Мало ли чего получится! Так что лучше не рисковать, хотя, как я уже говорил, сам-то я не верю во всю эту чепуху… — Ну, а мне-то что делать? Ты ж говорил — найди себе временную замену? — Ну и найди… Какого-нибудь смертного… — Простой смертный не справится! — Тогда найди мудреца, — пожал плечами Вишнякришня. — Да где в моих краях мудреца-то найти? — вздохнул Ыгыз. — Возьми моего, у меня их полно, все по пещерам сидят, да волосы с ногтями отращивают — силы набираются! — Нет, — решил Ыгыз, — я уж лучше плохонького, да своего! Чужой такого нагородит…
* * *
Недолго думал Ыгыз. Да ведь, по правде говоря, выбирать-то было не из кого.
Короче, старее да мудрее Нойдака все равно в округе никого не было! И явился всемогущий бог Нойдаку, и изложил свое предложение, от которого, сами понимаете, отказаться Нойдаку было никак нельзя. Потому колдун сразу же и согласился. Ну, рассказал Ыгыз ему все — как и что делать, за чем следить, куда смотреть, чем повелевать. А на последок — о самом сложном поведал: — Будут тебя люди просить — сделать то, боженька, сделай се… Ну, ты в меру сил старайся им помогать, а то к другим богам обратятся, да все жертвы мимо нас пойдут! Ну, последние инструкции давал Ыгыз уже скороговоркой — не терпелось в отпуск смыться… Так и остался старый колдун Нойдак за бога. Уселся на небе, свесил ноги с облачка и занялся делами… Все было бы ничего, так бы и управлялся Нойдак со всем хозяйством божественным, да совсем людишки его своими просьбами замучили. Сначала Нойдак еще чего-то там пытался делать, потом уши заткнул и решил не слушать! Но вот, увы, сколько уши не затыкай, а те, кто поближе живет да погромче кричит — все одно слышны… На беду прямо под Нойдаковым облачком устроились жить два соседа, оба земледельцы, труженики. Засеяли они свои поля — один рис посадил, другой, в десяти шагах от него — хлопок. Посадили, да начали, как положено, богу молиться, да разные там мелкие жертвы — на тебе, боже, что мне негоже приносить. Первый богу молитву возносит:
— Великий, всесильный Боже, на тебя вся надежа! Посадил я рис на поле своем, а рису водица надобна, да побольше! Пошли, Боже, дождь, да не один, много дождей пошли, пусть льют они каждый день сплошным потоком, дабы рис мой уродился урожаем обильным, а уж за мной не постоит, и барашка, и козленка в твою честь пожертвую, и идолов твоих по углам своего жилища выставлю, и губы их да будут в масле каждый день… А второй сосед первому как бы подпевает — ведь, как назло, начали они молитву одновременно, и просит, и умоляет… — О Великий и Грозный Бог Небес! К тебе взываю с просьбой моей! Ведомо тебе — а тебе ведь все ведомо — что усадил я свои поля хлопком белым, и жду — не дождусь урожая обильного. Но ведь знаешь ты, Господи, как опасен дождь для хлопка моего! Охрани, Боже, мои поля от ливней, пусть не единая капля дождя да не падет с небес твоих! Пусть будет сушь да зной лето все… И буду я тебе благодарен тогда благодарностью великой, и жертвы тебе вознесу, и барашка, и козлика на алтаре твоем зарежу, и идолы твои омыты кровью жертвенной будут, и хвалу тебе возносить на все четыре стороны света и я, и семья моя весь год будет! Послушал Нойдак одного, только собрался дождь на землю пролить спохватился, выслушал другого, думал зноя подбавить — да вспомнил о первом… Не знает старый колдун, как ему быть. А эти злыдни, те, что внизу, на земле, все молятся и молятся, все просят и просят, да каждый свое.
Нет, чтобы хоть как-то договориться… Заткнул Нойдак уши еще крепче, думает — не, угомонятся, ночь ведь на дворе уже. Какое там — им вроде и спать-то не охота, все свое талдычат! Короче, так и провел Нойдак ночь без сна и отдыха. А потом — еще день работы. Настала следующая ночь. И что вы думаете? А то! Соседи вновь за моленья, у Нойдака голова разламывается, спать хочется, а тут еще проблему с дождем решать. Рука то к дождю тянется, то к зною… И был третий день, и была третья ночь бессонная. А как утро настало, почуял Нойдак, что теперь ему все равно. Не стал он ни дождик вызывать, ни зноя подбавлять, а что-то в злости великой заорал и все на небе попереворачивал. И пошел с неба град — величиной с куриное яйцо — каждая градина. И побил посевы обоим соседям.
Тут уж расстроился Нойдак не на шутку — ведь чего наделал! А тут, на беду, Ыгыз из отпуска возвертается. Ну, думает старый колдун, теперь мне несдобровать…
Но признался во всем честно, рассказал древнему богу, все как было! — Ай, сам я во всем виноват! — покачал головой Ыгыз, — Так все надоело, так отдохнуть хотелось, что и забыл показатьрассказать, где у меня самое важное для божеского дело хранится. Вот, смотри, Нойдак, на будущее будешь знать. Здесь хлопок божественный, им уши на ночь затыкают, а здесь воск им поверх замазывают, и ни одна сволочь своей молитвой не побеспокоит… — Но ведь то, что я послал град — плохо сделал? — Отчего ж плохо? — пожал плечами великий Ыгыз, — Теперь они про все свои глупости забудут и молиться будут, чтобы больше града не было.
А его и не будет — вот я, ничего не делая, им любим да почитаем стану! — Так, значит, и боги иной раз не выдерживают? — догадался Нойдак, — Тоже град… — Если бы град!? — махнул рукой Ыгыз, — Тут иной раз так на все эти моленья осерчаешь…
— И что? — Нойдак в глубине души предчувствовал ответ. — А как ты думаешь, землетрясения да смерчи-ураганы с чего бывают? — и старый бог хитро прищурился, именно так, как прищурился Нойдак, заканчивая этой фразой свой рассказ…
(1999)
Василий Купцов КРАСИВАЯ ВСЕ-ТАКИ ЭТО ШТУКА — СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ!
Старому Нойдаку не спалось. Годы, как никак… Да и было о чем подумать этот новый, двадцатый век принес интересные штучки, вот, вроде этого маленького радиоприемника.
Старый шаман слушал радио и качал головой. Войны, опять войны… Сколько живет Нойдак на этом свете — все одно и то же! Где-то снаружи послышался странный рокочущий звук. «Может Шайтан-птица летит?» — подумал старик. Шум становился все громче. Залаяли собаки… — Гости, никак! — сказал Нойдак самому себе. Понятно, что самому себе, ведь в чуме кроме него никого не было… Но то была не Шайтанптица. Шаман некоторое время с удивлением рассматривал эту небольшую штуку, наделавшую столько шума. «Ага! вспомнил Нойдак, — Да это же Шайтан-нарты!». Про Шайтан-нарты старику уже рассказывали, но сам он ее никогда прежде не видел.
Такие нарты — вроде как обычные, но сзади — такой гудящий и дующий Шайтан, вертится сам собой, крутится… — Эй, папаша, где здесь Нойдак, который колдун? — не торопясь поднять зад с сиденья, спросил нелепо закутанный в меха мужчина лет этак тридцати. — Моя Нойдак, — ответил Нойдак. При встрече с незнакомыми, он обычно сразу начинал играть в «Моя твоя не понимает!». — А я Сергей Палыч, вот! — и, заметив, что данное представление не произвело на старика ровно никакого впечатления, добавил, — понимаешь, браток, я… И незнакомец, сдернув варежку, как-то странно выгнул пальцы на руке, будто стремился обхватить что-то такое, чего на самом деле не было. «Тоже шаман, наверное…» — подумал шаман. — Чум заходи, Сергий Палыч, — пригласил Нойдак незнакомца, подтвердив слова приглашающим жестом руками. — Э, времени нет, дед, — Сергей Палыч слегка выставил вперед нижнюю губу, — дело у меня к тебе! — Нойдак слушает, — конечно, старику не понравилось такое отношение к гостеприимству, — но чуме теплее. — Лады! — согласился мужчина и проследовал вслед за Нойдаком в чум. — Так вота, я сюда по своим делам, мож — тундру вашу куплю, а мож — и не стоит она того… — У кого купишь? — удивился Нойдак. — Э, были бы баксы, а продавец найдется! — осклабился гость, вновь делая магический жест пальцами. — Да не за тем я полтораста камэ к тебе пропахал! Слухай… Бабу я с собой привез, да пообещал ей, еще в столице, что тут Северное сияние такое есть, что не хуже чем по ящику прибалдеть можно. Вот неделю уже здесь, а ваши все это сияние никак не показывают! Меня уже и самого разобрало. А эти гуторят — мол, не сезон. Какое «не сезон».
У меня на одной руке камешков, — мужчина сунул под нос Нойдаку руку, каждый палец, на которой был украшен перстнем с большим блестящим камнем, — что любой сезон купить можно! Я им так и сказал — вот поеду к лучшему колдуну, да куплю Северное сияние. Да и потом, — Сергей Палыч облизнулся, — будет что вспомнить, как расскажу, что Северное сияние покупал, все наши с зависти скикнутся… — Нойдак твоя не понимает, — покачал головой старый шаман, хотя, на самом деле, уже начал понимать, что именно от него хотят. — Я ж тебе русским языком гуторю, вот! — мужчина вновь сунул под нос Нойдаку руку со скрюченными пальцами, — Новый русский я, понятно? — Понятно, понятно, новый — не старый, — закивал Нойдак. — Делай мне Северное сияние дед, я плачу! — Нойдак не будет делать Северный сияние, — покачал головой шаман. — Как это не будет? Я что, зря сюда три часа перся? Меня ж продуло всего… Ты ж колдун? — Колдун, шаман… — Самый старый и мудрый? — Самый старый… — Отчего ж, не можешь, что ли? — Северный сияние делать — дух Северное сияние, Джыз-Быз, вызывать! — Так вызови своего Джыз-Быза! — Джыз-Быз большой жертва надо! — Так давай, жертвуй! Я — плачу! Чего там — оленя, двух оленей? — Джыз-Быз большой жертва надо! — повторил Нойдак, качая головой, Нойдак не будет вызывать Джыз-Быз! — Как это не будет? Будет, будет! — явно подделываясь под чейто голос, передразнил «новый русский», — вот это видал? И Сергей Палыч извлек откуда-то из-под груды напяленных друг на друга меховых одежд небольшое ружьецо. — Нойдак видел, это — наган называется, — Нойдак запнулся, вспоминая недавние события, Чеку и так далее. — А, нет, маузер, маузер большой, наган маленький… — Эк тебя понесло… — даже удивился «новый русский», — Точно — старый ты хрен! — Ой, старый… — покачал головой Нойдак. — Так тебе что, жизнь не дорога? — спросил Сергей Палыч насмешливо и сунул под нос шаману уже не руку, а ствол. — Нойдак старый, Нойдак пожил… — Ах, старый, пожил…
Ладно, тады я для начала твоих собак постреляю, потом — оленей… — Ой, плохой человек, как можно собак стрелять? — А я постреляю! — Ой, не надо… — Тады вызывай своего ДжызБыза, зови, да погромче, пока мой «Глок» голоса не подал, у него он громкий! — Не надо Джыз-Быз… — Выбирай, дед, или Северное сияние, или постреляю твоих лаек! — Ой, что делать? Что делать? — запричитал Нойдак. — Чего делать, чего делать… А подать сюда духа!
И что б с сиянием этим, еж твою…, поторопился, иначе я этого духа… Скажу браткам, они из твоего духа душу вынут! Нойдак взял бубен и нехотя вылез из чума. Сергей Палыч довольно улыбался — в самом деле, уж если он и с думцами, и с администрацией президентской запросто управлялся, ему ли какого-то колдунишку не уломать?! Старый шаман, между тем, взялся за дело. С того момента, как он смирился с неизбежностью сего деяния, наступило спокойствие и даже некоторая деловитость. Возможно, Нойдак просто не думал сейчас о последствиях, стуча в барабан и повторяя заученные на протяжении веков заговоры. Наконец, было названо имя Джыз-Быза. Шаман, назвав заветное имя, замер на месте. Сергею Палычу показалось, что он смотрит кино, а сейчас пленку почемуто остановили. Он даже хотел потрогать — для проверки — замершего в колдовском экстазе Нойдака, но тут случилось это самое. Явился дух. Великий дух Северного сияния ДжызБыз. Некоторые утверждают, что нет природного явления, более прекрасного, нежели Северное сияние. Но если бы эти «некоторые» увидели бы духа-покровителя «самого прекрасного явления природы», они бы прибавили к определению еще и такую строчку:
«но нет чудища более безобразного, чем дух этого сияния…». Едва Сергей Палыч взглянул, запрокинув голову, на лицо духа, как его тут же стошнило. Куда там «чужим» и «хищникам» шварцнеггеровским… Да за такую харю в Голливуде не один миллион баксов отвалили бы!
И лишь подавив приступ тошноты, «новый русский» сообразил, наконец, что чудище, к тому же, еще и весьма велико. Метров пять в высоту, не меньше, и плечи — соответственно. Три ноги, каждая на четырехпалой куриной лапе с кривыми грязными когтями — с бивень слона, не меньше, длиной… — Ты посмел вызвать меня, жалкий старикашка? — пророкотал дух-великан. — Нойдак вызывал, — подтвердил шаман. — Ну, это тебе даром не пройдет! — заявил дух, — Говори, чего звал?
Показать меня, что ли? — Этот русский… Новый русский, — поправился Нойдак, — Он Северный сияние хочет! — Кто много хочет, тот мало получит! — захохотал ДжызБыз, — Хотя… Ты закон знаешь? Чем за Северное сияние платят? — Нойдак знает, — вздохнул шаман. — И согласен? — Согласен, согласен! — не дав ответить Нойдаку, выкрикнул Сергей Палыч. — Ну, так я жду… — и ДжызБыз облизнулся. — Чего хошь — все куплю! — пообещал «новый русский». — Ему человеческий жертва нужен, — вздохнул Нойдак. — Человеческий? — удивился Сергей Палыч и спохватился — Как человеческая? — Таков закон, — вздохнул старый колдун. — Вот именно, таков закон! — подтвердил дух, — Вас тут двое… Так кто их вас жертва? — Он! — взвизгнул Сергей Палыч, указывая на Нойдака. — Пусть я, — вздохнул Нойдак. ДжызБыз взял Нойдака своей безобразной рукой, поднес к трем дыркам, по всей видимости, заменявшим нос.
Понюхал, повертел, попереворачивал. — Вы чего это мне мясо тысячелетнее подсовываете? — спросил дух грозно, Его даже собаки грызть не будут, весь засох и высох!
Третий сорт… Джыз-Быз неожиданно проявил некоторые современные познания.
Нойдак оказался на земле, упал удачно, не расшибся… А чудище уже протягивало лапу к «новому русскому». Сергей Палыч, выхватив «Глок», открыл стрельбу в ДжызБыза. — Ох, какой цыпленочек, — почти ласково молвил дух, заграбастав продолжавшего стрелять «нового русского» огромной ладонью, — ишь, клюется… Какой пухленький, какой жирненький, пташечка ты моя… — и Джыз-Быз попытался пощекотать продолжавшего биться Сергея Палыча уродливым пальцем. — А может, не надо? — спросил Нойдак робко. — Надо, старик, надо! — дух еще немного полюбовался на «нового русского», потом вздохнул. — Я бы еще с ним побаловался, в клети подержал… — и добавил прочувственно, — Вот только голоден больно! С трехметровой высоты слышался визг, летели вниз одежды из драгоценных шкур. Потом раздался жуткий вопль — и тишина. Нойдак не стал смотреть, как Джыз-Быз разделывает «нового русского» подобно жареному цыпленку. Один раз когда-то видывал — и хватит! — Хорошо… — облизнулся дух, — Но мало! Ты… Того, если кто еще захочет Северного сияния, то не стесняйся, приглашай! Кстати, Северное сияние… Все как положено, есть жертва — будет и сияние. Небо вокруг вспыхнуло и занялось разноцветными огнями. А Джыз-Быз исчез, будто его здесь и не было. Нойдак, слегка ошалевший, любовался переливающимися цветами грандиозного небесного явления. Да, Джыз-Быз постарался на славу, такого прекрасного сияния не бывало уже давным-давно…
— Да, красивый штука Северный сияние, — сказал Нойдак самому себе, потом, вздохнув, добавил, — жаль, полюбоваться некому…
(1999)
Василий Купцов РОЖДЕННЫЙ ТОЛСТЫМ ЛЕТАТЬ НЕ СМОЖЕТ!
Что-то долго стояла тишина. К чему бы это? Был бы ребенок маленький, позвал бы я старшего братца да наказал — пойди, мол, посмотри, чем младший занимается, да вели немедленно это дело прекратить! У меня детей нет, но есть воспитанник. Ему уже шестнадцать вот-вот скоро, но беспокойства — не меньше, а гораздо больше, чем от младенца малого. И все случаи, когда мой парень затихал, приводили к немалым беспокойствам да заботам. Хотя, конечно, и я сам не сахар, время от времени люблю почудить… Но, как говорил Юпитер — мне можно, а другим — ни-ни!
Алиган сидел шкафу и читал книжку. По его отсутствующему взгляду можно было заключить, что на этот раз он не просто погрузился в очередной фэнтэзийный мир, он, можно сказать, в нем уже потонул, лежит на дне и пускает пузыри! — Ну и как? — спросил я, намериваясь тем самым вытянуть сознание мальчишки из глубокого омута фантастики. — Почему люди не летают как птицы? — вздохнул Али. — Потому что, в отличие от птиц, многие из них будут какать с высоты прицельно! — Эх, шутки у тебя, а еще наставник, ну чему ты меня научишь только?
— Так сам напросился, а я — дурак — согласился… — Вот и объясняй, насчет того, отчего не летают… — Ты что, милай, Чехова читал? — Нет, Урсулу… — Ле Гуиншу? А там чего? — Да вот колдун, превратился в сокола, ад полетел… — Ну и что? — Так вот я и вздыхаю, отчего я… — Не сокил, чаво не лытаю? — Ага… — ну, дело плохо — раз не подкалывается, придется расшевелить. — Ну, ладно, а тебе какое дело? — В смысле? — удивился Алиган. — Ну, ты спросил, почему, мол, люди не летают, как птицы. А я — какое тебе дело? — Как какое? — Ты ж не человек! — А-а-а… — протянул Али, — Ну и что, я тоже летать хочу! Может, я только о крыльях и мечтаю! — Они тебе помогут не больше, чем страусу! — А я бы все равно полетел!
— Ну, сдвинься еще сантиметров на десять — и полетишь, прямо на пол! — Какие проблемы?
— Алишка «завелся», демонстративно подвинулся, да упал с грохотом прямо на дощатый пол. Раздался треск. Плохо дело — треснула доска. — Ой, что это? — от таких малостей, как падения с двухметровой высоты задницей на доски Али особых неприятных ощущений не испытывает, ад чего с него взять — тролль, хоть и полукровка, а все одно — деревяшка, да и только! — А ты еще летать хотел! Да тебя земля не держит, полы, по крайней мере! Тоже мне, Святогор нашелся! — А вот и полечу! — Не выйдет! — Научусь и летать! — Рожденный… — начал было я. — … ползать, летать… — перебил меня Али насмешливо. — Рожденный толстым летать не сможет! — теперь перебил его уже я сам. — А вот я и не толстый! — обиделся мальчишка. — А это что? — и я ткнул пальцем в его выпирающее брюхо. — Это?
Это… мой пресс! — нашелся Али. — Ладно, ладно! — я насмеялся вдоволь, — Пресс так пресс, отдам тебя на завод, будешь там им работать, большие деньги заимеем.
— Фи, наставник, у тебя шутка угловатая и совсем не смешная! — А у тебя? — У меня — элегантная! — Ну и ладно, лети тогда, делай что хочешь, превращайся в сокола, в пеликана, в какаду, в конце концов… — Да, легко сказать, я еще ни разу не слышал, чтобы тролли обращались в птиц. — Будешь первым… — Да, и вот в книжке, там так описано, как будто автор… — Авторша! — подправил я. — Ну, авторша, вот она как будто сама превращалась в сокола и знает, насколько опасно это превращение, можно так соколом и остаться! Ведь у птиц маленькие мозги… — Ну, тебе-то, с твоими куриными, тут бояться нечего, авось — поумнеешь даже!
Али надулся и выбежал из комнаты. Кажется, я переборщил…
* * *
Вечер, очень поздно. Мы слезли с последней электрички и тащимся по платформе.
Каждый очередной фонарь, к коему мы приближаемся, тут же гаснет. Я лишь качаю головой. Гасить свет — колдовство несложное, Али это умел, кажется, с младенчества.
Фонарики гасит — так это так, почти что автоматически, мимоходом. Или попугать кого хочет. Ничего, идти нам далеко, километров так десять, да все по лесу.
Может, кого и напугаем? Обычно с Али не слишком много хлопот, когда он колдует.
Зато когда он просто хулиганит — тут уж хлопот не оберешься. Хотя самые свои большие хулиганства он уже, скорее всего, исполнил. Как вспомнишь — так вздрогнешь. Ну, начало-то было ничего, терпимое, когда он угнал летающую тарелку. Его можно понять — ребенок, все-таки, ему тогда лишь четырнадцатый год шел. Покататься решил, дело житейское. Но вот когда он средь бела дня эту самую тарелку на тот небосреб, то бишь небоскреб, как его, Эмпайер Стейт Билдинг, кажись… Ну да, вот когда он при свете всех камер ту тарелку на самый большой небоскреб посадил — тут уж было о чем забеспокоиться. Дальше — хуже, ведь мой тролльченок инопланетянином представился, с планеты Гога-Гога из Туманности Андромеды. И начал интервью давать. Он тогда, кстати, идеями зеленых увлекался.
Вот его и понесло. Интервью по телевидению… И так далее. Ну, мы бы его, само собой, вытащили бы, но, тут как на грех, его мамаша в дело вмешалась. Что дальше — лучше не вспоминать, туго моему воспитаннику пришлось! Но это совсем другая история. То ли дело сейчас. Живет себе счастливой жизнью, дачка тут у нас вблизи водохранилища.
Благодать! Живи себе в свое удовольствие, да фонари на столбах от безделья гаси. Да, кстати о фонарях. Али вообще неравнодушен к лампам дневного света.
Помню, как мы в Москву только первый раз приехали, идем себе почти, что по центру. Улица Разина, кажись. Смотрю — надпись горит, глазам не поверил:
«херская». Только потом сообразил, что мой сорванец первые семь букв погасил в слове «парикмахерская». Понятное дело, возраст подростковый. Я тогда лишь посмеялся. А он? Затаился, все ждал удобного момента. И дождался! Остановились мы как-то в гостинице в одной, в славном граде Киеве. Выглядываю я как-то ночью в окно, и что вижу? Ну, по-украински «Мебель», то бишь магазин мебельный, будет «Мебля». Ну, разумеется, постреленок первую букву и заколдовал! Народ собрался у магазина собрался, кто хихикает, кто возмущается. А тут еще иностранцы на иномарках подкатили, выяснять начали, перевод спрашивать. Им объяснили они и поверили, начали автомат искать. Ну, у них там эти самые резинки в автоматах продают… Ладно, ладно, присочинил я, но насчет того, какое слово в ночи горело — истинная правда, можете сами киевлян поспрашивать. Пока я все это вспоминал, прошли мы лесок, никого не напугали и сами не напужались. Тоска, да и только!
Вот и поле, тут всего пара километров до следующего лесочка, может — там чего интересное. — Смотри, наставник, — показывает мне Али пальцем куда-то вперед.
Зрение-то у него ночное не хуже моего. А иногда — и получше, я вот не заметил, а зря. Зрелище было, и впрямь, интересное. Старичок лет эдак восьмидесяти бегал по полю, махая руками и время от времени подскакивая. — Чего это он? Сказылся? — Полететь хочет, — я пожал плечами.
Разве трудно было самому догадаться? — Полетать? — Алишка засмеялся, — да куды ему с грыжей! — Вот на счет грыжи ты зря, — покачал головой я, — и насчет полетать зря смеешься.
— Ой, уморил! Летающий стакан-старикан! — Али хохотал во все горло. В этот момент старичок, после очередного прыжка, как-то замедлился в падении на землю, отчаянно замахал руками и начал постепенно подниматься все выше и выше. Теперь уже можно было не колотить руками по воздуху, движения его рук стали спокойнее, медленнее и, както величавее. Дедуля полетал немного, затем опустился на поле недалеко от нас. — Совсем я стар стал, — вздыхал дед, — вот взлетел метров на сто, чувствую — выше не смогу. — И не страшно Вам? — Алиган говорил теперь с нескрываемым уважением. — Если вниз гляну — страшно становится, сразу снижаться начинаю. Но совсем бояться нельзя — можно упасть и разбиться. — А раньше как, мог повыше взлететь? — Раньше — мог, а теперь стар стал. Так и помру, других не научу! — А что, есть секреты какие? — это уже я заинтересовался. — Ну, как же?!
В любом деле есть свои секреты да тонкости. Казалось бы чего тут хитрого — прыгай, да руками махай… А на самом деле?! Да я сколько других учу — как об стенку горох. Одна только молоденькая, ей еще только седьмой десяток мину, Матвевна, ну, взлетела пару раз.
А больше не хочет — боится. Я, говорит, лучше йогой заниматься буду, не упадешь, по крайней мере… — А в чем же главный секрет? — Главное — это повыше подпрыгнуть! — объяснил дед, — Ну, да я заболтался с вами, спать давно пора, у меня режим. Подъем в семь утра, физзарядка. И никаких ужинов! — А я люблю на ужин яиченку с сальцем, — признался Али. — Потому ты такой толстый! — все мои попытки посадить тролля на диету пока что кончались неудачей. — Яйца это хорошо! — вдруг пустился в объяснения дед, — Но их надо долго варить. Получается бульон их яиц, он полезный, с витаминами, его пить нужно… — Варить как, очистив? — Да нет же, в скорлупе, в ней — главные витамины! И кальций! Я вот все время бульончик от яиц выпиваю, потому в свои восемьдесят пять лет такой здоровый, работаю, да еще и летаю иногда так… Договорив, дед развернулся да отправился домой — наверное, соблюдать режим. А мой паренек прямо-таки раскис на глазах. — Все летают! Даже деды летают. Он ведь даже не волшебник. А я столько волшбы разной знаю, Нет, правда, ну почему — одним можно, а другим нельзя. Я — прирожденный тролль, принц, и — не могу?! Ну, почему? — Тебе надо сбросить вес…
Роковая фраза была сказана. И сказал ее я, всегда считавший себя знатоком фантастики. Что же, и не старуху бывает эта, как ее, ну, беременность, короче…
* * *
Али сидит уже четвертый час за компом. Лазает по каким-то сайтам, причем даже и не порнографическим. У меня свой комп, я тут один текст набиваю, страсть какой интересный, вот отнесу в редакцию, напечатают, все читать будут да дивиться, какой я великий писатель. — Что, новый форум нашел? — лениво интересуюсь, чем занимается тролльченок. — Угу. — Что-то особенное? — Угу. — Закрытый форум, небось? — Ага! — так, проняло, верно, есть чем похвастать. — Сам прошел, по регистрации? — Куда там, меня бы и близко не пустили бы… — Что, туда троллей не пущают? — Да, тут эльфы собираются, и еще маги разные… — И как ты туда пролез? — А, помнишь, я диск в Митино купил — хакерский? — Да, как же, мы там с тобой наблуждались вволю последний раз. Хошь — еще в субботу съездим? — Неплохо было б… Вот, смотри, здесь коллекция паролей на все случаи жизни. Я и подобрал к этому эльфийскому форуму ключик. — И как ты там зарегистрировался, с каким ником? «Мотылек», небось, какой-нибудь? — Не, получше, я там — Дюймовочки-3, - я засмеялся, хотя внутренне ждал чего-то подобного. Для моего толстяка с необъятной талией и жуткой рожицей — самый подходящий ник! — А почему три? — я решил все же уточнить. — Да уже две забито, я — третья… — Ладно, Дюймовочка, пошли лучше купаться! — Ты иди, а я еще посижу, — помотал рогатой головой мой воспитанник, — к вечеру вода теплее будет… — Оправдываешься? Ну, ну… И я пошел купаться один. Кстати, о рожках Али. Ворох волос на его голове, пребывая в сухом состоянии, полностью их закрывает.
Рога, в смысле… А вот стоит понырять, намочить голову — и сразу все видно.
Обычно на пляже сразу смеяться начинают, да спрашивают — где такие рожки продаются? Оно и понятно — сейчас везде лавчонки с разными там приколами — зубами вампирскими, глазами мертвецкими и тому подобное. Конечно, бывали и приключения. Как-то мой паренек заплыл аж на середину водоема, а там компания теплая — девки да парни подвыпившие, на лодочке прогуливались. Али увидели, да дразнить начали. Тот — ответил.
Да на беду рядом проплывал. Его — веслом по спине, да — хохотать, девки — особливо. Али поднырнул под днище, пасть открыл, да дно лодчонки и прокусил. Тото крику было! И чего только потом не рассказывали. И о том, что чудище, типа Лох-Несского, в Пироговском водохранилище завелось, и про русалку, которую забидели, а та — водяному нажаловалась… Ну, и — само собой — о Снежном Человеке, на этот раз — его озерной разновидности. Кстати, вот и Али пожаловал. Задумчивый какой-то, сразу — плюх и поплыл. Не иначе, задумал что-то…
* * *
Ночью я проснулся от ощущения, что чего-то не хватает. Так и есть — не хватало моего парня рогатого… Я вышел во двор, слегка размялся, помахав руками. Потом — пошел кудато вперед, обычно этого бывает достаточно, чтобы найти что-то утерянное или забытое.
Так оно случилось и на этот раз. Едва дойдя до шоссе, я заметил широченную фигуру Алигана. Фигура бегала по шоссе, стремительно набирая скорость. Ага, разогнался, замахал руками, подпрыгнул… Э, нет, милый, так аэробусы не стартуют!
Точно — у Али ничего не вышло, он грузно плюхнулся прямо на асфальт. Потом встал и повторил все заново. «Будем считать, что я ничего не видел» — заявил я самому себе и пошел досыпать…
* * *
На утро я застал Али, заснувшего прямо за компьютером. Из лазерного принтера повылазила куча листов, все они были рассыпаны теперь на полу. Понятное дело — тролль опять забыл поставить переключатель на Хьюлетте вверх, пусть теперь сам и разбирается!
Кстати, а что там, на листочках? Я взял один лист наугад. Сверху название сайта. Ого — действительно, эльфийский. А вот и ссылки, целая куча. Так… Беру другие листочки.
Формулы какие-то колдовские… Увы, я в магии ни бум-бум. Могу, конечно, простейшую защиту поставить, или костер разжечь, но так ведь это — все умеют.
Кстати, да это уже с другого сайта. Непонятно, гоблины, что ли на нем сидят?
Ага, вот и Дюймовочкины — что номер третья — вопросы. И ответы, рекомендации да ссылки. Французский, английский, немецкий… Я все языки эти знаю, токма — читать неохота. И так ясно, что ничего путного здесь не написано.
* * *
Да, подрос парнишка. Упорный стал в своих начинаниях. Цельных трое суток все колдовал и колдовал, все кастрюли мне перепортил, а уж черные коты теперь от него будут за три мили шарахаться — точно! Сам видел, как в результате очень длинного и сложного заклинания мой Алишка приподнялся с циновки (по всей видимости, забытой одним йогом, скоропостижно ушедшего в астрал — прямо при мне, циновку я решил не выбрасывать — вдруг возвернется оттедова, да с меня спросит…) на цельных три сантиметра! Но, увы, это было самое большое достижение. Наконец, спустя эти самые штурмовые три дня, Алиган сдался. Подошел ко мне как бы невзначай, попросил запись последней автогонки, ну там, где Шумахер в ограждение втерся. Понятное дело — решил забыться. — Сначала кастрюли отмой! — Как скажешь, — молвил паренек покорным таким голоском, типа — ну, пожалейте меня, ну — пожалуйста! И в комнатах прибери, и на кухне! — я был непреклонен, но надолго меня не хватило, — Ладно, хошь ночью в дракона превращусь, покатаю? ПВО, правда…
Все-таки Московская область. — Не стоит беспокоиться! — отвечал тролльченок гордо, — Я сам! — Ну, ежели сам, то, как говорится, флаг тебе в руки да перо в…
— Кстати, а ты в дракона превращаешься или воплощаешься? — парня озарила очередная идея. — Вообще-то, это чисто программные изменения на уровне структуры Вселенной… — я попробовал было что-то объяснить. — А как воплощаются? — перебил меня Али. — Это ты у буддистов спроси-расспроси! — тут уж я не выдержал, — Но сначала — уборка и кастрюли. — Да, сэр! — проорал Али, подражая всем западным боевикам, вместе взятым.
* * *
— Эй, принц, о чем задумался? — окликнул я Али. Для тех, кто не знает, сообщаю, он — действительно принц, причем однажды его, связанного по рукам и ногам, даже короновали, но — это совсем другая история. — Называйте меня Черный Принц! — отозвался тролль со значением в голоске (В.К.: к сведению читателей, Черный Принц весьма заметная и уважаемая фигура в «Корчме», о которой идет речь в послесловии «От редакции») — Э, нет, не пойдет, место занято… — Тогда я буду Черный Принц-2! — Ну, до Черного Принца тебе еще дорасти надоть! — А что, я ж не коротышка!? — В смысле — много знать нужно. — А… — в голосе Али было только разочарование. — Так ты чего задумал? Ведь час уже молчишь, чего-то спросить хочешь, ну явно, я же вижу! — А есть ли здесь поблизости буддисты какие-нибудь? — наконец, «раскололся» мой воспитанник. — Есть, а как же… Теперь этого добра по Москве и Московской области как кур недорезанных.
Яблоку некуда упасть — кругом все буддисты, дзен-каратэисты и ангелы-йоги. Или аггелы…
Ну, как из Агни слово такое придумать… — Сведи меня с ними! — А сам? — Ладно…
— Алиган обиделся, — Сам так сам… Ты хоть адресок подскажи! — А вот есть тут поблизости одно местечко, типа храмика. Там даже натуральный буддийский монах имеется, прямо из монастыря Шао-Мяо! — и я описал адрес, ну, сами знаете, пагоду возле Окружной дороги выстроили, да в хламидомонадах желто-говянного цвета вкруг нее толкутся. — Так я схожу?
— Сходи. — Один? — Ты уже большой мальчик! Ну, разумеется, я не мог отказать себе в удовольствии последить за Али. Но и он оказался не прост, приготовил мне сюрприз.
Недаром по сайтам магическим тусовался. Короче — смотрю, сидит поутру Али на постельке, да книжку так внимательно читает. Тихо так, скромно сидит и даже не пукает.
Ну, меня, стрелянного воробья, на мякине не проведешь. Чай, не первую тыщу лет живу, живого пацана от дубля отличить уж как-нибудь сумею. Ладно, думаю, считай — фору получил. Я в сарайчик. Нет БМВ! Ну, думаю, дела, что же мне теперь, на велосипеде его, что ли, догонять? Он хоть и гоночный, а супротив мотоцикла…
Вернулся в дом, смотрю на дубля, читаю имя автора на книжке. Ага, Фрай. Что-то такое мелькнуло в голове, отбираю сию книжку у дубля Алишкиного, читаю. Вот оно!
Тут герои по какому-то Темному пути шастают. А чем мы хуже других? Ничем!
Методика, правда, в книжке не описана, да может и сам Сэр Макс ее не знает, только прикидывается… Ну, а я так допру, по смекалке да интуиции! Смекнул я, что делать надо, прикинул тут же на компе, да ступил — на этот самый Темный путь.
* * *
Ну, как сказать? Опоздал я, или уж очень точно на место прибыл. Собственно, когда я вынырнул практически «из ничего» — да посреди улицы, никто особо даже и внимания не обратил. Все вокруг храмика галдели. А там шум стоял. Главный ШаоМяусский монах что-то такое в полном отрубе причитал, остальные бегали да кричали. Наконец, распахнулась дверь, и оттуда вышел с опущенной головой Алиган.
Народ начал смещаться по направлению прочь. Я приподнял БМВ, сел впереди, завел мотор. Али без слов уселся позади, я поднял мотоцикл на дыбы и помчался прочь… А спустя час, напоив тролля горилкой, я слушал его печальный рассказ. Собственно, начиналось все прекрасно. Доехал, не попав ни в одну пробку. В храм пропустили беспрепятственно. Поговорил с одним, с другим. Подвели к самому главному. Тому самому монаху. Тот, как Али увидел, так и уставился. Потом говорит: — Ты не человек! — Как это не человек? — возразил Алиган, — У нас все в правах равны, почитай Конституцию! — Я вижу, вижу, когда рот открываешь! — Что видишь? — Ты чудовище, я тебя раскусил! — Да неужели? — А ты открой рот пошире! — предложил монах. Ну, мальчишка сдуру пасть и распахнул. А монах, видать, заклинание какоето знал, чтобы морок снимать. Ну, и снял — себе на беду. Расскажу, для тех, кто с моим парнем не знаком. Все дело в том, что у Алигана пасть внутри гораздо больше, чем снаружи. Ну, типа свернутого пространства. Зубы у него огромадные, с мой большой палец каждый, да еще и в три ряда расположены. Ну, обычно Алишка свой ротик простеньким заклинанием маскирует. А тут — попал «как кур во щи»! — Ракшас! Страшный ракшас! — заорал бравый монах и встал в стойку куратистскодзюмудистскую. Кругом народ в испуге бегает, кричит что-то типа: — Что же делать? Что же делать? — Всем покинуть помещение храма… Во имя Будды! — приказывает монах, да сам — первым, пример и показывает. Короче, бежал он первым, все встречные двери перед собой ударами рук и ног распахивая, да «Ий-я» приговаривая… Видно, большой мастер восточных единоборств он был, все-таки. Вот и пригодились — навыки-то!
* * *
— Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи? — спросил я Алигана. — Ты это к чему?
— Может, хватит, того — с полетами? — Нет, не хватит! — Но ведь с волшбой все равно не получается, в буддистские монахи тебя не принимают, за Дюймовочку при очной встрече — что 20 июня — тоже вряд ли сойдешь… — Ничего, я еще книжки почитаю! — Почитай, почитай, только сначала дубля своего убери! — Да я уже убрал. — Куда? — В шкаф. — А ежели кто придет, дама какая слабонервная, откроет шкап, а там — зомби скалится? — А ты слабонервных не приводи! — Хорошо, буду сначала спрашивать, типа — а были у Вас в роду страдающие нервными заболеваниями да сердечными приступами? — У О'Генри не так. — А я это сам придумал! — Ага, придумал… — не поверил мне Али, — Когда по телеку «Вождя краснокожих» каждые три месяца показывают! — Ладно, замнем, — я решил сдаться, — а что ты еще в книжках найти хочешь? — Помнишь, ты говорил о том, чтобы вес снизить, да посмеивался?
Это откуда. — Герберт Уэллс, «Правда о Пайкрафте», — блеснул я эрудицией — как всегда, на свою беду!
* * *
— Но здесь же нет конкретного рецепта! — воскликнул Али, потрясая томиком Уэллса.
Кажется, вторым из пятнадцатитомного сочинения. — Во-первых, там есть ценные указания… — На счет того, чтобы все компоненты были поотвратительней, яйца — так тухлые… — Ага… — Ну, а во-вторых? — А во-вторых, там содержится ценное предупреждение для толстяков — не ходите дети, в Африку гулять! — Ничего, я знаю, что делаю… — А я пока не знаю! Ты чего, хочешь невесомым стать? А как потом летать будешь? Это только в сказках Карлссоны с моторчиками бывают, а в натуре к электромоторчику еще аккумулятор тяжеленный приложен должон быть. Ведь ты не собираешься становиться Карлссоном с двигателем внутреннего сгорания, или, того паче — с дизелем? — Во-первых, я не собираюсь становиться полностью невесомым, я точно отмеряю дозу волшебного средства, вовторых… — Ты свое вовторых начал, а мне не дал договорить — мое, в-третьих… — Ну, договаривай! — Положи Уэллса на место, между первым и вторым томом, да поровней!
Тролль покорно поплелся к книжному шкафу. Но вложил томик кое-как, мне пришлось сразу же подправлять. — Скучный ты, наставник, поровней тебе… — А тебя повеселить, что ли? Хошь, боевой гопак станцую? — Лучше скажи, где рецепт, такой, как у бабушки автора, достать? — Так то же вы-дум-ки, фан-та-зия автора!
— Я так не думаю, — Али надулся, — у меня такое впечатление, что все это написано не на пустом месте, автор действительно… — Ну, милок, и ты туда же?
Помнится, как-то в тридцатые годы в Америке сделали радиопостановку «Войны миров», так такая паника по всем штатам началась! Думали — и впрямь марсиане прилетели Землю завоевывать… В этом смысле Уэллс — человек известный, выдумает так, что все верят… — Ага, выдумки… Он вон — в «Освобожденном мире» атомные бомбы описал, а насчет того, когда первую атомную электростанцию построят, так всего на год ошибся, а писал — за полвека! — Неужто ты этот роман прочел? — По правде говоря… Нет… — толстячок смутился, — Но я статью про это читал! — Раз уж ты такой умный да начитанный, то и ищи сам этот рецепт. У тебя ведь теперь много друзейколдунов завелось на всех этих сайтах… — Да… - молвил тролль как-то огорченно. — Что такое? — Да доступ вырубили… — Почуяли чего? — Не, разругался, меня — и того… — А ты через удаленный сервер пробовал? — Как это? — Да так… И я полез за компьютер. Али схватил идею, что называется, «на лету», вновь вышел на свой магический сайт, а я, позевав, пошел вертеть спутниковую антенну.
* * *
Алиган что-то такое творил на кухне. Вновь перепачканы кастрюли, везде лежали дохлые жабы, замученные змеи да скорлупки от яиц, издающие характерный запах сероводорода. — Про гремучих змей я не спрашиваю, но вот ответь, где ты достал тухлые яйца? — Так на рынке, там все яйца — тухлые! — Ладно, верю… Тем более, я слышал, есть одно племя, где считают свежие яйца — несъедобные, их в пищу употреблять нельзя, а вот когда протухнут — так самое оно! — Целиком и полностью согласен! — парировал Али.
Лексики он от меня понахватался, спору нет. — А ты в рецепте ничего не перепутал? — Не мешай, наставник… И, вообще, шел бы ты куда в баню! — Ну вот, из собственного дома гонят… — усмехнулся я, потом прикинул, что мысль про баню не столь уж плоха…
* * *
Кстати, о рассказе Герберта Уэллса. Так сказать, краткое содержание для тех, кто не читал. Жил-был один толстяк, по имени Пайкрафт, и очень он хотел — как впрочем и сейчас хотят все брюхоносцы — похудеть. Чего только не попробовал, пока не упросил автора того рассказа дать ему древний рецепт, из каких-то Индий Заморских привезенный.
В коем значилось — что он «для облегченья веса». Попробовал толстячок колдовского зелья, вроде полегче стало, взял — да и выпил все. А рецепт-то, оказалось, не для похудания был, а чтобы силу тяготенья на данном человечке приуменьшить. Короче — совсем бедняга вес потерял. Далее в рассказе описывались злоключения Пайкрафта, о том, как он налаживал быт, шествуя по квартире с различными тяжелыми предметами. А кончилось все просто — придумали ему свинцовые утяжелители в одежду (по автору — «свинцовые подштанники» весьма забавно, да и от радиации — заодно…), и стал вести толстопуз прежнюю жизнь, объедаясь во всех обжираловках, и никто не подозревал, что на самом деле этот толстяк ничего не весит…
* * *
Напарившись всласть, я попил пивка, не спеша, и вернулся на кухню посмотреть, как там дела у тролльченка. На кухне Али не было. Начал обследовать комнаты, дивясь неожиданно наступившей тишине. Так и есть. Своего воспитанника я нашел в спальне…
Под потолком! — Так… Понятно… — я не спешил, уселся на койку, сложил ладони трубочками и начал разглядывать Али как в подзорную трубу, — Вижу, наблюдаю…
Тролль насуплено молчал, ворочаясь вблизи люстры. Весь тренировочный костюм уже был в известке, на что безответственный мальчишка не обращал ни малейшего внимания. — Так, значит, знаешь меру? «Я знаю, что я делаю!» — передразнил я тролля, вспоминая забавный сериал про «Кувалду». — Дай лучше что-нибудь тяжелое, может — свинец какой-нибудь, — попросил Алиган. — Ага, Уэллса начитался, свинцовых подштанников захотел? Иногда я бываю жесток. Вернулся я уже не с «чемнибудь» тяжелым, как ожидал в тщетных надеждах Али, а с длинной веревкой, на конце которой мои руки уже изготовляли петлю. — Это… что? — А то! И я накинул петлю на тролля, повернулся и двинулся из комнаты. Алиган еще не совсем осознал, что происходит. Опомнился он только на дворе, внезапно осознав всю глупость своего положения. Счастье его, что стояла ночь и никто не видел… А я гордо шагал по дороге, держа в руках веревку. Веревка устремлялась вверх, и там, на высоте трех метров, висел, подобно странному воздушному шарику, мой юный тролль. — Ты что, так и будешь ходить? — Да, а что? У меня, может, не было счастливого детства, как у нынешней детворы, шариков тогда не было и подавно. Вот я теперь и поиграюсь! — А мне что делать?
— Али был близок к тому, чтобы разрыдаться. — А ты повторяй: «Я тучка, тучка, тучка, а вовсе не ведмедь, и как приятно тучке по небу лететь!». Кстати, пчел не обещаю, но вот одно осиное гнездо я давненько заприметил… — А я вот, на тебя сверху… — и тролльченок потянулся было к молнии на штанах. — Ну, тады я веревочку отпущу! — усмехнулся я, наблюдая, как мгновенно отдернулась его рука, замыслившая было эдакое хулиганство. — Давай домой, ну, пожалуйста… — попросил он. — А куды спешить? После знойного дня прохладу впитываю я… Да, вот такой я плохой и жестокий! Еще пару часов прогулки с живым воздушным шариком должны были дать необходимый воспитательный эффект!
* * *
Самое гнусное заключалось в том, что мы не смогли расколдоваться — так сразу.
Я привязал Али к креслу, он просидел пять часов в подряд в интернете и ничего не нашел. Я звонил всем своим знакомым. Тот колдун, которому я верю больше всех, популярно объяснил мне, что расколдовать в таких сложных случаях может только тот, кто сие волшебство сотворил. — Ты понял? Вот сам себя и расколдовывай! — и я пересказал парню неприличную сказку про дурака — из сборника Афанасьева, что было не совсем педагогично с моей стороны… — А, может, кого другого попросить? — додумался, наконец, Али, — Ну, не человека… Другого тролля, старого? — Где ж я тебе, милай, посреди великорусской равнины тролля найду? — А я слыхал, что есть…
Ну, навроде… — Чертики, что ли? — Лешими зовут… — А ну тебя… к лешему! — усмехнулся я, почуяв, что решение найдено.
* * *
Конечно, найти лешего в лесах Московской области непросто. Короче, пришлось ехать во Владимирскую. Сначала на электричке два часа с гаком, потом еще долгопредолго плестись пешком. Наконец, искомая чаща была достигнута. Али чувствовал себя, как рыба в воде, а когда навстречу начали попадаться заговоренные коряги, то и вовсе расцвел от удовольствия. — Почему ты раньше сюда меня не водил? — Да в голову не приходило… Что, нравится? — Спрашиваешь! Старика лешего я отыскал под старым пнем. Хорошо так спрятался, не будь у меня многовекового опыта — ни за что бы не сыскал! Но я-то вижу, где сучок, где веточка, а где ручонка старческая, где мох, а где — ушки мхом поросшие… — Выходи, дед! — Не выйду. — Выходи, не обижу! — А обманешь? — Когда это я обманывал? — Все равно не выйду, мне и здесь хорошо, — упирался старый лешак. — Выходи, дело есть. — Надо чаво? — Надо. — За спасиба? — Не, я и намазать принес. — Мед с сахарой, с магазина? — Сотовый, — я знал, что к чему. — А еще чаво? — Еще — шишек! — Эка невидаль… — Кедровых! — Ась? — Мешок! Подействовало. Старичок выполз из-под пня и начал деловито перебирать кедровые шишки. Потом уставился на Алигана. — А это еще что за чудо-юдо? — Тоже леший, только с дальних земель, — представил я своего воспитанника. — Дикий он какой-то… — Так в городе рос да воспитывался… — попытался я оправдаться. — Оно и видно… Алиган насупился, но огрызаться не стал.
— Ишь, сопит, чудо заморское, — прошамкал лешак, — не учен, небось, ничему? — Да нет, кое-чего знает, вот заколдовал сам себя, а теперь расколдоваться не может…
— Эт я и сам вижу, волшба тут человечья, не лесная, она нашему брату, даже заморскому да заморенному такому — все одно — не подходит. — Помогай дед…
Расколдуешь? — Да, помогите мне, дедушка леший, а я больше человечьей волшбой заниматься не стану! — подал голос, наконец, и Али. — Ну, мне тебя расколдовать, что два пальца обо… — Так давай, скорей! — Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, — прошамкал дед, потом повернулся ко мне, — оставь мальчонку мне на недельку, потом забирай, коли захочет!
* * *
Через неделю Али возвращаться отказался. Как его расколдовывал старый леший, да учил чему — тоже промолчал. И попросил оставить до конца лета. Что же, оно и к лучшему.
Я всегда считал, что летом детям надо жить на природе, подальше от городской пыли. А сейчас приятное с полезным сочеталось — старичок-то Алишку учить взялся, так о лучшем и мечтать не приходится. 30 августа я забрал своего совсем облешавшегося тролля домой.
Дед не возражал, кажется, они договорились продолжить обучение следующим летом. — Ну, как, соскучился по мне? — спросил я воспитанника. — По тебе? Еще чего! Вот по компьютеру, да по интернету — это да… Очень соскучился!
(1999)
О'Сполох АЙШУКИ
Внимание ученых привлекла разумная цивилизация, обитающая на планете Ферсида (звезда Глория, созвездие Скорпион). Должен сказать, что планетной системе Скорпиона удивительно повезло, вернее, повезло нам, землянам, в смысле контакта: разумные существа на этих планетах все вида «хомо сапиенс», только на Ириде — кентавры, но это тоже — терпимо. Примерно одинаковым оказался уровень цивилизаций скорпионян и землян, что также играло немаловажную роль для разумного диалога. Но Ферсида…
Ферсида — загадка! Одна из самых невзрачных планет, — и вдруг такой невиданный, неслыханный подъем! Нас, землян, и всех остальных скорпионян они обогнали веков на семь. Не случайно, хотя, в общем-то, случайно, именно ферсидяне обнаружили Землю.
Месяц назад на межпланетном корабле «Прогресс XV», обследовавшем задворки солнечной системы, произошла авария. Судно потеряло управление, наших отнесло к системе Альфа-Центавры, где его и подцепил звездолет ферсидян. Этим же звездолетом «Прогресс XV» и был доставлен на Землю 11 июля 2058 года, произведя немалый переполох на планете. Впервые прилетели к нам! Обычно мы обнаруживали других.
Достаточно сказать, что там давным-давно, я имею в виду Ферсиду, все делают роботы; и, не выходя из амлака (так местные жители называют свои дома-особняки), можно связаться с любой точкой цивилизованной Вселенной. Мы, увы, были недостаточно цивилизованны, к счастью, теперь это не так. Но поразило меня не это: ферсидяне очень красивы, здоровы, живут по 500–600 лет и самое главное — у них, по наблюдениям очевидцев, необыкновенно дружные семьи. Никто никогда не слышал, чтобы жена возразила мужу, а муж жене. Я, как социолог, очень заинтересовался таким явлением: все известные мне планеты, населенные двуполыми цивилизациями, по достижении определенного уровня развития, их раздирают половые противоречия — идет не прекращающаяся борьба за доминирование одного пола над другим. С повышением уровня цивилизации их противоборство не только не затухает, но разгорается с новой силой: начинают образовываться целые города, населенные одними женщинами или мужчинами; известны даже войны, среди них несколько ядерных, между государствами амазонок и женоненавистников. Как же ферсидянам удается удерживать равновесие на таких точнейших весах? Решено. Вылетаю. Полтора часа просидел в приемной по инопланетным контактам. Наконец, все формальности позади, документы подписаны.
Ферсидянский звездолет (нашим звездолетам расстояние Земля — Ферсида пока не по зубам, им понадобилось бы лет двадцать) еженедельно курсировал между планетами, доставляя пассажиров туда и обратно. В салоне меня встретила очаровательная ферсидянка. Туземцы, как я уже сказал, очень красивые люди: голубоватый оттенок кожи, иссиня-черные волосы взбегают вверх, словно языки пламени, талия высоко посажена, длинные стройные ноги. Говорят необычайно приятным бархатным голосом, смеются почти беззвучно. Со времени установления контакта мужчины-земляне просто помешаны на ферсидянках: куда до них нашим земным закорючкам! Блеснув ослепительной улыбкой, обнажившей коралловые зубки, она жестом пригласила пройти в салон.
Через неделю я был уже на Ферсиде. С космодрома, наняв обурон, что-то типа такси на воздушной подушке, направился к зданию в виде усеченного конуса институту социологических проблем. В институте, коротко представившись, запросил кого-нибудь сведущего по «своей теме». Им оказался некто Коуж, он у них вроде доктора социологических наук, и к тому же успел изучить несколько земных языков, в том числе русский. — Вас заинтересовали наши семейные отношения? — произнес доктор с едва заметным акцентом.
Я молча кивнул и добавил, едва оправившись от удивления (никак не ожидал услышать здесь такой чистой русской речи. Ну и темпы у них!):
— Да, и еще меня интересует: не существует ли связи между небывалым техническим уровнем вашей планеты, совершенством самих людей и образцовыми отношениями в семье?
— О да! Разумеется! Самая прямая и непосредственная… Вы, однако, очень умный землянин, — голубая борода моего коллеги заколыхалась от беззвучного смеха.
— Я слышал, что у вас необыкновенно дружные семьи, и даже понятия нет, что такое измена: мужья не изменяют женам, жены не изменяют мужьям. Так ли это?
— Совершенно так. На нашей Ферсиде семьи дружные, образцовые. Измена считается таким же отжившим… — тут он пощелкал пальцами и нахмурил лоб, подбирая в памяти земной аналог для выражения мысли — …вандализмом прошлых веков, как убийство, садизм, насилия, половые извращения…
— Но как? Каким образом? Ведь ваши соседи…
— Наши соседи? — опять беззвучно рассмеялся Коуж. — Не стану Вас утомлять, тем более что время дорого и вам, и мне. Пройдемте!
Я двинулся следом, и вскоре он привел меня в некое подобие зоопарка, где в клетках сидели огромные рептилии отвратительного вида, отдаленно напоминающие наших питонов, но с множеством маленьких ножек.
— Вот животное, которое у нас чуть ли не обожествляют. Знакомьтесь: айшук. Оно сыграло немаловажную роль в развитии нашего общества. Да-да! Не удивляйтесь! — эмоциональным возгласом он подавил мой взгляд, в котором угадывалось стремление задать очевидный вопрос. — Вот его краткая история: айшуки всегда были травоядными животными — обратите внимание на их огромные челюсти с плоскими зубами, — и представляли собой излюбленное лакомство многих хищников.
Особенно опасными были шестилапые ахияры и восьмилапые асьмияры. Они буквально истребляли айшуков. В результате борьбы айшуки приобрели удивительное свойство.
Они выработали не известный нигде во Вселенной способ уничтожения врагов.
Разделившись в процессе эволюции на два вида: фигус и грушес, полностью избавились от хищников.
Айшуки, разумеется, передвигались чрезвычайно медленно и бегать не могли, о том, чтобы сражаться с хищниками, не могло быть и речи. Но вот ночью они неслышно подкрадывались к спящему хищнику и заглатывали его. Хищник в желудке находился в состоянии анабиоза и подвергался гормональному воздействию, изменяющему его пол.
Через девять месяцев айшук выплевывал хищника противоположного пола. Превратив всех хищников в особей одного пола, они способствовали вымиранию данного вида.
Фигус превратили всех ахияров в самок, а грушес — всех асьмияров в самцов и расправились с ними в два счета. — Свое ценное свойство, — продолжал Коуж, — айшуки сохранили до наших дней. Сейчас Вы узнаете, почему «ценное», — он опять подавил мой взгляд. Когда население нашей планеты достигло определенного уровня цивилизации и женщины получили одинаковые права с мужчинами, начались всяческие безобразия: с одной стороны, женщины забросили все домашние дела, лезли в артистки, ученые, отравляя ссорами жизнь своим мужьям и детям. Дошло до того, что женщины не хотели не только воспитывать детей, но даже и рожать их. Наша цивилизация вымерла бы, не изобрети Тоурей машины, вынашивающей ребенка. С другой стороны и мужчины забросили свои мужские обязанности, и также не хотели воспитывать детей, поскольку не верили своим равноправным женам и думали, что это дети, рожденные от любовников.
Мужчины начали изобретать искусственных женщин — таких, чтобы, имея все признаки возлюбленных, они не могли качать права. Женщины принялись изобретать искусственных мужчин, дискриминируя настоящих, — уже стали образовываться государства амазонок и женоненавистников, а цивилизация катилась к ядерной катастрофе. И тут одного из наших крупнейших зоологов осенило: использовать айшуков.
Собрались наиболее разумные люди планеты, сумевшие подняться над интересами пола, принялись отлавливать амазонок и бросать их к айшукам грушес.
Женоненавистников, соответственно — к айшукам фигус. Идея была такова: «Да познают они все «прелести» проблем чуждого пола!» Результаты превзошли все ожидания. Через девять месяцев из амазонок получались благоговеющие перед женщинами мужчины, а из женоненавистников угодливейшие и предупредительнейшие жены, образец верности и порядочности. В короткий срок на планете был наведен порядок, воцарились мир и спокойствие. Верные, дружные супруги, порядок в семье, ухоженные дети, любящие друг друга родители, — что ни говори, а семья ячейка общества, — вот и получилось очень жизнеспособное общество. Все это позволило нам обогнать на несколько веков соседние цивилизации и стать такими жизнестойкими, красивыми: дети, рождающиеся в семьях, где нет скандалов, где мать и отец нервно здоровы, во многом превосходят детей, рожденных в обычных семьях.
Я был потрясен. Кто бы мог подумать! — Айшуков мы держим до сих пор. Как только появляется амазонка или женоненавистник — сразу в клетку: девять месяцев, и нет проблем. Правда, есть одна трудность: приходится следить, чтобы число превращенных женщин и мужчин было примерно равно, в противном случае появится много бессемейных. Но, к счастью, так как распри — процесс взаимный, женоненавистников и амазонок примерно одинаковое количество.
— Простите, а почему же соседи не воспользуются таким способом?
— Ах, соседи, — он иронически улыбнулся. — Дело в том, что соседи наши дышат кто азотом, кто водородом, а живые существа Ферсиды, как, кстати, и вашей планеты — кислородом.
— Значит, вашим соседям грозят ядерные войны?
— Нет, почему же… Сейчас ведутся работы по акклиматизации айшуков.
— Но пока соседние цивилизации беспомощны?
— Не совсем. Мы контролируем жизнь на других планетах в этом смысле. Видите ли, в отличие от айшуков, соседних наших инопланетян довольно быстро можно акклиматизировать к кислороду. Но после превращения, они, как правило, хотят вернуться на свою планету и их приходится акклиматизировать снова. Процесс этот дорогостоящий, и мы пользуемся им только в крайних случаях — превращаем наиболее агрессивных инопланетян. Тут наше внимание привлекла группа мужчин-ферсидян, тащивших отчаянно упиравшуюся оранжевую самку. Она неистово пищала.
— Вам повезло. Сейчас будут превращать амазонку с Псехатры.
Возьмите переводчика, я захватил его на случай, если забуду что-нибудь порусски. Он сунул мне наушники, которые я тут же нацепил:
— Не хочу! Не трогайте меня! Прочь руки, хамье! Ненавижу мужчин! — кричала женщина.
— Ничего, ничего, — пробасил один из тащивших ее. — Хлебнешь нашего другое запоешь!
— Пустите! Да как вы сме… — ноги кричавшей исчезли в необъятной пасти айшука, и тот с довольным видом разлегся, зажмурив глаза.
— Дорогой друг! — вывел меня из оцепенения голос Коужа. — Мы вам наглядно продемонстрировали, как надо избавляться от проблем. Если айшуки потребуются на Земле, обращайтесь в посольство через нашего представителя Ойруна.
Владимир Егоров КОНЕЦ ЗАКЛЯТИЯ
По субботам я обычно приходил к Вадиму выпить душистого чая и поговорить о высоких материях. Трудно сказать, что меня привлекало больше, чай или возможность всерьез поспорить на темы, которые обычно обсуждаются с целью убить время или продемонстрировать собственную эрудицию. Чай был ароматен и вкусен, а мой собеседник умел хорошо говорить и внимательно слушать. Горячий напиток располагал ко вдумчивости и спокойствию, мне не свойственным и так желанным — наверное, это и заставляло, бросив накопившиеся к концу недели дела, совершать пеший переход в соседний квартал, где жил мой старинный друг.
Так или иначе, но традиция всегда значила для меня многое. Не собирался я отказываться от удовольствия попить чайку и в этот раз. На улице, однако, шел ливень, и Вадим, отвечая на мой предварительный звонок, предложил приготовить к моему появлению чай с коньяком. Подумав, я согласился, хотя обычно воздерживался от спиртного в любой форме, поскольку быстро хмелел и становился непереносим. К моему приходу все уже было готово для начала торжественного ритуала. Вадим — большой специалист по чаю, он редко повторялся в своем искусстве, разве что по чьейнибудь просьбе. Сегодня мой приятель решил приготовить божественный напиток пояпонски. Получилось нечто невообразимое.
Зеленый чай с марочным французским коньяком, консистенции сливок и взбитый, как сливки, специальным помазком. Аромат проник в меня еще при входе, а когда началась дегустация… Пригубив третью чашечку, я почувствовал себя, по меньшей мере, Бодхисаттвой. Тема разговора оказалась под стать напитку — свобода воли. Я по обыкновению беззлобно поддразнивал Вадима, периодически сбиваясь на собственные философские монологи, он же отвечал мне с тонкой иронией, под которой умело маскировал свои истинные симпатии и антипатии. Но в этот вечер спор разгорелся не на шутку.
— Понимаешь ли, Вадим, — сказал я, в очередной раз протягивая руку к высокому чайнику китайского фарфора, — Самым весомым аргументом в пользу собственной свободы воли я считаю уже один тот факт, что я задумался о ней, об этой самой свободе. Декарт утверждал, что существует, поскольку мыслит. Я же беру выше — я свободен, поскольку мыслю, в частности, мыслю об этой самой свободе. Вообще, если я могу вообразить себе некоторое состояние своей личности — а в данном случае еще как могу, ведь в нем, в этом состоянии, и нахожусь, — если я придумал для него специальный термин — значит, это состояние мне присуще. По крайней мере, потенциально. И, кстати, наоборот — я никогда не достигну того, о чем не имею никакого понятия, хотя бы уже потому, что не буду знать, чего достигать. Ну, что ты на это скажешь?
Вадим выслушал мою демагогию с присущим ему спокойствием и ответил, по обыкновению, совсем не так, как я себе представлял.
— Хотел бы я быть уверен, что о собственной свободе рассуждаешь именно ты, — сказал он, пригубив крохотную пиалу, покрытую экзотическим узором, — А скажем, не твой двойник в зеркале. Ведь если ты не сможешь этого доказать, твои рассуждения потеряют смысл.
— То есть? Могу ли я доказать уникальность своего «Я»?
— Не совсем. Я просто хочу предложить тебе рассмотреть, такую ситуацию: есть некий «истинный Ты», а есть «Ты ложный», или, точнее, «Ты вторичный», всегда и во всем повторяющий поведение «Тебя истинного». Так вот, этот «Вторичный» будет так же рассуждать вслед за «Тобой настоящим» о свободе воли и так же обращаться к своим мыслям об этой свободе. С точки зрения стороннего наблюдателя его рассуждения ничем не хуже твоих собственных.
— Ну, во-первых, это технически невозможно…
— Разве это имеет значение?
— …Имеет, имеет, в квантовой же механике постулируют принципиальные технические невозможности. Да и потом, есть же все-таки фактор времени, «двойник» будет все делать с опозданием по отношению к оригиналу… Все нормально! Идея свободы воли подразумевает неопределенность будущего, или хотя бы его пластичность, изменчивость… Поэтому «двойник» будет отставать от событий и попадать в неловкое положение… Через какое-то время я вконец запутался, сбившись на невнятное бормотание себе под нос. Вадим спокойно наблюдал за мной из своего любимого темного угла, комфортно расположившись в необъятном кресле с высоченной спинкой, и едва заметно улыбался.
На коленях у него дремал столь же улыбчивый огромный рыжий кот Васисуалий.
Капелька чудодейственного напитка сорвалась с Вадимовой чашки, но не упала на пол, а медленно заскользила вниз по кошачьему усу. Усилием воли я сбросил с себя наваждение:
— Короче!
Твой «двойник» только тогда будет что-то доказывать, когда ты поселишь его в двойнике нашего мира. Вообще, откуда ты взял эту идею — из «Хроник Амбера»? Вадим вдруг неуловимо напрягся.
— Нет… Есть такая книга, «Энциклопедия вымышленных существ» Борхеса, ты ее читал, наверное?
— Да, ну и что?
— Помнишь там новеллу о зеркальных существах?
— Ну да, когда-то зеркала были дверьми в другой мир, потом зеркальные существа напали на нас, но Желтый Император наложил на них заклятие, и двери закрылись, хотя остались прозрачными, а зеркальные существа обречены на веки вечные повторять наши образы и поведение. Ну?
— Одна оговорка — не на веки вечные. Заклятие через какое-то время кончится, зеркальные существа очнутся и на этот раз победят. Первой очнется так называемая Рыба… И ее время уже очень близко.
Тут Вадим вылез из кресла и подошел к письменному столу, заваленному фолиантами чудовищной толщины. Поворошив какие-то бумаги, он опять повернулся ко мне.
— Борхес использовал в своей новелле традиционные китайские источники. Так вот, если покопаться в них поглубже, то можно рассчитать срок окончания заклятия. Этот срок, — Он бросил взгляд на старинные часы с гирями, Наступит примерно минут через сорок. Мне стало смешно:
— Вадим! Я тебя не узнаю! Наверное, в твоем чае было слишком много коньяка. Ты же сам когда-то коллекционировал не случившиеся «концы света», а теперь такое несешь. Очевидно, я заболтал тебя до умопомрачения своими теориями…
Лучше, наверное, мне пойти домой.
Мы еще немного потрепались о зеркальных существах. Я иронизировал на тему их возмущения и по поводу своего ужасного положения, Вадим же развивал мысль о том, что они ничего не осознают, а живут, размножаются и умирают, подражая нам, как сомнамбулы. Над этой идеей я тоже позабавился, а потом начал собираться. К этому времени стало очевидным, что коньяка было слишком много в чае именно у меня — я приобрел склонность к витиеватым жестам и нес все, что подворачивалось под язык.
Васисуалий шарахнулся в сторону и, ловко вскарабкавшись по ковру, спрятался на стенке.
— Да! Зеркальные существа! — орал я в прихожей при молчаливом попустительстве Вадима, строя рожи своему отражению в огромном настенном зеркале, потускневшем от древности, — Я знаю, вы слышите меня! Вы только и ждете, как бы отнять у нас нашу свободу воли! Наше изначальное, богом данное право на волеизъявление себя во всех мыслимых и немыслимых категориях! То, что составляет основу нашей личности, наше истинное «Я», нашу сущность! Я ненавижу вас! — тут я погрозил зеркалу кулаком, пытаясь одновременно натянуть заботливо поданный мне Вадимом плащ, — Я растерзаю вас! Я всегда этого хотел, хотел отомстить… И мне плевать на вашу Рыбу! Плевать! Я, если хотите знать, сам Рыба! Рожден по гороскопу! Изначально! Я — Рыба! Моя свобода трехмерна, она безгранична! И теперь я возглавлю наш последний, наш решительный бой за свободу!
Я взглянул на свое отражение, застывшее в ужасе, потом на Вадима. Он угрюмо смотрел на меня маленькими злобными глазками. Чешуя на его горле удивительно скоро крепла, превращаясь в броневой воротник, а в струях дыма, бивших из расширявшихся ноздрей, начали проскакивать искры.
— На этот раз им нас не остановить! — воскликнул я и, шевельнув костяными плавниками, взмыл к потолку.
(1995)



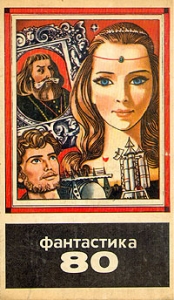

Комментарии к книге «Никитинский альманах. Фантастика. XXI век. Выпуск №1», Владимир Александрович Егоров
Всего 0 комментариев