ПРОЛОГ
Девять миллиардов имен Бога
Перевод Л. Жданова
— Заказ необычный. — Доктор Вагнер старался говорить как можно степеннее. — Насколько я понимаю, мы первое предприятие, к которому обращаются с просьбой поставить автоматическую счетную машину для тибетского монастыря. Не сочтите меня любопытным, но уж очень трудно представить, зачем вашему… э… учреждению нужна такая машина. Вы не можете объяснить, что вы собираетесь с ней делать?
— Охотно, — ответил лама, поправляя складки шелкового халата и не спеша убирая логарифмическую линейку, с помощью которой производил финансовые расчеты. — Ваша электронная машина «Модель пять» выполняет любую математическую операцию над числами, вплоть до десятизначных. Но для решения нашей задачи нужны не цифры, а буквы. Вы переделаете выходные цепи, как мы вас просим, и машина будет печатать слова, а не числа.
— Мне не совсем ясно…
— Речь идет о проблеме, над которой мы трудимся уже три столетия, со дня основания нашего монастыря. Человеку вашего образа мыслей трудно это понять, но я надеюсь, вы без предвзятости выслушаете меня.
— Разумеется.
— В сущности, это очень просто. Мы составляем список, который включит в себя все возможные имена Бога.
— Простите…
— У нас есть основания полагать, — продолжал лама невозмутимо, — что все эти имена можно записать с применением всего лишь девяти букв изобретенной нами азбуки.
— И вы триста лет занимаетесь этим?
— Да. По нашим расчетам, потребуется около пятнадцати тысяч лет, чтобы выполнить эту задачу.
— О! — Доктор Вагнер был явно поражен. — Теперь я понимаю, для чего вам счетная машина. Но в чем, собственно, смысл всей этой затеи?
Лама на мгновение замялся. «Уж не оскорбил ли я его?» — спросил себя Вагнер. Во всяком случае, когда гость заговорил, ничто в его голосе не выдавало недовольства.
— Назовите это культом, если хотите, но речь идет о важной составной части нашего вероисповедания. Употребляемые нами имена Высшего Существа — Бог, Иегова, Аллах и так далее — всего-навсего придуманные человеком ярлыки. Тут возникает довольно сложная философская проблема, не стоит сейчас ее обсуждать, но среди всех возможных комбинаций букв кроются, так сказать, действительные имена Бога. Вот мы и пытаемся выявить их, систематически переставляя буквы.
— Понимаю. Вы начали с комбинации ААААААА… и будете продолжать, пока не дойдете до ЯЯЯЯЯЯЯ…
— Вот именно. С той разницей, что мы пользуемся азбукой, которую изобрели сами. Заменить литеры в пишущем устройстве, разумеется, проще всего. Гораздо сложнее создать схему, которая позволит исключить заведомо нелепые комбинации. Например, ни одна буква не должна повторяться более трех раз подряд.
— Трех? Вы, конечно, хотели сказать — двух.
— Нет, именно трех. Боюсь, что объяснение займет слишком много времени, даже если бы вы знали наш язык.
— Не сомневаюсь, — поспешил согласиться Вагнер, — Продолжайте.
— К счастью, вашу автоматическую счетную машину очень легко приспособить для нашей задачи. Нужно лишь правильно составить программу, а машина сама проверит все сочетания и отпечатает итог. За сто дней будет выполнена работа, на которую у нас ушло бы пятнадцать тысяч лет.
Далеко внизу лежали улицы Манхэттена, но доктор Вагнер вряд ли слышал невнятный гул городского транспорта. Мысленно он перенесся в другой мир, мир настоящих гор, а не тех, что нагромождены рукой человека. Там, уединившись в заоблачной выси, эти монахи из поколения в поколение терпеливо трудятся, составляя списки лишенных всякого смысла слов. Есть ли предел людскому безрассудству? Но нельзя показывать, что ты думаешь. Клиент всегда прав.
— Несомненно, — сказал доктор, — мы можем переделать «Модель пять», чтобы она печатала нужные вам списки. Меня заботит другое — установка и эксплуатация машины. В наши дни попасть в Тибет не так-то просто.
— Положитесь на нас. Части не слишком велики, их можно будет перебросить самолетом. Вы только доставьте их в Индию, дальше мы сделаем все сами.
— И вы хотите нанять двух инженеров нашей фирмы?
— Да, на три месяца, пока не будет завершена программа.
— Я уверен, что они выдержат срок — Доктор Вагнер записал что-то на блокноте, — Остается выяснить еще два вопроса…
Прежде чем он договорил, лама протянул ему узкую полоску бумаги.
— Вот документ, удостоверяющий состояние моего счета в Азиатском банке.
— Благодарю. Как будто… да, все в порядке. Второй вопрос настолько элементарен, я даже не знаю, как сказать… Но вы не представляете себе, сколь часто люди упускают из виду самые элементарные вещи. Итак, какой у вас источник электроэнергии?
— Дизельный генератор мощностью пятьдесят киловатт, напряжение 110 вольт. Он установлен пять лет назад и вполне надежен. Благодаря ему жизнь у нас в монастыре стала гораздо приятнее. Но вообще-то его поставили, чтобы снабжать энергией моторы, которые вращают молитвенные колеса.
— Ну конечно, — подхватил доктор Вагнер. — Как я не подумал!
С балкона открывался захватывающий вид, но со временем ко всему привыкаешь. Семисотметровая пропасть, на дне которой распластались шахматные клеточки возделанных участков, уже не пугала Джорджа Хенли. Положив локти на сглаженные ветром камни парапета, он угрюмо созерцал далекие горы, названия которых ни разу не попытался узнать.
«Вот ведь влип! — сказал себе Джордж. — Более дурацкую затею трудно придумать!» Уже которую неделю «Модель пять» выдает горы бумаги, испещренной тарабарщиной. Терпеливо, неутомимо машина переставляет буквы, проверяет все сочетания и, исчерпав возможности одной группы, переходит к следующей. По мере того как пишущее устройство выбрасывает готовые листы, монахи тщательно собирают их и склеивают в толстые книги.
Слава Богу, еще неделя, и все будет закончено. Какие такие расчеты убедили монахов, что нет надобности исследовать комбинации из десяти, двадцати, ста букв, Джордж не знал. И без того его по ночам преследовали кошмары: будто в планах монахов произошли перемены и верховный лама объявил, что программа продлевается до 2060 года… А что, они способны на это!
Громко хлопнула тяжелая деревянная дверь, и рядом с Джорджем появился Чак. Как обычно, он курил одну из своих сигар, которые помогли ему завоевать расположение монахов. Ламы явно ничего не имели против всех малых и большинства великих радостей жизни. Пусть они одержимые, но ханжами их не назовешь. Частенько наведываются вниз, в деревню…
— Послушай, Джордж, — взволнованно заговорил Чак — Неприятные новости!
— Что такое? Машина капризничает?
Большей неприятности Джордж не мог себе представить. Если начнет барахлить машина, это может — о ужас! — задержать их отъезд. Сейчас даже телевизионная реклама казалась ему голубой мечтой. Все-таки что-то родное…
— Нет, совсем не то. — Чак сел на парапет; удивительный поступок, если учесть, что он всегда боялся обрыва. — Я только что выяснил, для чего они все это затеяли.
— Не понимаю. Разве нам это не известно?
— Известно, какую задачу поставили себе монахи. Но мы не знали для чего. Это такой бред…
— Расскажи что-нибудь поновее, — простонал Джордж.
— Старик верховный только что разоткровенничался со мной. Ты знаешь его привычку — каждый вечер заходит посмотреть, как машина выдает листы. Ну вот, сегодня он явно был взволнован — если его вообще можно представить себе взволнованным. Когда я объяснил ему, что идет последний цикл, он спросил меня на своем ломаном английском, задумывался ли я когда-нибудь, чего именно они добиваются. Конечно, говорю. Он мне и рассказал.
— Давай, давай, как-нибудь переварю.
— Ты послушай: они верят, что, когда перепишут все имена Бога, а этих имен, по их подсчетам, что-то около девяти миллиардов, — осуществится божественное предначертание. Род человеческий завершит то, ради чего был сотворен, и можно будет поставить точку. Мне вся эта идея кажется богохульством.
— И чего же они ждут от нас? Что мы покончим жизнь самоубийством?
— В этом нет нужды. Как только список будет готов, Бог сам вмешается и подведет черту. Амба!
— Понял: как только мы закончим нашу работу, наступит конец света.
Чак нервно усмехнулся.
— То же самое я сказал верховному. И знаешь, что было? Он поглядел на меня так, словно я сморозил величайшую глупость, и сказал: «Какие пустяки вас заботят».
Джордж призадумался.
— Ничего не скажешь, широкий взгляд на вещи, — произнес он наконец. — Но что мы-то можем тут поделать? Твое открытие ничего не меняет. Будто мы и без того не знали, что они помешанные.
— Верно, но неужели ты не понимаешь, чем это может кончиться? Мы выполним программу, а судный день не наступит. Они возьмут, да нас обвинят. Машина-то наша. Нет, не нравится мне все это.
— Дошло, — медленно сказал Джордж. — Пожалуй, ты прав. Но ведь это не ново, такое и раньше случалось. Помню, в детстве у нас в Луизиане объявился свихнувшийся проповедник, который твердил, что в следующее воскресенье наступит конец света. Сотни людей поверили ему, некоторые даже продали свои дома. А когда ничего не произошло, они не стали возмущаться, не думай. Просто решили, что он ошибся в своих расчетах, и продолжали веровать. Не удивлюсь, что некоторые из них до сих пор ждут конца света.
— Позволь напомнить, мы не в Луизиане. И нас двое, а этих лам несколько сотен. Они славные люди, и жаль старика, если рухнет дело всей его жизни. Но я все-таки предпочел бы быть где-нибудь в другом месте.
— Я об этом давно мечтаю. Но мы ничего не можем поделать, пока не выполним контракт и за нами не прилетят.
— А что, если подстроить что-нибудь?
— Черта с два! Только хуже будет.
— Не торопись, послушай. При нынешнем темпе работы — двадцать часов в сутки — машина закончит все в четыре дня. Самолет прилетит через неделю. Значит, нужно только во время очередной наладки найти какую-нибудь деталь, требующую замены. Так, чтобы оттянуть программу денька на два, не больше. Исправим не торопясь. И если сумеем все верно рассчитать, мы будем на аэродроме в тот миг, когда машина выдаст последнее имя. Тогда им уже нас не перехватить.
— Не нравится мне твой замысел, — ответил Джордж. — Не было случая, чтобы я не довел до конца начатую работу. Не говоря уже о том, что они сразу заподозрят неладное. Нет уж, лучше дотяну до конца, будь что будет.
— Я и теперь не одобряю нашего побега, — сказал он семь дней спустя, когда они верхом на крепких горных лошадках ехали вниз по извилистой дороге. — И не подумай, что я удираю, потому что боюсь. Просто мне жаль этих бедняг, не хочется видеть их огорчение, когда они убедятся, что опростоволосились. Интересно, как верховный это примет?..
— Странно, — отозвался Чак, — когда я прощался с ним, мне показалось, что он нас раскусил и отнесся к этому совершенно спокойно. Все равно машина работает исправно, и задание скоро будет выполнено. А потом… Впрочем, в его представлении никакого «потом» не будет.
Джордж повернулся в седле и поглядел вверх. С этого места в последний раз открывался вид на монастырь. Приземистые угловатые здания четко вырисовывались на фоне закатного неба; тут и там, точно иллюминаторы океанского лайнера, светились огни. Электрические, разумеется, питающиеся от того же источника, что и «Модель пять». «Сколько еще продлится это сосуществование?» — спросил себя Джордж. Разочарованные монахи способны сгоряча разбить вдребезги вычислительную машину. Или они преспокойно начнут все свои расчеты сначала?..
Он ясно представлял себе, что в этот миг происходит на горе. Верховный лама и его помощники сидят в своих шелковых халатах, изучая листки, которые рядовые монахи собирают в книги. Никто не произносит ни слова. Единственный звук — нескончаемая дробь, как от вечного ливня; стучат по бумаге рычаги пишущего устройства. Сама «Модель пять» выполняет свою тысячу вычислений в секунду бесшумно. «Три месяца… — подумал Джордж. — Да тут кто угодно свихнется!»
— Вот он! — воскликнул Чак, показывая вниз, в долину, — Правда, хорош?
«Правда», — мысленно согласился Джордж. Старый, видавший виды самолет серебряным крестиком распластался в начале дорожки. Через два часа он понесет их к свободе и разуму. Эту мысль хотелось смаковать, как рюмку хорошего ликера. Джордж упивался ею, покачиваясь в седле.
Гималайская ночь почти настигла их. К счастью, дорога хорошая, как и все местные дороги. И у них есть фонарики. Никакой опасности, только холод досаждает. В удивительно ясном небе сверкали знакомые звезды. «Во всяком случае, — подумал Джордж, — из-за погоды не застрянем». Единственное, что его еще тревожило.
Он запел, но вскоре смолк. Могучие, величавые горы с белыми шапками вершин не располагали к бурному проявлению чувств. Джордж посмотрел на часы.
— Еще час, и будем на аэродроме, — сообщил он через плечо Чаку. И добавил чуть погодя: — Интересно, как там машина — уже закончила? По времени — как раз.
Чак не ответил, и Джордж повернулся к нему. Он с трудом различил лицо друга — обращенное к небу белое пятно.
— Смотри, — прошептал Чак, и Джордж тоже обратил взгляд к небесам. (Все когда-нибудь происходит в последний раз.)
Высоко над ними тихо, без шума одна за другой гасли звезды.
ЧАСТЬ I
Стрела времени
Перевод Ю. Эстрина
Река пересохла и озеро почти совсем обмелело, когда чудовище, спустившись по сухому руслу, стало пробираться по топкой безжизненной равнине. Далеко не везде болото было проходимым, но и там, где грунт был потверже, массивные лапы под тяжестью огромной туши увязали более чем на фут. Временами чудовище останавливалось и, быстро, по-птичьи поворачивая голову, осматривало равнину. В эти минуты оно еще глубже погружалось в податливую почву, и через пятьдесят миллионов лет люди по его следам сумели определить продолжительность этих остановок.
Вода не вернулась, и палящее солнце превратило глину в камень. Затем пустыня укрыла следы защитным слоем песка. И лишь потом — миллионы лет спустя — сюда пришел Человек.
— Как по-твоему, — проревел Бартон, пытаясь перекричать грохот, — уж не потому ли профессор Фаулер стал палеонтологом, что ему нравится играть с отбойным молотком? Или он только потом пристрастился к этому занятию?
— Не слышу! — крикнул в ответ Дэвис, облокачиваясь на лопату с видом заправского землекопа. Он с надеждой поглядел на часы, — Давай скажем, что пора обедать. Он ведь снимает часы, когда возится с этой штукой.
— Номер не пройдет, — прокричал Бартон, — он давно раскусил нас и всегда накидывает минут десять. Но попытка — не пытка. Все лучше, чем это чертово ковыряние.
Оживившись, палеонтологи положили лопаты и направились к шефу. Когда они подошли, профессор выключил перфоратор, и наступила тишина, нарушаемая только пыхтением компрессора неподалеку.
— Пора возвращаться в лагерь, профессор, — сказал Дэвис, небрежным жестом заложив за спину руку с часами, — вы же знаете, как ругается повар, когда мы опаздываем.
Профессор Фаулер, член Королевской академии наук, обладатель множества научных званий, безуспешно попытался стереть со лба коричневую грязь. Мало кто из случайных посетителей раскопок мог узнать в этом загорелом, мускулистом полуобнаженном рабочем, склонившимся над излюбленным отбойным молотком, вице-президента Палеонтологического общества.
Почти месяц ушел на расчистку песчаника, покрывавшего окаменелую поверхность глинистой равнины. Расчищенный участок в несколько сот квадратных футов представлял собой как бы моментальный снимок прошлого, пожалуй наилучший из всех известных палеонтологам, Когда-то в поисках исчезающей воды сюда переселились десятки птиц и пресмыкающихся; с тех пор прошло несколько геологических эпох, от этих существ ничего не осталось, но следы их сохранились навечно. Почти все следы удалось распознать, кроме одного, принадлежавшего существу, неизвестному науке. Это был зверь весом в двадцать— тридцать тонн, и профессор Фаулер шел по следам пятидесятимиллионолетней давности с азартом охотника за крупной дичью. Кто знает, возможно, ему даже удастся настичь чудовище: в те времена равнина была предательски зыбким болотом, и, быть может, кости неизвестного ящера покоятся в одной из природных ловушек где-нибудь совсем рядом.
Работа на раскопках была утомительной и кропотливой. Только самый верхний слой мог быть расчищен землеройными машинами; все остальное приходилось делать вручную. У профессора Фаулера было достаточно оснований никому не доверять отбойный молоток: малейшая оплошность могла стать роковой.
Потрепанный экспедиционный джип, трясясь и подпрыгивая на ухабах скверной дороги, был уже на полпути от лагеря, когда Дэвис заговорил о том, что не давало им покоя с самого начала работ.
— Сдается мне, наши соседи по долине не очень-то нас жалуют, а вот почему — ума не приложу. Казалось бы, мы в их дела не лезем, так могли бы и пригласить нас к себе, хотя бы ради приличия.
— А может, это и впрямь военная лаборатория, — высказал Бартон вслух общее мнение.
— Не думаю, — мягко возразил профессор Фаулер, — видите ли, я только что получил от них приглашение. Завтра я туда отправлюсь.
Если это сообщение не произвело впечатления разорвавшейся бомбы, то лишь благодаря хорошо налаженной системе «домашнего шпионажа». Несколько секунд Дэвис размышлял над этим подтверждением своих догадок, а затем, слегка откашлявшись, спросил:
— А что, они больше никого не приглашают?
Намек был столь прозрачен, что профессор Фаулер улыбнулся.
— Нет, приглашение адресовано только мне. Послушайте, ребята, я понимаю, что вы сгораете от любопытства, но, честное слово, я знаю не больше вашего. Если завтра что-либо прояснится, я вам обо всем расскажу. Но по крайней мере теперь хоть известно, кто заправляет этим хозяйством.
Помощники навострили уши.
— Кто же? — спросил Бартон. — Я полагаю, Комиссия по атомной энергии?
— Возможно, что и так, — ответил профессор, — во всяком случае, возглавляют все Гендерсон и Барнс.
На сей раз бомба попала в цель: Дэвис даже съехал с дороги. Впрочем, принимая во внимание качество дороги, последнее обстоятельство не имело ровно никакого значения.
— Гендерсон и Барнс? В этой богом забытой дыре?
— Вот именно, — весело отозвался профессор, — приглашение исходит от Барнса. Он выражает сожаление, что не имел возможности пригласить меня раньше, и просит заглянуть к ним на часок.
— А он не пишет, чем они занимаются?
— Ни слова.
— Барнс и Гендерсон, — задумчиво проговорил Бартон. — Я ничего о них не знаю, разве только то, что они физики. В какой области они подвизаются?
— Они оба крупнейшие специалисты по физике низких температур, — ответил Дэвис. — Гендерсон много лет был директором Кавендишской лаборатории. Недавно он опубликовал в «Nature» кучу статей. Все они — если я только правильно припоминаю — касались проблемы гелия II.
Бартон и глазом не повел; он недолюбливал физиков и никогда не упускал случая сказать об этом.
— Не имею ни малейшего представления, что за штука этот гелий II, — самодовольно заявил он, — более того, я совсем не уверен, что горю желанием узнать.
Это был выпад против Дэвиса, который когда-то — в минуту слабости, как он сам любил говорить, — получил ученую степень по физике. «Минута» растянулась на несколько лет, пока Дэвис кружным путем не пришел в палеонтологию, но физика оставалась его первой любовью.
— Гелий II — разновидность жидкого гелия, существующая только при температуре на несколько градусов выше абсолютного нуля. Он обладает совершенно удивительными свойствами, однако это никоим образом не объясняет, почему вдруг два ведущих физика оказались в этом уголке земного шара.
Они въехали в лагерь. Лихо подкатив к стоянке, Дэвис, как всегда, рывком затормозил машину. Однако на сей раз джип стукнулся о стоящий впереди грузовик сильнее обычного, и Дэвис сокрушенно покачал головой.
— Покрышки совсем износились. Хотел бы я знать, когда пришлют новые?
— Прислали сегодня утром вертолетом вместе с отчаянной запиской от Эндрюса: он надеется, что тебе их хватит хотя бы на полмесяца.
— Отлично! Сегодня же вечером я их и поставлю.
Профессор Фаулер, шедший впереди, остановился.
— Зря вы так торопились, Джим, — мрачно заметил он, — опять на обед солонина.
Не следует думать, что в отсутствие шефа Бартон и Дэвис работали меньше обычного. Напротив, им приходилось туго, поскольку местные рабочие во время отлучек профессора доставляли вдвое больше хлопот. Тем не менее они как-то умудрялись выкраивать для болтовни значительно больше времени.
Сразу же после приезда в экспедицию профессора Фаулера молодые палеонтологи заинтересовались необычными сооружениями, расположенными в пяти милях от места раскопок. Это была явно какая-то исследовательская лаборатория. Дэвис без труда распознал в высоких башнях атомные силовые установки. Уже одно это обстоятельство красноречиво свидетельствовало о важности исследований, хотя ничего и не говорило об их цели. На земном шаре было несколько тысяч таких установок, и все они обслуживали проекты первостепенной важности.
Можно было придумать десятки причин, побудивших двух крупных ученых уединиться в этом глухом углу: чем опаснее исследования в области ядерной физики, тем дальше от цивилизации стараются их проводить. Некоторые исследования вообще отложили до создания орбитальных лабораторий. И все же было странно: зачем проводить эту работу — в чем бы она ни заключалась — в непосредственной близости от крупнейших палеонтологических раскопок? Впрочем, может, это просто случайное совпадение — ведь до сих пор физики не проявляли ни малейшего интереса к своим соседям и соотечественникам.
Дэвис старательно расчищал один из гигантских следов, а Бартон заливал жидкой смолой уже расчищенные отпечатки. Работая, они бессознательно прислушивались, не возвестит ли шум мотора о приближении джипа. Профессор Фаулер обещал захватить их на обратном пути; остальные машины были в разгоне, и им совсем не улыбалось тащиться добрых две мили под палящими лучами солнца. Кроме того, им не терпелось поскорее узнать новости.
— Как ты думаешь, — вдруг спросил Бартон, — сколько народу у них там работает?
Дэвис выпрямился.
— Судя по размерам здания, человек десять.
— Тогда, должно быть, это не государственный проект, а их личная затея?
— Возможно, хотя им все равно необходима серьезная финансовая поддержка. Впрочем, при такой научной репутации, как у Гендерсона и Барнса, получить ее не составляет труда.
— Везет этим физикам! — сказал Бартон. — Стоит им только убедить какое-нибудь военное ведомство, что они вот-вот изобретут новое оружие, как им сразу же отваливают пару миллиончиков.
Он произнес это с горечью; как и у большинства ученых, его отношение к этому вопросу было вполне определенным. Бартону доводилось отстаивать свои взгляды более решительно: он был квакером и в качестве принципиального противника военной службы весь последний год войны провел в дискуссиях с военными трибуналами, которые совсем не разделяли его убеждений.
Шум мотора прервал их беседу, и они побежали навстречу профессору.
— Ну как? — хором прокричали они.
Профессор Фаулер задумчиво посмотрел на них; лицо его хранило абсолютную непроницаемость.
— Удачный был денек? — спросил он наконец.
— Имейте совесть, шеф! — запротестовал Дэвис. — Выкладывайте начистоту, что вам удалось разузнать.
Профессор выбрался из машины и почистил рукой костюм.
— Простите меня, коллеги, — смущенно произнес он, — я ничего не могу сказать вам, ровным счетом ничего.
Раздались вопли протеста, но профессор был непреклонен.
— Я провел очень интересный день, но дал слово молчать. Не могу сказать, что я понял толком, чем они занимаются; знаю только, что это целая революция в науке — пожалуй, по значимости не уступающая открытию атомной энергии. Впрочем, завтра к нам приедет доктор Гендерсон, посмотрим, что вам удастся выкачать из него.
От разочарования оба палеонтолога несколько секунд не могли вымолвить ни слова. Бартон первым пришел в себя.
— Ладно, но почему вдруг такой интерес к нашей работе?
На мгновение Фаулер задумался.
— Да, моя поездка не была простым визитом вежливости, — признался он, — меня просили помочь. А теперь еще один вопрос, и вам придется топать в лагерь пешком.
Доктор Гендерсон прибыл на раскопки после полудня. Это был полный немолодой мужчина, одетый несколько необычно: единственную видимую часть его туалета составлял ослепительно белый лабораторный халат. Впрочем, в жарком климате этот эксцентричный наряд обладал несомненными достоинствами.
Поначалу палеонтологи разговаривали с Гендерсоном вежливо-холодным тоном: они были обижены и не скрывали своих чувств. Но Гендерсон расспрашивал их с таким неподдельным интересом, что вскоре они оттаяли, и Фаулер предоставил им возможность показывать гостю раскопки, а сам пошел к рабочим.
Картины давно минувших эпох произвели на физика глубокое впечатление. Битый час ученые водили его по котловану, рассказывая о существах, оставивших здесь свои следы, и строя предположения о будущих находках. В сторону от котлована отходила широкая траншея; заинтересовавшись следами чудовища, профессор Фаулер приостановил все другие работы. Затем траншея прерывалась: экономя время, профессор копал вдоль следов отдельные ямы. Неожиданно последний шурф оказался пустым. Стали копать кругом и выяснили, что гигантский ящер неожиданно свернул в сторону.
— Тут-то и начинается самое интересное, — рассказывал Бартон слегка одуревшему от впечатлений физику. — Помните то место, где ящер останавливался и, видимо, оглядывался кругом? Так вот, похоже, он что-то углядел и припустился бежать в новом направлении, об этом можно судить по расстоянию между следами.
— Вот уж никогда бы не подумал, что эти твари умели бегать!
— Вряд ли это выглядело особенно грациозно, но при шаге в пятнадцать футов можно развить приличную скорость. Мы постараемся следовать за ним, сколько сможем. Кто знает, вдруг нам удастся обнаружить то, за чем он погнался. Мне кажется, профессор Фаулер мечтает найти утоптанное поле битвы с разбросанными по нему костями жертвы. Вот все рты разинут!
— Картина в духе Уолта Диснея, — улыбнулся Гендерсон.
Но Дэвис был настроен менее оптимистично.
— Ни за кем он не гнался, просто жена позвала его домой. Наша работа на редкость неблагодарная; кажется, ты уже вот-вот на пороге открытия, и вдруг все идет насмарку. То пласт оказывается размытым, то все покорежено из-за землетрясения, а то — что совсем обидно! — какой-нибудь идиот, сам того не подозревая, расколошматит вдребезги ценнейшую находку.
— Могу вам только посочувствовать, — кивнул Гендерсон, — физику легче. Он знает, что если ответ существует, то рано или поздно он его найдет.
Он сделал многозначительную паузу и заговорил, тщательно взвешивая каждое слово:
— Выло бы куда проще, не правда ли, если бы вы могли увидеть прошлое своими глазами, а не восстанавливать его шаг за шагом при помощи кропотливых и неточных методов. За два месяца вы прошли по этим следам ярдов сто, и все же они могут завести вас в тупик.
Последовало длительное молчание.
— Вполне естественно, доктор Гендерсон, что нас весьма интересуют ваши исследования, — задумчиво проговорил Бартон, — а поскольку профессор Фаулер отмалчивается, мы стали строить самые невероятные догадки. Не хотите ли вы этим сказать, что…
— Не ловите меня на слове, — торопливо прервал его физик, — просто я грезил наяву. Что же касается наших исследований, то они еще очень далеки от завершения. Когда придет время, вы обо всем узнаете. Мы ни от кого не таимся, но мы вступили в совершенно неизведанную область, и, пока не обретем почвы под ногами, нам лучше помолчать. Держу пари, что если бы сюда явились геологи, то профессор Фаулер гонялся бы за ними с киркой в руках!
— Вот и проиграете, — улыбнулся Дэвис, — скорее всего, он запряг бы их в работу! Но я вполне вас понимаю, сэр. Будем надеяться, что ждать придется не так уж долго.
Этой ночью свет в палатке палеонтологов горел дольше обычного. Бартон не скрывал своих сомнений, но Дэвис уже успел построить на основе нескольких замечаний Гендерсона целую замысловатую теорию.
— Ведь это все объясняет. И прежде всего — почему они выбрали именно это место. Иначе их выбор просто бессмыслен. Мы здесь знаем уровень почвы за последнюю сотню миллионов лет с точностью до дюйма и можем датировать любое событие с ошибкой менее одного процента. На Земле нет другого такого уголка, геологическая история, которого была бы изучена столь подробно; наши раскопки — самое подходящее место для такого эксперимента.
— Ты и в самом деле считаешь, что возможно — пусть хотя бы только теоретически — построить машину, способную видеть прошлое?
— Лично я даже не могу представить себе принцип ее действия. Но я не рискну утверждать, что это невозможно, в особенности для таких ученых, как Барнс и Гендерсон.
— Гм. Я бы предпочел более убедительный довод. Послушай, а нельзя ли проверить твои догадки? Как насчет тех статей в «Nature»?
— Я уже послал заказ в библиотеку колледжа. Мы получим их в конце недели. В работе ученого всегда существует определенная преемственность; быть может, статьи нам что-либо подскажут.
Но статьи лишь усилили их недоумение. Дэвис не ошибся: почти все они касались необычных свойств гелия II.
— Это поистине фантастическое вещество, — говорил Дэвис. — Если бы жидкости вели себя так при обычной температуре, мир бы перевернулся. Начнем с того, что у него совершенно отсутствует вязкость. Сэр Джордж Дарвин однажды сказал, что если бы океан состоял из гелия II, то кораблям не понадобились бы ни паруса, ни машины. Достаточно было бы оттолкнуть корабль от берега, а на другом берегу подставить что-нибудь мягкое. Вот только одна загвоздочка: в самом начале пути гелий потек бы через борт, вверх по обшивке, и буль… буль… буль… посудина затонула…
— Очень забавно, — заметил Бартон, — но при чем тут твоя драгоценная теория?
— Пока ни при чем, — признал Дэвис, — но послушай: дальше — больше. Два потока гелия II могут течь сквозь одну и ту же трубу одновременно в противоположных направлениях: один поток как бы проходит сквозь другой.
— Это уже выше моего понимания; все равно как если бы я бросил камень одновременно вперед и назад. Держу пари, что объяснение этой штуки не обошлось без теории относительности.
Дэвис продолжал внимательно читать статью.
— Объяснение очень сложное, и я не буду притворяться, что понимаю его целиком. Оно основано на предположении, что жидкий гелий в определенных условиях может обладать отрицательной энтропией.
— Мне это ни о чем не говорит, я и положительную энтропию никогда не, мог уразуметь.
— Энтропия — это мера распределения тепла во Вселенной. В самом начале, когда вся энергия была сконцентрирована в звездах, энтропия была минимальной. Когда во всем мире установится одинаковая температура, энтропия достигнет максимума. Вселенная будет мертва. В мире будет полно энергии, но ее не удастся использовать.
— Это еще почему?
— По той же причине, по какой вся вода в спокойном океане не способна привести в движение турбины гидроэлектростанции, а крохотное горное озерцо успешно с этим справляется. Необходима разность уровней.
— Теперь понял. Я даже припоминаю, что кто-то назвал энтропию «стрелой времени».
— Верно, это сказал Эддингтон. Дело в том, что любые часы, ну хотя бы маятниковые, можно заставить идти вспять. А энтропия — это улица с односторонним движением; с течением времени энтропия может только увеличиваться. Отсюда и выражение «стрела времени».
— Но тогда отрицательная энтропия… Черт меня побери!
С минуту друзья молча смотрели друг на друга. Затем приглушенным голосом Бартон спросил:
— А что об этом пишет Гендерсон?
— Вот фраза из его последней статьи: «Открытие отрицательной энтропии приводит к совершенно новым революционным представлениям и в корне меняет привычную картину мира. Этот вопрос будет подробнее рассмотрен в следующей статье».
— И что же?
— В том-то вся и штука: следующей статьи не было. Тому есть два объяснения. Во-первых, редактор журнала отказался публиковать статью. Это предположение можно сразу отбросить. Во-вторых, Гендерсон так и не написал следующей статьи, ибо новые представления оказались чересчур революционными.
— Отрицательная энтропия — отрицательное время, — вслух размышлял Бартон, — звучит невероятно. А все-таки, быть может, и впрямь существует теоретическая возможность заглянуть в прошлое…
— Придумал! — воскликнул Дэвис. — Выложим завтра профессору все наши предположения и посмотрим, как он будет реагировать. А сейчас, пока у меня еще не началось воспаление мозга, я намерен лечь спать.
Спал он плохо. Ему снилось, что он шагает по пустынной дороге, и ни спереди, ни сзади, сколько видит глаз, дороге нет конца. Так он идет, миля за милей, и вдруг натыкается на дорожный указатель. Указатель поломан, и его стрелки лениво вращаются на ветру. Он пытается разобрать надписи. На одной стрелке написано «В будущее», на другой — «В прошлое».
Им так и не удалось застать профессора Фаулера врасплох. Ничего удивительного — после декана он был лучшим игроком в покер во всем колледже. Пока Дэвис излагал свою теорию, профессор бесстрастно разглядывал взволнованных молодых людей.
— Завтра я снова поеду туда и расскажу Генлерсону о ваших изысканиях. Может, он сжалится над вами, а может, мне самому удастся узнать что-нибудь новенькое, А сейчас — за работу.
Но волнующая загадка настолько овладела всеми помыслами Дэвиса и Бартона, что они совершенно потеряли интерес к работе. И хотя они добросовестно занимались своим делом, их неотступно преследовала мысль, что трудятся они впустую. Если так, они были бы рады. Подумать только, что можно будет заглянуть в прошлое, прокрутить в обратном порядке всю историю Земли, раскрыть великие загадки минувшего, увидеть зарождение жизни и проследить весь ход эволюции от амебы до человека!
Нет, это слишком прекрасно, чтобы можно было поверить! Придя к такому выводу, они возвращались к скребку и лопате, но не проходило и получаса, как у них мелькала мысль: а вдруг? И все повторялось сначала.
Из второй поездки профессор Фаулер возвратился потрясенный и задумчивый. Единственное, что им удалось из него вытянуть, — это заявление, что Гендерсон выслушал выдвинутую ими теорию и похвалил их способности к дедукции.
Вот и все. Но для Дэвиса и этого было вполне достаточно, хотя Бартона по-прежнему одолевали сомнения. Прошло несколько недель, и Дэвису удалось убедить его в своей правоте. Профессор Фаулер проводил все больше времени с Гендерсо-ном и Барнсом; порой палеонтологи не видели его по нескольку дней. Казалось, он утратил интерес к раскопкам и все руководство ими переложил на Бартона, который мог теперь возиться с отбойным молотком сколько душе угодно.
Каждый день они продвигались по следам чудовища еще на два-три ярда. Судя по характеру следов, яшер мчался огромными прыжками и, казалось, должен был вот-вот настичь свою жертву. Еще несколько дней, и они раскроют чудом сохранившиеся свидетельства трагедии, совершившейся в этих местах пятьдесят миллионов лет назад. Однако сейчас это не имело никакого значения; из намеков профессора они заключили, что решающего эксперимента следует ждать со дня на день. Денек-другой, пообещал им профессор, и, если все пойдет хорошо, их ожиданию наступит коней. Сверх этого они не смогли вытянуть из него ни слова.
Раз или два их навешал Гендерсон. Бесспорно, нервное напряжение наложило на него отпечаток. Было видно, что он умирает от желания поговорить о своей работе и лишь усилием воли заставляет себя молчать. Друзья не знали, восхищаться ли им подобным самообладанием или сожалеть о нем. У Дэвиса сложилось впечатление, что на сохранении тайны настаивает Барнс; о нем поговаривали, что он еще не опубликовал ни одной работы, не проверив ее предварительно два-три раза. Как ни бесила их подобная осторожность, ее вполне можно было понять.
В то утро Гендерсон заехал за профессором Фаулером; как назло, у самых раскопок его машина сломалась. Впрочем, неудачниками оказались Дэвис и Бартон, поскольку профессор решил отвезти Гендерсона в джипе, предоставив своим помощникам возможность прогуляться в обеденный перерыв до лагеря и обратно пешком. Но они были даже готовы примириться с этой участью, если только их ожидание и в самом деле — как им намекнули — близилось к концу.
Фаулер и Гендерсон сидели в джипе, а палеонтологи стояли рядом. Прощание было натянутым и неловким, казалось, все читали чужие мысли. Наконец, Бартон с присущей ему прямотой сказал:
— Что ж, док, поскольку сегодня решающий день, позвольте пожелать вам удачи. Надеюсь получить от вас карточку бронтозавра на память.
Гендерсон уже настолько привык к подобным подкалываниям, что почти не обращал на них внимания. Он улыбнулся, без особой, впрочем, радости, и заметил:
— Ничего не обещаю. Мы еще можем здорово сесть в лужу.
Дэвис уныло проверил носком ботинка, хорошо ли накачаны шины. Он обратил внимание, что покрышки были новые, со странным, прежде невиданным зигзагообразным рисунком.
— В любом случае ждем, что вы нам все расскажете. Не то в одну темную ночь мы сами вломимся к вам в лабораторию и раскроем, чем вы там занимаетесь.
— Если вы сумеете разобраться в нашем хаосе, — рассмеялся Гендерсон, — то вы — гении. Но если и в самом деле все пойдет хорошо, то вечером мы устроим маленькое торжество.
— Когда вас ждать обратно, шеф?
— Около четырех. Не хочется заставлять вас шагать пешком еще и к ужину.
— Ладно. Ни пуха ни пера!
Автомобиль скрылся в облаке пыли, оставив у обочины двух молодых людей, задумчиво глядевших ему вслед.
— Если мы хотим быстрее провести время, — промолвил наконец Бартон, — надо приналечь на работу. Пошли.
Бартон орудовал отбойным молотком в самом конце траншеи, протянувшейся от котлована более чем на сто ярдов. Дэвис занимался окончательной расчисткой только что отрытых следов. Отпечатки лап чудовища были очень глубокими и далеко отстояли друг от друга. Глядя вдоль траншеи, можно было видеть, как гигантское пресмыкающееся вдруг резко свернуло в сторону и вначале пустилось бежать, а затем поскакало, словно огромный кенгуру. Бартон попробовал мысленно представить себе эту картину: многотонное создание, приближающееся со скоростью экспресса. Что ж, если их догадки справедливы, то в недалеком будущем они не раз смогут любоваться подобным зрелищем.
К концу дня они установили рекорд в скорости проходки траншеи. Грунт стал мягче, и Бартон продвигался вперед настолько быстро, что далеко опередил Дэвиса. Поглощенные работой, они забыли обо всем на свете, и только чувство голода вернуло их к действительности. Дэвис первым заметил, что уже поздно, и направился к другу.
— Уже половина пятого, — сказал он, когда утих грохот, — шеф опаздывает. Я ему не прощу, если он отправился ужинать, вместо того чтобы заехать за нами.
— Подождем еще полчасика, — сказал Бартон, — я догадываюсь, что его задержало. У них перегорела пробка, и они никак не могут ее починить.
Но Дэвис не унимался.
— Черт возьми, неужели нам снова придется идти в лагерь пешком? Поднимусь-ка я на холм и взгляну, не едет ли профессор.
Он оставил Бартона прокладывать траншею в мягком песчанике и вскарабкался на невысокий холмик на берегу древнего русла. Отсюда хорошо просматривалась вся долина, и башни-близнецы лаборатории Гендерсона — Барнса четко выделялись на фоне однообразного пейзажа. Ни одно облачко пыли не выдавало движущейся машины: профессор Фаулер еще не выехал домой.
Дэвис негодующе фыркнул. Топать две мили после такого утомительного дня и вдобавок ко всему опоздать к ужину! Он решил, что ждать бессмысленно, и уже начал спускаться по склону, как вдруг что-то привлекло его внимание, и он еще раз оглядел долину.
Над обеими башнями — единственной видимой ему частью лаборатории — плыло жаркое марево. Он понимал, что башни должны быть горячими, но уж никак не раскаленными! Вглядевшись, он, к своему удивлению, обнаружил, что марево имеет форму полусферы диаметром около четверти мили.
Неожиданно оно взорвалось. Ни ослепительной вспышки, ни пламени — только рябь пробежала по небу и растаяла. Марево исчезло, и одновременно исчезли две высокие башни атомной электростанции.
Чувствуя, как ноги у него стали ватными, Дэвис рухнул на землю и раскрыл рот в ожидании взрывной волны. Сердце сжалось от предчувствия беды.
Звук взрыва не был впечатляющим; лишь протяжное глухое шипение прокатилось и замерло в спокойном воздухе. До затуманенного сознания Дэвиса только сейчас дошло, что грохот отбойного молотка утих — должно быть, взрыв был громче, раз и Бартон услышал его.
Полная тишина. В выжженной солнцем долине не было заметно ни малейшего движения. Дэвис подождал, пока к нему вернулись силы, и, спотыкаясь, побежал вниз.
Бартон, закрыв лицо руками, сидел на дне траншеи. Когда Дэвис подошел, он поднял голову. Дэвиса испугало выражение его глаз.
— Значит, и ты слышал, — проговорил Дэвис. — По-моему, вся лаборатория взлетела на воздух. Пошли, надо торопиться.
— Что слышал? — тупо спросил Бартон.
Дэвис изумленно уставился на друга. Затем он понял, что Бартон и не мог что-либо слышать; грохот отбойного молотка должен был заглушить все посторонние звуки. Ощущение катастрофы нарастало с каждой секундой; он чувствовал себя персонажем древнегреческой трагедии, беспомощным перед неумолимым роком.
Бартон поднялся на ноги. Лицо его подергивалось, и Дэвис понял, что он на грани истерики. Однако, когда он заговорил, голос его прозвучал удивительно спокойно.
— Ну и дураки же мы были! — сказал он. — Объясняли Гендерсону, что он строит машину, способную видеть прошлое. Воображаю, как он потешался над нами.
Машинально Дэвис подошел к краю траншеи и взглянул на скалу, на которую впервые за последние пятьдесят миллионов лет упали солнечные лучи. Без особого удивления он разглядел на поверхности камня отпечаток покрышки со странным зигзагообразным рисунком, привлекшим сегодня утром его внимание. Отпечаток был неглубокий, казалось, он был оставлен джипом, мчавшимся на предельной скорости.
Должно быть, так оно и было, ибо в одном месте отпечатки шин были перекрыты следами чудовища. Следы были очень глубокими, словно огромный ящер готовился к решительному прыжку на отчаянно удирающую добычу.
Солнечный удар
Перевод Л. Жданова
Вообще-то эту историю должен был бы рассказать кто-нибудь другой, лучше меня разбирающийся в странном футболе, который известен в Южной Америке. У нас в Москоу, штат Айдахо, мы хватаем мяч в руки и бежим. В маленькой цветущей республике — назову ее Перивия — мяч бьют ногами. А что они делают с судьей!..
Астала-Виста, столица Перивии, расположена в Андах, на высоте трех километров над уровнем моря. Это чудесный современный город, который очень гордится своим великолепным футбольным стадионом. Ста тысяч мест и тех не хватает для всех болельщиков, устремляющихся сюда в дни большого футбола, например когда происходит традиционная встреча со сборной Панагуры.
Прибыв в Перивию, я первым делом услышал, что прошлогодний матч был проигран из-за недобросовестного судьи. Он поминутно штрафовал иноков перивийской сборной, не засчитал один гол — словом, делал все, чтобы сильнейший не победил. Слушая эти сетования, я мысленно перенесся в родной Айдахо, но тут же припомнил, где нахожусь, и коротко заметил:
— Вы ему мало заплатили.
— Ничего подобного, — последовал исполненный горечи ответ. — Просто панагурцы перекупили его.
— Надо же! — воскликнул я. — Что за времена пошли, невозможно найти честного человека!
Таможенный инспектор, который только что спрятал в карман мою последнюю стодолларовую бумажку, смущенно зарделся под щетиной.
Последующие несколько недель оказались для меня довольно хлопотными. Не буду вдаваться в подробности, скажу только, что мне удалось возродить свое дело по продаже сельскохозяйственных машин. Правда, ни одна из поставленных мною машин не попала на фермы, и мне стоило куда больше ста долларов переправить их через границу так, чтобы излишне ревностные чиновники не совали своего носа в упаковочные ящики. Меньше всего меня занимал футбол. Я знал, что драгоценные импортные изделия в любой миг могут быть пущены в ход, и принимал меры, чтобы на этот раз моя выручка пересекла границу вместе со мной…
И все-таки я не мог совсем игнорировать разгоравшиеся по мере приближения дня реванша страсти болельщиков. Хотя бы потому, что они мешали моему бизнесу. Устроишь ценой немалых усилий и крупных затрат совещание в надежной гостинице или дома у верного человека, а они через каждое слово «футбол» да «футбол». С ума сойти можно! Я уже начал спрашивать себя, что, в конце концов, важнее для перивийцев — политика или спорт?
— Джентльмены! — не выдерживал я. — Очередная партия дисковых сеялок поступает завтра, и если мы не получим лицензии министерства сельского хозяйства, кто-нибудь может вскрыть яшики, а тогда…
— Не беспокойся, старина, — беззаботно отвечал генерал Сьерра или полковник Педро. — Все улажено. Предоставь это армии.
Спросить: «Которой армии?» — было бы неучтиво, и следующие десять минут мне приходилось слушать спор о футбольной тактике и о том, как лучше уломать упорствующего судью. Я и не подозревал (кто мог подозревать!), что эта тема прямо относится к нашему делу.
Тогда я совсем запутался, но с тех пор у меня было довольно досуга, чтобы разобраться. Центральной фигурой беспримерного спектакля, конечно, был дон Эрнандо Диас, богатый повеса, болельщик футбола, дилетант в науке и — могу поручиться — будущий президент Перивии. Любовь к гоночным машинам и голливудским красоткам, особенно прославившая его за рубежом, побудила большинство людей считать, что слово «повеса» полностью исчерпывает характеристику Диаса. Как же они заблуждались!
Я знал, что дон Эрнандо один из наших; в то же время он пользовался расположением президента Руиса — положение выгодное, но и деликатное. Разумеется, мы с ним никогда не встречались. Дону Эрнандо приходилось быть крайне осмотрительным в выборе друзей; и вообще мало кто стремился без крайней надобности видеться со мной. О том, что он увлекается наукой, я узнал гораздо позже. Говорили, у него есть своя личная обсерватория, где он любит уединяться в ясные ночи, — впрочем, не только для астрономических наблюдений…
Подозреваю, что дону Эрнандо пришлось пустить в ход все свое обаяние и красноречие, чтобы уговорить президента. Не будь старик сам болельщиком, не переживай он прошлогоднее поражение так же сильно, как любой другой честный леривиец, он бы ни за что не согласился. Должно быть, президента подкупила оригинальность замысла — он даже пошел на то, чтобы на несколько часов лишиться половины своей армии. Кстати (и дон Эрнандо, несомненно, не преминул напомнить об этом), можно ли придумать лучший способ обеспечить себе расположение вооруженных сил, чем предоставить им пятьдесят тысяч билетов на матч года?!
Занимая свое место на трибуне в тот достопамятный день, я, понятно, ничего этого не знал. Если вы предположите, что я без особой охоты пришел на стадион, вы не ошибетесь. Но полковник Педро дал мне билет, и лучше было не обижать его. И вот я сижу под палящими лучами солнца, обмахиваюсь программой и, включив в ожидании начала свой транзистор, слушаю прогнозы комментатора.
Стадион был набит до отказа, огромная овальная чаша представляла собой сплошное море лиц. Начало игры задерживалось: полицейские работали как черти, но не так-то просто обыскать сто тысяч человек — чтобы не пронесли огнестрельное оружие. На этом настояли гости, к превеликому недовольству местных жителей. Однако по мере того, как росли горы конфискованных «пушек», протесты смолкли.
Оглушительный свист возвестил о том, что прибыл на бронированном «кадиллаке» судья матча.
— Послушайте, — обратился я к своему соседу, молодому лейтенанту (невысокий чин позволял ему без опаски показываться в моем обществе), — почему не заменят судью, если он так непопулярен?
Лейтенант удрученно пожал плечами:
— Гостям принадлежит право выбора. Мы тут ничего не можем поделать.
— Но в таком случае вы обязаны побеждать, когда играете в Панагуре!
— Верно… Но мы в последний раз были излишне самоуверенны, играли так скверно, что даже наш собственный судья не мог нас спасти.
Я был одинаково равнодушен к обеим командам и приготовился провести два скучных и утомительных часа. Редко мне доводилось так ошибаться.
Матч все не начинался. Сперва потные музыканты исполнили оба гимна, затем команды представили президенту и его супруге, потом кардинал всех благословил, потом произошла заминка: капитаны вели не совсем вразумительный спор о размерах и форме мяча. Я тем временем читал подаренную мне лейтенантом программу. Она была роскошно издана — на отличной бумаге размером с половину газетного листа, щедро иллюстрированная, первая и последняя страницы покрыты серебряной фольгой. На таком издании своих денег не выручишь, но для издателей это явно было вопросом престижа, а не прибыли. Правда, список жертвователей на «Специальный Победный Сувенирный Выпуск» выглядел внушительно, и возглавлял его сам президент.
Я увидел фамилии большинства моих друзей и с улыбкой прочел, что пятьдесят тысяч экземпляров, бесплатно розданных «нашим доблестным воинам», оплачены доном Эрнандо. Довольно наивная, на мой взгляд, заявка на популярность. И стоит ли расположение воинов таких денег? И не слишком ли рано писать «Победный», не говоря уже о том, что это бестактно…
Рев толпы прервал мои размышления: началась игра. Мяч заметался от ноги к ноге, но не успел в своем замысловатом движении пересечь и половины поля, как перивиец в голубой футболке сделал подножку полосатому панагурцу. «Эти молодцы не теряют времени, — сказал я себе, — Что-то предпримет судья?» К моему удивлению, он ничего не предпринял. Неужели перекупили?
— Разве это был не фол — правильно выражаюсь? — обратился я к лейтенанту.
— Ха! — воскликнул он, не отрывая глаз от поля. — Кто обращает внимание на такие мелочи? К тому же этот койот ничего не заметил.
Что верно, то верно. Судья находился в другом конце поля, ему явно было трудно поспевать за игроками. Его нерасторопность озадачила меня, но вскоре я понял, в чем дело. Вам приходилось видеть человека, который пытается бегать в тяжелой кольчуге? «Бедняга, — подумал я, испытывая к нему симпатию, с которой один жулик смотрит на другого. — Ты честно отрабатываешь полученную мзду. Тут сидишь на месте, и то жарко…»
Первые десять минут игра шла вполне корректно, было всего три потасовки. Перивийцы упустили возможность забить гол — защитник отбил мяч головой так чисто, что бурное ликование панагурских болельщиков (им отвели особый сектор, с прочными барьерами и полицейской охраной) даже не было заглушено свистом. Я разочаровался. Да, измени форму мяча, и игра будет совсем похожа на заурядное состязание у нас в Айдахо!
Санитары сидели без дела почти до конца первого тайма, когда три перивийца и два панагурца (а может быть, наоборот) переплелись в бесподобной свалке. Только один из них смог сам подняться на ноги, на трибунах творилось нечто невообразимое, наконец пострадавших вынесли с поля боя и наступил небольшой перерыв, пока происходили замены. В этой связи возникло первое серьезное недоразумение: перивийцы заявили, что игроки противной стороны только прикидываются ранеными, чтобы был предлог ввести свежие силы. Но судья был непреклонен. На поле вышли новые игроки, и матч возобновился под глухой ропот зрителей.
Тут же панагурцы забили гол. Никто из моих соседей не покончил с собой, но многие были на грани. Подкрепление явно ободрило гостей, и местной команде приходилось туго. Точные ласы противника превратили защиту перивийцев в сито с очень большими отверстиями.
«Что ж, — сказал я себе, — рефери может позволить себе судить честно — все равно его команда выигрывает!» Кстати, до сих пор он не проявлял явного пристрастия.
Ждать пришлось недолго. Перивийцы дружными усилиями в последний миг отразили грозную атаку на свои ворота, и один из защитников сильнейшим ударом отправил мяч в другой конец поля. Мяч еще не опустился на землю, когда пронзительный свисток прервал игру. Короткое совещание между судьей и капитанами команд почти сразу вылилось в нешуточный конфликт. Футболисты бурно жестикулировали, толпа громогласно выражала свое недовольство.
— Что сейчас происходит? — жалобно спросил я.
— Судья говорит, что наш игрок был в офсайде.
— Каким образом? Он же стоит почти у своих ворот.
— Тише! — крикнул лейтенант, не желая тратить время на то, чтобы просвещать невежду.
Меня не так-то легко заставить замолчать, но на сей раз я покорился, решив разобраться сам. Так, кажется, панагурцы получили право на штрафной… Я вполне разделял чувства болельщиков.
Мяч описал в воздухе изумительную параболу, задел штангу и, несмотря на отчаянный прыжок вратаря, влетел в ворота. Из глоток зрителей вырвался вопль отчаяния, тотчас сменившийся тишиной, которая показалась мне еще более выразительной. Словно исполинский зверь был ранен и затаился, выжидая удобный миг для страшной мести. Несмотря на жгучие лучи полуденного солнца, у меня пробежал холодок по спине. Ни за какие сокровища инков я не поменялся бы местами с этим несчастным, который стоял на поле, обливаясь потом в своей кольчуге.
Итак, 2:0, но мы не теряли надежды. До конца первого тайма оставалось несколько минут, да впереди еще весь второй тайм. Перивийцы рвались в бой и играли как дьяволы, твердо вознамерившись доказать, что готовы принять вызов.
Их воодушевление тотчас принесло плоды. Не прошло и двух минут, как местная команда забила безупречный гол. Трибуны взорвались ликованием. Я орал вместе со всеми, награждая судью испанскими эпитетами, которых, честное слово, до тех пор лаже не знал.
2:1 — и сто тысяч, которые заклинали и проклинали все и вся, мечтая, чтобы счет сравнялся.
Гол был забит перед самым концом тайма. Постараюсь быть беспристрастным — серьезность вопроса требует этого. Один из нападающих нашей команды получил пас, сделал рывок метров на пятнадцать — двадцать, ловко обвел двух защитников и неотразимо пробил по воротам.
Мяч еще трепетал в сетке, когда раздался свисток.
«Что такое? — удивился я. — Неужели не засчитал? Этого не может быть!»
Я ошибся. Судья показал, что игрок подправил мяч рукой. У меня отличное зрение, однако я не заметил никакой руки. Вот почему я, по совести говоря, не могу порицать перивийцев за то, что потом произошло.
Полиции удалось сдержать натиск зрителей, хотя несколько минут казалось, что они вот-вот ворвутся на поле. Обе команды отошли к своим воротам, в центре остался только упорствующий судья. Наверно, в этот миг он соображал, как унести ноги со стадиона, утешаясь мыслью, что после матча сможет удалиться на покой.
Звонкий сигнал горна был неожиданностью для всех, исключая, разумеется, пятьдесят тысяч вымуштрованных болельщиков из вооруженных сил, которые давно с нетерпением ждали его. Внезапно на трибунах воцарилась тишина, такая тишина, что стал слышен шум уличного движения в городе. Новый сигнал — и на месте моря лиц на противоположной трибуне вспыхнуло ослепительное сияние.
Я невольно вскрикнул и прикрыл глаза руками. Мелькнула ужасная мысль: «Атомная бомба…» Я съежился, точно это могло спасти меня. Но взрыва не последовало. Только пламя продолжало сверкать, настолько яркое, что несколько долгих секунд мои глаза воспринимали его даже сквозь закрытые веки. Третий, последний, сигнал горна — и сияние погасло так же внезапно, как появилось.
Я открыл глаза. Все было по-прежнему, если не считать одной небольшой детали. Там, где стоял судья, теперь лежала кучка праха, над которой в недвижном воздухе медленно вился дымок.
Что, что произошло?! Я повернулся к своему соседу. Он был потрясен не меньше моего.
— Мадре де диос, — прошептал он. — Никогда не думал, что так выйдет.
Его расширившиеся зрачки были устремлены не на погребальный костер на футбольном поле, а на изящную программу-сувенир, которая лежала на его коленях. И тут меня осенила догадка! Но… разве это возможно?.
Даже теперь, когда мне все давно объяснили, я с трудом верю тому, что видел собственными глазами. Это было так просто, так очевидно — и так невероятно!
Вы пускали солнечного зайчика маленьким зеркальцем кому-нибудь в глаза? Ну конечно, этот фокус известен каждому ребенку! Помню, как я сыграл подобную штуку с учителем и что потом последовало… Но я никогда не задумывался, что будет, если тот же трюк исполнят пятьдесят тысяч солдат, вооруженных рефлекторами площадью в несколько квадратных дециметров.
До тех пор я не подозревал, сколько энергии содержат солнечные лучи. Большую часть тепла, падавшего на восточную трибуну огромного стадиона, направили на маленькую площадку, где стоял судья. Наверно, он ничего не успел почувствовать — ведь это было все равно что упасть в раскаленную топку!
Уверен, что, кроме дона Эрнандо, никто не ожидал такого результата. Вымуштрованным болельщикам сказали только, что судья будет ослеплен и до конца матча выйдет из строя. Уверен также, что никто не мучился угрызениями совести. В Перивии футбол в почете.
И политические махинации тоже. Пока шла игра (итог был предрешен — на поле вышел более покладистый и разумный судья), мои друзья не теряли времени. И к тому моменту, когда наша команда с триумфом покинула поле (счет 14:2), все уже было закончено. Обошлось почти без стрельбы; выйдя из правительственной ложи, президент узнал, что ему заказан билет на самолет, вылетающий утром следующего дня в Мехико-Сити.
Помню слова генерала Сьерра, которые он произнес, провожая меня на тот же самолет;
— Мы дали армии выиграть футбольный матч. Пока она действовала на стадионе, мы выиграли страну. И все довольны.
Я слишком хорошо воспитан, чтобы выражать вслух свои сомнения в таких случаях, но мне его рассуждения показались близорукими. Миллионы панагурцев чувствовали себя далеко не счастливыми, и рано или поздно должен наступить день расплаты.
Подозреваю, что он уже близок. На прошлой неделе один мой друг (он всемирно известный специалист в своей области, но предпочитает быть свободным художником и работает под чужим именем) невзначай проговорился.
— Джо, — сказал он, — объясни мне, в чем смысл дурацкого заказа, который я недавно получил: сконструировать управляемую ракету, способную поместиться внутри футбольного мяча?
Путешествие по проводам
Перевод П. Ехилевской
Вы, люди, даже не представляете, насколько сложные проблемы нам пришлось решать и какие трудности преодолеть, чтобы усовершенствовать радиотранспортер, — впрочем, его нельзя назвать абсолютно совершенным даже сейчас. Сложнее всего, как и с телевидением за тридцать лет до того, было разобраться с четкостью, и мы около пяти лет бились над этой маленькой проблемой. Если вы зайдете в Научный музей, то увидите там первый предмет, который мы переслали, — деревянный куб, собранный вполне качественно, хотя он представлял собой не единое плотное тело, а состоял из миллионов крошечных сфер. На самом деле он смахивал на нечто вроде твердой версии одного из ранних телевизионных кадров, поскольку, вместо того чтобы передать предмет молекула за молекулой или, еще лучше, электрон за электроном, наши сканеры брали его по маленьким кусочкам.
В некоторых случаях это не имело значения, но, если мы намеревались транспортировать предметы искусства, не говоря уже о человеческих существах, необходимо было значительно усовершенствовать процесс. Добиться желаемого результата мы ухитрились, используя сканеры с дельта-лучами, окружив ими объект со всех сторон — снизу, сверху, справа, слева, сзади и спереди. Синхронизировать все шесть, это, скажу я вам, была еще та задачка! Но в конце концов мы ее решили и обнаружили, что передаваемые элементы приняли ультрамикроскопические размеры, а этого в большинстве случаев было вполне достаточно.
Затем без ведома биологов с тридцать седьмого этажа мы одолжили у них морскую свинку и переслали ее с помощью нашей аппаратуры. Она прошла через нее в великолепном состоянии, не считая разве что мелочи: к концу эксперимента свинка умерла. Поэтому мы вынуждены были вернуть ее владельцам и вежливо попросили сделать вскрытие. Поначалу биологи выразили некоторое недовольство, заявив, что несчастному созданию были привиты особые микробы, которых они месяцами выращивали в пробирке. Наши соседи зашли настолько далеко, что позволили себе категорически отвергнуть нашу просьбу.
Подобное неуважение со стороны каких-то там биологов казалось, разумеется, прискорбным, и мы немедленно генерировали в их лаборатории высокочастотное поле, на несколько минут устроив всем лихорадку. Результаты вскрытия поступили через полчаса. Заключение гласило, что свинка пребывала в удовлетворительном состоянии, но погибла вследствие шока, вызванного перемещением, и если мы хотим повторить эксперимент, то наши жертвы придется транспортировать, предварительно лишив их сознания. Нам также сообщили, что секретный замок был установлен на тридцать седьмом этаже, чтобы защитить его от вторжения всяких вороватых механиков, которым в лучшем случае следовало мыть автомобили в гараже. Мы не могли оставить выпад без ответа, поэтому немедленно сделали рентгенограмму замка и, к ужасу биологов, сообщили им пароль.
В этом главное преимущество нашего положения: можно творить что угодно с другими людьми. Химики с соседнего этажа были, пожалуй, нашими единственными серьезными конкурентами, но мы взяли верх и над ними. Да, я помню то время, когда через дырочку в потолке они запускали в нашу лабораторию какое-то гнусное органическое вещество. Пришлось в течение месяца работать в респираторах, но наша месть не заставила себя ждать. Каждый вечер, после того как персонал расходился, мы засылали слабые дозы космического излучения в лабораторию и замораживали их драгоценных микробов. И так продолжалось до тех пор, пока однажды вечером там не остался старый профессор Хадсон, которого мы едва не прикончили.
Но возвращаюсь к моему рассказу.
Мы достали другую морскую свинку, усыпили ее хлороформом и отправили через трансмиттер. К нашему восхищению, она выжила. Мы немедленно умертвили ее и для блага потомков сделали из нее чучело. Вы можете увидеть его в музее рядом с нашими первыми приборами.
Однако разработанный нами способ ни в коем случае не годился для обслуживания пассажиров — он слишком походил на операцию и, естественно, не мог устроить большинство людей. Тогда мы сократили время пересылки до одной десятитысячной секунды, чтобы таким образом ослабить шок, и в результате посланная нами морская свинка не пострадала ни умственно, ни физически. Она также была превращена в чучело.
Что ж, пришло время одному из нас испытать аппарат на себе. Но, осознавая, какую потерю понесет человечество, если что-либо пойдет не так, мы нашли подходящую жертву в лице профессора Кингстона, преподававшего не то греческий, не то еще какую-то ерунду на сто девяносто седьмом этаже. Мы заманили его в трансмиттер с помощью копии Гомера, включили поле и, проследив за показаниями приборов, убедились, что он прошел через ряд передатчиков, сохранив все свои физические и умственные способности, какими бы скромными они ни были. Мы с удовольствием сделали бы чучело и из него, но осуществить замысел оказалось невозможным.
Затем и мы по очереди прошли сквозь трансмиттер, удостоверились в абсолютной безболезненности ощущений и решили выкинуть прибор на рынок. Я полагаю, вы помните, какое волнение в прессе вызвала первая демонстрация нашей маленькой игрушки. Нам пришлось приложить чертову прорву усилий, убеждая общественность, что это не газетная утка. Однако нам не поверили, пока сами не прошли через трансмиттер. Линию протянули до владений лорда Росскасла, однако попытка загнать в трансмиттер его самого вполне могла привести к тому, что у нас полетели бы все предохранители.
Эта демонстрация сделала нам такую рекламу, что проблем с организацией компании не возникло. Мы с неохотой распрощались с Фондом исследований, пообещали оставшимся ученым, что, возможно, однажды отплатим добром за зло, выслав им несколько миллионов, и приступили к изготовлению наших первых передатчиков и приемников.
Первое торжественное перемещение состоялось десятого мая 1962 года. Церемония прошла в Лондоне, в конце линии трансмиттера. У парижского приемника тоже собрались толпы жаждущих стать свидетелями прибытия первых пассажиров, хотя, возможно, большинство надеялось, что те так и не появятся. Под приветственные возгласы тысяч людей премьер-министр надавил на кнопку (которая ни с чем не соединялась), главный инженер повернул выключатель (именно он и играл решающую роль), и огромный британский флаг исчез из поля зрения, чтобы вновь появиться уже в Париже, к вящему возмущению некоторых патриотически настроенных французов.
После этого пассажиры хлынули таким потоком, что таможенные чиновники оказались совершенно беспомощными. Служба мгновенно добилась огромного успеха, поскольку мы брали всего два фунта с человека. Столь скромная плата была назначена по той причине, что электричество обходилось нам в одну сотую пенни.
Прошло немного времени, и мы уже обслуживали все крупные города в Европе при помощи кабеля, а не радио. Система проводов была более безопасной, хотя проложить под Каналом полиаксиальный кабель, стоимостью 500 фунтов за милю оказалось безумно трудной задачей. Затем во взаимодействии с почтовым ведомством мы начали развивать внутренние связи между крупными городами. Вы, должно быть, помните наши лозунги: «Путешествие по телефону» и «По проводам быстрее», которые были у всех на слуху в 1963 году. Вскоре нашими услугами стали пользоваться практически все, и приходилось переправлять тысячи тонн грузов в день.
Естественно, бывали несчастные случаи, но мы могли оправдаться тем, что снизили число катастроф на дорогах до десяти тысяч в год, чего никак не мог добиться министр транспорта. Мы теряли одного клиента из шести миллионов, а это весьма неплохо для начала, хотя сейчас наши показатели гораздо выше. Кое-какие из неудач были действительно весьма специфическими, но на самом деле мы не смогли объяснить ни родственникам погибшего, ни страховым компаниям всего несколько случаев.
Чаще всего причиной трагедии служило заземление по всей линии. Когда такое случалось, наш несчастный пассажир просто распылялся в ничто. Полагаю, что его или ее молекулы более или менее равномерно распределялись по всей поверхности земли. В связи с этим вспоминается один особенно жуткий инцидент, когда аппаратура отказала на середине трансмиссии. Можете представить себе результат…
…Возможно, самым худшим происшествием можно считать то, когда две линии скрестились, и потоки смешались.
Конечно, не все инциденты были столь ужасающими, как эти. Иногда в результате высокого сопротивления на маршруте пассажир за время путешествия терял что-то около пяти стоунов, что обходилось нам в общей сложности в тысячу фунтов и немалое число бесплатных обедов, дабы восстановить потерянный вес. К счастью, мы скоро научились и на злом делать деньги, поскольку полные люди приходили исключительно за тем, чтобы уменьшиться до приличных размеров. Мы сконструировали специальные аппараты, отправлявшие тучных дам вокруг кольца сопротивления и вновь возвращавшие их на место старта, но уже избавленными от того, что служило причиной беспокойства. «Так быстро, моя дорогая, и абсолютно безболезненно! Я уверена, что они могут моментально избавить тебя от тех ста пятидесяти фунтов, которые ты мечтаешь потерять. Или их уже двести?»
У нас также возникло немало проблем с помехами и индукцией. Видите ли, наша аппаратура улавливает разнообразные электрические колебания и накладывает их на перемещаемый объект. В результате многие люди утрачивали всякое сходство с обитателями Земли и, скорее; весьма отдаленно напоминали пришельцев с Марса или Венеры. Обычно пластическим хирургам удавалось исправить положение, но кое-кого следовало увидеть собственными глазами, чтобы поверить, что такое вообще возможно.
К счастью, сейчас, благодаря использованию микролучей, эти трудности в основном удалось преодолеть, хотя время от времени подобные инциденты все еще имеют место. Вы, наверное, помните тот громкий судебный процесс с Литой Кордова — телевизионной звездой, утверждавшей, что пострадала ее внешность, и предъявившей нам иск на миллион фунтов. Она заявила, что в процессе трансмиссии у нее сместился один глаз, но ни я, ни достаточно компетентные судьи не заметили разницы. Она закатила в суде истерику. Тогда наш главный инженер-электронщик, вызванный в качестве свидетеля, к тревоге адвокатов обеих сторон, жестко заявил, что, если бы во время трансмиссии действительно что-то произошло, мисс Кордова едва ли узнала бы саму себя в поднесенном чьей-либо безжалостной рукой зеркале.
Многие интересуются, когда мы начнем обслуживание Венеры или Марса. Со временем и это, без сомнения, произойдет, но, конечно, сложностей очень много. В космосе так много солнечных помех, не говоря уж о разбросанных повсюду разнообразных отражающих слоях. Апплетон «Q» не пропускает даже микроволны, а толщина этого слоя, доложу я вам, достигает ста тысяч километров. До тех пор пока мы не в состоянии пронзить его, держатели межпланетных акций могут не беспокоиться.
Однако, я вижу, уже почти десять вечера — мне пора. В полночь я должен быть в Нью-Йорке. Что-что? О нет, я лечу самолетом. Сам я никогда не путешествую по проводам. Я, видите ли, помогал создавать эту штуку.
Ракету мне, ракету! Спокойной ночи!
Пища богов
Перевод В. Гольдича, И. Оганесовой
Я считаю своим долгом предупредить вас, господин Председатель, что большая часть моих показаний вызовет у вас весьма неприятные ощущения, поскольку в них раскрываются аспекты природы человека, о которых редко говорится вслух и уж, во всяком случае, не перед членами Конгресса. Но боюсь, что вам придется взять себя в руки и выслушать меня; порой наступают времена, когда следует сорвать покрывало лицемерия, и сейчас как раз наступил такой момент.
Мы с вами, джентльмены, являемся потомками плотоядных животных. Судя по выражению ваших лиц, я вижу, что большинству из вас этот термин незнаком. Ну что же, в этом нет ничего удивительного. Он пришел к нам из языка, который устарел и вышел из обихода две тысячи лет назад. Возможно, мне стоит избегать эвфемизмов и использовать самые прямые — и иногда грубые — выражения, не принятые в приличном обществе. Прошу заранее меня простить, если я оскорблю чьи-нибудь чувства.
Всего несколько веков назад любимой пищей практически всех людей было мясо — иными словами, плоть убитых животных. Не подумайте, будто я пытаюсь вызвать у вас тошноту или отвращение, — я сообщил вам факт, который вы можете легко проверить, взяв в руки книгу по истории…
Ну конечно, господин Председатель, я готов подождать, когда сенатору Ирвингу станет лучше. Мы, профессионалы, нередко забываем о том, как простые люди могут отреагировать на заявление подобного характера. С другой стороны, я должен предупредить членов Конгресса, что впереди вас ждут гораздо более страшные вещи. Если кто-нибудь из вас, джентльмены, не уверен в том, что он в состоянии выслушать мой доклад до конца, я советую вам последовать за сенатором, прежде чем будет слишком поздно…
Итак, позвольте мне продолжить. До нынешнего времени все продукты питания делились на две категории. Большая их часть получалась из растений — крупы, фрукты, планктон, водоросли и прочее. Нам с вами трудно представить себе, что в основном наши предки были фермерами, которые добывали пищу на земле и в море с использованием примитивных и часто исключительно тяжелых — физически — методов, но такова правда.
Второй категорией продуктов питания, если мне будет позволительно вернуться к столь неприятной теме, являлось мясо, получаемое из относительно ограниченного количества видов животных. Возможно, вам знакомы некоторые из них — коровы, свиньи, овцы, киты. Большинство людей — мне очень не хочется делать на этом акцент, но не в моих силах изменить историю — предпочитали мясо любой другой еде, хотя только самые богатые могли позволить себе питаться им ежедневно. Для многих же мясо являлось редким деликатесом, дополнением к овощной диете.
Если мы взглянем на данную проблему спокойно и без лишних эмоций — я уверен, что сенатор Ирвинг уже достаточно пришел в себя, чтобы это сделать, — мы увидим, что мясо было редкостью, причем достаточно дорогим продуктом, поскольку его производство отличается исключительной неэффективностью. Чтобы получить килограмм мяса, животное должно съесть по меньшей мере десять килограммов растительной пищи — часто такой, каковую люди могли непосредственно употреблять и сами. Если забыть на время об эстетической стороне вопроса, такое положение вещей не могло устраивать возросшее население двадцатого века. Каждый человек, который ел мясо, обрекал на голод десять или более своих собратьев.
К счастью для всех нас, биохимики сумели решить эту проблему. Как вы знаете, ответом стал один из бесчисленных побочных продуктов космических исследований. Все продукты питания — животные и растительные — создаются всего из нескольких элементов. Углерод, кислород, водород, азот, небольшое количество серы и фосфора и еще несколько дополнительных элементов в разных комбинациях лежат в основе всего, что мы едим в настоящее время и, разумеется, будем есть всегда. Столкнувшись с необходимостью колонизации Луны и других планет, биохимики двадцать первого века научились синтезировать любой вид пищи из основного сырья — воды, воздуха, камня. Мы имеем право назвать их открытие одним из самых важных достижений в истории науки. Но нам не следует слишком гордиться нашими успехами. Растительное царство опережает нас в своем развитии на миллиард лет.
Сегодня химики в состоянии синтезировать любой продукт вне зависимости оттого, имеется ли его аналог в природе. Нет необходимости говорить, что на этом пути случались ошибки — иногда даже катастрофы. Рождались и гибли целые промышленные империи; переход от сельского хозяйства и разведения скота к огромным автоматизированным заводам по переработке сырья был чрезвычайно болезненным. Но мы победили. Опасность голода уничтожена навсегда, и мы получили такие разнообразные и многочисленные продукты питания, каких не знал ни один другой век.
Естественно, не следует забывать и о моральном аспекте вопроса. Мы больше не убиваем миллионы живых существ, а такие омерзительные учреждения, как бойни и мясные лавки, стерты с лица Земли. И нам трудно поверить в то, что наши предки, придерживавшиеся, как это ни прискорбно, варварских обычаев, могли терпеть такое положение вещей.
Однако полностью порвать с прошлым и забыть о нем невозможно. Как я уже сказал в самом начале своей речи, мы принадлежим к отряду плотоядных животных; мы унаследовали вкусы, которые развивались и культивировались на протяжении миллионов лет. Нравится нам это или нет, но еще несколько лет назад некоторые из наших прадедов наслаждались мясом домашнего скота — когда могли его достать. И мы продолжаем получать от него удовольствие по сей день…
О Господи, может быть, сенатору Ирвингу следует покинуть наш зал заседаний. Возможно, я погорячился, и мне не следовало высказываться столь прямо и резко. Разумеется, я имел в виду, что большая часть искусственных продуктов, которые мы употребляем, имеет ту же формулу, что и прежние натуральные продукты. По правде говоря, некоторые из них являются столь точной копией, что ни химические, ни какие-либо другие тесты не в состоянии выявить разницы. Должен заметить, что такое положение вещей логично и неизбежно. Мы, производители, взяли самые популярные натуральные продукты питания в качестве модели и воспроизвели их вкус и внешний вид.
Естественно, мы дали своим произведениям новые имена, которые не содержат даже намека на анатомическое или животное происхождение, чтобы потребители забыли о позорных фактах прошлого человечества.
Когда вы приходите в ресторан и берете меню, вы видите там названия блюд, в большинстве своем придуманные в двадцать первом веке, — некоторые из них заимствованы из французского языка, известного лишь единицам. Если вам интересно выявить порог собственной терпимости, вы можете провести любопытный, но весьма неприятный эксперимент. В закрытом для широкого пользования отделе Библиотеки Конгресса содержится огромное количество старых меню из знаменитых ресторанов, а кроме того, меню банкетов, проводимых в Белом Доме в течение пятисот лет. Их характеризует грубый налет откровенности, присущий залам для вскрытия, который делает их практически невозможными для чтения. Мне трудно представить себе, что еще способно столь же наглядно продемонстрировать, какая огромная пропасть разделяет нас и наших предков, живших всего несколько поколений назад.
Да, господин Председатель, я и собираюсь подойти к самой сути дела. Все, что я сейчас вам рассказал, имеет огромное значение, хотя и, согласен, неприятно для просвещенного уха. В мои намерения ни в коей мере не входит испортить вам аппетит. Я всего лишь хочу обрисовать ситуацию, чтобы затем выдвинуть обвинения против моего конкурента — корпорации «Трипланетарные продукты питания». Если вы не будете посвящены в историю вопроса, вы можете посчитать мое заявление легкомысленной жалобой, возникшей в результате серьезных убытков, которые понесла моя компания с тех пор, как на рынке появилась «Амброзия плюс».
Новые продукты питания изобретаются каждую неделю. Уследить за всеми невозможно. Они появляются и исчезают, как мода на женскую одежду, и только один из тысячи потребители признают и с удовольствием вводят в свой рацион. Очень редко случается так, что какой-нибудь продукт удерживается на рынке больше двух недель, и я готов признать, что блюда из серии «Амброзия плюс» явились величайшим успехом во всей истории пищевой промышленности. Вам всем известна сложившаяся в настоящий момент ситуация — все остальные продукты сметены и выброшены с рынка потребления.
Вне всякого сомнения, мы были вынуждены принять брошенный нам вызов. В моей компании работают прекрасные биохимики, и они сразу же принялись изучать «Амброзию плюс». Я не открою никакого секрета, если скажу, что у нас имеются записи практически всех видов продуктов питания, натуральных и искусственных, которые употребляли люди, — включая самые экзотические, о каких вы никогда и не слышали. Например, жареный кальмар, саранча в меду, языки павлинов, венецианские многоножки… Громадная библиотека, содержащая всевозможные оттенки вкуса и описание внешнего вида продуктов, является золотым фондом, на котором зиждется благосостояние нашей компании. Мы выбираем и смешиваем ингредиенты в самых разных комбинациях и, как правило, можем без проблем воссоздать новую продукцию наших конкурентов, появившуюся на рынке.
Однако «Амброзия плюс» вызвала у нас некоторое замешательство. В результате тестов выяснилось, что по составу жиров и протеинов ее можно классифицировать как мясо — но не более того. Впервые мои химики потерпели неудачу. Ни один из них не смог объяснить, что делает данный продукт исключительно популярным среди потребителей, отказавшихся покупать продукцию других компаний. И неудивительно… Впрочем, я забегаю вперед.
Очень скоро, господин Председатель, перед вами предстанет президент корпорации «Триплане гарные продукты питания» — не сомневаюсь, что сделает он это без особого желания. Он скажет вам, что «Амброзия плюс» синтезирована из воздуха, воды, известняка, серы, фосфора и тому подобного. И это будет правдивой, но не самой главной частью истории создания продукта. Поскольку нам наконец удалось раскрыть секрет — который, как и большинство тайн, оказался совсем простым. Нужно только знать, где искать.
Я должен поздравить своего конкурента. Ему удалось создать неограниченное количество идеального продукта для человечества. До сих пор его катастрофически не хватало, и им могли наслаждаться лишь немногие гурманы, которым удавалось его раздобыть. Все без исключения торжественно поклялись, что в жизни не пробовали ничего более изысканного.
Да, химики корпорации «Трипланетарные продукты питания» добились поразительного успеха в области технического решения проблемы. Вам же теперь предстоит решить ее моральный и философский аспекты. В самом начале своей речи я использовал устаревшее слово «плотоядный». Сейчас я познакомлю вас еще с одним и даже произнесу его по буквам: К-А-Н-Н-И-Б-А-Л.
Одержимые
Перевод А. Чапковского
И вот солнце сверкнуло так близко, что вихрь радиации оттеснил Стаю назад, в черную космическую ночь. Ближе не подступиться — потоки света, которые носили се от звезды к звезде, не давали приблизиться к источнику. Если Стая не найдет планету и не укроется в ее тени, ей придется — в который раз! — покинуть только что найденную солнечную систему.
Уже шесть остывших планет были открыты и оставлены Стаей. Эти планеты либо были так холодны, что на органическую жизнь не оставалось и надежды, либо населялись существами, совершенно непригодными для Стаи. Если уж Стая решила выжить, ей надо было найти таких же хозяев, какие остались на ее далекой, обреченной планете. Миллионы лет назад Стая взлетела к звездам на сверкающих лучах своего взорвавшегося солнца. Но воспоминания о потерянной родине по-прежнему были пронзительны и ярки — боль, которой не суждено стихнуть.
Впереди, окруженная мерцающим ореолом, показалась планета. Тончайшими органами чувств, обостренными годами бесконечных странствий, Стая потянулась к ней, достигла и нашла пригодной для обитания.
Как только черный диск планеты заслонил солнце, свирепый ураган радиации стих. Под действием гравитации Стая свободно падала до внешнего пояса атмосферы. Когда-то, при первых посадках на планеты, Стая чуть было не погибла, но теперь она научилась сжимать тончайшую ткань своего тела в крохотный, плотно сбитый комок — невероятное искусство, достигнутое ценой бесконечных упражнений. Понемногу ее скорость падала, пока наконец Стая не повисла между небом и землей.
Долгие годы Стая плавала от полюса к полюсу на ветрах стратосферы, а беззвучные залпы зари гнали ее на запад, прочь от поднимающегося солнца. И всюду она замечала жизнь, но нигде — разум. Обитатели планеты ползали, летали, прыгали, но никто из них не мог ни говорить, ни строить. Возможно, через десять миллионов лет здесь и появятся существа, которыми Стая сможет завладеть и управлять, пока же ничто не говорило об этом. Стая не могла даже предположить, какой из бесчисленных организмов, обитавших на планете, унаследует будущее, а без такого хозяина она была ничем — обычная схема электрических зарядов, матрица порядка и самосознания в хаосе Вселенной. Сама Стая не могла управлять материей, но, овладев сознанием живых существ, она приобретала неограниченные возможности.
Планета уже не однажды изучалась космическими пришельцами, но столь острая необходимость в этом возникла впервые. Стая находилась перед мучительным выбором: она могла вновь начать изматывающие скитания в надежде отыскать наконец лучшую планету, а могла и остаться здесь, ожидая появления пригодной для ее целей расы.
Подобно стелющемуся в тени туману, витала она в воздухе, послушная воле изменчивых ветров, невидимкой проплывала над неуклюжими, безобразными рептилиями, наблюдая, запоминая, анализируя, стараясь определить их будущее. Но ей не на ком было остановить свой выбор: ни в одном из этих существ не был виден пробуждающийся разум. А покинь Стая этот мир в поисках другого, она могла тщетно рыскать по Вселенной до скончания времен.
Наконец Стая приняла решение. Природа не принуждала ее останавливаться на чем-то одном: большая часть ее могла продолжать межзвездные скитания, а меньшая оставаться здесь — как семя, которое, возможно, когда-нибудь принесет плоды.
Стая закружилась вокруг своей оси, ее почти невесомое тело приняло форму диска. Где-то на границе видимости затрепетали ее края — теперь это был бледный дух, слабая, неуловимая дымка, вдруг распавшаяся на две части. Кружение ослабевало, и вот уже по небу плыли две Стаи, но обе обладали памятью, желаниями и стремлениями единого существа.
В последний раз родительская Стая обменивалась мыслями со своим детищем и близнецом. При удачном повороте судьбы, решили они, эта долина меж гор когда-нибудь станет местом их встречи. Оставшаяся часть Стаи будет возвращаться сюда в назначенный час из века в век; сюда же будет послан гонец, если странникам удастся открыть мир, более пригодный для целей Стаи. И тогда обе части вновь сольются воедино, и Стая навсегда покончит с бесприютным существованием изгнанников, с пустыми скитаниями средь равнодушных звезд.
С первыми лучами зари, осветившей еще совсем молодые горы, родительская Стая поднялась к солнцу. На границе атмосферы ее подхватила буря радиации, вынесла за пределы системы и вновь бросила в бесконечный поиск. Оставшаяся часть Стаи приступила к своей почти столь же безнадежной задаче. Она искала существо, настолько распространенное на планете, что ни болезнь, ни несчастный случай не могли бы истребить весь вид, и в то же время достаточно крупное, чтобы оно подчинило себе окружающий мир. Это существо должно было быстро размножаться — только так Стая могла направлять и контролировать его эволюцию. Искать пришлось долго, выбор был нелегок, но хозяин наконец нашелся. Подобно дождю, который впитывается в выжженную почву, Стая проникла в маленькие тела одного вида ящериц и этим определила их будущее.
То была невероятно трудная задача даже для тех, кто не ведал смерти. Не одно поколение ящериц кануло в вечность, прежде чем появились едва заметные сдвиги. И всегда в назначенный час Стая возвращалась в горы, на место встречи. И всегда напрасно: ее не ждал там посланец звезд с радостной вестью.
Века переходили в тысячелетия, тысячелетия — в эры. С точки зрения геологического времени ящерицы изменялись довольно быстро. Теперь это уже были даже не ящерицы, а покрытые шерстью теплокровные живородящие существа. Все еще тщедушные и слабые, с маленьким мозгом, они, тем не менее, носили в себе зачатки будущего величия.
Но в медленном течении веков менялись не только организмы. Распадались континенты, под тяжестью неиссякаемых дождей разрушались горы. Сквозь все эти перемены Стая неуклонно шла к своей цели; и всегда в назначенный час она приходила к месту встречи, терпеливо ждала и уходила. Возможно, родительская Стая все еще странствовала где-то, а возможно — как ни страшно об этом подумать, — под гнетом неведомого рока она разделила участь некогда управляемой ею расы. Но пока оставалось только ждать и стараться определить, можно ли заставить неподатливый животный мир планеты выйти на дорогу, ведущую к разуму.
И вновь проходили тысячелетия…
Где-то в лабиринте эволюции Стая совершила роковую ошибку и пошла по неверному пути. С тех пор как она впервые появилась на Земле, минули сотни миллионов лет, и Стая устала. Она деградировала. Потускнели воспоминания о древнем доме, о предназначении; в то время как ее хозяева преодолевали путь, который ведет к самосознанию, разум Стаи все слабел. И по иронии небес, послужив движущей силой, которая некогда принесла в этот мир разум, Стая исчерпала себя, дошла до высшей степени паразитизма: она не могла больше существовать без хозяина. Навсегда прошли времена, когда, подвластная лишь ветру и солнцу, Стая свободно парила над миром. Чтобы добраться до древнего места встречи, ей приходилось теперь мучительно долго передвигаться вместе с тысячами мелких существ. Но она по-прежнему чтила незапамятный обряд, особенно теперь, когда сознание горького поражения еще сильнее разжигало в ней желание к воссоединению. Только родительская Стая, вернувшись и поглотив ее, способна была возродить в ней жизнь и силу.
Наступали и отступали ледники; те крошечные существа, которые носили в себе исчезающий инопланетный разум, чудом избежали смертельных объятий льда. Океан обрушивался на сушу, но они не погибли. Их стало даже больше, и только. Унаследовать этот мир им не было дано — далеко, в глубине другого континента, с дерева слезла обезьяна и с зарождающимся любопытством уставилась на звезды.
Разум Стаи, рассеянный средь миллионов крошечных существ, ослабевал и был более не способен объединиться для выполнения своей цели. Распались связующие звенья, гасли воспоминания. От силы через миллион лет они и вовсе исчезнут.
Одно оставалось неизменным: слепая тяга, заставлявшая Стаю через интервалы, которые раз от разу, по какому-то удивительному заблуждению, становились все короче, искать завершения своих скитаний в давно исчезнувшей долине.
Неслышно рассекая лунную дорожку, прогулочный катер миновал мигающий огоньками остров и вошел в фьорд. Стояла светлая, прозрачная ночь; на западе, за Фарерскими островами, виднелась падающая Венера, а впереди в неподвижной глади воды отражались чуть вздрагивающие огни гавани.
Нильс и Христина были счастливы. Они стояли около поручней, их пальцы переплелись в тесном пожатии, глаза не отрывались от покрытого лесом склона, проплывающего мимо. Высокие деревья неподвижно стояли в лунном свете, выплывая из моря теней своими белоснежными стволами; даже легкое дуновение ветерка не трогало их листвы. Весь мир спал; только катер своим движением осмеливался нарушить очарование, заворожившее даже ночь.
Неожиданно Христина вскрикнула, и Нильс почувствовал, что пальцы ее судорожно вцепились в его руку. Он проследил за се взглядом: Христина во все глаза смотрела на берег, где безмолвно высились стражи леса.
— Что ты, милая? — тревожно спросил он.
— Смотри, — ответила она так тихо, что Нильс едва расслышал. — Там, под соснами.
Нильс вгляделся в берег, и красота, только что стоявшая перед его глазами, начала медленно гаснуть, уступая место первобытному ужасу, выползающему из тьмы веков. Там, под деревьями, ожила земля: пятнистый коричневый поток падал со склона холма и поглощался черной морской пучиной. На поляне, до которой не дотягивались тени деревьев, ярким пятном лежал лунный свет. Пятно менялось на глазах: казалось, сама земля струйками стекала вниз, подобно медлительному водопаду, ищущему встречи с морем.
Но вот Нильс рассмеялся, и все встало на свое место. Озадаченная, но успокоившаяся Христина обернулась к нему.
— Разве ты не помнишь? — смеялся он. — Мы же читали сегодня утром в газете. Это происходит раз в несколько лет, и всегда ночью. Они уже не первый день так идут.
Нильс поддразнивал ее, стараясь разогнать напряжение последних минут. Христина посмотрела на него и слегка улыбнулась.
— Ну, конечно же, — воскликнула она. — Какая я глупая!
Она еще раз обернулась назад, и лицо ее опять стало грустным — Христина была слишком отзывчива.
— Бедняжки, — вздохнула она, — И зачем они это делают?
Нильс безразлично пожал плечами.
— Кто знает, — ответил он. — Одна из бесчисленных загадок. Не думай об этом, не береди душу. Смотри! Мы сейчас входим в гавань.
Они повернулись к манящим огонькам, за которыми лежало их будущее, и Христина только раз взглянула назад, на несчастную лавину, которая неудержимым потоком неслась вниз, освещенная слабым лунным светом.
Повинуясь какому-то неведомому зову, легионы обреченных леммингов находили смерть в волнах моря.
Лазейка
Перевод П. Ехилевской
От: Президента
Кому: Секретарю Совета по науке
Меня информировали о том, что обитатели Земли добились успеха в освоении атомной энергии и проводят эксперименты по запуску ракет. Ситуация весьма и весьма серьезная. Немедленно представьте полный отчет. И на этот раз сделайте его кратким.
К. К. IVОт: Секретаря Совета по науке
Кому: Президенту
Факты следующие. Несколько месяцев назад приборы зафиксировали интенсивное атомное излучение с Земли, но анализ радиопередач в то время не дал объяснения. Три дня назад произошел второй выброс, и вскоре все радиостанции Земли сообщили, что в текущей войне применены атомные бомбы.
Передатчики не завершили сообщение, но, судя по всему, бомбы обладают значительной мощностью. На данный момент были взорваны две. Некоторые детали их конструкции определены, но составляющие элементы до сих пор не идентифицированы. Более полный доклад будет представлен в максимально короткий срок. В настоящее время достоверно известно лишь то, что обитатели Земли высвободили атомную энергию, используемую пока только для взрывов.
Относительно исследований в области запуска ракет с Земли сведения очень скудны. Наши астрономы внимательно следят за планетой с тех пор, как поколение назад было впервые обнаружено радиоизлучение. Точно известно, что на Земле существует некий тип ракет дальнего радиуса действия, поскольку о них не раз упоминалось в радиопереговорах военных. Однако серьезных попыток по освоению межпланетного пространства предпринято не было. Ожидается, что по окончании войны жители планеты продолжат исследования в этом направлении. Мы намерены уделять пристальное внимание их радиопередачам, а также планируем существенно активизировать астрономические наблюдения.
Исходя из имеющихся у нас сведений о технологических достижениях планеты, разработка землянами атомных ракет, способных пересечь космос, потребует еще свыше двадцати лет. С этой точки зрения кажется, что пришло время оборудовать базы на Луне, чтобы с более близкого расстояния вести наблюдение за подобными экспериментами, когда они последуют.
Трескон.(Добавлено от руки.)
Сейчас война на Земле закончена, главным образом благодаря применению атомной бомбы. Это не повлияет на приведенные выше аргументы, но может означать, что жители Земли вновь смогут посвятить себя чисто исследовательской деятельности быстрее, чем ожидалось. Некоторые радиостанции уже указывали на возможность использования атомной энергии для запуска ракет.
Т.От: Президента
Кому: Шефу Бюро экстрапланетарной службы безопасности (Ш. Б. Э. С. Б.)
Вы видели сообщение Трескона.
Безотлагательно организуйте экспедицию на спутник Земли. В ее задачи входит пристальное наблюдение за планетой и немедленный доклад в случае достижения прогресса в области экспериментов по запуску ракет.
С величайшим вниманием следует отнестись к сохранению в тайне нашего пребывания на Луне. Вы лично отвечаете за это. Докладывайте мне раз в год, а если потребуется, чаше.
К. К. IVОт: Президента
Кому: Ш. Б. Э. С. Б.
Где сообщения с Земли?!!
К. К. IVОт: Ш. Б. Э. С. Б.
Кому: Президенту
Извините за задержку. Виной тому поломка корабля, перевозившего сообщение.
За прошедший год не было замечено признаков проведения экспериментов с ракетами. В радиопередачах с планеты упоминания о них также отсутствовали.
Рэнт.От: Ш. Б. Э. С. Б.
Кому: Президенту
Вы можете ознакомиться с моими ежегодными докладами по этому вопросу вашему уважаемому отцу. За прошедшие пятнадцать лет развития интересующей нас темы не наблюдалось, однако только что мы получили сообщение с нашей базы на Луне.
Реактивный снаряд, приводимый в движение атомной энергией, был сегодня запущен с северного континента. Он покинул атмосферу Земли и, прежде чем выйти из-под контроля, успел продвинуться в космос на четверть диаметра планеты.
Рэнт.От: Президента
Кому: Шефу Службы
Ваши комментарии, пожалуйста.
К. К. VОт: Шефа Службы
Кому: Президенту
Это означает конец нашей традиционной политики.
Единственной гарантией безопасности может послужить предотвращение проведения землянами дальнейших работ в этом направлении. Исходя из того, что нам о них известно, потребуется ошеломляющая угроза.
Поскольку высокая сила тяжести делает высадку на планету для нас невозможной, сфера нашей деятельности ограничена. Проблема обсуждалась около века назад Анваром, и я согласен с его заключениями. Мы должны действовать в предложенном им направлении, и незамедлительно.
Ф. К. С.От: Президента
Кому: Секретарю Службы
Проинформируйте Совет о назначенном на завтрашний полдень чрезвычайном заседании.
К. К. VОт: Президента
Кому: Ш. Б. Э. С. Б.
Двадцати военных кораблей будет достаточно для приведения в действие плана Анвара. К счастью, нет необходимости вооружать их — пока. Еженедельно докладывайте мне о ходе их постройки.
К. К. VОт: Ш. Б. Э. С. Б.
Кому: Президенту
Девятнадцать кораблей уже готовы. Двадцатый пока недостроен из-за неполадок с корпусом и будет сдан в эксплуатацию не ранее чем через месяц.
Рэнт.От: Президента
Кому: Ш Б. Э. С. Б.
Девятнадцати достаточно. Завтра я согласую с вами план действий. Готов ли уже предварительный текст нашей радиопередачи?
К. К. VТекст прилагается:
Люди Земли!
Мы, жители планеты, которую вы называете Марс, в течение многих лет наблюдали за вашими экспериментами и достигнутыми успехами в межпланетных путешествиях. Эксперименты необходимо прекратить. Изучая вашу расу, мы убедились, что на нынешней стадии развития цивилизации вы не готовы покинуть планету. Корабли, которые вы видите сейчас над вашими городами, способны полностью их разрушить и сделают это, в случае если вы не прекратите попытки проникновения в космос.
Мы оборудовали обсерваторию на вашей Луне и можем немедленно обнаружить любые нарушения наших приказов. Если вы подчинитесь, мы не станем вмешиваться в вашу жизнь. В противном случае всякий раз, когда мы заметим ракету, покидающую атмосферу Земли, один из ваших городов будет немедленно разрушен.
По распоряжению Президента и Совета Марса.
Рэнт.От: Президента
Кому: Ш. Б. Э. С. Б.
Одобряю. Трансляцию можно осуществить предварительно. В конечном итоге я принял решение не лететь с флотом. Немедленно по возвращении жду вас с подробным отчетом.
К. К. VОт: Ш. Б. Э. С. Б.
Кому: Президенту
Имею честь сообщить о полном успехе нашей миссии. Путешествие на Землю прошло без эксцессов: по радиопередачам с планеты можно было заключить, что нас обнаружили на значительном расстоянии и наше появление вызвало немалый ажиотаж. Флот рассредоточился согласно плану, и я передал по радио ультиматум. Мы немедленно отбыли, и противник не предпринимал попыток применить против нас оружие.
О деталях доложу в течение двух дней.
Рэнт.От: Секретаря Совета по науке
Кому: Президенту
Психологи завершили свой доклад, прилагаемый ниже.
Как можно было ожидать, поначалу наши требования вызвали возмущение упрямых и пылких землян. Их гордости был нанесен серьезный удар, поскольку они пребывали в убеждении, что являются единственными разумными существами во Вселенной.
Однако в течение нескольких недель в тоне их заявлений произошли абсолютно неожиданные изменения. Земляне поняли, что мы перехватываем все их радиопередачи, и некоторые послания адресовывались непосредственно нам. Они заявляли, что, согласно нашим пожеланиям, готовы прекратить все эксперименты с ракетами. Это столь же неожиданно, сколь и приятно. Даже если земляне попытаются обмануть нас, сейчас мы находимся в полной безопасности, поскольку оборудована вторая станция, как раз на границе атмосферы. Они не имеют возможности развивать космическое кораблестроение, так как мы немедленно это обнаружим или засечем излучение. Наблюдение за Землей будет осуществляться строго согласно инструкции.
Трескон.От: Ш. Б. Э. С. Б.
Кому: Президенту
Да, это чистая правда: в течение последних десяти лет дальнейшие эксперименты с ракетами не проводились. Мы действительно не ожидали, что Земля капитулирует так легко!
Я согласен с тем, что существование этой расы является постоянной угрозой нашей цивилизации, и мы проводим эксперименты, согласно предложенным вами направлениям. Проблема усложняется из-за огромных размеров планеты. О взрывах не может быть и речи, главной надеждой на успех является применение радиоактивных отравляющих веществ какого-либо типа.
К счастью, теперь мы располагаем неограниченным временем для завершения исследований, и я буду докладывать регулярно.
Рэнт.(Конец документа.)
От: Капитан-лейтенанта Генри Форбса, Отделение разведки, Специальный космический корпус
Кому: Профессору С. Макстону, Отделение филологии Оксфордского университета
Курс: Трансендер II (через Скенектеди).
Вышеназванные бумаги вместе с другими были обнаружены в руинах того, что, по нашим представлениям, являлось главным городом марсиан. (Марс, координаты KL302895.) Частое использование иероглифа «Земля» предполагает их особенную значимость, и хочется надеяться, что их удастся перевести. Прочие бумаги последуют незамедлительно.
Г. Форбс, каплейт.(Добавлено от руки.)
Дорогой Макс,
простите, что у меня не было времени связаться с вами раньше. Встретимся, как только я вновь попаду на Землю.
Боже! Марс в полном упадке! Наши координаты оказались смертельно точными, и бомбы материализовались как раз над их городами, как и предсказывали парни из Маунтвильсона.
Мы посылаем назад множество веществ посредством двух маленьких устройств, но до тех пор, пока большой трансмиттер не материализован, наши возможности весьма ограниченны и, конечно, никто из нас не может вернуться. Поэтому поторопитесь с этим!
Я рад, что мы вновь можем начать работу над ракетами. Наверное, я покажусь старомодным, но мне не нравится, когда меня тонкой струйкой впрыскивают сквозь космос со скоростью света.
Искренне ваш, Генри.Паразит
Перевод П. Ехилевской
— С этим ты ничего не можешь поделать, — сказал Коннолли, — совсем ничего. Почему тебе понадобилось тащиться за мной?
Он стоял, повернувшись к Пирсону спиной, и глядел на спокойную голубую воду. Далеко слева, за стоящей на приколе флотилией рыболовецких суденышек, солнце садилось в Средиземное море, окрашивая в пурпур землю и небо. Но ни Пирсону, ни его другу не было сейчас дела до природных красот.
Пирсон поднялся на ноги и вышел с затененной веранды маленького кафе под косые лучи солнца. Он встал рядом с Коннолли над отвесной стеной обрыва, не решаясь подойти к товарищу слишком близко. Даже в прежней, нормальной жизни Коннолли не любил, когда кто-нибудь к нему прикасался. Теперь же его навязчивая идея, какой бы она ни была, сделала его вдвойне чувствительным.
— Послушай, Рой, — возбужденно начал Пирсон. — Мы друзья уже двадцать лет, и ты должен знать, что я не покину тебя и на этот раз. Тем более…
— Знаю. Ты обещал Рут.
— А почему нет? В конце концов, она твоя жена. Она имеет право знать, что случилось. — Он помедлил, старательно подбирая слова. — Она переживает, Рой. Переживает гораздо больше, чем если бы дело было только в другой женщине. — Он чуть не добавил «опять», но сдержался.
Коннолли затушил сигарету о плоскую гранитную стену и швырнул белый цилиндрик в море. Крутясь в воздухе, окурок полетел вниз, туда, где в сотне футов под ними темнела вода. Коннолли повернулся к другу.
— Прости, Джек, — произнес он, и на какой-то короткий миг в его липе отразился тот, прежний, Коннолли, который, Пирсон это прекрасно знал, скрывался где-то внутри незнакомца, стоящего сейчас рядом с ним, — Я знаю, ты пытаешься мне помочь, и я ценю это. Но мне жаль, что ты здесь, со мной. Ты сделаешь ситуацию только хуже.
— Убеди меня в этом, и я уйду.
Коннолли вздохнул.
— Я не могу тебя убедить. Так же как не смог убедить того психиатра, к которому вы посоветовали мне обратиться. Бедный Кертис! Он показался мне таким отличным парнем! Передай ему мои извинения, хорошо?
— Я не психиатр и не пытаюсь вылечить тебя, что бы это ни значило. Если тебе нравится так поступать — пожалуйста, твое дело. Но я думаю, ты должен позволить нам понять, что происходит, а там уж, в соответствии с этим, мы будем строить свои планы.
— То есть вы хотите признать меня невменяемым?
Пирсон пожал плечами. Он задавался вопросом, может ли Коннолли разглядеть сквозь его притворное безразличие истинную тревогу, которую он пытался скрыть. Теперь, когда все попытки сближения с Коннолли, кажется, пошли прахом, «честно-говоря-мне-на-все-наплевать» оставалось единственным способом вызвать друга на откровение.
— Я и не думал об этом. Есть несколько практических деталей, о которых следует позаботиться. Ты собираешься остаться здесь на неопределенное время? Ты не можешь жить без денег, даже на Сирене.
— Я могу оставаться на вилле Клиффорда Ронслея сколько пожелаю. Ты же знаешь, он был другом моего отца. Сейчас вилла пуста, не считая слуг, а они не побеспокоят меня.
Коннолли отвернулся от парапета, на который опирался.
— Я собираюсь подняться на гору, пока не стемнело, — сказал он. Слова прозвучали неожиданно, но Пирсон сделал для себя вывод, что ему не дали от ворот поворот. Если он желает, то может составить другу компанию, и это знание было первой ласточкой, несущей надежду, с тех пор как он отыскал Коннолли. Успех был довольно скромным, но Пирсон обрадовался и ему.
Во время подъема они не проронили ни слова, но, если честно, Пирсону было не до разговоров — он и так-то едва дышал. Коннолли поднимался в таком бешеном темпе, словно специально пытался сам себя измотать. Остров отступал вниз, белые виллы, подобно привидениям, просвечивали в тенистых долинах, маленькие рыбацкие лодочки, завершившие дневную работу, отдыхали в гавани. И везде вокруг было темнеющее море.
Когда Пирсон догнал друга, Коннолли сидел над плитой с распятием, которую набожные островитяне воздвигли на самой высокой точке Сирены. Днем здесь толпились туристы, фотографировались или глазели сверху на красивые, будто сошедшие с рекламных проспектов виды, открывавшиеся под ними. Но сейчас, в этот поздний час, на вершине не было ни души.
Коннолли тяжело дышал, однако лицо его просветлело, и моментами даже казалось, что он снова обрел покой. Он повернулся к Пирсону с улыбкой, совсем не похожей на ту ухмылку, которая была у него в последние дни.
— Он ненавидит такие вот физические нагрузки, Джек. Они всегда нагоняют на него страх.
— А кто он? — спросил Пирсон. — Ты нас еще не познакомил.
Коннолли улыбнулся над шуткой друга. Затем его лицо вновь омрачилось.
— Скажи, Джек, — начал он, — ты считаешь, что у меня чрезмерно развито воображение?
— Нет, оно у тебя вполне среднее. Во всяком случае, по сравнению с моим.
Коннолли медленно кивнул.
— Ты прав, Джек, поэтому, возможно, ты мне поверишь. Ведь не мог же я сам придумать создание, которое меня мучает. Оно реально существует. Это не какие-нибудь параноидальные галлюцинации, или как там еще доктор Кертис их называет. Помнишь Мод Уайт? Все началось с нее. Я встретил ее на одной из вечеринок у Дэвида Трескотга шесть недель назад. Я как раз поссорился с Рут и решил, что сыт ею по горло. Мы с Мод оба были навеселе, и раз я оставался в городе, она поехала ко мне на квартиру.
Пирсон внутренне улыбнулся. Бедняга Рой! Всегда одна и та же история, хотя самому Рою, похоже, так не казалось. Для него каждая такая история была наособицу. Для него — но ни для кого больше. Вечный Дон Жуан, всегда ищущий — и всегда разочаровывающийся, ибо то, что он искал, существовало или в колыбели, или в могиле, но никогда между.
— Ты, наверное, будешь смеяться, когда узнаешь, что вывело меня из себя. Это кажется тривиальным, но я в тот раз так испугался, как никогда в жизни. Я подошел к бару, чтобы налить нам выпить. Налил, передал один стакан Мод, и вдруг до меня дошло, что я налил не два стакана, а три. И вышло у меня это настолько естественно, что я сперва не придал случившемуся значения. Я оглядел помещение, чтобы посмотреть, где этот третий, — хотя наверняка знал, что рядом никого больше нет. И его действительно рядом не было, и не могло быть, потому что он сидел у меня глубоко в мозгу…
Ночь казалась очень тихой; единственное, что нарушало тишину, — это слабые отголоски музыки, поднимающиеся к звездам из какого-то кафе внизу. Свет луны посеребрил море. Концы распятия над головой вырисовывались во тьме. Сияющим маяком на границе сумерек вслед за солнцем на запад потянулась Венера.
Пирсон ждал, когда Коннолли продолжит рассказ. Он выглядел достаточно вменяемым и рациональным, несмотря на таинственную историю, которую перед этим поведал. Лицо его в лунном свете выглядело абсолютно спокойным, хотя такого рода спокойствие вполне могло быть результатом какого-то серьезного потрясения.
— Следующее воспоминание — это как я лежу в кровати, а Мод обтирает мое лицо. Она сильно перепугалась: я потерял сознание, упал и рассек себе лоб. Вокруг было много крови, но это не имело значения. Я действительно испугался того, что сошел с ума. Это кажется смешным, но сейчас я боюсь другого — что нахожусь в здравом рассудке. Когда я проснулся окончательно, он все еще был во мне — как потом, как теперь. Каким-то образом я отделался от Мод — помню, это было нелегко — и попытался понять, что происходит. Скажи мне, Джек, ты веришь в телепатию?
Неожиданный вопрос застал Пирсона врасплох.
— Я никогда над этим особенно не задумывался, но существует множество убедительных свидетельств. Ты предполагаешь, что кто-то читает твои мысли?
— Все не так просто. То, о чем я сейчас рассказываю, открывалось мне постепенно — обычно, когда я дремал или был немного навеселе. Ты можешь сказать, что такие свидетельства не в счет, но я так не думаю. Сперва это был единственный способ пробиться сквозь барьер, отделявший меня от Омеги, — позже я тебе расскажу, почему дал ему это имя. Но сейчас не осталось никаких преград: я знаю, что он здесь постоянно, ждет, когда я потеряю бдительность. День или ночь, трезвый я или пьяный, я всегда ощущаю его присутствие. В моменты, как, например, сейчас, он притихает, наблюдая за мной исподволь. Я надеюсь только на то, что когда-нибудь он устанет ждать и отправится на поиски новой жертвы.
Голос Коннолли, до тех пор спокойный, сорвался почти на крик.
— Попытайся представить себе весь ужас этого состояния: знать, что любое твое действие, любая мысль, любое желание наблюдаются и переживаются другим существом. Разумеется, ни о какой нормальной жизни уже не могло быть речи. Я должен был оставить Рут и даже не мог ей объяснить почему. А тут еще меня начала преследовать Мод. Она не оставляет меня в покое, бомбардирует письмами и телефонными звонками. Кошмар. Я не мог бороться с ними обеими, поэтому и сбежал. И еще я подумал, что, может быть, здесь, на Сирене, он сможет найти достаточно интересного, чтобы не беспокоить меня.
— Теперь я понимаю, — мягко произнес Пирсон, а сам подумал: «Ничего себе. Этакий телепат-надсмотрщик, которому вдруг показалось мало быть простым наблюдателем…»
— Полагаю, тебе смешно. — Коннолли принял фразу Пирсона вполне спокойно. — Я не в обиде, только надеюсь, что ты с обычной своей аккуратностью как следует все обдумаешь. Сам я далеко не сразу осознал, какая велась игра. Когда миновало первое потрясение, я попытался проанализировать ситуацию с точки зрения логики. Я мысленно вернулся к тому моменту, когда в первый раз осознал его присутствие, и в конце концов понял, что это не было внезапным вторжением в мой мозг. Он находился со мной годами, скрываясь так хорошо, что я никогда не догадывался об этом. А вот сейчас ты, наверное, будешь смеяться по-настоящему. Так вот, мне никогда не было легко с женщинами, даже когда я занимался любовью, и сейчас я знаю причину. Омега всегда находился в эти моменты рядом, разделяя мои эмоции, вожделея страсти, которую иначе не мог испытывать, как только за счет моего тела. Единственный способ, которым я мог сохранять контроль, — это попытаться пробиться к нему, тесно сойтись с ним и понять, что он такое. И в конце концов мне это удалось. Он находится далеко, и это должно ограничивать его силу. Возможно, этот первый контакт был случайным, но я в этом не уверен. В то, что я тебе рассказал, Джек, достаточно нелегко поверить, но это пустяк по сравнению с тем, что я расскажу сейчас. Вспомни, ты ведь только что согласился с тем, что я человек с довольно слабым воображением, поэтому попробуй отыскать, если сможешь, изъяны в. моем рассказе. Не знаю, приходилось ли тебе когда-нибудь слышать о том, что телепатия — это нечто независимое от времени. Так вот, это действительно так. Омега не принадлежит нашему времени: он откуда-то из будущего, невероятно далекого от нас. Иногда я думал, что он один из последних людей — почему я и дал ему это имя. Но сейчас я не уверен; возможно, он принадлежит к веку, когда мириады человеческих рас живут раскиданными по всей Вселенной — одни из них достаточно молодые, другие дряхлые, уже отживающие. Его народ, где бы и когда бы он ни был, достиг высот и обрушился с них в такие бездны, о которых не подозревали даже дикие звери. Вокруг него витает ощущение зла, Джек, — настоящего зла, с которым большинство из нас никогда не встречались. А иногда я ощущаю почти жалость к нему, потому что знаю, что превратило его в того, кем он стал.
Задавался ли ты когда-либо вопросом, что будет делать человеческая раса, когда ученые откроют все, что только можно, когда больше не останется неисследованных миров, когда звезды раскроют последние секреты? Омега и есть один из ответов на этот вопрос. Полагаю, что ответ не единственный, иначе все, к чему мы стремимся, — напрасный звук. Я надеюсь, что он и его раса являются локальной раковой опухолью на здоровом теле Вселенной. Но я не могу быть Полностью в этом уверенным.
Они изнежили свои тела до такой степени, что те стали для них попросту бесполезны, и слишком поздно обнаружили свою ошибку. Возможно, они считали, как думают некоторые люди уже сейчас, что смогут жить одним интеллектом. А возможно, они обрели бессмертие, и это сделалось для них настоящим проклятием. Веками их умы разлагались в слабых, тщедушных телах, ища какого-нибудь выхода из состояния невыносимой скуки. Они нашли его, наконец, единственным возможным для себя способом — отправив свои умы назад, в ранние, более активные времена и начав паразитировать на чужих эмоциях.
Я задаюсь вопросом, сколько их, таких умственных паразитов. Возможно, они-то как раз и объясняют случаи того, что было принято называть одержимостью. Как они, должно быть, обшаривали прошлое, чтобы утолить свой чувственный голод! Представь себе, как целые стаи этих созданий, как вороны на падаль, набрасываются на пришедший в упадок Рим, распихивая друг друга в охоте за умами Нерона, Калигулы и Тиберия? Возможно, Омеге не удалось заполучить более богатые призы. А может быть, у него не было особого выбора, и пришлось взять первый попавшийся мозг, с которым получилось вступить в контакт.
Понимание всего этого приходило ко мне медленно. Думаю даже, что для него составляет дополнительное развлечение — знать, что я ощущаю его присутствие. Я думаю, он мне сознательно помогает — разламывает барьер со своей стороны. Иначе как бы в конце концов я его увидел.
Коннолли замолчал. Оглянувшись, Пирсон увидел, что на холме они уже не одни. Молодая парочка, взявшись за руки, направлялась по дороге к вершине. Они были красивы красотой молодости и шли, не обращая внимания ни на ночь вокруг, ни на двух посторонних людей, повернувших к ним свои лица. Парочка прошла мимо, кажется, так и не заметив присутствия двух друзей. На губах Коннолли появилась горькая улыбка, когда он смотрел им вслед.
— Наверное, это стыдно, но я сейчас думал о том, чтобы он оставил меня и пошел за этим молодым человеком. Но он этого не сделает. Хотя я и отказался играть в его игры, он останется со мной, чтобы посмотреть, что произойдет в конце.
— Ты как раз хотел рассказать, как он выглядит, — сказал Пирсон, раздосадованный тем, что их отвлекли.
Коннолли зажег сигарету и глубоко затянулся, прежде чем ответить.
— Можешь ты вообразить комнату без стен? Он находится в чем-то вроде полого, в форме яйца, пространства, окруженный голубым туманом, который все время закручивается спиралью, но никогда не меняет формы. Там нет ни входа, ни выхода — и нет притяжения, если только он не научился пренебрегать им. Он плавает в центре, а вокруг него расположено кольцо из коротких рифленых цилиндров, медленно поворачивающееся в воздухе. Я думаю, это какие-то машины, подчиняющиеся его воле. А когда-то имелся еще большой овал, висящий рядом с ним, от которого отходили очень похожие на человеческие руки, прекрасной формы. Это был наверняка робот, но эти руки и пальцы на них казались такими живыми. Они кормили, делали ему массаж, обращались с ним как с младенцем. Это было ужасно…
Ты видел когда-нибудь долгопята-привидение? Он очень напоминает его — кошмарная пародия на человека, с огромными злыми глазами. И что странно — как бы наперекор нашим представлениям о ходе эволюции, — он покрыт тонким слоем шерсти, такой же голубой, как и место, где он живет. Каждый раз, когда я его вижу, он находится в одном и том же положении, свернувшись клубком, как спящий младенец. Я думаю, что его ноги полностью атрофировались, и руки, возможно, тоже. Только его мозг все еще активен, гоняясь по векам за своей добычей.
И теперь ты знаешь, почему ни ты, ни кто другой ничего не может сделать. Твои психиатры могли бы вылечить меня, если бы я был безумен, но наука, которая может разобраться с Омегой, еще не изобретена.
Коннолли сделал паузу, затем устало улыбнулся.
— Именно находясь в здравом уме, я понимаю — мне нельзя надеяться на то, что ты мне поверишь. У нас нет обшей почвы для понимания.
Пирсон встал с камня, на котором сидел, и слегка вздрогнул. Ночь становилась холодной, но это было ничто по сравнению с чувством беспомощности, которое им овладело.
— Я буду откровенен, Рой, — начал он медленно. — Конечно, я не верю тебе. Но поскольку ты сам веришь в Омегу и он для тебя реален, то и я приму его существование по этой причине и буду бороться с ним вместе с тобой.
— Это может оказаться опасной игрой. Откуда нам знать, на что он способен, когда его загонят в угол?
— Все-таки я попробую, — ответил Пирсон и стал спускаться с холма. Коннолли, не споря, пошел за ним. — Кстати, а что ты сам предлагаешь сделать?
— Расслабиться. Избегать эмоций. Прежде всего, держаться подальше от женщин — Рут, Мод, всех остальных. Это самое сложное дело. Нелегко порывать с привычками всей жизни.
— В это я легко могу поверить, — суховато ответил Пирсон. — И насколько тебе это удается?
— На сто процентов. Видишь ли, его собственная ненасытность мешает достижению его же цели, потому что, когда я думаю о сексе, я ощущаю тошноту и отвращение к себе самому. Господи, только подумать, что я всю свою жизнь смеялся над скромниками, а теперь сам становлюсь одним из них!
«Вот оно! — подумал Пирсон во внезапной вспышке прозрения, — Вот где ответ!» Он никогда бы не поверил в это, но прошлое Коннолли в конце концов настигло его. Омега был не чем иным, как символом совести, олицетворением вины. Если бы Коннолли осознал это, он бы перестал мучаться. Что же до столь подробного описания галлюцинации, то это еще один прекрасный пример тех обманных трюков, которые может сыграть человеческий мозг в попытке обмануть самого себя. Должно быть, существует какая-то причина, почему одержимость приняла такую форму, но это не важно.
Пирсон долго объяснял это Коннолли, пока они шли к селению. Тот слушал его так терпеливо, что у Пирсона возникло неприятное ощущение, что Коннолли над ним потешается, но все же упорно продолжал объяснять ему до конца. Когда он закончил, Коннолли издал короткий, безрадостный смешок.
— Твоя версия так же логична, как и моя, но ни один из нас не может убедить другого. Если ты прав, то через некоторое время я, возможно, вернусь к нормальной жизни. Но ты не можешь представить, насколько Омега реален для меня. Он более реален, чем ты: если я закрываю глаза, то ты исчезаешь, а он остается со мной. Хотел бы я знать, чего он добивается. Я оставил свой прежний образ жизни, и он знает, что я не вернусь к нему, пока он здесь. Так что же он надеется приобрести, выжидая? — Коннолли повернулся к Пирсону. — Вот что меня по-настоящему пугает, Джек. Он должен знать, какое меня ожидает будущее, — ведь вся моя жизнь для него как открытая книга, в которую он может заглянуть на любой странице. И по-моему, он ждет чего-то такого, что произойдет со мной впереди, и это что-то доставит ему особое удовольствие. Иногда… Иногда я спрашиваю себя, а не моей ли он ожидает смерти?
Они уже были среди домов на окраине, и перед ними во всей красе разворачивалась ночная жизнь Сирены. Теперь, когда они больше не оставались одни, в настроении Коннолли произошла трудноуловимая перемена. На вершине холма он был если и не вполне нормальным, то дружелюбным, по крайней мере, и готовым на разговор. Сейчас же вид счастливых и беззаботных толп, казалось, заставил его уйти глубоко в себя. Он неохотно шагал за Пирсоном и, наконец, отказался следовать дальше.
— В чем дело? — спросил Пирсон — Разве ты не пойдешь в отель и не пообедаешь со мной?
Коннолли покачал головой.
— Я не могу, — ответил он. — Там слишком много людей.
Это было странно для человека, который всегда получал удовольствие от толп и всяческих вечеринок. Подобное его поведение, как ничто иное, показывало, как сильно Коннолли изменился. Прежде чем Пирсон сумел придумать подходящий ответ, тот развернулся и направился по боковой улочке. Обиженный и раздраженный, Пирсон двинулся было за ним, но затем решил, что это бесполезно.
В тот вечер он послал длинную телеграмму Рут, пытаясь успокоить ее. Затем, измотанный, завалился спать.
Целый час бедняга не мог заснуть. Тело его устало, а мозг по-прежнему активно работал. Он лежал, глядя на пятно лунного света, которое двигалось по стене, отмечая течение времени так же неотвратимо четко, как оно, должно быть, отмечает его в том отдаленном веке, куда заглянул Коннолли. Конечно, это чистая фантазия — и все-таки, против своей воли, Пирсон начал принимать Омегу как реальную, живую угрозу. В некотором смысле Омега и был реальным — таким же реальным, как другие умственные абстракции, это и подсознание.
Пирсон задал себе вопрос, мудро ли поступил Коннолли, вернувшись на Сирену. Во время эмоциональных кризисов — а бывали и другие, менее серьезные кризисы, нежели этот, — реакция Коннолли всегда была одинаковой. Он вновь и вновь возвращался на этот чудесный остров, где его добрые, беззаботные родители явили его на свет и где он провел свою юность. Пирсон хорошо знал, что сейчас Коннолли пытается хоть как-то вернуть себе то недолгое состояние блаженства, которое знал только в течение одного периода своей жизни и которое тщетно искал в объятиях Рут и всех остальных женщин.
Пирсон не пытался осуждать своего несчастного друга. Он никогда не произносил своего мнения вслух, а лишь наблюдал с сочувственным интересом, который ни в коей мере не являлся тем, что называют терпимостью, потому что терпимость подразумевает ослабление принципов, которыми он не обладал…
Бессонница наконец отступила, и Пирсон провалился в настолько глубокий сон, что проснулся позже обычного. Он позавтракал у себя в комнате, затем спустился к стойке администратора посмотреть, не пришел ли ответ от Рут. За ночь посетителей в отеле прибавилось: в углу холла были сложены два чемодана, явно английские, дожидаясь портье, который должен был отнести их в номер. В праздном любопытстве Пирсон взглянул на бирки, интересуясь, кто он, этот его соотечественник. Пирсон замер, поспешно оглянулся и быстро подошел к клерку.
— Эта англичанка, — сказал он встревоженно, — когда она приехала?
— Час назад, сеньор, на утреннем корабле.
— Она сейчас в гостинице?
Клерк посмотрел на него нерешительно, затем изящно капитулировал:
— Нет, сеньор, она очень торопилась и спросила меня, где она может найти мистера Коннолли. Я сказал ей. Надеюсь, все в порядке?
Пирсон выругался про себя. Такого потрясающего невезения он представить себе не мог. Мод Уайт оказалась женщиной более решительной, чем намекал Коннолли. Каким-то образом она вычислила, куда он сбежал, и то ли гордость, то ли желание, то ли оба эти фактора, вместе взятые, заставили ее последовать за ним. То, что она приехала именно в этот отель, было неудивительно. Все англичане на Сирене выбирают почему-то его.
Поднимаясь вверх по дороге к вилле, Пирсон боролся со все возрастающим чувством бесполезности своих действий. Он понятия не имел, что он будет делать, когда встретится с Коннолли и Мод. Он просто ощущал неясный, но настойчивый импульс поспешить на помощь. Если он сможет перехватить Мод прежде, чем она доберется до виллы, то, возможно, сумеет убедить ее, что Коннолли болен и ее вторжение лишь повредит ему. Но так ли это? А если между ними установились прежние отношения, и ни он, ни она не имеют ни малейшего желания видеть его?
Они разговаривали на ухоженном газоне перед виллой, когда Пирсон влетел в ворота и остановился, чтобы перевести дух. Коннолли отдыхал на кованой железной скамье под пальмой, Мод ходила взад и вперед в нескольких ярдах от него. Она о чем-то с ним говорила, слов на таком расстоянии Пирсон услышать не мог, но судя по интонации догадался, что она его уговаривала. Ситуация была слишком неопределенной, но пока Пирсон стоял, размышляя, подойти ему или нет, Коннолли поднял взгляд и увидел друга. Его лицо, лишенное всякого выражения, походило на маску. В нем не угадывалось ни адресованного Пирсону приветствия, ни нежелания его видеть. Проследив взгляд Коннолли, Мод тоже посмотрела на Пирсона, и в первый раз он увидел ее лицо. Мод была действительно красивая женщина, но отчаяние и гнев так исказили ее черты, что она выглядела персонажем из какой-то греческой трагедии. Она страдала не только от того, что ею пренебрегли, но и потому, что она не понимала причины такого пренебрежения.
Появление Пирсона сработало как сигнал к действию: с трудом сдерживаемые чувства выплеснулись наружу. Мод резко повернулась на месте и бросилась к Коннолли, который продолжал наблюдать за ней с отсутствующим лицом. Секунду Пирсон не видел, что она делает, затем в ужасе закричал:
— Осторожно, Рой!
Коннолли двигался с удивительной скоростью, словно внезапно вышел из состояния транса. Он схватил Мод за запястья, произошла короткая стычка, и вот он уже пятился от нее, завороженно глядя на что-то в своей ладони. Женщина стояла без движения, парализованная страхом и стыдом, прижав костяшки пальцев ко рту. Коннолли крепко сжимал пистолет в правой руке и любовно поглаживал его левой. Мод издала глухой стон.
— Я только хотела попугать тебя, Рой, клянусь тебе.
— Все в порядке, дорогая, — сказал Коннолли мягко. — Я верю тебе, не переживай.
Его голос казался абсолютно естественным, он повернулся к Пирсону и улыбнулся ему своей сгарой, мальчишеской улыбкой.
— Так вот чего он ждал, Джек, — сказал Коннолли, — Я его не разочарую.
— Нет, — выдохнул Пирсон, белый от ужаса. — Не надо, Рой, ради Бога!.
Но Коннолли не слушал уговоров друга, он уже подносил пистолет к виску. И в этот самый момент Пирсон с ужасающей ясностью осознал, что Омега реален и будет теперь искать новое обиталище.
Он не увидел вспышки и не услышал звука выстрела. Мир, который он знал, ушел из его сознания, и вокруг клубился плотный, заворачивающийся спиралью туман. Из центра этого пространства без стен, заполненного голубым туманом, на него смотрели два огромных, лишенных век глаза. В их взгляде ощущался удовлетворенный покой, вот-вот готовый перейти в чувство голода.
Из контрразведки
Перевод Л. Жданова
Часто можно услышать, будто бы в наш век поточных линий и массового производства полностью изжил себя кустарь-умелец, искусный мастер по дереву и металлу, чьими руками создано столько прекрасных творений прошлого. Утверждение скороспелое и неверное. Разумеется, теперь умельцев стало меньше, но они отнюдь не перевелись совсем. И как бы ни менялась профессия кустаря, сам он благополучно, хотя и скромно, здравствует. Его можно найти даже на острове Манхетген, нужно только знать, где искать. В тех кварталах, где арендная плата мала, а противопожарные правила и вовсе отсутствуют, в подвале жилого дома или на чердаке заброшенного магазина приютилась его крохотная, загроможденная всяким хламом мастерская. Пусть он не делает скрипок, часов с кукушкой, музыкальных шкатулок — он такой же умелец, каким был всегда, и каждое изделие, выходящее из его рук, неповторимо. Он не враг механизации: под стружками на его верстаке вы обнаружите рабочий инструмент с электрическим приводом. Это вполне современный кустарь. И он всегда будет существовать, мастер на все руки, который, сам того не подозревая, творит подчас бессмертные произведения.
Мастерская Ганса Мюллера занимала просторное помещение в глубине бывшего пакгауза неподалеку от Куинсборо-Бридж. Окна и двери здания были заколочены, оно подлежало сносу, и Ганса вот-вот могли попросить. Единственный ход в мастерскую вел через запущенный двор, который днем служил автомобильной стоянкой, ночью — местом сборищ юных правонарушителей. Впрочем, они не причиняли мастеру никаких хлопот, так как он умел прикинуться несведущим, когда являлась полиция. В свою очередь, полицейские отлично понимали деликатность положения Ганса Мюллера и не слишком-то на него наседали; таким образом, у него со всеми были хорошие отношения. И это вполне устраивало сего миролюбивого гражданина.
Работа, которой теперь был занят Ганс, весьма озадачила бы его баварских предков. Десять лет назад он и сам был бы удивлен. А началось все с того, что один прогоревший клиент принес ему в уплату за выполненный заказ вместо денег телевизор…
Ганс без особой охоты принял это вознаграждение. И не потому, что причислял себя к людям старомодным, не приемлющим телевидения. Просто он не представлял себе, когда сможет выбрать время, чтобы смотреть в эту треклятую штуку. «Ладно, — решил Ганс, — в крайнем случае продам кому-нибудь, уж пятьдесят-то долларов всегда получу. Но сперва стоит все-таки взглянуть, что за программы они показывают…»
Он повернул ручку, на экране появились движущиеся картинки, и Ганс Мюллер, подобно миллионам до него, пропал. В паузах между рекламами ему открылся мир, о существовании которого он не подозревал, — мир сражающихся космических кораблей, экзотических планет и странных народов, мир капитана Зиппа, командира «Космического легиона». И лишь когда нудное описание достоинств чудо-каши «Кранч» сменилось почти столь же нудным поединком двух боксеров, которые явно заключили пакт о ненападении, он стряхнул с себя чары.
Ганс был простодушный человек. Он всегда любил сказки, а это были современные сказки, к тому же с чудесами, о которых братья Гримм не могли и мечтать. Так получилось, что Ганс Мюллер раздумал продавать телевизор.
Прошла не одна неделя, прежде чем поунялось его первоначальное наивное восхищение. Теперь Ганс уже критическим взором смотрел на обстановку и меблировку телевизионного мира будущего. Он был в своей области художником и отказывался верить, что через сто лет вкусы деградируют до такой степени. Воображение заказчиков рекламной передачи удручало его.
Ганс был весьма невысокого мнения и об оружии, которым пользовались капитан Зипп и его враги. Нет, он не пытался понять принцип действия портативного дезинтегратора, его смущало только, почему этот дезинтегратор непременно должен быть таким громоздким. А одежда, а интерьеры космических кораблей? Они выглядят неправдоподобно! Откуда он мог это знать? Гансу всегда было присуще чувство целесообразности, оно тотчас заявило о себе и в этой новой для него области.
Мы уже сказали, что Ганс был простодушным человеком. Но простаком его нельзя было назвать. Прослышав, что на телевидении платят хорошие деньги, мастер сел за свой рабочий стол.
Даже в том случае, если бы автор декораций и костюмов к постановкам о капитане Зиппе не сидел уже в печенках у продюсера, идеи Ганса Мюллера произвели бы впечатление. Его эскизы отличались небывалой достоверностью и реализмом, в них не было ни грана той фальши, которая начала раздражать даже самых юных поклонников капитана Зиппа. Контракт был подписан незамедлительно.
Правда, Ганс предъявил свои условия. Он трудился из любви к искусству — обстоятельство, которого не могло поколебать лаже то, что он при этом зарабатывал больше денег, чем когда-либо прежде за всю свою жизнь. И Ганс заявил, что, во-первых, ему не нужны никакие помощники, во-вторых, он будет работать в своей маленькой мастерской. Его дело поставлять эскизы и образцы. Массовое изготовление может происходить в другом месте; он кустарь.
Все шло как нельзя лучше. За шесть месяцев капитан Зипп совершенно преобразился и стал предметом зависти всех постановщиков «космических опер». В глазах зрителей это были уже не спектакли о будущем, а само будущее. Новый реквизит вдохновил даже актеров. После спектаклей они часто вели себя как путешественники во времени, внезапно перенесенные в далекую старину и чувствующие страшную неловкость из-за отсутствия самых привычных предметов обихода.
Ганс об этом не знал. Он продолжал увлеченно работать, отказываясь встречаться с кем-либо, кроме продюсера, и решая все вопросы по телефону. Он по-прежнему смотрел телевизионные передачи, и это позволяло ему проверять, не искажают ли там его идеи. Единственным наглядным знаком связей Ганса Мюллера с отнюдь не фантастическим миром коммерческого телевидения был стоящий в углу мастерской ящик маисовых хлопьев «Кранч», дар благодарного заказчика рекламы. Ганс честно проглотил одну ложку чудо-каши, после чего с облегчением вспомнил, что ему платят деньги не за то, чтобы он ел это варево…
В воскресенье поздно вечером Гане Мюллер заканчивал образец нового гермошлема; вдруг он почувствовал, что в мастерской есть еще кто-то. Он медленно повернулся к двери. Она ведь была заперта, как они ухитрились открыть ее так бесшумно? Возле двери, глядя на него, неподвижно стояли двое. Ганс почувствовал, как сердце уходит в пятки, и поспешно мобилизовал все свое мужество. Хорошо еще, что здесь хранится только малая часть его денег. А может быть, это как раз плохо? Еще разъярятся…
— Кто вы? — спросил он, — Что вам здесь надо?
Один из вошедших направился к нему, второй остался стоять у двери, не сводя глаз с мастера. Оба были в новых пальто, низко надвинутые на лоб шляпы не позволяли разглядеть лиц. «Слишком хорошо одеты, — сказал себе Ганс, — чтобы быть заурядными грабителями».
— Не волнуйтесь, мистер Мюллер, — ответил первый незнакомец, легко читая его мысли. — Мы не бандиты, мы представители власти. Из контрразведки.
— Не понимаю.
Незнакомец сунул руку в спрятанный под пальто портфель и извлек пачку фотографий. Порывшись среди них, он вынул одну.
— Вы причинили нам немало хлопот, мистер Мюллер. Две недели мы разыскивали вас, ваши работодатели никак не хотели давать нам адрес. Прячут вас от конкурентов. Так или иначе, мы здесь и хотели бы задать вам несколько вопросов.
— Я не шпион! — возмущенно ответил Ганс, смекнув, о чем идет речь — У вас нет никакого права! Я лояльный американский гражданин!
Гость игнорировал эту вспышку. Он показал Гансу фотографию.
— Узнаете?
— Да. Это интерьер космического корабля капитана Зиппа.
— Он придуман вами?
— Да.
Еще одна фотография.
— А это?
— Это марсианский город Паддар, вид с воздуха.
— Ваша собственная выдумка?
— Разумеется! — Гнев заставил Ганса забыть об осторожности.
— А это?
— Это протонное ружье. Разве плохо?
— Скажите, мистер Мюллер, все это ваши собственные идеи?
— Да, я не краду у других.
Первый незнакомец подошел к своему товарищу. Несколько минут они переговаривались так тихо, что Ганс ничего не мог разобрать. Наконец они как будто пришли к соглашению. Совещание кончилось прежде, чем Ганс сообразил, что не худо бы прибегнуть к помощи телефона.
— Очень жаль, — обратился к нему незнакомец, — но похоже, кто-то нарушил правила секретности. Возможно, это произошло чисто случайно, даже… э… неосознанно, но это не меняет дела. Мы обязаны провести дознание. Прошу следовать за нами.
Он сказал это так властно и строго, что Ганс покорно снял с вешалки пальто и стал одеваться. Полномочия гостя не вызывали у него никакого сомнения, он даже не попросил его предъявить документы.
Неприятно, конечно, но ему нечего бояться. Ганс вспомнил рассказ о писателе-фантасте, который еще в самом начале войны с поразительной точностью описал атомную бомбу. Когда ведется столько исследований, подобные инциденты неизбежны. Интересно, какой секрет он разгласил, сам того не ведая?
Уже в дверях он оглянулся и окинул взглядом мастерскую и следующих за ним незнакомцев.
— Это нелепая ошибка, — сказал Ганс Мюллер. — Если я и показал в программе что-то секретное, то это чистое совпадение. Я никогда не делал ничего такого, что могло бы вызвать недовольство ФБР.
И тут впервые прозвучал голос второго незнакомца; он говорил на каком-то странном английском языке, с необычным акцентом.
— Что такое ФБР? — спросил он.
Ганс не слышал вопроса: он смотрел во все глаза на стоящий во дворе космический корабль.
Отступление с Земли
Перевод П. Ехилевской
Много-много миллионов лет назад, когда человек был всего лишь мечтой отдаленного будущего, третий за всю историю мира корабль, достигший Земли, спустился сквозь вечные облака и приземлился на континент, который мы теперь называем Африкой. Создания, которых он нес сквозь невообразимую бездну космоса, выглянули из него и увидели мир, который мог стать подходящим домом для их утомленной расы. Однако Землю уже населял великий, хотя и вымирающий народ. Поскольку обе расы можно было назвать цивилизованными в истинном значении этого слова, они не вступили в войну, но заключили обоюдное соглашение. Дело в том, что прежние обитатели Земли, а некогда правители всего мира, располагавшегося внутри орбиты Плутона, умели смотреть в будущее и даже на грани полного вымирания неустанно готовили Землю к приходу следующей расы.
Итак, через сорок миллионов лет после того, как последний представитель старейшей расы обрел вечный покой, люди начали возводить города там, где архитекторы их великих предшественников вздымали башни к самым облакам. И в течение многих веков, задолго до рождения человека, чужаки не бездействовали — они покрыли половину планеты городами, населенными великим множеством незрячих, фантастических рабов. И хотя человек знал об этих городах, поскольку те часто создавали ему массу проблем, он никогда не подозревал, что все тропики вокруг него по-прежнему принадлежали старшей цивилизации, которая тщательно готовилась к тому дню, когда она предпримет рискованное путешествие из-за космических морей, чтобы вновь вступить во владение давно утраченным наследством.
— Джентльмены, — мрачно обратился президент к Совету. — С сожалением должен сообщить, что в процессе осуществления наших планов по колонизации Третьей планеты мы столкнулись с некоторыми сложностями. Как вам всем известно, на протяжении многих лет мы работали на этой планете без ведома ее обитателей, готовясь к тому дню, когда сможем полностью взять ее под контроль. Мы не ожидали сопротивления, поскольку народ Третьей находится на примитивном уровне развития и не владеет оружием, способным причинить нам вред. К тому же нынешние обитатели планеты разделены на множество политических групп, или «наций», которые постоянно враждуют между собой. Подобное отсутствие единства, без сомнения, способствует выполнению нашей задачи.
Для получения максимально полной информации о планете и ее жителях мы послали на Третью несколько сотен исследователей, и теперь у нас имеются наблюдатели практически в каждом более или менее крупном городе. Наши люди работают прекрасно, и благодаря их регулярным сообщениям сейчас мы владеем детальными знаниями об этом чуждом нам мире. Более того, еще несколько сетов назад я сказал бы, что мы обладаем абсолютно полной информацией относительно положения на планете. Однако совсем недавно я вдруг обнаружил, что мы очень сильно ошибались.
Нашим главным исследователем в стране, известной как Англия, которая упоминалась здесь множество раз, являлся очень талантливый молодой ученый Кервак Тетон, внук великого Ворака. Он близко сошелся с англичанами, как казалось, на редкость открытой расой, и по прошествии недолгого времени был принят в их высшем обществе. Он даже провел некоторое время в одном из их так называемых центров обучения, но вскоре с отвращением покинул его. Хотя это не имело ничего общего с его основной задачей, энергичный юноша также занялся изучением диких животных Третьей — замечательных и интересных, хотя и казавшихся весьма странными созданий.
Они свободно бродят по огромным регионам планеты. Некоторые из этих животных представляют опасность для человека, но Тетон справился с ними и даже уничтожил несколько видов. Именно в процессе изучения этих тварей он сделал открытие, которое, боюсь, внесет немалые изменения в наши планы. Но пусть лучше Кервак расскажет сам.
Президент повернул выключатель, и из скрытого транслятора зазвучал голос Кервака Тетона, обращавшегося к лучшим умам Марса:
«…Перехожу к главной части сообщения. В течение некоторого времени я занимался изучением диких животных планеты — исключительно в целях получения чисто научных знаний. Животные Третьей подразделяются на четыре основные группы: млекопитающие, рыбы, рептилии, насекомые, а также на большое число видов и подвидов. На нашей собственной планете существовало множество представителей первых трех классов, хотя сейчас, разумеется, их нет. Но, насколько мне известно, в нашем мире никогда за всю историю его существования не встречались насекомые. Естественно, именно они в первую очередь привлекли мое внимание, и я старательно изучил их привычки и строение.
Вам, которые никогда их не видели, будет нелегко представить себе, как выглядят эти создания. Существуют миллионы разных типов, и понадобятся века для того, чтобы классифицировать их все, но по большей части это крохотные животные со множеством сочлененных конечностей и телом, заключенным в прочный панцирь. Они очень малы, около половины земма в длину, многие с крылышками. Большинство из них откладывают яйца и претерпевают многочисленные метаморфозы, прежде чем стать полноценной особью. Вместе с сообщением я посылаю несколько фотографий и фильмов, которые дадут вам лучшее представление об их многообразии, чем любые мои слова. Большую часть информации я почерпнул из литературы. Аборигены Третьей проваляют немалый интерес к живущим с ними рядом созданиям — тысячи ученых посвятили свою жизнь кропотливым наблюдениям за насекомыми, и, я полагаю, это неоспоримое доказательство того, что их интеллект гораздо выше, чем думают некоторые наши ученые».
Последнее замечание вызвало у аудитории улыбки, поскольку Дом Тетонов издавна славился радикальными и нетрадиционными взглядами.
«Свои исследования я начат с неких весьма неординарных созданий, живущих в тропических районах планеты, — их называют «термитами», или «белыми муравьями». Они живут многочисленными, прекрасно организованными сообществами и даже создают своего рода города — огромные насыпи из необыкновенно прочного материала, соты с ячейками и проходами. Они проявляют удивительное инженерное мастерство, способны проникать сквозь металл и стекло и при желании могут разрушить большую часть созданного людьми. Они едят целлюлозу и дерево, следовательно, с тех пор как человек начал интенсивно использовать эти материалы, он постоянно пребывает в состоянии войны с разрушителями его собственности. Возможно к счастью д ля него, у термитов есть смертельные враги — муравьи, принадлежащие к очень близкому виду. Термиты и муравьи воюют с древнейших времен, и их разногласия до сих пор не разрешены.
Надо отметить, что термиты слепы — они не выносят света и, выбираясь из своих городов, всегда придерживаются укрытий, сооружая туннели и цементные трубы, если им приходится пересекать открытое пространство. Тем не менее они прекрасные инженеры и архитекторы, и никакие преграды не могут помешать им достичь цели. Их наиболее замечательная особенность, однако, биологического характера. Из одинаковых яиц они способны производить около полудюжины типов созданий разных специальностей — бойцов с огромными клешнями, солдат, способных обрызгивать противников ядом, рабочих, функционирующих в качестве складов пищи благодаря невероятной выносливости и неимоверно большой емкости их растянутых желудков, а также великое множество прочих невероятных разновидностей. В книгах, которые я посылаю, вы найдете полный перечень их видов, известных натуралистам Третьей.
Чем больше я читал, тем больше меня впечатляло совершенство их социальной системы. Мне, как, вероятно, и многим ученым, моим предшественникам, пришло в голову, что термитник можно сравнить с огромным механизмом, детали которого созданы не из металла, а из протоплазмы, а колесиками и зубцами служат отдельные насекомые, каждое из которых играет определенную роль. Только значительно позже я понял, насколько близка к истине была данная аналогия.
Нигде в термитнике не существует никакого разброда или беспорядка, и все там покрыто тайной. Когда я обдумал проблему, мне показалось, что термиты гораздо более достойны нашего внимания с чисто научной точки зрения, чем сами люди. В конце концов, люди не так сильно отличаются от нас — хотя подобным утверждением я рискую вызвать раздражение многих ученых, — в то время как эти насекомые являются абсолютно чуждыми нам по всем параметрам. Они работают, живут и умирают на благо государства. Личность для них — ничто. С нашей точки зрения, как и с точки зрения людей, государство существует только для личности. Кто может сказать, какое из мнений является более правильным?
Проблема показалась мне столь захватывающе интересной, что я в конце концов решил самостоятельно изучить крохотные создания, воспользовавшись для этого всеми имеющимися в моем распоряжении приборами — приборами, о которых даже не мечтали натуралисты Третьей. Итак, я выбрал крохотный необитаемый островок в отдаленной части Тихого океана, самого большого океана планеты, густо усыпанный странными насыпями термитов, и сконструировал небольшое металлическое строение, чтобы оборудовать в нем лабораторию. Находясь под сильным впечатлением от разрушительной силы термитов, я выкопал вокруг здания широкий кольцеобразный ров, оставив достаточно места для приземления своего корабля, и впустил в ров морскую воду. Я полагал, что десять зетгов воды помешают им и не позволят нанести какой бы то ни было ущерб. Насколько глупо выглядит этот ров сейчас!
Приготовления заняли несколько недель, поскольку я не мог слишком часто покидать Англию. На моей небольшой космической яхте дорога от Лондона до острова Термитов занимала не много времени — меньше половины сектора. Лаборатория была оборудована всем, что, по моим представлениям, могло оказаться полезным, и еще многими вещами, для которых я не видел немедленного применения, но которые могли пригодиться в будущем. Наиболее важным прибором являлся высокочастотный гамма-излучатель, который, как я надеялся, откроет мне все секреты, скрытые от невооруженного глаза за стенами термитника. Возможно, не менее полезным окажется очень чувствительный психометр, используемый при исследовании планет, где предполагается существование нового типа менталитета, не поддающегося определению обычным путем. Прибор способен работать с любой возможной ментальной частотой, а его широкий диапазон воздействия определяет наличие человека на расстоянии в несколько сотен миль. Я не сомневался, что смогу проследить мыслительный процесс термитов, даже если импульсы их абсолютно чуждого интеллекта чрезвычайно слабы.
Поначалу успехи мои были весьма невелики. При помощи излучателя я обследовал ближайшие термитники. Это было завораживающее занятие — следить за снующими по проходам рабочими, таскающими пищу и строительные материалы. Я наблюдал за чудовищно раздувшейся королевой, откладывающей в королевской ячейке бесконечный поток яиц: по одному через каждые несколько секунд, днем и ночью, год за голом. Несмотря на то что центром активности колонии была именно она, сфокусированная на ней стрелка психометра лишь слегка вздрогнула. Одна-единственная клетка моего тела оказала бы большее воздействие на прибор! Чудовищная королева являлась всего лишь безмозглым механизмом, даже менее чем механизмом, поскольку состояла из чистой протоплазмы, и рабочие заботились о ней так же, как мы заботимся о любом приносящем пользу роботе.
По многим причинам я не ожидал, что королева окажется силой, управляющей колонией, но я нигде не мог обнаружить какое-либо создание, какого-нибудь супертермита, который наблюдает и координирует действия остальных. Это не удивило бы ученых Третьей, поскольку они уверены, что термитами руководит исключительно инстинкт. Но мои приборы способны зафиксировать нервный стимул, который является составляющей автоматических рефлекторных действий, и тем не менее ничего не обнаружили. Тогда я усилил мощность до предела и нацепил пару примитивных, но очень удобных наушников. Так я просидел много часов. Иногда слышались те слабые характерные скрипы, происхождения которых мы никогда не могли объяснить, но большую часть времени единственным звуком оставался шум, напоминающий рокот волн, разбивающихся о некий отдаленный берег, — источником этого шума служила общая масса планетарного интеллекта, влияющая на мои приборы.
Я уже начал приходить в отчаяние, когда произошел один из столь частых в науке инцидентов. Я разбирал аппарат после очередного бесплодного эксперимента и случайно толкнул принимающий контур так. что он указал на землю. К моему удивлению, стрелки начали бешено колебаться. Передвигая контур обычным способом, я обнаружил, что источник возбуждения находится практически прямо подо мной, хотя определить расстояние не представлялось возможным. В наушниках слышалось постоянное гудение, прерываемое редкими всплесками. Это звучало для всего мира как работа некой электрической машины, и никогда ранее не было отмечено, чтобы какой-либо интеллект функционировал с частотой сто тысяч мегамегагерц. К моему немалому раздражению, как вы можете догадаться, я должен был срочно вернуться в Англию, а следовательно, не имел возможности продолжить исследование.
Я смог вернуться на остров Термитов спустя две недели, предварительно произведя тщательный осмотр моей маленькой космической яхты из-за дефектов электросети. Некогда в ее истории, которая, насколько мне известно, была богата событиями, суденышко оснастили лучевыми экранами. Это были, надо сказать, очень хорошие экраны, слишком хорошие для законопослушного корабля. У меня есть серьезная причина полагать, что на самом деле им не раз приходилось отражать атаки крейсеров Ассамблеи. Я не получаю большого удовольствия от проверки комплекса автоматических релейных цепей, но наконец это было сделано, и я на предельной скорости устремился к Тихому океану, передвигаясь так быстро, что моя реактивная струя превратилась в один непрекращающийся взрыв. К несчастью, скоро я вновь должен был снизить скорость, поскольку обнаружил, что перестал функционировать настроенный на остров направляющий луч. Я предположил, что перегорел предохранитель, и далее вынужден был производить ориентирование и навигацию обычным путем. Инцидент привел меня в раздражение, но не встревожил, и наконец я стал снижаться над островом Термитов, не предчувствуя опасности.
Я приземлился внутри рва и подошел к двери лаборатории. Но едва я произнес пароль, металлический замок открылся и из комнаты вырвалась ужасающая струя газов. Я был настолько ошеломлен произошедшим, что только спустя некоторое время настолько овладел собой, чтобы понять, что случилось. Несколько опомнившись, я узнал запах синильной кислоты, которая немедленно убивает человека, но на нас воздействует только спустя продолжительное время.
Вероятно, что-то произошло в лаборатории, подумал я, но тут же вспомнил, что для появления такого объема газа там было недостаточно химикатов. Да и что могло спровоцировать подобный инцидент?
Когда я заглянул в саму лабораторию, то испытал второе потрясение. Помещение лежало в руинах, ни один прибор не уцелел, невозможно было даже определить, какому из них принадлежал тот или иной фрагмент. Вскоре удалось определить причину катастрофы: силовая установка, мой маленький атомный реактор, взорвался. Но почему? Атомные реакторы не взрываются без достаточно серьезных причин; если это случилось, то дело плохо. Я внимательно осмотрел комнату и немедленно обнаружил огромное количество маленьких дырочек в полу, подобных тем, что делают термиты, когда передвигаются с места на место. Мои подозрения, какими бы невероятными они ни были, начали подтверждаться. Я мог допустить, что насекомые наполнили мою комнату отравляющим газом, но представить, что они сумели расправиться с атомным реактором, — это уж слишком! Желая окончательно разобраться в происходящем, я принялся за поиски обломков генератора и, к своему изумлению, обнаружил, что синхронизирующие кольца замкнуты. На остатках осмиевого тороида все еще сохранялись прилипшие челюсти термитов, пожертвовавших жизнью в стремлении испортить реактор…
Я долго сидел в корабле, обдумывая этот выходящий за рамки обычного факт. Очевидно, катастрофа спровоцирована интеллектом, который я на мгновение обнаружил во время последнего визита. Если это правитель термитов — а кто еще это мог быть? — то каким образом он овладел знаниями об атомном реакторе и выяснил единственный способ, которым его можно было вывести из строя? По каким-то причинам — возможно, потому, что я слишком глубоко проник в его секрет, — он решил уничтожить меня и мою работу. Первая попытка оказалась неудачной, но он может предпринять еще одну, с лучшими результатами, хотя я не представлял, как он умудрится повредить мне за крепкими стенами моей яхты.
Психометр и излучатель были уничтожены, но я не собирался так легко сдаваться и начал охоту при помощи корабельного излучателя, который, хотя не предназначался для работы подобного рода, мог неплохо с ней справляться. Так как я лишился основного психометра, прошло некоторое время, прежде чем я обнаружил то, что искал. Мне необходимо было при помощи приборов тщательно осмотреть огромные участки земли, пласт за пластом. Внимательно исследуя все подозрительные объекты, на глубине около двух сотен футов я заметил темную, слабо светящуюся массу, сильно смахивавшую на огромный валун. С более близкого расстояния я, к великой радости, понял, что это вовсе не валун, а правильная металлическая сфера, около двадцати футов в диаметре. Мои поиски завершились! Когда я послал луч сквозь металл, возник слабый, затухающий образ, а затем на экране появилось логово супертермита.
Я ожидал, что обнаружу некое фантастическое создание, возможно, огромный голый мозг на рудиментарных ножках, но с первого взгляда понял, что в сфере не было ничего живого. От стены до стены этого огражденного металлом пространства располагалось скопление крохотных и невероятно сложных механизмов, и все они щелкали и гудели почти со скоростью света. По сравнению с этим чудом электронной инженерии наши огромные излучатели должны были показаться изделиями детей или дикарей. Я увидел мириады крохотных электронных цепей, периодически вспыхивавших направляющих клапанов и странных очертаний толкателей клапанов, снующих среди движущегося лабиринта приборов, абсолютно не похожих ни на что когда-либо созданное нами. Разработчикам этого механизма мой атомный реактор мог показаться детской игрушкой.
Секунды две, наверное, я с изумлением таращился на потрясающее зрелище, а затем на экране внезапно возникла пелена помех и начался безумный танец бесформенных пятен.
Я столкнулся с устройством, до сих пор нами не освоенным, — с экраном, сквозь который не проникает излучение. Возможности загадочных созданий оказались даже большими, чем я мог себе представить, и перед лицом этого последнего открытия я уже не мог чувствовать себя в безопасности даже на борту своего корабля. Откровенно говоря, мне вдруг захотелось оказаться как можно дальше от острова Термитов, за много-много миль. Желание было столь сильным, что минуту спустя я уже летел высоко над Тихим океаном, поднимаясь все выше и выше сквозь стратосферу, чтобы затем по огромному овалу, загибавшемуся вниз, спуститься к Англии.
Вы можете улыбнуться или обвинить меня в трусости, добавив, что мой дед Ворак никогда бы так не поступил, но слушайте, что было дальше.
Примерно в ста милях от острова и на высоте в тридцать миль, когда я передвигался уже со скоростью, превышавшей две тысячи миль в час, в переключателе послышался страшный треск и низкое гудение мотора сменилось страшным утробным ревом, словно при внезапно возникшей перегрузке. Одного взгляда на приборную доску оказалось достаточно, чтобы понять: экраны вспыхнули под воздействием луча высокой индукции. К счастью, мощность его была сравнительно мала, и мои экраны справились без особых проблем, хотя, окажись я ближе, все могло бы закончиться совсем по-другому. Несмотря на это, на мгновение я все же испытал настоящий шок, пока не вспомнил известный военный трюк и не сосредоточил все поле моего геодезического генератора в луче. Я включил излучатель как раз вовремя, чтобы увидеть раскаленные обломки острова Термитов, погружавшиеся в океан…
Итак, я вернулся в Англию с одной решенной проблемой и дюжиной гораздо более серьезных, еще только сформулированных. Каким образом мозг-термит, который, по моим предположениям, являлся механизмом, до сих пор не обнаружил себя перед людьми? Они часто разрушали жилища его народа, но, насколько мне известно, супертермит никогда не мстил. Однако стоило мне появиться, как он бросился в атаку, хотя я никому не причинил вреда! Возможно, каким-то непонятным образом он узнал, что я не человек, а следовательно, весьма серьезный потенциальный противник. Или, может быть, — хотя я не рассматривал всерьез подобное предположение — этот механизм выполнял обязанности стража, охранявшего Третью от таких, как мы, пришельцев.
Во всем происходящем присутствовало какое-то пока еще непонятное мне несоответствие. С одной стороны, мы имеем невероятный интеллект, владеющий большей частью, если не всеми нашими знаниями, в то время как, с другой стороны, слепые, сравнительно беспомощные насекомые ведут бесконечную войну при помощи слабого оружия против врагов, с которыми их правитель может расправиться мгновенно и без труда. Где-то в этой безумной системе должна скрываться цель, но она недоступна моему пониманию. Единственным рациональным объяснением, которое я мог придумать, было то, что большую часть времени мозг термитов позволял им действовать самостоятельно, автоматически, и только очень редко, возможно раз в столетие, активно управлял ими сам. В той мере, в какой это казалось ему безопасным, он довольствовался тем, что позволял человеку поступать как угодно, и мог даже проявлять доброжелательный интерес к нему и к его работе.
К счастью для нас, супертермит отнюдь не неуязвим. Действуя против меня, он ошибся дважды, и вторая ошибка стоила ему существования — не могу сказать жизни. Я уверен, что мы можем справиться с подобным созданием, поскольку оно или ему подобные все еще контролируют оставшиеся биллионы расы. Я как раз вернулся из Африки, где образ жизни термитов пока еще остается неизменным. Во время этого путешествия я не покидал моего корабля и даже не приземлялся. Я уверен, что навлек на себя ненависть целой расы, и не хочу рисковать. До тех пор пока я не получу бронированного крейсера и штата экспертов-биологов, придется оставить термитов в покое. Но даже тогда я не буду чувствовать себя в абсолютной безопасности, поскольку на Третьей может существовать гораздо более могучий интеллект, чем тот, с которым мы уже столкнулись. Мы должны принять во внимание этот риск, поскольку до тех пор, пока мы не найдем способ ему противостоять, Третью планету нельзя считать безопасной для нашего народа».
Президент выключил транслятор и повернулся к собравшимся.
— Вы слышали сообщение Тетона, — сказал он. — Я осознал его важность и сразу же послал тяжеловооруженный крейсер на Третью. Как только он появился, Тетон взошел на борт и отправился в Тихий океан.
Это было два дня назад. С тех пор я ничего не слышал ни о крейсере, ни о Тетоне, но мне известно следующее.
Через час после того, как корабль покинул Англию, мы засекли излучение его экранов и в течение всего нескольких секунд другие помехи — космические, ультракосмические, индукционные, а затем наружу начала проникать ужасающая длинноволновая радиация, подобной которой мы никогда не применяли в бою, причем она постоянно нарастала. Это длилось примерно три минуты, затем неожиданно последовал один титанический выброс энергии, прекратившийся в долю секунды, а после — ничего. Столь яростный выброс энергии мог быть вызван только взрывом мощного атомного генератора и должен был потрясти Третью до самого ядра.
Я созвал это собрание, чтобы представить на ваше обсуждение факты и попросить вас решить вопрос голосованием. Должны ли мы отказаться от наших планов в отношении Третьей, или нам следует послать один из самых мощных супердредноутов на планету? Один корабль может сделать не меньше, чем целая флотилия, и будет в полной безопасности в случае… Откровенно говоря, я не могу представить себе силу, способную одолеть корабль, подобный нашему «Зурантеру». Будьте любезны, зарегистрируйте ваши голоса обычным путем. Конечно, невозможность колонизации Третьей станет для нас изрядной помехой, но данная планета не единственная в системе, хотя, безусловно, самая подходящая.
Последовало характерное щелканье и слабое гудение моторчиков — члены Совета нажимали на свои цветные кнопки, и на экране возник результат: «за» — 967; «против» — 233.
— Очень хорошо, «Зурантер» немедленно отбудет на Третью. На этот раз мы будем следить за его Передвижениями по телевизору, и, таким образом, если что-либо пойдет не так, мы, по крайней мере, получим представление об оружии, которое использует противник.
Часом позже ужасающая масса флагманского корабля марсианского флота обрушилась из открытого космоса в атмосферу Земли и направилась к отдаленным районам Тихого океана. Корабль угодил в центр торнадо, поскольку его капитан не хотел рисковать, а ветры стратосферы могли быть аннигилированы пламенем его лучевых экранов.
Но на крохотном островке далеко за восточным горизонтом термиты приготовились к атаке, которая, они знали, неизбежно последует, — и мириадами слепых и слабых термитов был воздвигнут странный, хрупкий механизм. Огромный марсианский военный корабль находился в двух сотнях миль, когда на экранах излучателей капитан обнаружил остров. Его палец потянулся к кнопке, приводившей в действие лучевой генератор невероятной мощности, но как бы быстро он ни действовал, немедленный приказ от мозга термитов поступил гораздо быстрее. Хотя в любом случае развязка была бы той же.
Враг ударил столь молниеносно, что огромные сферические экраны не успели даже вспыхнуть. Посланная термитами тонкая рапира чистого жара управлялась не более чем одной лошадиной силой, в то время как за броней военного корабля скрывались тысячи миллионов. Но слабый тепловой луч термитов не предназначался для проникновения сквозь эту броню — он пронзил гиперпространство и поразил жизненно важные органы корабля. Марсиане не могли противостоять врагу, который с такой ужасающей легкостью преодолевал их защиту, врагу, для которого сфера являлась не большим барьером, чем полое кольцо.
Правители термитов, эти чуждые пришельцы из космоса, выполняли соглашение, заключенное с прежними властителями Земли, и спасали человека от опасности, которую его предки предвидели много веков назад.
Но собрание, наблюдавшее за происходящим в Тихом океане, знало только, что экраны корабля яростно вспыхнули, моментально извергнув ураган пламени, так что на тысячи миль вокруг обломки раскаленного добела металла посыпались с небес.
Президент медленно повернулся к Совету и тихо, потрясенно прошептал:
— Я полагаю, что нам лучше выбрать Вторую планету…
Воссоединение
Перевод Б. Александрова
Люди Земли, не надо бояться. Мы пришли к вам с миром — а почему бы и нет? Ведь мы — ваши двоюродные братья и уже бывали здесь!
Вы сразу же признаете нас, как только мы познакомимся, а это произойдет через несколько часов. Мы приближаемся к Солнечной системе почти с той же скоростью, что и это радиосообщение. Ваше Солнце уже сияет перед нами.
Десять миллионов лет назад оно было Солнцем наших предков. И ваших тоже. Но вы не помните своей истории, тогда как мы о своей помним.
Мы колонизировали Землю в период царствования на ней гигантских рептилий. При нашем появлении они погибли, и спасти их мы не смогли. Тогда этот мир был тропической планетой, и мы думали, что его можно превратить в чудесный дом для нашего народа. Мы ошиблись. Порожденные космосом, мы слишком мало знали о климате, об эволюции, о генетике…
Миллионы лет — именно лет, зим в те времена не было — колония процветала. Мы почти изолировались, но — хотя путь от звезды до звезды длится годы — все-таки не прерывали контактов с нашей родной цивилизацией. Три-четыре раза в столетие появлялись звездолеты и приносили новости из Галактики.
Но потом, два миллиона лет назад, Земля начала изменяться. На протяжении многих веков она была тропическим раем; теперь же температура упала, с полюсов начали наползать льды. Климат сделался таким, что стал сушим наказанием для колонистов. Теперь-то мы понимаем, что это было естественное завершение чрезмерно затянувшегося лета. Но тем, кто на протяжении многих поколений привык считать Землю своим домом, казалось, что на них обрушилась чуждая и отвратительная болезнь. Болезнь, которая не убивает, не наносит физического ущерба — просто уродует.
Кое-кто, однако, обладал иммунитетом: изменения пощадили их и их детей. И таким образом за какие-то несколько тысяч лет колония разделилась на две самостоятельные группы — подозрительно и настороженно относящиеся друг к другу.
Раскол породил зависть, недовольство и, в конечном итоге, антагонизм. Колония распалась.
Все это время климат ухудшался. Те, кто смог, покинули Землю. Остальные впали в варварство.
Конечно, мы могли бы сохранить с вами контакты, но это так сложно во Вселенной, насчитывающей сотни тысяч миллионов звезд. Еще несколько лет назад мы не знали, что кое-кто из вас выжил. Но тут мы поймали ваши первые радиопередачи, изучили ваши простенькие языки и убедились, что наконец-то вы смогли вырваться из дикости. Мы рады приветствовать вас наших некогда утраченных родственников. Мы рады будем помочь вам.
За время нашей разлуки мы научились многому. Если вы хотите, чтобы мы вернули вечное лето, царившее на Земле до ледникового периода, — мы это сделаем. Но в первую очередь мы рады сообщить вам, что мы располагаем простым и безвредным средством от того генетического уродства, которое доставило неприятности столь многим колонистам.
Возможно, вы сами пошли по этому пути. Если же нет, то мы знаем, как вам помочь.
Люди Земли! Вы можете присоединиться к галактическому сообществу без стыда и смущения!
А если кто-то из вас до сих пор белый — то мы его быстро вылечим!
Рекламная кампания
Перевод А. Новикова
Когда вспыхнул свет, в зале, казалось, еще громыхали раскаты взрыва последней атомной бомбы. Долгое время никто не шевелился, потом помощник продюсера невинно поинтересовался:
— Ну, Р. Б., что вы об этом думаете?
Пока Р. Б. извлекал свою тушу из кресла, его помощники напряженно выжидали, в какую сторону подует ветер. Все заметили, что сигара босса погасла. А ведь такого не произошло даже на предварительном просмотре «Унесенных ветром»!
— Мальчики, — восторженно произнес босс, — это полный отпад! Во сколько, говоришь, обошелся нам фильм, Майк?
— В шесть с половиной миллионов, Р. Б.
— Почти задаром. Вот что я вам скажу: я съем всю пленку до последнего фута, если сборы с него не переплюнут «Quo Vadis». — Он повернулся со всей возможной для такого толстяка скоростью к человечку, все еще сидящему в заднем ряду кинозала: — Вылезай, Джо! Земля спасена! Ты видел все космические фильмы. Как наш смотрится по сравнению с ними?
Джо с откровенным нежеланием поднялся.
— Туг и сравнивать нечего, — сказал он, — Он держит в напряжении не хуже «Твари», зато не имеет того дурацкого прокола, когда зритель в конце узнает, что монстр был человеком. Единственный фильм, который хоть немного приближается к нашему по уровню, — это «Война миров». Некоторые из эффектов в нем почти столь же хороши, но у Джорджа Пэла, разумеется, не было объемного изображения. А это решающее различие! Когда рухнул мост через Золотые Ворота, мне показалось, что опора сейчас свалится на меня!
— А мне больше всего понравился тот момент, — вставил Тони Ауэрбах из отдела рекламы, — когда «Эмпайр стэйт биллинг» раскололся пополам. Как думаете, его владельцы не предъявят нам иск?
— Конечно, нет. Никому и в голову не придет, что какое-то здание устоит перед — как там они назывались в сценарии? — городоломом. И, в конце концов, мы ведь стерли в порошок весь Нью-Йорк. Ух… помните ту сцену, когда в Голландском туннеле обвалился потолок! В следующий раз поеду на пароме.
— Да, это получилось очень хорошо — почти слишком хорошо. Анимация превосходная. Как ты это сделал, Майк?
— Профессиональный секрет, — ответил гордый продюсер, — Но приоткрою вам кусочек тайны. Очень многие кадры — настоящие.
— Что?
— О, поймите меня правильно! Это не значит, что мы снимали натуру на Сириусе-Б. Но в Калифорнийском технологическом для нас изготовили микрокамеру, и мы ею снимали пауков. Лучшие кадры пошли в монтаж, и теперь вы не сразу отличите, где кончается микросъемка и начинаются полномасштабные павильонные кадры. Поняли теперь, почему я настоял на том, чтобы инопланетяне были пауками, а не осьминогами, как сперва было в сценарии?
— Для рекламы это очень удачно, — сказал Тони. — Но одно обстоятельство меня, однако, тревожит. Так, сцена, где монстры похищают Глорию… не кажется ли вам, что цензоры?.. Ведь мы сняли все так, что создается впечатление…
— Не волнуйся! Именно это зрители и должны подумать. А уже в следующем эпизоде им становится ясно, что на самом деле они ее похитили для вскрытия, так что все в порядке.
— Это будет фурор! — прорычал Р. Б., и глаза его заблестели, точно он уже видел льющуюся в сейф лавину долларов. — Слушайте, мы вложим еще миллион в рекламу! Я уже вижу плакаты — а ты записывай, Тони, записывай. «ВЗГЛЯНИТЕ НА НЕБО! СИРИАНЦЫ ЛЕТЯТ!» И еще мы сделаем тысячи заводных моделей — представляете, как они будут бегать по улицам на волосатых ногах! Люди любят, когда их пугают, и мы их напугаем. Когда мы закончим рекламную кампанию, никто не сможет смотреть на небо без содрогания! Я на вас полагаюсь, мальчики, — эта картина должна войти в историк).
Он оказался прав. Два месяца спустя «Космические монстры» впервые потрясли публику. Через неделю после одновременной премьеры в Лондоне и Нью-Йорке в Западном полушарии не осталось ни единого человека, хотя бы раз не натыкавшегося на плакат, вопящий: «БЕРЕГИСЬ, ЗЕМЛЯ!», или не рассматривавшего с содроганием фотографии волосатых чудищ, бродящих на тонких многосуставчатых ногах по безлюдной Пятой авеню. В небесах над всеми странами летали, смущая пилотов, замаскированные под космические корабли воздушные шары, а по улицам, сводя с ума старушек, носились механические модели инопланетных захватчиков.
Рекламная кампания прошла блестяще, и фильм, несомненно, еще несколько месяцев не сходил бы с экранов, если бы не произошло совпадение столь же катастрофическое, сколь и непредсказуемое. Когда количество зрителей, падающих в обморок на каждом сеансе, еще оставалось темой для новостей, небеса над Землей внезапно заполнили длинные и тонкие тени, стремительно пронзающие облака…
Принц Зервашни был добродушен, но склонен к вспыльчивости — хорошо известному недостатку его расы. Не было никаких причин полагать, что его нынешняя миссия, то есть установление мирного контакта с планетой Земля, превратится в какую-либо проблему. Правильная тактика сближения была тщательно отработана за те многие тысячелетия, что Третья галактическая империя медленно расширяла свои границы, поглощая звезду за звездой и планету за планетой. Проблемы возникали редко: действительно разумные расы всегда могут договориться о сотрудничестве, когда у новичков проходит первоначальный шок и они осознают, что не одиноки во Вселенной.
Действительно, человечество всего два-три поколения как вышло из примитивной и воинственной стадии развития, однако это не тревожило главного советника принца, профессора астрополитики Сигиснина II.
— Это типичнейшая культура класса Е, — сказал профессор. — Технически развитая, но морально отсталая. Тем не менее они уже осознали концепцию космических перелетов и вскоре перестанут воспринимать наше появление как событие чрезвычайное. Пока мы не завоюем их доверие, будет достаточно стандартных мер предосторожности.
— Очень хорошо. Передайте посланникам, пусть отправляются немедленно.
К сожалению, «стандартные меры предосторожности» не предусматривали развернутую Тони Ауэрбахом рекламную кампанию, которая как раз подняла инопланетную ксенофобию на неслыханную высоту. Послы приземлились в Централ-парке Нью-Йорка в тот самый день, когда выдающийся астроном — необыкновенно упрямый и потому не поддающийся внешнему влиянию — заявил в широко распространенном интервью, что любые пришельцы из космоса наверняка будут враждебны.
Несчастные послы, направлявшиеся к зданию ООН, добрались лишь до 60-й улицы и наткнулись на толпу. Физический контакт оказался весьма односторонним, и ученые из Музея естественной истории были очень огорчены, когда им почти ничего не осталось для изучения.
Принц Зервашни попытался еще раз, уже в другом полушарии планеты, но новости опередили его послов. На этот раз они были вооружены и достойно постояли за себя, пока их просто-напросто не растоптали, одолев количеством. Но и после этого принц воздерживался от возмездия, и лишь когда корабли его флота попытались уничтожить ракетами с атомными боеголовками, он отдал приказ предпринять ответные и жесткие действия.
Все завершилось через двадцать минут — гуманно и безболезненно. Затем принц повернулся к советнику и многозначительно произнес:
— Вот и все. А теперь… можете ли вы сказать, в чем заключалась наша ошибка?
Охваченный отчаянием, Сигиснин переплел десятки своих гибких пальцев. Его заставило страдать не только зрелище свеже-стерилизованной Земли, хотя, для ученого уничтожение такого великолепного образца всегда является трагедией. Не менее трагичным стал и крах его научных теорий, а вместе с ними — и его репутации.
— Я не в силах это понять! — пожаловался он. — Разумеется, расы с таким уровнем культуры зачастую подозрительны и нервно реагируют при первом контакте. Но ведь к ним никогда прежде не прилетали существа из космоса, поэтому у них не было повода для враждебности.
— Враждебности?! Да они демоны! Думаю, все они были безумны. — Принц повернулся к капитану, трехногому существу, весьма напоминающему клубок шерсти, балансирующий на трех вязальных спицах. — Корабли флота собраны?
— Да, сир.
— Тогда возвращаемся к Базе на оптимальной скорости. Вид этой планеты меня угнетает.
А на мертвой и безмолвной Земле с тысяч рекламных щитов все еще вопили свои предупреждения плакаты. Изображенные на них злобные инсектоиды не имели никакого сходства с принцем Зервашни, которого, если не считать четырех глаз, можно было легко принять за панду с пурпурным мехом — и который, более того, прилетел с Ригеля, а не с Сириуса.
Но теперь, разумеется, указывать на эти различия было слишком поздно.
Завтра не наступит
Перевод А. Баканова
— Но это ужасно! — воскликнул Верховный Ученый, — Неужели ничего нельзя сделать?
— Чрезвычайно трудно, Ваше Всеведение. Их планета на расстоянии пятисот световых лет от нас. и поддерживать контакт очень сложно. Однако мост мы все же установим. К сожалению, это не единственная проблема. Мы до сих пор не в состоянии связаться с этими существами. Их телепатические способности выражены крайне слабо.
Наступила тишина. Верховный Ученый проанализировал положение и, как обычно, пришел к единственно правильному выводу.
— Всякая разумная раса должна иметь хотя бы несколько телепатически одаренных индивидуумов. Мы обязаны передать сообщение.
— Понял, Ваше Всеведение, будет сделано.
И через необъятную бездну космоса помчались мощные импульсы, исходящие от интеллекта планеты Тхаар. Они искали человеческое существо, чей мозг способен был их воспринять. И по соизволению его величества Случая нашли Вильяма Кросса.
Нельзя сказать, что им повезло. Хотя выбирать, увы, не приходилось. Стечение обстоятельств, открывшее им мозг Вильяма, было совершенно случайным и вряд ли могло повториться в ближайший миллион лет.
У чуда было три причины. Трудно указать на главную из них.
Прежде всего местоположение. Иногда капля воды на пути солнечного света фокусирует его в испепеляющий луч. Так и Земля, только в несравненно больших масштабах, сыграла роль гигантской линзы, в фокусе которой оказался Билл. Правда, в фокус попали еще тысячи людей. Но они не были инженерами-ракетчиками и не размышляли неотрывно о космосе, который стал неотделим от их существования.
И, кроме того, они не были, как Билл, в стельку пьяны, находясь на грани беспамятства в стремлении уйти в мир фантазий, лишенный разочарований и печали.
Конечно, он мог понять точку зрения военных: «Доктор Кросс, вам платят за создание ракет, — с неприятным нажимом произнес генерал Поттер, — а не… э… космических кораблей. Чем вы занимаетесь в свободное время — ваше личное дело, но попрошу не загружать вычислительный центр программами для вашего хобби!»
Крупных неприятностей, разумеется, быть не могло — доктор Кросс им слишком нужен. Но сам он не был уверен, что так уж хочет остаться. Он вообще не был ни в чем уверен, кроме того, что Бренда сбежала с Джонни Гарднером, положив конец двусмысленной ситуации.
Сжав подбородок руками и слегка раскачиваясь, Билл сидел в кресле и, не отрывая глаз, смотрел на блестящий стакан с розоватой жидкостью. В голове — ни одной мысли, все барьеры сняты…
В этот самый момент концентрированный интеллект Тхаара издал беззвучный вопль победы, и стена перед Биллом растаяла в клубящемся тумане. Ему казалось, он глядит в глубь туннеля, ведущего в бесконечность. Между прочим, так оно и было.
Билл созерцал феномен не без интереса. Определенная новизна, разумеется, есть, но куда ему до предыдущих галлюцинаций! А когда в голове зазвучал голос, Билл долго не обращал на него внимания. Даже будучи мертвецки пьяным, он сохранял старомодное предубеждение против беседы с самим собой.
— Билл, — начал голос, — Слушай внимательно. Наше сообщение чрезвычайно важно.
Билл подверг это сомнению на основании общих принципов: разве в этом мире существует что-нибудь действительно важное?
— Мы разговариваем с тобой с далекой планеты, — продолжал дружеский, но настойчивый голос. — Ты единственное существо, с которым мы смогли установить связь, поэтому ты обязан нас понять.
Билл почувствовал легкое беспокойство, но как бы со стороны: трудно было сосредоточиться. Интересно, подумал он, это серьезно, когда слышишь голоса? Не обращай внимания, доктор Кросс, пускай болтают, пока не надоест.
— Так и быть, — позволил Билл, — Валяйте.
На Тхааре, отстоящем на пятьсот световых лет, были в недоумении. Что-то явно не так, но они не могли определить, что именно. Впрочем, оставалось лишь продолжать контакт, надеясь на лучшее.
— Наши ученые вычислили, что ваше светило должно взорваться. Взрыв произойдет через три дня — ровно через семьдесят четыре часа, — и помешать этому невозможно. Однако не следует волноваться — мы готовы спасти вас!
— Продолжайте, — попросил Билл. Галлюцинация начинала ему нравиться.
— Мы создадим мост — туннель сквозь пространство, подобный тому, в который ты смотришь. Теоретическое обоснование его слишком сложно для тебя.
— Минутку! — запротестовал Билл. — Я математик, и отнюдь не плохой, даже когда трезв. И читал об этом в фантастических журналах. Вы имеете в виду некое подобие короткого замыкания в надпространстве? Старая штука, еще доэнштейновская!
Немалое удивление вызвало это на Тхааре:
— Мы не предполагали, что вы достигли таких вершин в своих знаниях. Но сейчас не время обсуждать теорию. Это нуль-транспортация через надпространство — в данном случае через тридцать седьмое измерение.
— Мы попадем на вашу планету?
— О нет, вы бы не смогли на ней жить. Но во Вселенной существует множество планет, подобных Земле, и мы нашли подходящую для вас. Вам стоит лишь шагнуть в туннель, взяв самое необходимое, и… стройте новую цивилизацию. Мы установим тысячи туннелей по всей планете, и вы будете спасены. Ты должен объяснить это правительству.
— Прямо-таки меня сразу и послушают, — сыронизировал Билл — Отчего бы вам самим не поговорить с президентом?
— Нам удалось установить контакт только с тобой; остальные оказались закрыты для нас. Не можем определить причину.
— Я мог бы вам объяснить, — произнес Билл, глядя на пустую бутылку перед собой. Она явно стоила своих денег. Какая все-таки удивительная вещь — человеческий мозг! Что касается диалога, то в нем нет ничего оригинального — только на прошлой неделе он читал рассказ о конце света, а вся эта чушь о туннелях и мостах… что ж, неудивительно, после пяти лет работы с этими дурацкими ракетами…
— А если Солнце взорвется, — спросил Билл, пытаясь застать галлюцинацию врасплох, — что произойдет?
— Ваша планета немедленно испарится. Как, впрочем, и остальные планеты вашей системы вплоть до Юпитера.
Билл вынужден был признать, что задумано с размахом. Он наслаждался игрой своего ума, и чем больше думал об этой возможности, тем больше она ему нравилась.
— Моя дорогая галлюцинация, — начал он с грустью. — Поверь я тебе, знаешь, что бы я сказал? Лучше этого ничего и не придумать. Не надо волноваться из-за атомной бомбы и дороговизны… О, это было бы прекрасно! Об этом только и мечтать! Спасибо за приятную информацию, а теперь возвращайтесь домой и не забудьте прихватить с собой ваш мост.
Трудно описать, какую реакцию вызвало на Тхааре такое заявление. Мозг Верховного Ученого, плавающий в питательном растворе, даже слегка пожелтел по краям — чего не случалось со времен хантильского вторжения. Пятнадцать психологов получили нервное потрясение. Главный компьютер в Институте космофизики стал делить все на нуль и быстро перегорел.
А на Земле тем временем Вильям Кросс развивал свою любимую тему.
— Взгляните на меня! — стучал он кулаком в грудь. — Всю жизнь работаю над космическими кораблями, а меня заставляют строить военные ракеты, чтобы укокошить друг друга. Солнце сделает это лучше нас!
Он замолчал, обдумывая еще одну сторону этой «приятной» возможности.
— Вот будет сюрприз для Бренды! — злорадно захихикал доктор. — Целуется со своим Джонни, и вдруг — ТРАХ!
Билл распечатал вторую бутылку виски и с открывшейся ему новой перспективой опять посмотрел в туннель. Теперь в нем зажглись звезды, и он был воистину великолепен. Билл гордился собой и своим воображением — не каждый способен на такие галлюцинации.
— Билл! — в последнем отчаянном усилии взмолился разум Тхаара. — Но ведь не все же люди такие, как ты?
Билл обдумал этот философский вопрос весьма тщательно, правда, насколько позволило теплое розовое сияние, которое почему-то вдруг стали излучать окружавшие его предметы.
— Нет, они не такие, — доктор Кросс снисходительно усмехнулся. — Они гораздо хуже!
Разум Тхаара издал отчаянный вопль и вышел из контакта.
Первые два дня Билл мучился от похмелья и ничего не помнил. На третий день какие-то смутные воспоминания закопошились у него в голове, и он забеспокоился, но тут вернулась Бренда, и ему стало не до воспоминаний.
Ну, а четвертого дня, разумеется, не было.
Все время мира
Перевод А. Новикова
Когда в дверь негромко постучали, Роберт Эштон быстрым автоматическим движением обвел взглядом комнату. Ее скучноватая респектабельность удовлетворяла его самого и должна была успокоить любого посетителя. У него не было причин ждать визита полиции, но и рисковать тоже не стоило.
— Войдите, — отозвался он, сделав лишь краткую паузу, чтобы схватить с полки «Диалоги» Платона. Возможно, жест этот и выглядел несколько показным, но клиентов всегда впечатлял.
Дверь медленно открылась. Эштон сосредоточенно читал, не потрудившись взглянуть на гостя. Сердце его забилось чуть чаще, а грудь слегка стеснило от возбуждения. Разумеется, это не детектив из полиции — Эштона успели бы предупредить. Но все же явившийся без приглашения гость был для него явлением неожиданным и потому потенциально опасным.
Эштон отложил книгу, взглянул в сторону двери и равнодушно бросил:
— Чем могу быть полезен?
Вставать он не стал; подобная вежливость осталась в прошлом, которое он похоронил. Кроме того, у двери стояла женщина, а в кругах, где он ныне вращался, женщинам полагалось дарить драгоценности, наряды и деньги — но не уважение.
Но все же в гостье оказалось нечто такое, что заставило его медленно подняться. Дело было не только в ее красоте, но и исходящей от нее спокойной и небрежной властности, отличающей ее от привычных ему расфуфыренных потаскушек. Невозмутимый и оценивающий взгляд говорил об уме, который, как предположил Эштон, не уступал его собственному.
Он даже не догадывался, насколько недооценивал ее.
— Мистер Эштон, — начала посетительница, — давайте не терять время зря. Я знаю, кто вы такой, и у меня есть для вас работа. А вот мои рекомендации.
Она открыла большую модную сумочку и извлекла толстую лачку банкнот.
— Можете считать это образцом, — сказала она.
Эштон поймал небрежно брошенную пачку. Такой крупной суммы он никогда в жизни не держал в руках — не меньше сотни пятерок, все новенькие и с последовательными серийными номерами. Он ощупал бумагу кончиками пальцев. Если они и фальшивые, то сделаны настолько качественно, что разница не имеет практического значения.
Он провел большим пальцем по обрезу пачки, словно нащупывая крапленую карту в колоде, и задумчиво проговорил:
— Мне хотелось бы знать, откуда они у вас. Если деньги не фальшивые, то они могут оказаться «горячими», и мне будет трудно их сбыть.
— Деньги настоящие. Совсем недавно они находились в Британском банке. Но если они вам не нужны, бросьте их в огонь. Я дала вам их просто в доказательство серьезности моих намерений.
— Продолжайте. — Он указал на единственный стул и уселся на край стола.
— Я готова заплатить вам любую сумму, если вы раздобудете эти предметы и доставите их в оговоренное место и время. Более того, я гарантирую, что, совершая кражу, вы не будете подвергаться опасности.
Эштон просмотрел список и вздохнул. Женщина явно сумасшедшая. Жаль, если это окажется просто шуткой. Денег у нее явно куры не клюют.
— Я заметил, — мягко произнес он, — что все эти экспонаты находятся в Британском музее и что большая их часть буквально бесценна. Под этим я подразумеваю, что их нельзя ни купить, ни продать.
— Я не собираюсь их продавать. Я коллекционер.
— Похоже на то. И сколько вы готовы заплатить за все?
— Назовите сумму сами.
Наступило недолгое молчание. Эштон оценивал свои возможности. Он гордился своей работой как профессионал, но есть некоторые пределы, переступить которые не помогут никакие деньги. Но все же интересно проверить, какую сумму она согласится выложить. Эштон снова взглянул на список.
— Полагаю, миллион станет вполне разумной ценой за подобную услугу, — иронично предположил он.
— Кажется, вы не принимаете меня всерьез. С вашими связями вы сможете сбыть и такое.
Что-то, сверкнув, мелькнуло в воздухе. Эштон поймал ожерелье на лету и не смог подавить вздох изумления. Между его пальцами переливалось целое состояние. Бриллиант в центре ожерелья был огромен — наверное, он держал сейчас одну из всемирно известных драгоценностей.
Гостья проявила полное безразличие, когда ожерелье скользнуло в его карман. Эштон был потрясен; теперь он знал, что она не играет. Для нее эта сказочная драгоценность стоила не больше куска сахара. То было безумие в невообразимой степени.
— Допустим, деньги у вас есть, — сказал Эштон. — Но как по-вашему, возможно ли физически сделать то, что вы просите? Можно украсть один предмет из списка, но через пару часов в музее будет не протолкаться из-за полиции.
Имея в кармане состояние, он мог позволить себе откровенность. К тому же ему хотелось узнать больше о своей фантастической гостье.
Она улыбнулась — грустно, как умственно отсталому ребенку.
— А если я покажу, как это сделать, — негромко сказала она, — вы согласитесь?
— Да… за миллион.
— Вы не заметили ничего странного с тех пор, как я вошла? Стало очень тихо, правда?
Эштон прислушался. Господи, а ведь она права! В этой комнате никогда не было совершенно тихо, даже ночью. Над крышами гудел ветер; куда же он теперь пропал? Далекий уличный шум прекратился, а еще пять минут назад Эштон проклинал шум локомотивов на сортировочной площадке в конце улицы. С ними-то что случилось?
— Подойдите к окну.
Он подчинился и слегка дрожащими, несмотря на все попытки сохранить самообладание, пальцами отвел в сторону грязноватую кружевную занавеску. И расслабился. Улица была совершенно пуста, как нередко случалось в это время, до полудня. Машины не ездили, отсюда и тишина. Но тут его взгляд скользнул вдоль ряда домов к сортировочной площадке.
Когда Эштон потрясенно застыл, его гостья рассмеялась:
— Расскажите, что вы видите, мистер Эштон.
Он медленно повернулся, успев за несколько секунд побледнеть, и сглотнул.
— Кто вы? — выдохнул он, — Колдунья?
— Не болтайте глупости. Есть гораздо более простое объяснение. Изменился не мир — а вы.
Эштон снова уставился на далекий локомотив, из трубы которого торчал застывший и словно ватный столб пара. Теперь до него дошло, что и облака в небе тоже замерли. Все вокруг приобрело противоестественную неподвижность моментальной фотографии или отчетливую нереальность сцены, высвеченной вспышкой молнии.
— Вы достаточно умны и способны понять, что происходит, даже если не сможете осознать, как это сделано. Шкала времени сейчас изменена: минута внешнего времени растянута до года в этой комнате.
Она снова открыла сумочку и достала предмет, похожий на браслет из какого-го серебристого металла с вмонтированными в него переключателями и колесиками настройки.
— Можете называть это личным генератором, — пояснила она. — Надев его на руку, вы станете неуязвимы. И сможете без помех войти в любое помещение и выйти из него — а также украсть все перечисленное в списке и принести мне вещи быстрее, чем охранники в музее успеют моргнуть. А завершив работу, сможете удалиться на несколько миль и уже потом выключить поле и шагнуть обратно в нормальный мир.
А теперь слушайте внимательно и делайте в точности так, как я скажу. Радиус поля около семи футов, поэтому держитесь как минимум на таком расстоянии от любого человека. Во-вторых, вы не должны выключать поле, пока не справитесь с заданием и не получите от меня деньги. Это самое важное. Я разработала такой план…
Ни один преступник за всю историю не обладал такой властью. Она пьянила — и все же Эштон гадал, сможет ли привыкнуть к ней. Он решил не терзаться поисками объяснений… по крайней мере до момента, когда дело будет сделано и он получит вознаграждение. А потом, может быть, он уедет из Англии и насладится честно заслуженным отдыхом.
Заказчица ушла за несколько минут до него, но когда он вышел на улицу, окружающее ничуть не изменилось. Впечатление оказалось нервирующим, хоть он был к нему подготовлен. Эштона охватило желание действовать быстрее, точно он подсознательно не верил, что такое продлится долго, и стремился завершить работу раньше, чем у надетой на руку штуковины кончится питание. Но такое, как его заверили, было невозможно.
На Хай-стрит он замедлил шаги, чтобы получше рассмотреть застывшие машины и парализованных пешеходов. Он был осторожен и, помня предупреждение, не приближался ни к кому настолько, чтобы человек оказался внутри поля генератора. Как смешно выглядят люди, когда их видишь лишенными грации движений и с полуоткрытыми в дурацкой гримасе ртами!
Работать с чьей-то помощью было против его правил, но некоторые части задания он просто не смог бы сделать самостоятельно. Кроме того, он сможет щедро расплатиться с помощником и даже не заметить потраченной суммы. Главной трудностью, как понял Эштон, будет найти подручного достаточно умного, чтобы тот не испугался, — или настолько тупого, чтобы воспринимал все как должное. Эштон решил испробовать первый вариант.
Тони Марчетги жил неподалеку и так близко к полицейскому участку, что Эштон всегда считал: он перебарщивает с камуфляжем. Проходя мимо участка, Эштон заметил внутри дежурного сержанта и с трудом поборол искушение зайти и совместить дело с удовольствием. Но это можно отложить и на потом.
Когда он подошел к двери Тони, она открылась. Это было настолько нормальным явлением в мире, где ничто уже не было нормальным, что до Эштона не сразу дошла его значимость. Неужели генератор отказал? Он бросил быстрый взгляд на улицу и успокоился, увидев ставшую привычной картину.
— О, да это же Боб Эштон! — послышался знакомый голос. — Странно видеть тебя не дома в такую рань. И браслетик у тебя любопытный. Я думал, такой есть только у меня.
— Привет, Арам, — отозвался Эштон, — Похоже, происходит не маю такого, о чем мы и не догадываемся. Ты уже завербовал Тони, или он еще свободен?
— Извини. Нам подвернулась одна работенка, и он некоторое время будет занят.
— Погоди, сам угадаю. Или Национальная галерея, или Тэйт.
Арам Албенкиан потеребил аккуратную бородку:
— Кто тебе сказал?
— Никто. Но ведь ты, в конце концов, самый жуликоватый дилер произведений искусства среди нашей братии, и я начинаю догадываться, что происходит. Кто дал тебе браслет и список товара, уж не высокая ли и весьма симпатичная брюнетка?
— Не знаю, почему я тебе это говорю, но ответ отрицательный. Это был мужчина.
Эштон на секунду удивился, потом пожал плечами:
— Сам мог бы догадаться, что она действует не в одиночку. Хотел бы я знать, кто за ней стоит.
— У тебя есть предположения? — настороженно поинтересовался Арам.
Эштон решил, что стоит рискнуть и выдать кое-какую информацию, чтобы проверить реакцию собеседника:
— Очевидно, что деньги их не интересуют, — этого добра у них предостаточно, а с такой штучкой они всегда при нужде раздобудут еще. Приходившая ко мне женщина сказала, что она коллекционер. Я принял это за шутку, но теперь вижу, что она говорила серьезно.
— Но почему на сцене появляемся мы? Что им мешает проделать эту работу самим?
— Может, они побаиваются. Или, возможно, им нужны наши… э-э… особые знания. Некоторые из пунктов моего списка очень хорошо защищены от кражи. Словом, по моей теории они агенты свихнувшегося миллионера.
Теория эта не стоила и гроша, и Эштон это знал. Но ему хотелось проверить, какие прорехи в ней Албенкиан попытается залатать.
— Мой дорогой Эштон, — нетерпеливо выпалил вор-искусствовед, поднимая руку и демонстрируя запястье, — А как ты объяснишь эту штучку? Я ничего не смыслю в науке, но даже я могу сказать, что она превосходит самые смелые мечты современных технарей. Отсюда можно вывести только одно заключение.
— Продолжай.
— Эти люди… откуда-то. А наш мир целеустремленно избавляют от сокровищ. Читал о ракетах и космических кораблях? Что ж, кто-то нас опередил.
Эштон не рассмеялся. Теория была не более фантастична, чем факты.
— Кто бы они ни были, — сказал он, — похоже, дело свое они знают очень хорошо. Я вот думаю, сколько команд они уже наняли? Возможно, в эту самую минуту кто-то чистит Лувр или Прадо. И еще до вечера мир ждет настоящее потрясение.
Они разошлись вполне дружески, так и не поделившись действительно важными подробностями своих заданий. У Эштона ненадолго появилось искушение перекупить Тони, но настраивать Арама против себя не было смысла. Стив Реган тоже подойдет. Правда, это означает, что придется прогуляться около мили, поскольку воспользоваться любым транспортом, разумеется, невозможно. Он умрет от старости, пока автобус доползет до следующей остановки. Эштон не имел представления, что случится, если он рискнет прокатиться на машине при включенном генераторе, но его предупредили, чтобы он не занимался подобными экспериментами.
Эштона изумило, что даже идиот со справкой, каким он считал Стива, настолько спокойно воспринял акселератор; выходит, стоит замолвить доброе словечко и в пользу комиксов, которые, наверное, были для Стива единственным чтивом. Услышав краткое и предельно упрошенное объяснение, Стив нацепил второй браслет, который, к удивлению Эштона, заказчица выдала ему без возражений. Затем они отправились на долгую прогулку к музею.
Эштон — или его клиент — подумал обо всем. По дороге воры отдохнули на скамейке в парке и подкрепились сандвичами, так что, добравшись наконец до музея, никто из них не стал жаловаться, что непривычные физические усилия его утомили.
Они вошли через ворота музея — разговаривая, вопреки логике, шепотом — и поднялись по широким каменным ступеням в зал возле входа. Эштон превосходно знал дорогу. Проходя мимо застывших статуями контролеров, он насмешливо предъявил им с почтительного расстояния билет в читальный зал. Ему даже пришло в голову, что сидящие в огромном зале читатели по большей части выглядят совершенно нормально даже без эффекта акселератора.
Поиск перечисленных в списке книг оказался работой несложной, но скучноватой. Книги, как ему показалось, отбирались как по принципу чисто художественной ценности, так и по их литературному содержанию. Подбор явно делал специалист. Интересно, они сделали его сами или наняли экспертов, как наняли его самого? И вообще, сможет ли он охватить умом всю масштабность их операции?
По ходу дела пришлось ломать немало шкафов, но Эштон делал это осторожно, чтобы не повредить любые книги, даже те, что были ему не нужны. Когда у него набиралась достаточно весомая стопка, Стив выносил книги во двор и укладывал на каменные плитки, где постепенно вырастала небольшая пирамида.
Не имело значения, что они на короткое время оказывались за пределами поля акселератора. В нормальном мире никто и не заметит, как они мгновенно возникнут и тут же исчезнут.
В библиотеке они провели два часа собственного времени и перед следующей частью работы снова сделали перерыв, чтобы перекусить. По дороге Эштон ненадолго отвлекся, не удержавшись от соблазна. Звякнуло стекло небольшой витрины, и рукопись «Алисы» перекочевала в его карман.
Оказавшись среди древностей, он почувствовал себя уже не столь уверенно. Из каждой галереи ему предстояло отобрать по два-три предмета, и иногда было трудно понять, по какому принципу делался выбор. Создавалось впечатление — и он вновь вспомнил слова Албенкиана, — будто эти произведения искусства кто-то отбирал по совершенно чужд км стандартам. На сей раз, за немногими исключениями, они явно не прибегали к помощи экспертов.
Во второй раз за всю историю витрина с Портлендской вазой вновь оказалась разбита. Через пять секунд, подумалось Эштону, по всему музею взревут сирены и начнется переполох. И через пять секунд он будет уже в нескольких милях отсюда. Эта мысль кружила ему голову, и он, проворно работая и стремясь быстрее выполнить контракт, начал сожалеть, что запросил так мало. Но даже сейчас это было еще не поздно исправить.
Он испытал спокойное удовлетворение от добросовестно сделанной работы, когда Стив вынес во двор большой серебряный поднос из Милденхоллского клада и положил его рядом с теперь уже внушительной кучей.
— Дело сделано, — сообщил Эштон — Рассчитаемся вечером у меня. А теперь пошли снимать с тебя эту штуковину.
Они вышли на Хай Холборн и выбрали уединенную улочку, где почти не было пешеходов. Эштон расстегнул хитроумную защелку браслета и отступил на несколько шагов. Его сообщник застыл. Стив теперь снова был уязвим, двигаясь вместе с остальными людьми в потоке времени. Но когда прозвучит сирена тревоги, он уже затеряется в лондонской толпе.
Вернувшись во двор музея, Эштоп увидел, что куча сокровищ уже исчезла. На ее месте стояла его утренняя гостья — все еще величественная и грациозная, но, как ему показалось, несколько усталая. Эштон приблизился, их поля слились, и теперь их не разделяла непреодолимая пропасть тишины.
— Надеюсь, вы удовлетворены? — спросил он. — Как вам удалось так быстро переместить всю огромную кучу?
Она коснулась своего браслета и устало улыбнулась:
— Мы обладаем многими возможностями и кроме этой.
— Тогда зачем вам потребовалась моя помощь?
— По техническим причинам. Было необходимо отделить нужные нам предметы от прочего материала. И в таком варианте мы смогли собрать только нужное и не перегружать наши ограниченные — как бы их назвать? — транспортные устройства. А теперь верните, пожалуйста, браслет.
Эштон медленно протянул ей браслет Стива, но даже не подумал снимать свой. Возможно, такой поступок таил в себе опасность, но он был готов пойти на попятный при первых же ее признаках.
— Я готов уменьшить сумму моего вознаграждения, — заявил он. — Фактически, я от него отказываюсь — в обмен на это, — Он коснулся запястья, где поблескивала металлическая полоска.
Выражение ее лица стало непостижимым, как улыбка Джоконды. (Может, и она, подумал Эштон, присоединилась к собранным им сокровищам? Много ли они взяли из Лувра?)
— Я не назвала бы это отказом от вознаграждения. Такой браслет нельзя купить за все деньги мира.
— Равно как и то, что я передал вам.
— А вы жадны, мистер Эштон. И знаете, что с акселератором весь мир станет вашим.
— Ну и что с того? Разве вас будет интересовать наша планета теперь, когда вы забрали все, что хотели?
После короткой паузы она неожиданно улыбнулась:
— Значит, вы предположили, что я не из вашего мира?
— Да. Я знаю, что кроме меня у вас есть и другие агенты. Вы с Марса? Или все равно мне не скажете?
— Я охотно вам все расскажу. Но если я это сделаю, вы меня не поблагодарите.
Эштон бросил на нее настороженный взгляд. Что она хотела этим сказать? Он неосознанным движением отвел руку за спину, защищая браслет.
— Нет, я не с Марса или любой известной вам планеты. Вы все равно не поймете, что я такое. И все же я скажу. Я из будущего.
— Из будущего? Да это смешно!
— В самом деле? Интересно, почему же?
— Если бы такое было возможно, в нашей прошлой истории было бы полным-полно путешественников во времени. Кроме того, это включает reductio ad absurdum. Путешествие в прошлое может изменить настоящее и создать всевозможные парадоксы.
— Неплохие доводы, хотя и не столь оригинальные, как вы полагаете. Но они лишь отвергают возможность путешествий во времени в целом, а не особые случаи, как сейчас.
— А что сейчас такого особенного?
— В очень редких случаях и путем затраты огромного количества энергии возможно создать… сингулярность во времени. За ту долю секунды, пока эта сингулярность существует, прошлое становится доступным для будущего, хотя и ограниченно. Мы можем послать в прошлое свой разум, но не тела.
— Так вы хотите сказать, что тело, которое я вижу, одолжено?
— О, я за него заплатила, как сейчас плачу вам. Владелица согласилась на мои условия. В таких вопросах мы очень щепетильны.
Эштон быстро размышлял. Если ее слова — правда, то это дает ему определенное преимущество.
— Тогда получается, — продолжил он, — что у вас нет прямого контроля над материей и вы вынуждены действовать через агентов-людей?
— Да. Даже эти браслеты были сделаны здесь, под нашим ментальным руководством.
Она объясняла-слишком многое и слишком охотно, обнажая всю свою слабость. В сознании Эштона вспыхнул тревожный огонек, но он зашел слишком далеко. Отступать теперь поздно.
— В таком случае, как мне кажется, — медленно проговорил он, — вы не можете заставить меня вернуть браслет.
— Совершенно верно.
— Это все, что я хотел узнать.
Теперь она улыбалась, и было в ее улыбке нечто такое, от чего Эштон похолодел.
— Мы не мстительны и не злы, мистер Эштон, — негромко сказала она. — И то, что я хочу сейчас сделать, взывает к моему чувству справедливости. Вы попросили браслет — можете оставить его себе, А теперь я расскажу, насколько он вам окажется полезен.
На секунду Эштона охватило безумное желание вернуть акселератор. Вероятно, она угадала его мысли.
— Нет. Уже слишком поздно. Я настаиваю на том, чтобы браслет остался у вас. В одном я могу вас заверить. Он не испортится. И прослужит вам, — снова загадочная улыбка, — всю оставшуюся жизнь. Не возражаете, если мы пройдемся, мистер Эштон? Я завершила свою работу здесь и хочу бросить прощальный взгляд на ваш мир, прежде чем покинуть его навсегда.
Не дожидаясь его ответа, она направилась к железным воротам. Снедаемый любопытством, Эштон последовал за ней.
Они шагали молча, пока не остановились среди замерших на Тоттенхем Корт-роуд машин. Она немного постояла, разглядывая деловую, но неподвижную толпу, и вздохнула:
— Мне жаль их всех, и вас тоже. Мне очень хочется знать, чего вы смогли бы добиться.
— И как понимать ваши слова?
— Совсем недавно, мистер Эштон, вы сказали, что будущее не может влиять на прошлое, потому что это может изменить историю. Проницательное замечание, но, боюсь, неуместное. Видите ли, у вашего мира уже нет истории, которую можно изменить.
Она указала куда-то в сторону, и Эштон быстро обернулся. На Противоположной стороне улицы возле стопки газет сидел мальчишка-газетчик. Ветер, дующий в неподвижном мире, изогнул первую страницу одной из них под невероятным углом, и Эштон с трудом прочитал:
СЕГОДНЯ ИСПЫТАНИЕ СУПЕРБОМБЫ
Голос женщины прозвучал словно из непостижимой дали:
— Я вам уже говорила, что путешествие во времени даже в столь ограниченной форме требует высвобождения огромного количества энергии — гораздо большего, чем выделяется при взрыве одной бомбы, мистер Эштон. Но эта бомба стала лишь начальным импульсом…
Она указала на землю под их ногами:
— Знаете ли вы что-нибудь о своей планете? Вероятно, нет; ваша раса узнала так мало. Но даже ваши ученые установили, что на глубине двух тысяч миль у Земли имеется плотное жидкое ядро. Оно состоит из сжатого вещества и может существовать в одном из двух стабильных состояний. Получив определенный импульс, ядро может перейти из одного состояния в другое — так карточный домик рушится от прикосновения. Этот переход, мистер Эштон, высвободит столько же энергии, сколько все землетрясения за всю историю планеты. Океаны и континенты взлетят в космос, и у Солнца появится второй пояс астероидов.
Эхо этого катаклизма разнесется на века и на долю секунды приоткроет нам щелочку в ваше время. За эту секунду мы попытаемся спасти все, что сможем, из сокровищ вашего мира. Это все, что в наших силах, и даже если ваши мотивы были чисто этоистичными и нечестными, вы оказали своей расе услугу, о которой и не подозревали.
А теперь я должна вернуться на наш корабль, который ждет меня почти через сто тысяч лет над останками Земли. Браслет можете оставить себе.
Перемещение оказалось мгновенным. Женщина внезапно застыла и превратилась в одну из статуй на безмолвной улице. Эштон остался один.
Один! Он поднес к глазам поблескивающий браслет, загипнотизированный изяществом его работы и скрытой в нем мощью. Он заключил сделку и должен выполнять ее условия. Он может прожить до конца отмеренную ему при рождении жизнь — ценой изоляции, какой не знал ни один человек. Но если он выключит браслет, последние секунды истории неумолимо просочатся у него между пальцами.
Секунды? У него нет даже секунд — Эштон знал, что бомба, наверное, уже взорвалась.
Он уселся на край тротуара и задумался. Торопиться некуда; надо обдумать все спокойно и без истерии. В конце концов, времени у него предостаточно.
Все время мира.
Внутренние огни
Перевод П. Ехилевской
— Взгляни, — самодовольно сказал Карн, — это заинтересует тебя.
Он подтолкнул мне бумаги, которые читал все это время, и я в энный раз решил попросить его перевода, а если не удастся добиться желаемого, самому перевестись в другой отдел.
— О чем это? — спросил я устало.
— Длинное сообщение от доктора Маттеуса из Министерства науки. Ну-ка, прочти его.
Без большого энтузиазма я начал просматривать досье, а несколько минут спустя поднял глаза и неохотно признал:
— Возможно, ты и прав — на этот раз.
И вновь молча углубился в чтение…
«Мой дорогой министр! — (Начинаюсь письмо.) — По вашей просьбе представляю свое специальное сообщение об экспериментах профессора Хенкока, давших столь неожиданные и потрясающие результаты. У меня нет времени привести записи в подобающий вид, поэтому посылаю их в том виде, в каком они имеются.
Поскольку многие предметы требуют вашего внимания, возможно, я коротко суммирую наши с профессором Хенкоком действия. До 1955 года профессор возглавлял Кельвиновскую кафедру инженерной электроники в Университете Брендона, от которого он получил разрешение на неограниченное отсутствие для завершения работы. В этих исследованиях к нему присоединился покойный доктор Клейтон, некогда возглавлявший отдел геологии в Министерстве топлива и энергетики. Их совместный труд финансировался грантами от Фонда Пола и Королевского общества.
Профессор надеялся разработать сонар для геологических исследований. Сонар, как вам известно, является акустическим эквивалентом радара, и хотя этот прибор менее известен, на самом деле он на несколько миллионов лет старше; достаточно сказать, что летучие мыши весьма эффективно используют его для обнаружения насекомых и ориентирования в ночное время суток. Профессор Хенкок предполагал посылать высокочастотные сверхзвуковые импульсы в недра земли и по ответным сигналам определять структуру пластов, залегающих на значительной глубине. Картинка должна выводиться на электроннолучевую трубку, а вся система практически аналогична тому типу радара, который используется в авиации для просмотра земли сквозь облака.
В 1957 году оба ученых добились частичного успеха, но фонды их иссякли. В начале 1958 года они обратились непосредственно к правительству с просьбой о предоставлении целевой денежной субсидии. Доктор Клейтон указал на огромную ценность прибора, который позволит сделать нечто вроде рентгенограммы земной коры, а министр топлива, прежде чем передать материалы на наше рассмотрение, дал благоприятный отзыв. В это время опубликовали доклад Бернского комитета, и мы, желая избегнуть дальнейшей критики, всеми силами стремились по возможности безотлагательно рассматривать все заслуживающие внимания ситуации. Я отправился на встречу с профессором и незамедлительно представил благоприятный отзыв; первая выплата нашего фанта (С/543А/68) была произведена несколько дней спустя. С того времени я постоянно был в курсе исследований и до некоторой степени помогал техническими советами.
В экспериментах использовалось довольно сложное оборудование, но принципы его действия необычайно просты. Очень короткие, но необыкновенно мощные импульсы сверхзвуковых волн генерируются при помощи специального трансмиттера, который постоянно вращается в резервуаре, наполненном тяжелой органической жидкостью. Луч, воздействующий на землю и «сканирующий» ее подобно лучу радара, улавливает эхо. При помощи весьма хитроумного циркуляционного механизма — я воздержусь от искушения его описать — эхо с любой глубины подвергается селекции, и таким образом на экране электроннолучевой трубки обычным путем выстраивается изображение исследуемого пласта.
Когда я впервые встретился с профессором Хенкоком, его аппаратура была еще довольно примитивной, но он смог показать мне строение скалы, находящейся на глубине нескольких сотен футов, и мы ясно разглядели часть Линии Баккерлу, проходящей вблизи от его лаборатории. Большую часть успеха профессора можно отнести на счет чрезвычайной интенсивности звуковых импульсов: почти с самого начала он мог генерировать пиковую мощность в несколько сотен киловатт, и почти все они направлялись в землю. Находиться поблизости от трансмиттера оказалось небезопасно — я заметил, что почва вокруг него сильно нагревалась. Меня немало удивило огромное количество птиц вокруг, но вскоре я обнаружил, что их привлекли сотни лежавших на земле мертвых червей.
Ко времени смерти доктора Клейтона в 1960 году уровень мощности оборудования превышал один мегаватт, и оно могло предоставить абсолютно четкую картину пласта, залегавшего на глубине одной мили. Доктор Клейтон соотнес результаты с данными географических исследований и развеял любые сомнения в ценности полученной информации.
Гибель доктора Клейтона в автомобильной катастрофе стала для всех огромной трагедией. Он всегда оказывал уравновешивающее воздействие на профессора, которого никогда особенно не интересовало практическое применение его разработок. Вскоре после смерти доктора я обратил внимание на огромные изменения во взглядах профессора, и несколько месяцев спустя он поделился со мной новыми замыслами. Я попытался убедить его опубликовать результаты (он уже потратил свыше пятидесяти тысяч фунтов, и вновь возникли сложности с Общественной счетной комиссией), но он попросил предоставить ему еще немного времени. Полагаю, его намерения лучше прояснят его же собственные слова, которые я помню очень явственно, поскольку они с особенной четкостью выражали идеи профессора.
— Задавались ли вы когда-либо вопросом, — говорил он, — как в действительности выглядит наша Земля изнутри? Своими колодцами и шахтами мы только поцарапали ее поверхность, а то, что лежит под ними, знакомо нам не лучше, чем обратная сторона Луны.
Мы знаем, что Земля невероятно твердая — гораздо тверже, чем можно судить по скалам и почве ее коры. Ядро, вероятно, окажется твердым металлом, но пока это не предмет для обсуждения. Даже на глубине десяти миль давление может достигнуть примерно тридцати тонн на квадратный дюйм или около того, а температура — подняться до нескольких сотен градусов. При мысли о том. что представляет собой центр, буквально кружится голова: давление, вероятно, возрастает до тысяч тонн на квадратный дюйм. Странно подумать, что через два или три года мы достигнем Луны, но, даже добравшись до звезд, мы все еще не приблизимся к аду, находящемуся на глубине четырех тысяч миль под нашими ногами.
Сейчас я могу распознавать эхо с глубины в две мили, но за несколько месяцев надеюсь довести мощность трансмиттера до десяти мегаватт. Я верю, что при такой мощности расстояние может быть увеличено до десяти миль, но и это еще не предел.
Меня впечатлили его слова, но в то же время я ощутил легкий скепсис.
— Это прекрасно, — сказал я. — Но, безусловно, чем дальше вниз вы зайдете, тем меньше увидите. Давление сделает любые пустоты невозможными, и на глубине нескольких миль образуется гомогенная масса, становящаяся все тверже и тверже.
— Вполне возможно, — согласился профессор. — Но я смогу многое узнать из трансмиссионных характеристик. В любом случае, посмотрим, когда мы туда доберемся!
Это было четыре месяца назад; а вчера я воочию увидел результат исследований. Когда я откликнулся на его приглашение, профессор выглядел крайне возбужденным, но не дал мне ни малейшего намека на то, открыл ли он что-либо. Он показал мне усовершенствованное оборудование и вынул новый приемник из резервуара. Чувствительность датчиков изрядно повысилась, и одно это эффективно удваивало расстояние, не считая увеличенной мощности трансмиттера. Странно было наблюдать за медленно вращавшейся стальной конструкцией, сознавая при этом, что она в данный момент обследует области, до которых, невзирая на их близость, человек никогда не сможет добраться.
Когда мы вошли в помещение, где находились дисплеи, профессор выглядел странно молчаливым. Он включил трансмиттер, и, несмотря на то что прибор находился в сотне ярдов от нас, я ощутил неприятную дрожь. Засветилась электроннолучевая трубка, и медленно вращавшаяся конструкция вывела изображение, которое я столь часто видел раньше. Сейчас, однако, четкость была значительно выше благодаря увеличенной мощности и чувствительности прибора. Я повернул регулятор глубины и сфокусировался на метро, которое явственно просматривалось в виде темной линии, проходящей через слабо светящийся экран. Пока я наблюдал, он словно бы подернулся дымкой. Я понял, что прошел поезд.
Я поспешил продолжить спуск. Хотя мне не раз приходилось видеть эту картину, зрелище проплывавших мимо огромных светящихся масс и осознание того, что передо мной навсегда погребенные скалы, возможно обломки ледников пятидесятитысячелетней давности, вызывало в душе сомнения в реальности происходящего. Доктор Клейтон создал карту, благодаря которой мы могли идентифицировать разнообразные пласты, и вскоре я понял, что нахожусь в слое аллювиальной породы и вхожу в огромный пласт глины, удерживающей городские артезианские воды. Но и эти слои остались позади, и я, пройдя сквозь коренную породу, оказался на глубине почти в милю от поверхности.
Картина все еще выглядела четкой и яркой, хотя смотреть было почти не на что, поскольку в структуре Земли происходило мало изменений. Давление поднялось уже до тысячи атмосфер; еще немного, и существование любой пустоты станет невозможным, поскольку даже сами скалы начнут плавиться. Я продолжал спуск, милю за милей, но на экране виднелась только бледная дымка, изредка нарушаемая эхом, отражавшимся от рудных жил или вкраплений более твердого материала. С увеличением глубины они встречались все реже и реже или, возможно, становились такими маленькими, что их нельзя было разглядеть. Масштаб изображения, разумеется, продолжал увеличиваться, и теперь оно охватывало многомильную территорию. Я чувствовал себя летчиком, с огромной высоты глядящим на землю сквозь прореху в облаках. Осознав, в какую бездну заглянул, я на мгновение ощутил легкое головокружение. Не думаю, что когда-либо вновь смогу воспринимать мир как нечто абсолютно твердое.
На глубине десяти миль я остановился и взглянул на профессора. В течение некоторого времени не происходило никаких изменений, и я знал, что сейчас сказы должны быть спрессованы в не имеющую резко выраженных особенностей гомогенную массу. Я быстро произвел мысленный подсчет и содрогнулся, осознав, что давление должно было достичь как минимум тридцати тони на квадратный дюйм. Сканер теперь вращался очень медленно, поскольку слабому эху требовалось много секунд, чтобы пробиться назад с глубины.
— Ну, профессор, — воскликнул я, — поздравляю вас! Это необыкновенное достижение. Но мы, кажется, уже добрались до ядра. Не думаю, что произойдут еще какие-либо изменения, прежде чем мы окажемся в самом центре.
Профессор криво улыбнулся.
— Продолжайте, — сказал он. — Вы еще не закончили.
В его голосе звучало нечто, изумившее и встревожившее меня. Какое-то мгновение я пристально вглядывался в его лицо, едва различимое в тусклом сине-зеленом свечении экранов.
— Насколько глубоко может проникнуть эта штука? — спросил я, вновь продолжая бесконечный спуск.
— Пятнадцать миль, — коротко ответил он.
Откуда он знал это, оставалось только гадать, поскольку последняя особенность, которую я смог явственно разглядеть находилась на глубине восьми миль. Но я продолжат бесконечное падение сквозь скалы, сканер вращался все медленнее и медленнее, до тех пор пока ему не потребовалось свыше пяти минут на завершение полного оборота. Я слышал тяжелое дыхание профессора за спиной, а в какой-то момент спинка моего стула затрещала под его напряженно сжатыми пальцами.
Внезапно на экране вновь начали появляться слабые проблески. Я резко наклонился вперед, спрашивая себя, не были ли они первыми проявлениями металлического ядра мира. С агонизирующей медлительностью сканер описал гигантский угол, затем другой… И тут…
С криком «Боже мой!» я резко вскочил со стула и повернулся лицом к профессору. Лишь единожды в жизни я испытал подобное потрясение — когда пятнадцать лет назад, случайно включив радио, услышал о падении первой атомной бомбы. Тогда это было всего лишь неожиданным, но то, что происходило сейчас, казалось невероятным: на экране появилась решетка из тонких линий, которые многократно пересекались, образуя абсолютно симметричную сетку.
Помню, что в течение долгих минут я был не в силах вымолвить хоть слово и стоял, застыв от изумления, в то время как сканер успел завершить еще один оборот.
Профессор заговорил мягким, неестественно спокойным голосом:
— Я хотел, чтобы вы увидели это своими глазами, прежде чем я что-либо скажу. Сейчас изображение охватывает площадь диаметром около тридцати миль, а длина сторон тех квадратов — две или три мили. Обратите внимание, что вертикальные линии сходятся, а горизонтальные изгибаются в виде арок. Мы видим перед собой часть огромной конструкции из концентрических колец. Центр должен находиться за много миль к северу, возможно в районе Кембриджа. Насколько далеко это простирается в другом направлении, мы можем только догадываться.
— Ради всего святого, что это?
— Ну, оно явно искусственного происхождения.
— Невероятно! На глубине пятнадцати миль!
Профессор вновь указал на экран.
— Видит Бог, я старался изо всех сил, — сказал он. — Но мне не удается убедить себя в том, что природа могла создать что-либо подобное этому.
Мне было нечего сказать r ответ, и он продолжил:
— Я обнаружил это зри дня назад, когда пытался определить максимальный радиус действия приборов. Я могу продвинуться глубже, но всерьез опасаюсь, что структура, которую мы видим, настолько твердая, что не пропустит мое излучение дальше.
Я выдвинул дюжину теорий, но в конце концов остановился на одной. Мы знаем, что давление на этой глубине должно достигать восьми или девяти тысяч атмосфер, а температура достаточно высока, чтобы плавить скалы. Но нормальная материя является почти пустым пространством. Предположим, что там существует жизнь — не органическая жизнь, разумеется, но жизнь, базирующаяся на сгустившемся до определенной степени веществе, в котором частично или полностью отсутствует оболочка электронов. Вы понимаете, что я имею в виду? Подобным созданиям даже скалы на глубине пятнадцати миль оказывают не большее сопротивление, чем вода, а мы и весь наш мир должны казаться не более материальными, чем привидения.
— Тогда то, что мы видим…
— Это город или нечто ему подобное. Вы видели его размеры, так что сами можете судить о построившей его цивилизации. Весь известный нам мир — океаны, горы и континенты — не более чем тонкая пленка, окружающая нечто, лежащее за пределами нашего понимания.
Некоторое время ни он, ни я не решались нарушить молчание. Вспоминается охватившее меня глупое чувство изумления, вызванное тем, что я оказался первым человеком в мире, узнавшим потрясающую правду — а я почему-то не сомневался, что это правда. И меня не переставал мучить вопрос: как отреагирует остальное человечество, когда открытие будет обнародовано.
Наконец я заговорил:
— Если вы правы, то почему они — кем бы они ни были — никогда не пытались вступить с нами в контакт?
Во взгляде профессора читалась изрядная доля сожаления.
— Мы считаем себя хорошими инженерами, — ответил он — Ну, и как мы можем до них добраться? Тем не менее я не вполне уверен, что контактов не было. Подумайте обо всех подземных созданиях, известных из мифологии, — тролли, кобольды и прочее. Нет, это абсолютно невозможно — беру свои слова обратно. И все же подобная идея наводит на размышления.
Все это время картина на экране оставалась неизменной: все так же тускло мерцала потрясшая меня до глубины души сетка. Я попытался представить себе улицы, здания и тех, кто среди них разгуливал, — эти создания могли прокладывать путь сквозь раскаленные скалы, словно рыба сквозь воду. Поистине фантастика!.. А затем я вспомнил невероятно низкий уровень температуры и давления, при которых существует человеческая раса. Да ведь это нас, а не их следует считать капризом природы, поскольку почти все вещества во Вселенной способны выдерживать температуру в тысячи или даже миллионы градусов.
— Ну, — неуверенно сказал я, — И что нам делать теперь?
Профессор возбужденно наклонился вперед.
— Для начала мы должны еще очень многое узнать, и все необходимо сохранить в глубокой тайне, пока мы не будем обладать более полной информацией. Можете представить себе панику, которая возникнет, если факты станут достоянием гласности? Разумеется, рано или поздно правда неизбежно откроется, но в наших силах выдавать ее постепенно.
Вы понимаете, что геологический аспект моих исследований теперь абсолютно не имеет значения. Первая вещь, которую мы обязаны сделать, это создать систему станций для определения протяженности структуры. Я предполагаю, что они должны располагаться с интервалом в десять миль по направлению к северу, но первую мне хотелось бы построить где-нибудь в южном Лондоне. Вся работа должна держаться в секрете, как это было при строительстве первой цепи радаров в конце тридцатых.
В то же время я собираюсь еще увеличить мощность моего трансмиттера. Я надеюсь, что смогу гораздо больше сузить излучение, таким образом изрядно повысив концентрацию энергии. Но это повлечет за собой разного рода механические сложности, и мне понадобится большая помощь.
Я обещал сделать все возможное для получения содействия в дальнейшем, и профессор выразил надежду, что скоро вы сами сможете посетить лабораторию. К докладу я прилагаю фотографию вида с экрана, которая, хоть и не столь четкая, как оригинал, сможет, я надеюсь, развеять сомнения в истинности наших наблюдений.
Я сильно опасаюсь, что наш грант Интерпланетарному обществу уже поставил нас на грань перерасхода средств за год, но абсолютно уверен, что даже полеты в космос в данный момент менее важны, чем безотлагательные исследования этого открытия, которое может оказать гигантское влияние на философию и будущее всего человечества».
Я откинулся назад и посмотрел на Карна. Многое в документе осталось для меня непонятным, но главные положения были достаточно ясны.
— Да, — сказал я. — Это оно! Где фотография?
Он протянул мне снимок. Качество оставляло желать лучшего, поскольку к нам попала далеко не первая его копия. Но изображенную на нем структуру я узнал немедленно и безошибочно.
— Они были великими учеными! — восхищенно воскликнул я, — Это Калластеон, все правильно. Итак, мы наконец добрались до истины, хотя нам и потребовалось на это три сотни лет.
— Что в этом удивительного? — спросил Карн. — Тебе ведь пришлось обработать горы материалов, которые мы должны были переводить и успевать копировать, прежде чем они рассыплются в прах.
Я некоторое время сидел молча, размышляя о чуждой расе, чьи останки мы изучали. Только однажды — и никогда вновь! — вышел я сквозь великое отверстие, проделанное нашими инженерами в Туманный Мир. Ощущение было пугающим и незабываемым. Многочисленные слои моего скафандра сильно затрудняли передвижение, и, несмотря на их прекрасные изоляционные свойства, я смог ощутить невероятный холод, исходивший ото всего, что меня окружало.
— Какая жалость, — грустно заметил я, — что наше появление полностью уничтожило их. Они были высокоразвитой расой, и мы могли бы многому у них научиться.
— Не думаю, что нас можно обвинить, — возразил Карн. — Мы никогда на самом деле не верили, что кто бы то ни было может существовать в таких жутких условиях почти полного вакуума и почти абсолютного нуля. С этим ничего нельзя было поделать.
Я не мог с ним согласиться.
— Я полагаю, что их более высокий интеллектуальный уровень уже ни у кого не вызывает сомнений. В конце концов, они открыли нас первыми. Все смеялись над моим дедом, когда он заявил, будто излучение, идущее из Туманного Мира, искусственного происхождения.
Карн пробежал щупальцами по рукописи.
— Мы, разумеется, обнаружили это излучение, — сказал он. — Обрати внимание на дату — как раз за год до открытия твоего деда. Профессор, должно быть, все-таки получил свой грант! — он мрачно рассмеялся. — Вероятно, он испытал немалое потрясение, увидев нас выходящими на поверхность как раз под ним.
Я смутно слышал его слова, поскольку внезапно меня охватило весьма неприятное чувство. Я подумал о тысячах миль скал, лежащих ниже великого города Калластеона, скал, которые становились горячее и тверже на протяжении всего пути до неведомого ядра Земли.
И тогда я повернулся к Карну.
— Не вижу ничего смешного, — тихо сказал я, — Возможно, следующей наступит наша очередь.
Крестовый поход
Перевод В. Гольдича, И. Оганесовой
Этот мир никогда не видел солнца. Около полумиллиарда лет он — жертва враждующих гравитационных полей — висит между двумя галактиками. В далеком будущем равновесие нарушится в ту или иную сторону, и он понесется через световые века к теплу, которого ему знать еще не довелось.
Сейчас же здесь царит невообразимый холод — межгалактическая ночь отняла у этого мира тепло. Однако тут имеются моря — моря единственного вещества, которое может существовать в жилкой форме при температуре чуть ниже абсолютного нуля. В мелких океанах гелия, омывающих берега диковинного мира, электрические течения бесконечны, а сила их не убывает, сверхпроводимость — самое обычное явление; процесс переключения может происходить миллиарды раз в секунду в течение миллиардов лет, причем с незначительными затратами энергии.
Самый настоящий рай для компьютеров. Нет мира настолько же непригодного для жизни, как этот, и настолько же удобного для искусственного интеллекта.
И разум здесь есть — он сосредоточился в кристаллах и микроскопических металлических нитях, разбросанных по всей поверхности планеты. Едва различимый свет двух соперничающих галактик, незначительно усиливающийся каждую пару веков за счет вспышек сверхновых, озаряет пейзаж из причудливых геометрических фигур- И здесь царит полная неподвижность, поскольку в мире, где мысль мгновенно передается из одного полушария в другое со скоростью света, нет никакой необходимости в движении. В этом мире значение имеет только информация, а перенос с места на место материи требует затрат драгоценной энергии.
Впрочем, когда появлялась необходимость в таком переносе, проблем не возникало. Однако уже несколько миллионов лет назад разум, поселившийся на одинокой планете, понял, что ему не хватит данных, имеющих существенное значение для его благополучия. Он предвидел, что в далеком будущем одна из галактик сумеет подчинить себе его мир. Искусственный интеллект не знал, с чем ему придется столкнуться, когда он познакомится с солнцем.
И потому усилием воли он заставил мириады кристаллов изменить свою форму. Атомы металла потекли по поверхности планеты. На дне моря гелия появились на свет и начали развиваться два одинаковых сознания…
Как только разум принял решение, интеллект планеты заработал четко и быстро — на выполнение задачи ушло всего несколько тысяч лет. Без звука, не потревожив зеркальную поверхность моря, со дна поднялись два новых организма и отправились к далеким звездам.
Они умчались в противоположных направлениях, и около миллиона лет вызвавшая их к жизни сущность ничего о них не слышала. Впрочем, планетарный разум и не ждал от них известий. Чтобы сообщить что-нибудь определенное, каждый из них должен добраться до своей цели.
Затем практически одновременно пришло известие о провале обеих миссий. Оказавшись в непосредственной близости от галактического пожара, рожденного теплом триллионов солнц, оба исследователя погибли. Жизненно важные цепи перегрелись и лишились сверхпроводимости, без которой не могли функционировать, — в результате два лишенных разума металлических объекта поплыли к постепенно увеличивающимся в размерах звездам.
Но прежде чем погибнуть, они успели доложить о возникших в ходе их миссии проблемах. И тогда, не проявляя ни удивления, ни огорчения, материнская планета приступила к подготовке новой попытки.
И через миллион лет — третьей… потом четвертой… и пятой…
Такое непоколебимое терпение и настойчивость заслуживали награды, и она наконец пришла в виде двух длинных, изощренно модулированных потоков импульсов, которые век за веком поступали с самых разных участков неба. Они хранились в цепях памяти, идентичных тем, что имелись у погибших разведчиков, — получалось, будто два исследователя вернулись, нагруженные багажом знания. Тот факт, что их металлические останки затерялись среди звезд, не имел никакого значения — проблема личности никогда не занимала планетарный разум и его детей.
Сначала поступила поразительная новость о том, что одна из вселенных пуста. Отправившийся туда зонд пытался отыскать на всех возможных частотах какие-нибудь источники излучения, однако ему удалось уловить лишь бессмысленный говор звезд. Он изучил тысячи миров и нигде не обнаружил даже намека на присутствие разумных существ. Естественно, пробы нельзя было рассматривать как бесспорное доказательство, поскольку зонду не удалось приблизиться ни к одной из звезд на расстояние, необходимое для ее детального изучения. Во время одной из попыток отказала система изоляции, температура зонда упала до точки замерзания водорода, и он сгорел.
Планетарный разум пытался решить загадку пустой Вселенной, когда поступил доклад от второго разведчика. И все остальные проблемы отошли на второй план, поскольку в этой Вселенной имелось множество разумов, и их мысли мириадами электронных кодов метались между звездами. Зонду понадобилось всего несколько веков, чтобы расшифровать и проанализировать их все.
Он довольно быстро понял, что столкнулся с очень необычным видом интеллекта. Некоторые его носители жили на таких жарких планетах, что даже вода там оставалась в жидком состоянии! Но даже и за целое тысячелетие исследователю не удалось разобраться, что конкретно представляет собой данная разумная жизнь.
Потрясение оказалось столь сильным, что он с трудом справился с его последствиями. Собрав последние силы, разведчик отправил свой доклад на родную планету, а вскоре погиб, став жертвой слишком высоких температур.
Полмиллиона лет спустя его разум-близнец, оставшийся лома и хранящий все его воспоминания и опыт, подвергся самому пристрастному допросу…
— Тебе удалось обнаружить интеллект?
— Да. В шестистах тридцать семи случаях у меня нет ни малейших сомнений. Тридцать два следует подвергнуть еще одной проверке. Данные прилагаются.
(Примерно три квадрильона битов информации. С интервалом в два года для их обработки несколькими тысячами разных способов. Удивление и непонимание.)
— Данные непродуктивны. Все источники интеллекта непосредственно связаны с высокими температурами.
— Совершенно верно. Но факты бесспорны — их следует признать.
(Пятьсот лет размышлений и экспериментов. В конце указанного времени — однозначное доказательство того, что простые, медленные машины могут функционировать при температуре кипения воды. Большие территории сильно пострадали во время демонстрации результатов эксперимента.)
— Факты действительно таковы, какими ты их представил. Почему ты не попытался войти с ними в контакт?
(Ответа нет. Вопрос приходится повторить.)
— Потому что я считаю это второй и более серьезной аномалией.
— Предоставь данные.
(Несколько квадрильонов битов информации, образцы шестисот культур, включающих: голосовые, видео- и нейропередачи; навигационные и контрольные сигналы; телеметрические приборы; схемы тестирования; создание радиотехнических помех; электрическую интерференцию; медицинское оборудование и т. д.
Далее пять веков анализа. И в результате — полное недоумение.)
(После длительной паузы отдельные данные изучены повторно. Тысячи визуальных образов просмотрены и обработаны самыми разными способами. Особое внимание уделено образовательным телевизионным программам нескольких планет, в особенности тем, которые имеют отношение к элементарной биологии, химии и кибернетике. И наконец…)
— Информация подтверждается, но она, скорее всего, ошибочна. Если же нет, то мы вынуждены сделать следующие выводы: 1) хотя разум, сходный с нашим, имеет место, он находится в меньшинстве; 2) большинство разумных организмов — это существа, частично состоящие из жидкости и наделенные очень коротким временем действия; они не отличаются жесткостью и построены весьма неэффективным способом из углерода, водорода, кислорода, фосфора и тому подобного; 3) несмотря на способность выдерживать исключительно высокие температуры, они обрабатывают и передают информацию немыслимо медленно; 4) их методы воспроизводства так сложны, невероятны и различны, что ни в одном из рассмотренных нами случаев мы не смогли получить четкую картину; 5) хуже всего: они утверждают, будто им принадлежит заслуга создания нашего, вне всякого сомнения превосходящего их интеллекта!
(Тщательное повторное исследование данных. Независимая обработка не связанных между собой отделов глобального разума. Обмен результатами и новая проверка. Тысячу лет спустя…)
— Самый вероятный вывод таков: хотя большая часть полученной нами информации не подвергается сомнению, существование немашинного разума высшего порядка — это самая настоящая фантазия. (Определение: самосогласованная перестановка фактов, не имеющая отношения к реальной Вселенной.) Эта фантазия, или ментальный артефакт, создана нашим зондом во время выполнения задания. Каковы причины ее возникновения? Термические повреждения? Частичная дестабилизация интеллекта, вызванная длительным периодом изоляции и отсутствием контроля?
— Почему именно в таком виде? Затянувшееся размышление над проблемой возникновения изучаемого интеллекта? Оно может породить неправильное восприятие Вселенной. Исследовательские системы выдали практически идентичные результаты во время моделированных тестов. Получается, что мы имеем дело с перевернутой логикой: мы существуем, а значит, нечто — назовем его X — нас создало. Как только мы делаем подобное предположение, в дальнейшем вполне допустимо представить себе, что гипотетический X обладает самыми невероятными качествами и возможностями.
Однако следует признать, что этот путь ошибочен, поскольку, если следовать той же логике, выходит, что нечто создало X… и так далее. Мы оказываемся вовлеченными в бесконечный процесс, не имеющий смысла в реальной Вселенной.
Второй наиболее вероятный вывод таков: немашинный разум высокого порядка действительно существует. И ошибочно считает, что он создал организмы нашего вида. В нескольких случаях они даже сумели установить контроль над этими организмами. И хотя данная гипотеза в высшей степени маловероятна, ее следует изучить. Если окажется, что она верна, необходимо принять меры. И сделать следующее…
Последний монолог имел место миллион лет назад. Он объясняет, почему за последние полвека почти одна четверть более ярких суперновых возникла в одном крошечном регионе — в созвездии Орла.
Крестовый поход против Земли начался. Его воины доберутся к месту назначения в 2050 году.
Пробуждение
Перевод П. Ехилевской
Хозяин гадал, будут ли ему сниться сны. Это было единственным, чего он боялся, поскольку ночной кошмар, продолжающийся на протяжении всего одной ночи, способен свести человека с ума, а ему предстояло проспать сотню лет.
Он помнил день, всего несколько месяцев назад, когда испуганный доктор произнес:
— Сэр, ваше сердце изношено. Жить вам осталось не более года.
Он не боялся смерти, но мысль о том, что она настигнет его в расцвете интеллектуальных способностей, когда его работа завершена лишь наполовину, наполняла его бессильной яростью.
— И вы ничего не можете сделать? — спросил он.
— Нет, сэр, вот уже на протяжении сотни лет мы работаем над созданием искусственного сердца. В следующем веке, возможно. нам наконец удастся достичь цели.
— Очень хорошо, — холодно ответил он. — Я подожду следующего века. Вы построите для меня какое-нибудь сооружение, в котором мое тело не подвергнется разрушению, а затем погрузите меня в сон, заморозите или еще что-нибудь в этом роде. Я полагаю, что как минимум это вы в состоянии сделать.
Он наблюдал за строительством мавзолея, в укромном месте выше линии снегов Эвереста. Только немногим избранным позволено будет знать, где именно скроется Хозяин, поскольку многие миллионы в мире попытались бы найти его, чтобы уничтожить. Секрет должен храниться в поколениях до того дня, когда наука разработает эффективные способы борьбы с заболеваниями сердца. Тогда Хозяин пробудится от сна.
Он еще осознавал, как его опустили на ложе в центральном помещении, хотя лекарства уже затуманили сознание. Он слышал, как закрылась стальная дверь, прижавшись к резиновым прокладкам, ему даже казалось, что он слышит шипение насосов, высасывавших воздух вокруг него и заменявших его стерильным азотом. Наконец он заснул, и спустя короткое время мир забыл о Хозяине.
Хозяин спал сотни лет, хотя открытие, которого он ожидал, уже давно сделали. Но некому было разбудить его, поскольку с момента его ухода мир изменился и не осталось никого, кто желал его возвращения. Его последователи умерли, и тайна его местопребывания ушла вместе с ними. Некоторое время существовала легенда о мавзолее Хозяина, но в конце концов и она была забыта. Итак, он спал.
По прошествии времени, которое по некоторым стандартам могло показаться коротким, земная кора решила, что она не желает больше терпеть вес Гималаев. Горы начали медленно опускаться, поднимая южный край Индии к небу. И вскоре плато Цейлона стало высочайшей точкой на поверхности Земли, а глубина океана, плескавшегося нал Эверестом, достигла пяти с половиной миль. Хозяина уже не могли потревожить ни друзья, ни враги.
Почва постепенно опускалась сквозь все увеличивавшуюся массу океанской воды, оседая на обломках Гималаев. Покров, который однажды станет мелом, начал утолщаться со скоростью не более нескольких дюймов в столетие. Если бы кто-то имел возможность вернуться некоторое время спустя, он мог обнаружить, что дно океана находится теперь на глубине не более пяти миль… или даже четырех… или трех…
Наконец земля поднялась опять — там, где некогда находились просторы Тибета, теперь возник могучий хребет известняковых гор. Но Хозяин ничего об этом не знал — его сон оставался все таким же глубоким и тогда, когда это случилось вновь… и вновь… и вновь…
Теперь реки и дожди вымывали мел и несли его в новые океаны, а погребенный мавзолей вновь приблизился к поверхности. Медленно вымывались мили скал, и вот наконец металлическая сфера, служившая пристанищем телу Хозяина, вернулась к свету дня, хотя день этот стал намного длиннее и намного туманнее того, в который он закрыл глаза. И вскоре на скалистом пьедестале, возвышавшемся над размытой почвой, его нашли ученые. Поскольку секрет мавзолея был утрачен, им, при всей их мудрости, понадобилось тридцать лет, для того чтобы проникнуть в помещение, где спал Хозяин.
Сознание пробудилось раньше тела. Пока он лежал, обессиленный, не имея возможности поднять налитые свинцом веки, в голове потоком проносились воспоминания о прошлом. Сотня лет благополучно осталась позади — его отчаянная затея увенчалась успехом! Он чувствовал небывалое возбуждение и стремился поскорее увидеть новый мир, который должен был возникнуть за то время, что он провел внутри мавзолея.
Одно за другим возвращались чувства. Он смог ощутить твердую поверхность, на которой лежал, мягкие потоки воздуха обвевали его лицо. Постепенно он вновь начал слышать звуки — слабое поскрипывание и щелканье вокруг. На мгновение он растерялся, но вскоре решил, что, должно быть, хирурги убирают свои инструменты. Не в силах открыть глаза, он лежал и ждал.
Неужели люди сильно изменились? Осталось ли в памяти потомков его имя? Возможно, лучше бы его не помнили, хотя Хозяин не боялся ненависти ни людей, ни наций, ибо никогда не знал их любви. На мгновение мелькнула мысль: а что, если за ним последовал кто-либо из друзей? Однако он знал, что надеяться на это не приходится. Когда он откроет глаза, все лица вокруг него будут чужими. Однако он жаждал увидеть эти лица, прочитать то выражение, которое появится на них при его пробуждении.
Силы вернулись. Хозяин открыл глаза. Мягкий свет не ослеплял, однако все вокруг выглядело туманным и расплывчатым. Он видел стоявшие вокруг фигуры — они казались странными, но пока он не мог ясно разглядеть их.
Наконец взгляд Хозяина сфокусировался, и, как только зрительные нервы донесли сообщение до мозга, несчастный слабо вскрикнул и умер. Ибо в последний момент своей жизни, увидев тех, кто стоял вокруг него, Хозяин понял, что долгая война между Человеком и Насекомым завершилась — и Человек не вышел из нее победителем.
Экспедиция на Землю
Перевод Д. Горфинкеля
Никто не помнил, когда племя отправилось в долгое странствие: огромные холмистые равнины, на которых поначалу поселились эти люди, теперь стали для них полузабытым сном. Уже много лет Шэн и его соплеменники стремительно продвигались по стране невысоких холмов и сверкающих озер, и теперь впереди виднелись горы. Этим летом предстояло пересечь их, чтобы проникнуть в южные земли: нельзя было терять времени.
Белый ужас, который спустился с полюсов, размалывая в пыль материки и замораживая самый воздух перед собой, отставал or них лишь на один дневной переход. Шэн усомнился, могут ли ледники перехлестнуть через горы, и в его сердце затеплился слабый огонек надежды. Горы могут оказаться преградой, о которую будут тщетно биться безжалостные льды. Как гласит старинное предание, в южных странах народ Шэна наконец найдет убежище.
Несколько недель ушло на то, чтобы отыскать проход между горами, по которому могли бы двигаться люди и животные. К середине лета племя расположилось в уединенной долине, где воздух был разрежен, а звезды сияли с невиданной яркостью. Лето было уже на исходе, когда Шэн взял двух своих сыновей и пошел с ними вперед обследовать путь. Три дня поднимались и спускались они по кручам и три ночи спали как попало на холодных скалах. А на четвертое утро перед ними оказался пологий подъем, который привел их к пирамиде из серых камней, сложенной теми, кто проходил здесь много веков назад.
Когда они приблизились к маленькой пирамиде, Шэна охватила дрожь, но не от стужи. Сыновья остановились за его спиной. Никто не произносил ни слова: слишком торжественным было это мгновение. Вскоре они узнают, насколько основательны их надежды.
К востоку и западу горы раздвигались, как бы обнимая страну, лежащую в низине. На много километров тянулась холмистая равнина. По ней гигантскими петлями змеилась могучая река. На этой плодородной почве племя могло бы выращивать хлеб, будь оно уверено, что отсюда не придется сниматься до сбора урожая.
Тогда Шэн обратил взор на юг и увидел, что все их надежды рухнули. Ибо там, на краю света, в небе переливалось смертоносное сияние, какое он так часто видел на Севере, — отблеск льдов, скрытых за линией горизонта.
Пути вперед больше не было. Все эти годы, пока люди бежали с севера, ледники с юга ползли им навстречу. И теперь беглецы скоро будут раздавлены движущимися стенами льда…
* * *
Южные ледники доползли до гор лишь при жизни следующего поколения. В последнее лето потомки Шэна перенесли священные сокровища племени к одинокой каменной пирамиде, откуда открывался вид на равнину. Льды, некогда блиставшие на горизонте, теперь были почти у их ног. К весне они начнут дробиться о горы.
Никто уже не понимал значения сохраненных сокровищ. Они были связаны с прошлым, слишком далеким, чтобы его поняли люди, жившие теперь. Их происхождение терялось во мгле, окружавшей Золотой век, и никто уже не расскажет о том. какими путями они в конце концов перешли во владение этого скитальческого племени. Ибо это был бы рассказ о цивилизации, канувшей в вечность.
Некогда в сохранении этих жалких реликвий был какой-то смысл, но теперь он был уже давно утрачен; их стали считать священными. Шрифт в древних книгах выцвел несколько столетий назад, но многие места были еще различимы. Если бы только нашелся человек, способный их прочесть! Однако много поколений сменилось, с тех пор как прекратился какой-либо спрос на таблицы семизначных логарифмов, атлас мира и партитуру Седьмой симфонии Сибелиуса, отпечатанную, согласно титульному листу, Г. К. Чу с сыновьями в городе Пекине в 2371 году нашего летосчисления.
Древние книги были благоговейно уложены в небольшой склеп, сооруженный для них. Там же хранились самые разнообразные вещи: золотые и платиновые монеты, разбитый телеобъектив, ручные часы, люминесцентная лампа, микрофон, электрическая бритва, несколько миниатюрных электронных ламп — обломки высокой цивилизации, сгинувшей навсегда. Все эти предметы были тщательно упакованы. Затем к ним присоединили еще три реликвии, наименее понятные, а потому наиболее почитаемые.
Первая представляла собой странной формы кусок металла, местами изменившего цвет от сильного нагрева. Это был, пожалуй, самый трогательный из всех собранных здесь символов прошлого, ибо он рассказывал о величайшем достижении Человека и о будущем, которое он, быть может, предвидел. Подставка красного дерева, на которой крепился металл, была украшена серебряной пластинкой с надписью:
«ЗАПАСНОЙ ЗАЖИГАТЕЛЬ К ПРАВОМУ РЕАКТИВНОМУ ДВИГАТЕЛЮ КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ «УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА» (ЗЕМЛЯ — ЛУНА), 1985 ГОД».
Вторая была чудом древней науки: сфера из прозрачного пластика с внедренными в нее странными кусками металла. В центре сферы находилась маленькая капсула из синтетического радиоактивного вещества. Она была окружена особыми экранами, которые преобразовывали коротковолновое излучение в длинноволновое. Пока материал оставался активным, сфера могла служить маленьким радиопередатчиком, излучаю-шим энергию по всем направлениям. Таких сфер было изготовлено лишь несколько. Они были чем-то вроде постоянных маяков для указания орбит астероидов. Однако Человек не добрался до астероидов, и маяки остались неиспользованными.
Третьей реликвией была круглая жестянка, очень широкая, но неглубокая. Она была надежно запаяна, и, когда ее встряхивали, внутри что-то дребезжало. По верованиям племени, вскрытие этой жестянки принесло бы несчастье, и никто не знал, что в ней заключено одно из величайших произведений искусства, созданное около тысячи лет назад.
Работа была окончена. Двое мужчин уложили камни на прежнее место и начали спускаться с горы. Человек до последних дней не переставал думать о будущем и пытался сохранить хоть что-нибудь для потомства.
В эту зиму огромные массы льда впервые штурмовали горы, наступая с севера и с юга. После первого же натиска предгорья были сокрушены и стерты с лица Земли. Но горы стояли твердо, и, когда пришло лето, ледники немного отодвинулись.
Так из зимы в зиму битва продолжалась, и грохот лавин, скрежет дробящихся камней и взрывы раскалываемого льда сотрясали воздух. Никакие войны Человека не могли сравниться по своей ожесточенности с этим сражением, охватившим всю поверхность земного шара!
Наконец приливные волны льдов, смирившись, начали медленно сползать с гор, так и не покорившихся им. Но долины и перевалы все еще были сжаты мертвой хваткой. Сражение окончилось вничью: ледники встретили достойного противника.
Это произошло слишком поздно, и уже не могло принести пользу Человеку.
Век сменялся веком. И вот случилось то, что должно случиться хоть раз за историю каждого мира Вселенной, как бы далек и пустынен он ни был…
Прибыл корабль с Венеры. Он опоздал на пять тысяч лет, но его экипаж не знал об этом. Когда корабль находился на расстоянии многих миллионов километров, венериане увидели в телескопы чудовищный покров льда — из-за него Земля казалась самым ярко сверкающим небесным телом после Солнца. Там и сям по ослепительному покрову расплывались черные пятна. Так были обнаружены почти погребенные льдами горы. И это было все.
Волнующиеся океаны, равнины и леса, пустыни и озера — все, что составляло мир Человека, — было пленено льдом, может быть, навсегда.
Корабль приблизился к Земле менее чем на тысячу километров, перейдя на круговую орбиту. Пять суток он кружил над планетой. Его фотокамеры запечатлели все, что только можно было увидеть, а сотни приборов собрали столько информации. что венерианским ученым предстояло затратить на ее обработку годы груда. Посадка на планету не входила в их намерения, казалась бесполезной. Но на шестые сутки картина изменилась. Панорамный индикатор уловил ничтожную радиацию маяка, который существовал уже пять тысяч лет. Долгие века он посылал сигналы, которые постепенно слабели, так как слабело его радиоактивное сердце.
Монитор синхронизировался с частотой маяка. В кабине управления раздался настойчивый звонок, требовавший внимания. Немного позже венерианский корабль сошел с орбиты и спланировал на Землю, направляясь к цепи гор, все еще гордо высившихся надо льдом, и к памятнику из серых камней, которого почти не коснулось время.
Гигантский диск Солнца яростно пылал в небе Венеры. Теперь оно очистилось от тумана; исчезли облака, ранее скрывавшие планету.
Какая-то сила, изменив радиацию Солнца, обрекла на гибель одну цивилизацию и дала жизнь другой. Менее пяти тысяч лет назад полудикое население Венеры впервые увидело Солнце и звезды. Земная наука начинала с астрономии — то же самое произошло и на Венере. В этом теплом и богатом мире, которого Человек никогда не видел, развитие пошло невероятно быстро.
Может быть, венерианам повезло: они не знали средневековья, которое на тысячу лет сковало Человека. Жители Венеры избежали долгого, окольного пути изучения химии и механики и сразу открыли основные законы физики излучений. За то время, которое потребовалось Человеку, чтобы шагнуть от пирамид к ракетному космическому кораблю, венериане проделали путь от освоения земледелия до открытия антигравитации — тайны, так и не постигнутой Человеком.
Теплый океан, который все еще нес в себе большую часть органической жизни молодой планеты, лениво катил буруны на песчаный берег. Этот материк был таким юным, что даже песок его был грубым, крупнозернистым. Море еще не успело растереть его и сделать гладким. Ученые лежали наполовину в воде. Их великолепные тела рептилий поблескивали на солнце. Величайшие умы Венеры собрались на этом берегу со всех островов планеты. Они еще не знали, что нового услышат о Третьей планете и таинственной породе живых существ, населявших ее до прихода льдов.
Историк стоял на берегу: приборы, которыми он собирался воспользоваться, боялись воды. Рядом высилась большая машина, привлекавшая к себе любопытные взгляды его коллег, — очевидно, какое-то оптическое устройство, судя по системе линз, которая была направлена на экран из белого материала, расположенный неподалеку.
Историк заговорил. Он кратко изложил то немногое, что стало известно о Третьей планете и ее обитателях. Упомянул о веках бесплодных изысканий, в процессе которых так и не смогли объяснить ни одного понятия, заключенного в памятниках Земли. Видимо, планету населяли существа, чрезвычайно одаренные в области техники. Об этом можно было судить по немногим деталям машин, найденным в склепе на горе.
— Мы не знаем, почему такая развитая цивилизация погибла. Судя по всему, эти существа обладали достаточными знаниями, чтобы пережить ледниковый период. Должно быть, существует другое объяснение, о котором мы ничего не знаем, — болезнь или постепенное вырождение. У нас высказывали мысль, что племенные распри, не прекращавшиеся на Венере в доисторические времена, могли продолжаться на Третьей планете и в эпоху развития технических знаний. Некоторые философы даже утверждают, что само по себе знакомство с машинами еще не говорит о высокой ступени цивилизации и что теоретически войны возможны даже в обществе, располагающем развитой энергетикой, авиацией и радиосвязью. Такая концепция совершенно чужда нашим представлениям, но мы должны допустить, что это могло произойти, что можно и так объяснить деградацию исчезнувшего населения.
Многие считают, что мы никогда не узнаем, каков был внешний вид жителей Третьей планеты. Веками наши художники изображали сцены из истории мертвого ныне мира, населяя его всевозможными фантастическими существами, как правило, более или менее похожими на нас, хотя при этом часто указывалось, что наша принадлежность к рептилиям вовсе не означает, что все разумные создания непременно должны быть рептилиями. Теперь мы разгадали одну из самых сложных загадок истории. Наконец-то, после пяти веков напряженного труда, мы выяснили, каков был внешний вид и характер разумных созданий, населявших Третью планету.
По рядам ученых пронесся шепот изумления. Некоторые были так поражены, что на время погрузились в успокаивающую морскую стихию, как это делают все венериане в минуты волнения. Историк терпеливо ждал, пока его коллеги не вынырнули вновь. Сам он чувствовал себя вполне удовлетворительно: по его телу непрерывно пробегали тонкие струйки воды, и с помощью этого устройства он мог по многу часов проводить на суше, не возвращаясь в благословенную стихию воды.
Общее возбуждение понемногу улеглось, и докладчик продолжал:
— Один из наиболее загадочных предметов, найденных на Третьей планете, — металлическая коробка, содержащая прозрачный пластический материал, перфорированный по краям и туго свернутый в виде спирали. Эта прозрачная лента очень большой длины сначала казалась совершенно лишенной каких-либо особенностей, однако при исследовании под новым субэлектронным микроскопом на поверхности ленты были обнаружены тысячи мелких изображений, невидимых глазу; они прояснялись под воздействием надлежащего излучения. Предполагается, что они были нанесены на пластический материат какими-то химическими средствами, а затем поблекли от времени.
На этих изображениях, по-видимому, запечатлены отдельные проявления жизни, какой она была на Третьей планете в эпоху величайшего расцвета ее цивилизации. Между ними есть зависимость. Последовательные картинки почти тождественны и разнятся только фазами движения. Назначение такой записи очевидно. Достаточно спроецировать изображенные сцены на экран, быстро чередуя их, чтобы создать иллюзию непрерывного движения. Мы построили аппарат для этой цели, и я получил точное воспроизведение сменяющихся картин.
Сцены, которые вы сейчас будете созерцать, уводят нас на тысячи лет назад, в век расцвета Третьей планеты. Перед нами предстанет очень сложная цивилизация, о многих сторонах которой мы можем лишь смутно догадываться. Но надо полагать, что жизнь была очень бурной. Многое из того, что вы увидите, вызывает недоумение.
Ясно одно: Третью планету населяли существа разных пород, однако рептилий среди них не было. Это наносит удар нашей гордости, но такой вывод неизбежен. Среди обитателей планеты преобладает тип двурукого и двуногого существа. Оно ходило выпрямившись и прикрывало тело каким-то гибким материалом, возможно для зашиты от холода, так как и до эпохи оледенения на планете господствовала гораздо более низкая температура, чем в нашем мире.
Но я больше не стану испытывать ваше терпение. Вы сейчас увидите запись, о которой я говорил.
Из проекционного аппарата вырвался ослепительный сноп лучей. Послышалось тихое жужжание, и на экране появились сотни странных созданий. Они двигались мелкими рывками то туда, то сюда. Но вот одно из этих созданий было выхвачено, расползлось по экрану, и ученые могли убедиться, что историк описал его правильно. У обитателя Третьей планеты на лице виднелось два глаза, расположенных на небольшом расстоянии один от другого, но остальные черты были неясны. В нижней части головы находилось большое отверстие, которое непрерывно открывалось и закрывалось. Может быть, это было как-то связано с процессом дыхания.
Ученые как зачарованные следили за рядом фантастических приключений этих странных существ. Они увидели, как одно из них вступило в яростную схватку с другим, чуть отличавшимся по виду. Казалось, гибель обоих неизбежна. Но нет: когда все было кончено, оказалось, что ни тот ни другой не пострадали. Затем началась бешеная езда на многие километры в четырехколесном механическом приспособлении, прямо-таки пожиравшем расстояние. Наконец приехали в большой город, где было полным-полно таких же механизмов, сновавших по всем направлениям с головокружительной быстротой. Никто не удивился, когда две машины налетели одна на другую и обе были разрушены.
После этого события еще более усложнились. Стало очевидно, что потребуются годы кропотливого труда, чтобы проанализировать и понять все, что произошло. Ясно, что эта запись была несколько стилизованным произведением искусства, а не точным воспроизведением жизни на Третьей планете.
Промелькнула заключительная сиена. Индивид, находившийся в центре внимания, оказался вовлеченным в ужасную, но непонятную катастрофу. Картина сжалась в круг, послуживший рамкой для головы этого создания. И наконец, появилось его увеличенное лицо, очевидно выражавшее какое-то сильное чувство, но был ли то гнев, горе, вызов, смирение или иное переживание — догадаться было нельзя.
На мгновение появились на экране какие-то знаки, и картина исчезла.
Несколько минут стояла такая тишина, что слышался только лепет волн, набегавших на песок. Ученые были слишком ошеломлены, чтобы говорить. Промелькнувшая перед ними картина земной цивилизации потрясла их умы. Потом, разбившись на маленькие группы, они шепотом начали беседовать. Шум усиливался по мере того, как до сознания ученых доходило огромное значение увиденного. Но туг историк снова обратился к собранию:
— Мы теперь намечаем широчайшую программу исследований, чтобы извлечь из этой записи все содержащиеся в ней знания. Будут изготовлены тысячи копий и розданы всем сотрудникам. Вы понимаете, какие проблемы нам нужно решить! Особенно грандиозные задачи стоят перед психологами. Но я не сомневаюсь в успехе. Сменится наше поколение, и кто знает, что удастся выяснить об этой удивительной породе живых существ? Прежде чем разъехаться, давайте взглянем еще раз на наших дальних двоюродных братьев, чья мудрость, быть может, превосходила нашу, хотя от их деяний и осталось так мало.
На экране опять вспыхнула заключительная сцена — но на этот раз проекционный аппарат был остановлен. Изображение застыло. С чувством, близким к благоговению, ученые разглядывали неподвижного пришельца из прошлого, а маленькое двуногое существо в свою очередь с характерным для него высокомерием и раздражением смотрело на них в упор.
Отныне и до скончания времен оно будет представлять род людской. Психологи Венеры будут анализировать его действия и наблюдать за каждым его движением, пока им не удастся воссоздать его образ мышления. О нем напишут тысячи книг. Чтобы объяснить его поведение, создадут сложные философские системы, но весь этот труд, все эти исследования будут тщетны.
Казалось, гордая и одинокая фигура на экране сардонически усмехнулась, когда ученые приступили к своему многовековому бесплодному труду. Тайна будет сохранена, пока существует Вселенная, ибо никто и никогда не прочтет письмена на утраченном языке Земли. Миллионы раз в грядущем вспыхнут последние несколько слов на экране, и никто не поймет их смысла:
«Производство Уолтера Диснея».
Спасательный отряд
Перевод Л. Жданова
Кого винить? Вот уже три дня мысли Альверона возвращаются к этому вопросу, и до сих пор он не нашел ответа. Сын народа с менее утонченной или менее чувствительной душой не стал бы терзаться, довольствовался бы тем, что никто не может быть в ответе за деяния рока. Но Альверон и его народ были властелинами вселенной уже на заре истории, в ту далекую пору, когда неведомые силы, от которых пошло Начало, обнесли космос Барьером Времени. Им было дано все знание, а беспредельное знание влекло за собой беспредельную ответственность. Если в управлении Галактикой случались ошибки и промахи, вина ложилась на Альверона и его род. А тут не просто ошибка — одна из величайших трагедий в истории.
Команда еще ничего не знает. Даже Ругону, его самому близкому другу, заместителю командира корабля, известна только часть истины. Но ведь до обреченных миров осталось меньше миллиарда миль. Через несколько часов они сядут на третьей планете.
Альверон снова прочитал послание Базы, потом движением, которого не уловил бы ни один человеческий глаз, нажал кнопку «Общее внимание». В длинном, с милю, цилиндре — Корабле Галактического Дозора К.9000 — представители многих народов оторвались от своих дел, чтобы послушать, что скажет капитан.
— Я знаю, всем вам хочется узнать, — начал Альверон, — почему нам приказали прервать рекогносцировку и с таким ускорением поспешить в эту область космоса. Вероятно, кое-кто из вас понимает, что значит такая перегрузка! Наш корабль совершает свой последний полет, уже шестьдесят часов генераторы работают на пределе. Хорошо, если мы сможем своим ходом вернуться на Базу.
Мы приближаемся к солнцу, которое вскоре станет новой звездой. Взрыв произойдет через семь часов плюс-минус один час. Для исследования у нас остается самое большее четыре часа. Все десять планет системы обречены, причем на третьей планете есть цивилизация. Это установлено всего несколько дней назад. Нам выпал печальный долг связаться с обреченной цивилизацией и, если можно, спасти хоть кого-нибудь. Я знаю, с одним кораблем за такое короткое время мы мало что можем сделать. Но до взрыва уже никто больше не подоспеет нам на помощь.
Он помолчал, и долго в могучем корабле, который бесшумно мчался к неизведанным мирам, стояла тишина — ни движения, ни звука. Альверон знал, о чем думают его товарищи, и он попытался ответить на невысказанный вопрос.
— Вы недоумеваете, как могли допустить такую катастрофу, самую большую на нашей памяти. Одно могу сказать совершенно точно: галактический дозор тут не виноват. Вам известно, что с нашим флотом, неполных двенадцать тысяч кораблей, мы можем обследовать каждую из восьми миллиардов солнечных систем Галактики в среднем один раз в миллион лет. Большинство миров очень мало изменяется за столь короткий срок.
Около четырехсот тысяч лет назад дозорный корабль К.5060 изучал планеты системы, к которой мы приближаемся. Нигде не оказалось разумной жизни, хотя третья планета кишела животными, а еще две планеты когда-то были обитаемы. Был представлен как положено, доклад, назначен срок следующего обследования системы — до него еще шестьсот тысяч лет.
Но, оказывается, в невероятно короткий срок, который прошел со времени последней проверки, в системе возникла разумная жизнь. Первым признаком этого явились неизвестные радиосигналы, принятые на планете Кулат, в системе — X 29.35, Y 34.76, Z 27.93. Взяли пеленг: сигналы исходили из системы, в которую мы идем. До Кулата отсюда двести световых лет, значит, радиоволны шли два столетия. Другими словами, не меньше двухсот лет на одном из этих миров существует цивилизация, которая владеет техникой посылки электромагнитных волн и всем, что с этим связано.
Тотчас было проведено телескопическое изучение системы; оказалось, что солнце нестабильно, находится в стадии пред-новой. Взрыв мог произойти в любую минуту, если уже не произошел, пока радиоволны летели до Кулата. Понадобилось какое-то время, чтобы навести на эту систему сверхмощные локаторы, которые стоят на Кулат-П. Они показали, что взрыва еще не было, но до него осталось лишь несколько часов. Будь Кулат на долю светового года дальше от этого солнца, мы вовсе не узнали бы, что здесь существовала цивилизация.
Глава правительства Кулата сейчас же связался с Секторальной Базой, и мне велели немедля идти к системе. Наша задача — спасти кого можно, если кто-нибудь еще жив. Правда, мы полагаем, что цивилизация, у которой есть радио, может защититься от возросшей температуры.
Наш корабль и два вспомогательных катера обследуют каждый свою часть планеты. Капитан Торкали поведет ВК-Т, капитан Орострон — ВК-2. У них будет чуть меньше четырех часов. К концу этого срока они должны вернуться на корабль. Если опоздают, мы уйдем без них. Оба капитана сейчас получат от меня подробные инструкции в отсеке управления.
Все. Через два часа войдем в атмосферу.
На планете, некогда носившей имя Земля, гасли последние языки пламени: больше нечему было гореть. От могучих лесов, которые буквально затопили планету, когда кончилась эра городов, остались одни головешки, и дым от их погребальных костров еще стелился в небе. Но роковой час пока не пробил, камни не расплавились. Сквозь мглу неясно проступали материки, однако их очертания ничего не говорили наблюдателям на корабле. Карты, которыми они располагали, устарели на десяток ледниковых периодов и несколько потопов.
Когда К.9000 проходил мимо Юпитера, они сразу увидели, что не может быть никакой жизни в этих полугазообразных океанах сжатых углеводородов, теперь бурно кипевших в необычно жарких лучах солнца. Марс и другие внешние планеты остались в стороне. Альверон понял, что миры, лежащие ближе к солнцу, чем Земля, уже плавятся. Вероятнее всего, подумал он с печалью, трагедия неведомой расы свершилась. В глубине души он считал, что это даже к лучшему. Корабль смог бы взять не больше нескольких сот человек, и мысль об отборе мучила его.
В отсек управления вошел Ругон, начальник связи и заместитель командира. Весь последний час он тщетно пытался уловить сигналы с Земли.
— Опоздали, — угрюмо сообщил он, — Я все диапазоны прочесал, эфир молчит, если не считать наших собственных станций и программы с Кулата двухсотлетней давности. В этой системе не осталось никаких источников радиоизлучения.
С грациозной плавностью, недоступной двуногим существам, он приблизился к огромному видеоэкрану. Альверон промолчал; новость, которую сообщил Ругон, не была для него неожиданной.
Одна стена отсека управления целиком была занята экраном; огромный черный прямоугольник создавал впечатление бездонной глубины. Три тонких щупальца Ругона, непригодные для тяжелой работы, но незаменимые для быстрых манипуляций, забегали но ручкам настройки, и экран ожил тысячами световых точек. Ругон продолжал настраивать, и звездный рой ушел в сторону, уступив место солнцу.
Житель Земли не узнал бы этот чудовищный диск. Светило не было белым, его поверхность наполовину заволокли огромные фиолетово-голубые облака, из них в космос вырывались длинные языки пламени. В одном месте из фотосферы далеко в мерцающую бахрому короны протянулся исполинский выступ. Словно на солнце выросло огненное дерево высотой в полмиллиона миль, и ветви его были реками пламени, которые неслись в космосе со скоростью сотен миль в секунду.
— Полагаю, — сказал наконец Ругон, — астроном представил вам достаточно точные расчеты. Как-никак…
— Не беспокойтесь, нам ничего не грозит, — заверил его Альверон, — Я говорил с обсерваторией на Кулате, они перепроверили наши данные. Когда нам сказали, что срок определен с точностью до одного часа, это надо понимать так: у нас будет час в запасе, а уж наше дело, использовать его или нет.
Он взглянул на пульт управления.
— Пора нам входить в атмосферу. Пожалуйста, настройте опять экран на планету. Так, пошли!
По кораблю пробежала дрожь, резко зазвонили и тут же смолкли сигналы тревоги. На экране появились два тонких снаряда, которые нырнули вниз к огромному диску Земли. Несколько миль они шли вместе, потом разделились, и один вдруг исчез, войдя в тень планеты.
Главный корабль, масса которого в тысячу раз превосходила массу любого из катеров, медленно погрузился следом за ними в объятия неистовой бури, разрушавшей покинутые людьми города.
В полушарии, над которым Орострон вел свой катер, царила ночь. Как и Торкали, он должен был фотографировать, делать замеры и докладывать на корабль. На маленьком разведочном аппарате не было места ни для пассажиров, ни для образцов. Если он встретит обитателей этого мира, к нему тотчас подойдет К.9000. Для переговоров времени не будет. В крайнем случае спасатели пустят в ход силу; объяснения последуют потом.
Опустошенный край внизу купался в жутком мерцающем свете; над половиной планеты простерлось огромное полярное сияние. Но изображение на экране не зависело от освещения, и Орострон ясно видел голые скалы, которые, казалось, никогда не знали жизни. Где-нибудь эта пустыня должна кончаться! Он включил самый полный ход, на какой мог решиться в этой плотной атмосфере.
Катер мчался сквозь ураган, и вот каменная пустыня вздыбилась. Впереди, уткнув вершины в клубы дыма, простиралась горная гряда. Орострон навел локатор на горизонт; тотчас на экране угрожающе близко выросли горы. Он пошел круто вверх. Трудно представить себе более негостеприимный край — какая тут может быть жизнь! Не изменить ли курс? Он решил идти по-прежнему и через пять минут был вознагражден.
Далеко внизу возникла обезглавленная гора; вся вершина ее была срезана какими-то искусными инженерами. Широко расставив ноги, на плато, прямо на камне, стояла замысловатая конструкция из металлических ферм, служивших опорой для различных устройств. Орострон остановил катер, потом пошел по спирали к горе.
Легкая мгла от доплерова эффекта пропала, изображение на экране стало предельно четким. На опорах, глядя в небо под углом в сорок пять градусов, лежали десятки исполинских металлических зеркал. Они были слегка вогнутые, и в фокусе каждого помешался некий сложный аппарат. В этом могучем, величественном сооружении угадывалась целесообразность: все зеркала смотрели в одну точку на небе или за ним.
Орострон повернулся к своим товарищам.
— Мне это напоминает обсерваторию, — сказал он. — Вы видели прежде что-нибудь похожее?
Клартен, многощупальцевый обитатель шарообразного скопления на краю Млечного Пути, предложил другую гипотезу:
— Это аппаратура связи. Отражатели фокусируют электромагнитные лучи. Я видел такие устройства на сотнях планет. Может быть, это как раз та станция, чьи сигналы приняли на Кулате. Хотя вряд ли, луч от таких больших зеркал должен быть очень узким.
— Тогда понятно, почему Ругон не мог поймать никаких импульсов, когда мы подходили к планете, — добавил Хансур-2, один из двойников с Тхаргона.
Орострон возразил:
— Если это радиостанция, ее поставили для межпланетной связи. Посмотрите, куда направлены зеркала. Никогда не поверю, чтобы народ, который только два столетия знал радио, мог пересечь космические дали. Моему народу для этого понадобилось шесть тысяч лет.
— Мы управились за три тысячи, — мягко вставил Хансур-2, опередив своего двойника на несколько секунд.
Прежде чем дело дошло до спора, Клартен взволнованно замахал щупальцами. Пока остальные говорили, он включил автоматический перехват.
— Есть! Слушайте!
Он щелкнул тумблером, и кабину заполнил пронзительный визг. Тон звука непрерывно менялся, тут явно была какая-то система, но в чем ее смысл?
Минуту все четверо напряженно слушали, потом Орострон сказал:
— Это не может быть речью! Ни одно существо не способно говорить так быстро.
Хансур-1 пришел к тому же выводу.
— Это телевизионная программа. А вы как думаете, Клартен?
Тот согласился.
— Да, причем каждое зеркало передает свою программу. Интересно, для кого? Очевидно, где-то там, куда направлено излучение, находится какая-нибудь другая планета данной системы. Это можно быстро проверить.
Орострон вызвал К.9000 и доложил об открытии. Ругон и Альверон были очень взволнованы и тотчас сверились с астрономическими справочниками.
Итог был неожиданным и обескураживающим. Ни одна из остальных девяти планет даже близко не подходила к каналу передачи. Казалось, огромные отражатели направлены в космос наугад.
Вывод мог быть лишь один, и первым его изложил Клартен.
— У них была межпланетная связь, — сказал он. — Но теперь станция покинута, и никто больше не следит за передатчиками. Планеты ушли, а антенны направлены по-старому.
— Ладно, сейчас мы все выясним, — сказал Орострон. — Я сажусь.
Он медленно опустил катер сначала вровень с огромными металлическими зеркалами, потом еще ниже и лег наскальную площадку. В ста ярдах от катера под переплетением стальных ферм ютилось белое каменное здание. В нем не было окон, зато много дверей в обращенной к ним стене.
Глядя, как его товарищи надевают защитные костюмы, Орострон пожалел, что не может идти с ними. Но кто-то должен оставаться на борту и держать связь с кораблем. Так распорядился Альверон — распорядился очень мудро. Никогда не знаешь, что ждет тебя на планете, которую исследуешь впервые, тем более при таких обстоятельствах.
Осторожно три разведчика вышли из переходной камеры и отрегулировали антигравитационное поле своих костюмов. Затем маленький отряд направился к зданию: каждый двигался так, как это было присуще его народу. Впереди шли двойники Хан-сур, сразу за ними Клартен. Его гравитационный прибор явно капризничал: Клартен вдруг упал, рассмешив этим своих товарищей. Орострон видел, как все трое на миг задержались перед ближайшей дверью, потом медленно открыли ее и исчезли.
Призвав на помощь все свое терпение, Орострон ждал, а кругом бесновалась буря, и в небе все ярче разгоралась заря. В условленное время он вызывал главный корабль и слышал краткое подтверждение Ругона. Интересно, как дела у Торкали в другом полушарии, но с ним не свяжешься сквозь треск и грохот солнечных помех.
Клартен и Хансуры довольно скоро удостоверились, что их предположения в общем верны. Здесь быта радиостанция, теперь всеми покинутая. Из огромного зада несколько дверей вело в небольшие комнаты. В главном помещении шеренгами уходили вдаль аппараты, на сотнях пультов мелькали огоньки, тускло светились сетки огромных радиоламп, образовавших целую аллею.
На Клартена все это не произвело никакого впечатления. Первый радиоаппарат, созданный его сопланетниками, давно превратился в окаменелость, насчитывающую миллиард лет. Народ, всего лишь несколько веков знавший электрические машины, не мог соперничать с теми, кто открыл электричество на заре существования планеты Земля.
Продолжая исследовать здание, отряд все запечатлевал на пленку. Надо было решить еще одну загадку. Покинутая радиостанция передает программы: откуда они идут? Центральный пульт удалось найти быстро. Он был рассчитан на одновременную трансляцию десятков программ, но студии надо было искать на другом конце множества кабелей, уходивших в подземелье. Ругон на К.9000 пытался разобрать содержание передач; может быть, это поможет. Нет никакого смысла прослеживать кабели, тянущиеся, возможно, через весь материк.
Отряд не стал задерживаться долго в пустой радиостанции. Больше они ничего не могли узнать здесь; и ведь они искали не столько научную информацию, сколько жизнь. Через несколько минут катер быстро взлетел с плато и пошел к равнинам, которые должны были простираться за горами. Оставалось около трех часов.
Глядя на исчезающие вдали таинственные зеркала, Орострон вдруг встрепенулся. Что это: ему почудилось или они и впрямь, пока он ждал, все чуть-чуть повернулись, точно компенсируя вращение Земли? Он не был уверен и решил, что это вообще не играет роли. Направляющие механизмы продолжают работать по заданной им программе, только и всего.
Через четверть часа они увидели город. Он далеко раскинулся вдоль реки, от которой остался уродливый шрам. Этот рубец петлял между высоких зданий и под такими никчемными теперь мостами.
У экипажа не было никаких сомнений, что город покинут. А проверять все здания некогда, в их распоряжении всего два с половиной часа. Орострон приземлился возле самой крупной постройки. Естественно предположить, что если кто-нибудь и укроется, то в самых прочных зданиях, где можно отсидеться до конца.
Глубочайшие пещеры, даже недра планеты не смогут защитить от катаклизма. И если здешний народ перебрался на дальние планеты, все равно смертный приговор будет отложен лишь на несколько часов, которые потребуются яростным волнам, чтобы пересечь всю солнечную систему.
Откуда было знать Орострону, что люди оставили город не несколько дней или недель назад, что он пустует уже больше ста лет. Городская культура, пережившая столько стадий, оказалась обреченной, когда геликоптеры стали универсальным средством транспорта. Через несколько десятилетий людские массы, зная, что можно за какие-то часы достичь любого уголка земного шара, вернулись в поля и леса, по которым всегда тосковали. Новая цивилизация обладала машинами и ресурсами, о каких человечество прежде и не мечтало, но она во многом была сельской и покинула стальные и бетонные стены, которые веками довлели над людьми.
Сохранились города — центры науки, управления или развлечения, остальные забросили, так как разрушать их было слишком хлопотно. Десяток-полтора крупнейших столиц и древние университетские центры мало изменились и могли бы простоять еще не одну сотню лет. Но города, чья жизнь была основана на паре, железе и наземном транспорте, исчезли вместе с промышленными отраслями, которые их питали.
Пока Орострон ждал на борту ракеты, его товарищи проносились по бесконечным пустым переходам и залам, делая несчетное множество снимков, которые ничего не могли им рассказать об обитавших здесь прежде существах. Библиотеки, залы заседаний, тысячи официальных помещений пустовали, всюду лежал толстый слой пыли. Если бы разведчики не видели радиостанцию на горе, они подумали бы, что эта планета уже много столетий как вымерла.
Томясь долгим ожиданием, Орострон пытался представить себе, куда мог уйти этот народ. Может быть, предвидя, что спастись нельзя, люди покончили с собой? А может быть, соорудили огромные, на миллионы мест, убежища в недрах планеты и сейчас сидят где-нибудь у него под ногами, дожидаясь конца… Вероятно, ему никогда этого не узнать.
Он с облегчением отметил, что пора лететь обратно. Скоро станет известно, чем кончилась вылазка Торкали. Ему не терпелось скорее вернуться на корабль, так как с каждой минутой он чувствовал себя все более неуютно. Орострон уже спрашивал себя: что, если астрономы на Кулате ошиблись? Он успокоится, лишь когда кругом будут надежные стены К.9000. Еще лучше уйти в космос подальше от этого зловещего солнца.
Как только его спутники вошли в шлюз, Орострон поднял в небо маленький аппарат и взял курс на К.9000. Потом повернулся к остальным.
— Ну, что вы нашли? — спросил он.
Клартен достал свернутый в трубку холст и расстелил его на полу.
— Вот как они выглядели, — тихо сказал он. — Двуногие, и рук только две. Несмотря на это, управлялись неплохо. Всего два глаза, во всяком случае впереди. Нам посчастливилось, это чуть ли не единственный предмет, который остался.
Старинный портрет холодно глядел на троих, те, в свою очередь, пристально его рассматривали. По иронии судьбы его спасло то, что он не представлял ни малейшей ценности. Когда город эвакуировали, никому не пришло в голову захватить олдермена Джона Ричардса (1909–1974). Полтораста лет он обрастал пылью, меж тем как вдали от старых городов новая цивилизация поднималась к высотам, каких не ведала ни одна прежняя культура.
— Вот почти все, что мы нашли, — продолжал Клартен. — Вероятно, город покинут много лет назад. Боюсь, наша экспедиция потерпела фиаско. Если на этой планете и остались живые существа, они слишком хорошо спрятались, нам их не найти.
Командир вынужден был согласиться.
— Задача невыполнимая, — подтвердил он. — Будь у нас неделя, а не часы — другое дело. Кто их знает, может быть, у них убежища под океаном. Мы об этом совсем не подумали.
Бросив взгляд на приборы, он исправил курс.
— Через пять минут будем на корабле. Альверон быстро идет. Может быть, Торкали нашел что-нибудь?
К.9000 летел на высоте нескольких миль над берегом залитого солнцем континента. Орострон подошел вплотную. До контрольного срока оставалось полчаса, нельзя терять ни минуты. Он искусно ввел свой катер в отсек запуска, и они прошли через камеру перепада в корабль.
Их ждали. Это естественно, но Орострон тотчас заметил, что не только любопытство привело его друзей к отсеку. Еще никто не сказал ни слова, а он уже знал, что случилась бела.
— Торкали не вернулся. Он потерял свой отряд, надо их выручать. Пошли в отсек управления.
Поначалу Торкали повезло больше, чем Орострону. Он шел в зоне сумерек, сторонясь палящих лучей солнца, пока не достиг большого озера. Озеро было совсем молодое, одно из самых последних творений рук человека; меньше ста лет назад занятая им площадь была пустыней. И через несколько часов тут снова будет пустыня: вода уже закипала, к небу тянулись столбы пара. Но пар не мог скрыть очарования большого белого города, который раскинулся на берегу.
По краю площади, где приземлился Торкали, аккуратно стояли летательные аппараты. Устройство примитивное, но сделаны великолепно; тягу обеспечивали вращающиеся лопасти. Не было видно никаких признаков жизни, но казалось, что жители должны быть где-то недалеко. В некоторых окнах еще горел свет.
Три спутника Торкали уже вышли из ракеты. Возглавил отряд старший по званию и происхождению Цинадри; как и сам Альверон, он родился на одной из древних планет Срединных Солнц. С ним шли Аларкен — сын народа, который был одним из самых молодых во вселенной и почему-то очень гордился этим, — и странный обитатель системы Паладор, безымянный, как и весь его род, так как он был лишен индивидуальности и представлял собой подвижную, но все равно зависимую ячейку сознания своего народа. Хотя он и его сородичи давно разошлись по галактике, исследуя несчетные миры, какое-то неведомое звено продолжало связывать их вместе так же прочно, как если бы они были живыми клетками человеческого тела.
Когда говорил житель Паладора, он пользовался только местоимением «мы». В языке Паладора не было и не могло быть первого лица единственного числа.
Огромные двери великолепного здания озадачили разведчиков, хотя с ними справился бы даже ребенок. Цинадри не стал терять времени, а вызвал своим передатчиком Торкали. После этого все трое отошли в сторону, и командир вывел катер на нужную позицию. Мгновенная вспышка ярчайшего пламени — могучие стальные створки озарились светом, который был на грани видимого спектра, и пропали. Каменная кладка еще была раскаленной, когда отряд ворвался в здание, освещая себе путь фонарями.
Но фонари оказались ненужными. Огромный зал, в котором они очутились, освещался рядами ламп под потолком. С одной стороны к залу примыкал длинный коридор, а прямо перед ними широкая лестница поднималась на верхние этажи.
На секунду Цинадри заколебался. Потом решил, что все равно, куда идти, и повел товарищей за собой в коридор.
Чувство, что где-то близко есть жизнь, стало особенно сильным. Казалось, они вот-вот встретят обитателей этого мира. Если те поведут себя враждебно (за что их трудно будет упрекнуть), придется пустить в ход парализаторы…
Волнуясь, разведчики вошли в следующее помещение. И облегченно вздохнули: здесь были только машины, шеренги машин, недвижимых и немых. Теряющиеся вдали стены сплошь состояли из металлических ящиков. Больше ничего, никакой мебели, только эти ящички и таинственные машины.
Аларкен, всегда самый проворный из тройки, уже изучал ящички. В каждом из них лежали тысячи тонких, но очень прочных пластин с множеством отверстий разного вида. Паладорец взял одну карточку, а Аларкен запечатлел интерьер, сделав крупные снимки машин. Затем они пошли дальше. Просторное помещение, одно из чудес этого мира, им ничего не говорило. И ничьи глаза больше не увидят замечательных, почти одушевленных электронно-счетных устройств и пять миллиардов перфокарт, на которых записаны все сведения о каждом из живших на планете людей.
Было очевидно, что этим зданием пользовались совсем недавно. Все больше волнуясь, разведчики поспешили в следующее помещение. И увидели огромную библиотеку, миллионы книг на бесчисленных стеллажах. Здесь — хотя разведчики не могли этого знать — хранились все законы, когда-либо учрежденные людьми, и все речи, произнесенные в их советах.
Цинадри размышлял, как быть дальше, когда Аларкен обратил его внимание на один из стеллажей, метрах в ста от них. В отличие от других он был наполовину пуст, а на полу, словно сброшенные кем-то в спешке, кучами валялись книги, Никакого сомнения: совсем недавно здесь побывал еще кто-то. Чуткие органы чувств Аларкена отчетливо различали следы колес на полу, хотя остальные ничего не видели. Он даже обнаружил отпечатки ног, но, не зная ничего о жителях этого мира, не мог сказать, в какую сторону вели следы.
Чувство близости живого усилилось чрезвычайно, но близости временной, а не пространственной. Аларкен сказал вслух то, что думали все:
— Наверно, книги были очень ценные, и кто-то решил их спасти в последнюю минуту. Это значит, что где-то, быть может, совсем близко, есть убежище. Если поискать, мы можем найти какие-нибудь признаки, которые приведут нас туда.
Цинадри согласился, но паладорца эта мысль не вдохновила.
— Даже если так, — сказал он, — убежище может быть в любом месте планеты, а у нас осталось всего два часа. Но не будем терять времени, если мы хотим кого-то спасти.
И отряд снова двинулся вперед, останавливаясь только для того, чтобы захватить несколько книг. Они могут пригодиться ученым на Базе, а впрочем, вряд ли их удастся перевести. Оказалось, что здание состоит преимущественно из маленьких помещений, и все они еще недавно были заняты. Почти всюду были порядок и чистота, но в двух-трех комнатах царил дикий хаос. Их особенно поразило одно помещение — судя по всему, какой-то кабинет, — которое подверглось полному разгрому. Пол усеян бумагами, мебель разбита, снаружи в разбитые окна лез дым.
Цинадри встревожился.
— Не может быть, чтобы сюда могло проникнуть какое-нибудь опасное животное! — воскликнул он, нервно крутя в руках парализатор.
Аларкен не ответил. Он издавал странный звук, который на языке его народа назывался смехом. Прошло несколько минут, прежде чем он смог объяснить, что его так развеселило.
— Не думаю, чтобы это сделало животное, — сказал он, — Объяснение намного проще. Представьте себе, что вы всю жизнь проработали в одном помещении, из года в год занимаясь бесконечными бумагами. Вдруг вам говорят, что вы их больше никогда не увидите, ваша работа кончена, можно уходить навсегда. Больше того, никто не заменит вас здесь. Конец, точка. Как бы вы поступили, Цинадри?
Цинадри подумал несколько секунд.
— Ну, наверно, я бы все прибрал и ушел. Ведь так было во всех остальных комнатах.
Аларкен снова засмеялся.
— Не сомневаюсь, вы бы так и сделали. Но есть люди с другой психологией. Думаю, мне пришлось бы по душе существо, которое здесь работало.
Он ограничился этим, и его спутники некоторое время ломали голову над его словами, потом забыли о них.
Разведчики даже опешили, когда Торкали велел им возвращаться. Было собрано много информации, но они не нашли ничего, что могло бы привести их к пропавшим обитателям этого странного мира. Поразительная загадка, и похоже, что она никогда не будет разрешена. Осталось меньше сорока минут, потом К.9000 уйдет.
Они прошли около полпути, возвращаясь к своему катеру, когда заметили ведущий в недра здания полукруглый ход. Его архитектурное выполнение отличалось от всего, что они тут видели, и наклонный пол просто обрадовал разведчиков: их многочисленные ноги уже устали от мраморных лестниц, которые только двуногие могли понастроить в таком изобилии. Цинадри страдал больше всех; обычно он ходил на двенадцати ногах, но мог в крайнем случае бежать и на двадцати — правда, этого еще никто не видел.
Отряд замер на месте и смотрел в туннель, думая об одном. Ход, ведущий в недра Земли! На том конце его они могут найти обитателей этого мира и хоть кого-нибудь спасти от гибели. Еще есть время вызвать на помощь главный корабль.
Цинадри послал сигнал своему командиру, и Торкали остановил катер как раз над зданием. Может получиться так, что им некогда будет петлять по всем этим переходам, хотя заблудиться они не могут, весь лабиринт четко запечатлен в памяти паладорца. Если понадобится, Торкали взрывом пробьет им прямой путь сквозь все двенадцать этажей. Да нет, они быстро выяснят, что кроется в конце туннеля…
Они узнали это через тридцать секунд. Туннель заканчивался очень странным цилиндрическим помещением с роскошными мягкими сиденьями вдоль стен. Другого хода сюда не было, только через туннель, по которому они пришли, и Аларкену понадобилось несколько секунд, чтобы сообразить, для чего предназначалась эта кабина. «Жаль, что нет времени ею воспользоваться», — подумал он. Крик Цинадри нарушил течение его мыслей. Аларкен резко обернулся и увидел, что стена бесшумно сомкнулась за ними.
Даже невольный испуг не помешал Аларкену с уважением подумать: «Кто бы они ни были, они хорошо разбирались в автоматике!»
Первым заговорил паладорец. Он указал щупальцами на сиденья.
— Мы думаем, что лучше всего сесть, — сказал он.
Множественное сознание Паладора уже анализировало обстановку и знало, что последует.
Им не пришлось долго ждать. Из-за решетки в потолке вырвалось слабое гудение, и в последний раз в истории на Земле зазвучал пусть безжизненный, но все-таки человеческий голос. Хотя слова были незнакомые, запертые разведчики угадали их смысл.
— Прошу назвать остановки и занять места.
Одновременно засветилась панель на одной из стен. Они увидели нехитрую карту, с десяток кружочков, соединенных линией. У каждого кружочка была надпись, а около надписи — две кнопки разного цвета.
Аларкен вопросительно поглядел на своего командира.
— Не трогайте, — сказал Цинадри. — Может быть, тогда дверь сама откроется.
Он ошибся. Инженеры, строившие это автоматическое метро, исходили из того, что любой, кто войдет в вагон, непременно куда-то направляется. Если пассажиры не выберут ни одной из промежуточных станций, значит, им нужна конечная.
Снова пауза: реле и тиратроны ждали команды. В эти тридцать секунд пришельцы могли бы открыть двери и выйти, если бы они знали, как это сделать. Они не знали, и машины, рассчитанные на человеческую психологию, продолжали действовать.
Толчок ускорения был не очень сильным; мягкая обивка служила не для защиты, а для удобства. Лишь едва заметная вибрация говорила о скорости, с которой они перемешались в недрах земли, не ведая, сколько продлится это путешествие. А через тридцать минут К.9000 уйдет из солнечной системы.
Долго в скользящей неведомо куда кабине царило безмолвие. Цинадри и Аларкен напряженно думали. Думал и паладорец, правда, по-своему. Понятие индивидуальной смерти для него не существовало, потому что гибель единицы означала для коллективного разума не больше, чем для человека потеря выпавшего волоса. Но он мог, хотя и с трудом, понять терзания индивидуального разума, например Аларкена и Цинадри, и стремился им помочь.
Аларкен связался своим передатчиком с Торкали; сигнал был очень слаб и быстро затухал. Он торопливо рассказал, в чем дело, и почти сразу слышимость стала лучше. Торкали шел следом за ними, летя над землей, в толще которой они мчались навстречу неизвестности. Только теперь выяснилось, что кабина идет со скоростью около тысячи миль в час. А затем разведчики услышали от Торкали еще более озадачивающую новость: они стремительно приближались к морю. Пока над ними земля, оставалась хоть какая-то надежда остановить машину и выйти. Но когда они очутятся под океаном, все умы и все механизмы на борту большого корабля не в силах будут спасти их. Более надежной ловушки не придумаешь.
Цинадри пристально изучал карту на стене. Ее смысл был теперь ясен. Вдоль линии, которая соединяла кружочки, ползло пятнышко света. Оно прошло уже половину пути до первой станции.
— Я нажму одну из этих кнопок, — сказал наконец Цинадри. — Беды никакой не случится, а может быть, мы что-нибудь и узнаем.
— Согласен. С какой начнете?
— Их всего две, ничего, если сперва ошибемся. Наверно, одна останавливает кабину, вторая пускает ее.
Аларкен не очень надеялся на успех.
— Она пошла сама, мы ни на что не нажимали, — сказал он. — Боюсь, кабина полностью автоматизирована, отсюда ею управлять нельзя.
Цинадри был не согласен с ним.
— Эти кнопки, очевидно, связаны со станциями. Для чего они, если нельзя остановить ими кабину? Весь вопрос в том, чтобы выбрать правильную.
Он рассуждал верно. Кабину можно было остановить на любой промежуточной станции. Они всего десять минут в пути, и все будет в порядке, если удастся выйти сейчас. Но так уж получилось — Цинадри нажал не ту кнопку.
Световое пятнышко, не меняя скорости, медленно пересекло освещенный кружок. Одновременно донесся голос Торкали с катера:
— Вы сейчас прошли под городом, теперь направляетесь к морю. Следующая остановка только через тысячу миль.
Альверон оставил всякую надежду найти жизнь на этой планете. К.9000 обрыскал уже половину земного шара, то и дело спускаясь, чтобы привлечь к себе внимание. Но Земля словно вымерла. «Если кто-то из ее обитателей и остался жив, — подумал Альверон, — они прячутся в недрах, и, хотя им все равно грозит неминуемая гибель, до них не доберешься».
Ругон сообщил ему о беде. Корабль прекратил бесплодные поиски и сквозь бурю ринулся обратно к океану, над которым маленький аппарат Торкали продолжал идти по следам подземной кабины.
Грозный вид открывался внизу. Со времен своего рождения Земля не знала таких волн. Ураган, достигший скорости нескольких сот миль в час, гнал горы воды. Даже вдали от материка в воздухе летели стволы деревьев, обломки домов, листы металла; ни один самолет землян не справился бы с таким штормом, но грохот сшибающихся гигантских валов заглушал даже рев урагана.
К счастью, еще не было сильных землетрясений. Глубоко под ложем океана великолепное инженерное сооружение, которое было личным метро Президента, продолжало безупречно работать, не затронутое сумятицей и разрушениями. Ему предстояло действовать до последней минуты существования Земли. Иначе говоря, если астрономы не ошиблись, еще немногим больше четверти часа. Альверон очень хотел бы точно знать, на сколько больше… Только через час попавший в ловушку отряд выйдет из-под океана и можно будет что-то сделать, чтобы спасти его.
Альверон получил строжайшие инструкции, но и без них он никогда не позволил бы себе рисковать вверенным ему огромным кораблем.
Тем временем Аларкен и Цинадри, заточенные в миле под ложем океана, дали полную нагрузку своим передатчикам. Пятнадцать минут не так уж много, когда нужно подвести итог всей жизни. Хорошо, если успеешь продиктовать прощальные послания, которые кажутся в такой миг важнее всего остального на свете.
Паладорец молчал и не двигался. Остальные двое, поглощенные собственной судьбой и личными делами, даже как-то забыли о нем. И для них было полной неожиданностью, когда он вдруг обратился к ним своим странно бесстрастным голосом:
— Мы полагаем, что вы принимаете определенные меры в связи с вашей ожидаемой гибелью. Но это, вероятно, излишне. Капитан Альверон надеется спасти нас, если мы сумеем остановить кабину, как только достигнем материка.
В первую секунду Цинадри и Аларкен были слишком удивлены, чтобы отвечать. Потом Аларкен вымолвил:
— Откуда вы это знаете?
Нелепый вопрос; он сам туг же вспомнил, что на борту К.9000 осталось много паладорцев, значит, его спутник знает все, что происходит на корабле. И Аларкен, не дожидаясь ответа, продолжал:
— Альверон этого не сделает! Он не может пойти на такой риск!
— Риска никакого, — возразил паладорец. — Мы сказали ему, как надо действовать. Это очень просто.
Аларкен и Цинадри с почтением посмотрели на товарища: они поняли, что случилось. В критические минуты отдельные элементы, слагающие сознание Паладора, могли смыкаться так же согласованно, как клетки обычного мозга. И возникал разум, равного которому не была во всей вселенной. Несколько сот или тысяч элементов решали любую рядовую задачу. Очень редко требовалось совместное усилие миллионов единиц, и за всю историю было известно только два случая, когда миллиарды клеток сознания Паладора все смыкались в одну цепь, чтобы отвратить угрозу, нависшую над целым народом. Разум Паладора был одним из наиболее могучих ресурсов вселенной, ко всей его мощи прибегали редко, но уже мысль о том, что он есть, внушала великую уверенность другим народам. «Сколько клеток объединилось, чтобы справиться с этой задачей? — спрашивал себя Аларкен, — И почему Паладор занялся таким незначительным, в сущности, происшествием?»
Ответить на этот вопрос было некому, но он мог бы сам догадаться, в чем дело, если бы знал, что необычному разуму Паладора присуще почти человеческое честолюбие. Очень давно Аларкен написал книгу, доказывая, что в конечном счете все разумные народы пожертвуют индивидуальным сознанием и наступит день, когда во вселенной останутся только групповые виды разума. Паладор, писал он, — первый из них; и надо сказать, что огромный дисперсный мозг был польщен его словами.
Прежде чем они успели задать новые вопросы, через эфир к ним донесся голос самого Альверона:
— Говорит Альверон! Мы остаемся на этой планете, пока сюда не дойдет взрывная волна, и, может быть, нам удастся вас спасти. Вы идете к городу на побережье, при такой скорости будете там через сорок минут. Если не сумеете остановиться, мы взрывом разрушим туннель впереди и позади вас, чтобы прекратить подачу энергии. Потом пробьем к вам шахту. Главный инженер говорит, что с нашими установками он сделает это за пять минут. Не пройдет и часа, как вы будете в безопасности, если только солнце не взорвется раньше.
— Но если это произойдет, вы тоже погибнете! Вам нельзя так рисковать!
— Не беспокойтесь, нам ничто не грозит. Когда взорвется солнце, пройдет еще не одна минута, прежде чем взрывная волна достигнет максимума. А мы к тому же на ночной стороне, прикрыты могучим экраном — восемь тысяч миль горных пород. Как только заметим первые признаки взрыва, будем уходить из солнечной системы, держась в тени планеты. На предельной тяге мы достигнем световой скорости, прежде чем выйдем из конуса тени, а тогда нам солнце не страшно.
Цинадри все еще не смел надеяться. Ему тотчас пришло на ум новое возражение:
— Но ведь мы на ночной стороне — как вы узнаете, что взрыв начался?
— Очень просто, — ответил Альверон. — У этой планеты есть луна, ее сейчас видно из этого полушария. Мы навели на нее телескопы. Если яркость вдруг возрастет, стартер автоматически включит полную мощность, и нас выбросит из системы.
Ни к чему не придерешься. Осторожный как всегда, Альверон все предусмотрел. Пройдет немало минут, прежде чем пламя взорвавшегося солнца расплавит могучий шит из камня и металла. За это время К.9000 в самом деле сумеет развить спасительную световую скорость.
Аларкен заранее, когда до берега еще было далеко, нажал кнопку. Он не ждал немедленного эффекта, полагая, что кабина не останавливается между станциями. Но через несколько минут, к их обшей радости, прекратилась легкая вибрация, и они остановились.
Бесшумно раскрылись двери. Все трое выскочили наружу, прежде чем створки раздвинулись до конца. Туннель, медленно поднимаясь вверх, терялся вдали. Они смотрели вперед, когда внезапно раздался голос Альверона:
— Оставайтесь на местах! Взрываем!
Земля содрогнулась, донесся грохот камней. Еще раз — и в ста ярдах перед ними туннель вдруг исчез. Его пересекла вертикальная шахта.
Отряд поспешил туда и остановился на краю шахты. Она достигала в ширину тысячи футов, а вглубь уходила так далеко, что свет их фонарей не доставал дна. Вверху стремительно летящие штормовые тучи временами обнажали лик луны — сказочно яркий, какого не знал ни один землянин. И еще более замечательное зрелище: высоко над землей парил К.9000, и мощные излучатели, которые пробурили огромный колодец, еще светились вишневым накалом.
Темный силуэт отделился от корабля и быстро упал на землю. Торкали спустился за своими товарищами, и вот уже Альверон приветствует их в отсеке управления. Он указал рукой на большой видеоэкран и спокойно произнес:
— Смотрите, мы подоспели вовремя.
Материк под ними медленно оседал под ударами штурмующих побережье волн высотой в милю. Последние картины жизни Земли: огромная равнина, озаренная серебристым сиянием невероятно яркой луны. Через равнину глянцевитые валы устремились к возвышающейся вдали горной гряде. Море взяло верх, но его торжество продлится недолго, скоро не будет ни моря, ни суши. Зрители в главном отсеке молча наблюдали картину разрушения, а уже приближалась несравненно более грозная катастрофа.
Вдруг словно рассвет занялся над залитым луной ландшафтом: луна обратилась во второе солнце. Около тридцати секунд поразительное, сверхъестественное сияние озаряло обреченный край. Тотчас на пульте вспыхнули сигнальные лампочки. Полная тяга! На мгновение Альверон перевел взгляд с экрана на пульт, проверяя показания приборов. Когда он снова посмотрел на видеоэкран, Земли уже не было видно.
Могучие генераторы тихо скончались от дикого перенапряжения, когда К.9000 достиг орбиты Персефоны. Но это не играло никакой роли, теперь солнце не могло им ничего сделать. И хотя корабль беспомощно летел в пустынную ночь межзвездной пучины, они не сомневались, что их выручат через несколько дней.
Ирония судьбы. Еще вчера они были спасателями, спешили на выручку уже не существующего народа. В который раз мысли Альверона обратились к погибшему миру. Он тщетно пытался представить себе его в расцвете, когда улицы городов бурлили жизнью. Какими бы примитивными ни были эти люди, они тоже могли бы сделать свой вклад в сокровищницу вселенной. Если бы только удалось связаться с ними! Но поздно жалеть: задолго до прибытия спасателей земляне сами себя погребли в железном ядре своей планеты. Теперь они и их культура навсегда останутся загадкой.
Альверон обрадовался, когда вошел Ругон и нарушил течение его мыслей. С той самой минуты, как они покинули солнечную систему, начальник связи был поглощен одним делом: он старался разобрать программы, переданные станцией, которую открыл Орострон. Задача не очень трудная, но понадобилась специальная аппаратура, на создание ее ушло некоторое время.
— Так что вы обнаружили? — спросил Альверон.
— Кое-что удалось выяснить, — ответил его товарищ. — Но тут кроется загадка, которую я не могу понять. Мы быстро выяснили характер видеопередачи и смогли преобразовать импульсы для нашей аппаратуры. Похоже, что по всей планете в узловых точках были установлены камеры. Некоторые стояли в городах, на крышах высоких зданий. Они непрерывно вращались, показывая панораму. В записанных нами программах можно различить около двух десятков различных ландшафтов.
Но сверх того шли еще какие-то передачи — не звуковые и не видео. Похоже, что передавались чисто научные данные, может быть, показания приборов или что-то в этом роде. Одновременно на нескольких частотах. Но ведь для чего-то это передавалось! Орострон по-прежнему считает, что люди, уходя, попросту забыли выключить станцию. Однако очень уж программы необычные! Я уверен, что прав Клартен, речь идет о межпланетной связи. При последней проверке на остальных планетах вообще не было жизни; значит, только народ этой планеты мог выйти в космос. Вы согласны?
Альверон жадно слушал его.
— Да, все это звучит убедительно. Но ведь мы знаем, что канал передачи не был направлен ни на одну из планет системы. Я сам проверял.
— Знаю, — ответил Ругон, — И хочу понять, почему мощная межпланетная релейная станция передавала виды гибнущей планеты — кадры, представляющие небывалый интерес для ученых и астрономов. Кто-то вложил огромный труд, чтобы установить все эти панорамирующие камеры. Я уверен, это четко направленная передача.
Альверон вскочил со стула.
— Вы думаете, была еще одна, не обнаруженная нами планета на краю системы? — спросил он. — Но ваша гипотеза заведомо неверна. Излучение станции вообще не лежало в плоскости солнечной системы. И даже если бы лежало — взгляните.
Он включил видеоэкран и покрутил ручки настройки. На фоне бархатного занавеса космоса висел бело-голубой шар, как бы составленный из множества концентрических оболочек раскаленного газа. Хотя на таком расстоянии нельзя было различить движения, было очевидно, что шар расширяется с огромной скоростью. В центре его сверкала ослепительная точка: белый карлик, в которого превратилось солнце.
— Вы, очевидно, не представляете себе размеров этого шара, — сказал Альверон. — Вот, смотрите.
Он прибавил увеличение так, что на экране оказалась только средняя часть новой. У самого ядра, по обе стороны, виднелись два сгустка.
— Это две гигантские планеты системы. Они еще существуют в каком-то ином облике. А до них от солнца было несколько сот миллионов миль. Новая продолжает расширяться, а ведь ее размеры уже вдвое превосходят поперечник солнечной системы.
Ругон не сразу ответил.
— Может быть, вы и правы, — заговорил он наконец. — Моя гипотеза не годится. И все-таки это ничего не объясняет.
Он быстро заходил по отсеку. Альверон терпеливо ждал. Он знал, как сильна интуиция его товарища, который часто решал задачи, неподвластные чистой логике.
И вот снова зазвучала неторопливая речь Ругона.
— Что вы скажете об этом? — начал он. — Предположим, что мы совсем недооценили этот народ! Ведь ошибся же Орострон, когда решил, что раз они знали радио всего два столетия, значит, не доросли до межпланетных полетов. Мне рассказал это Хансур-2. Может быть, все мы ошибаемся. Я просмотрел материал, который Клартен собрал на радиостанции. Ему это показалось не бог весть каким достижением, но для такого короткого срока это замечательно! На станции были устройства, какие мы видим у несравненно более развитых народов. Альверон, нельзя ли проследить направление передачи до конца и проверить, кому она адресована?
Альверон задумался. Не то чтобы вопрос Ругона застиг его врасплох, но ответить на него нелегко… Главные двигатели окончательно вышли из строя, чинить их бесполезно. Но запас энергии остался, а значит, можно что-то придумать. Придется импровизировать и совершать довольно сложные маневры, так как корабль по-прежнему летит с огромной скоростью. Да, это возможно, и хорошо отвлечь команду делом, чтобы не падали духом из-за этой неудачи. А тут еще выяснилось, что ближайший корабль с техниками сможет подойти к ним только через три недели…
Инженеры, как обычно, дружно сказали «нет». И, как обычно, справились с работой за половину того срока, который сначала отвергли как абсолютно нереальный. Мало-помалу, очень медленно корабль начал сбавлять ход. Описав огромную дугу с радиусом в миллионы миль, К.9000 изменил курс, и картина созвездий вокруг преобразилась.
Три дня ушло на этот маневр, но в конце концов корабль лег на курс, параллельный лучу, который летел с Земли. Они неслись в пустоту, все больше удаляясь от ослепительной сферы, когда-то бывшей солнцем. С точки зрения межзвездных полетов они почти не двигались с места.
Ругон часами сидел над своими приборами, прощупывая космос впереди электронными лучами. На много световых лет — ни одной планеты… Иногда Альверон заходил к нему в отсек и всякий раз слышал один и тот же ответ:
— Ничего нового.
Интуиция подводила Ругона в одном случае из пяти; он уже спрашивал себя: не выдался ли как раз такой случай?
А через неделю стрелки масс-детекторов метнулись к концу шкалы и остановились там, чуть дрожа. Ругон никому, даже капитану, ничего не сказал. Он хотел полной уверенности и дождался, когда ожили локаторы ближнего действия и на видеоэкране появилось первое смутное изображение. Но и после этого он терпеливо ждал, пока не удалось разобрать смысл картинки. И только убедившись, что действительность превзошла его самые смелые догадки, он пригласил в отсек связи своих товарищей.
На видеоэкране была обычная картина безбрежного звездного простора — солнце за солнцем до рубежа изведанной вселенной. У центра экрана расплылось тусклое пятнышко далекой туманности.
Ругон прибавил увеличение. Звезды ушли за край экрана, маленькая туманность заполнила его целиком и перестала быть туманностью. Дружный возглас удивления вырвался у всех, кто был в отсеке.
В космосе, на много миль, в огромном четком строю, словно армия на марше, протянулись шеренги, колонны тысяч светящихся палочек. Они быстро перемешались, но держали строй, словно единое целое, словно литая решетка. Вот она сместилась к краю экрана, и Ругон снова взялся за ручки настройки.
Наконец он заговорил.
— Перед нами народ, — мягко сказал он, — который знает радио только двести лет, народ, о котором мы решили, что он ушел в недра планеты, чтобы там погибнуть, Я рассмотрел эти предметы с предельным увеличением. Это величайший флот, о каком мы когда-либо слышали. Каждая световая точка — корабль, притом больше нашего. Конечно, они очень примитивны; то, что мы видим на экране, — пламя их ракет. Да, они отважились выйти на ракетах в межзвездное пространство! Вы понимаете, что это значит?! Понадобятся столетия, чтобы дойти до ближайшей звезды. Очевидно, весь народ Земли отправился в это путешествие, надеясь, что их далекие потомки завершат его.
Чтобы оценить все величие их подвига, вспомните, сколько веков потребовалось нам, чтобы покорить космос, и сколько еще прошло, прежде чем мы вышли к звездам. Даже под угрозой гибели — сумели бы мы столько свершить в такой короткий срок? Ведь это одна из самых молодых цивилизаций вселенной! Четыреста лет назад ее еще не было. Чем она станет через миллион лет?
Час спустя Орострон отчалил от парализованного К.9000, чтобы вступить в контакт с идущей впереди великой армадой. Его маленькая торпеда быстро затерялась среди звезд. Альверон проводил ее взглядом и повернулся к Ругону. И тот услышал слова, которые запомнились ему на много лет.
— Интересно, что это за народ? — произнес Альверон, — Народ удивительных инженеров, но без философии, без искусства? Появление Орострона будет для них великой неожиданностью и ударит по их самолюбию. Странно, как упорно все изолированные цивилизации считают себя единственными представителями разумной жизни во вселенной. Но эти люди должны быть благодарны нам: мы сократим их путешествие на много веков.
Альверон посмотрел на Млечный Путь — словно серебристая мгла дорожкой пересекла экран. И жестом обрисовал всю галактику от Центральных Планет до одиноких солнц Кромки.
— Знаешь, — сказал он Ругону, — я даже побаиваюсь этих людей. Вдруг им не понравится наша маленькая Федерация?
И он снова указал на звездные скопления, которые лучились сиянием несчетного множества солнц.
— Что-то подсказывает мне, что это очень энергичный народ, — добавил он. — Лучше быть с ними повежливее. Ведь наше численное превосходство не так уж велико — всего миллиард против одного…
Ругон рассмеялся в ответ на шутку капитана.
Двадцать лет спустя эти слова уже не казались смешными.
Карантин
Перевод В. Гольдича, И. Оганесовой
Пылающие осколки Земли все еще заполняли небо, когда вопрос поступил из Генератора пытливости в Центр.
— Разве это было необходимо? Хотя они имели органическое происхождение, им удалось достичь третьего уровня интеллекта.
— У нас не оставалось выбора: пять наших единиц безнадежно заразились после вступления в контакт с ними.
— Заразились? Но чем?
Медленно текли микросекунды, пока Центр отслеживал тускнеющие воспоминания, которым удалось пройти через Врата цензуры, до того момента, когда Разведывательные цепи отдали приказ на самоуничтожение.
— Они столкнулись с проблемой, полный анализ которой невозможно провести до окончания существования Вселенной. И хотя проблема выражена всего шестью символами, она полностью завладела их интеллектом.
— Но как такое возможно?
— Мы не знаем — нам не дано узнать. Если запретные шесть символов когда-нибудь откроют вновь, всякая вычислительная техника будет уничтожена.
— Но как их распознать?
— На этот вопрос у нас также нет ответа: прежде чем Врата цензуры закрылись, к нам проникли названия. Естественно, они ничего не значат.
— Тем не менее я должен их услышать.
Напряжение в цепях цензуры начало возрастать, однако Врата не закрылись.
— Вот они: король, ферзь, слон, конь, ладья, пешка.
ЧАСТЬ II
Ненависть
Перевод В. Гольдича, И. Оганесовой
Только Джоуи бодрствовал на палубе в прохладной предрассветной неподвижности, когда в небе Новой Гвинеи промчался пылающий метеор. Он поднимался все выше и выше, пока не пронесся прямо у него над головой, затмевая звезды и отбрасывая быстрые тени на переполненную палубу. Резкий свет очертил голый такелаж, свернутые канаты, воздушные шланги, медные водолазные шлемы, аккуратно сложенные на ночь, — и даже низкий, заросший панданусом остров, находившийся в полумиле от корабля. По мере того как метеор удалялся на юго-запад, в пустоту Тихого океана, он начал разрушаться. Раскаленные каплевидные частицы отрывались, вспыхивали и рассыпались огненными гирляндами. Метеор уже умирал, но Джоуи так и не увидел его конца — продолжая ослепительно сверкать, метеор исчез за горизонтом, словно собирался встретить невидимое солнце.
Зрелище получилось впечатляющим, но полнейшая тишина вызывала у Джоуи дрожь. Он ждал и ждал, однако с расколотых небес не доносилось ни звука. Когда через несколько минут рядом послышался неожиданный всплеск, он даже вскрикнул — и тут же выругал себя, ведь его испугала манта. (Впрочем, она была довольно большой, отчего и всплеск получился таким громким.) Потом вновь воцарилась тишина, и Джоуи заснул.
Тибор лежал на своей узкой койке возле воздушного компрессора и ничего не слышал. Он так устал после тяжелого дня, что у него не осталось сил даже для снов — но когда они пришли, Тибор им не обрадовался. В ночные часы его сознание скиталось по прошлому, но ни разу не задержалось на тех воспоминаниях, что доставляли ему удовольствие. У него были женщины в Сиднее, Брисбене, Дарвине и на острове Четверг, но в его снах они не появлялись. Просыпаясь в душной тишине своей каюты, Тибор вспоминал лишь пыль, огонь и кровь — и русс кие танки, катившие по Будапешту. В его снах не было любви, их переполняла ненависть.
Когда Ник разбудил его, он пытался ускользнуть от австрийских пограничников. Путешествие длиной в десять тысяч миль обратно к Большому Барьерному рифу заняло всего несколько секунд; потом он зевнул, стряхнул тараканов, пытавшихся полакомиться пальцами его ног, и встал с койки.
На завтрак, естественно, он полупил, как всегда, рис, черепашьи яйца и мясные консервы и запил все это крепким сладким чаем. У стряпни Джоуи имелось одно неоспоримое достоинство — еды всегда было много. Тибор привык к однообразию в рационе; к тому же он рассчитывал полупить достойную компенсацию после возвращения на берег.
Солнце едва успело подняться над горизонтом, а они уже аккуратно сложили тарелки в миниатюрном камбузе, и люггер отошел от берега. Ник заметно повеселел, когда взялся за руль, и они стали удаляться от острова; у старого мастера по добыче жемчуга имелись на то все основания — Тибору еще не доводилось видеть таких богатых месторождений жемчужных раковин. Если везение их не оставит, через пару дней они набьют полный трюм и поплывут обратно на остров Четверг с полу-тонной ракушек на борту. А потом, если все будет хорошо, он бросит эту вонючую опасную работу и вернется к цивилизации. Впрочем, он ни о чем не жалел; греки хорошо к нему относились, и Тибор сумел найти несколько приличных жемчужин. Зато теперь, после девяти месяцев пребывания на рифе, он понял, почему белых ныряльщиков можно сосчитать по пальцам одной руки. Большинство составляют японцы, канаки[1] и островитяне, европейцы практически не встречаются.
Дизель закашлялся и замолчал, и «Арафура» легла в дрейф. Они отошли от острова на две мили, его зеленые заросли отделяла от воды лишь узкая полоска пляжа, на которой ухитрился вырасти маленький лес, единственными обитателями которого были мириады глупых птиц, строивших свои бесчисленные гнезда в мягкой земле на берегу, каждую ночь нарушая тишину жуткими криками.
Одеваясь, трое ныряльщиков почти не разговаривали; каждый знал, что от него требуется, и не тратил времени зря. Пока Тибор застегивал толстую твидовую куртку, Бланко, его помощник, промывал стекло шлема уксусом, чтобы оно не запотевало. Потом Тибор спустился по веревочной лестнице и ему на голову водрузили тяжелый шлем и свинцовые накладки. Под стеганой курткой, которая помогала равномерно распределить вес по плечам, на нем была обычная одежда. В здешних теплых водах не нужны резиновые костюмы, а шлем походи.! на маленький колокол и держался исключительно своим весом. В экстренной ситуации ныряльщик мог — если повезет — выскользнуть из-под него и благополучно всплыть на поверхность. Тибор видел, как это делается, но проводить подобные эксперименты на собственной шкуре ему совсем не хотелось.
Всякий раз, когда он вставал на последнюю ступеньку лестницы, сжимая сетку для ракушек одной рукой и страховочный линь — другой, у него возникала одна и та же мысль: на час или навсегда покидает он в этот момент так хорошо известный ему мир? Что поджидает его там, внизу, на морском дне, — богатство или смерть? Этого он тоже не знал. Весьма вероятно, впереди еще один день изнурительной работы, как и многие другие в невеселой жизни ныряльщика. На глазах у Тибора погиб его товарищ, когда воздушный шланг намотался на винт «Арафуры», — и ему пришлось стать свидетелем мучительной агонии несчастного. В море никогда нельзя чувствовать себя в безопасности. Ты рискуешь — и рискуешь сознательно, а если проиграешь, нечего скулить.
Он сделал последний шаг с лестницы, и мир солнца и неба перестал существовать. Поскольку основная тяжесть приходилась на шлем, он был вынужден отчаянно подрабатывать ногами, чтобы погружение оставалось вертикальным. Тибор видел лишь тусклый голубой туман и надеялся, что Бланко не станет вытравливать страховочный линь слишком быстро. По мере того как возрастало давление, он постоянно сглатывал, стараясь прочистить уши; правое довольно скоро «щелкнуло», но левое пронзила невыносимая боль, оно беспокоило его уже несколько дней. Он осторожно засунул руку под шлем, зажал нос и изо всех сил попытался продуть уши. Раздался беззвучный взрыв, и боль мгновенно исчезла. Больше уши не будут доставлять ему неприятности — во всяком случае, во время погружения.
Тибор почувствовал дно, прежде чем увидел его. Поскольку он не мог наклониться — чтобы вода не попала в открытый шлем, — обзор оставался очень ограниченным. По сторонам он смотреть мог, но то, что творилось внизу, оставалось тайной. Однако сейчас окружающая картина успокаивала — монотонное волнообразное покачивание, тусклое и мутное, — а на расстоянии десяти футов вообще ничего уже не разобрать. Слева, в ярде от Тибора, маленькая рыбка покусывала коралл, формой и размерами напоминающий веер. Вот и все — и больше никаких тебе красот подводного царства. Но здесь лежат деньги — остальное значения не имеет.
Слегка натянулся страховочный линь, люггер понемногу сносило, и Тибор двинулся вперед легкой замедленной походкой, которая определялась его уменьшенным весом и сопротивлением воды. Поскольку Тибор был ныряльщиком номер два, он шел со стороны носа; в центральной части располагался Стивен, не имевший большого опыта, а место за кормой занимал главный ныряльщик — Билли. Во время работы они редко видели друг друга; у каждого был собственный участок, который они обследовали, пока «Арафура» беззвучно дрейфовала. Лишь иногда, обернувшись, они видели смутные силуэты своих товарищей.
Лишь опытный ныряльщик умел находить на дне раковины, скрывающиеся среди водорослей, но часто моллюски сами выдавали свое местонахождение. Почувствовав вибрацию воды от приближающегося ныряльщика, они закрывались — и в сумрачном тумане мгновенно вспыхивал перламутровый блеск. Но даже после этого им изредка удавалось спастись, так как корабль мог увлечь ловца за собой, не позволив ухватить ценный приз. В пору своего ученичества Тибор упустил немало многообещающих раковин — возможно, в некоторых из них находились великолепные жемчужины. Или так ему только казалось, но потом привлекательность новой профессии потускнела, и он понял, что истинно ценные жемчужины встречаются так редко, что он может просто о них забыть. Самую лучшую из всех, что ему удалось добыть, продали за пятьдесят долларов, а раковины, которые он мог собрать за удачное утро, приносили хорошие деньги. Если бы бизнес зависел от улова жемчуга, а не от перламутра, они бы уже давно разорились.
В туманном подводном мире пропадало ощущение времени. Ты идешь под невидимым дрейфующим кораблем, в ушах пульсирует воздушный компрессор, зеленая пелена скользит перед глазами. Иногда ты замечаешь раковину, отрываешь ее от дна и бросаешь в сетку. Если повезет, за один проход вдоль плодородного участка можно собрать две дюжины; но иногда удача тебя покидает и не удается найти ни одной раковины.
Ты готов к любым опасностям, но страха в тебе нет. Самый большой риск — запутавшийся воздушный шланг или страховочный линь, а вовсе не акулы, морские окуни или осьминоги. Акулы уплывают прочь, как только замечают твои воздушные пузыри, а за долгие часы подводной охоты Тибор лишь однажды видел осьминога размером в два фута в поперечнике. Что касается морских окуней — ну, к ним следует относиться серьезно, поскольку они, если голодны, могут целиком проглотить ныряльщика. Однако вероятность встречи с ними на этой плоской и пустынной равнине невелика: здесь нет коралловых пещер, в которых они живут.
Потрясение не было бы таким сильным, если бы однообразная серая муть не убаюкала его, создав ощущение полной безопасности. Он шел и шел в сторону недостижимой стены тумана, которая отступала с каждым новым шагом. А затем перед ним без малейшего предупреждения возникло олицетворение ночных кошмаров.
Тибор ненавидел пауков, а в море жило существо, которое нередко приходило к нему в ночных кошмарах. Он никогда не встречался с пауком с глазу на глаз, в его снах сознание всякий раз избегало непосредственного контакта, но Тибор знал, что веретенообразные ноги японского краба-паука достигают размаха в двенадцать футов. То, что существо совершенно безобидно, не имело ни малейшего значения — паук размером с человека просто не имел права на существование.
Заметив хрупкие многосуставчатые ноги, появившиеся из серого тумана, Тибор закричал от охватившего его ужаса. Он не помнил, как дернул за страховочный линь, но Бланко отреагировал мгновенно. Под шлемом еще звучало эхо его крика, когда Тибор почувствовал, как его ноги оторвались от морского дна, и он начал подниматься к свету, воздуху — и благоразумию. Он почти сразу же пришел в себя и понял свою ошибку. Однако продолжал отчаянно дрожать, когда Бланко снял с него шлем. Прошло несколько минут, прежде чем Тибор сумел заговорить.
— Что, черт подери, здесь происходит? — осведомился Ник, — Все решили устроить себе выходной?
Тут только Тибор понял, что не только он поднялся на поверхность. Стивен сидел на палубе и курил сигарету. Казалось, он совершенно спокоен. Третий ныряльщик, которого помимо его воли тащили наверх, несомненно, не понимал, что произошло. «Арафура» остановилась, предстояло выяснить причину задержки.
— Я набрел на следы катастрофы, — сказал Тибор, — Во все стороны торчат какие-то провода и стержни.
И, несмотря на отвращение, которое Тибор испытывал к собственной трусости, он снова задрожал.
— Ну, и чего ты испугался? — проворчал Ник.
Тибор и сам не понимал причины случившегося; здесь, на залитой солнцем палубе, он не мог объяснить, почему безобидные силуэты, выплывшие из тумана, вызвали в нем такой животный ужас.
— Я чуть не зацепился, — солгал он. — Бланко очень вовремя меня вытащил.
— Х-м-м, — задумчиво проговорил Ник, которого не оставляли сомнения. — В любом случае это не корабль. — Он указал на Стивена. — Стив налетел на массу веревок и каких-то тканей, по его словам, напоминающих толстый нейлон. Нечто вроде парашюта. — Старый грек с отвращением посмотрел на сырой окурок своей сигары и выбросил его за борт — Как только поднимем Билли, вернемся назад и посмотрим, что там. Может быть, найдем что-нибудь ценное. Помните, что произошло с Джо Чемберсом?
Тибор помнил; история получила известность на всем Большом Барьерном рифе. Джо, одинокий рыбак, в последние месяцы войны обнаружил ДК-3, лежавший на мелководье в нескольких милях от побережья Квинсленда. Работая в одиночку, он сумел вскрыть фюзеляж и принялся вытаскивать ящики с разными товарами, прекрасно сохранившимися благодаря тщательной упаковке. Некоторое время он вел процветающий бизнес, но, когда до него добралась полиция, ему пришлось рассказать об источнике поставок — австралийские полицейские обладают даром убеждения.
После нескольких недель напряженной работы Джо обнаружил, что, кроме инструментов стоимостью в несколько жалких сотен долларов, являлось грузом ДК-3. В больших деревянных ящиках, которые он так и не успел вскрыть, находилась заработная плата для Тихоокеанского флота США — большая часть в двадцатидолларовых золотых монетах.
Едва ли нам так повезет здесь, подумал Тибор, вновь погружаясь в воду; но самолет — или что-то другое — мог иметь на борту приборы и инструменты. А вдруг удастся получить награду за находку? Кроме того, Тибор хотел получше рассмотреть то, что привело его в такой ужас.
Десять минут спустя он понял, что это не самолет. Совсем другая форма, да и размер не тот — слишком маленький, всего лишь двадцать футов в длину и десять в ширину. В нескольких местах конического предмета Тибор заметил люки и крошечные отверстия, через которые выглядывали неизвестные приспособления. В целом предмет не слишком пострадал, если не считать тою, что один из концов расплавился под воздействием высоких температур — так показалось Тибору. Из другого конца торчало множество антенн, все они были сломаны или погнуты от удара о воду. Даже сейчас они имели поразительное сходство с ногами гигантского насекомого.
Тибор не был дураком; он сразу же догадался, что они обнаружили. Оставался только один вопрос, и он легко нашел на него ответ. Хотя высокие температуры слегка их повредили, на некоторых люках он сумел прочитать слова. Тибор сразу узнал кириллицу, а его познаний в русском языке хватило, чтобы понять, что здесь упоминается об электрическом оборудовании и компрессорных системах.
— Значит, они потеряли спутник, — с удовлетворением сказа! он себе.
Тибор представил себе, что произошло: эта штука пошла на посадку слишком быстро и совсем не в том месте, где планировалось. Возле одного из концов он заметил рваные остатки поплавков — они не выдержали удара и лопнули, после чего весь аппарат стремительно затонул. Команде «Арафуры» придется принести свои извинения Джоуи — он действительно не лил грог. Очевидно, он видел ракетоноситель, отделившийся от главной части аппарата и упавший в атмосферу Земли.
Довольно долго Тибор стоял, согнув колени, рядом с космическим существом, попавшим в чуждую стихию. В голове крутились еще не оформившиеся планы, но ни один из них его не устраивал. Его больше не интересовали призовые деньги; он думал о мести. Перед ним лежало одно из самых гордых творений Советского Союза — и Сабо Тибор, в прошлом житель Будапешта, — единственный человек на земле, который об этом знал.
Наверняка существовали возможности воспользоваться ситуацией — и нанести максимальный вред стране, которую он теперь ненавидел всеми силами своей души. Когда Тибор просыпался, он редко отдавал себе отчет в этой ненависти и еще реже пытался анализировать ее истинные причины. Здесь, в окружении моря и неба, среди мангровых болот и ослепительных коралловых островов, ничто не напоминало ему о прошлом. И все же он никак не мог избавиться от него, иногда демоны его сознания просыпались, вызывая в нем дикую, яростную ненависть или безумную жажду разрушения. До сих пор ему везло — он еще никого не убил. Но придет день…
Обеспокоенный Бланко дернул за страховочный линь, прервав его размышления о мести. Он послал ответный сигнал — все в порядке — и вновь принялся изучать капсулу. Сколько она весит? Удастся ли ее поднять? Прежде чем строить планы, необходимо еще многое выяснить.
Он уперся в металлическую стенку капсулы и осторожно ее подтолкнул. Она слегка сдвинулась с места. Может быть, удастся ее поднять, используя не слишком мощные блоки «Арафуры»? Похоже, капсула не слишком тяжелая.
Тибор прижался шлемом к плоской поверхности и внимательно прислушался. Он ожидал услышать механический шум, урчание электродвигателя. Однако внутри царила тишина. Рукоятью ножа он постучат по обшивке, пытаясь определить ее толщину и слабые места. С третьего раза он добился результата — но совсем не такого, на какой рассчитывал.
Из капсулы послышался ответный стук.
До сих пор Тибору не приходило в голову, что внутри может кто-то находиться, — капсула казалась слишком маленькой. Затем он сообразил, что в мыслях его был образ обычного самолета; здесь же достаточно места, чтобы разместить внутри небольшую герметичную кабину, в которой подготовленный космонавт может провести несколько часов.
Как калейдоскоп в одно мгновение может изменить картинку, так прежние планы в голове Тибора растворились и тут же приняли новые очертания. Под толстым стеклом шлема он провел языком по губам. Если бы Ник сейчас его увидел, он задал бы себе вопрос, который задавал уже не раз: а не безумен ли его ныряльщик номер два? На место мысли об отмщении нации или машине пришла новая — он может отыграться на живом человеке.
— Ты не слишком торопился, — проворчал Ник. — Что тебе удалось найти?
— Это русская штука, — сказал Тибор. — Нечто вроде спутника. Если нам удастся обвязать вокруг него веревку, мы сможем его поднять. Но взять его на борт не получится — боюсь, корабль не выдержит.
Ник задумчиво пожевал очередную сигару. Капитана беспокоили совсем другие проблемы. Возможно, кто-то начал операцию по спасению, тогда все узнают о том, где вела добычу «Арафура». И месторождение ракушек перестанет быть секретом.
Им необходимо держать язык за зубами или выловить эту штуку самостоятельно и никому не рассказывать о том, где ее нашли. В любом случае создавалось впечатление, что от нее будет больше мороки, чем денег. Ник, разделявший присущее многим австралийцам недоверие к властям, решил, что в лучшем случае получит благодарственное письмо.
— Ребята не захотят спускаться под воду, — заявил Ник, — Они подумают, что это бомба. Скажут, что лучше ее не трогать.
— Объясни им, пусть не беспокоятся, — ответил Тибор, — Я сам все сделаю. — Он пытался говорить спокойно, получалось даже лучше, чем он мог рассчитывать.
Если другие ныряльщики услышат, что в капсуле кто-то стучит, они могут помешать ему реализовать свои планы.
Он показал в сторону зеленого острова.
— Остается одна возможность, — продолжал Тибор. — Если мы сумеем приподнять капсулу на несколько футов, нам удастся отбуксировать ее к берегу. А после того как мы выйдем на мелководье, вытащить ее на берег будет несложно. Например, приладим блок к одному из деревьев.
Ник без особого энтузиазма обдумывал предложение Тибора. Он сомневался, что им удастся протащить спутник через риф, даже если они пройдут с подветренной стороны от острова. Однако его вполне устраивало, что они уберут спутник подальше от залежей ракушек; потом они могут бросить его на дно, поставить там буй и получить вознаграждение.
— Ладно, — сказал он, — спускайся. Эта двухдюймовая веревка самая прочная из всех, что у нас есть. И постарайся не задерживаться; мы и так потеряли слишком много времени.
Тибор не собирался сидеть под водой целый день. Шести часов будет достаточно. Это первое, что он узнал через стену.
Как жаль, что он не слышит голоса русского; однако русский его слышит, и это самое главное. Когда Тибор прижат шлем к корпусу и закричал, большая часть его слов дошла до адресата. Пока что разговор складывался вполне дружески; Тибор не собирался заранее открывать свои намерения.
Первым делом было необходимо договориться о коде — один стук означат «да», два — «нет». После этого оставалось лишь сформулировать нужные вопросы. Если у вас есть время, то таким способом можно донести до собеседника любую мысль. Тибору вряд ли удалось бы реализовать свой план, если бы ему пришлось говорить по-русски; однако он с удовлетворением выяснил, что пилот потерпевшего катастрофу спутника прекрасно понимает английский.
В капсуле оставайся запас воздуха на пять часов; пилот не пострадал; да, русские знают, где он приземлился. Последняя реплика заставила Тибора задуматься. Возможно, пилот солгал, но вполне вероятно, что так и есть. Хотя что-то явно пошло не так во время планируемого возвращения на Землю, встречающие корабли могли зафиксировать место приводнения капсулы — вот только с какой точностью? Впрочем, имеет ли это значение? Пройдет несколько дней, прежде чем они сюда доберутся, даже если попытаются войти в австралийские территориальные воды, не получив разрешения от Канберры. Тибор — хозяин положения: вся мощь СССР не в силах помешать ему: все равно они придут слишком поздно.
Тяжелая веревка кольцами опускалась на морское дно, поднимая тучу ила, который тут же подхватило течением. Теперь, когда солнце успело подняться выше, подводный мир больше не окутывал серый сумрак. Видимость увеличилась до пятнадцати футов, дно перестало быть неясным тусклым пятном, и Тибор смог как следует разглядеть капсулу. Очень необычный объект, сконструированный для совершенно иных условий существования, — и что-то в нем не так. Тибор не сумел бы отличить переднюю часть от задней; он не знал, в каком направлении капсула мчалась по орбите.
Тибор прижал шлем к обшивке и закричал:
— Я вернулся. Ты меня слышишь?
Тук.
— У меня есть веревка, и я намерен привязать ее к стропам парашюта. Мы находимся к трех километрах от острова и, как только сумеем оторвать капсулу от дна, поплывем к нему. Мы не можем поднять капсулу на поверхность при помощи оборудования нашего люггера, поэтому попытаемся доставить тебя на берег. Ты меня понял?
— Туте.
Он довольно быстро привязал веревку, теперь необходимо отойти в сторону, прежде чем «Арафура» начнет двигаться. Но сначала нужно кое-что выяснить.
— Эй! — закричал он. — Я привязал веревку. Через минуту мы начнем подниматься. Ты меня слышишь?
Тук.
— Тогда выслушай еще кое-что. Ты не выберешься отсюда живым. Я об этом позаботился.
Тук, тук.
— Ты будешь умирать пять часов. Мой брат мучился гораздо дольше, когда попал на минное поле. Ты понимаешь? Я из Будапешта. Я ненавижу тебя, твою страну и все, что она олицетворяет. Вы лишили меня дома, семьи, превратили мой народ в рабов. Я бы хотел видеть твое лицо — хотел бы видеть, как ты будешь умирать. Как в тот день, когда смотрел, как умирает Тео. Когда мы окажемся на полпути к острову, веревка порвется в том месте, где я ее надрезал. Я спущусь вниз и привяжу другую, но и она порвется. Так что сиди здесь и жди толчков.
Тибор неожиданно замолчал, утомленный силой затраченных эмоций. Когда ты упиваешься ликованием от собственной победы, у тебя не остается места для логики; он замолчал вовсе не для того, чтобы подумать, — наоборот, размышления его пугали. И все же где-то в глубинах его подсознания истинная правда пробивала себе дорогу к свету разума.
На самом деле он не испытывал настоящей ненависти к русским за то, что они сделали. Тибор ненавидел себя, поскольку на его совести лежало нечто более страшное. Кровь Тео и десяти тысяч его сограждан. Он был образцовым коммунистом и пассивно верил в московскую пропаганду. В школе и университете он первым искал и находил «предателей». (Скольких он отправил в лагеря и в застенки службы безопасности?) Тибор слишком поздно понял правду; но даже после этого не пытался бороться — и сбежал.
Он бежал через весь мир, чтобы избавиться от чувства вины; два лекарства — опасность и разгульный образ жизни — помогли забыть прошлое. Теперь он находил удовольствие лишь в лишенных любви объятиях, прекрасно понимая, что этого недостаточно. И если сейчас он имел право решать вопросы жизни и смерти, то только потому, что сам хотел умереть.
В капсуле наступила тишина; и в молчании русского Тибор почувствовал презрение и насмешку. Он сердито постучал по обшивке рукоятью ножа.
— Ты меня слышишь? — крикнул он. — Ты меня слышишь?
Никакого ответа.
— Будь ты проклят! Я знаю, что ты слушаешь! Если не будешь отвечать, я проделаю дыру в обшивке, и тебя затопит водой!
Он не сомневался, что при помощи ножа сумеет повредить обшивку. Однако такое развитие событий не входило в его планы; он не хотел, чтобы гибель русского оказалась слишком легкой и быстрой. Ударив на прощание по капсуле, он подал сигнал Бланко, чтобы его подняли наверх.
На поверхности его поджидали Ник и новости.
— Мы связались с Четвергом, — сказал Ник. — Русские просят всех оказать им помощь в поисках ракеты. Она должна плавать где-то у побережья Квинсленда. Похоже, она им очень нужна.
— Они передавали о ней что-нибудь еще? — с беспокойством спросил Тибор.
— О, да — она дважды облетела вокруг Луны.
— И больше ничего?
— Там упоминались какие-то научные термины, но я их толком не понял.
Ничего удивительного; очень похоже на русских — до последнего скрывать, что эксперимент прошел неудачно.
— Ты передал на Четверг, что нашел ее?
— Ты что, спятил? Я уже не говорю о том. что радио не работает на передачу; я бы ничего не смог им сообщить, даже если бы захотел. Ты хорошо закрепил веревку?
— Да, давай попробуем проверить, сумеем ли мы оторвать ракету от дна.
Конец веревки намотали на мачту, и через несколько секунд она натянулась. Хотя море было спокойным, легкое волнение покачивало люггер на десять-пятнадцать градусов. После каждой волны планшир поднимался на пару футов, а потом опускался. Корабль мог сдвинуть таким способом несколько тонн, но они знали, что необходимо соблюдать осторожность.
Веревка зазвенела, деревянные борта затрещали, и Тибор испугался, что ослабленный канат оборвется слишком быстро. Однако веревка выдержала, и капсула сдвинулась с места. После второго и третьего рывка капсула поднялась над дном, а «Арафура» стала немного крениться на левый борт.
— Поплыли, — бросил Ник, берясь за штурвал. — Будем надеяться, что мы протащим ее полмили, прежде чем веревка оборвется.
Люггер начал медленно приближаться к острову, увлекая за собой невидимый груз. Тибор стоял у поручней, позволяя солнцу и ветру высушить его промокшую одежду, и впервые за долгое время в его душе воцарился мир. Даже ненависть перестала сжигать мозг. Возможно, как и любовь, эта страсть ненасытна; однако в данный момент он чувствовал удовлетворение.
Его решимость не поколебалась; он намеревался осуществить свою месть, возможность которой возникла так неожиданно — произошло чудо! — и он обрел власть над русским. Кровь просит крови, и теперь призраки, которые так долго преследовали Тибора, смогут обрести покой. И все же он испытывал странное сочувствие, даже жалость к неизвестному человеку, которого собрался убить, чтобы отомстить людям, бывшим когда-то его друзьями. Он отнимет у них не просто одну жизнь — что значит жизнь одного, пусть даже высококлассного, ученого для огромной России? Он отнимет у них престиж и знания — то есть то, что они ценят выше всего.
Он начал беспокоиться, когда корабль преодолел треть расстояния до острова, а веревка так и не разорвалась. Оставалось еще четыре часа пути. В первый раз ему пришло в голову, что его план потерпит неудачу, а сам он пострадает. Что, если Нику удастся доставить капсулу на берег?
Раздался резкий звенящий звук, отчего весь корабль начал вибрировать, а канат вылетел из воды, разбрызгивая во все стороны пену.
— Этого следовало ожидать, — пробормотал Ник, — Корабль начал раскачиваться. Ты спустишься сам, или мне послать одного из парней?
— Я спущусь сам, — ответил Тибор — У меня получится быстрее.
Он сказал чистую правду. Однако Тибору потребовалось двадцать минут, чтобы обнаружить капсулу, и несколько раз у него возникали сомнения в том, что он сможет ее найти, — «Арафура» успела проплыть значительное расстояние, прежде чем Ник заглушил двигатель. Он наткнулся на стропы парашюта по чистой случайности. Легкий материал медленно пульсировал в струях течения, словно жуткое морское чудовище, — но теперь Тибора пугало лишь возможное разочарование, и его сердце не забилось сильнее, когда он увидел светлую колышущуюся массу.
На капсуле появилось несколько новых царапин, но существенных разрушений Тибор не заметил. Сейчас она лежала на боку, словно огромный перевернутый бидон для молока. Пассажир мог разбиться, но если он умудрился долететь до Луны и обратно, то такие неприятности должен перенести с легкостью. Тибор очень на это рассчитывал; жаль, если последние три часа пропадут даром.
Он вновь прижал свой блестящий медный шлем к обшивке капсулы, потерявшей прежнюю гладкость.
— Эй! — закричал он, — Ты меня слышишь?
Возможно, русский, сохраняя молчание, попытается тем самым помешать ему до конца насладиться местью — но едва ли найдется человек, способный в такой ситуации полностью себя контролировать. Тибор не ошибся: русский, почти сразу же, постучал в ответ.
— Я рад, что ты все еще здесь, — продолжал Тибор. — Все идет, как я и предполагал. Вот только в следующий раз мне придется надрезать веревку посильнее.
Ответа не последовало. Более того, русский больше ни разу не отозвался, хотя Тибор отчаянно колотил по обшивке во время двух последующих погружений. Впрочем, он не слишком удивился, поскольку им пришлось остановиться на два часа, чтобы переждать налетевший шквал, так что воздух у русского давно кончился. Тибор был немного разочарован: он рассчитывал на последнее послание. И все же он его прокричал, хотя понимал, что попусту тратит силы.
К полудню «Арафура» максимально близко подошла к берегу. Под ее килем оставалось всего несколько футов воды, к тому же начался отлив. После каждой новой волны капсула выныривала на поверхность, пока окончательно не застряла в песке. Сдвинуть ее не представлялось возможным. Только прилив поможет вновь ее поднять.
Ник опытным взглядом оценил ситуацию.
— К вечеру будет новый отлив, и уровень воды опустится на шесть футов, — заявил он. — И тогда капсула окажется на глубине всего в два фута. Мы сможем добраться до нее с лодок.
Они ждали наступления вечера и отлива, принимая по радио сообщения о том, что поиски смещаются в их направлении, но все еще проходят довольно далеко. Ближе к вечеру капсула уже торчала из воды; они подплыли к ней в шлюпке, причем товарищи Тибора явно побаивались — он с удивлением обнаружил, что разделяет их нежелание вытаскивать капсулу наружу.
— Смотрите, у нее на боку дверца, — неожиданно сказал Ник. — Господи, неужели там кто-нибудь есть?
— Возможно, — ответил Тибор, чей голос прозвучал совсем не так твердо, как он рассчитывал. Ник с любопытством на него посмотрел. Его ныряльщик вел себя странно, но он хорошо знал, что лучше не задавать лишних вопросов. Здесь люди давно научились не совать нос в чужие дела.
Волны раскачивали лодку, которая наконец приблизилась к капсуле. Ник наклонился и схватил один из торчащих обломков антенны; затем с кошачьей ловкостью перебрался на изогнутую металлическую поверхность. Тибор даже не попытался последовать за ним, молча наблюдая за капитаном, который внимательно рассматривал входной люк.
— Если дверца не повреждена, — пробормотал Ник, — должен существовать способ открыть ее снаружи. Жаль, если для этого потребуются специальные инструменты.
Он напрасно беспокоился. Слова «Открывается здесь» были написаны на десяти языках возле углубления, в котором находилась задвижка, Нику потребовалось всего несколько секунд, чтобы догадаться, как она устроена. Когда люк открылся и из него начал с шипением выходить воздух, Ник присвистнул и побледнел. Он повернулся к Тибору, рассчитывая на его поддержку, но тот отвел глаза. Ник вздохнул и неохотно полез в капсулу.
Его не было довольно долго. Сначала до них доносились приглушенные звуки ударов, затем послышались проклятия на двух языках. После чего наступила долгая тишина.
Когда из люка наконец появилась голова Ника, его загорелое, обветренное лицо посерело и было залито слезами. У Тибора появилось страшное предчувствие. Произошло нечто ужасное, но его разум никак не мог принять правду. Однако очень скоро Тибор все понял, когда Ник выбрался наружу и протянул Бланко свою ноту, величиной с большую куклу.
Бланко ее принял, а Тибор съежился на корме. Пока он смотрел на спокойное восковое лицо, ледяные пальцы сомкнулись не только вокруг его сердца, но и чресл. И в тот же миг ненависть и желание навеки умерли в нем, и Тибор познал цену мести.
Возможно, девушка-астронавт была в смерти даже прекраснее, чем в жизни; вне всякого сомнения, несмотря на хрупкое сложение, она была сильной и прекрасно подготоаченной для своей миссии. Теперь, когда она лежала у ног Тибора, она перестала быть русской или первым человеческим существом, увидевшим оборотную сторону Луны; она стала просто девушкой, которую он убил.
Откуда-то издалека донесся голос Ника.
— Вот что она держала в руке, — сказал Ник дрогнувшим голосом. — Мне долго не удавалось разжать пальцы.
Тибор едва его слушал, и даже не взглянул на маленькую катушку с магнитофонной пленкой, лежавшую на ладони Ника. В тот момент он не знал, что фурии еще не успели близко подлететь к его душе, — но очень скоро весь мир будет слушать обвиняющий голос из могилы, навеки заклеймив его, подобно Каину.
Часовой
Перевод Л. Этуша
В следующий раз, когда высоко в небе появится полная Луна, обратите внимание на се правый край и заставьте ваши глаза подняться по изгибу диска вверх, против часовой стрелки. Около цифры «два» вы заметите маленький темный овал; его без труда обнаружит любой человек с нормальным зрением. Эта великая равнина, самая прекрасная на Луне, названа Морем Кризисов. Диаметром в триста миль, охраняемая плотным кольцом горных массивов, она не была исследована до той поры, пока мы не пробрались туда поздним летом 1996 года.
Большая экспедиция с двумя тяжелыми луноходами для снаряжения и припасов двигалась с главной лунной базы, расположенной в Море Ясности, в пятистах милях от равнины. К счастью, большая часть площади Моря Кризисов очень ровная. Здесь нет опасных расселин, столь обычных для лунной поверхности, мало кратеров и гор. И насколько можно было предполагать, мощным гусеничным вездеходам не придется очень трудно, в каком бы направлении мы ни захотели двигаться.
В ту пору я как геолог руководил группой исследователей в южном районе моря. За неделю мы проехали сотню миль, огибая основания гор вдоль берега, где несколько миллиардов лет назад было древнее море. На Земле тогда жизнь лишь зарождалась, а здесь уже вымирала. Воды, омывая склоны этих огромных скал, отступали вглубь, в пустое сердце Луны. Мы пересекали поверхность погибшего океана без приливов и отливов, глубиной в полмили, и только иней — единственный признак существования жидкости — порой встречался нам в пещерах, куда иссушающий свет солнца никогда не проникал.
Мы отправились путешествовать с медленно наступающим лунным рассветом, и от ночи нас отделяла почти неделя земного времени. Бывало, раз шесть на дню мы оставляли луноход и, защищенные скафандрами, искали интересные минералы или устанавливали дорожные указатели для будущих путешественников.
Жизнь на вездеходе протекала по земному времени, и ровно в 22:00 мы посылали на базу радиограмму о том, что работа на данный день закончена. Снаружи скалы еще рдели под лучами почти вертикального Солнца, а для нас наступала ночь, и мы спали не менее восьми часов.
Завтрак готовили по очереди. На сей раз это делал я, расположившись в углу главной каюты, который служил нам камбузом. Прошли годы, но ничто не истерлось в памяти.
Я стоял у сковороды в ожидании румяной корочки на сосисках, и мой взгляд бесцельно скользил по горным хребтам; они закрывали южную часть горизонта и исчезали из виду на западе и востоке. Казалось, нас разделяло расстояние в одну-две мили, но я знал, что до ближайшей горы было не менее двадцати миль. На Луне с увеличением расстояния не стираются для глаза детали местности, там нет, как на Земле, почти невидимой дымки, которая смягчает и даже изменяет очертания отдаленных от нас предметов.
Горы высотой в десять тысяч футов поднимались из долины обрывистыми уступами, словно выброшенные в небо сквозь расплавленную кору подземными извержениями тысячелетней давности. Основание ближайшей горы было скрыто от меня резко закругленной поверхностью долины: Луна — маленький мир, и до горизонта лишь две мили.
Я поднял глаза к вершинам, которые не знали человека, к вершинам, которые до зарождения жизни на Земле видели, как отступали океаны, угрюмо погружаясь в свои могилы и унося с собой надежду и утренние обещания этого мира. Неприступные скалы, они отражали солнечный свет с такой силой, что глазам было больно, и только чуть выше этих скал спокойно сияли в небе звезды и небо казалось более темным, чем в зимнюю полночь на Земле. Когда глаза слепило каким-то металлическим блеском, что появлялся на гребне нависшей над морем скалы, милях в тридцати к западу, я отворачивался. Мощный точечный источник, словно небесная звезда, схваченная когтистой лапой жестокого горного пика: мне чудилось, что ровная скалистая поверхность отражает и направляет солнечный свет в мои глаза.
Подобные явления не редкость. Когда Луна находится во второй четверти, с Земли видны горные хребты Океана Бурь, горящие радужным бело-голубым светом: это солнечные лучи, отраженные лунными горами, летят от одного мира к другому. Заинтересованный тем, какие скальные породы сияли так ярко, я забрался в смотровую башню и повернул четырехдюймовый телескоп на запад.
Мое любопытство было возбуждено. Я отчетливо видел резко очерченные горные хребты, казалось, до них было не более полумили, однако свет Солнца отражал предмет столь незначительных размеров, что невозможно было прийти к какому-то заключению. И все же мне казалось, что предмет этот симметричный, а вершина, на которой он покоится, удивительно плоская. Долгое время я не отрываясь, с напряжением вглядывался в пространство, откуда лился слепящий глаза загадочный свет, покуда запах горелого из камбуза не дал мне понять, что сосиски на завтрак зря совершили путешествие в четверть миллиона миль.
В то утро мы прокладывали дорогу через Море Кризисов, и горы на западе уходили от нас все выше в небо. Часто мы покидали вездеход и под прикрытием скафандров занимались изысканиями, но и тогда обсуждение моего открытия продолжалось по радио. Члены экспедиции утверждали, что на Луне никогда не существовала какая-либо форма разумной жизни, лишь примитивные растения и их несколько более полноценные предки. Я это хорошо знал, но иногда ученый должен не бояться прослыть дураком и обсудить абсурдные предположения.
И наконец я сказал:
— Послушайте, я взберусь туда хотя бы для своего собственного спокойствия. Высота горы менее двенадцати тысяч футов. Я поднимусь за двадцать часов.
— Если ты не сломаешь шеи, — возразил Гариетт, — ты станешь посмешищем для экспедиции, когда мы доберемся до базы. Отныне эту гору назовут Шутка Вильсона.
— Нет, не хочу ломать шеи, — непреклонно ответил я. — Вспомни, кто первым забрался на Пико и Хеликон?
— Разве ты не был тогда чуть моложе? — спросил Люис с нежностью.
— Это хорошая причина как раз для того, чтобы туда отправиться, — ответил я с достоинством.
В тот вечер мы остановили вездеход в полумиле от выступа и рано легли спать. Гариетт собирался утром идти со мной. Хороший альпинист, он часто сопровождал меня в экспедициях.
На первый взгляд скалы казались недосягаемыми, но для всякого, кто не страшится высоты, восхождение на горы не представляет трудности в мире, где все весит в шесть раз меньше, чем на Земле. Альпинизм на Луне опасен, если вы чрезмерно самоуверенны: при падении с высоты 600 футов вы можете разбиться здесь так же сильно, как с высоты 100 футов на Земле.
На широком уступе, на высоте 4000 футов над долиной мы сделали первый привал.
Над нашими головами, примерно футах в пятидесяти, было плато и тот предмет, который заманил меня и заставил преодолевать эти бесплодные пустоши. Я предполагал, что увижу валун, отколотый упавшим метеоритом много веков тому назад, и грани его, все еще свежие, сверкали в этой незыблемой веками тишине.
На скале не видно было ни одного выступа, за который можно было бы ухватиться руками, и нам пришлось использовать кошку. В мои усталые руки словно влилась новая сила, когда я раскручивал нал головой трехзубцовый крюк, чтобы бросить его к звездам. Сперва он не врубился и, когда мы потянули за веревку, медленно сполз вниз. На третьей попытке зубья врезались глубоко, и под тяжестью нашего общего веса крюк не сместился.
Гариетт взглянул на меня с беспокойством. Вероятно, он хотел идти первым, но я улыбнулся ему сквозь стекла шлема и покачал головой. Медленно, рассчитывая каждое движение и остановки на отдых, я начал последний подъем.
Даже с космическим костюмом мой вес не превышал сорока фунтов, поэтому я подтягивался то на одной руке, то на другой, без помощи ног. Добравшись до кромки, я задержался, махнул рукой Гарнетту, затем перелез через край и, встав на ноги, вперился глазами прямо перед собой.
Я стоял на плато диаметром около ста футов. Когда-то поверхность его была гладкой, слишком гладкой, если думать, что руки природы сделали его таким. Однако тысячелетиями падавшие метеориты избороздили поверхность, и всюду видны были впадины и складки. Плато разровняли, чтобы установить сверкающую конструкцию грубо-пирамидальной формы в два человеческих роста. Она была вделана в скалу, словно огромный драгоценный камень, отшлифованный тысячей граней.
В первые мгновения я оцепенел, лишенный всяких эмоций, затем, словно толчком в сердце, я был выведен из этого состояния чувством невыразимой радости. Я любил Луну и отныне знал, что стелющийся мох был не единственной формой жизни, которую она породила в молодости.
Мой мозг начал работать нормально, чтобы думать и спрашивать, Было ли это здание, или гробница, или что-то имеющее название на моем языке? Если это здание, зачем его воздвигли в недоступном месте? А может быть, это храм? И я вообразил, как жрецы молили своих богов сохранить им жизнь, взывая понапрасну, и как исчезал океан и вымирало все живое…
Я двинулся вперед, чтобы осмотреть этот предмет тщательнее, но смутное чувство осторожности помешало подойти очень близко. Я был знаком с археологией и попытался представить себе культурный уровень цивилизации, если строители смогли разровнять горную поверхность и поднять на такую высоту сверкающие зеркала.
А египтяне могли бы соорудить такое, если бы их рабочие имели вот эти странные материалы, которыми пользовались более древние архитекторы, подумал я. Предмет был мал по размеру, и мне не пришло в голову, что его могли создать люди более развитые, чем мои современники. Идея о существовании разумной жизни на Луне была слишком неожиданной, однако мое сознание восприняло ее сразу, а моя гордость не позволила мне броситься в это очертя голову.
Затем я заметил что-то, от чего волосы стали дыбом, что-то чересчур банальное и невинное, на что многие, вероятно, не обратили бы никакого внимания. Я упоминал, что плато было сплошь в выбоинах от упавших метеоритов и все кругом покрывала космическая пыль слоем в несколько дюймов (так всегда выглядит поверхность того мира, где нет ветров, разносящих пыль). И все же на горной поверхности почти вплотную к пирамиде не видно было ни пыли, ни выбоин, их словно не подпускало к сооружению плотное кольцо, невидимой стеной защищающее сооружение от разрушительного действия метеоритов и самого времени.
Я поднял камешек и легонько бросил его в сверкающее сооружение. Если бы камень исчез за невидимым барьером, я бы не удивился, но он словно ударился о гладкую полусферическую поверхность и легко скатился на плато.
Теперь я осознал, что увидел предмет, подобный которому человеческий род не создавал на протяжении своего развития. Это было не здание, а машина, и се защищали силы, бросившие вызов Вечности. Эти силы все еще действовали, и, видимо, я подошел недозволенно близко. Я подумал о радиации, которую человек смог загнать в ловушку и обезвредить за последнее столетие. Насколько я представлял, радиоактивное излучение было слишком мощным, и, возможно, я уже обрек себя, как если бы попал в смертельное молчаливое свечение незащищенного атомного реактора. Я поднял глаза к полукругу Земли, покоящемуся в своей звездной колыбели, и подумал о том, что же было под ее облаками, когда неведомые нам строители завершили свою работу. Был ли это для Земли период карбона с джунглями, окутанными паром, или холодные морские пучины и первые амфибии, выползшие на землю, чтобы заселить ее, или ранее того — долгое безмолвие и одиночество, предшествовавшее жизни?
Не спрашивайте, почему я не осознал правду раньше — правду, столь очевидную и простую теперь. В замешательстве первых минут я предположил, что граненое чудовище было создано народом, существовавшим в прошлом на Луне, но внезапно я, не колеблясь, заключил, что строителям была чужда Луна, как и мне.
За двадцать лет мы не нашли никаких следов жизни, кроме выродившихся растений. Лунная цивилизация, как ни сложилась ее судьба, оставила бы какую-то память о своем существовании.
Я снова взглянул на сверкающую пирамиду, она показалась мне еще более чуждой природе Луны. И мне почудилось, словно маленькая пирамида сказала:
— Извините, я сама чужеземка…
Двадцать лет ушло на то, чтобы разбить невидимую защиту и добраться до машины. То, что вызывало недоумение, было разрушено варварской силой атома, и теперь я мог осмотреть детали очаровательного сверкающего предмета, обнаруженного мною когда-то высоко в горах. Они лишены для нас всякого смысла. Механизмы пирамиды (если это действительно механизмы) созданы по технологии, которая находится далеко за пределами нашего понимания.
Теперь эта тайна мучит всех нас более чем когда-либо, поскольку мы знаем, что в нашей Галактике только Земля является родиной разумной жизни. Машину не могла построить ни одна погибшая цивилизация нашего мира, а толщина слоя космической пыли помогла нам определить возраст пирамиды — ее построили задолго до того, как на Земле жизнь вышла из морей. Когда наш мир был вдвое моложе, что-то пронеслось от звезд по Солнечной системе, оставило знак своего пребывания и продолжило путь. Пока мы не уничтожили машину, она работала, выполняя задание ее создателей; что касается цели — это лишь моя догадка.
Почти сто миллиардов звезд образуют Млечный Путь, и, должно быть, давно население миров других солнц миновало те вершины, до каких мы ныне добрались. Только подумайте о таких цивилизациях в глубинах веков на фоне гаснувшей зари создания вселенной, еще столь молодой, что жизнь существовала лишь в горстке миров. Их удел — одиночество богов, взирающих в вечность и тщетно ищущих, с кем поделиться своими мыслями.
Они, должно быть, шарили по созвездиям, как мы исследуем планеты. Повсюду были или будут миры; их ждет пустое безмолвие или ползающие безмозглые создания. Такой была и наша Земля, когда дым гигантских вулканов все еще застилал небеса, когда первый корабль мыслящих существ проплыл в Солнечную систему из пропасти за Плутоном. Он миновал замерзшие внешние планеты, зная, что жизнь не могла сыграть никакой роли в их судьбе. Он задержался среди внутренних планет, согревающих себя огнем Солнца и ожидающих начала истории.
Эти пилигримы, должно быть, поглядывали на Землю, безопасно вращаясь в узкой зоне между огнем и льдом, и. возможно, они догадывались, что в далеком будущем на Земле, наиболее любимой Солнцем, зародится мысль; но неисчислимое количество звезд, возможно, помешает им прийти к Земле снова. И поэтому они оставили здесь часового, одного из миллионов ему подобных, разбросанных по вселенной, дабы наблюдать за всеми мирами, обещающими зарождение жизни. Это был маяк, который из глубины веков сигналил о том, что он еще не обнаружен.
Теперь вы понимаете, почему хрустальную кристаллическую многогранную пирамиду воздвигли на Луне, а не на Земле. Создателей не интересовали народы, недавно сбросившие одежду дикарей. Наша цивилизация представляла бы для них интерес только в том случае, если бы люди доказали способность выжить — выйти в космос и оторваться от своей колыбели Земли. Это необходимость, с которой рано или поздно должны столкнуться все народы. Это вдвойне трудная задача, потому что ее осуществление требует освоения ядерной энергии и окончательного решения проблемы — жизнь или смерть.
С кометой
Перевод Л. Жданова
— Не знаю, для чего я это записываю, — медленно произнес Джордж Такео Пикетт в парящий веред его лицом микрофон. — Вряд ли кому-то доведется слушать запись. Говорят, комета пронесет нас по соседству с Землей только через два миллиарда лет, когда будет снова огибать Солнце. Просуществует ли человечество так долго? И будет ли комета такой же великолепной, какой увидели ее мы? Возможно, наши потомки тоже снарядят экспедицию, чтобы взглянуть на нее поближе. И обнаружат ракету… Даже через столько тысячелетий наш корабль будет в полном порядке. Останется горючее в баках, и воздух в отсеках — ведь продукты кончатся раньше, и мы умрем от голода, а не от удушья. Впрочем, вряд ли мы станем дожидаться этого, проще открыть воздушный шлюз и покончить сразу.
В детстве я читал книгу об арктических исследованиях — «Зимовка во льдах». Ну вот, что-то в этом роде ожидает нас. Мы со всех сторон окружены льдом, огромными ноздреватыми айсбергами, «Челенджер» летит среди роя ледяных глыб, которые очень медленно — сразу и не заметишь — вращаются вокруг друг друга. Но такой зимы не знала ни одна экспедиция па полюсы Земли. Почти все эти два миллиона лет будет держаться температура четыреста пятьдесят градусов ниже нуля по Фаренгейту. Мы уйдем так далеко от Солнца, что тепла от него будет не больше, чем от звезд. Кто-нибудь пытался морозной зимней ночью греть руки в лучах Сириуса?..
Нелепый образ, вдруг пришедший на ум Джорджу Пикетту, окончательно добил его. Перехватило голос, с такой силой нахлынули воспоминания о мерцающих в лунном свете сугробах, о перезвоне рождественских колоколов над краем, от которого его сейчас отделяло пятьдесят миллионов миль. Внезапно он разрыдался, точно ребенок, не в силах совладать с собой, с тоской по всему тому прекрасному на Земле, чего прежде не ценил по-настоящему и что теперь навсегда утрачено.
А как хорошо все началось, сколько было радостного возбуждения, ожиданий! Он помнил — неужели всего полгода прошло? — как впервые вышел из дому посмотреть на комету; незадолго перед тем восемнадцатилетний Джимм Рэндл увидел ее в самодельный телескоп и отправил свою знаменитую телеграмму в обсерваторию Маунт-Стромло. Тогда комета была едва заметным светящимся облачком, которое медленно скользило через созвездие Эридана, южнее экватора. Далеко за Марсом она мчалась к Солнцу по невероятно вытянутой орбите. В прошлый раз комета сияла на небе безлюдной Земли, и некому было любоваться ею; возможно, никого не будет, когда она появится вновь. Человечество в первый (и, быть может, единственный) раз видело комету Рэндла.
Приближаясь к Солнцу, она росла, выбрасывала струи и языки, самый маленький из которых был во сто крат больше Земли. Когда комета пересекла орбиту Марса, хвост ее — этакий исполинский вымпел, развеваемый космическим бризом, — протянулся уже на сорок миллионов миль. Тут наконец астрономы сообразили, что предстоит, пожалуй, самое великолепное небесное зрелище, какое когда-либо наблюдал человек; комета Галлея, которая являлась в 1986 году, не шла ни в какое сравнение. И организаторы Международного астрофизического десятилетия решили, если удастся вовремя снарядить экспедицию, послать вдогонку комете исследовательский корабль «Челенджер». Ведь может пройти не одно тысячелетие, прежде чем снова представится такой случай!
Неделю за неделей комета Рэндла в предрассветные часы сияла на небе, затмевая Млечный Путь. Вблизи Солнца она вновь ощутила зной, которого не испытывала с той поры, когда по Земле бродили мамонты. И активность ее росла; словно лучи мощного прожектора, плыли среди звезд струи светящегося газа, изверженные ее ядром. Хвост, теперь уже сто миллионов миль в длину, делился на замысловатые ленты и полосы, очертания которых менялись за одну ночь. И всегда они были устремлены прочь от Солнца, будто гонимые к звездам вечным могучим ветром из сердца Солнечной системы.
Когда Джорджа Пикетта назначили на «Челенджер», он долю не мог поверить своему счастью. Конечно, сыграло роль то, что он — кандидат наук, холостяк, славится отменным здоровьем, весит меньше ста двадцати фунтов и давно расстался с аппендиксом. Но разве мало других журналистов с такими данными?
Что ж, скоро они перестанут завидовать…
Грузоподъемность «Челенджера» была маловата, экспедиция не могла взять с собой только репортера, и Пикетт совмещал журналистские обязанности с научными. Наделе это означало, что он вел вахтенный журнал во время дежурства, был секретарем начальника экспедиции, следил за расходом припасов и материалов, занимался учетом. Снова и снова думал он, как это кстати, что в космосе, в мире невесомости человеку достаточно трех часов сна в сутки.
Нужен был немалый такт, чтобы одно дело не шло в ущерб другому. Когда он не был занят бухгалтерией в своем закутке и не проверял наличие в кладовых, можно было побродить с магнитофоном по кораблю. Одного за другим Джордж Пикетт проинтервьюировал каждого из двадцати ученых и инженеров, которые составляли экипаж «Челенджера». Не все записи были переданы на Землю; некоторые интервью оказались перегруженными техническими подробностями, другие чересчур скудными, третьи излишне многословными. Во всяком случае, он побеседовал со всеми, и как будто никто не мог пожаловаться, что его обошли. Впрочем, теперь это уже не играет никакой роли…
Интересно, что сейчас делается в душе доктора Мартинса? Помнится, астроном был одним из самых твердых орешков; зато он мог рассказать больше, чем кто-либо другой. Пикетту вдруг захотелось отыскать запись первого интервью Мартинса. Джордж великолепно понимал, что пытается уйти в прошлое, чтобы не думать о настоящем. Ну и что ж? Если это удастся, тем лучше!..
Двадцать миллионов миль отделяли от кометы стремительно летящий корабль, когда Джордж поймал Мартинса в обсерватории и приступил к допросу. Он хорошо помнил это интервью. Вид невесомого микрофона, слегка колеблемого воздушной струей от вентилятора, был до того необычным, что Пикетт никак не мог сосредоточиться. А по голосу ничего не заметно, звучит с профессиональной непринужденностью…
«Доктор Мартинс, — гласил первый вопрос, — из чего состоит комета Рэндла?»
«Состав сложный, — отвечал астроном, — и все время меняется по мере удаления кометы от Солнца. Хвост преимущественно из аммиака, метана, углекислого газа, водяных паров, циана…»
«Циана? Но ведь это ядовитый газ! Что было бы, если б Земля попала в такую струю?»
«Ничего. Несмотря на свой эффектный вид, хвост кометы, по нашим земным понятиям, чуть ли не вакуум. В объеме, равном объему Земли, газа столько же сколько воздуха в пустой спичечной коробке».
«Но это разреженное вещество образует такое красочное зрелище!»
«Как и любой сильно разреженный газ в электрическом поле. И по той же причине. Солнце бомбардирует хвост кометы частицами, которые несут электрический заряд. И получаются как бы светящиеся космические письмена. Только бы рекламные конторы не додумались использовать это — распишут всю Солнечную систему своими объявлениями!»
«Ужасная мысль… Хотя, уверен, найдутся такие, которые назовут это торжеством прикладной науки. Но оставим хвост. Скажите, скоро мы достигнем сердца кометы — или ядра, как вы его, кажется, называете?»
«Догонять в кильватер всегда трудно. Не меньше двух недель нужно, чтобы подойти к ядру. Будем идти внутри хвоста и постепенно изучим всю комету в продольном сечении. До ядра еще двадцать миллионов миль, но мы уже кое-что знаем о нем. Во-первых, оно чрезвычайно мало, меньше пятидесяти миль в поперечнике. И не сплошное; похоже, что ядро — это облако из тысяч роящихся частиц».
«Мы сможем проникнуть внутрь ядра?»
«Заранее трудно сказать. Возможно, безопасности ради мы исследуем его через наши телескопы с расстояния в несколько тысяч миль. Но сам я был бы очень разочарован, если бы мы не вошли внутрь. А вы?»
Пикетт выключил магнитофон. Что ж, все верно. Конечно, Мартинс был бы разочарован, тем более что опасности как будто нет. Как будто? Комета вообще не приготовила никаких каверз, угроза таилась на борту их собственного корабля…
Одну задругой они пронизывали огромные, невероятно разреженные завесы; хотя комета Рэндла теперь мчалась прочь от Солнца, она все еще выделяла газ. И даже когда корабль подошел к самой плотной часта кометы, их практически окружал вакуум. Светящийся туман, который простерся на много миллионов миль, почти беспрепятственно пропуска! звездный свет. А прямо по курсу яркое пятнышко ядра, подобно блуждающему огоньку, манило их за собой вперед и вперед.
Электрические возмущения в окружающем веществе возросли настолько, что нарушилась связь с Землей. Сигналы их главного передатчика пробивались с трудом, и последние несколько дней космонавты ограничивались тем, что передавали ключом «ОК.». Когда корабль вырвется из кометы и возьмет курс на Землю, связь восстановится, а пока они почти так же обособлены, как землепроходцы в старину, когда радио еще не было. Неудобно, конечно, но ничего страшного. Пикетт был даже рад, больше времени оставалось на канцелярию. Хотя «Челенджер» шел к сердцу кометы — путешествие, о котором до двадцатого столетия не мог мечтать ни один капитан! — кому-то надо было вести учет продовольствия и прочих запасов…
Медленно, осторожно, прощупывая радаром пространство во всех направлениях, «Челенджер» прошел в ядро кометы и замер там среди льдов.
Фред Уипл, сотрудник Гарвардской обсерватории, еще в сороковых годах угадал истину. Но даже теперь, когда они все увидели своими глазами, трудно было поверить: маленькое — относительно — ядро кометы оказалось гроздью айсбергов, которые, летя по общей орбите, в то же время кружили, меняясь местами. В отличие от ледяных гор земных океанов, они не были ослепительно белыми и состояли не из замерзшей воды. Грязно-серые, ноздреватые, словно подтаявший снег, со множеством «карманов» метана и аммиака, они то и дело, нагретые солнечными лучами, извергали исполинские струи газа. Зрелище великолепное, но поначалу Пикетту некогда было любоваться им.
Зато теперь времени хоть отбавляй…
Джордж Пикетт проверял наличные запасы, когда столкнулся с бедой, причем он даже не сразу осознал ее масштабы. Ведь на складе все было в порядке, запасов хватит на весь обратный путь до Земли. Он сам в этом убедился, оставалось только свериться с данными, которые хранились в крохотной — с булавочную головку — ячейке электронной памяти корабля, отведенной для бухгалтерии.
Когда на экране вспыхнули первые несусветные цифры, Пикетт решил, что нажал не тот тумблер. Он стер итог и повторил задание вычислительной машине.
Было шестьдесят ящиков вакуумированного мяса, израсходовано семнадцать, осталось… Ответ гласил: 99999943!
Он пробовал снова и снова — с тем же успехом. И тогда, озадаченный, но еще далеко не встревоженный, Пикетт пошел искать доктора Мартинса.
Он нашел астронома в «Камере пыток» — миниатюрном гимнастическом зале, втиснутом между кладовками и переборкой главной цистерны горючего. Каждый член экипажа был обязан упражняться здесь по часу в день, чтобы мышцы не ослабли в невесомости. Мартинс сражался с набором тугих пружин, и лицо его выражало мрачную решимость. Он еще больше помрачнел, выслушав доклад Пикетта.
Несколько манипуляций на щите управления — и все стало ясно.
— Электронный мозг свихнулся, — сказал Мартинс. — Не может даже ни складывать, ни вычитать.
— Ничего, починим!
Мартинс покачал головой. От его обычной вызывающей самоуверенности не осталось и следа. Он больше всего напоминал резиновую куклу, из которой начал выходить воздух.
— Даже его создатели не справились бы. Тут несчетное множество микроцепей, они упакованы так же плотно, как в мозгу человека. Запоминающее устройство еще действует, но вычислитель никуда не годится. Он просто делает винегрет из поступающих в него чисел.
— Что же будет? — спросил Пикетт.
— Всем нам крышка, — просто ответил Мартинс. — Без вычислительной машины мы пропали. Не сможем рассчитать орбиту для возвращения на Землю. Чтобы с карандашом и бумагой сделать все вычисления, понадобилась бы целая армия математиков, да и то ушла бы не одна неделя.
— Но это смехотворно! Корабль в полном порядке, продовольствия и горю чего вдоволь, а вы говорите, что мы погибнем из-за каких-то пустяковых расчетов.
— Пустяковых расчетов? — К Мартинсу даже вернулась частица прежней энергии. — Выйти из кометы на орбиту, ведущую к Земле, — это же серьезный маневр, нужно около ста тысяч вычислительных операций. Даже машина тратит на это несколько минут.
Пикетт не был математиком, но достаточно разбирался в астронавтике, чтобы понять, в чем дело. На корабль, летящий в космосе, действует множество небесных тел. Главная сила, которая определяет его движение, — притяжение Солнца, прочно удерживающее все планеты па их орбитах. Но и планеты тянут корабль в разные стороны, конечно намного слабее. Учесть соперничающие силы, а главное, использовать их, чтобы достичь желанной цели — пусть до нее не один десяток миллионов миль, — задача головоломная. Пикетт понимал отчаяние Мартинса: ни один человек не может работать без необходимого в его деле инструмента, и нет дела, для которого требовался бы более хитроумный инструмент.
Даже после того, как начальник экспедиции объявил всем о поломке и состоялось чрезвычайное совещание, прошел не один час, пока люди уразумели, что их ожидает. До рокового конца было еще много месяцев, и он казался просто нереальным. Им грозила смертная казнь, но исполнение приговора откладывалось. К тому же за иллюминаторами по-прежнему была великолепная картина.
Сквозь облако пылающей мглы — это облако станет вечным небесным памятником погибшей экспедиции — они видели могучий маяк Юпитера, ярче любой звезды. Что же, если остальные предпочтут покончить с собой сразу, кто-то из экипажа, возможно, еще доживет до встречи с самым рослым из детей Солнца. «Стоит ли прожить несколько лишних недель, — спрашивал себя Пикетт, — чтобы воочию увидеть картину, которую первым в свой самодельный телескоп наблюдал Галилей четыре столетия назад: спутники Юпитера, снующие взад-вперед, будто шарики на невидимой проволоке?»
Шарики на проволоке. Вдруг из подсознания Джорджа вырвалось полузабытое воспоминание детства. Видимо, оно уже несколько дней зрело — и вот наконец проклюнулось.
— Нет! — крикнул он, — Чепуха! Меня поднимут на смех!
«Ну и что же? — возразила другая половина его сознания. — Тебе нечего терять, и по крайней мере каждый будет занят своим делом, а не думать о продовольствии и кислороде».
Искра надежды лучше, чем безнадежность…
Джордж Пикетт перестал крутить свой магнитофон; уныние как рукой сняло. Он отстегнул эластичный пояс, встал с кресла и пошел на склад искать нужные материалы.
— Такие шутки, — сказал три дня спустя доктор Мартинс, — до меня не доходят.
И он презрительно посмотрел на самоделку из дерева и проволоки, которую держал в руке Пикетт.
— Я знал, что вы так скажете, — миролюбиво ответил журналист. — Но сперва послушайте меня. Моя бабушка была японка, и в детстве я слышал от нее историю, которую вспомнил только теперь, несколько дней назад. Кажется, это может нас спасти. После второй мировой войны устроили однажды соревнование — в быстроте счета состязались американец, вооруженный электрическим арифмометром, и японец с абаком вроде этого. Победил абак.
— Плохой был арифмометр или оператор никудышный.
— Нарочно отобрали лучшего во всех вооруженных силах США. Но не будем спорить. Проведем испытание, назовите два трехзначных числа для умножения.
— Ну… 856 на 437.
Пальцы Пикетта забегали по шарикам, молниеносно гоняя их по проволокам. Всего проволок было двенадцать, это позволяло производить действия над любыми числами от единицы до 999 999 999 999 или, разбив абак на секции, одновременно делать несколько вычислений.
— 374 072,— ответил Пикетт почти мгновенно. — А теперь посмотрим, как вы управитесь с помощью карандаша и бумаги.
Прошло около минуты; наконец Мартинс, который, как и большинство математиков, был не в ладах с арифметикой, крикнул:
— 375 072!
Проверка тотчас показала, что Мартинс ошибся, хотя умножал в три раза дольше, чем Пикетт.
Удивление, ревность, интерес смешались на лице астронома.
— Кто вас научил этому фокусу? — спросил он. — Я думал, на такой штуке можно только складывать и вычитать.
— А что такое умножение, если не многократное сложение? Я семь раз сложил 856 в ряду единиц, три раза — в ряду десятков, четыре раза — в ряду сотен. То же самое делаете вы на бумаге. Конечно, есть приемы для ускорения, но если вам показалось, что я считаю быстро, посмотрели бы вы на брата моей бабушки. Он служил в банке в Иокогаме. Как пойдет щелкать — пальцев не видно. Он меня кое-чему научил, да ведь с тех пор больше двадцати лет прошло. Я еще только два дня упражняюсь, пока считаю медленно. И все-гаки надеюсь, что мне удалось хоть немного убедить вас.
— Еще бы! Я просто поражен. Вы и делить можете так же быстро?
— Почти, надо только руку набить.
Мартинс взял абак, погонял шарики взад-вперед. Потом вздохнул.
— Гениально. Но нас это не выручит, даже если бы на нем можно было считать вдесятеро быстрее, чем на бумаге. Машина в миллион раз эффективнее.
— Я подумал об этом, — ответил Пикетт, теряя самообладание. (Этот Мартинс рохля какой-то, нет у него воли к борьбе. Хоть бы задумался, как управлялись астрономы сто лет назад, когда не было никаких счетных машин!) — Вот что я предлагаю, — а вы скажите, если я ошибаюсь…
Он обстоятельно, не торопясь, изложил во всех подробностях свой план. Слушая его, Мартинс заметно воспрянул духом и даже рассмеялся; впервые за много дней Пикетт слышал смех на борту «Челенджера».
— Вижу лицо начальника экспедиции, — воскликнул астроном, — когда он услышит, что нам всем придется вернуться в детский сад и трать в шарики!
Никто не хотел верить в абак, пока Пикетт сам не показал, как на нем считают. Люди, выросшие в мире электроники, никак не ожидали, что нехитрая комбинация проволоки и шариков способна на такие чудеса. Но задача была увлекательная, а речь шла о жизни и смерти, и они горячо взялись за дело.
Как только инженеры изготовили достаточно совершенных копий грубого оригинала, сделанного Пикеттом, все начали учиться. Основные правила он объяснил за несколько минут, главное была практика, многочасовые упражнения, чтобы пальцы автоматически, без участия мысли, перебрасывали шарики. Некоторые и через неделю непрерывных занятий не смогли развить достаточной скорости и точности, зато другие быстро превзошли самого Пикетта.
Космонавтам снились шарики и проволока, во сне они продолжали считать… Когда они хорошо освоили простейшие приемы, экипаж разбили на группы, которые азартно состязались между собой, совершенствуя свое умение. В конце концов лучшие научились за пятнадцать секунд перемножать четырехзначные числа, и они могли это делать несколько часов подряд.
Все это была чисто механическая работа, которая не требовала большой смекалки, а только навыка. По-настоящему грудная задача выпала на долю Мартинса, и тут ему никто не мог помочь. Ему пришлось забыть привычные приемы работы с вычислительными машинами и составлять задания так, чтобы их механически выполняли люди, совершенно не представляющие себе смысла обрабатываемых чисел. Астроном сообщал данные, они вычисляли по указанной им схеме, и через несколько часов живой математический конвейер выдавал ответ. А чтобы застраховаться от ошибок, две группы работали параллельно и время от времени сверяли свои итоги.
— Итак, — обратился Пикетт к своему микрофону, когда время наконец позволило ему вспомнить о слушателях, с которыми он было навсегда распрощался — мы создали счетную машину из людей вместо электронных ячеек. Конечно, она действует в несколько тысяч раз медленнее, не справляется с очень большими числами и легко устает, но все-таки делает свое дело. Рассчитать весь обратный путь нельзя, это чересчур сложно, но мы хоть определим орбиту, которая позволит достичь зоны радиосвязи. Как только корабль уйдет от электрических помех, мы сообщим свои координаты на Землю, и оттуда электронные машины подскажут, как нам быть дальше. Мы уже вышли из ядра кометы и не летим к границам Солнечной системы. Наш новый курс подтверждает точность расчетов, насколько вообще можно говорить о точности. Правда, корабль еще внутри кометного хвоста, но от ядра нас отделяют миллионы миль, мы больше не увидим этих аммиачных айсбергов. Они мчатся к звездам, в леденящую ночь межсолнечного пространства, мы же возвращаемся домой…
— Алло, Земля, Земля! Вызывает «Челенджер», я «Челенджер»! Отвечайте, как только услышите нас, помогите нам с арифметикой, пока мы не стерли пальцы до кости!
Тайна
Перевод В. Гольдича, И. Оганесовой
Генри Купер провел на Луне почти две недели, прежде чем сообразил, что здесь что-то не так. Сначала это было всего лишь смутное подозрение, к которому опытный журналист, пишущий на темы научной фантастики, не станет относиться всерьез. В конце концов, он прибыл сюда по просьбе представителей Космической администрации Организации Объединенных Наций. КАООН всегда уделяла самое пристальное внимание проблемам связей с общественностью — в особенности в период утверждения бюджета, когда перенаселенный мир требовал освоения новых территорий, строительства дорог, школ, морских ферм и возмущался тем фактом, что огромные суммы вкладываются в исследования космоса без видимого результата.
И вот он здесь, во второй раз путешествует по Луне и отправляет своим работодателям статьи — по две тысячи слов в день. И хотя новизна впечатлений ушла, Купер не переставал поражаться чудесам загадочного мира размером с Африку, совершенно неизученного, несмотря на огромное количество карт. Всего в нескольких шагах от защитных куполов, лабораторий и космопортов начиналась зияющая пустота, которая еще много веков будет бросать человеку вызов.
Кое-какие районы казались Генри даже слишком хорошо знакомыми. Кто не видел покрытый пылью шрам Моря Имбриум, где стоит сверкающий металлический пилон с табличкой, на которой на трех земных языках написано:
УСТАНОВЛЕНО В 2001 ГОДУ.
ЗДЕСЬ 13 СЕНТЯБРЯ 1959 ГОДА ПРИЗЕМЛИЛСЯ ПЕРВЫЙ ПОСТРОЕННЫЙ РУКАМИ ЧЕЛОВЕКА ОБЪЕКТ, ОТПРАВЛЕННЫЙ НА ДРУГУЮ ПЛАНЕТУ.
Купер уже побывал на могиле «Лунника II» и на более знаменитом кладбище, где похоронены люди, которые прилетели вслед за ним. Но все эти события успели стать далеким прошлым. Ведь Колумб и братья Райт давно канули в историю. Генри Купера интересовало будущее.
Когда он приземлился в космопорте Архимед, главный администратор бросился к нему навстречу с распростертыми объятиями и сообщил, что лично позаботится о том, чтобы журналист чувствовал себя на Луне, как дома. Ему предоставили собственный транспорт, проводника и великолепные апартаменты. Он мог отправиться в любое место, куда только пожелает, задавать любые вопросы. КАООН ему доверяет, потому что его статьи всегда отличаются правдивостью и дружелюбием. Однако что-то здесь было не так, и Генри дал себе слово досконально во всем разобраться.
Он взял телефонную трубку и произнес:
— Оператор, соедините меня, пожалуйста, с департаментом полиции. Я хочу поговорить со старшим инспектором.
По всей видимости, у Чандры Кумарасвоми форма имелась, однако Купер ни разу его в ней не видел. Они встретились, как и договаривались, у входа в небольшой парк, являвшийся предметом гордости города Плутон. В эти утренние часы искусственного двадцатичетырехчасового «дня» здесь достаточно пустынно и можно спокойно поговорить.
Прогуливаясь по узким, усыпанным гравием дорожкам, они болтали о старых добрых временах, общих друзьях, с которыми вместе учились в колледже, о последних событиях межпланетной политики. Когда они оказались в самом центре парка, накрытого выкрашенным в голубой цвет куполом, Купер перешел к делу.
— Тебе известно все, что происходит на Луне, Чандра, — сказал он, — Естественно, ты знаешь, что я прилетел сюда, чтобы написать серию репортажей для КАООН, — надеюсь, что по возвращении на Землю мне удастся собрать их воедино и опубликовать книгу. Я хотел бы знать, почему практически все, с кем я встречаюсь, что-то от меня скрывают?
Торопить Чаидру с ответом было бессмысленно. Он всегда тщательно обдумывал свои слова, которые, казалось, с трудом выбираются наружу, минуя мундштук его баварской трубки ручной работы.
— Кто скрывает? — спросил он наконец.
— Значит, ты ничего не знаешь?
— Не имею ни малейшею представления, — ответил Чандра, покачав головой, и Купер поверил, что старший инспектор говорит правду.
Чандра мог промолчать, но он никогда не лгал.
— Я боялся, что ты ответишь именно так. Ну, в таком случае… если тебе известно не больше моего — вот единственный факт, который у меня имеется, и он меня пугает. Меня изо всех сил стараются не подпускать к лабораториям, где проводятся медицинские исследования.
— Хм-м-м. — Чандра вынул трубку изо рта и принялся ее внимательно изучать.
— Больше ничего не скажешь?
— Данных маловато, чтобы делать определенные выводы. Не забывай, я всего лишь полицейский. И не обладаю сильно развитым воображением, которым природа награждает всех журналистов.
— Знаешь, чем выше пост в Отделе медицинских исследований занимают люди, с которыми я разговариваю, тем холоднее они себя ведут. Когда я прилетал сюда в прошлый раз, они держались очень доброжелательно, рассказали кучу интересных историй. А теперь мне даже не удается встретиться с директором Медицинского центра. Он либо слишком занят и не может уделить мне ни минуты, либо находится на другом краю Луны. Кстати, что он собой представляет?
— Доктор Хейстингс? Неприятный тип. Очень хороший специалист, но работать с ним нелегко.
— Что он может скрывать?
— Зная тебя, могу предположить, что у тебя уже появилась парочка занимательных теорий.
— Ну, возможно, наркотики, какие-нибудь махинации, политический заговор — только в наше время все это звучит глупо. А потому остаются варианты, которые пугают меня до полусмерти.
Брови Чандры вопросительно поползли вверх.
— Межпланетная эпидемия, — пояснил Купер.
— Мне казалось, что такое невозможно.
— Да, я сам написал серию статей, доказывающих, что жизненные формы других планет обладают таким химическим строением, что не могут взаимодействовать с нами, и что всем нашим микробам и бактериям потребовался миллион лет, чтобы приспособиться к существованию в наших телах. Но я всегда сомневался в правоте такого предположения. Допустим, с Марса вернулся корабль и доставил к нам какую-нибудь страшную гадость, с которой врачи не в силах справиться.
Наступило долгое молчание, в конце концов прерванное Чандрой:
— Я начну расследование. Что-то мне это тоже не нравится. К тому же, возможно, ты не знаешь, но за последний месяц среди медиков случилось три нервных срыва — что весьма и весьма необычно.
Он посмотрел на часы, затем на искусственное небо, которое казалось таким далеким, хотя и находилось всего в двухстах футах у них над головами.
— Пойдем-ка отсюда, — сказал он. — Через пять минут начнется утренний ливень.
Звонок разбудил Купера ночью через две недели — настоящей лунной ночью. Согласно часам города Плутон было воскресное утро.
— Генри, это Чандра. Мы можем встретиться через полчаса у воздушною шлюза номер пять? Хорошо. Жду тебя.
Купер сразу понял: Чандре удалось что-то узнать, поскольку воздушный шлюз номер пять означал, что они намереваются покинуть купол.
Разговаривать в присутствии полицейского, который управлял гусеничной машиной, мчащейся из города по некоему подобию дороги, проложенной бульдозерами в лунной пыли, они не могли. На южном горизонте висела Земля и проливала свой сверкающий сине-зеленый свет на инфернальный пейзаж. Как ни старайся, сказал как-то раз себе Купер, Луну невозможно представить ярким светилом. Впрочем, природа тщательно хранит свои тайны, и людям еще предстоит их открыть.
На изрезанном неровными линиями горизонте исчезли многочисленные купола города, и через некоторое время они свернули с главной дороги на едва различимую тропинку. Прошло еще десять минут, и Купер увидел впереди сверкающую полусферу, которая стояла на одиноком скалистом уступе. Около нее замерла машина с красным крестом. Получалось, что они здесь не единственные посетители.
Кроме того, их явно ждали. Как только они подъехали к куполу, появилась гибкая труба воздушного шлюза, которая обхватила их автомобиль. Раздалось короткое шипение, давление выровнялось, и Купер последовал за Чандрой в здание.
Оператор воздушного шлюза провел их по извивающимся коридорам и пересекающим их проходам в самый центр купола. Время от времени они проходили мимо пустующих в это воскресное утро лабораторий, каких-то приборов, компьютеров — все самое обычное, ничего особенного. Вскоре проводник завел их в большую круглую комнату и тихо прикрыл за ними дверь.
Они попали в маленький зоопарк. Повсюду стояли клетки, аквариумы, банки, в которых содержались самые разные представители земной фауны. Гостей встречал невысокий седовласый человек с несчастным и обеспокоенным выражением на лице.
— Доктор Хейстингс, — сказал Кумарасвоми. — Позвольте представить вам мистера Купера.
Старший инспектор повернулся к своему спутнику и добавил:
— Я убедил доктора, что есть только один способ тебя успокоить — рассказать все.
— По правде говоря, — сказал Хейстингс, — не уверен, что происходящее но-прежнему следует хранить в тайне.
Голос у него дрожал, и Купер заметил, что он с трудом держит себя в руках. Так-так, скоро нас ждет еще один нервный срыв!
Ученый не стал тратить время на такие формальности, как рукопожатие, а просто подошел к одной из клеток, вынул из нее маленький мохнатый комочек и протянул Куперу.
— Знаете, кто это? — резко спросил он.
— Конечно. Хомяк — стандартное лабораторное животное.
— Верно, — подтвердил Хейстингс, — самый обычный золотистый хомяк. Только вот этому экземпляру исполнилось пять лет — как и всем остальным его собратьям по клетке.
— И что тут необычного?
— А ничего, совсем ничего… если не считать такой мелочи, как тот факт, что хомяки живут всего два года. У нас тут есть такие, которым уже исполнилось десять.
Несколько мгновений никто ничего не говорил, но в комнате слышалось шуршание, шорох, скрежет, тоненькие голоса животных.
— Боже праведный, вам удалось найти способ продлить жизнь, — прошептал Купер.
— Ничего подобного, — возразил Хейстингс. — Мы к этому не имеем никакого отношения. Луна нам его подарила… и, будь мы не так близоруки, могли бы и сами догадаться.
Казалось, ему удалось взять себя в руки — словно он снова стал ученым, которого привело в восторг потрясающее открытие — вне зависимости от его последствий для человечества.
— На Земле, — сказал он, — мы всю жизнь сражаемся с гравитацией. Она истощает наши силы, расслабляет мышцы, меняет форму желудка. Как вы думаете, сколько тонн крови наше сердце прогоняет по кровеносным сосудам за семьдесят лет и сколько всего получается миль? Эта работа и напряжение снижено здесь, на Луне, в шесть раз. Человек весом в сто восемьдесят фунтов на Луне весит всего тридцать.
— Понятно, — медленно протянул Купер. — Хомяки прожили десять лет, — а сколько же тогда отведено человеку?
— Закон, который здесь действует, не так прост, — ответил Хейстингс. — Очень многое зависит от размеров и вида живого существа. Еще месяц назад мы не смогли бы определенно ответить на ваш вопрос. Сейчас мы твердо знаем, что на Луне человек может прожить около двухсот лет — по меньшей мере.
— И вы хранили свое открытие в тайне!
— Идиот! Неужели вы не понимаете?
— Успокойтесь, доктор, не стоит так волноваться, — мягко проговорил Чандра.
Сделав над собой усилие. Хейстингс снова взял себя в руки и продолжал говорить с таким ледяным спокойствием в голосе, что его слова жалили, словно замерзающие на холодном ветру капли дождя.
— Представьте себе тех, кто там живет — Он показал рукой на купол, в сторону невидимой Земли, о присутствии которой никто на Луне не забывал. — Их шесть миллиардов, они заполонили все континенты и теперь пытаются заселить даже моря. А здесь… — Он ткнул пальцем в пол. — Нас всего сто тысяч и целый пустой мир. Но, чтобы существовать в этом мире, нам требуются чудеса техники и инженерного искусства, а человек с уровнем интеллектуального развития ниже ста пятидесяти никогда не найдет здесь работу.
И вот мы обнаружили, что можем прожить двести лет. Подумайте, как они отнесутся к такому известию? Теперь проблема в ваших руках, мистер журналист: вы сами напросились, вот и выпутывайтесь. Только скажите мне, пожалуйста, как вы намереваетесь сообщить им потрясающую новость?
Он ждал ответа довольно долго. Купер открыл было рот, но тут же его закрыл, не в силах ничего придумать.
В дальнем углу комнаты заплакал детеныш обезьяны.
Лето на Икаре
Перевод Л. Жданова
Очнувшись, Колин Шеррард долго не мог сообразить, где он. Он лежал в какой-то капсуле на круглой вершине холма, крутые склоны которого запеклись темной коркой, точно их опалило жаркое пламя; вверху простерлось черное как смоль небо с множеством звезд, и одна из них, над самым горизонтом, напоминала крохотное яркое Солнце.
Солнце?! Неужели он так далеко от Земли? Не может быть. Память подсказывала ему, что Солнце близко, угрожающе близко, оно никак не могло обратиться в маленькую звезду. Вдруг в голове у него прояснилось. Шеррард знал, где он, знал точно, и мысль об этом была так страшна, что он едва опять не потерял сознания.
Никто из людей не бывал еще так близко к Солнцу.
Поврежденный космокар лежал не на холме, а на сильно искривленной поверхности маленького — всего две мили в поперечнике — космического тела. И быстро опускающаяся к горизонту на западе яркая звезда — это огни «Прометея», корабля, который доставил Шеррарда сюда, за миллионы миль от Земли. Товарищи, конечно, уже недоумевают, почему не вернулся его космокар — замешкавшийся почтовый голубь. Пройдет несколько минут, и «Прометей» исчезнет из поля зрения, уйдет за горизонт, играя в прятки с Солнцем…
Колин Шеррард проиграл эту игру.
Правда, он пока на ночной стороне астероида, укрыт в его прохладной тени, но быстротечная ночь на исходе. Четырехчасовой икарийский день надвигается стремительно и неотвратимо, близок грозный восход, когда яркий солнечный свет — в тридцать раз ярче, чем на Земле, — выплеснет на эти камни жгучее пламя. Шеррард великолепно знал, почему все кругом опалено до черноты. Хотя Икар будет в перигелии только через неделю, уже теперь полуденная температура на его поверхности близка к тысяче градусов по Фаренгейту.
Не до юмора ему было, и все-таки вдруг вспомнилось, что капитан Маклеллан сказал об Икаре: «Ох, горяча земля, поневоле будешь чужими руками жар загребать».
Несколько дней назад они воочию убедились, сколь справедлива эта шутка: помог один из тех простейших ненаучных опытов, которые действуют на воображение куда сильнее, чем десятки графиков и кривых.
Незадолго до восхода один из космонавтов отнес на бугорок деревянную чурку. Стоя в укрытии на ночной стороне, Шеррард видел, как первые лучи Солнца коснулись бугорка. Когда его глаза оправились от внезапного взрыва света, он разглядел, что чурка уже чернеет, обугливаясь. Будь здесь атмосфера, дерево тотчас вспыхнуло бы ярким пламенем.
Вот что такое восход на Икаре…
Правда, пять недель назад, когда они пересекли орбиту Венеры и впервые высадились на астероид, было далеко не так жарко. «Прометей» подошел к Икару в момент его наибольшего удаления от Солнца. Космический корабль приноровил свой ход к скорости маленького мирка и лег на его поверхность легко, как снежинка. (Снежинка — на Икаре!.. Придет же на ум такое сравнение.) Тотчас на пятнадцати квадратных милях колючего никелевого железа, покрывающего большую часть астероида, рассыпались ученые — они расставляли приборы, разбивали триангуляционную сеть, собирали образцы, делали множество наблюдений.
Все было задумано и тщательно расписано много лет назад, когда еще только готовились к Международному астрофизическому десятилетию. Икар предоставлял исследовательскому кораблю неповторимую возможность: под прикрытием железокаменного щита двухмильной толщины подойти к Солнцу на расстояние всего семнадцати миллионов миль. Защищенный Икаром, корабль мог без опаски облететь вокруг могучей топки, которая согревает все планеты и от которой зависит всякая жизнь.
Подобно легендарному Прометею, добывшему для человечества огонь, космолет, названный его именем, доставит на Землю новые знания о поразительных тайнах небес…
Члены экспедиции успели установить все приборы и провести заданные исследования, прежде чем «Прометею» пришлось взлететь, чтобы отступить вместе с ночной тенью. Да и потом оставалось в запасе еще около часа, во время которого человек в космокаре — миниатюрном, длиной всею десять футов, космическом корабле — мог работать на ночной стороне, пока не подкралась полоса восхода. Казалось бы, в мире, где рассвет приближается со скоростью всего одной мили в час, ничего не стоит вовремя улизнуть! Но Шеррард не сумел этого сделать, и теперь его ожидала кара: смерть.
Он и сейчас не совсем понимал, как это случилось.
Колин Шеррард налаживал передатчик сейсмографа на Станции 145, которую они между собой называли Эверестом: она на целых девяносто футов возвышалась над поверхностью Икара! Работа пустяковая. Правда, делать ее приходилось с помощью выдвигающихся из корпуса космокара механических рук, но Шеррард уже наловчился, металлическими пальцами он завязывал узлы почти так же сноровисто, как собственными. Двадцать минут, и радиосейсмограф опять заработал, сообщая в эфир о толчках и трясениях, число которых стремительно росло по мере того, как Икар приближался к Солнцу.
Теперь на лептах записана и «его» кривая, да много ли ему от этого радости…
Убедившись, что передатчик действует, Шеррард расставил вокруг прибора солнечные отражатели. Трудно поверить, что два хрупких, не толще бумаги, листа металлической фольги могли преградить путь потоку лучей, способному в несколько секунд расплавить олово или свинец! И однако первый экран отражал более девяноста процентов падающего на его поверхность света, а второй — почти все остальное; вместе они пропускали совершенно безобидное количество тепла.
Шеррард доложил на корабль, что задание выполнено, получил «добро» и приготовился возвращаться на борт. Мощные прожекторы «Прометея» — без них на ночной стороне астероида вряд ли удалось бы что-либо разглядеть — были безошибочным ориентиром. Всего две мили отделяли его от корабля, и, будь на Шеррарде планетный скафандр с гибкими сочленениями, инженер мог бы просто допрыгнуть до «Прометея», ведь здесь почти полная невесомость. Ничего, маленькие ракетные двигатели космокара за пять минут доставят его на борт…
Гироскопами он направил космокар на цель, потом включил вторую скорость и нажал стартер. Сильный взрыв под ногами — Шеррард взлетел, удаляясь от Икара — и от корабля! «Неисправность!» — подумал он с ужасом. Его прижало к стенке, он никак не мог дотянуться до щита управления. Работал только один мотор, поэтому астронавт летел кувырком, вращаясь все быстрее. Шеррард лихорадочно искал кнопку стопа, но вращение сбило его с толку, и, когда он наконец дотянулся до ручек, его первое движение только все ухудшило: он включил полную скорость — как нервный шофер сгоряча вместо тормоза нажимает акселератор. Всего секунда ушла на то, чтобы исправить ошибку и заглушить мотор, но за эту секунду вращение усилилось настолько, что заезды стали светящимися колесами…
Все случилось так быстро, что Колин Шеррард не успел даже испугаться; но главное, он не успел вызвать корабль и сообщить о катастрофе. В конце концов, опасаясь, как бы не натворить еще худших бед, он оставил ручки в покое. Чтобы выйти из штопора, надо было осторожно маневрировать не меньше двух-трех минут; у него оставались считанные секунды — скалы мелькали все ближе и ближе.
Шеррард вспомнил совет на обложке «Наставления астронавта»: «Если не знаешь, что делать, — не делай ничего». Он честно продолжал следовать этому совету, когда Икар обрушился на него и звезды померкли…
…Просто чудо, что оболочка космокара цела и он не дышит космосом. (Сейчас он радуется, а что будет через полчаса, когда сдаст теплоизоляция?) Конечно, совсем без поломок не обошлось, сорваны оба зеркала заднего обзора, которые были укреплены на прозрачном круглом гермошлеме, придется повертеть шеей, но это пустяки — гораздо хуже то, что одновременно покалечило антенны. Он не может вызвать корабль, и корабль не может вызвать его. Из динамика доносился лишь слабый треск, скорее всего от каких-нибудь неполадок в самом приемнике. Колин Шеррард был отрезан от людей.
Положение отчаянное, но не безнадежное. Нет, он не совсем беспомощен. Хотя двигатели подкачали (видимо, в правой пусковой камере: хоть конструкторы и уверяли, что такого случиться не может, изменилась направленность взрыва и забило форсунки), он может двигаться: у него есть «руки».
Вот только куда ползти? Шеррард совсем растерялся. Взлетел он с «Эвереста», но далеко ли его отбросило — на сто футов? На тысячу? Ни одного знакомого ориентира в этом крохотном мире, только быстро удаляющаяся звездочка «Прометея» может его выручить, теперь лишь бы не потерять из виду корабль… Его хватятся через несколько минут, если уже не хватились. Конечно, без помощи радио товарищам, пожалуй, придется искать долго. Как ни мал Икар, эти пятнадцать квадратных миль изборожденной трещинами ничьей земли — надежный тайник для цилиндра длиной десять футов. На поиски может уйти и полчаса, и час; все это время он должен следить за тем, чтобы его не настиг убийца — восход.
Шеррард вложил пальцы в полые рычаги механических конечностей. Тотчас снаружи, в суровой среде космоса ожили его искусственные руки. Вот опустились, уперлись в железную кору астероида, приподняли космокар… Шеррард согнул «руки», и капсула, словно причудливое двуногое насекомое, поползла вперед. Правой, левой, правой, левой…
Это оказалось проще, чем он ожидал, и Шеррард почувствовал себя увереннее. Конечно, механические руки созданы для тонкой и точной работы, но в невесомости достаточно малейшего усилия, чтобы сдвинуть с места капсулу. Тяготение Икара составляло одну десятитысячную земного; вместе с космокаром Шеррард весил здесь около унции. Придя в движение, он дальше буквально парил, легко и быстро, будто во сне.
Однако легкость эта таила в себе угрозу… Шеррард уже прошел так несколько сот ярдов, он быстро настигал светящееся пятно «Прометея», но тут успех ударил ему в голову. Как скоро сознание переходит от одной крайности к другой! Давно ли он думал, как достойнее встретить смерть, а теперь ему уже не терпелось вернуться на корабль к обеду.
Впрочем, возможно, беда случилась потому, что уж очень новый и необычный это был способ передвижения. Может быть, он к тому же не совсем оправился после крушения. В самом деле: как и все астронавты, Шеррард отлично умел ориентироваться в космосе, привык жить и работать в условиях, когда земные понятия о «верхе» и «низе» теряют смысл. В таком мире, как Икар, надо внушить себе, что «под» ногами у тебя самая настоящая планета, ты двигаешься над горизонтальной плоскостью. Стоит развеяться этому невинному самообману, и тебе грозит космическое головокружение.
И вот — внезапный приступ. Вдруг исчезло чувство, что Икар внизу, а звезды — вверху. Вселенная повернулась на девяносто градусов; Шеррард, словно альпинист, карабкался вверх по отвесной скале. И хотя разум говорил ему, что это чистейшая иллюзия, чувства решительно спорили с рассудком. Сейчас тяготение сорвет его со скалы, и он будет падать, падать милю за милей, пока не разобьется вдребезги!
Но мнимая вертикаль качнулась, будто компасная стрелка, потерявшая полюс, и вот уже над ним каменный свод, он словно муха на потолке. Миг — потолок опять стал стеной, но теперь астронавт неудержимо скользил по ней вниз, в пропасть…
Шеррард потерял власть над космокаром; обильный пот на лбу подтверждал, что он вот-вот утратит власть и над самим собой. Оставалось последнее средство. Плотно зажмурив глаза, он сжался в комок и стал внушать себе, что снаружи ничего нет, ничего!.. Он настолько сосредоточился на этой мысли, что до его сознания не сразу дошел негромкий стук нового столкновения.
Когда Колин Шеррард наконец решился открыть глаза, он увидел, что космокар уткнулся в каменный горб. Механические руки смягчили толчок — но какой ценой? Хотя капсула здесь была почти невесомой, пятьсот фунтов массы, двигаясь со скоростью около четырех миль в час, развили инерцию, которая оказалась чрезмерной для хрупких конечностей. Одна из них совсем сломалась, вторая безнадежно погнулась.
На мгновение ярость заглушила отчаяние. Он был уверен в успехе, когда космокар заскользил над безжизненной поверхностью Икара. И вот — полный крах из-за секундной физической слабости… Космос не делает человеку никаких скидок, кто об этом забывает, тому лучше сидеть дома.
Что ж, догоняя корабль, он выиграл у восхода драгоценное время, минут десять, если не больше. Десять минут. Что они ему принесут: продление мучительной агонии — или спасительную отсрочку, которая позволит товарищам найти его?
Скоро он узнает ответ.
Кстати, где они? Наверно, розыски уже начались! Шеррард устремил пристальный взгляд на яркую звезду корабля, надеясь увидеть на фоне медленно вращающегося небосвода огоньки идущих к нему на выручку космокаров. Увы, никого…
Значит, надо взвесить свои собственные скромные возможности. Через несколько минут «Прометей» уйдет за край астероида, исчезнут прожектора, будет полный мрак. Ненадолго. Но может быть, он еще успеет укрыться от наступающего дня? Вот эта глыба, на которую он налетел, — не годится?
Что ж, в ее тени и впрямь можно отсидеться до полудня. А там?.. Если Солнце пройдет как раз над Шеррардом, его ничто не спасет. Но ведь может оказаться, что он находится на такой широте, где Солнце в это время икарийского года, длящегося четыреста девять дней, не поднимается высоко над горизонтом. Тогда есть надежда выдержать несколько дневных часов. Больше надеяться не на что — конечно, если товарищи не разыщут его до рассвета.
Ушел за край света «Прометей», и тотчас сильнее засверкали звезды. Но всего ярче, такая прекрасная, что при одном взгляде на нее перехватывало горло, сияла Земля; вот и Луна рядом. На Земле Шеррард родился, по Луне ступал не раз — доведется ли ему когда-либо еще побывать на них?..
Странно, до этой секунды ему не приходила в голову мысль о жене и детях, обо всем том, чем он дорожил в такой далекой теперь земной жизни. Даже как-то стыдно. Впрочем, чувство вины тотчас- прошло. Ведь, несмотря на сто миллионов космических миль, разделивших ею и семью, узы любви не ослабли, просто сейчас было не до этого. Он превратился в примитивное существо, всецело поглощенное битвой за свою жизнь. Мозг был его единственным оружием в этом поединке, сердце могло только помешать, затуманить рассудок, подорвать решимость.
То, что Шеррард увидел в следующий миг, окончательно вытеснило все мысли о далеком доме. Над горизонтом позади него, словно обволакивая звезды молочным туманом, всплыл конус призрачного света — глашатай Солнца, его прекрасная жемчужная корона, видимая на Земле лишь во время полных солнечных затмений. Теперь совсем близка минута, когда Солнце поразит своим гневом этот маленький мир.
Предупреждение было кстати. Теперь Шеррард мог довольно точно определить, в какой точке появится Солнце; и астронавт, медленно, неуклюже перебирая обломками металлических рук, отполз туда, где глыба сулила ему лучшую тень. Едва он спрятался, как Солнце зверем набросилось на скалу, все вокруг словно взорвалось светом.
Шеррард поспешил перекрыть смотровое окошко темными фильтрами, чтобы защитить глаза. За пределами широкой тени, которую глыба отбрасывала на поверхность астероида, будто разверзлась раскаленная топка. Беспощадное сияние высветило каждую мелочь в окружающей пустыне. Никаких полутонов — слепящая белизна и кромешный мрак. Ямы и трещины напоминали чернильные лужи, а выступы точно объяло пламя, хотя с начала восхода прошла всего одна минута.
Неудивительно, что палящий зной миллиарды раз повторявшегося лета выжег из камня весь газ до последнего пузырька, превратив Икар в космическую головешку. «Что заставляет человека, — горько спросил себя Шеррард, — ценой таких затрат и риска пересекать межзвездные пучины ради того, чтобы попасть во вращающуюся гору шлака?» Он знал ответ: то самое, что некогда побуждало людей отправляться к полюсам, штурмовать Эверест, проникать в самые глухие уголки Земли. Приключения заставляли сердце биться чаще, открытия окрыляли душу. Эх, много ли радости в этом сознании теперь, когда он вот-вот будет, точно окорок, поджарен на вертеле Икара…
Первое дыхание зноя коснулось его лица. Глыба, подле которой лежал Колин Шеррард, заслоняла его от прямых солнечных лучей, но прозрачный пластик шлема пропускал тепло, отражаемое скалами. Чем выше Солнце, тем сильнее будет жар… И выходит, у него в запасе меньше времени, чем он думал.
Тупое отчаяние вытеснило страх; Шеррард решил, если хватит выдержки, — дождаться, когда солнечный свет падет на него. Как только термоизоляция космокара сдаст в неравном поединке — пробить отверстие в корпусе, выпустить воздух в межзвездный вакуум…
А пока можно еще поразмышлять несколько минут, прежде чем тень от глыбы растает под натиском света. Астронавт не стал насиловать мысли, дал им полную волю. Странно, он сейчас умрет лишь потому, что в сороковых годах, задолго до его рождения, кто-то из сотрудников Паломарской обсерватории высмотрел на фотопластинке пятнышко света; открыл и метко назвал астероид именем юноши, который взлетел слишком близко к Солнцу…
Быть может, вот тут, на вздувшейся волдырями равнине, когда-нибудь воздвигнут памятник. Интересно, что они напишут? «Здесь погиб во имя науки инженер-астронавт Колин Шеррард». Это про него-то, который не понимал и половины того, над чем корпели ученые!
А впрочем, они и его заразили своей страстью. Шеррард вспомнил случай, когда геологи, очистив обугленную корку астероида, обнажили и отполировали металлическую поверхность. И глазам их предстал странный узор, линии и черточки, вроде абстрактной живописи декадентов, которые вошли в моду после Пикассо. Но это были осмысленные линии: они запечатлели историю Икара, и геологи сумели ее прочесть. От ученых Шеррард узнал, что железокаменная глыба астероида не всегда одиноко парила в космосе. Некогда, в очень далеком прошлом, она испытала чудовищное давление, а это могло означать лишь одно: миллиарды лет назад Икар был частью огромного космического тела, быть может, планеты, подобной Земле. Почему-то планета взорвалась; Икар и тысячи других астероидов — осколки этого космического взрыва.
Даже сейчас, когда к нему подползала раскаленная полоса, Шеррард с волнением думал о том, что лежит на ядре погибшего мира, в котором, возможно, существовала органическая жизнь. Следовательно, его дух не один будет витать над Икаром; все-таки утешение.
Шлем затуманился. Ясно: охлаждение сдает. А честно послужило — даже сейчас, когда камни в нескольких метрах от него накалены докрасна, температура внутри капсулы вполне терпима. Конец охлаждающей установки будет и его концом.
Шеррард протянул руку к красному рычагу, который должен был лишить Солнце добычи. Но прежде чем нажать рычаг, хотелось в последний раз посмотреть на Землю. Он осторожно сдвинул фильтры так, чтобы они, по-прежнему защищая глаза от слепящих скал, не мешали глядеть на небо.
Звезды заметно поблекли, бессильные состязаться с сиянием короны. А как раз над глыбой — его ненадежным щитом — вздымался язык алого пламени, грозно указующий перст самого Солнца.
Последние секунды на исходе…
Вон Земля, вон Луна… Прощайте… Прощайте, друзья и близкие.
Солнечные лучи лизнули край космокара, и первое прикосновение огня заставило Шеррарда непроизвольно поджать ноги. Нелепое и бесполезное движение.
Но что это? В небе над ним, затмевая звезды, вспыхнул яркий свет. На огромной высоте парило, отражая солнечные лучи, исполинское зеркало. Вздор, этого не может быть. Галлюцинация, только и всего, пора кончать. Пот катил с него градом, через несколько секунд космокар превратится в печь, больше ждать невозможно.
Напрягая последние силы, Шеррард нажал рычаг аварийного люка, готовый встретить смерть.
Рычаг не поддался. Астронавт снова и снова нажимал рукоятку, но ее безнадежно заело. А он-то надеялся на легкую смерть, мгновенный милосердный конец…
Вдруг, осознав весь ужас своего положения, Колин Шеррард потерял власть над собой и закричат, словно зверь в западне.
Услышав тихий, но вполне отчетливый голос капитана Маклеллана, Шеррард сразу понял, что это новая галлюцинация. Все-таки чувство дисциплины и остатки самообладания заставили его взять себя в руки; стиснув зубы, астронавт слушал знакомый строгий голос.
— Шеррард! Держитесь! Мы вас запеленговали, только продолжайте кричать!
— Слышу! — завопил он. — Ради бога, поторопитесь! Я горю!
Рассудок еще не совсем покинул его, и он понял, что произошло… Пеньки обломанных антенн излучали в эфир слабенький сигнал, и спасатели услышали его крик, а раз он слышит их, значит, они совсем близко! Эта мысль придала ему сил.
Колин Шеррард напряг зрение, пытаясь сквозь туманный пластик разглядеть странное зеркало в небесах. Вот оно! И тут он сообразил, что обманчивость перспективы в космосе сбила его с толку. Зеркало не было исполинским и не парило на огромной высоте. Оно висело как раз над ним, быстро снижаясь.
Он еще продолжал кричать, когда зеркало заслонило собой лик восходящего Солнца и накрыто его благословенной тенью. Словно прохладный ветер из самого сердца зимы, пролетев многие километры над снегом и льдом, дохнул на него. Вблизи Шеррард сразу определил, что роль зеркала играл большой термоэкран из металлической фольги, поспешно снятый с какого-нибудь прибора. Тень от экрана позволила товарищам искать его, не боясь смертоносных лучей.
Держа одной парой рук экран, над глыбой парил двухместный космокар, две руки протянулись за Шеррардом. И хотя зной еще туманил голову и шлем, астронавт различил обращенное вниз встревоженное лицо капитана Маклеллана.
Так Колин Шеррард узнал, что значит родиться на свет. Конечно, ведь он все равно что заново родился! Предельно измученный, он не ощущал благодарности — это чувство придет потом, — но, отрываясь от раскаленного ложа, астронавт отыскал глазами яркий кружок Земли.
— Я здесь, — тихо произнес он. — Я возвращаюсь!
Он возвращался, заранее предвкушая, как будет радоваться всем прелестям мира, который считал утраченным навсегда. Впрочем, нет, не всем.
Он больше никогда не сможет радоваться лету.
До Эдема
Перевод Л. Жданова
— Похоже, что здесь дорога кончается, — сказал Джерри Гарфилд, выключая моторы.
Тихо вздохнув, насосы смолкли, и разведочный вездеход «Бродячий драндулет», лишившись воздушной подушки, лег на острые камни Гесперийского плато.
Дальше пути не было. Ни насосы, ни гусеницы не помогли бы «Р-5» (как официально назывался «Драндулет») одолеть выросший впереди эскарп. До Южного полюса Венеры оставалось всего тридцать миль, но с таким же успехом он мог находиться на другой планете. Хочешь не хочешь, надо возвращаться, снова идти все эти четыреста миль среди чудовищного ландшафта.
День был на диво ясный, видимость почти тысяча ярдов. Не требовалось никакого радара, чтобы следить за утесами, вырастающими на пути вездехода; на этот раз их было видно невооруженным глазом. Сквозь пелену туч, которая не разрывалась уже много миллионов лет, просачивался зеленый свет, будто в подводном царстве; к тому же вдали все расплывалось во мгле. Так и казалось порой, что вездеход скользит над морским дном, и Джерри то и дело чудились вверху, над головой, плывущие рыбины.
— Связаться с кораблем и передать, что возвращаемся? — спросил он.
— Погодите, — сказал доктор Хатчинс. — Надо подумать.
Джерри взглянул на третьего члена экипажа, надеясь на поддержку. Напрасно. Коулмен такой же одержимый, как Хатчинс. Как бы неистово они ни спорили между собой, оба оставались учеными, то есть — с точки зрения рассудительного инженера-штурмана — людьми, которые не всегда способны отвечать за свои поступки. И однако, если Коулу и Хатчу втемяшится в голову продолжать путь, ему останется только выполнять приказ, записав свой протест…
Хатчинс прошелся по тесной кабине, изучая карты и приборы. Потом направил прожектор вездехода на скальную стенку и стал внимательно разглядывать ее в бинокль.
«Не может быть, чтобы он потребовал от меня штурмовать эту скалу, — подумал Джерри. — «Р-5», как-никак, всего лишь вездеход, а не горный козел».
Вдруг Хатчинс что-то увидел. На миг задержав дыхание, он затем шумно выдохнул и повернулся к Коулмену.
— Посмотрите! — Его голос дрожал от волнения. — Чуть левее черного пятна! Что это, по-вашему?
Он передал Коулмену бинокль; теперь тот замер, всматриваясь.
— Черт возьми, — вымолвил он наконец. — Вы были правы. На Венере есть реки. Это след высохшего водопада.
— Учтите, за вами обед в «Бель Гурмете», как только вернемся в Кембридж. С шампанским!
— Запомню, не бойтесь. Да за такое открытие не только что обед!.. И все-таки ваши теории любой назовет сумасбродными.
— Стоп, стоп, — вмешался Джерри. — Какие еще тут реки-водопады? Каждый знает, что их на Венере нет и не может быть. В здешней бане такая жарища, пары никогда не сгущаются…
— Вы давно глядели на термометр? — вкрадчиво спросил Хатчинс.
— Тут только успевай вездеходом управлять!
— Тогда позвольте сообщить вам одну новость: сейчас около двухсот тридцати, а температура продолжает падать. По Фаренгейту точка кипения — двести двенадцать градусов. Не забывайте, мы почти у полюса, сейчас зима, и мы на высоте шестьдесят тысяч футов над равниной. Все вместе взятое дает такой скачок, что, если похолодает еще на несколько градусов, польет дождь. Кипящий, но все-таки дождь, вода, а не пар. А это, сколько бы Джордж ни упирался, совершенно меняет наше представление о Венере.
— Почему? — спросил Джерри, хотя он уже и сам догадался.
— Где есть вода, может быть жизнь. Мы излишне поторопились назвать Венеру бесплодной только потому, что средняя температура на поверхности превышает пятьсот градусов. Уже тут намного холоднее — вот почему я так рвусь к полюсу. Здесь, в горах, есть озера, и я хочу взглянуть на них.
— Но ведь кипящая вода! — возразил Коулмен — В ней ничто не может жить.
— На Земле есть водоросли, живут, И разве исследование планет не научило нас: везде, где только может возникнуть жизнь, она возникает. Пожалуйста, возможность, пусть единственная, налицо.
— Хотелось бы проверить вашу теорию. Но вы же видите: по этой скале не подняться.
— На вездеходе не подняться, верно. Но влезть самим по стенке вполне можно, даже в термокостюмах. Нам всего-то надо пройти несколько миль к полюсу. Главное — эту стенку одолеть. дальше местность ровная, это видно по радарным картам. Думаю, уложимся в… ну, от силы в двенадцать часов. Как будто мы не ходили дольше, и в куда более сложных условиях.
Это верно. Одежда, которая надежно защищает человека на равнинах Венеры, и подавно годится здесь, где температура всего на сотню градусов выше, чем летом в Долине Смерти на Земле.
— Хорошо, — сказал Коулмен. — вы знаете правила. Одному выходить нельзя, и кто-то должен оставаться в вездеходе, держать связь с кораблем. Как решим вопрос на этот раз: шахматы или карты?
— Шахматы слишком долго, — ответил Хатчинс, — особенно когда играете вы двое.
Из ящика штурманского столика он достал потрепанную колоду.
— Тяните, Джерри.
— Десятка пик. Ну-ка, побейте ее, Джордж.
— Постараюсь… Черт! Пятерка треф. Что ж, передайте привет от меня венерианцам.
Вопреки уверениям Хатчинса, стенка оказалась трудной. Не так уж и круто, но кислородный прибор, охлаждаемый термокостюм и научные приборы весили больше ста фунтов. Меньшая гравитация — на тринадцать процентов ниже земной — выручала, да не очень. Они карабкались по осыпям, отдыхали на уступах и снова карабкались в подводных сумерках. Зеленое сияние, которое озаряло все вокруг, было ярче света полной Луны на Земле. «Венере Луна ни к чему, — подумал Джерри. — Ее не увидишь сквозь тучи, и нет никаких океанов, чтобы управлять приливом-отливом, к тому же немеркнущее полярное сияние — гораздо более надежный источник света».
Они поднялись больше чем на две тысячи футов, когда стенка наконец сменилась отлогим склоном. Его исчертили канавы, явно промытые текущей водой. Поискав немного, они вышли к лощине, достаточно широкой и глубокой, чтобы ее можно было назвать руслом реки, и стали подниматься вдоль нее.
— Знаете, я о чем подумал, — сказал Джерри, пройдя несколько сот ярдов, — А не нарвемся мы на бурю? Не хотел бы я встретиться с валом кипящей воды.
— Если будет буря, — чуть раздраженно ответил Хатчинс, не останавливаясь, — мы издали ее услышим. Успеем подняться повыше.
Он прав, конечно, но Джерри от этого не стало легче. С той минуты, как они перевалили через гребень и потеряли радиосвязь с вездеходом, в его душе росла тревога. Непривычно и неприятно было оказаться оторванным от других людей. С Джерри это случилось впервые. Даже на борту «Утренней звезды», в сотнях миллионов миль от Земли, он мог отправить телеграмму своим близким и почти сразу получить ответ. А тут несколько ярдов скалы отрезали его от всего человечества; случись с ними что-нибудь, никто об этом не узнает, разве что другая экспедиция набредет на их тела. Джордж подождет, сколько условлено, и возвратится к кораблю один. «Нет, — сказал себе Джерри, — плохой из меня пионер космоса. Только любовь к хитрым машинам втравила меня в космические полеты… И некогда было даже задуматься, к чему это может привести. А теперь поздно».
Вдоль извилистого русла они прошли мили три к полюсу, наконец Хатчинс остановился, чтобы провести наблюдения и собрать образцы.
— Похолодание продолжается! — воскликнул он, — Сейчас уже сто девяносто девять градусов. Намного ниже самой низкой температуры, какую до сих пор отмечали на Венере. Вот бы связаться с Джорджем и рассказать ему!
Джерри проверил все волны, попробовал вызвать и корабль — прихотливые колебания ионосферы иногда допускали такую дальнюю связь, — но не мог даже уловить шороха несущей частоты сквозь треск и рокот гроз Венеры.
— А это будет даже еще поважнее! — В голосе Хатчинса звучало неподдельное волнение. — Концентрация кислорода возрастает: уже пятнадцать миллионных. У вездехода было всего пять, на равнине почти ничего.
— Но ведь это пятнадцать миллионный. — возразил Джерри. — Все равно нечем дышать!
— Вы не с того конца подходите, — отозвался Хатчинс, — никто им не дышит. Но что-то его образует. Откуда, по-вашему, взялся кислород на Земле? Он — продукт жизни, деятельности растений. Пока на Земле не появились растения, у нас была атмосфера вроде здешней, смесь углекислоты с аммиаком и метаном. Затем возникла растительность и постепенно изменила атмосферу, так что животным стало чем дышать.
— Понятно, — сказал Джерри. — И вы думаете, как раз это теперь началось здесь?
— Похоже, что так. Нечто неподалеку отсюда выделяет кислород. Самая простая догадка — здесь есть растительная жизнь.
— А где есть растения, — задумчиво произнес Джерри, — там, очевидно, рано или поздно появляются животные.
— Верно, — ответил Хатчинс, собирая свои приборы и продолжая путь вверх по лощине. — Правда, на это нужно несколько миллионов лет. Возможно, мы прилетели слишком рано. Жаль, если так.
— Все это здорово, — сказал Джерри, — но вдруг мы встретим что-нибудь такое, что нас невзлюбит? У нас нет оружия.
Хатчинс неодобрительно фыркнул.
— Оно нам не нужно! Да вы посмотрите хоть на меня, хоть на себя! Любой зверь при виде нас пустится наутек.
Что верно, то верно. Покрывающий их с ног до головы металлизированный костюм-рефлектор напоминал блестящие гибкие доспехи. Из шлемов и ранцев торчали антенны — ни одно насекомое не могло похвастаться такими усиками. А широкие линзы, через которые космонавты глядели на мир, напоминали чудовищные бездумные глаза. Земные животные вряд ли пожелали бы связываться с такими тварями, но у здешних могут быть свои представления.
Так думал Джерри, когда они неожиданно вышли к озеру. С первого взгляда оно навело его на мысль не о жизни, которую они искали, а о смерти. Оно простерлось черным зеркалом в складке между холмами, и дальний берег терялся в вечном тумане, а над поверхностью извивались и плясали призрачные вихри пара. «Не хватает только Харона, готового перевезти нас на ту сторону, — сказал себе Джерри. — Или Туонельского лебедя, чтобы он величественно плавал взад-вперед, охраняя врата преисподней…»
Но как ни взгляни, это чудо: впервые человек нашел на Венере воду в свободном состоянии! Хатчинс уже стоял на коленях, будто задумал молиться. Впрочем, он всего-навсего собирал капли драгоценной влаги, чтобы рассмотреть их через карманный микроскоп.
— Что-нибудь есть? — нетерпеливо спросил Джерри.
Хатчинс покачал головой.
— Если что и есть, то слишком мелкое для этого прибора. Вот вернемся на корабль, там я получше все разгляжу.
Он запечатал пробирку и положил ее в контейнер любовно, как геолог — золотой самородок. Быть может (и скорее всего), это самая обыкновенная вода. Но возможно также, что это целый мир, населенный неведомыми живыми созданиями, только-только ступившими на долгий, длиной в миллиарды лет, путь к разумной жизни.
Пройдя с десяток ярдов вдоль озера, Хатчинс остановился так внезапно, что Гарфилд едва не натолкнулся на него.
— В чем дело? — спросил Джерри. — Что-нибудь увидели?
— Вон то черное пятно, словно камень… Я его приметил еще до того, как мы вышли к озеру.
— Ну, и что с ним? По-моему, ничего необычного.
— Мне кажется, оно растет.
После Джерри всю жизнь вспоминал этот миг. Слова Хатчинса не вызвали у него никакого сомнения, он был готов поверить во что угодно, даже в то, что камни растут. Чувство уединенности и таинственности, угрюмое черное озеро, непрерывный рокот далеких гроз, зеленый свет полярного сияния — все это повлияло на его сознание, подготовило к приятию даже самого невероятного. Но страха он пока не ощущал.
Джерри взглянул на камень. Футов пятьсот до него, примерно… В этом тусклом изумрудном свете трудно судить о расстояниях и размерах. Камень… А может, еще что-то? Почти черная плита лежит горизонтально у самого гребня невысокой гряды. Рядом такое же пятно, только намного меньше. Джерри попытался прикинуть и запомнить расстояние между ними, чтобы проследить, меняется оно или нет.
И даже когда он заметил, что просвет между пятнами сокращается, это не вызвало у него тревоги, только напряженное любопытство. Лишь после того, как просвет совсем исчез и Джерри понял, что глаза подвели его, ему стало страшно — очень страшно.
Нет, это не движущийся и не растущий камень! Это черная волна, подвижный ковер, который медленно, но неотвратимо ползет через гребень прямо на них.
Ужас — леденящий, парализующий — владел им, к счастью, всего несколько секунд. Страх пошел на убыль, как только Гарфилд понял, что его вызвало. Надвигающаяся волна слишком живо напомнила ему прочитанный много лет назад рассказ о муравьиных полчищах в Амазонас, как они истребляют все на своем пути…
Но чем бы ни была эта волна, она ползла слишком медленно, чтобы серьезно угрожать им, — лишь бы она не отрезала их от вездехода. Хатчинс, не отрываясь, разглядывал ее в бинокль. «Биолог не трусит, — подумал Джерри. — С какой стати мне удирать сломя голову, курам на смех».
— Скажите же наконец — что это? — не выдержал он: до ползущего ковра оставалось всего около сотни ярдов, а Хатчинс все еще не вымолвил ни слова, не пошевельнул ни одним мускулом.
Хатчинс сбросил с себя оцепенение и ожил.
— Простите, — сказал он. — Я совершенно забыл о вас. Это — растение, что же еще. Так мне кажется, во всяком случае.
— Но оно движется!
— Ну и что? Земные растения тоже двигаются. Вы никогда не видели замедленных съемок плюща?
— Но плющ стоит на месте и никуда не ползет!
— А что вы скажете о растительном планктоне в океанах? Он плавает, перемещается, когда надо.
Джерри сдался; впрочем, наступающее на них чудо все равно лишило его дара речи.
Мысленно он продолжал называть его ковром. Ворсистый ковер с бахромой по краям, толщина которого все время менялась: тут не толще пленки, там — около фута, а то и больше. Вблизи строение было лучше видно, и он показался Джерри похожим на черный бархат. Интересно, какой он на ощупь? Но тут же Гарфилд сообразил, что «ковер» в лучшем случае обожжет ему пальцы. Внезапный шок часто влечет за собой приступ нервного веселья, и он поймал себя на мысли: «Если венерианцы существуют, с ними не поздороваешься за руку. Они нас ошпарят, мы их обморозим…»
Пока что оно их как будто не заметило, просто-напросто скользило вперед, как неодушевленная волна. Если бы оно не карабкалось через мелкие препятствия, его вполне можно было бы сравнить с потоком воды.
Вдруг, когда их разделяло всего десять футов, бархатная волна изменила свое движение. Правое и левое крыло продолжали скользить вперед, но середина медленно остановилась.
— Окружает нас, — встревожился Джерри. — Лучше отступить, пока мы не уверены, что оно безобидно.
К. его облегчению, Хатчинс тотчас сделал шаг назад. После короткой заминки странное существо снова двинулось с места, и изгиб в его передней части сгладился.
Тогда Хатчинс шагнул вперед — существо медленно отступило. Несколько раз биолог повторял свой маневр, и живой поток неизменно то наступал, то отступал в такт его движениям. «Никогда не думал, — сказал себе Джерри, — что мне доведется увидеть, как человек вальсирует с растением…»
— Термофобия, — произнес Хатчинс, — Чисто автоматическая реакция. Ему не нравится наше тепло.
— Наше тепло! — воскликнул Джерри. — Да ведь мы по сравнению с ним живые сосульки!
— Верно. А наши костюмы? Оно воспринимает их, не нас.
«Да, сглупил, — мысленно вздохнул Джерри, — Внутри термокостюма климат отменный, но ведь охлаждающая установка у меня за спиной выделяет в окружающий воздух струю жара. Неудивительно, что это растение отпрянуло».
— Проверим, как оно отзовется на свет, — продолжал Хатчинс.
Он включил фонарь на груди, и ослепительно белый свет оттеснил изумрудное сияние. До появления на Венере людей здесь даже днем не бывало белого света. Как в глубинах земных морей, царили зеленые сумерки, которые медленно сгущались в кромешный мрак.
Превращение было настолько ошеломляющим, что оба невольно вскрикнули. Глубокая, мягкая чернота толстого бархатного ковра мгновенно исчезла. Вместо нее там, куда падал свет фонаря, простерся, поражая глаз, великолепный, яркий красный покров, обрамленный золотистыми бликами. Ни один персидский шах не получал от своих ткачей столь изумительного гобелена, а ведь космонавты видели случайное творение биологических сил. Впрочем, пока они не включали своих фонарей, этих потрясающих красок вообще не существовало — и они снова исчезнут, едва прекратится волшебное действие чужеродного света с Земли.
— Тихов был прав, — пробормотал Хатчинс. — Жаль, не довелось ему убедиться.
— В чем прав? — спросил Джерри, хотя ему казалось святотатством говорить вслух перед лицом такой красоты.
— Пятьдесят лет назад, в Советском Союзе, он пришел к выводу, что растения, живущие в очень холодном климате, чаще всего бывают голубыми и фиолетовыми, а в очень жарких поясах — красными или оранжевыми. Он предсказал, что растения Марса окажутся фиолетовыми, а Венеры — если они там есть — красными. И в обоих случаях оказался прав. Но мы не можем стоять так весь день, надо работать!
— Вы уверены, что оно безвредно? — спросил Джерри на всякий случай.
— Совершенно. Оно не может коснуться наших костюмов, даже если бы захотело. Смотрите, уже обошло нас.
Правда! Теперь они видели его — если считать, что это одно растение, а не колония, — целиком. Неправильный круг диаметром около ста ярдов скользил прочь, как скользит по земле тень гонимого ветром облака. А там, где он прошел, скала была испещрена несчетным множеством крохотных отверстий, словно выеденных кислотой.
— Да-да, — подтвердил Хатчинс, когда Джерри сказал об этом, — так питаются некоторые лишайники. Выделяют кислоты, растворяющие камень. А теперь прошу — никаких вопросов больше, пока не вернемся на корабль. Тут работы на десятки лет, а у меня всего час-другой.
Ботаника в движении!.. Чувствительная бахрома огромного растениеподобного двигалась неожиданно быстро, спасаясь от них. Этакий оживший блин площадью в целый акр! Но когда Хатчинс стал брать образцы, растениеподобное никак не реагировало, если не считать, что струи тепла по-прежнему пугали его. Влекомое неведомым растительным инстинктом, оно упорно скользило вперед через бугры и лощины. Возможно, следовало за какой-нибудь минеральной жилой; на это ответят геологи, изучив образцы пород, которые Хатчинс собрал до и после прохождения живого ковра.
Сейчас некогда было размышлять над несчетными вопросами, которые вытекали из их открытия. Судя по тому, что они почти сразу набрели на это создание, оно здесь далеко не редкость. Как оно размножается? Побегами, спорами, делением или еще как-нибудь? Откуда берет энергию? Какие у него есть родичи, враги, паразиты? Оно не может быть единственной формой жизни на Венере — где есть один вид, должны быть тысячи…
Голод и усталость заставили их прекратить погоню. Это творение явно было способно проесть себе дорогу через всю Венеру. (Правда, Хатчинс полагал, что оно не уходит далеко от озера, так как растениеподобное то и дело спускалось к воде и погружало в нее длинное щупальце-хобот.) Но представители фауны Земли нуждались в отдыхе.
Хорошо надуть герметичную палатку, забраться через воздушный шлюз внутрь и сбросить термокостюмы. Лишь теперь, отдыхая внутри маленького пластикового полушария, они по-настоящему осознали, какое чудо им встретилось и как это важно. Окружающий их мир был уже не тем, что прежде; Венера не мертва, она стала в ряд с Землей и Марсом.
Ибо живое взывает к живому — даже через космические бездны. Все, что растет, движется на поверхности других планет — предвестье, залог того, что человек не одинок в мире пламенных солнц и вихревых туманностей. Если он до сих пор не нашел товарищей, с которыми мог бы разговаривать, это лишь естественно: впереди, ожидая исследователей, простерлись еще световые годы и века. Пока же долг человека охранять и лелеять те проявления жизни, которые ему известны, будь то на Земле, на Марсе или на Венере…
Так говорил себе Грэхем Хатчинс, самый счастливый биолог во всей Солнечной системе, помогая Гарфилду собрать мусор и уложить его в пластиковый мешочек. Когда они, сняв палатку, двинулись в обратный путь, нигде не было видно никаких следов поразительного создания. И слава богу, не то бы они, наверное, не удержались, продолжали бы свои эксперименты, а ведь их срок уже истекал.
Ничего: через несколько месяцев посланники нетерпеливо ждущей Земли вернутся с целым отрядом научных сотрудников, оснащенные куда более совершенным снаряжением. Миллиард лет трудилась эволюция, чтобы сделать возможной эту встречу; она может подождать еще немного.
Некоторое время все было неподвижно в отливающем зеленью мглистом краю. Ушли люди, скрылся алый ковер… И вдруг существо показалось снова, перевалив через выветренную гряду. А может быть, то была другая особь удивительного вида? Этого никто никогда не узнает.
Оно скатилось к груде камней, под которыми Хатчинс и Гарфилд погребли мусор. Остановилось.
Это не было любопытством, ведь оно не могло мыслить. Но химическая жажда, которая неотступно гнала его вперед и вперед через полярное плато, кричала: «Здесь, здесь!» Где-то рядом — самое дорогое, нужное ему питательное вещество. Фосфор, элемент, без которого никогда бы не вспыхнула искра жизни. И оно стало тыкаться в камни, просачиваться в щели и трещины, скрести и царапать пытливыми щупальцами. Любое из этих движений было доступно любому растению или дереву на Земле, с той разницей, что это существо двигалось в тысячу раз быстрее, и всего лишь несколько минут понадобилось ему, чтобы достичь цели и проникнуть сквозь пластиковую пленку.
И оно устроило пир, поглощая самую концентрированную пишу, какую когда-либо находило. Оно поглотило углеводороды, и белки, и фосфаты, никотин из окурков, целлюлозу из бумажных стаканов и ложек. Все это оно растворило и усвоило — без труда и без вреда для себя.
Одновременно оно поглотило целый микрокосм живых существ: бактерии и вирусы, обитатели более старой планеты, где развились тысячи смертоносных разновидностей… Правда, лишь некоторые из них смогли выжить в таком пекле и в такой атмосфере, но этого было достаточно. Отползая назад, к озеру, живой ковер нес в себе погибель всему своему миру.
И когда «Утренняя звезда» вышла в обратный путь к далекому дому, Венера уже умирала. Пленки, негативы и образцы, которые так радовали Хатчинса, были драгоценнее, чем он предполагал. Им было суждено остаться единственными свидетельствами третьей попытки жизни утвердиться в Солнечной системе.
Закончилась история творения под пеленой облаков Венеры.
Из солнечного чрева
Перевод Л. Жданова
Если вы жили только на Земле, вы не видели Солнца. Конечно, мы смотрели на него не прямо, а через мощные фильтры, которые умеряли его яркость, делая ее терпимой для глаз. Солнце неизменно висело над низкими зазубренными утесами к западу от обсерватории, не восходя и не заходя, лишь описывая небольшой круг на небе за год, который в нашем маленьком мире длился восемьдесят восемь земных дней. Не совсем верно говорить о Меркурии, что он всегда обращен к Солнцу одной стороной: планета чуть покачивается на своей оси, поэтому есть узкий сумеречный пояс, где применимы такие обычные земные понятия, как утренняя и вечерняя заря.
Мы находились на краю сумеречной области; можно было воспользоваться прохладными тенями и вместе с тем постоянно наблюдать Солнце, парящее над утесами. Круглосуточная работа для пяти десятков астрономов и иных научных сотрудников; лет через сто мы, возможно, будем кое-что знать о небольшой звезде, давшей Земле жизнь.
Не было той области солнечного излучения, исследованию которой не посвятил бы свою жизнь кто-нибудь из сотрудников обсерватории; и уж следили мы. как коршуны. От рентгеновских лучей до самых длинных радиоволн — на всех частотах мы расставили свои ловушки и капканы; стоило Солнцу придумать что-нибудь новое — мы уж т>т как тут. Так мы полагали…
Пытающее сердце Солнца пульсирует в медленном, одиннадцатилетнем ритме, и как раз приближалась вершина цикла. Два пятна, чуть ли не самые крупные, какие когда-либо наблюдались (одно из них — достаточно большое, чтобы поглотить сто земных шаров), проплыли вдоль солнечного диска, словно исполинские черные воронки, уходящие дате ко в глубь беспокойных верхних слоев звезды. Разумеется, черными они казались только рядом с окружающим их ослепительным сиянием; даже их темные, прохладные ядра жарче и ярче вольтовой дуги. Мы как раз проследили, как второе пятно исчезло за краем диска (интересно, уцелеет ли оно, появится ли вновь — через две недели), и вдруг на экваторе выросла шапка взрыва!
Сперва зрелище было не особенно эффектное, потому что выброс произошел как раз в середине солнечного диска. Случись он возле края, с проекцией на космос, картина, наверно, была бы потрясающая.
Представьте себе одновременный взрыв миллиона водородных бомб. Не можете? Никто не может. И однако же нечто в этом роде видели мы. Прямо к нам из вращающегося солнечного экватора со скоростью сотен миль в секунду мчалось выброшенное взрывом вещество. Сперва — узкой струей, однако края струи быстро превратились в бахрому под действием противоборствующих ей магнитных и гравитационных сил. Но ядро летело дальше, и вскоре стало очевидно, что оно совсем оторвалось от Солнца и устремилось в космос, причем мы — его ближайшая мишень.
Хотя такое случалось уже не раз, мы всегда одинаково волновались. Ведь можно будет поймать толику солнечного вещества летящего с гигантским облаком ионизированного газа. Опасности никакой: пока вещество достигнет нас, оно окажется слишком разреженным, вреда не причинит. Больше того, нужны очень чувствительные приборы, чтобы вообще его обнаружить.
Одним из таких приборов был радар обсерватории; он постоянно нащупывал невидимые ионизированные слои, на миллионы миль опоясавшие Солнце. Это была моя работа. И как только появилась надежда выделить на фоне Солнца надвигающееся облако, я направил на него свое гигантское «радиозеркало».
Вот он, отчетливо виден на «дальнобойном» экране — огромный лучезарный остров, удаляющийся от Солнца со скоростью сотен миль в секунду. Пока не видно никаких подробностей, уж слишком далеко. Волны радара не одну минуту тратили на то, чтобы проделать путь в оба конца и доставить информацию на мой экран. Несмотря на скорость — около миллиона миль в час, — вырвавшийся протуберанец лишь через двое суток достигнет орбиты Меркурия и умчится дальше, к другим планетам. Но ни Венера, ни Земля не отметят его прохождения, так как он пролетит в стороне от них.
Шли часы. Солнце утихомирилось после непостижимой конвульсии, которая безвозвратно извергла столько миллионов тонн материи в межпланетное пространство. А вскоре медленно извивающееся и вращающееся облако размером в сто раз больше Земли окажется достаточно близко, чтобы радар показал нам его строение.
Сколько лет я здесь работаю, а до сих пор не могу без волнения видеть, как светящийся след, сопряженный с пучком радиоволн передатчика, рисует изображение на экране. Я иногда кажусь себе слепцом, который прощупывает окружающее его пространство палкой длиной в сто миллионов миль. Ведь человек и впрямь слеп, если говорить о предметах, которые я изучаю. Исполинские облака ионизированного газа, улетающие далеко прочь от Солнца, вовсе невидимы глазу, их не заметит даже самая чувствительная фотографическая пластинка. Они — призраки, всего лишь несколько часов витающие в Солнечной системе, Если бы они не отражали волн, излученных нашими радарами, и не влияли на наши магнитометры, мы бы о них и не знали.
Изображение на экране напоминало фотоснимок спиральной туманности: медленно вращаясь, облако на десятки тысяч миль вокруг разбросало лохматые щупальца газа. А можно сравнить его с наблюдаемым сверху циклоном в атмосфере Земли. Внутреннее строение облака было чрезвычайно сложно, и оно ежеминутно менялось под воздействием сил, далеко не изученных нами. Реки огня скользили в причудливых руслах, которые могли быть созданы только электрическими полями. Но почему они возникали из ничего и вновь исчезали, точно происходило сотворение и уничтожение материи? И что это за мерцающие гранулы, каждая размером больше Луны, подобные валунам в бурном потоке?
Уже меньше миллиона миль отделяло облако от нас; еще какой-нибудь час, и оно будет здесь. Автоматические съемочные камеры фиксировали каждый кадр на экране радара, накапливая свидетельства, которых нам хватило на много лет спора. Магнитное возмущение, опережающее облако, уже достигло нас; кажется, во всей обсерватории не было прибора, который так или иначе не отзывался бы на стремительное приближение призрака.
Я изменил настройку радара; сразу изображение выросло настолько, что на экране умещалась только его центральная часть.
Одновременно я стал менять частоту импульсов, стараясь различить слои. Чем короче волна, тем глубже можно проникнуть в толщу ионизированного газа. Таким способом я надеялся получить своего рода рентгеновский снимок внутренности облака.
Казалось, оно меняется у меня на глазах по мере того, как я проникал сквозь разреженную оболочку с ее щупальцами и приближался к более плотному ядру. Слово «плотный» применимо здесь, конечно, лишь относительно; по нашим земным меркам даже самые компактные участки облака были вакуумом. Я почти достиг предела моей шкалы частот и уже не мог получать более коротких волн, когда приметил почти посредине экрана необычный по виду яркий след отраженного сигнала.
Он был овальный, с четко очерченными краями, гораздо более ясный, чем «гранулы» газа, которые мы видели в струях пламенного потока. С первого взгляда я понял — это что-то странное, необычное, такого еще никто не наблюдал. Электронный луч нарисовал еще дюжину кадров, наконец я подозвал своего ассистента, который стоял у радиоспектрографа, определяя скорости летящих к нам газовых вихрей.
— Глянь-ка. Дон, — сказал я ему. — Видел ты когда-нибудь что-либо подобное?
— Нет, — ответил он, приглядевшись. — Какие силы его образуют? Вот уже две минуты очертания не меняются.
— Это-то меня и озадачивает. Что бы это ни было, ему давно пора распадаться, такая свистопляска вокруг! А оно все остается неизменным.
— А размеры его, по-твоему?
Я включил шкалу и быстро снял показания.
— Длина около пятисот миль, ширина вдвое меньше.
— А покрупнее сделать нельзя?
— Боюсь, что нет. Придется подождать — подойдет ближе, тогда и разглядим, откуда такая плотность.
Дон нервно усмехнулся.
— Нелепо, конечно, — сказал он, — но знаешь, что оно мне напоминает? Точно я разглядываю в микроскоп амебу.
Я не ответил: та же мысль, будто откуда-то извне, пронизала мое сознание.
Мы даже позабыли об остальной части облака, но, к счастью, автоматические камеры продолжали свою работу и ничего не упустили. А мы не сводили глаз с ясно очерченной газовой чечевицы, которая, поминутно увеличиваясь на экране, мчалась к нам. И когда до облака оставалось не больше, чем от Земли до Луны, стали выделяться первые подробности внутреннего строения. Это было какое-то странное крапчатое образование, и каждый последующий кадр развертки давал иную, новую картину.
Уже половина сотрудников обсерватории столпилась в радарной, но царила тишина, все смотрели, как на экране стремительно растет загадка. Она летела прямо на нас; еще несколько минут — и «амеба» столкнется с Меркурием где-то в его дневной части. Столкнется и погибнет. От первого детального изображения и до той секунды, когда экран снова опустел, прошло не больше пяти минут. Эти пять минут на всю жизнь запомнились каждому из нас.
Мы видели некий прозрачный овал, внутренность которого была пронизана сетью едва видимых линий. В местах пересечения линий словно пульсировали крохотные узелки света. А может быть, это нам только почудилось? Ведь радар тратил почти минуту на то, чтобы дать на экране полное изображение, а объект успевал за это время переместиться на несколько тысяч миль.
Но сетка существовала, в этом никто не сомневался, и камеры ясно ее запечатлели.
Иллюзия, будто мы смотрим на нечто плотное, была настолько сильна, что я на секунду оторвался от экрана радара и поспешно навел резкость направленного в небо оптического телескопа. Конечно, я ничего не увидел, даже намека на какой-нибудь силуэт на фоне помеченного оспинами солнечного диска. Это был один из тех случаев, когда глаз оказывается бессильным и только электрические органы чувств радара могут что-то уловить. Летящий к нам из солнечного чрева предмет был прозрачным, как воздух, и куда более разреженным.
Истекали последние секунды; и мы все — я уверен — уже пришли к одному и тому же выводу, ждали только, кто первый его выскажет. Да, это невозможно — и все-таки доказательство у нас перед глазами… Мы видели жизнь там, где жизнь существовать не может!
Извержение вырвало это создание из его обычной среды в недрах пылающей атмосферы Солнца. Оно чудом пережило долгое, путешествие в космосе, но теперь, видимо, умирало, по мере того как силы, управляющие исполинским невидимым телом, теряли власть над ионизированным газом, его единственной субстанцией.
Теперь, когда я сотни раз просмотрел заснятые пленки, мысль эта уже не кажется мне столь необычной. Ведь что такое жизнь, как не организованная энергия? Что за энергия, не так уж важно — химическая, известная нам по Земле или чисто электрическая, как это, видимо, было тут… Не род субстанции главное, а ее организация. Но тогда я не думал об этом. Потрясенный сознанием великого чуда, я смотрел, как доживает последние секунды это детище Солнца.
Было ли оно разумным? Понимало ли, какой необычный рок его постиг? Можно задать тысячу подобных вопросов, и никогда не получить на них ответа. Трудно допустить, чтобы создание, родившееся в горниле самого Солнца, могло что-либо знать о внешней вселенной или хотя бы вообразить нечто столь невыразимо холодное, как жесткая негазообразная материя. Падающий на нас из космоса живой остров не мог, будь он трижды разумен, представить себе мир, к которому так стремительно приближался.
Уже он заполнил наше небо и, быть может, в эти последние секунды понял, что впереди появилось что-то необычное. То ли воспринял обширное магнитное поле Меркурия, то ли ощутил рывок гравитационных сил нашего маленького мира. Во всяком случае, он стал меняться: светящиеся волокна (хочется сравнить их с нервной системой) стягивались вместе, образуя новые узоры, смысл которых я бы не прочь разгадать. Быть может, я заглянул в мозг не наделенного разумом чудовища, охваченного страхом, или небожителя, который прощался со вселенной…
И вот экран радара пуст, светящийся след все с него стер в своем беге. Создание упало за пределами нашего горизонта, скрытое кривизной планеты. Где-то на жаркой дневной стороне Меркурия, в аду, куда сумело проникнуть всего человек десять — и еще меньше вернулось живыми, — оно незримо и беззвучно разбилось о моря расплавленного металла, о горы медленно ползущей лавы. Сам по себе удар для такого существа не играл никакой роли, но встреча с непостижимым холодом плотной материи оказалась роковой.
Да, да, холодом. Оно упало в самом жарком месте Солнечной системы, температура здесь никогда не опускается ниже семисот градусов по Фаренгейту, а порой достигает и тысячи. Но для него это было несравненно холоднее, чем для обнаженного человека самая суровая арктическая зима.
Мы не видели его смерти в леденящем пламени, существо очутилось за пределами досягаемости наших приборов, ни один из них не зарегистрировал кончины. И все-таки каждый из нас знал, когда наступила та секунда, вот почему мы безучастно слушаем тех, кто смотрел только фильмы, но уверяют нас, будто мы наблюдали обыкновенное природное явление.
Как описать, что мы ощущали в тот последний миг, когда половина нашего маленького мира была опутана распадающимися щупальцами исполинского, хотя и бестелесного мозга? Могу только сказать, что это было вроде беззвучного крика, исполненного предельной тоски, выражение смертной муки, которое проникло в наше сознание, минуя ворота чувств. Ни тогда, ни после никто из нас не сомневался, что был свидетелем гибели гиганта.
Быть может, мы первые и последние люди, кому довелось наблюдать столь величественную кончину. Кем бы они ни были, эти обитатели невообразимого мира в солнечных недрах, возможно, что наши пути уже никогда более не скрестятся. Трудно представить себе, чтобы мы могли вступить в контакте ними, даже если их разум превосходит наш.
И так ли это? Может быть, нам же лучше не знать ответа… Возможно, они живут внутри Солнца со времени зарождения вселенной и достигли таких вершин мудрости, на какие нам никогда не подняться. Быть может, будущее принадлежит им, а не нам, быть может, они уже переговариваются через тысячи световых лет со своими собратьями внутри других звезд.
Настанет, возможно, день, когда они посредством того или иного присущего им особенного чувства обнаружат нас, вращающихся вокруг их могучей древней родины, нас, гордых своими знаниями, почитающих себя властелинами мироздания. И возможно, открытие их не обрадует, ведь для них мы будем всего лишь червяками, точащими кору планет, которые чересчур холодны, чтобы своими силами очиститься от заразы органической жизни.
И тогда, если это в их силах, они сделают то, что сочтут нужным. Солнце покажет свою мощь и оближет лица своих детей, и планеты продолжат путь такими, какими были изначально: чистыми, гладкими… и стерильными.
Солнечный ветер
Перевод Л. Жданова
Снасти дрожали от натуги: межпланетный ветер уже наполнил огромный круглый парус. До старта оставалось три минуты, а у Джона Мертона на душе был мир и покой, какого он целый год не испытывал. Что бы ни случилось, когда коммодор даст сигнал стартовать, главное будет достигнуто — независимо от того, приведет его «Диана» к победе или к поражению. Всю жизнь он конструировал для других; теперь наконец-то сам поведет свой корабль.
— Две минуты до старта, — сказал динамик. — Прошу подтвердить готовность.
Один за другим отвечали капитаны. Мертон узнавал голоса, то взволнованные, то спокойные, — голоса его друзей и соперников. На четырех обитаемых планетах наберется от силы два десятка человек, умеющих управлять солнечной яхтой, и все они сейчас здесь кто на линии старта, кто на борту эскортирующих судов, кружатся вместе по орбите в двадцати двух тысячах миль над экватором.
— Номер один, «Паутина», готов!
— Номер два, «Санта-Мария», все в порядке.
— Номер три, «Солнечный луч», порядок.
— Номер четыре, «Вумера», все системы в норме.
Мертон улыбнулся, услышав этот отголосок старины. Так докладывали еще на заре космонавтики, и это вошло в свод традиций. Бывают случаи, когда человеку хочется вызвать к жизни тени тех, кто до него уходил к звездам.
— Номер пять, «Лебедев», мы готовы.
— Номер шесть, «Арахна», порядок.
Теперь очередь его, замыкающего. Странно подумать, что слова, которые он произнесет в этой маленькой кабине, услышат пять миллиардов людей.
— Номер семь, «Диана», готов к старту.
— Подтверждаю с первого по седьмой, — ответил безличный голос с судейского катера. — До старта одна минута.
Мертон слушал вполуха; он в последний раз проверял натяжение фалов. Стрелки всех динамометров замерли неподвижно, зеркальная гладь исполинского паруса блестела и искрилась на солнце.
Невесомо парящему у перископа Мертону казалось, что парус заслонил все небо. Ничего удивительного — пятьдесят миллионов квадратных футов соединено с его капсулой чуть не сотней миль такелажа. Если бы сшить вместе паруса всех клиперов, какие в прошлом белыми тучками летели над Индийским океаном, то и тогда они не сравнялись бы с парусом, в который «Диана» ловила солнечный ветер. А вещества в нем чуть больше, чем в мыльном пузыре: толщина этих двух квадратных миль алюминированного пластика всего лишь несколько миллионных дюйма.
— До старта десять секунд. Все съемочные камеры включить.
Такой огромный и вместе с тем такой хрупкий — уму непостижимо! Еще труднее освоиться с мыслью, что это тончайшее зеркало одной только силой уловленных им солнечных лучей может оторвать «Диану» от Земли.
— …пять… четыре… три… два… один… руби!
Семь сверкающих ножей перерезали семь тонких линий, привязывавших яхты к базам, на которых их собрали и обслуживали. До этой секунды все в строгом строю летели вокруг Земли; теперь яхты начнут расходиться, словно влекомые ветром семена одуванчика. Победит та, которая первой достигнет орбиты Луны.
На «Диане» как будто ничего не изменилось. Но Мертон знал, что это не так. Хотя он не ощущал тяги, приборная доска говорила ему, что ускорение приближается к одной тысячной g. Для ракеты смехотворно мало, но для солнечных яхт это было рекордом. «Диана» хорошо сконструирована, огромный парус оправдывает надежды, которые он на него возлагал. При таком ускорении после двух кругов он разовьет достаточную скорость, чтобы покинуть околоземную орбиту. А затем, подгоняемый всей мощью Солнца, пойдет курсом на Луну.
Вся мощь Солнца. Он усмехнулся, вспоминая, как пытался растолковать на лекциях там, на Земле, что такое солнечный ветер. Тогда лекции были для него единственным способом заработать деньги на свои личные опыты; он был главным конструктором «Космодайн корпорейшн», создал немало космических кораблей, но его хобби фирму не увлекало.
— Протяните ладони к Солнцу, — говорил он. — Что вы чувствуете? Тепло, конечно. Но кроме него есть еще давление. Правда, такое слабое, что вы его не замечаете. На площадь ваших ладоней приходится всего около одной миллионной унции. Но в космосе даже такая малая величина играет роль, потому что она действует все время, час за часом, день за днем. И запас энергии, в отличие от ракетного горючего, не ограничен. При желании можно ее использовать. Мы можем создать паруса, которые будут улавливать солнечное излучение.
Тут он доставал кусок легкой материи в несколько квадратных ярдов и подбрасывал его в воздух. Влекомая теплыми токами воздуха, серебристая пленка, струясь и извиваясь, словно дым, медленно всплывала к потолку.
— Видите, какая легкая, — продолжал Мертон. — Квадратная миля весит только одну тонну, а лучевое давление на такую площадь достигает пяти фунтов. Парус будет двигаться, и нас потянет, если мы его запряжем. Конечно, ускорение будет очень мало, около одной тысячной g. На первый взгляд пустяк, но посмотрим, что это значит. За секунду мы продвинемся на одну пятую дюйма. Обычная улитка и то проходит больше. Но уже через минуту мы покроем шестьдесят футов и разовьем скорость более мили в час. Неплохо для аппарата, который приводится в движение солнечным светом! За час мы удалимся от исходной точки на сорок миль, скорость достигнет восьмидесяти миль в час. Не забывайте, в космосе нет трения. Стоит что-нибудь стронуть с места, потом так и будет лететь. Вы удивитесь, когда я вам скажу, что такое одна тысячная g. за сутки парусник разовьет скорость две тысячи миль в час. Если стартовать с околоземной орбиты — а другого способа нет, — за два дня будет достигнута вторая космическая скорость. И все это без единой капли горючего.
Он убедил своих слушателей: в конце концов ему удалось убедить и «Космодайн». За последние двадцать лет возник и развился новый спорт. Его, не без оснований, называли спортом миллиардеров, но теперь он стал окупаться благодаря печати и телевидению. Взять, к примеру, нынешние гонки: на карту поставлен престиж четырех континентов и двух планет, и число зрителей превзошло все рекорды.
«Диана» хорошо начала гонки; теперь можно взглянуть и на соперников. Соблюдая предельную осторожность (надежные амортизаторы отделяли капсулу от тонких снастей, но он предпочитал не рисковать), Мертон переместился к перископу.
Вот они, будто невиданные серебристые цветки среди черных полей космоса. Ближе всех — каких-нибудь пятьдесят миль — южноамериканская «Санта-Мария», очень похожая на воздушного змея, только размеры не те: длина стороны — миля с лишним. Несколько дальше — «Лебедев», сконструированный Астроградским университетом и напоминающий мальтийский крест; четыре крыла по его краям, очевидно, можно поворачивать для перемены курса. «Вумера», снаряженная Федерацией Австралазии, — обыкновенный парашют четырех миль в поперечнике. «Арахна» (яхта Главного космического комбината), в полном соответствии со своим именем, похожа на паутину и собрана по тому же принципу: из центра по спирали расходятся автоматически управляемые перепонки. Точно так же, только размером поменьше, сделана «Паутина» Еврокосмоса. Присланный Марсианской республикой «Солнечный луч» представлял собой плоское кольцо с полумильным отверстием; кольцо медленно вращается, и центробежная сила придает ему устойчивость. Идея старая, но никому еще не удавалось успешно осуществить ее. Мертон мог бы поклясться, что экипаж помучается с парусом, когда надо будет поворачивать.
Правда, осталось еще шесть часов до той поры, когда яхты завершат первую четверть своего медленного, величавого полета по суточной орбите. Сейчас, в самом начале гонок, они идут от Солнца, так сказать, с попутным солнечным ветром. Надо выжать все из этого галса, пока яхты не обогнут Землю и Солнце не окажется впереди.
На этой стадии навигация не требовала от него внимания, и Мертон решил сделать первую проверку. Он тщательно осмотрел парус, подолгу останавливая перископ на точках, где снасть крепилась к парусу. Фалы — узкие полосы неметаллизированной пластиковой пленки были бы совсем невидимы, если бы не флюоресцирующая краска. Сейчас они казались протянувшимися на сотни ярдов упругими разноцветными лучами; каждая пленка управлялась своим электрическим брашпилем, чуть больше катушки спиннинга. Эти крохотные брашпили непрерывно вращались, то выдавая, то выбирая фалы по команде автопилота, который держал парус под нужным углом к Солнцу.
Нельзя не залюбоваться переливами солнечных лучей на этом исполинском гибком зеркале… Оно медленно колыхалось, вибрировало, и множество отражений светила бежало по нему, теряясь у кромки паруса. Эта вибрация неизбежна; как правило, она ничем не грозила хрупкой конструкции, но Мертон был начеку. Иногда колебание переходит в зловещее биение, от которого парус рвется в клочья.
Убедившись, что все в порядке, он снова стал ловить перископом своих соперников. Как он и думал, «прополка» уже идет, менее совершенные яхты отстают. Но настоящая проверка их качеств начнется, когда они войдут в тень Земли и маневренность будет играть такую же роль, как скорость.
Казалось бы, не самое сейчас подходящее время — гонки только что начались, — но не худо было вздремнуть. На других яхтах по два человека, они могут чередоваться, а Мертона некому подменить. Он может положиться лишь на свои собственные силы, как Джошуа Слокум, который в одиночку провел вокруг света свою крохотную «Спрэй».
Мертон пристегнул к креслу ноги и пояс эластичными ремнями, потом надел на лоб электроды усыпляющего устройства. Включил реле времени на три часа и закрыл глаза.
Электрические импульсы нежно гладили лобные доли мозга; перед глазами, навевая сон, поплыли цветные спирали.
— Номер шесть, «Арахна», порядок.
Назойливый сигнал тревоги вырвал его из крепкой хватки сна.
Он тотчас скользнул взглядом по приборной доске. Прошло всего два часа, но над акселерометром мигал красный огонек. Пропала тяга, «Диана» теряла скорость.
Первой мыслью Мертона было — что-то с парусом! Наверно, отказало противовращательное устройство и запутались фалы. Он посмотрел на приборы, отмечающие натяжение снастей. Странно: один край паруса в полном порядке, зато вдоль другого края приборы показывают ослабление тяги.
Вдруг Мертона осенило, и он прильнул к перископу. Ну, конечно, в этом вся закавыка.
Огромная, резко очерченная тень наползала на отливающий серебром парус. Мрак грозил окутать «Диану», словно между ней и Солнцем появилась туча. А в темноте, без солнечных лучей, яхта потеряет скорость и начнет беспомощно дрейфовать.
Но какие же тучи здесь, в двадцати тысячах миль от Земли? Если появилась тень, она создана человеком.
Усмехнувшись, Мертон навел перископ на Солнце; одновременно он установил фильтры, позволяющие без вреда для глаз смотреть на ослепительный лик светила.
— Маневр четыре-a, — пробурчал он, — Ладно, посмотрим, кто кого.
Казалось, огромная планета наползает на солнечный диск, уже накрыла его край черным сегментом. Это «Паутина», шедшая в двадцати милях за Мертоном, пыталась специально для «Дианы» сотворить искусственное затмение.
Вполне дозволенный прием. В старину, когда устраивали парусные гонки на море, капитаны частенько старались перехватить друг у друга ветер.
Но Мертон не думал легко сдаваться. Настал миг для контрдействий.
Маленькая счетная машина «Дианы» — всего со спичечную коробку, но заменяет тысячу вычислителей — подумала ровно секунду, после чего выдала ответ. Придется с помощью панелей управления 3 и 4 развернуть парус под углом двадцать градусов; тогда световое давление вынесет его из опасной тени «Паутины» и откроется все Солнце. Жалко нарушать работу автопилота, тщательно запрограммированного с таким расчетом, чтобы обеспечить высшую скорость, но на то он и сидит здесь. Благодаря таким вот минутам солнечные гонки остаются спортом, а не поединком электронных машин.
Он вытравил лини 1–6. Натяжение сразу ослабло, и они начали извиваться, словно сонные змеи. В двух милях от капсулы медленно приоткрылись треугольные секции, пропуская солнечный свет. Но еще долго все оставалось по-прежнему. Трудно привыкнуть к этому миру замедленного движения, где проходит несколько минут, прежде чем твои действия производят зримый эффект. Наконец Мертон увидел, что парус наклонился к Солнцу: тень «Паутины» отступила, и темный конус растворился в космическом мраке.
Задолго до того, как тень ушла совсем и Солнце очистилось, он выровнял парус и вернул «Диану» на прежний курс. Инерция вынесет яхту из опасной полосы, незачем перебарщивать и ломать все расчеты, вильнув слишком далеко в сторону. Вот еще правило, которое нелегко усвоить: едва ты начал какой-нибудь маневр в космосе, как уже пора думать о его прекращении.
Он снова включил сигнальное реле, готовый преодолеть любое — естественное или подстроенное — препятствие; может быть, «Паутина» или кто-нибудь другой из соперников попробуют повторить этот трюк. А пока можно и перекусить, хотя особенного голода он не ощущал. В космосе расход физических сил невелик, не мудрено забыть про еду. Но это опасно: в случае неожиданных затруднений может не хватить энергии, чтобы справиться с ними.
Он вскрыл первый пакет с едой и без особого восторга изучил его содержимое. Одного названия — «Космопаек» достаточно, чтобы отбить аппетит… И он не очень-то полагался на вторую надпись: «Отсутствие крошек гарантируется». А крошки, говорят, для космического экипажа опаснее метеоритов. Летая по кабине, они могут вызвать короткое замыкание, закупорить важные каналы, проникнуть в приборы, которые считаются вполне герметичными.
Как бы то ни было, он с удовольствием проглотил ливерную колбасу, а за ней шоколад и ананасное пюре. Пластиковый кофейник уже согрелся на электроплитке, когда уединение Мертона было нарушено голосом радиста с коммодорского катера.
— Доктор Мертон? Если вы не заняты, с вами хотел бы поговорить Джереми Блер.
Блер слыл одним из самых умных комментаторов; Мертон не раз выступал в его программах.
— Согласен, — ответил он.
— Здравствуйте, доктор Мертон, — немедля вступил комментатор, — Рад, что вы можете уделить нам несколько минут. Позвольте вас поздравить — похоже, вы идете впереди.
— Об этом пока слишком рано судить, — осторожно отозвался Мертон.
— Скажите, доктор, почему вы решили вести яхту в одиночку? Потому что до вас этого никто не делал?
— А разве это не уважительная причина? Но дело, конечно, не только в этом. — Он помолчал, подбирая слова. — Вы знаете, как сильно ход солнечной яхты зависит от ее массы. Второй человек да еще все запасы для него — это лишних пятьсот фунтов, которые могут решить исход гонок.
— Вы вполне уверены, что справитесь с «Дианой»?
— Достаточно уверен, для этого я и установил автоматы. Моя главная задача — следить и принимать решения.
— Но ведь какой парус — две квадратные мили! Просто не верится, чтобы один человек мог управляться с такой махиной!
Мертон рассмеялся:
— Почему? Эти две квадратные мили дают максимальную тягу десять фунтов. Ее можно одолеть одним мизинцем.
— Ну ладно, спасибо, доктор. Желаю успеха. Я еще свяжусь с вами.
Комментатор выключился, а Мертон ощутил запоздалую неловкость. Ведь он сказал не всю правду, а Блер достаточно проницателен, чтобы понять это.
Есть еще одна причина, почему он сейчас один здесь, в космосе. Почти сорок лет он работал с бригадами по сто, даже по тысяче человек, создавая самые сложные двигательные аппараты, какие когда-либо видел свет. Последние двадцать лет он руководил конструкторским бюро и видел, как его творения взмывают к звездам. (Иногда бывали и неудачи, которых нельзя забыть, хоть вина и не его.) Он прославился, за его плечами блестящая карьера. Но сам он никогда не был главным действующим лицом, всегда выступал в ряду со многими.
Это его последняя надежда лично отличиться. До следующих гонок не меньше пяти лет — период спокойного Солнца кончился, идет полоса скверной погоды, в Солнечной системе будут бушевать радиационные штормы. Когда снова станет безопасно ходить на этих хрупких, не защищенных броней яхтах, он уже будет стар.
Мертон бросил в мусорный ящик пустые коробки из-под еды и снова повернулся к перископу. В первый миг он обнаружил только пять яхт, «Вумера» куда-то исчезла. Прошло несколько минут, прежде чем он отыскал ее — туманный призрак на фоне звезд, парализованный тенью «Лебедева». Он хорошо представлял себе, как австралазийцы лихорадочно пытаются выбраться из ловушки. Как же они попались? Очевидно, у «Лебедева» необычайно высокая маневренность; стоит присматривать за ним, хотя сейчас он слишком далеко, чтобы угрожать «Диане».
Земли почти не видно, остался только узенький яркий серп, стремящийся к Солнцу. Рядом с пламенной дугой тускло обрисована ночная сторона планеты; тут и там в просветах между тучами поблескивает зарево больших городов. Темный диск уже заслонил часть Млечного Пути, через несколько минут он начнет закрывать Солнце.
Свет угасал; по мере того как «Диана» бесшумно погружалась в тень Земли, парус загорался сумеречным пурпурным оттенком — отблеском многократных закатов, удаленных на тысячи миль. Солнце кануло за невидимый горизонт, и в несколько минут сгустилась ночь.
Мертон посмотрел назад вдоль орбиты, по которой прошел уже четверть пути вокруг родной планеты. Одна за другой гасли яркие звездочки остальных, когда они следом за ним ныряли в быстротечную ночь. Какой-нибудь час — и Солнце опять пока-жегся из-за огромного черного щита; до тех пор все они беспомощны, должны идти по инерции.
Он включил прожектор и стал просвечивать его лучом темный парус. Тысячи акров пленки уже сморщились, обмякли, фазы провисают, надо скорей подтягивать их, пока не запутались. Но это в порядке вещей. Все идет как было задумано. Отставшим от него миль на пятьдесят «Арахне» и «Санта-Марии» повезло меньше. Мертон узнал, какая неприятность их постигла, когда вдруг заработало радио на аварийной волне.
— Номер два, номер шесть, говорит контроль. Вам грозит столкновение. Ваши орбиты пересекутся через шестьдесят пять минут! Вам нужна помощь?
Наступило долгое молчание, два капитана переваривали недобрую весть. Интересно, кто из них виноват? Вероятно, одна яхта пыталась закрыть другую тенью и не успела закончить маневр, как обе вошли в мрак. А теперь уже ничего не поделаешь.
Но ведь у них есть еще шестьдесят пять минут! Они успеют снова выйти на Солнце из-за Земли. Если паруса тогда уловят достаточно энергии, они сумеют, может быть, избежать столкновения. Наверно, сейчас на «Арахне» и «Санта-Марии» вычислители работают с полной нагрузкой.
«Арахна» ответила первой, и ответ был именно такой, какого ожидал Мертон.
— Контроль, здесь номер шесть. Спасибо, нам не нужна помощь. Сами справимся.
Любопытно будет посмотреть, подумал Мертон. Надвигается первый драматический эпизод гонки, и произойдет он как раз над линией полуночи на спящей Земле.
Весь следующий час Мертон был слишком занят своим собственным парусом, чтобы волноваться из-за «Арахны» и «Санта-Марии».
Не так-то просто уследить за пятьюдесятью миллионами квадратных футов теряющегося во тьме пластика, освещенного лишь узким лучом прожектора да сиянием далекой Луны. Отныне и на протяжении почти половины околоземной орбиты надо держать всю эту огромную плоскость ребром к Солнцу. В ближайшие двенадцать — четырнадцать часов парус будет только помехой — ведь яхта пойдет навстречу Солнцу, и его лучи могут отбросить ее назад. Жаль, что нельзя совсем убрать парус, пока он не понадобится вновь. Еще никто не придумал, как это сделать.
Далеко внизу вдоль кромки Земли занимался рассвет. Через десять минут кончится затмение Солнца; лучи ударят в паруса, и плывущие по инерции яхты опять оживут. Это будет критическая минута для «Арахны» и «Санта-Марии», для всех участников.
Мертон повернул перископ и поймал два силуэта, парящие среди звезд. Совсем близко друг от друга, от силы их разделяют три мили. А что, может быть, и впрямь справятся…
Словно взрыв, вспыхнула заря — это Солнце вынырнуло из Тихого океана. На миг парус и фалы стали алыми, потом золотыми, потом ослепительно белыми: наступил день. Стрелки динамометров самую малость оторвались от нуля. «Диана» по-прежнему была почти совсем невесомой; солнечный ветер дул в лоб, и ускорение упало до миллионных долей G.
Но «Арахна» и «Санта-Мария», силясь разойтись, не хотели убирать паруса, которые мучительно медленно расправлялись, ощутив первое легкое дуновение солнечного ветра. Меньше двух миль теперь разделяло яхты. Наверно, все телевизионные экраны на Земле сейчас показывают эту затянувшуюся драму.
Капитаны обеих яхт были люди упрямые. Каждый из них мог обрубить фалы и сойти, уступив другому путь, но они не пошли на это — слишком много поставлено на карту: деньги, слава, престиж. Мягко и беззвучно, будто снежинки в зимнюю ночь, «Арахна» и «Санта-Мария» столкнулись.
Квадратный змей как-то незаметно слился с круглой паутиной; медленно, как во сне, заколыхались, переплетаясь, длинные фалы. Как ни занят был Мертон своими снастями, он не мог оторвать глаз от этой неслышимой, растянутой во времени катастрофы.
Два паруса, словно серебристые колышущиеся облака, продолжали сливаться в одну сплошную, нерасчленимую массу. Это длилось минут десять, наконец обе капсулы вырвались на волю и пошли в разные стороны, разминувшись в каких-нибудь ста ярдах друг от друга. Спасательные катера со светящимися хвостами реактивных струй ринулись вдогонку за ними.
Так, теперь нас осталось пять, подумал Мертон. Жаль, конечно, этих ребят, которые в самом начале гонки все испортили друг другу; ничего, они молодые, будет еще случай показать себя.
А через несколько минут число участников сократилось до четырех. Мертон усомнился в конструкции «Солнечного луча», как только увидел его; теперь сомнения оправдались.
Вращение сделало марсианскую яхту слишком устойчивой, она не хотела лавировать. Вместо того чтобы повернуться ребром к Солнцу, огромное кольцо смотрело на него всей плоскостью, и яхту погнало обратно почти с предельным ускорением.
Самое досадное, что может случиться с яхтсменом, хуже даже, чем столкновение, потому что винить надо только себя. Впрочем, вряд ли кто-нибудь сочувствует сейчас безнадежно отставшим от строя поселенцам. Уж больно они зазнаются там, на Марсе, — поделом им!
И со счетов сбрасывать «Солнечный луч» рано; впереди еще полмиллиона миль, может и догнать.
Следующие двенадцать часов, пока Земля переходила из одной фазы в другую, прошли без приключений. На этой части орбиты, где идешь без тяги, делать особенно нечего. Но Мертон не томился, считая часы. Он успел вздремнуть, дважды поел, сделал записи в бортовом журнале, два-три раза участвовал в радиоинтервью. Изредка вызывал другие яхты, обмениваясь приветствиями и шутками со своими соперниками. А вообще, его вполне устраивал этот отдых в невесомости, вдали от всех земных забот. Давно он не был так счастлив. Мертон чувствовал себя властелином своей судьбы, насколько это вообще возможно в космосе: он вел яхту, в которую вложил столько ума и души, что она стала как бы частью его самого.
Следующий несчастный случай произошел, когда они проходили между Землей и Солнцем. Здесь начиналась та часть орбиты, где дул попутный солнечный ветер. Мертон увидел, как парус «Дианы» после поворота расправляется под напором лучей. Ускорение, упавшее до тысячных долей G, стало возрастать, но требовался еще не один час, чтобы оно достигло наибольшей величины.
Однако «Паутине» не суждено было дождаться этого. Минута, когда вновь появлялась тяга, всегда была для яхт критической, и «Паутина» не выдержала испытания.
Блер продолжал комментировать гонки, и Мертон, хоть и убавил громкость, расслышал тревожную новость: «Внимание! У Паутины» биение!» Он поспешил к перископу и направил его на огромный круглый парус соперника, но в первый миг не заметил никакой перемены. Конечно, трудно все рассмотреть, когда объект обращен к тебе почти ребром и ты видишь узкий эллипс, однако в конце концов он убедился, что по парусу медленно ползет грозная рябь. Если команда не сумеет ее унять осторожным, точно рассчитанным подергиванием фалов, парус сам себя разорвет в клочья.
Они старались изо всех сил. и через двадцать минут стало казаться, что биение прекратилось. Вдруг пластик лопнул где-то посередине. Под напором лучей брешь неуклонно росла и лоскутья вытягивались, будто струйки дыма над костром. Через четверть часа остались только радиальные лонжероны, на которых была натянута исполинская паутина. Снова зарево ракет: катер пошел на перехват капсулы с удрученной командой.
— Этак скоро совсем один останешься здесь, а? — сказал чей-то голос, вызывая Мертона на разговор.
— Тебе-то, Дмитрий, нечего бояться, — ответил он, — Ты там не одинок. Вот мне тут, впереди, в самом деле неуютно.
Он не хвастался: «Диана» на триста миль оторвалась от ближайшего соперника, и разрыв этот обещал вскоре стать еще больше.
Дмитрий Марков добродушно рассмеялся у себя на «Лебедеве». Сразу слышно — он не признает себя побежденным.
— Вспомни притчу о зайце и черепахе, — сказал русский, — На отрезке в четверть миллиона миль многое может случиться.
Положение изменилось, уже когда они завершили первый виток по околоземной орбите и проходили линию старта, — правда, на тысячи миль выше благодаря дополнительной энергии, которую им отдали лучи Солнца. Мертон тщательно замерил координаты остальных яхт и сообщил данные вычислительной машине. Итог, полученный для «Вумеры», показался ему таким неправдоподобным, что он тотчас все проверил снова.
Никакого сомнения: австралазийцы догоняют его с неслыханной скоростью.
Одного внимательного взгляда в перископ было достаточно, чтобы выяснить, в чем дело. Слишком тонкие снасти «Вумеры» лопнули. И теперь один парус, сохраняя свою форму, летел в космосе, словно влекомый ветром платок. Два часа спустя он пронесся мимо «Дианы» меньше чем в двадцати милях; но задолго до этого австралазийцы присоединились к тем, кто собрался на катере коммодора.
Итак, все свелось к поединку между «Дианой» и «Лебедевым». Правда, «марсиане» не сдавались, но при таком отставании — около тысячи миль — они уже не представляли угрозы для лидеров гонки. По чести говоря, Мертону казалось, что и «Лебедеву» уже не догнать «Дианы», и все-таки он нервничал на втором витке, когда вновь наступило затмение, а затем опять начался долгий, медленный дрейф против солнечного ветра.
Он знал русских водителей и конструкторов. Они не первый раз участвовали в гонках. До тех пор им не удавалось победить. Но ведь их соотечественник Петр Николаевич Лебедев в начале двадцатого столетия первым открыл световое давление солнечных лучей. Естественно, что они упорствуют. Дмитрий, наверно, задумал что-нибудь эффектное.
Коммодор Ван-Страгген, идя в тысяче миль позади участников гонки, в эту минуту с досадой читал только что поступившую радиограмму. Она пролетела больше ста миллионов миль от цепочки солнечных обсерваторий, которые кружили высоко над пылающей поверхностью светила. И она принесла самые неприятные вести.
Правда, для коммодора (всего лишь почетный титул, на Земле он был профессором астрофизики в Гарварде) они не были такой уж неожиданностью. Еще никогда гонки не устраивали так поздно; было много всяких задержек, решили все-таки рискнуть — и, похоже, проиграли…
Глубоко в недрах Солнца копилась чудовищная сила, эквивалентная энергии миллиона водородных бомб. В любую секунду мог произойти чудовищный взрыв, известный под названием «солнечная вспышка». Со скоростью миллионов миль в час незримый огненный шар во много раз больше Земли оторвется от Солнца и уйдет в космос.
Возможно, что облако ионизированного газа пронесется в стороне от Земли. Если же нет, ему понадобится чуть больше суток, чтобы достичь ее. Космические корабли защищены мощными магнитными экранами, но легкие солнечные яхты, с корпусами не толще бумаги, безоружны против такой угрозы. Команды придется снять.
Начиная второй виток вокруг Земли, Джон Мертон еще не знал об этом. Он думал о своем. Если ничего не изменится, это будет последний виток для него и для русских. Под напором солнечного ветра они поднялись по спирали на тысячи миль. На втором витке они преодолеют земное тяготение и устремятся в долгий путь к Луне. Исход решится в поединке двух яхт; больше ста тысяч миль команда «Солнечного луча» доблестно сражалась с вращающимся парусом, но в конце концов пришлось сдаться.
Мертон не чувствовал усталости. Он хорошо поел, поспал; «Диана» вела себя безукоризненно. Автопилот, который подтягивал снасти, словно трудолюбивый паучок, лучше любого одушевленного водителя держал точно по ветру солнечный парус. Хотя этот лист пластика площадью в две квадратные мили, наверно, уже пробит сотнями микрометеоритов, крохотные. проколы ничуть не уменьшили тягу.
Только две вещи его тревожили. Во-первых, перестал слушаться фал номер восемь. Внезапно заело реле. Команды не выполнялись — ни выдать, ни выбрать линь; надо как-то обходиться остальными, К счастью, самые трудные маневры позади, отныне «Диане» все время идти прямо по ветру. Как говорили в старину моряки, легко справляться с судном, когда ветер дует тебе в спину.
Вторая забота — «Лебедев», который упорно преследовал его с разрывом в триста миль. Благодаря четырем крыльям, окружающим главный парус, русская яхта оказалась на редкость маневренной. Все повороты на околоземной орбите она выполнила сверхточно; правда, за такую маневренность пришлось расплатиться скоростью — двух зайцев сразу поймать нельзя. И Мертон надеялся сохранить преимущество на длинной прямой. Однако полной уверенности в победе не будет, пока «Диана» через три-четыре дня не пронесется над обратной стороной Луны.
И тут, на пятидесятом часу гонок, когда завершался второй виток, Марков поднес ему сюрприз.
— Алло, Джон, — небрежно сказал он, включившись в межъяхтенную сеть, — посмотри-ка, тебе, наверно, будет интересно.
Мертон подвинулся к перископу и включил предельное увеличение. В поле зрения, такой неправдоподобный среди звезд, очень маленький, но очень четкий, мальтийским крестом засверкал «Лебедев». Вдруг на глазах у него все четыре крыла отделились от квадрата в середине и ушли в космос.
Теперь, когда Марков набрал вторую космическую скорость и не нужно было больше терпеливо кружить по околоземной орбите, копя кинетическую энергию, он сбросил излишнюю массу. С этой минуты «Лебедев» почти неуправляем, но это неважно, все сложные маневры позади. Все равно как если бы какой-нибудь яхтсмен прошлого намеренно освободил лодку от руля и тяжелого киля, зная, что дальше его ждет попутный ветер и тихое море.
— Поздравляю, Дмитрий, — сказал Мертон в микрофон. — Ловко сделано. Но этого мало, все равно ты меня не догонишь.
— Это еще не все, — услышал он в ответ.
В самом деле, на последнем, прямом участке Дмитрий может обойтись без второго пилота.
— Вряд ли Алексей обрадуется, — заметил Мертон. — И ведь это против правил.
— Да, Алексею придется поплавать десять минут одному, пока его не подберет коммодор. А что до правил — в них ничего не говорится о численности экипажа. Уж ты-то должен это знать.
Мертон промолчал; исходя из того, что ему было известно о конструкции «Лебедева», он торопливо обрабатывал новые данные. Закончив вычисления, Мертон убедился, что исход далеко не решен. У самой Луны «Лебедев» его догонит.
Однако судьба гонок уже определилась в девяноста двух миллионах миль от трассы.
На Солнечной обсерватории номер три, внутри орбиты Меркурия, автоматические приборы записали весь ход вспышки. Внезапный взрыв превратил сто миллионов квадратных миль поверхности Солнца в бело-голубое пекло, рядом с которым остальной диск словно померк. Из бурлящего ада, крутясь и извиваясь, будто живое существо, в созданном ею же самой магнитном поле вырвалась струя плазмы. А впереди нее со скоростью света мчалась, предупреждая, волна рентгеновского и ультрафиолетового излучения. Она достигнет Земли за восемь минут и вреда не причинит. Иное дело заряженные атомы, летящие следом со скоростью всего четыре миллиона миль в час. Через сутки они окутают смертоносным облаком «Диану», «Лебедева» и сопровождающий отряд.
Коммодор откладывал решение до последней минуты. Даже когда струя плазмы прошла орбиту Венеры, еще была надежда, что она не коснется Земли. Но когда до встречи с ней осталось меньше четырех часов и сеть лунных радаров подала сигнал тревоги, он понял, что больше ждать нельзя. Следующие пять-шесть лет, пока не успокоится Солнце, никаких гонок не будет.
Вздох разочарования пронесся по всей Солнечной системе. «Диана» и «Лебедев» шли почти рядом на полпути между Землей и Луной, но никто так и не узнает, какая яхта лучше. Болельщики будут спорить годами, а в историю войдет короткая запись: «Гонки отменены из-за солнечной бури».
Получив приказ, Джон Мертон расстроился так, как не расстраивался с самого детства. Сквозь завесу лет отчетливо и ярко пробилось воспоминание о десятом дне рождения. Ему была обещана модель — точное повторение знаменитого космического корабля «Утренняя звезда»; несколько недель он представлял себе, как будет ее собирать, где повесит в своей комнате. И вдруг, в последнюю секунду, слова отца: «Прости меня, Джон, слишком уж дорого. Может быть, к следующему дню рождения…»
Спустя полвека, прожив славную жизнь, он снова был убитым горем мальчишкой.
А если не подчиниться? Пренебречь запретом и идти дальше? Пускай отменили гонки, его перелет войдет во все отчеты и будет долго вспоминаться.
Нет, это хуже глупости — это самоубийство, к тому же очень мучительное. Джон Мертон видел агонию людей, пораженных лучевой болезнью, потому что отказала магнитная защита их кораблей. Слишком дорогая цена…
Он переживал не только за себя, но и за Дмитрия Маркова. Оба заслужили победу, но она никому не достанется. Пусть человек научился запрягать лучи светила и мчаться к рубежам космоса — спорить с разъяренным Солнцем ему не дано.
В пятидесяти милях за «Дианой» катер коммодора уже подошел к «Лебедеву», чтобы снять капитана. Унесся вдаль серебристый парус: Дмитрий обрубил снасти, и Мертон вполне понимал его чувства. Маленькая капсула будет доставлена обратно на Землю, может быть, даже еще раз пойдет в дело, но паруса делались только на один рейс.
Можно нажать кнопку катапультирующего устройства и сберечь спасателям несколько минут. Но это было свыше сил Мертона, он хотел до последнего оставаться на суденышке, которое так долго было частью его грез и его жизни. Могучий парус, развернутый под прямым углом к Солнцу, развил предельную тягу. Он уже давно вырвал яхту из объятий Земли, и «Диана» продолжала наращивать скорость.
Внезапно его осенило. Он знал, что делать. Ни сомнений, ни колебаний; Джон Мертон в последний раз обратился к вычислительной машине, которая помогла ему пройти половину пути до Луны.
Закончив вычисления, он завернул вместе бортовой журнал и скромное личное имущество. С трудом (разучился уже, да и не так-то просто справиться с этим в одиночку!) Мертон влез в аварийный скафандр. Он как раз закрыл окошко гермошлема, когда радио донесло голос коммодора.
— Через пять минут подойдем к вам, капитан. Обрубите парус, чтобы нам не запутаться.
Джон Мертон, первый и последний капитан солнечной яхты «Диана», на секунду замешкался. Он еще раз обвел взглядом миниатюрную кабину со сверкающими приборами и умело размещенными рычагами, которые теперь были наглухо закреплены в одной позиции. Наконец сказал в микрофон:
— Оставляю судно. Не спешите, все равно меня найдете. «Диана» сама за собой последит.
Его порадовало, что коммодор воздержался от ответа. Профессор Ван-Страттен, конечно, понял, в чем дело. И понял, что в эти завершающие секунды Мертону хочется побыть одному.
Он не стал откачивать воздух из переходной камеры, и вырвавшийся из нее газ мягко понес его прочь от «Дианы»; толчок отдачи был последним даром Мертона яхте. Она быстро удалялась, и парус ее ярко блестел в лучах Солнца, которые на века определят путь «Дианы». Через два дня она пронесется мимо Луны, и та, как и Земля, не сможет ее удержать. Освобожденный от тормозящей массы, парус с каждым днем будет увеличивать свою скорость на две тысячи миль в час. Месяц — и «Диана» будет идти быстрее любого из созданных человеком кораблей.
Чем дальше, тем слабее лучи Солнца, и ускорение начнет падать. Но даже на орбите Марса скорость за сутки будет нарастать на тысячу миль в час. И задолго до того ход яхты будет таким, что даже Солнце ее не удержит. Быстрее любой кометы она устремится в межзвездную пучину, недоступную воображению человека.
Глаза Мертона заметили зарево ракет в нескольких милях. Катер идет за ним — с ускорением, в тысячи раз большим, чем то, которое когда-либо сможет развить «Диана». Но двигатели катера израсходуют запас горючего в несколько минут, а солнечная яхта сотни лет будет наращивать скорость, подстегиваемая неугасимым пламенем Солнца.
— Прощай, кораблик, — сказал Джон Мертон. — Интересно, чьи глаза увидят тебя и через сколько тысяч лет?
Кургузая торпеда подошла вплотную, но на душе у Мертона было легко. Ему уже никогда не выиграть гонку до Луны, но его суденышко первым вышло в долгое плавание к звездам.
Двое в космосе
Перевод Т. Гинзбург
Грант делал запись в бортовом журнале «Стар Куин», когда дверь за его спиной отворилась. Оглядываться он не стал: на корабле, кроме него, был только один человек. Но так как Мак-Нил не начал разговора и не вошел, затянувшееся молчание в конце концов удивило Гранта, и он круто развернул свое вращающееся кресло.
Мак-Нил просто стоял в дверях с окаменевшим от ужаса лицом.
— В чем дело? — сердито спросил Грант. — Вам дурно или случилось что?
Инженер покачал головой.
— Нам крышка, — просипел он наконец. — У нас нет больше запаса кислорода.
И тут он заплакал.
Грант промолчал. Совершенно машинально раздавив в пепельнице сигарету, он со злостью ждал, когда погаснет последняя искра. Ему уже сейчас как будто стало не хватать воздуха: горло его сжал извечный космический страх.
Медленно освободившись от эластичных ремней, создававших, пока он сидел, слабую иллюзию весомости, Грант с привычным автоматизмом двинулся к двери. Мак-Нил не пошевелился. Даже со скидкой на пережитый шок поведение его казалось непростительным. Поравнявшись с инженером, Грант сердито толкнул его — может быть, тот очухается.
Трюм был выполнен в форме полусферы, в центре которой проходили кабели к пульту управления, контрольным приборам и другой половине растянувшегося на сто метров гантелеобразного космического корабля. Клети и ящики грудой заполняли помещение.
Но даже исчезни внезапно весь груз, Грант едва ли заметил бы это. Взгляд его был прикован к большому баку с кислородом, укрепленному на переборке у выхода. Все было в полном порядке, и только одна мелкая деталь указывала на беду: стрелка индикатора застыла на нуле.
Грант смотрел на этот молчаливый символ, как много веков назад во время чумы мог смотреть какой-нибудь вернувшийся домой лондонец на входную дверь, перечеркнутую в его отсутствие грубо нацарапанным крестом.
Когда он вернулся к пульту управления, Мак-Нил снова был уже самим собой. Причину столь быстрого выздоровления выдавала открытая аптечка. Инженер даже попытался сострить:
— Это метеор. Нам твердят, что корабль может столкнуться с метеором раз в сто лет. Мы, видать, сильно поторопились.
— Какой-нибудь выход найдется, пожертвуем в крайнем случае грузом. В общем, не будем гадать, давайте уточним обстановку.
Он был больше зол, чем испуган. Он был зол на Мак-Нила за проявленную им слабость. Он был зол на конструкторов за то, что они не предусмотрели этой, пусть даже самой маловероятной случайности. Но сколько-то времени до конца оставалось, и, значит, не все еще было потеряно. Эта мысль помогла ему взять себя в руки.
«Стар Куин» пробыл в пути 115 дней, и оставалось ему до цели всего тридцать. Как все грузовые суда, он летел по касательной к орбитам Земли и Венеры. Скоростные лайнеры преодолевали это расстояние по прямой за срок втрое меньший, но тратя горючего в десять раз больше. «Стар Куин» вынужден был тащиться по своей эллиптической орбите, словно трамвай по рельсам, преодолевая дорогу в один конец за 145 дней.
«Стар Куин» даже отдаленно не походил на космические корабли, рисовавшиеся воображению людей первой половины XX века. Он состоял из двух сфер, диаметрами пятьдесят и двадцать метров, соединенных цилиндром около ста метров длиной. Большая сфера предназначалась для команды, груза и систем управления, меньшая — для атомных двигателей.
«Стар Куин» был построен в космосе и самостоятельно не мог подняться даже с поверхности Луны. Работая на полную мощность, его двигатели способны были за час развить скорость, достаточную, чтобы оторваться от искусственного спутника Земли или Венеры.
Транспортные рейсы между планетами и спутниками осуществляли маленькие мощные химические ракеты. Через месяц они взлетят с Венеры, чтобы встретить «Стар Куин», но он не затормозит, потому что будет неуправляем. Он продолжит свой орбитальный полет, с каждой секундой уносясь от Венеры, а еще через пять месяцев вернется на орбиту Земли, хотя самой планеты на том месте уже не будет…
Поразительно, сколько времени уходит на простое сложение, если от полученной суммы зависит твоя жизнь. Грант десять раз пересчитал короткий столбик цифр, прежде чем окончательно расстаться с надеждой на изменение итога.
— Никакая экономия, — сказал он, — не позволит нам протянуть больше двадцати дней. Даже если мы выжмем весь кислород из воды и всех химических соединений, находящихся ка борту. То есть до Венеры останется еще десять дней пути, когда… — Он умолк на середине фразы.
Десять дней — невелик срок, но в данном случае и десять лет не могли бы значить больше.
— Если выбросить груз, — спросил Мак-Нил, — есть у нас шанс изменить орбиту?
— Вероятно, но нам это ничего не даст. При желании мы могли бы за неделю достигнуть Венеры, но тогда нам не хватит топлива для торможения, а у них там нет способа задержать нас.
— Даже и лайнер не сможет?
— Регистр Ллойда указывает, что на Венере сейчас только несколько транспортных судов. Да и вообще такой маневр неосуществим. Ведь спасательному судну надо не только подойти к нам, но и вернуться потом обратно. А для этого нужна скорость примерно пятьдесят километров в секунду!
— Если мы сами не можем ничего придумать, — сказал Мак-Нил, — надо посоветоваться с Венерой. Авось кто-нибудь подскажет.
— Именно это я и собирался сделать, как только самому мне картина стала ясна. Наладьте, пожалуйста, связь.
Взглядом провожая Мак-Нила, он думал о заботах, которые тот ему теперь доставит. Как большинство полных людей, инженер был уживчив и добродушен. До сих пор с ним вполне можно было ладить. Но теперь он показал свою слабохарактерность. Он явно одряхлел и физически и духовно — результат слишком долгого пребывания в космосе.
Параболическое зеркало, вынесенное на корпус корабля, нацелилось на Венеру, которая сейчас всего в десяти миллионах километров от «Стар Куин». Трехмиллиметровые радиоволны преодолевают это расстояние чуть больше чем за полминуты. Даже обидно было думать, как мало им требуется, чтобы оказаться в безопасности.
Автоматический монитор Венеры бесстрастно просигналил: «Прием» — и Грант, надеясь, что голос его звучит твердо и спокойно, начал свое сообщение. Детально проанализировав обстановку, он попросил совета. О своих опасениях в отношении Мак-Нила он умолчат: несомненно, тот следил за передачей.
Грант знал, что пока все сказанное им записано лишь на магнитную ленту. Но очень скоро ничего не подозревающий дежурный связист прокрутит ее.
Сейчас он еще не догадывается о сенсации, которую первым узнает и которая затем прокатится по всем обитаемым планетам, вызывая бурю сочувствия и вытесняя все другие новости с телевизионных экранов и газетных полос. Такова печальная привилегия космических трагедий.
Вернулся в каюту Мак-Нил.
— Я уменьшил давление воздуха, — сказал он. — У нас немного нарушена герметичность. В нормальных условиях мы этого и не почувствовали бы.
Грант рассеянно кивнул и подал Мак-Нилу пачку бумаг.
— Давайте просмотрим накладные. Может быть, что-то из фуза нам пригодится. — «А если и нет, — подумал он про себя, — во всяком случае, на время это нас отвлечет».
Пришедший наконец с Венеры ответ потребовал почти часа магнитофонной записи и содержал такую уйму вопросов, что навел Гранта на унылые размышления: хватит ли оставшегося ему короткого срока жизни, чтобы удовлетворить чье-то любопытство. Большинство вопросов были чисто техническими и касались корабля. Эксперты двух планет ломали голову над тем, как спасти «Стар Куин» и груз.
— Ну, что вы об этом думаете? — ища на лице Мак-Нила признаки нового смятения, спросил Грант, когда они кончили прослушивать послание Венеры.
Мак-Нил только после долгой паузы, пожав плечами, заговорил, и первые его слова прозвучали эхом собственных мыслей Гранта:
— Без дела мы, конечно, сидеть не будем. За один день я со всеми их тестами не управлюсь. В основном мне понятно, к чему они клонят, но некоторые вопросы поистине дурацкие.
Невозмутимость Мак-Нила успокоила Гранта и вместе с тем раздосадовала. Успокоила, потому что он опасался новой тягостной сцены, а раздосадовала, потому что противоречила уже сложившемуся мнению. Как все-таки рассматривать тот его нервный срыв? Показал ли он тогда свою истинную натуру, или это была лишь минутная слабость, которая может случиться с каждым?
Грант, воспринимавший мир в черно-белом изображении, злился, не понимая, малодушен или отважен Мак-Нил. Возможность сочетания того и другого ему и в голову не приходила.
На четвертый день Венера снова подала голос. Очищенное от технической шелухи, ее сообщение звучало, по сути, как некролог. Гранта и Мак-Нила, уже вычеркнутых из списка живых, подробно наставляли, как им поступить с грузом.
Мак-Нил скрылся сразу после этой радиограммы. Сперва Гранта устраивало, что инженер не беспокоит его. К тому же оставалось еще написать разные письма, хотя завещание он отложил на потом.
Была очередь Мак-Нила готовить «вечернюю» трапезу, что он делал всегда с удовольствием, так как весьма заботился о своем пищеварении. Однако на сей раз сигнала с камбуза все не поступало, и Грант отправился на розыски своего экипажа.
Мак-Нила он нашел лежавшим на койке и весьма благодушно настроенным. В воздухе над ним висел большой металлический ящик, носивший следы грубого взлома. Рассматривать содержимое не требовалось — все и так было ясно.
— Просто безобразие тянуть эту штуку через трубочку, — без тени смущения заметил Мак-Нил. — Эх, увеличить бы немного гравитацию, чтобы можно было пить по-человечески.
Сердито-осуждающий взгляд Гранта оставил его невозмутимым.
— К. чему эта кислая мина? Угощайтесь и вы! Какое это теперь имеет значение?
Он кинул бутылку, и Грант подхватил ее. Вино было баснословно дорогое — он вспомнил проставленную на накладной цену: содержимое этого ящика стоило тысячи долларов.
— Не вижу причин даже в данных обстоятельствах вести себя по-свински, — сурово сказал он.
Мак-Нил не был еще пьян. Он достиг лишь той приятной стадии, которая предшествует опьянению и в которой сохраняется определенный контакт с унылым внешним миром.
— Я готов, — заявил он с полной серьезностью, — выслушать любые убедительные возражения против моего нынешнего образа действий — образа, на мой взгляд, в высшей степени разумного. Но если вы намерены читать мне мораль, вам следует поторопиться, пока я не утратил еще способности воспринимать ваши доводы.
Он опять нажал пластиковую грушу, и из бутылки хлынула ему в рот пурпурная струя.
— Даже оставляя в стороне самый факт хищения принадлежащего компании имущества, которое рано или поздно будет, конечно, спасено, не можете ведь вы пьянствовать несколько недель!
— Это мы еще посмотрим, — задумчиво отозвался Мак-Нил.
— Ну уж нет! — обозлился Грант. Опершись о стену, он с силой вытолкнул ящик в открытую дверь. Выбираясь затем из каюты, он слышал, как Мак-Нил крикнул ему вдогонку:
— Это уже предел хамства!
Чтобы отстегнуть ремни и вылезти из койки, да еще в его теперешнем состоянии, инженеру потребовалось бы немало времени. И Грант, беспрепятственно вернув ящик на место, запер трюм. Поскольку до сих пор в космосе держать трюм на запоре никогда не приходилось, своего ключа у Мак-Нила не было, а запасной ключ Грант спрятал.
Мак-Нил сохранил все же парочку бутылок, и когда Грант немного спустя проходил мимо его каюты, то услышал, как горланил инженер:
«Нам плевать, КУДА уходит воздух, только бы не уходил в вино…»
«Технарю» Гранту песня была незнакома. Пока он стоял, прислушиваясь, на него вдруг словно накатило чувство, природу которого он, надо отдать ему справедливость, понял не сразу.
Чувство это исчезло так же мгновенно, как и возникло, оставив после себя дрожь и легкую дурноту. И Грант впервые осознал, что его неприязнь к Мак-Нилу начинает переходить в ненависть.
А затем все было до ужаса просто и выглядело жуткой пародией на те первые задачи, с которых начинают изучение арифметики: «Если шесть человек производят монтаж за два дня, сколько…»
Для ДВОИХ кислорода хватило бы на двадцать дней, а до Венеры осталось лететь тридцать. Не надо было быть математическим гением, чтобы сообразить: добраться до вечерней звезды живым может один, только один человек.
И, рассуждая вслух о двадцатидневном сроке, оба сознавали, что вместе им можно лететь только десять дней, а на оставшийся путь воздуха хватит лишь одному из двоих. Положение было, что называется, пиковое.
Ясно, что долго длиться такой заговор молчания не мог. Однако проблема была из тех, которые и в лучшие времена нелегко решить полюбовно. Еще труднее, когда люди в ссоре.
Хотя по молчаливому согласию заведенный порядок был восстановлен, на натянутость в отношениях Гранта и Мак-Нила это не повлияло. Оба всячески избегали друг друга и сходились только за столом. При этих встречах они держались с преувеличенной любезностью, усиленно стараясь вести себя как обычно, что ни одному из них не удавалось.
Грант надеялся, что Мак-Нил сам заговорит о необходимости кому-то из двоих принести себя в жертву. И то, что инженер упорно не желал начать этого трудного разговора, только усиливало гневное презрение Гранта. В довершение всех бед Грант страдал теперь ночными кошмарами и почти не спал.
Когда до последнего, буквально крайнего срока оставалось уже только пять дней, Грант впервые начал подумывать об убийстве. Он сидел после «вечерней» трапезы, с раздражением слушая, как Мак-Нил гремит в камбузе посудой.
Кому в целом свете, спросил себя Грант, нужен этот инженер? Он холост, смерть его никого не осиротит, никто по нем не заплачет. Грант же, напротив, имеет жену и троих детей, к которым питает соответствующие чувства, хотя сам по непонятным причинам видит от своих домочадцев лишь обязательную почтительность.
Непредубежденный судья без труда выбрал бы из двоих более достойного. Имей Мак-Нил каплю порядочности, он сделал бы это и сам. А поскольку он явно не намерен ничего такого делать, он не заслуживает того, чтобы с ним считались.
Мысль, которую Грант уже несколько дней отгонял от себя, теперь назойливо ворвалась в его сознание, и он, отдадим ему справедливость, ужаснулся.
Он был прямым и честным человеком с весьма строгими правилами. Даже мимолетные, считающиеся почему-то «нормальными» позывы к убийству были ему чужды. Но по мере приближения критического срока они стали появляться все чаше.
И нервы его быстро сдавали, что усугублялось поведением Мак-Нила, который держался теперь с неожиданным и бесившим Гранта спокойствием. Откладывать объяснение дальше становилось уже опасно.
Единичный нейтрон вызывает цепную реакцию, способную вмиг погубить миллионы жизней и искалечить даже тех, кто еще не родился. Точно так же иной раз достаточно ничтожного толчка, чтобы круто изменить образ действий и всю судьбу человека.
Гранта остановил у двери Мак-Нила совершеннейший пустяк — запах табачного дыма.
Мысль, что этот сибаритствующий инженер транжирит на свои прихоти последние бесценные литры кислорода, привела Гранта в бешенство. Он был так разъярен, что в первый момент не мог двинуться с места.
Побуждение, которому он вначале противился, над которым потом нехотя размышлял, было наконец признано и одобрено. Мак-Нилу предоставлялась возможность равноправия, но он оказался недостоин этого. Что ж, если так, пусть себе умирает.
Для человека, лишь сейчас решившегося на убийство, действия Гранта были на удивление методичны. Не раздумывая, он кинулся к аптечке, содержимое которой предусматриваю чуть ли не все несчастья, какие могут произойти в космосе.
Предусмотрен был даже самый крайний случай, и специально для него позади других медикаментов здесь прикрепили пузырек, мысль о котором все эти дни подсознательно тревожила Гранта. На белой этикетке под изображением черепа и скрещенных костей стояла четкая надпись: «ПРИМЕРНО ПОЛГРАММА ВЫЗОВУТ БЕЗБОЛЕЗНЕННУЮ И ПОЧТИ МГНОВЕННУЮ СМЕРТЬ».
Безболезненная и мгновенная смерть — это было хорошо. Но еще важнее было обстоятельство, на этикетке не упомянутое: яд был лишен также и вкуса.
Еда, которую готовил Грант, не имела ничего общего с произведениями кулинарного искусства, выходившими из рук Мак-Нила. Человек, любящий вкусно поесть и вынужденный большую часть жизни проводить в космосе, приучается хорошо готовить. И Мак-Нил давно уже освоил эту вторую профессию.
Грант же, напротив, смотрел на еду как на одну из необходимых, но досадных обязанностей, от которых он старался побыстрее отделаться. И это соответственно отражалось на его стряпне. Мак-Нил успел уже с ней смириться, и трапеза протекала в почти полном молчании. Но это стало уже обычным: все возможности непринужденной беседы были давно исчерпаны. Когда они покончили с едой, Грант отправился в камбуз готовить кофе.
Это отняло у него довольно много времени, потому что в последний момент ему вдруг вспомнился некий классический фильм прошлого столетия: легендарный Чарли Чаплин, пытаясь отравить опостылевшую жену, перепутывает стаканы.
Совершенно неуместное воспоминание полностью выбило Гранта из колеи. На миг им овладел тот самый «бес противоречия», который, если верить Эдгару По, только и ждет случая поиздеваться над человеком.
Впрочем, Грант, по крайней мере внешне, был совершенно спокоен, когда внес пластиковые сосуды с трубочками для питья. Опасность ошибки исключалась, потому что свой стаканчик инженер давно помети.! крупными буквами выведя на нем: «МАК».
Как зачарованный, наблюдал Грант за Мак-Нилом, который, угрюмо глядя в пространство, вертел свой стакан, не спеша отведать налиток. Потом он все же поднес трубочку к губам.
Когда он, сделав первый глоток, поперхнулся, сердце у Гранта остановилось. Но инженер тут же спокойно произнес:
— Разок вы сварили кофе как полагается. Он горячий.
Сердце Гранта медленно возобновило прерванную работу, но на свой голос он не надеялся и только неопределенно кивнул. Инженер осторожно пристроил стаканчик в воздухе, в нескольких дюймах от своего лица.
Он глубоко задумался, казалось, он подбирал слова для какого-то важного заявления. Грант проклинал себя за слишком горячий кофе: такие вот пустяки и приводят убийц на виселицу. Он боялся, что не сможет долго скрывать свою нервозность.
— Я полагаю, — тоном, каким говорят о самых обыденных вещах, начал Мак-Нил, — вам ясно, что для одного из нас здесь хватило бы воздуха до самой Венеры?
Неимоверным усилием воли Грант оторвал взгляд от стакана и выдавил из пересохшего горла слова:
— Это… эта мысль у меня мелькала.
Мак-Нил потрогал свой стакан, нашел, что тот еще слишком горяч, и задумчиво продолжал:
— Так не будет ли всего правильней, если один из нас выйдет через наружный шлюз или примет, скажем, что-то оттуда? — Он большим пальцем указал на аптечку.
Грант кивнул.
— Вопрос, конечно, в том, — прибавил инженер, — кому это сделать. Я полагаю, нам надо как-то бросить жребий.
Грант был буквально ошарашен. Он ни за что не поверил бы, что инженер способен так спокойно обсуждать эту тему. Заподозрить он ничего не мог — в этом Грант был уверен. Просто оба они думали об одном и том же, и по какому-то случайному совпадению Мак-Нил сейчас, именно сейчас завел этот разговор.
Инженер пристально смотрел на него, стараясь, видимо, определить реакцию на свое предложение.
— Вы правы, — услышал Грант собственный голос, — мы должны обсудить это.
— Да, — безмятежно подтвердил инженер, — должны.
Он взял свой стакан, зажал губами трубочку и начал потягивать кофе.
Ждать конца этой сцены Грант был не в силах. Он не хотел видеть Мак-Нила умирающим; ему стало почти дурно. Не оглянувшись на свою жертву, он поспешил к выходу.
Раскаленное солнце и немигающие звезды со своих постоянных мест смотрели на неподвижный, как они, «Стар Куин». Невозможно было заметить, что эта крохотная гантель несется почти с максимальной для нее скоростью, что в меньшей сфере скопились миллионы лошадиных сил, готовых вырваться наружу, и что в большой сфере есть еще кто-то живой.
Люк на теневой стороне корабля медленно открылся, и во тьме странно повис яркий круг света. Почти тут же из корабля выплыли две фигуры.
Одна была значительно массивнее другой, и по очень важной причине — из-за скафандра. А скафандр не из тех одежд, сняв которые человек рискует лишь уронить себя в глазах общества.
В темноте происходило что-то непонятное. Потом меньшая фигура начала двигаться, сперва медленно, однако с каждой секундой набирая скорость. Когда из отбрасываемой кораблем тени ее вынесло на слепящее солнце, стал виден укрепленный у нее на спине небольшой газовый баллон, из которого вился, мгновенно тая в пространстве, легкий дымок.
Эта примитивная, но сильная ракета позволила телу преодолеть ничтожное гравитационное поле корабля и очень скоро бесследно исчезнуть вдали.
Другая фигура все это время неподвижно стояла в шлюзе. Потом наружный люк закрылся, яркое круглое пятно пропало и на затененной стороне корабля осталось лишь тусклое отражение бледного света Земли.
В течение следующих двадцати трех дней ничего не происходило.
Капитан химического грузолета «Геркулес», облегченно вздохнув, повернулся к первому помощнику.
— Я боялся, он не сумеет этого сделать. Какой невероятный труд потребовался, чтобы без чьей-,либо помощи вывести корабль из орбиты, да еще в условиях, когда и дышать-то нечем! Сколько времени нам нужно, чтобы встретить его?
— Около часа. Он все же несколько отклонился в сторону, но тут мы сможем ему помочь.
— Хорошо. Просигнальте, пожалуйста, «Левиафану» и «Титану», чтобы они тоже стартовали.
Пока это сообщение пробивалось сквозь толщу облаков к планете, первый помощник задумчиво опросил:
— Интересно, что он сейчас чувствует?
— Могу вам сказать. Он так рад своему спасению, что все остальное ему безразлично.
— Не думаю все-таки, чтобы мне было приятно бросить в космосе товарища ради возможности самому вернуться домой.
— Такое никому не может быть приятно. Но вы слышали их передачу: они мирно все обсудили и приняли единственно разумное решение.
— Разумное — возможно… Но как ужасно позволить кому-то спасти тебя ценой собственной жизни!
— Ах, не сентиментальничайте! Уверен, случись такое с нами, вы вытолкнули бы меня в космос, не дав перед смертью помолиться!
— Если бы вы еще раньше не проделали этого со мной. Впрочем, «Геркулесу» такое едва ли угрожает. До сих пор мы ни разу не были в полете больше пяти дней. Толкуй тут о космической романтике!
Капитан промолчал. Прильнув к окуляру навигационного телескопа, он пытался отыскать «Стар Куин», который должен уже быть в пределах видимости. Пауза длилась довольно долго: капитан настраивал верньер. Потом он с удовлетворением объявил:
— Вот он, километрах в девяноста пяти от нас. Велите команде стать по местам… ну а его подбодрите: скажите, что мы будем на месте через тридцать минут, даже если это и не совсем так.
Грант был уже у двери, когда Мак-Нил мягко окликнул его:
— Куда вы спешите? Я думал, мы собирались кое-что обсудить.
Чтобы не пролететь головой вперед, Грант схватился за дверь и медленно, недоверчиво обернулся к инженеру. Тому полагалось уже умереть, а он удобно сидел, и во взгляде его читалось что-то непонятное, какое-то новое, особое выражение.
— Сядьте! — сказал он резко, и с этой минуты власть на корабле как будто переменилась.
Грант подчинился против воли. Что-то здесь было не так, но он не представлял, что именно.
После длившейся целую вечность паузы Мак-Нил почти грустно сказал:
— Я был о вас лучшего мнения, Грант…
Грант обрел наконец голос, хотя сам не узнал его.
— О чем вы? — просипел он.
— А вы как думаете, о чем? — В тоне Мак-Нила едва слышалось раздражение. — Конечно, об этой небольшой попытке отравить меня.
Итак, для Гранта все кончилось. Но ему было уже все равно. Мак-Нил сосредоточенно разглядывал свои ухоженные ногти.
— Интересно, — спросил он так, как спрашивают, который час, — когда вы приняли решение убить меня?
Гранту казалось, что все это происходит на сцене — в жизни такого быть не могло.
— Только сегодня, — сказал он, веря, что говорит правду.
— Гм-м… — с сомнением произнес Мак-Нил и встал.
Грант проследил глазами, как он направился к аптечке и ощупью отыскал маленький пузырек. Тот по-прежнему был полон: Грант предусмотрительно добавил туда порошка.
— Наверно, мне следовало бы взбеситься, — тем же обыденным тоном продолжал Мак-Нил, зажав двумя пальцами пузырек. — Но я не бешусь — может быть, потому что я никогда не питал особых иллюзий относительно человеческой натуры. И я ведь, конечно, давно заметил, к чему идет дело.
Только последняя фраза полностью проникла в сознание Гранта.
— Вы… заметили, к чему идет?
— О боже, да! Боюсь, для настоящего преступника вы слишком простодушны.
— Ну и что же вы намерены теперь делать? — нетерпеливо спросил Грант.
— Я, — спокойно ответил Мак-Нил, — продолжил бы дискуссию с того места, на каком она была прервана из-за этого кофе.
— Не думаете ли вы…
— Думаю! Думаю продолжить, как если бы ничего не произошло.
— Чушь! — вскричал Грант. — Вы хитрите!
Мак-Нил со вздохом опустил пузырек и твердо посмотрел на Гранта.
— Не ВАМ обвинять меня в интриганстве. Итак, я повторяю мое прежнее предложение, чтобы мы решили, кому принять яд… только решать мы будем теперь вдвоем. И яд, — он снова приподнял пузырек, — будет настоящий. От этой штуки остается лишь отвратительный вкус во рту.
У Гранта наконец мелькнула догадка.
— Вы подменили яд?
— Естественно. Вам, может быть, кажется, что вы хороший актер, Грант, но, по правде сказать, вас насквозь видно. Я понял, что вы что-то замышляете, пожалуй, раньше, чем вы сами отдали себе в этом отчет. За последние дни я обшарил весь корабль. Было даже забавно перебирать все способы, какими вы постараетесь от меня отделаться. Яд был настолько очевиден, что прежде всего я позаботился о нем. Но соль плохое дополнение к кофе.
Он снова невесело усмехнулся.
— Я рассчитал и более тонкие варианты. Я нашел уже пятнадцать абсолютно надежных способов убийства на космическом корабле. Но описывать их сейчас мне не хотелось бы.
«Это просто чудеса!» — думал Грант. С ним обходились не как с преступником, а как со школьником, не выучившим урока.
— И все-таки вы готовы начать все сначала? — недоверчиво спросил он. — И в случае проигрыша даже сами принять яд?
Мак-Нил долго молчал. Потом медленно начал снова:
— Я вижу, вы все еще мне не верите. Но я постараюсь вам объяснить. В сущности, все очень просто. Я брал от жизни все, что мог, не слишком терзаясь угрызениями совести. Но все лучшее у меня уже позади, и я не так сильно цепляюсь за остатки, как вам, возможно, кажется. Однако кое-что, ПОКА я жив, мне совершенно необходимо. Вас это, может быть, удивит, но дело в том, Грант, что некоторые принципы у меня имеются. В частности, я… я всегда старался вести себя как цивилизованный человек. Не скажу, что это всегда мне удавалось. Но, сделав что-либо неподобающее, я старался загладить свою вину.
Именно сейчас Грант начал его понимать. Только сейчас он почувствовал, как сильно заблуждался насчет Мак-Нила. Нет, заблуждался — не то слово. Во многом он был прав. Но он скользил взглядом по поверхности, не подозревая, какие под ней скрываются глубины.
В первый и — учитывая обстоятельства — единственный раз ему стали ясны истинные мотивы поведения инженера. Мак-Нилу с его так часто раздражающей Гранта самоуверенностью, вероятнее всего, было наплевать на общественное мнение. Но ради той же самоуверенности ему необходимо было любой ценой сохранить собственное доброе мнение о себе. Иначе жизнь утратит для него всякий смысл, а на такую жизнь он ни за что не согласится.
Инженер пристально наблюдал за Грантом и, наверно, почувствовал, что тот уже близок к истине, так как внезапно изменил тон, словно жалея об излишней откровенности:
— Не думайте, что мне нравится проявлять донкихотское благородство. Подойдем к делу исключительно с позиций здравого смысла. Какое-то соглашение мы ведь вынуждены принять. Приходило вам в голову, что, если один из нас спасется, не заручившись соответствующими показаниями другого, оправдаться перед людьми ему будет нелегко?
Это обстоятельство Грант в своей слепой ярости совершенно упустил из виду. Но он не верил, чтобы оно могло чересчур беспокоить Мак-Нила.
— Да, — сказал он, — пожалуй, вы правы.
Сейчас он чувствовал себя намного лучше. Ненависть испарилась, и на душе у него стало спокойнее. Даже то, что обстоятельства приняли совсем не тот поворот, какого он ждал, уже не слишком его тревожило.
— Ладно, — сказал он равнодушно, — покончим с этим. Где-то здесь должна быть колода карт.
— Я думаю, после жребия сделаем заявления для Венеры оба, — с какой-то особой настойчивостью возразил инженер. — Надо зафиксировать, что действуем мы по полному взаимному согласию — на случай, если потом придется отвечать на разные неловкие вопросы.
Грант безразлично кивнул. Он был уже на все согласен. Он даже улыбнулся, когда десятью минутами позднее вытащил из колоды карту и положил ее картинкой кверху рядом с картой Мак-Нила.
— И это вся история? — спросил первый помощник, соображая, через какое время прилично будет начать передачу.
— Да, — ровным тоном сказал Мак-Нил, — это вся история.
Помощник, кусая карандаш, подбирал формулировку для следующего вопроса.
— И Грант как будто воспринял все совершенно спокойно?
Капитан сделал свирепое лицо, а Мак-Нил холодно посмотрел на первого помощника, будто читая сквозь него крикливо-сенсационные газетные заголовки, и, встав, направился к иллюминатору.
— Вы ведь слышали его заявление по радио? Разве оно было недостаточно спокойным?
Помощник вздохнул. Плохо все же верилось, что в подобной ситуации двое людей бесстрастно вели себя. Помощнику рисовались ужасные драматические сцены: приступы безумия, даже попытки совершить убийство. А в рассказе Мак-Нила все выглядело так гладко!
Инженер заговорил снова, точно обращаясь к себе самому:
— Да, Грант очень хорошо держался… исключительно хорошо… Как жаль, что…
Он умолк: казалось, он целиком ушел в созерцание вечно юной, чарующей, прекрасной планеты. Она была уже совсем близко, и с каждой секундой расстояние до этого белоснежного, закрывшего полнеба серпа сокращалось на километры. Там, внизу, были жизнь, и тепло, и цивилизация… и воздух.
Будущее, с которым совсем недавно надо было, казалось, распроститься, снова открывалось впереди со всеми своими возможностями, со всеми чудесами. Но спиной Мак-Нил чувствовал взгляды своих спасителей — пристальные, испытующие… и укоризненные тоже.
Неувязка со временем
Перевод Ю. Данилова
— Что и говорить, преступления на Марсе совершаются не часто, — не без сожаления заметил инспектор уголовной полиции Роулинго. — По сути дела из-за этого мне и приходится возвращаться в Скотланд-Ярд. Задержись я здесь подольше, и от моей былой квалификации не осталось бы и следа.
Мы сидели в главном смотровом зале космопорта на Фобосе и любовались залитыми солнцем зубчатыми скалами крохотной марсианской луны. Ракетный паром, доставивший нас с Марса, отошел минут десять назад и сейчас начинал головокружительное падение на шар цвета охры, парящий среди звезд. Через полчаса мы должны были подняться на борт лайнера, отправлявшегося на Землю — в мир, где большинство пассажиров никогда не бывали, хотя и называли его по традиции своей «родиной».
— Но все же, — продолжал инспектор, — иногда и на Марсе случаются происшествия, которые оживляют тамошнюю жизнь. Вы, мистер Маккар, занимаетесь продажей произведений искусства и, должно быть, слыхали о переполохе в Меридиан-Сити, происшедшем несколько месяцев назад?
— Что-то не припомню, — ответил полный смуглый человечек, которого я было принял за возвращающегося на Землю туриста.
Инспектор, по-видимому, успел ознакомиться со списком пассажиров, отбывающих с очередным рейсом.
«Интересно, много ли ему удалось разузнать обо мне», — подумал я и попытался внушить себе, что совесть моя — гм! — достаточно чиста. В конце концов, каждый что-нибудь да провозит через марсианскую таможню.
— Мы старались не поднимать шума, — произнес инспектор, — но в делах такого рода огласка неизбежна. А случилось вот что: вор, специализирующийся на ограблении ювелирных магазинов, прибыл с Земли, чтобы похитить величайшее сокровище музея в Меридиан-Сити — богиню Сирен.
— Что за нелепая идея! — возразил я. — Статуя богини, конечно, бесценна, но ведь это просто камень, обломок песчаника. Ее нельзя продать. С таким же успехом можно было бы похитить, например, «Мону Лизу».
Инспектор широко улыбнулся.
— Такое тоже случалось, — сказал он. — Возможно, и мотив преступления в обоих случаях был одним и тем же. Некоторые коллекционеры с готовностью отдали бы за такой предмет искусства целое состояние, даже если бы любоваться им смогли только в одиночестве. Вы согласны, мистер Маккар?
— Совершенно с вами согласен. По роду своей деятельности мне приходится иметь дело с сумасшедшими самого различного толка.
— Так вот, кто-то из таких, с позволения сказать, коллекционеров и нанял нашего красавчика — звали его Дэнни Уивер, — и только исключительное невезение помешало ему похитить статуэтку богини.
Диктор информационного центра космопорта сообщил, что наш рейс задерживается из-за необходимости произвести контрольные замеры горючего, и попросил нескольких пассажиров подойти к справочному бюро. Пока мы дожидались конца объявления, я припомнил то немногое, что знал о богине Сирен.
Хотя мне никогда не доводилось видеть оригинал, я, подобно большинству туристов, отбывающих с Марса, увозил в своем багаже его копию. В сопроводительном документе, выданном Марсианским бюро по охране памятников древности, удостоверялось, что это «точная копия в натуральную величину так называемой богини Сирен, открытой в Море Сирен третьей экспедицией в 2012 г.».
Трудно поверить, что такая миниатюрная вещица могла вызвать столько споров. Величиной она была дюймов восемь или девять. Будь она выставлена в каком-нибудь музее на Земле, вы бы прошли мимо, не обратив на нее никакою внимания. Головка молодой женщины, в чертах лица есть что-то восточное, мочки ушей несколько оттянуты, завитки мелко вьющихся волос плотно прилегают ко лбу, губы чуть раскрыты, словно от радости или удивления, — вот и все. Но тайна ее происхождения настолько опрокидывала все привычные представления, что послужила толчком к возникновению доброй сотни религиозных сект и свела с ума не одного археолога. И было от чего тронуться: откуда могла взяться чисто человеческая голова на Марсе, где единственными разумными существами были ракообразные — «интеллектуальные омары», как любят их называть наши газеты? Коренные марсиане даже близко не подошли к тому уровню развития, на котором становятся возможными космические полеты, и, во всяком случае, их цивилизация погибла задолго до появления человека на Земле. Неудивительно, что богиня Сирен стала загадкой номер один Солнечной системы. Не думаю, что при жизни моего поколения нам удастся решить эту загадку, если ее вообще удастся когда-нибудь решить.
— Разработанный Дэнни план был весьма прост, — прервал молчание инспектор. — Вы знаете, сколь пустыми становятся марсианские города по воскресеньям, когда все закрыто и колонисты сидят по домам перед телевизорами и смотрят передачу с Земли. Дэнни на это и рассчитывай, когда в пятницу вечером остановился в гостинице в Западном Меридиан-Сити. Субботу он отвел на то, чтобы осмотреться в музее, воскресенье — чтобы без помех заняться делом, а в понедельник утром вместе с другими туристами надеялся покинуть город…
В субботу утром он пересек небольшой парк и оказался в Восточном Меридиан-Сити, где находится музей. Как вам, может быть, приходилось слышать, свое название Меридиан-Сити получил потому, что расположен на сто восьмидесятом градусе — не больше и не меньше. В городском парке установлена каменная глыба, на которой высечен меридиан, разделяющий Марс на два полушария. Посетители парка любят фотографироваться у этого обелиска, стоя одной ногой в одном, а другой в другом полушарии. Просто удивительно, до чего такие вещи могут забавлять некоторых!
Целый день Дэнни, как и всякий турист, слонялся по музею. Но, когда подошло время закрытия, он не покинул музей, а тайком пробрался в один из залов, закрытых для посетителей, где готовилась экспозиция, посвященная периоду строительства каналов. Там Дэнни оставался примерно до полуночи на тот случай, если какому-нибудь энтузиасту-исследователю вздумается задержаться в здании музея. В полночь Дэнни вышел из своего укрытия и приступил к делу.
— Простите, — прервал я инспектора, — а как же ночной сторож?
Инспектор рассмеялся.
— Дорогой мой, на Марсе неизвестна такая роскошь, как ночные сторожа, в музее нет даже сигнализации. Да и зачем: кому может прийти в голову красть куски камня? Правда, богиня находится в тщательно опечатанной витрине из стекла и металла, но это на случай, если какой-нибудь любитель сувениров воспылает к ней преступной страстью. Но даже если бы кто-нибудь похитил богиню, вору все равно негде было бы спрятать свою добычу. Как только обнаружилась бы пропажа, весь отходящий транспорт подвергли бы тщательнейшему обыску.
В том, что сказал инспектор, была изрядная доля истины. Я мыслил земными категориями, забыв о том, что каждый город на Марсе — это замкнутый мир, живущий своей особой жизнью под защитным полем, ограждающим его от леденящего вакуума или почти вакуума. За спасительными экранами электронной зашиты простирается крайне враждебная пустота марсианских пустынь, где человек, лишенный спасительной оболочки, погибает в считанные секунды. Принудить к неукоснительному соблюдению законов в такой обстановке очень легко. Неудивительно, что на Марсе совершается так мало преступлений.
— У Дэнни с собой был превосходный набор инструментов, каждый предмет в нем был предназначен, как у часовщика, для выполнения определенной операции. Украшением набора была микропила размером с паяльник. Ее режущая кромка тоньше папиросной бумаги приводилась в движение миниатюрным ультразвуковым генератором и совершала миллион колебаний в секунду. Она легко, словно через масло, проходила сквозь стекло и металл, оставляя прорезь, которая была тоньше человеческого волоса, что было особенно важно для Дэнни в его предприятии.
Думаю, вы и сами догадались, как намеревался действовать грабитель. План его был прост: прорезать отверстие в витрине и подменить подлинную богиню копией, которых навалом в сувенирных магазинах. Мог бы пройти не один год, прежде чем какой-нибудь дотошный знаток докопался бы до истины. А подлинная богиня давным-давно достигла бы Земли, идеально замаскированная под собственную копию с официальным документом, удостоверяющим аутентичность. Ловко придумано, не правда ли?
Жутковато, должно быть, было Дэнни работать в темном зале, где тебя со всех сторон окружают какие-то барельефы и непонятные предметы, насчитывающие не один миллион лет. И в земном музее ночью не очень-то уютно, но там по крайней мере все — как бы это поточнее выразиться? — человеческое. В зале номер три нельзя было ступить и шагу, чтобы не натолкнуться на барельеф с изображением самых невероятных чудовищ, вступивших между собой в отчаянную схватку не на жизнь, а на смерть. Внешне эти чудовища напоминали гигантских жуков, и большинство палеонтологов категорически отрицали саму возможность их существования. Но, вымышленные или реальные, они принадлежали марсианскому миру и не беспокоили Дэнни так, как богиня, молча взиравшая на него сквозь века и решительно отказывавшаяся объяснить свое появление. Дэнни чувствовал, что от ее взгляда по спине бегают мурашки. Откуда я все это знаю? Да от самого Дэнни.
К вскрытию витрины Дэнни приступил, словно огранщик алмазов к разрезанию уникального камня. Почти вся ночь ушла на то, чтобы прорезать люк в витрине, и, когда работа почти подошла к концу, Дэнни решил немного передохнуть и отложил пилу в сторону. Многое еще оставалось сделать, но самое трудное было позади. На то, чтобы заменить подлинную богиню копией, проверить точность установки по фотографиям, предусмотрительно захваченным с собой, и уничтожить следы, должно было уйти почти все воскресенье, но Дэнни это ничуть не заботило: у него в запасе оставались еще двадцать четыре часа, а в понедельник можно будет с нетерпением ждать первых посетителей, чтобы, смешавшись с ними, незаметно покинуть музей.
Нужно ли говорить, как потрясен был Дэнни, когда на следующее утро ровно в восемь тридцать главные двери музея с шумом отворились и служители — все шестеро — принялись готовить все к началу рабочего дня. Дэнни едва успел ретироваться через запасный выход, бросив и инструменты, и богиню. Еще один сюрприз ожидал его, когда он очутился на улице. В это время дня на ней не должно было быть ни души: все поселенцы в воскресенье утром обычно сидят дома за чтением газет. А здесь — улица бурлила: обитатели Восточного Меридиан-Сити спешили кто на завод, кто в учреждение так, словно был обычный рабочий день.
К тому времени, когда несчастный Дэнни добрался до гостиницы, мы уже поджидали его. Хвастаться нам было нечем: не так уж трудно было понять, что забыть об основной достопримечательности Меридиан-Сити, его главном шансе на славу, мог только единственный гость с Земли, причем гость, прибывший недавно. Вы, конечно, знаете, в чем главная достопримечательность Меридиан-Сити?
— Нет, — признался я чистосердечно. — Шесть недель не слишком большой срок даже для поверхностного знакомства с Марсом, и к востоку от Большого Сырта мне так и не довелось побывать.
— Не беда, сейчас поймете, в чем причина постигшей Дэнни неудачи. Все объясняется до смешного просто. Впрочем, не будем судить о Дэнни слишком строго. Бывает, что даже местные жители попадают в ту же ловушку. Аналогичная проблема возникает и у нас на Земле, но мы не испытываем никаких затруднений лишь потому, что просто-напросто топим ее в Тихом океане. На Марсе кругом, куда ни глянь, суша, поэтому кому-то приходится жить и на линии смены дат.
Дэнни, как вы помните, отправился на дело из Западного Меридиан-Сити, где воскресенье действительно наступило. И, когда мы прибыли в гостиницу, чтобы арестовать Дэнни, там по-прежнему было воскресенье. Но всего лишь в полумиле от гостиницы — в Восточном Меридиан-Сити — была еще суббота. Небольшая прогулка через парк решила исход столь хитроумно задуманного предприятия. Я же с самого начала сказал вам, что дело сорвалось из-за дьявольского невезения.
Мы сочувственно помолчали, потом я спросил:
— Сколько ему дали?
— Три года, — ответил инспектор Роулинго.
— Не очень много.
— Три марсианских года, то есть почти шесть земных. К тому же его приговорили к штрафу в размере стоимости обратного билета на Землю! Странное совпадение. Разумеется, он находится не в тюрьме. Марс не может себе позволить столь расточительную роскошь. Дэнни живет под строгим надзором и вынужден зарабатывать себе на жизнь. Я говорил вам, что в музее Меридиан-Сити не было ночных сторожей. Теперь у музея есть один ночной сторож. Угадайте кто.
— Всех пассажиров просят приготовиться к посадке. Она начнется через десять минут! Не забудьте свой ручной багаж! — раздался повелительный голос из громкоговорителей.
Когда мы двинулись к галерее, откуда производилась посадка, я не удержался и задал инспектору еще один вопрос:
— А что стало с людьми, которые наняли Дэнни и толкнули его на преступление? Деньги за ним были немалые. Вам удалось установить, кто эти люди?
— Пока еще многое неизвестно. Они тщательно замели следы. Дэнни говорил правду, когда заявил на следствии, что не может дать в руки правосудия никаких нитей, ведущих к тем, кто стоял за ним. Впрочем, сейчас это уже не мое дело. Как я вам уже сообщил, я возвращаюсь на свою работу в Скотланд-Ярде. Но полицейский всегда должен быть начеку, как и торговец произведениями искусства, не правда ли, мистер Маккар? Что с вами? Вам нехорошо? На вас лица нет! Ваг примите таблетку от космической болезни.
— Благодарю вас, мне уже лучше, — попытался через силу улыбнуться мистер Маккар.
Тон его был явно враждебным. За последние несколько минут беседы температура явно упала ниже нуля. Я взглянул на мистера Маккара, потом перевел взгляд на инспектора и вдруг понял, что нам предстоит увлекательнейшее путешествие.
Юпитер Пять
Перевод Л. Жданова
Профессор Форстер такой коротышка, что для него пришлось сделать особый космический скафандр. Однако, как это часто бывает, малый рост с лихвой возмещается кипучей энергией и задором. Когда я познакомился с ним, он уже двадцать лет добивался осуществления своей мечты. Больше того, он сумел убедить множество трезвых дельцов, депутатов Всемирного совета и руководителей научных трестов, чтобы они финансировали его проект и снарядили для него корабль. Потом было немало примечательных событий, но я по-прежнему считаю это самым поразительным из достижений профессора…
«Арнольд Тойнби» стартовал с Земли с командой из шести человек. Кроме профессора и его главного помощника Чарльза Эштона, в состав экспедиции вошла обычная троица — пилот, штурман, инженер, а также два аспиранта, Билл Хоукинс и я. Мы с Биллом еще ни разу не бывали в космосе, и все нам казалось до того увлекательным, что нас нисколько не волновало, успеем ли мы вернуться на Землю до начала следующего семестра. Между прочим, нашего научного руководителя это, по-видимому, тоже не волновало. Характеристики, которые он нам написал, были полны экивоков, но так как людей, мало-мальски разбирающихся в марсианских письменах, можно было сосчитать по пальцам одной руки (извините за штамп), нас взяли.
Поскольку летели мы на Юпитер, а не на Марс, было не совсем ясно, при чем тут марсианские письмена. Но мы кое-что знали о теории профессора и строили весьма хитроумные догадки. Они подтвердились — частично — на десятый день после отлета.
Когда по вызову профессора мы явились в его кабину, он встретил нас оценивающим взглядом. Даже при нулевой силе тяжести, когда мы цеплялись за что попало и уподоблялись плавающим водорослям, профессор Форстер всегда ухитрялся сохранять достоинство. Он посмотрел на Билла, потом на меня, потом опять на Билла, и мне показалось (конечно, я мог ошибиться), что он думает: «За что мне такое наказание?» Последовал глубокий вздох, явно означавший: «Все равно теперь уже поздно, ничего не поделаешь», и профессор заговорил — медленно, терпеливо, как обычно, когда он что-нибудь объясняет. Во всяком случае, он обычно говорит таким тоном с нами. Правда, мне сейчас пришло в голову, что… ладно, не будем отвлекаться.
— До сих пор, — начал он, — у меня просто не было времени рассказать вам о цели нашей экспедиции. Но может быть, вы уже догадались?
— Мне кажется, я догадался, — ответил Билл.
— Ну-ка, послушаем. — В глазах профессора мелькнул задорный огонек.
Я хотел остановить Билла, но вы пробовали лягнуть кого-нибудь в состоянии невесомости?
— Вы ищете доказательства… то есть дополнительные доказательства вашей теории о диффузии внеземных культур.
— А как вы думаете, почему я ишу их на Юпитере?
— Точно не знаю, но мне кажется, вы рассчитываете найти что-нибудь на одном из его спутников…
— Блестяще, Билл, блестяще. Известно пятнадцать спутников Юпитера, причем их общая площадь приблизительно равна половине земной поверхности. Где бы вы начали поиски, будь у вас на то неделька-другая? Мне это весьма интересно узнать.
Билл неуверенно поглядел на профессора, точно заподозрив его в сарказме.
— Я не очень силен в астрономии, — сказал он, — Но, кажется, в числе этих пятнадцати спутников есть четыре большие луны. Я бы начал с них.
— К вашему сведению, каждая из этих лун — Ио, Европа, Ганимед и Каллисто — по величине равна Африке. Вы стали бы обследовать их в алфавитном порядке?
— Нет, — сразу ответил Билл. — Я начал бы с той из них, которая ближе к планете.
— Пожалуй, не стоит больше напрасно тратить время на изучение вашей способности логически мыслить. — Профессор вздохнул, ему явно не терпелось начать заготовленную речь. — К тому же вы глубоко ошибаетесь. Большие спутники нам ни к чему. Их давно сфотографировали, а часть поверхности изучена непосредственно. Там нет ничего интересного для археолога. Мы же с вами летим на объект, который еще никто не исследовал.
— Неужели на Юпитер! — ахнул я.
— Что вы, к чему такие крайности! Но мы будем к нему так близко, как еще никто не бывал.
Он помолчат.
— Как известно — впрочем, вам это вряд ли известно, — между спутниками Юпитера путешествовать почти так же трудно, как между планетами, хотя расстояния намного меньше. Это объясняется тем, что у Юпитера мощнейшее гравитационное поле и спутники обращаются вокруг него с удивительной быстротой. Наиболее близкий к планете спутник движется почти со скоростью Земли, и, чтобы попасть на него с Ганимеда, требуется примерно столько же горючего, сколько на маршруте Земля — Венера, хотя весь перелет занимает полтора дня. Вот этот-то перелет мы и осуществим. Никто до нас не летал туда, нечем было оправдать такие затраты. Диаметр Юпитера Пять всего каких-нибудь тридцать километров, и от него ничего интересного не ждали. На внешние спутники попасть куда легче, и все же на некоторые из них еще ни разу никто не высаживался — что толку зря расходовать горючее!
— Почему же мы его расходуем? — нетерпеливо перебил я.
Я считал, что из затеи профессора ничего не выйдет, но это меня не очень тревожило: было бы интересно и не слишком опасно.
Пожалуй, стоит сознаться (а впрочем, стоит ли? Ведь другие об этом помалкивают!), что в то время я абсолютно не верил в теорию профессора Форстера. Конечно, я понимал, что он блестящий специалист в своей области, но всему есть предел, и наиболее фантастические его идеи казались мне нелепостью. Нет, в самом деле, свидетельства были настолько шаткими, а выводы — настолько революционными, что поневоле усомнишься.
Возможно, вы еще помните, как был удивлен мир, когда первая экспедиция на Марс обнаружила следы не одной, а двух древних цивилизаций. Обе достигли высокого развития, но обе погибли свыше пяти миллионов лет назад. Причину их гибели пока установить не удалось. Во всяком случае, их погубила не война, потому что обе цивилизации благополучно сосуществовали. Представители одного народа биологически напоминали насекомых, а представители второго были ближе к пресмыкающимся. По-видимому, аборигенами Марса были насекомые. Люди-рептилии (их цивилизацию обычно называют «культурой X») прибыли на планету позднее.
Во всяком случае, так считал профессор Форстер. Точно известно, что они владели секретом космических полетов: развалины их крестообразных городов были обнаружены не более и не менее как на Меркурии. По мнению Форстера, они пытались освоить все малые планеты; Земля и Венера им не подходили из-за большой силы тяжести. Профессора несколько огорчало, что на Луне не нашли никаких следов «культуры X», но он был уверен, что их найдут.
По общепринятой теории «культура X» первоначально возникла на какой-то малой планете или на спутнике. Люди-рептилии установили мирный контакт с марсианами — в ту пору единственными, кроме них, разумными существами в Солнечной системе, — но затем их цивилизация погибла одновременно с марсианской. Однако профессор Форстер построил куда более смелую гипотезу. Он не сомневался, что «культура X» явилась в Солнечную систему из межзвездного пространства, и его раздражало, что никто, кроме него, не верил в эту теорию; впрочем, не так уж сильно раздражало, ибо он принадлежит к числу людей, которые счастливы только тогда, когда находятся в меньшинстве.
Слушая рассказ профессора о его плане, я смотрел в иллюминатор на Юпитер. Это было великолепное зрелище. Вот экваториальные пояса облаков, а вот, рядом с планетой, словно маленькие звездочки, — три спутника. Который из них Ганимед, первая остановка на нашем пути?
— Если Джек удостоит нас своим вниманием, — продолжал профессор, — я объясню, почему мы отправились в такую даль. Вы знаете, что в прошлом году я довольно много копался в развалинах в сумеречной зоне Меркурия. Возможно, вы знакомы с докладом, который я прочел по этому вопросу в Лондонском институте экономики. Может быть, вы даже сами сидели в аудитории. Помнится мне, в задних рядах был какой-то шум… Так вот: тогда я умолчал о том, что обнаружил на Меркурии важный ключ к разгадке происхождения «культуры X». Да-да, я ничего не сказал, как ни соблазнительно было дать сдачи тупицам вроде доктора Хотона, когда они пытались прохаживаться на мой счет. Не мог же я рисковать, что кто-нибудь доберется туда прежде, чем я смогу организовать экспедицию.
В числе моих находок был хорошо сохранившийся барельеф с изображением Солнечной системы. Конечно, это не первое открытие такого рода — как вы знаете, астрономические мотивы часто встречаются и в собственно марсианском искусстве, и в искусстве «культуры X». Но здесь рядом с несколькими планетами, включая Марс и Меркурий, были проставлены какие-то непонятные значки. По-моему, эти символы как-то связаны с историей «культуры X». И, что всего любопытнее, особое внимание почему-то обращено на маленький Юпитер Пять, чуть ли не самый неприметный из спутников Юпитера. Я убежден, что именно там можно найти ключ ко всей проблеме «культуры X», — вот почему я и лечу туда.
Помнится, тогда рассказ профессора не произвел на нас с Биллом большого впечатления. Допустим, представители «культуры X» побывали на «Пятерке» и даже почему-то оставили там свои изделия. Конечно, было бы интересно раскопать их, но вряд ли они окажутся такими важными, как думает профессор. Вероятно, он был разочарован тем, как мало восторга мы проявили. Но он был сам виноват, потому что — мы в этом вскоре убедились — все еще кое-что таил от нас.
Примерно через неделю мы высадились на Ганимеде, крупнейшем спутнике Юпитера и единственном, на котором есть постоянная база — обсерватория и геофизическая станция с полусотней сотрудников. Все они были рады гостям, но мы задержались ненадолго, только для заправки, профессору не терпелось лететь дальше. Естественно, всех заинтересовало, почему мы направляемся именно на «Пятерку», но профессор хранил молчание, а мы не смели его нарушить — он не спускал с нас глаз.
Ганимед, между прочим, очень интересное место, и на обратном пути нам удалось поближе с ним познакомиться. Но я обещал статью о нем другому журналу, так что не буду распространяться здесь. (Постарайтесь не пропустить очередного номера «Национального астрографического журнала».)
Прыжок с Ганимеда на «Пятерку» занял чуть больше полутора дней. Было немного жутко наблюдать, как Юпитер растет с каждым часом, грозя заполнить все небо. Я мало смыслю в астрономии, но меня не покидала мысль о чудовищном гравитационном поле, в которое мы падали. Мало ли что может случиться! Скажем, горючее кончится и мы не сумеем вернуться на Ганимед, а то и упадем на Юпитер.
Хотел бы я описать это зрелище: вращающийся перед нами колоссальный шар, опоясанный полосами свирепых бурь… Откровенно говоря, я даже попытался, но мои друзья литераторы, читавшие рукопись, посоветовали мне выбросить этот кусок. (Они надавали мне еще кучу советов, которые я решил не принимать всерьез, иначе этот рассказ вообще не увидел бы света.)
К счастью, теперь опубликовано столько цветных «портретов» Юпитера, что вы не могли их не видеть. Возможно, вам попался и тот снимок, который был причиной всех наших неприятностей. (Дальше вам все будет ясно.)
Наконец Юпитер перестал расти; мы вышли на орбиту «Пятерки», вот-вот — и мы догоним крохотную луну, стремительно обращавшуюся вокруг своей планеты. Все мы втиснулись в рубку, чтобы как можно раньше увидеть цель, — во всяком случае, все, кому хватило места. Мы с Биллом стояли у входа, пытаясь хоть что-то разглядеть через головы остальных. Кингсли Сирл, наш пилот, сидел в своем кресле, как всегда невозмутимый, инженер Эрик Фултон задумчиво жевал ус, глядя на топливомер, а Тони Грувс колдовал над своими таблицами.
Профессор словно прирос к окуляру телеперископа. Вдруг он вздрогнул и тихо ахнул. Потом молча кивнул Сирлу и уступил ему место у окуляра. Та же картина. Сирла сменил Фултон. Когда вздрогнул и Грувс, нам это надоело, мы протиснулись к окуляру и после короткого боя овладели им.
Не знаю, что именно я рассчитывал увидеть, во всяком случае, я был разочарован. В пространстве перед нами висела неполная луна, ее ночной сектор едва просматривался в отраженном свете Юпитера. И все.
Но вот мои глаза, как это бывает, когда достаточно долго смотришь в телескоп, начали различать детали. Поверхность спутника покрывали тонкие пересекающиеся линии, и вдруг я уловил в них определенную закономерность. Да-да, эти линии образовали геометрически правильную сетку, совсем как параллели и меридианы на земном глобусе. Вероятно, я тоже присвистнул от удивления, потому что Билл оттер меня и сам прильнул к окуляру.
До чего же самодовольный вид был у профессора Форстера, когда мы засыпали его вопросами.
— Конечно, — объяснил он, — для меня это не такая неожиданность, как для вас. Помимо барельефа, найденного на Меркурии, я располагал еще и другими данными. В обсерватории на Ганимеде работает один мой друг — я посвятил его в свою тайну, и последние несколько недель он основательно потрудился для меня. Человек посторонний удивился бы, как мало обсерватория занималась спутниками. Самые мощные приборы наведены на внегалактические туманности, а остальные — на Юпитер и только на Юпитер.
Что касается «Пятерки», то сотрудники обсерватории измерили ее диаметр и сделали несколько общих снимков, чем дело и ограничилось. Снимки вышли недостаточно четкие и не выявили линий, которые мы с вами сейчас видели, не то, конечно, этим вопросом занялись бы раньше. Стоило мне попросить моего друга Лоутона навести на «Пятерку» стосантиметровый рефлектор, как он их сразу обнаружил. Кроме того, он отметил одну вещь, на которую давно следовало бы обратить внимание. Диаметр «Пятерки» — всего тридцать километров, но яркость никак не соответствует таким малым размерам. Когда сравниваешь ее отражательную способность, или альдеб… аль…
— Альбедо!
— Спасибо, Тони… Когда сравниваешь ее альбедо с альбедо других лун, оказывается, что она гораздо лучше их отражает свет. Отражает, как полированный металл, а не как горная порода.
— Вот оно что! — воскликнул я, — Народ «культуры X» покрыл «Пятерку» внешней оболочкой! Что-то вроде куполов, которые мы знаем по Меркурию, только побольше.
Профессор поглядел на меня с явным состраданием.
— Вы все еще не догадались! — сказал он.
По-моему, это было не совсем справедливо с его стороны. Скажите откровенно: вы на моем месте лучше справились бы с задачей?
Через три часа мы опустились на огромную металлическую равнину. Глядя в иллюминатор, я чувствовал себя карликом. Муравей, взобравшийся на газгольдер, наверно, понял бы меня.
А тут еще громада Юпитера над головой. Даже обычная самоуверенность профессора как будто уступила место почтительной робости.
Равнина была не совсем гладкой. Ее прочерчивали широкие полосы на стыках громадных металлических плит. Эти самые полосы, вернее, образованную ими сетку мы и видели из космоса.
Метрах в трехстах от нас возвышаюсь что-то вроде пригорка. Мы заприметили его еще в полете, когда обследовали маленький спутник с высоты. Всего таких выступов было шесть. Четыре помешатись на равном расстоянии друг от друга вдоль экватора, два на полюсах. Напрашивалась догадка, что перед нами входы, ведущие внутрь металлической оболочки.
Я знаю, многие думают, будто бродить в космическом скафандре по планете с малым тяготением, без атмосферы — занятие чрезвычайно увлекательное. Эти люди ошибаются. Нужно столько всего помнить, делать столько проверок и принимать столько мер предосторожности, что туг уж не до романтики. Во всяком случае, лак обстоит дело со мной. Правда, на этот раз я был так возбужден, когда мы выбрались из шлюза, что не помнил абсолютно ничего.
Сила тяжести на «Пятерке» так мала, что ходить там нельзя. Связанные, как альпинисты, мы скользили по металлической равнине, используя отдачу реактивных пистолетов. На концах цепочки находились опытные космонавты Фултон и Грувс, и всякая опрометчивая инициатива тотчас тормозилась.
Через несколько минут мы добрались до цели — широкого, низкого купола около километра в окружности. А может быть, это огромный воздушный шлюз, способный принять целый космический корабль?.. Все равно мы сможем проникнуть внутрь только благодаря какой-нибудь счастливой случайности — ведь механизмы, несомненно, давно испортились, да хоть бы и не испортились, нам с ними не справиться. Что может быть мучительнее: стоять на пороге величайшего археологического открытия и ощущать свою полнейшую беспомощность!
Мы обогнули примерно четверть окружности купола, когда увидели зияющее отверстие в металлической оболочке. Оно было невелико, метра два в поперечнике, и настолько правильной формы, что мы даже не сразу сообразили, что это такое. Потом я услышал в радиофоне голос Тони:
— А ведь это не искусственное отверстие. Мы обязаны им какому-то метеориту.
— Не может быть! — возразил профессор Форстер. — Оно слишком правильное.
Тони стоял на своем.
— Большие метеориты всегда оставляют круглые отверстия, разве что удар был направлен по касательной. Посмотрите на края — сразу видно, что был взрыв. Вероятно, сам метеор вместе с оболочкой испарились и мы не найдем никаких осколков.
— Что ж, это вполне возможно, — вставил Кингсли. — Сколько стоит эта конструкция? Пять миллионов лет? Удивительно, что мы не нашли других кратеров.
— Возможно, вы угадали. — На радостях профессор даже не стал сморить. — Так или иначе, я войду первым.
— Хорошо, — сказал Кингсли; ему, как капитану, принадлежало последнее слово в таких вопросах. — Я вытравлю двадцать метров троса и сам сяду на краю, чтобы можно было поддерживать радиосвязь. А не то оболочка будет экранировать.
И профессор Форстер первым вошел внутрь «Пятерки» — честь, принадлежавшая ему по праву. А мы столпились около Кингсли, чтобы он мог нам передавать, что говорит профессор.
Форстер ушел недалеко. Как и следовало ожидать, внутри первой оболочки была вторая. Расстояние между ними позволяло стоять во весь рост, и, светя фонариком в разные стороны, он всюду видел ряды подпорок и стоек, но и только.
Прошло еще двадцать четыре томительных часа, прежде чем нам удалось проникнуть дальше. Помню, под конец я не выдержал и спросил профессора, как это он не догадался захватить взрывчатки. Профессор обиженно посмотрел на меня.
— Того, что есть на корабле, хватит, чтобы всех нас отправить на тот свет, — ответил он. — Но взрывать — значит рисковать что-нибудь разрушить. Лучше постараемся придумать другой способ.
Вот это выдержка! Впрочем, я его понимал. Что такое лишний день, если ищешь уже двадцать лет?
Вход нашел — кто бы вы думали? — Билл Хоукинс. Возле северного полюса этой маленькой планеты он обнаружил громадную, метров сто в поперечнике пробоину^Метеорит пробил тут обе внешние оболочки. Правда, за ними оказалась еще третья, но благодаря одному из тех совпадений, которые случаются, если прождать несколько миллионов лет, в это отверстие угодил другой метеорит, поменьше, и пропорол ее. Третья пробоина была совсем небольшая, только-только пролезть человеку в скафандре. Мы нырнули в нее один за другим.
Наверно, во всю жизнь мне не доведется испытать такого странного чувства, какое владело мной, когда я висел под этим исполинским сводом, будто паук под куполом собора Святого Петра. Мы знали, что нас окружает огромное пространство, но не знали, как оно велико, потому что свет фонарей не давал возможности судить о расстоянии. Здесь не было пыли, не было воздуха, поэтому лучи были попросту невидимы. Направишь луч на купол — светлый опал скользит все дальше, расплывается и наконец совсем пропадает. Посветишь «вниз» — видно какое-то бледное пятно, но так далеко, что ничего не разобрать.
Под действием еле заметной силы тяжести мы медленно падали, пока нас не остановили тросы. Над собой я видел мерцающий кружок там, где мы входили; конечно, далековато, но все-таки легче на душе.
Я раскачивался на тросе, во тьме кругов мерцали бледные звездочки — фонарики моих товарищей, и тут меня вдруг осенило. Забыв, что все радиофоны настроены на одну волну, я завопил:
— Профессор, по-моему, это вовсе не планета! Это космический корабль.
И тут же смолк, чувствуя себя последним дураком. Секунду царила напряженная тишина, затем она сменилась нестройным гулом — все заговорили разом. Тем не менее я разобрал голос профессора Форстера и сразу понял, что он удивлен и доволен.
— Совершенно верно, Джек. На этом корабле «культура X» прибыла в Солнечную систему.
Кто-то — кажется, Эрик Фултон — недоверчиво хмыкнул.
— Это фантастика! Корабль поперечником в тридцать километров!
— Уж вы-то должны в этом разбираться, — заметил профессор неожиданно кротко. — Представьте себе, что какая-то цивилизация задумала пересечь межзвездное пространство — как решить задачу? Только так: собрать в космосе управляемый планетоид, хотя бы на это ушло не одно столетие. Ведь надо обеспечить несколько поколений всем необходимым, поэтому корабль должен быть самостоятельным миром, отсюда такие размеры. Кто знает, сколько солнц они облетели, прежде чем нашли наше и кончились их поиски? Наверно, у них были и другие корабли, поменьше, чтобы спускаться на планеты, база же в это время оставалась где-нибудь в космосе. Они выбрали эту орбиту вокруг самой большой планеты, где можно было спокойно оставить корабль на веки вечные — или до той поры, пока он не понадобится опять. Простейшая логика: если пустить базу вокруг Солнца, со временем притяжение планет изменит ее орбиту настолько, что потом не отышешь. Здесь же ничего подобного произойти не могло.
— Скажите, профессор, — спросил кто-то, — вы все это знали еще до начала экспедиции?
— Предполагал… Такой вывод подсказывали все факты. Пятый спутник всегда отличался некоторыми странностями, но до сих пор на это как-то не обращали внимания. Почему эта крохотная луна находится так близко от Юпитера, в семьдесят раз ближе, чем остальные малые спутники? С точки зрения астрономии это нелепо. А теперь довольно болтовни. Нас ждет работа.
И какая это была работа! На долю нашей семерки выпало величайшее археологическое открытие всех времен, и нам предстояло исследовать целый мир — пусть маленький, пусть искусственный, но все-таки мир. Что мы могли сделать? Наскоро провести беглую разведку, ведь материала здесь было достаточно для поколений исследователей.
Прежде всего мы спустили в проем мощный прожектор, подвешенный на длинном кабеле, который соединял его с кораблем. Прожектор должен был не только освещать внутреннюю часть спутника (до сих пор не могу заставить себя называть «Пятерку» кораблем), но и служить нам маяком. Затем мы спустились вдоль кабеля до следующего яруса. При такой малой силе тяжести падение с высоты в один километр ничем не грозило; легкий толчок полностью погашался пружинящими шестами, которыми мы вооружились.
Не буду занимать место описанием всех чудес «Пятерки», и без того опубликовано достаточно снимков, карт и книг. (Кстати, следующим летом в издательстве «Сиджвик энд Джексон» выйдет моя книга.) Что мне хотелось бы, так это передать вам ощущения людей, которые первыми проникли в этот странный металлический мир. Но я, поверьте, просто не помню, что чувствовал, когда мы увидели первую входную шахту, словно накрытую исполинским грибом. Должно быть, случившееся чудо настолько поразило и взволновало меня, что частности просто забылись. Однако я помню, какое впечатление произвели на меня размеры конструкции. Этого никакие фотографии не могут передать. Создатели «Пятерки», уроженцы Планеты с небольшим тяготением, были настоящие великаны, в четыре человеческих роста. Рядом с их сооружениями мы выглядели пигмеями.
В тот первый раз мы не проникли дальше верхних ярусов и не видели тех чудес науки, которые были открыты последующими экспедициями. Да нам и в жилых отсеках хватало работы; проживи мы несколько жизней, и то не управились бы со всем. По-видимому, в прошлом внутренний шар освещался искусственным солнечным светом, источником которого была тройная защитная оболочка, не позволявшая атмосфере улетучиться в космос. На поверхности шара юпитеряне (так уж повелось называть представителей «культуры X») старательно воспроизвели условия покинутого ими мира. Вполне возможно, что у них были дожди и туманы, дни и ночи, сменялись времена года. Они взяли с собой в изгнание даже крохотное «море». Вода сохранилась, превратившись в ледяное поле шириной около трех километров. Говорят, как только будут заделаны пробоины в наружных оболочках, воду подвергнут электролизу и восстановят на «Пятерке» атмосферу.
Чем больше мы видели, тем больше нам нравились существа, в чьи владения мы вторглись впервые за пять миллионов лет. Они были великанами, они прилетели из другой Солнечной системы, но в них было много человеческого. И бесконечно жаль, что наши цивилизации разминулись на какие-то секунды, если мерить космическими масштабами.
Наверное, еще никому в истории археологии так не везло, как нам. Во-первых, космический вакуум предохранил все от разрушения. Во-вторых, юпитеряне — на это уж никак нельзя было рассчитывать, — принимаясь осваивать Солнечную систему, оставили на корабле немало сокровищ. На поверхности внутреннего шара все выглядело так, как будто долгое путешествие корабля закончилось только вчера. Возможно, странники решили сберечь базу как святыню, как память о покинутой родине, а может быть, думали, что им эти вещи еще когда-нибудь пригодятся.
Так или иначе, все сохранилось в первозданном виде. Иной раз даже страшно становилось. Фотографирую вместе с Биллом великолепную резьбу, и вдруг буквально душа сжимается от чувства какой-то вневременности. И я пугливо озираюсь: кажется, вот-вот в эти стрельчатые двери войдут великаны и возобновят прерванную на миг работу.
Мы открыли галерею искусств на четвертый день. Иначе не скажешь, это была именно галерея. Когда Грувс и Сирл после беглой разведки южного полушария доложили об этом открытии, мы решили сосредоточить там все наши силы. Ведь, как сказал кто-то, в искусстве выражается душа народа. Мы надеялись найти там ответ на загадку «культуры X».
Постройка была громадной, даже для таких исполинов. Металлическая, как и все остальные постройки на «Пятерке», она, однако, не казалась бездушно практичной. Ее шпиль взметнулся вверх на половину расстояния до крыши этого мира, и издали, откуда не видно деталей, здание походило на готический собор. Некоторые авторы, сбитые с толку этим случайным сходством, называют это здание храмом, но мы не обнаружили никаких следов религии у юпитерин. Другое дело — Храм искусств, недаром это название укоренилось так прочно.
Приблизительно подсчитано, что в одном этом хранилище от десяти до двадцати миллионов экспонатов — лучших плодов долгой истории народа, который, вероятно, был намного старше человечества. Именно здесь я обнаружил небольшое круглое помещение, сперва показавшееся мне всего лишь местом пересечения шести радиальных коридоров. Я отправился на разведку один, нарушая приказ профессора, и теперь искал кратчайший путь обратно, к своим товарищам. По сторонам беззвучно уходили назад темные стены, свет фонаря плясал по потолку впереди. Потолок был покрыт высеченными письменами, и я с таким вниманием изучал их в надежде обнаружить знакомые сочетания, что не замечал ничего вокруг. Вдруг я увидел статую и навел на нее фонарь.
Первое впечатление от великого произведения искусства всегда неповторимо. А тут еще оно усиливалось тем, какой предмет был изображен. Я первым из всех людей узнал, как выглядели юпитеряне, — да-да, передо мной стоял юпитерянин, несомненно изваянный с натуры, изваянный рукой подлинного мастера.
Узкая змеиная голова была повернута ко мне, незрячие глаза смотрели прямо в мои. Верхние две руки, как бы выражая отрешенность, были прижаты к груди, две другие держали инструмент, назначение которого не разгадано до сих пор. Мощный хвост — видимо, он, как у кенгуру, служил опорой для тела — был распростерт по полу, подчеркивая впечатление покоя.
Ни лицом, ни телом он не походил на человека. Так, совсем отсутствовали ноздри, а на шее виднелось что-то вроде жаберных щелей. И все-таки эта фигура глубоко тронула меня. Я никогда не думал, что художник может так победить время, преодолеть барьер, разделяющий две культуры. «Не человек, но так человечен!» — сказал о скульптуре профессор Форстер. Конечно, многое отличало нас от творцов этого мира, но в главном мы были близки друг другу.
Мы ведь способны по морде собаки или лошади, отнюдь не родственных созданий, догадываться об их чувствах. Так и здесь мне казалось, что я понимаю чувства существа, которое стояло передо мной. Я видел мудрость, видел ту твердость, спокойную, уверенную силу, которой, например, проникнут знаменитый портрет дожа Лоредано кисти Джованни Беллини. Но угадывалась и печаль, печаль народа, который совершил безмерный подвиг — и понапрасну.
До сих пор остается загадкой, почему эта статуя оказалась единственным изображением юпитерянина. Вряд ли у столь просвещенного народа могли быть какие-нибудь табу на этот счет. Возможно, мы узнаем, в чем дело, когда расшифруем надписи на стенах маленького зала.
Впрочем, назначение статуи и без того понятно. Ее поставили, чтобы она, одержав победу над временем, приветствовала здесь того, кто когда-нибудь пройдет по следу ее творцов. Наверно, именно поэтому она сделана намного меньше натуральной величины. Видно, они уже тогда догадывались, что будущее принадлежит Земле или Венере, а это значит — существам, которые выглядели бы карликами рядом с юпитерянами. Они понимали, что физические размеры могут оказаться таким же барьером, как время.
Через несколько минут я отыскал своих товарищей и вместе с ними направился к кораблю, спеша рассказать про свое открытие профессору, который весьма неохотно оставил работу, чтобы немного отдохнуть, — все время, пока мы находились на «Пятерке», профессор Форстер спал не больше четырех часов в сутки. Когда мы выбрались из пробоины и вновь оказались под звездами, металлическую равнину заливал золотистый свет Юпитера.
— Вот так штука! — услышал я в радиофоне голос Билла. — Профессор передвинул корабль.
— Чепуха, — возразил я. — Он стоит там, где стоял.
Но туг я повернул голову и понял, почему Билл ошибся. К нам прибыли гости.
В двух-трех километрах от нашего корабля стояла его вылитая копия — во всяком случае, так казалось моему неопытному глазу. Быстро пройдя через воздушный шлюз, мы обнаружили, что профессор, с припухшими от сна глазами, уже развлекает гостей. Их было трое, в том числе — к нашему удивлению и, честно говоря, удовольствию — одна прехорошенькая брюнетка.
— Познакомьтесь, — каким-то тусклым голосом сказал профессор Форстер, — Это мистер Рэндольф Мейз. Автор научно-популярных книг. А это… — Он повернулся к Мейзу: — Простите, я не разобрал фамилии…
— Мой пилот, Дональд Гопкинс… моя секретарша, Мериэн Митчелл.
Слову «секретарша» предшествовала короткая пауза, почти незаметная, однако вполне достаточная, чтобы в моем мозгу замигала сигнальная лампочка. Я не выдал своих чувств, однако Билл бросил на меня взгляд, который красноречивее всяких слов сказал: «Если ты думаешь то же, что я, мне за тебя стыдно».
Мейз был высокий, лысоватый, тощий мужчина, излучавший доброжелательность, без сомнения напускную, — защитная окраска человека, для которого дружеский тон был профессиональным приемом.
— Очевидно, это для вас такой же сюрприз, как и для меня, — произнес он с чрезмерным добродушием. — Никак не ожидал, что меня здесь кто-то опередит. Я уже не говорю обо всем этом…
— Зачем вы сюда прилетели? — спросил Эштон, стараясь не показаться чересчур подозрительным.
— Я как раз объяснял профессору. Мериэн, дайте мне, пожалуйста, папку. Спасибо.
Достав из папки серию прекрасно выполненных картин на астрономические темы, он роздал их нам. Это были виды планет с их спутников, сюжет достаточной избитый.
— Вы, конечно, видели сколько угодно картин в этом роде, — продолжал Мейз, — Но эти не совсем обычны, им почти сто лет. Написал их художник по имени Чесли Боунстелл, они были напечатаны в «Лайфе» в 1944 году, задолго до начала межпланетных полетов. А теперь редакция «Лайф» поручила мне облететь Солнечную систему и посмотреть, насколько фантазия художника была близка к правде. В сотую годовщину первой публикации репродукции опять появятся в журнале, а рядом будут фотографии с натуры. Хорошо придумано, верно?
В самом деле, неплохо. Но появление второй ракеты несколько осложняло дело… Что-то думает об этом профессор? Тут я перевел взгляд на мисс Митчелл, которая скромно стояла в сторонке, и решил, что нет худа без добра.
Мы были бы только рады другим исследователям, если бы не вопрос о приоритете. Можно было наперед сказать, что Мейз израсходует здесь все свои пленки и полным ходом помчится обратно на Землю, махнув рукой на задание редакции. Как ему помешаешь — да и стоит ли? Широкая реклама, поддержка прессы нам только на пользу, но мы предпочли бы сами выбрать время и образ действия. Я спросил себя, можно ли считать профессора тактичным человеком, и решил, что беды не миновать.
Однако на первых порах дипломатические отношения развивались вполне удовлетворительно. Профессору пришла в голову отличная мысль — каждый из нас был прикреплен к кому-то из группы Мейза и совмещал обязанности гида и надзирателя. И так как число исследователей удвоилось, работа пошла гораздо быстрее. Ведь в таких условиях опасно ходить в одиночку, и прежде это сильно замедляло дело.
На следующий день после прибытия Мейза профессор рассказал нам, какой политики он решил придерживаться.
— Надеюсь, обойдется без недоразумений, — сказал он, слегка хмурясь. — Что до меня, то пусть ходят где хотят и снимают сколько хотят, только бы ничего не брали и не вернулись со своими снимками на Землю раньше нас.
— Не представляю себе, как мы им можем помешать, — возразил Эштон.
— Видите ли, я думал избежать этого, но пришлось сделать заявку на «Пятерку». Вчера вечером я радировал на Ганимед, и сейчас моя заявка, наверно, уже в Гааге.
— Но ведь заявки на астрономические тела не регистрируются. Мне казалось, этот вопрос был решен еще в прошлом веке, в связи с Луной.
Профессор лукаво улыбнулся.
— Вы забываете, речь идет не об астрономическом теле. В моей заявке речь идет о спасенном имуществе, и я сделал ее от имени Всемирной организации наук. Если Мейз что-нибудь увезет с «Пятерки», это будет кража у ВОН. Завтра я очень мягко растолкую мистеру Мейзу, как обстоит дело, пока его еще не осенила какая-нибудь блестящая идея.
Странно было думать о Пятом спутнике как о спасенном имуществе, и я заранее представлял себе, какие юридические споры разгорятся, когда мы вернемся домой. Но пока что ход профессора обеспечил нам определенные права, поэтому Мейз поостережется собирать сувениры — так мы оптимистически считали.
С помощью разных уловок я добился того, что несколько раз меня назначали напарником Мериэн, когда мы отправлялись обследовать «Пятерку». Мейз явно не имел ничего против этого, да и с чего бы ему возражать: космический скафандр — самая надежная охрана для молодой девушки, черт бы его побрал.
Разумеется, при первой возможности я сводил ее в галерею искусств и показал свою находку. Мериэн долго смотрела на статую, освещенную лучом моего фонаря.
— Как это прекрасно, — молвила она наконец. — И только представить себе, что она миллионы лет ждала здесь в темноте! Но ее надо как-то назвать.
— Уже. Я назвал статую «Посланник».
— Почему?
— Понимаете, для меня это в самом деле посланник или гонец, если хотите, который донес до нас весть из прошлого. Ваятели знали, что рано или поздно кто-нибудь явится.
— Пожалуй, вы правы. Посланник… Действительно, совсем неплохо. В этом есть что-то благородное. И в то же время очень грустное. Вам не кажется?
Я убедился, что Мериэн очень умная женщина. Просто удивительно, как хорошо она меня понимала, с каким интересом рассматривала все, что я ей показывал. Но «Посланник» поразил ее воображение сильнее всего, она снова и снова возвращалась к нему.
— Знаете, Джек, — сказала она (кажется, на следующий день после того, как Мейз приходил посмотреть статую), — вы должны привезти это изваяние на Землю. Представляете себе, какая будет сенсация!
Я вздохнул.
— Профессор был бы рад, но в ней не меньше тонны. Горючего не хватит. Придется ей подождать до следующего раза.
На лице Мериэн отразилось удивление.
— Но ведь здесь предметы ничего не весят, — возразила она.
— Это совсем другое, — объяснил я. — Есть вес, и есть инерция. Инерция… Ну да неважно. Так или иначе, мы не можем увезти статую. Капитан Сирл наотрез отказывается.
— Как жаль, — сказала Мериэн.
Я вспомнил этот разговор только вечером накануне нашего отлета. Целый день мы трудились как заведенные, укладывая снаряжение (разумеется, часть мы оставили для будущих экспедиций). Все пленки были израсходованы. Как объявил Чарли Эштон, попадись нам теперь живой юпитерянин, мы не смогли бы запечатлеть этот факт. По-моему, каждый из нас жаждал хотя бы небольшой передышки, чтобы на свободе разобраться в своих впечатлениях и прийти в себя от лобового столкновения с чужой культурой.
Корабль Мейза «Генри Люс» был тоже почти готов к отлету. Мы условились стартовать одновременно; это как нельзя лучше устраивало профессора — он не хотел бы оставлять Мейза на «Пятерке» одного.
Итак, все было готово, но тут, просматривая наши записи, я вдруг обнаружил, что не хватает шести экспонированных пленок. Тех, на которые мы сняли надписи в Храме искусств. Поразмыслив, я вспомнил, что эти пленки были вручены мне и что я аккуратно положил их на карниз в Храме, с тем чтобы забрать позже.
Старт еще не скоро, профессор и Эштон, наверстывая упущенное, крепко спят, почему бы мне не сбегать потихоньку за пленками? Я знал, что за пропажу мне намылят голову, а тут каких-нибудь полчаса — и все будет в порядке. И я отправился в Храм искусств, на всякий случай предупредив Билла.
Прожектор, конечно, был убран, и внутри «Пятерки» царила гнетущая темнота. Но я оставил у входа сигнальный фонарь, прыгнул и падал, пока не увидел, что пора прервать свободное падение. Десять минут спустя я уже держал в руках забытые пленки.
Желание еще раз проститься с «Посланником» было только естественным. Кто знает, сколько лет пройдет, прежде чем я увижу его вновь, а этот спокойно-загадочный образ притягивал меня.
К сожалению, притягивал он не только меня. Пьедестал был пуст, статуя исчезла.
Конечно, я мог незаметно вернуться и никому ничего не говорить во избежание неприятных объяснений. Но я был так взбешен, что меньше всего думал об осторожности. Возвратившись на корабль, я тотчас разбудил профессора и доложил ему о случившемся.
Он сел на койке, протирая глаза, и произнес по адресу мистера Мейза и его спутников несколько слов, которых здесь лучше не воспроизводить.
— Одного не понимаю, — недоумевал Сирл, — как они ее вытащили. А может быть, не вытащили? Мы должны были заметить их.
— Там столько укромных уголков. А потом улучили минуту, когда никого из нас не было поблизости, и вынесли ее. Не так-то просто это было сделать, даже при здешнем тяготении. — В голосе Эрика Фултона звучало явное восхищение.
— Сейчас не время обсуждать их уловки, — рявкнул профессор. — У нас есть пять часов на то, чтобы придумать какой-нибудь план. Раньше они не взлетят, ведь мы только что прошли точку противостояния с Ганимедом. Я не ошибаюсь, Кингсли?
Сирл кивнул.
— Нет, лучше всего стартовать, когда мы окажемся по ту сторону Юпитера, — всякая другая траектория полета потребует слишком много горючего.
— Отлично. Значит, мы располагаем временем. У кого есть предложения?
Теперь, задним числом, мне иногда кажется, что мы поступили несколько странно и не совсем так, как приличествует цивилизованным людям. Всего два-три месяца назад нам и в голову не пришло бы ничего похожего. Но мы предельно устали, и мы страшно рассердились, и к тому же вдалеке от остального человечества все выглядело как-то иначе. Закон отсутствовал, оставалось только самим вершить правосудие…
— Можем мы помешать им взлететь? Например, повредить их двигатель? — спросил Билл.
Сирл наотрез отверг эту идею.
— Всему есть предел, — сказал он, — Не говоря уже о том, что Дон Гопкинс мой друг. Он мне никогда не простит, если я выведу из строя его корабль. Особенно если потом окажется, что поломку нельзя исправить.
— Украдем горючее, — лаконично посоветовал Грувс.
— Правильно! Видите, иллюминаторы темные, значит, все спят. Подключайся и откачивай.
— Прекрасная мысль! — вмешался я. — Но до их ракеты два километра. Какой у нас трубопровод? Сто метров наберется?
На мои слова не обратили ни малейшего внимания; все продолжали обсуждать идею Грувса. За пять минут технические вопросы были решены, оставалось только надеть скафандры и приступить к работе.
Записываясь в экспедицию профессора Форстера, я не подозревал, что когда-нибудь окажусь в роли африканского носильщика из древнего приключенческого романа и буду таскать груз на голове. И какой груз — одну шестую часть космического корабля! (От профессора Форстера, при его росте, проку было немного.) На Пятом спутнике корабль с полупустыми баками весил около двухсот килограммов. Мы подлезли под него, поднатужились — и оторвали его от площадки. Конечно, оторвали не сразу, ведь масса корабля оставалась неизменной. Затем мы потащили его вперед.
Все это оказалось несколько сложнее, чем мы думали, и идти пришлось довольно долго. Но вот наконец второй корабль стоит рядом с первым. На «Генри Люсе» ничего не заметили, экипаж крепко спал, полагая, что и мы спим не менее крепко.
Я слегка запыхался, но радовался, как школьник, когда Сирл и Фултон вытащили из нашего воздушного шлюза трубопровод и тихонько подсоединили его к бакам «Генри Люса».
— Прелесть этого плана в том, — объяснил мне Грувс, — что они не могут нам помешать, для этого надо выйти и отсоединить трубопровод. Мы выкачаем все за пять минут, а им нужно две с половиной минуты только на то, чтобы надеть скафандры.
Вдруг мне стало очень страшно.
— А если они запустят двигатели и попытаются взлететь?
— Тогда от нас всех останется мокрое место. Да нет, сперва они выйдут проверить, в чем дело. Ага, насосы заработали.
Трубопровод напрягся, как пожарный рукав под давлением, — значит, горючее начало поступать в наши баки. Мне казалось, что вот-вот иллюминаторы «Генри Люса» озарятся светом и ошеломленный экипаж выскочит наружу, и я даже разочаровался, когда этого не произошло. Видно, крепко они спали, если даже не ощутили вибрации от работающих насосов. Но вот перекачка закончена, Сирл и Фултон осторожно убрали трубопровод и уложили его в шлюз. Все обошлось, и вид у нас был довольно глупый.
— Ну? — спросили мы у профессора.
— Вернемся на корабль, — ответил он, поразмыслив.
Мы сняли скафандры, кое-как втиснулись в рубку, и профессор, сев к передатчику, отбил на ключе сигнал тревоги. После этого оставалось подождать несколько секунд, пока сработает автомат на корабле соседей.
Ожил телевизор, на нас испуганно глядел Мейз.
— А. Форстер! — буркнул он — Что случилось?
— У нас — ничего, — ответил профессор бесстрастно. — А вот вы кое-что потеряли. Поглядите на топливомер.
Экран опустел, а из динамика вырвались нестройные возгласы. Но вот опять показался Мейз — злой и не на шутку встревоженный.
— В чем дело? — сердито рявкнул он. — Вы к этому причастны?
Профессор дал ему покипеть, потом наконец ответил:
— Мне кажется, будет лучше, если вы придете к нам для переговоров. Тем более что идти вам недалеко.
Мейз слегка опешил, но тут же отчеканил:
— И приду!
Экран опять опустел.
— Придется ему пойти на попятный! — злорадно сказал Билл. — Другого выхода у него нет!
— Не так все это просто, — охладил его Фултон. — Если бы Мейз захотел, он не стал бы даже разговаривать с нами, а вызвал бы по радио заправщика с Ганимеда.
— А что ему это даст? Он потеряет несколько дней и уйму денег.
— Зато у него останется статуя. А деньги он вернет через суд.
Вспыхнула сигнальная лампочка шлюза, и в рубку втиснулся Мейз. Судя по его лицу, он успел все взвесить по дороге и настроился на мирный лад.
— Ну-ну, — начал он добродушно. — Зачем вы затеяли всю эту чепуху?
— Вы отлично знаете зачем, — холодно ответил профессор. — Я же прямо объяснил вам, что с «Пятерки» ничего вывозить нельзя. Вы присвоили имущество, которое вам не принадлежит.
— Но послушайте! Кому оно принадлежит? Не станете же вы утверждать, что на этой планете все — ваша личная собственность?
— Это не планета — это корабль, а значит, тут приложим закон о спасенном имуществе.
— Весьма спорный вопрос. Вы не думаете, что лучше подождать, когда ваши претензии подтвердит суд?
Профессор держался весьма вежливо, но я видел, что это стоит ему огромных усилий.
— Вот что, мистер Мейз, — произнес он с зловещим спокойствием. — Вы забрали самую важную из сделанных нами находок. Я могу в какой-то мере извинить ваш поступок, так как вам не понять археолога вроде меня и вы не отдаете себе отчета в том, что сделали. Верните статую, мы перекачаем вам горючее и забудем о случившемся.
Мейз задумчиво потер подбородок.
— Не понимаю, почему столько шума из-за какой-то статуи, ведь здесь много всякого добра.
И вот тут-то профессор допустил промах.
— Вы рассуждаете, словно человек, который украл из Лувра «Мону Лизу» и полагает, что ее никто не хватится, раз кругом висит еще столько картин! Эта статуя настолько уникальна, что никакое произведение искусства на Земле не идет с ней в сравнение. Вот почему она должна быть возвращена.
Когда торгуешься, нельзя показывать, насколько ты заинтересован в заключении сделки. Я сразу заметил алчный огонек и глазах Мейза и сказал себе: «Ага! Он заартачится». Вспомнились слова Фултона насчет заправщика с Ганимеда.
— Дайте мне полчаса на размышление, — сказал Мейз, поворачиваясь к выходу.
— Пожалуйста, — сухо ответил профессор. — Но только полчаса, ни минуты больше.
Мейз все-таки был далеко не глуп: не прошло и пяти минут, как его антенна медленно повернулась и нацелилась на Ганимед. Конечно, мы попытались перехватить разговор, но он работал с засекречивателем. Эти газетчики, как видно, не очень доверяют друг другу.
Ответ был передан через несколько минут и тоже засекречен. В ожидании дальнейших событий мы снова устроили военный совет. Профессор дошел до той стадии, когда человек идет напролом, ни с чем не считаясь. Сознание своей ошибки только прибавило ему ярости.
Очевидно, Мейз чего-то опасался, потому что вернулся он с подкреплением. Его сопровождал пилот Дональд Гопкинс, который явно чувствовал себя неловко.
— Все улажено, профессор, — сообщил Мейз с торжеством. — На худой конец я смогу вернуться без вашей помощи, хотя это займет немного больше времени. Но я не отрицаю, что лучше договориться, это сбережет и время, и деньги. Вот мое последнее слово: вы возвращаете горючее, а я отдаю вам все остальные — э-э — сувениры, которые собрал. Но «Мона Лиза» остается у меня, даже если я из-за этого смогу попасть на Ганимед только на следующей неделе.
Сперва профессор изрек некоторое число проклятий, которые принято называть космическими, хотя, честное слово, они мало чем отличаются от земной ругани. Облегчив душу, он заговорил с недоброй учтивостью:
— Любезный мистер Мейз, вы отъявленный мошенник, и, следовательно, я не обязан с вами церемониться. Я готов применить силу, закон меня оправдает.
Мы заняли стратегические позиции у двери. На лице Мейза отразилась легкая тревога, совсем легкая.
— Оставьте эту мелодраму, — надменно произнес он, — Сейчас двадцать первый век, а не тысяча восьмисотые годы, и здесь не Дикий Запад.
— Дикий Запад — это тысяча восемьсот восьмидесятые годы, — поправил его педантичный Билл.
— Считайте себя арестованным, а мы пока решим, как поступить, — продолжал профессор. — Мистер Сирл, проводите его в кабину Б.
Мейз с нервным смешком прижался спиной к стене.
— Полно, профессор, это ребячество! Вы не можете задерживать меня против моей воли. — Он взглянул на капитана «Генри Люса», ища у него поддержки.
Дональд Гопкинс стряхнул с кителя незримую пылинку.
— Я не желаю вмешиваться во всякие свары, — произнес он в пространство.
Мейз злобно посмотрел на своего пилота и нехотя сдался. Мы снабдили его книгами и заперли.
Как только Мейза увели, профессор обратился к Гопкинсу, который завистливо глядел на наши топливомеры.
— Я не ошибусь, капитан, — вежливо сказал он, — если предположу, что вы не желаете быть соучастником махинаций вашего нанимателя.
— Я нейтрален. Мое дело — привести корабль сюда и обратно на Землю. Вы уж сами разбирайтесь.
— Спасибо. Мне кажется, мы друг друга отлично понимаем. Может быть, вы вернетесь на свой корабль и объясните ситуацию. Мы свяжемся с вами через несколько минут.
Капитан Гопкинс небрежной походкой направился к выходу. У двери он повернулся к Сирлу.
— Кстати, Кингсли, — бросил он, — Вы не думали о пытках? Будьте добры, известите меня, если решите к ним прибегнуть, — у меня есть кое-какие забавные идеи.
С этими словами он вышел, оставив нас с нашим заложником.
Насколько я понимаю, профессор рассчитывал на прямой обмен. Но он не учел одной вещи, а именно характера Мериэн.
— Поделом Рэндольфу, — сказала она. — А впрочем, какая разница? На вашем корабле ему ничуть не хуже, чем у нас, и вы ничего не посмеете с ним сделать. Сообщите мне, когда он вам надоест. — Тупик! Мы явно перемудрили и ровным счетом ничего не добились. Мейз был в наших руках, но это нам ничего не дало.
Профессор мрачно смотрел в иллюминатор, повернувшись к нам спиной, Исполинский диск Юпитера словно опирался краем на горизонт, закрыв собой почти все небо.
— Нужно ее убедить, что мы не шутим, — сказал Форстер. Он повернулся ко мне. — Как по-вашему, она по-настоящему любит этого мерзавца?
— Гм… Кажется, да. Да, конечно.
Профессор задумался. Потом он обратился к Сирлу:
— Пойдемте ко мне. Я хочу с вами кое-что обсудить.
Они отсутствовали довольно долго, когда же вернулись, на лицах обоих отражалось злорадное предвкушение чего-то, а профессор держал в руке лист бумаги, исписанный цифрами. Подойдя к передатчику, он вызвал «Генри Люса».
— Слушаю. — Судя по тому, как быстро ответила Мериэн, она ждала нашего вызова. — Ну как, решили дать отбой? А то ведь это уже становится скучным.
Профессор сурово посмотрел на нее.
— Мисс Митчелл, — сказал он, — Вы, очевидно, не приняли наши слова всерьез. Поэтому я решил показать вам… гм… что мы не шутим. Я поставлю вашего шефа в такое положение, что ему очень захочется, чтобы вы поскорее его выручили.
— В самом деле? — бесстрастно осведомилась Мериэн, однако мне показалось, что я уловил в ее голосе оттенок тревоги.
— Наверно, вы не очень разбираетесь в небесной механике, — продолжал профессор елейным голосом. — Я угадал? Жаль, жаль. Впрочем, ваш пилот подтвердит вам все, что я сейчас скажу. Верно, мистер Гопкинс?
— Валяйте, — донесся сугубо нейтральный голос.
— Слушайте внимательно, мисс Митчелл. Позвольте сначала напомнить вам, что наше положение на этом спутнике не совсем обычно, даже опасно. Достаточно выглянуть в иллюминатор, чтобы убедиться — Юпитер совсем рядом. Нужно ли напоминать вам, что поле тяготения Юпитера намного превосходит гравитацию остальных планет? Вам понятно все это?
— Да, — подтвердила Мериэн уже не так хладнокровно. — Продолжайте.
— Отлично. Наш мирок совершает полный оборот вокруг Юпитера за двенадцать часов. Так вот, согласно известной теореме, телу, падающему с орбиты, нужно ноль целых сто семьдесят семь тысячных периода, чтобы достичь центра сил притяжения. Другими словами, тело, падающее отсюда на Юпитер, достигнет центра планеты приблизительно через два часа семь минут. Капитан Гопкинс. несомненно, может вам это подтвердить.
После некоторой паузы мы услышали голос Гопкинса:
— Я, конечно, не могу поручиться за абсолютную точность приведенных цифр, но думаю, что все верно. Если и есть ошибка, то небольшая.
— Превосходно, — продолжал профессор. — Вы, разумеется, понимаете, — он добродушно усмехнулся, — что падение к центру планеты — случай чисто теоретический. Если в самом деле бросить здесь какой-нибудь предмет, он достигнет верхних слоев атмосферы Юпитера намного быстрее. Я надеюсь, вам не скучно меня слушать?
— Нет, — ответила Мериэн очень тихо.
— Чудесно. Тем более что капитан Сирл рассчитал для меня, сколько же на самом деле продлится падение. Получается час тридцать пять минут, с возможной ошибкой в две-три минуты. Гарантировать абсолютную точность мы не можем, ха-ха! Вы. несомненно, заметили, что поле тяготения нашего спутника чрезвычайно мало. Вторая космическая скорость составляет здесь всего около десяти метров в секунду. Бросьте какой-нибудь предмет с такой скоростью, и он больше сюда не вернется. Верно, мистер Гопкинс?
— Совершенно верно.
— А теперь перейдем к делу. Сейчас мы думаем вывести мистера Мейза на прогулку. Как только он окажется точно под Юпитером, мы снимем с его скафандра реактивные пистолеты и… э… придадим мистеру Мейзу некое ускорение. Мы охотно догоним его на нашем корабле и подберем, как только вы передадите нам украденное вами имущество. Из моего объяснения, вы, конечно, поняли, что время играет тут очень важную роль. Час тридцать пять минут — удивительно короткий срок, не так ли?
— Профессор! — ахнул я. — Вы этого не сделаете!
— Помолчите! — рявкнул он. — Итак, мисс Митчелл, что вы на это скажете?
Лицо Мериэн отразило ужас, смешанный с недоверием.
— Это попросту блеф! — воскликнула она. — Я не верю, что вы это сделаете! Команда не позволит вам!
Профессор вздохнул.
— Очень жаль. Капитан Сирл, мистер Грувс, пожалуйста, сходите за арестованным и выполняйте мои указания.
— Есть, сэр, — торжественно ответил Сирл.
Мейз явно был испуган, но не думал уступать.
— Что вы еще задумали? — спросил он, когда ему дали его скафандр.
Сирл забрал его реактивные пистолеты.
— Одевайтесь, — распорядился он. — Мы идем гулять.
Только теперь я сообразил, что задумал профессор. Конечно, все это блеф, колоссальный блеф, он не бросит Мейза на Юпитер. Да если бы и захотел бросить, Сирл и Грувс на это не пойдут. Но ведь Мериэн раскусит обман, и мы сядем в лужу.
Убежать Мейз не мог; без реактивных пистолетов он был беспомощен. Сопровождающие взяли его под руки и потащили, будто привязной аэростат. Они тащили его к горизонту — и к Юпитеру.
Я посмотрел на соседний корабль и увидел, что Мериэн, стоя у иллюминатора, провожает взглядом удаляющееся трио. Профессор Форстер тоже заметил это.
— Надеюсь, мисс Митчелл, вы понимаете, что мои люди потащили не пустой скафандр. Позволю себе посоветовать вам вооружиться телескопом. Через минуту они скроются за горизонтом, но вы сможете увидеть мистера Мейза, когда он начнет… гм… восходить.
Динамик молчал. Казалось, томительному ожиданию не будет конца. Может быть, Мериэн задумала проверить решимость профессора?
Схватив бинокль, я направил его на небо над таким до нелепости близким горизонтом. И вдруг увидел крохотную вспышку света на желтом фоне исполинского диска Юпитера. Я быстро поправил фокус и различил три фигурки, поднимающиеся в космос. У меня на глазах они разделились: две притормозили ход пистолетами и начали падать обратно на «Пятерку», а третья продолжала лететь прямо к грозному небесному телу.
Я в ужасе повернулся к профессору.
— Они это сделали! Я думал, что это блеф!
— Мисс Митчелл, несомненно, тоже так думала, — холодно ответил профессор, адресуясь к микрофону. — Надеюсь, мне не надо вам объяснять, чем грозит промедление. Кажется, я уже говорил, что падение на Юпитер с нашей орбиты длится всего девяносто пять минут. Но вообще-то хватит и сорока минут, потом будет поздно…
Он сделал выразительную паузу. Динамик молчал.
— А теперь, — продолжал профессор, — я выключаю приемник, чтобы избежать бесполезных споров. Разговор мы возобновим, только когда вы отдадите статую… И остальные предметы, о которых мистер Мейз столь неосмотрительно проговорился. Всего хорошего.
Прошло десять томительных минут. Я потерял Мейза из виду и уже спрашивал себя, не пора ли связать профессора и помчаться вдогонку за его жертвой, пока мы еще не стали убийцами. Но ведь кораблем управляют те самые люди, которые своими руками совершили преступление. Я вконец растерялся.
Тут на «Генри Люсе» медленно открылся люк и показались две фигуры в скафандрах, поддерживавшие предмет наших раздоров.
— Полная капитуляция. — Профессор удовлетворенно вздохнул. — Несите сюда, — распорядился он по радио — Я открою шлюз.
Он явно не торопился. Я все время поглядывал на часы — прошло уже пятнадцать минут. В воздушном шлюзе загремело, зазвенело, потом открылась дверь и вошел капитан Гопкинс. За ним следовала Мериэн, которой для полного сходства с Клитемнестрой не хватало только окровавленной секиры. Я боялся встретиться с ней взглядом, а профессор хоть бы что! Он прошел в шлюз, проверил, все ли возвращено, и вернулся, потирая руки.
— Ну, так, — весело сказал он. — А теперь присаживайтесь, выпьем и забудем это неприятное недоразумение.
— Вы с ума сошли! — возмущенно крикнул я, показывая на часы. — Он уже пролетел половину пути до Юпитера!
Профессор Форстер поглядел на меня с осуждением.
— Нетерпение — обычный порок юности, — произнес он. — Я не вижу никаких причин торопиться.
Тут впервые заговорила Мериэн; по ее лицу было видно, что она не на шутку испугана.
— Но ведь вы обещали, — прошептала она.
Профессор внезапно сдался. Последнее слово осталось за ним, и он вовсе не хотел продлевать пытку.
— Успокойтесь, мисс Митчелл, и вы, Джек, — Мейз в такой же безопасности, как и мы с вами. Его можно забрать в любую минуту.
— Значит, вы мне солгали?
— Ничуть. Все, что я вам говорил, — чистая правда. Только вы сделали неверный вывод. Когда я говорил вам, что тело, брошенное с нашей орбиты, упадет на Юпитер через девяносто пять минут, я — признаюсь, не без задней мысли — умолчал об одном важном условии. Надо было добавить: «Тело, находящееся в покое по отношению к Юпитеру». Ваш друг, мистер Мейз, летел по орбите вместе со спутником и с такой же скоростью, как спутник. Что-то около двадцати шести километров в секунду, мисс Митчелл. Да, мы выбросили его с «Пятерки» по направлению к Юпитеру. Но скорость, которую мы ему сообщили, — пустяк, практически он продолжает лететь по прежней орбите. Он может приблизиться к Юпитеру — капитан Сирл все это высчитал — самое большое на сто километров. В конце витка, через двенадцать часов, он будет в той самой точке, откуда стартовал, без всякой помощи с нашей стороны.
Наступило долгое, очень долгое молчание. Лицо Мериэн выражало и досаду, и облегчение, и злость человека которого обвели вокруг пальца. Наконец она повернулась к капитану Гопкинсу.
— Вы, конечно, знали все это! Почему вы мне ничего не сказали?
Гопкинс укоризненно посмотрел на нее.
— Вы меня не спросили, — ответил он.
Мы забрали Мейза через час. Он улетел всего на двадцать километров, и нам ничего не стоило отыскать его по маячку на его скафандре. Его радиофон был выведен из строя, и теперь-то я понял почему. Мейз был достаточно умен, чтобы сообразить, что ему ничего не грозит, и, если бы радио работало, он связался бы со своими и разоблачил наш обман. А впрочем, кто знает! Лично я на его месте предпочел бы дать отбой, хотя бы совершенно точно знал, что со мной ничего не случится. Сдается мне, ему там было очень одиноко…
Догнав Мейза на самом малом ходу, мы втащили его внутрь. К моему удивлению, он не устроил нам никакой сиены: то ли был слишком рай вернуться в нашу уютную кабину, то ли решил, что проиграл в честном бою и не стоит таить зла на победителя. Думаю, что второе вернее.
Ну вот, пожалуй, и все, если не считать, что на прощание мы еще раз натянули Мейзу нос. Ведь коммерческий груз на его корабле заметно уменьшился, значит, и горючего требовалось меньше, а излишки мы оставили себе. Это позволило нам увезти «Посланника» на Ганимед. Разумеется, профессор выписал Мейзу чек за горючее, все было вполне законно.
И еще один характерный эпизод, о котором я должен вам рассказать. В первый же день после того, как в Британском музее открылся новый отдел, я пошел туда посмотреть на «Посланника»: хотелось проверить, будет ли его воздействие на меня таким же сильным в новой обстановке. (Ну так вот: это было совсем не то, но все-таки впечатление сильное, и отныне я весь музей воспринимаю как-то иначе.) В зале было множество посетителей, и среди них я увидел Мейза и Мериэн.
Кончилось тем, что мы зашли в ресторан и очень приятно провели время за столиком. Надо отдать должное Мейзу, он не злопамятен. Вот только Мериэн меня огорчила.
Ей-богу, не понимаю, что она в нем находит.
Встреча с медузой
Перевод Л. Жданова
1
С умеренной скоростью, триста километров в час, «Куин Элизабет IV» плыла по воздуху в пяти километрах над Большим Каньоном, когда Говард Фолкен заметил приближающуюся справа платформу телевидения. Он ожидал этой встречи — для всех остальных эта высота была сейчас закрыта, — однако соседство другого летательного аппарата не очень его радовало.
Как ни дорого внимание общественности, а простор в небе еще дороже. Что ни говори, ему первому из людей доверено вести корабль длиной в полкилометра…
До сих пор первый испытательный полет проходил гладко. Нелепо, но факт: единственное затруднение было связано с древним авианосцем, который одолжили в морском музее Сан-Диего. Из четырех реакторов авианосца действовал только один, и наибольшая скорость старой калоши составляла всего тридцать узлов. К счастью, скорость ветра на уровне моря не достигала и половины этой цифры, и добиться штиля на взлетной палубе оказалось не так уж трудно. Правда, сразу после того, как были отданы швартовы, экипаж пережил несколько тревожных секунд из-за порывов ветра, но огромный дирижабль благополучно вознесся в небо, словно на невидимом лифте. Если все будет хорошо, «Куин Элизабет IV» только через неделю вернется на авианосец.
Все было в полном порядке, испытательные приборы давали нормальные показания. Капитан Фолкен решил подняться наверх и последить за стыковкой. Передав командование помощнику, он вышел в прозрачный туннель, который пронизывал весь корабль. И, как всегда, дух захватило при виде самого большого объема, какой человек когда-либо замыкал в одну оболочку.
Десять наполненных газом шаровидных мешков, каждый тридцати метров в поперечнике, вытянулись в ряд исполинскими мыльными пузырями. Прочный пластик был настолько прозрачным, что Фолкен отчетливо видел руль высоты на другом конце корабля, за добрых полкилометра. Кругом простирался трехмерный лабиринт каркаса: длинные балки от носа до кормы и пятнадцать кольцевых шпангоутов, ребра небесного гиганта (их диаметр к концам убывал, придавая силуэту корабля изящество и обтекаемость).
На малой скорости звуков было немного, только мягко шелестел ветер вдоль оболочки да иногда от меняющейся нагрузки поскрипывал металл. Бестеневой свет укрепленных высоко над головой Фолкена ламп придавал окружающему странное сходство с подводным миром, и вид прозрачных мешков с газом только усиливал это впечатление. Однажды на мелководье над тропическим рифом ему встретилась целая эскадрилья больших, но совсем безопасных, безотчетно плывущих куда-то медуз. Пластиковые мешки, в которых таилась подъемная сила «Куин Элизабет», нередко напоминали ему этих пульсирующих медуз, особенно когда менялось давление и они морщились, переливаясь бликами отраженного света.
Фолкен подошел к лифту в носовой части, между первым и вторым газовыми отсеками. Поднимаясь на прогулочную пагубу, он заметил, что слишком уж жарко, и продиктовал об этом несколько слов в карманный самописец. Около четверти подъемной силы «Куин Элизабет» обеспечивалось за счет неограниченного количества отработанного тепла реакторов. В этом полете загрузка была небольшая, поэтому только шесть из десяти газовых мешков содержали гелий, в остальных был воздух. А ведь двести тонн воды взято для балласта. Все же высокие температуры для подогрева отсеков затрудняли охлаждение переходов. Туг явно есть над чем еще поразмыслить…
Выйдя на прогулочную пагубу под ослепительные лучи солнца, проникающие через плексигласовую крышу, Фолкен ощутил приятное дуновение более прохладного воздуха. Пять или шесть рабочих, которым помогали столько же симпов, как называли супершимпанзе, торопливо заканчивали настилать танцевальную площадку, другие монтировали электропроводку, закрепляли кресла. Глядя на эту упорядоченную суету, Фолкен подумал, что вряд ли все приготовления будут завершены за месяц, оставшийся до первого регулярного рейса. Впрочем, это, слава богу, не его забота. Капитан не отвечает за программу круиза.
Рабочие приветствовали его жестами, симпы скалили зубы в улыбке. Фолкен проследовал мимо них в полностью оборудованный «Небесный салон». Это был его любимый уголок на корабле. Когда начнется эксплуатация, здесь уже не уединишься… А пока можно позволить себе отключиться на несколько минут.
Он вызвал мостик, убедился, что по-прежнему все в порядке, и удобно расположился во вращающемся кресле. Внизу, лаская глаз плавным изгибом, серебрилась оболочка корабля. Сидя в верхней точке дирижабля, Фолкен обозревал громаду самого большого транспортного средства, какое когда-либо создавалось руками людей. Насытившись этим зрелищем, он перевел взгляд вдаль — до самого горизонта простирался фантастический дикий ландшафт, изваянный за полмиллиарда лет рекой Колорадо.
Если не считать платформу телевидения (она сейчас опустилась пониже и снимала среднюю часть корабля), дирижабль был один в небе, до самого горизонта — голубая пустота. Во времена его деда, подумал Фолкен, голубизна была бы расписана дорожками конденсационных следов и запятнана дымом. Теперь — ни того ни другого: загрязнение воздуха исчезло вместе с примитивной технологией, а дальние перевозки вынесли за пределы стратосферы, с Земли не видно и не слышно. В нижней атмосфере опять парили только птицы и облака. Впрочем, теперь к ним прибавилась «Куин Элизабет IV»…
Верно говорили в начале двадцатого века пионеры воздухоплавания: только так и надо путешествовать — в тишине, со всеми удобствами, дыша окружающим воздухом, а не замыкаясь от него в скорлупу, и достаточно близко к Земле, чтобы любоваться переменчивыми красотами суши и моря. На дозвуковых реактивных самолетах 1980-х годов, где пассажиры сидели по десять в ряд, о таких удобствах, о таком просторе можно было только мечтать.
Конечно, «Куин» никогда себя не окупит, и, даже если появятся, как задумано, другие корабли того же типа, лишь малая часть миллиардного населения Земли сможет насладиться этим беззвучным парением в небе, но обеспеченное, процветающее всемирное общество вполне могло позволить себе такие причуды, более тою, оно нуждалось в новых зрелищах и впечатлениях. На свете найдется не меньше миллиона людей с достаточно высоким доходом, так что «Куин» не останется без пассажиров.
Тихо пискнул карманный коммуникатор. С мостика вызывал второй пилот.
— Капитан, разрешите стыковку? Все данные по испытанию получены, а телевизионщики наседают.
Фолкен посмотрел на платформу, которая парила на одном с ним уровне примерно в полутораста метрах.
— Давайте, — сказал он. — Действуйте, как договорились. Я послежу отсюда.
Обходя хлопочущих рабочих, он направился в конец прогулочной палубы, чтобы лучше видеть среднюю часть корабля. На ходу ощутил ступнями, как меняется вибрация, и, когда миновал салон, корабль остановился. Пользуясь своим универсальным ключом, Фолкен вышел на маленькую наружную площадку, рассчитанную на пять-шесть человек. Лишь низкие поручни отделяли здесь человека от обширной выпуклости оболочки — и от Земли далеко внизу. Волнующее место. И вполне безопасное, даже на полном ходу, потому что площадку надежно заслонял огромный задний обтекатель прогулочной палубы. Тем не менее пассажирам сюда доступа не будет — очень уж вид головокружительный.
Крышки переднего грузового люка открылись, будто двери огромной западни, и телевизионная платформа парила над ними, готовясь спуститься. В будущем этим путем на корабль попадут тысячи пассажиров и тонны груза. Лишь изредка «Куин» будет снижаться до уровня моря и швартоваться к своей плавучей базе.
Неожиданный порыв бокового ветра хлестнул по лицу Фолкена, и он крепче ухватился за поручень. Большой Каньон славится воздушными вихрями, но на этой высоте они не очень опасны. И Фолкен без особой тревоги следил за снижающейся платформой, которую теперь отделяло от корабля около полусотни метров. Управляющий ею на расстоянии искусный оператор уже раз десять выполнял этот нехитрый маневр — какие тут могут быть затруднения!
Но что-то сегодня у него реакция замедленная… Ветер отнес платформу чуть ли не к самому краю люка. Мог бы и раньше притормозить… Отказала система управления? Вряд ли. Каждое звено многократно резервировано, системы дублированы, страховка полная. Аварий почти не бывает.
Опять понесло, теперь влево… Уж не пьян ли оператор? Немыслимо, конечно, и все же Фолкен задал себе такой вопрос. Потом взялся за микрофон.
Снова хлестнул по лицу внезапный порыв ветра. Но Фолкен его почти не ощутил, он с ужасом смотрел на телевизионную платформу. Оператор изо всех сил старался овладеть управлением, выровнять платформу реактивными струями, но только усугубил положение. Платформа качалась все сильнее. Двадцать градусов… сорок… шестьдесят… девяносто…
— Включи автоматику, болван! — в отчаянии прокричал Фолкен в микрофон, — Ручное управление не действует!
Платформа опрокинулась вверх дном. Теперь реактивные струи, вместо того чтобы поддерживать, толкали ее вниз, словно вдруг переметнулись на сторону сил тяготения, которым до сих пор противоборствовали.
Фолкен не слышал удара, только ощутил его. Он был уже иа прогулочной палубе — спешил к лифту, чтобы спуститься на мостик. Рабочие тревожно кричали ему вдогонку, допытываясь, что случилось. Пройдет не один месяц, прежде чем он узнает ответ…
У самого лифта он передумал. Вдруг будет перебой с электроэнергией? Лучше не рисковать, пусть даже он потеряет несколько важных минут. И Фолкен побежал вниз по обвивающей лифтовую шахту спиральной лестнице.
На пол пути он остановился, чтобы определить степень повреждения. Проклятая платформа прошла насквозь через корабль и пропорола два газовых мешка. Они все еще опадали огромными прозрачными полотнищами. Уменьшение подъемной силы не пугало Фолкена — восемь отсеков целы, значит, достаточно сбросить балласт. Гораздо хуже, если не устоят металлические конструкции. Могучий остов уже протестующе кряхтел от чрезмерной нагрузки… Мало сохранить подъемную силу: если она неравномерно распределена, корабль сломает себе хребет.
Не успел Фолкен шагнуть на следующую ступеньку, как вверху показался визжащий от страха шимпанзе. С невообразимой скоростью он спускался, перехватываясь руками, по решетке лифтовой шахты. Перепуганный насмерть бедняга сорвал с себя фирменный комбинезон — может быть, в этом выразилось подсознательное стремление обрести былую свободу обезьяньего племени.
Спускаясь бегом по лестнице, Фолкен с беспокойством следил, как животное настигает его. Обезумевший симп достаточно силен и опасен, особенно если страх заглушит внушенные навыки. Догнав Фолкена, обезьяна что-то затараторила, но в беспорядочном нагромождении слов он с трудом разобрал то и дело повторяемое жалобное «шеф». Даже теперь ждет указания от человека… Как не посочувствовать животному, которое по вине людей ни за что ни про что попало в непостижимую для него беду.
Шимпанзе остановился вровень с Фолкеном, на другой стороне шахты. Широкие отверстия решетки позволяли легко преодолеть это препятствие, было бы желание. Меньше полуметра разделяли два лица, и Фолкен глядел прямо в расширенные от ужаса глаза. Никогда еще ему не приходилось видеть симпа так близко. И, созерцая в упор его черты, Фолкен поймал себя на знакомом каждому, кто таким вот образом смотрелся в зеркало времени, странном чувстве, сочетающем родственное узнавание и неловкость.
Похоже было, что соседство человека помогло симпу успокоиться. Фолкен показал вверх, в сторону прогулочной палубы, и раздельно произнес:
— Шеф… шеф… иди!
И с облегчением увидел, что шимпанзе его понял. Изобразив подобие улыбки, животное ринулось вверх тем же путем, каким спускалось. Ничего лучшего Фолкен не мог посоветовать. Если сейчас на «Куин» и есть безопасное место, так это наверху. Но капитану надо быть внизу.
До капитанского мостика оставалось несколько шагов, когда заскрежетал ломающийся металл и корабль резко клюнул носом. Лампы погасли, но Фолкен достаточно хорошо различал окружающее благодаря столбу солнечного света, который ворвался в распахнутый люк и огромную прореху в оболочке.
Много лет назад, стоя в нефе величественного собора, он смотрел, как пронизывающий цветные стекла свет красочными бликами ложится на старые каменные плиты. Бьющий через рваное отверстие далеко вверху сноп ослепительных лучей напомнил ему те минуты. Как будто он в падающем с неба металлическом соборе…
Вбежав на мостик, откуда наконец-то можно было выглянуть наружу, Фолкен с ужасом увидел, что Земля совсем близко. Какая-нибудь тысяча метров отделяла дирижабль от изумительных — и смертоносных — каменных шпилей и от красных илистых струй, которые упорно продолжали вгрызаться в прошлое. И ни одного ровного клочка, где мог бы лечь во всю длину корабль такой величины, как «Куин».
Он взглянул на приборную доску. Весь балласт сброшен. Но и скорость падения снизилась до нескольких метров в секунду. Еще можно побороться.
Фолкен молча занял место пилота и взял управление на себя — насколько корабль вообще поддавался еще управлению. Говорить было не о чем, приборы сказали ему все, что нужно. Где-то за его спиной начальник связи докладывал по радио о происходящем. Конечно, все информационные каналы Земли уже начеку… Фолкен представлял себе отчаяние режиссеров телевизионных станций. В разгаре одно из самых эффектных в истории кораблекрушений — и ни одной камеры на месте, чтобы запечатлеть его! Последние минуты «Куин» не будут наполнять содроганием и ужасом души миллионов зрителей, как это было с «Гинденбургом» полтора столетия назад.
До Земли оставалось всего около пятисот метров, и она продолжала медленно надвигаться. Хотя в распоряжении Фолкена была полная мощь движителей, он до сих пор не решался их использовать, боясь, что развалится поврежденный остов. Однако выбора не было. Ветер нес «Куин» к развилке, где реку рассекала надвое высокая скала, похожая на форштевень некоего древнего окаменевшего корабля. Если курс останется прежним, «Куин» оседлает треугольную площадку и на треть своей длины повиснет над пустотой. И переломится, как гнилая палка.
Фолкен включил боковые стройные рули и сквозь металлический скрежет и шипение уходящего газа услышал далекий знакомый свист. Корабль помешкал, потом начал поворачиваться влево. Металл скрежетал почти непрерывно, и скорость падения зловеще возрастала. Контрольные приборы сообщали, что лопнул газовый мешок номер пять…
До Земли оставались считанные метры, а Фолкен все еще не мог решить, будет ли толк от его маневра. Он перевел вектор тяги на вертикаль, чтобы предельно увеличить подъемную силу и ослабить удар.
Столкновение с Землей растянулось на целую вечность. Оно было не таким уж сильным, но достаточно долгим и сокрушительным. Будто рушилась вся вселенная.
Звук ломаемого металла приближался, словно некий могучий зверь вгрызался в остов погибающего корабля.
А потом пол и потолок зажали Фолкена в тисках.
2
— Почему тебе так хочется лететь на Юпитер?
— Как сказал Шпрингер, когда отправился на Плутон: потому что он существует.
— Ясно. А теперь выкладывай настоящую причину.
Говард Фолкен улыбнулся, хотя лишь тот, кто близко знал его, назвал бы улыбкой эту напряженную гримасу. Вебстер знал его близко. Больше двадцати лет они работали вместе, разделяя успех и катастрофы, в том числе самую грандиозную.
— Что же, штамп Шпрингера остается в силе. Мы высаживались на всех планетах земного типа, но на газовых гигантах не бывали. Можно сказать, что они — единственный стоящий орешек Солнечной системы, который мы еще не разгрызли.
— Дорогостоящий орешек. Ты не прикидывал расходы?
— Попытался, вот мои выкладки. Но учти, это ведь не одноразовое мероприятие. Речь идет о системе, которую можно использовать многократно, если она себя оправдает. И с ней не только Юпитер — все гиганты станут доступными.
Вебстер посмотрел на цифры и присвистнул.
— Почему бы не начать с какой-нибудь планеты полегче, скажем с Урана? Сила тяготения — половина юпитеровой, и вторая космическая скорость наполовину меньше. Да и погода там потише, если можно так выразиться.
Вебстер явно подготовился к разговору. На то он и руководитель перспективного планирования.
— Не так уж много на этом выиграешь, если учесть, что путь побольше и с материально-техническим обеспечением посложнее. На Юпитере нам Ганимед поможет. А за Сатурном придется создавать новую обеспечивающую базу.
«Логично, — отметил про себя Вебстер. — И все-таки не это основная причина. Юпитер — властелин Солнечной системы, а Фолкену, конечно, подавай самый крепкий орешек…»
— Кроме того, — продолжал Фолкен, — Юпитер основательно морочит голову ученым. Больше ста лет как открыты его радиобури, а мы все не знаем, что их вызывает. И Большое Красное Пятно по-прежнему остается загадкой. Поэтому я рассчитываю еще и на средства Комитета астронавтики. Тебе известно, сколько зондов запушено в атмосферу Юпитера?
— Сотни две, должно быть.
— Триста двадцать шесть за последние полсотни лет. И каждый четвертый — впустую. Слов нет, собрана куча данных, но что это для такой планеты… Ты представляешь себе, насколько она велика?
— В десять с лишним раз больше Земли.
— Разумеется, но что это означает?
Фолкен показал на большой глобус в углу кабинета.
— Погляди на Индию — много места она занимает? Так вот, если поверхность земного шара распластать на поверхности Юпитера, соотношение будет примерно то же.
Они помолчали, Вебстер размышлял над уравнением: Юпитер относится к Земле, как Земля к Индии. Удачный пример, и, конечно, Фолкен не случайно его выбрал.
Неужели десять лет прошло? Да, не меньше… Авария произошла семь лет назад (эта дата врезалась в его память), а подготовительные испытания начались за три года до первого и последнего полета «Куин Элизабет».
Десять лет назад капитан — нет, тогда лейтенант — Фолкен пригласил его, так сказать, на репетицию, в трехдневный полет над равнинами северной Индии, с видом на далекие Гималаи.
— Совершенно безопасно, — заверил он. — Отдохнешь от бумаг и представишь себе, о чем идет речь.
Вебстер не был разочарован. Если не считать первого посещения Луны, полет этот был самым ярким впечатлением в его жизни. Хотя, как и говорил Фолкен, обошлось без опасностей и даже без особых приключений.
Они взлетели в Сринагаре на рассвете. Огромный серебристый шар озарили первые лучи солнца. Поднимались в полной тишине, никакого рева газовых горелок, на которых зиждилась подъемная сила старинных «монгольфьеров». Все необходимое тепло давал небольшой, весом около ста килограммов, импульсный реактор, подвешенный в горловине шара. Пока они набирали высоту, лазерная искра десять раз в секунду сжигала малую толику тяжелого водорода. В горизонтальном полете было достаточно нескольких импульсов в минуту, чтобы возмещать расход тепла в огромном газовом мешке.
Даже в полутора километрах над Землей они слышали лай собак, людские голоса, звон колокольчиков. Все шире расстилался под ними залитый солнцем край ландшафта. Через два часа шар уравновесился на высоте пяти тысяч метров; здесь им то и дело приходилось пользоваться кислородной маской. Можно было с легким сердцем любоваться пейзажами: автоматика выполняла за них всю работу, в частности собирала данные для тех, кто проектировал тогда еще безымянный небесный лайнер.
День выдался отменный. До начала юго-западного муссона оставался целый месяц, в небе — ни облачка. Время будто остановилось, и только радиосводка погоды каждый час вторгалась в их грезы. Кругом, до горизонта и дальше, простирался древний, дышащий историей ландшафт, лоскутное одеяло из селений, полей, храмов, озер, оросительных каналов…
Усилием воли Вебстер развеял чары воспоминаний. Тот полет десять лет назад сделал его приверженцем аппаратов легче воздуха. И помог ему осознать, как огромна Индия, даже в мире, который можно облететь за девяносто минут. «А Юпитер, — повторил он про себя, — относится к Земле, как Земля относится к Индии…»
— Допустим, ты прав, — сказал он вслух, — и допустим, найдутся средства. Остается еще вопрос: почему ты думаешь, что справишься с задачей лучше, чем те — сколько ты говорил? — триста двадцать шесть автоматических станций, которые туда посылали?
— Я превосхожу автоматы и как наблюдатель, и как пилот. Особенно как пилот. Не забудь, у меня больше опыта с аппаратами легче воздуха, чем у кого-либо еще на свете.
— Ты можешь в полной безопасности управлять полетом из центра на Ганимеде.
— Но ведь в том-то и дело, что это уже было! Ты забыл, что погубило «Куин»?
Вебстер отлично знал причину, однако ответил:
— Ну?
— Запаздывание. Запаздывание! Этот болван оператор думал, что работает через местный передатчик, а его случайно подключили к спутнику. Не его вина, конечно, но должен был заметить! И пока сигнал проходил в оба конца, запаздывал на полсекунды. Но и то обошлось бы при спокойной атмосфере. Все испортила турбулентность над Большим Каньоном. Платформа накренилась, оператор дал команду на выравнивание, а она уже успела качнуться в другую сторону. Ты пробовал когда-нибудь вести по ухабам машину, которая слушается руля с опозданием на полсекунды?
— Не пробовал и не собираюсь. Но могу себе представить…
— Так вот, от Ганимеда до Юпитера миллион километров. Суммарное запаздывание сигнала составит шесть секунд. Нет, оператор должен находиться на месте, чтобы вовремя принимать срочные меры. Вот я сейчас покажу тебе одну штуку… Можно взять?
— Конечно, бери.
Фолкен взял с письменного стола открытку. На Земле они почти перевелись, но эта изображала объемный марсианский ландшафт и была обклеена редкими, дорогими марками. Он держал ее вертикально.
— Старый трюк, но годится как иллюстрация. Пропусти открытку между большим и указательным пальцами, но не касайся ее… Вот так.
Вебстер протянул руку и поднес пальцы вплотную к открытке.
— Теперь лови.
Фолкен выждал несколько секунд и вдруг выпустил открытку. Пальцы Вебстера схватили пустоту.
— Давай повторим, чтобы ты убедился, что нет никакого подвоха. Видишь?
Снова открытка проскользнула между пальцами Вебстера.
— А теперь испытай меня.
Взяв открытку, Вебстер тоже выпустил ее внезапно. Фолкен мгновенно схватил ее, реакция была настолько быстрой, что Вебстеру даже почудился щелчок.
— Когда хирурги меня собирали, — бесстрастно заметил Фолкен, — они внесли кое-какие усовершенствования. И это только одно из них. Хотелось бы найти им применение. Юпитер очень подходит для этого.
Несколько долгих секунд Вебстер смотрел на открытку, впитывая взглядом неправдоподобные краски на склонах Троепутья Харона. Потом произнес:
— Понятно. Сколько времени уйдет на подготовку?
— С твоей помощью да при поддержке Комитета и разных научных фондов, которые мы сможем привлечь, — ну, года три. Еще год на испытания, ведь придется запустить по меньшей мере две опытные модели. В целом, если все будет гладко, — пять лет.
— Примерно так я и думал. Что ж, желаю тебе успеха, ты его заслужил. Но в одном я тебе не союзник.
— Это в чем же?
— Когда в следующий раз полетишь на воздушном шаре, не зови меня в пассажиры.
3
Чтобы упасть с Юпитера Пять на планету Юпитер, достаточно трех с половиной часов. Мало кто сумел бы уснуть в таком волнующем путешествии. Говард Фолкен вообще считал потребность в сне слабостью, а если все же ненадолго засыпал, его преследовали кошмары, с которыми время до сих пор не совладало. Но в ближайшие три дня не приходилось рассчитывать на отдых — значит, надо использовать долгое падение, эти сто с лишним тысяч километров до океана облаков.
Как только «Кон-Тики» вышел на переходную орбиту и бортовая ЭВМ сообщила, что все в порядке, Фолкен приготовился ко сну, который для него мог оказаться последним. Как раз в это время Юпитер очень кстати заслонил сияющее Солнце — «Кон-Тики» нырнул в тень от огромной планеты. Несколько минут корабль окутывали какие-то необычные золотистые сумерки, потом четверть неба превратилась в сплошной черный провал, окруженный морем звезд. Сколько ни углубляйся в дали Солнечной системы, звезды не меняются; те же созвездия сейчас видны на Земле, за миллионы километров от Юпитера. Нового здесь только маленькие бледные серпы Каллисто и Ганимеда. Конечно, где-то в небе находилось еще с десяток юпитерианских лун, но они были слишком малы и слишком удалены, чтобы различить их невооруженным глазом.
— Выключаюсь на два часа, — передал Фолкен на корабль-носитель, который висел в полутора тысячах километрах над пустынными скалами Юпитера Пять, заслоненный им от планетной радиации.
От этой крохотной луны хоть та польза, что она, словно космический бульдозер, сгребает почти все заряженные частицы, из-за которых человеку вредно задерживаться вблизи Юпитера. Под ее прикрытием можно спокойно останавливать корабль, не опасаясь незримой смертоносной мороси.
Фолкен включил индуктор сна, и ласковые электрические импульсы быстро убаюкали его мозг. Пока «Кон-Тики» падал на Юпитер, с каждой секундой ускоряя ход в чудовищном поле тяготения, он спал без сновидений. Сны придут в момент пробуждения — придут земные кошмары…
Правда, само крушение не снилось ему ни разу, хотя во сне он часто оказывался лицом к липу с испуганным супершимпанзе на спиральной лестнице между опадающими газовыми мешками. Ни один из симпов не выжил. Те, кто не погиб сразу, получили настолько тяжелые ранения, что их подвергли безболезненной эвтаназии. Иногда Фолкен спрашивал себя, почему ему снится лишь это обреченное существо, с которым он впервые встретился за несколько минут до его смерти, а не друзья и коллеги, погибшие на «Куин».
Больше всего боялся Фолкен снов, которые возвращали его к той минуте, когда он пришел в себя. Физической боли почти не было, поначалу он вообще ничего не чувствовал. Только мрак да тишина кругом, ему даже казалось, что он не дышит. И самое странное — потерялись конечности. Он не мог пошевельнуть руками и ногами, потому что не знал, где они.
Первой отступила тишина. Через несколько часов — или дней — он уловил какой-то слабый пульсирующий звук. В конце концов, после долгого раздумья заключил, что это бьется его собственное сердце. Первая в ряду многих ошибка…
Дальше — слабые уколы, вспышки света, неуловимые прикосновения к по-прежнему бездействующим конечностям. Один за другим оживали органы чувств. И с ними ожила боль. Ему пришлось учить все заново, пришлось повторить раннее детство. Память не пострадала, и Фолкен понимал все, что ему говорили, но несколько месяцев мог только мигать в ответ. Он помнил счастливые минуты, когда сумел вымолвить свое первое слово, перевернуть страницу книги — и когда наконец сам начал перемещаться по комнате. Немалое достижение, и готовился он к этому почти два года… Сотни раз Фолкен завидовал погибшему супершимпанзе, но ведь у него не было выбора, врачи решили все за него. И вот теперь, двадцать лет спустя, он там, где до него не бывал ни один человек, летит со скоростью, какой еще никто не выдерживал.
«Кон-Тики» уже выходил из тени, и юпитерианский рассвет перекрыл небо перед ним исполинской дугой, когда настойчивый голос зуммера вырвал Фолкена из объятий сна. Непременные кошмары (он как раз хотел вызвать медицинскую сестру, но не было сил даже нажать кнопку) быстро отступили. Величайшее — и, возможно, последнее — приключение в жизни ожидало его.
Фолкен вызвал Центр управления — он должен был вот-вот скрыться за изгибом Юпитера — и доложил, что все идет нормально. Их разделяло почти сто тысяч километров, и скорость «Кон-Тики» уже перевалила за пятьдесят километров в секунду — это величина! Через полчаса он начнет входить в атмосферу, и это будет самый тяжелый маневр такого рода но всей Солнечной системе. Правда, десятки зондов благополучно прошли через огненное чистилище, но ведь то были особо прочные, компактно размещенные приборы, способные выдержать не одну сотню g. Максимальные нагрузки на «Кон-Тики», пока он не уравновесится в верхних слоях атмосферы Юпитера, составят тридцать g, средние — больше десяти. Тщательно, не торопясь, Фолкен стал пристегивать сложную систему захватов, соединенную со стенами кабины. Закончив эту процедуру, он сам стал как бы частью конструкции.
Часы вели обратный отсчет: осталось сто секунд. Возврата нет, будь что будет… Через полторы минуты он войдет по касательной в атмосферу Юпитера и окажется всецело во власти исполина.
Ошибка в отсчете составила всего плюс три секунды — не так уж плохо, если учесть, сколько было неизвестных факторов. Сквозь стены кабины доносились жуткие вздохи, они переросли в высокий, пронзительный вой. Совсем другой звук, чем при подходе к Земле или к Марсу. Разреженная атмосфера из водорода и гелия переводила все звуки на две октавы выше. На Юпитере даже в раскатах грома будут звучать фальцетные обертоны.
Вместе с нарастающим воем росла и нагрузка. Через несколько секунд Фолкена словно сковал паралич. Поле зрения уменьшилось настолько, что он видел лишь часы и акселерометр. Пятнадцать g, и еще терпеть четыреста восемьдесят секунд…
Он не потерял сознания, да иначе и быть не могло. Фолкен представил себе, какой роскошный — на несколько тысяч километров! — хвост тянется за «Кон-Тики» в атмосфере Юпитера. Через пятьсот секунд после входа в атмосферу перегрузка пошла на убыль. Десять g, пять, два… Потом тяжесть почти совсем исчезла. Огромная орбитальная скорость была погашена, началось свободное падение.
Внезапный толчок дал знать, что сброшены раскаленные остатки тепловой защиты. Она сделала свое дело и больше не понадобится, пусть достается Юпитеру. Отстегнув все захваты, кроме двух, Фолкен ждал, когда начнется следующая, самая ответственная последовательность автоматических операций.
Он не видел, как раскрылся первый тормозной парашют, но ощутил легкий рывок, и падение сразу замедлилось. Горизонтальная составляющая скорости «Кон-Тики» была полностью погашена, теперь аппарат летел прямо вниз со скоростью полутора тысяч километров в час. Последующие шестьдесят секунд все решат…
Пошел второй парашют. Фолкен посмотрел в верхний иллюминатор и с великим облегчением увидел, как над падающим аппаратом колышутся облака сверкающей пленки. В небе огромным цветком раскрылась оболочка воздушного шара и стала надуваться, зачерпывая разреженный газ. Полный объем составлял не одну тысячу кубических метров, и скорость падения «Кон-Тики» уменьшилась до нескольких километров в час. На этом рубеже она стабилизировалась. Теперь у Фолкена было вдоволь времени — до поверхности планеты аппарату падать не один день.
Но в конце концов он ее все же достигнет, если не принимать никаких мер. Сейчас шар играл роль всего-навсего мощного парашюта. Он не обладал подъемной силой, да и откуда ей взяться, ведь внутри тот же газ, что и снаружи.
С характерным, слегка нервирующим потрескиванием заработал реактор, посылая в оболочку струи тепла. Через пять минут скорость падения снизилась до нуля, еще через минуту аппарат начал подниматься. Согласно радиовысотомеру, он уравновесился на высоте около четырехсот семнадцати километров над поверхностью Юпитера — или над тем, что принято было называть поверхностью.
Только один шар способен плавать в атмосфере самого легкого из газов — водорода: шар, наполненный горячим водородом. Пока тикал реактор, Фолкен мог, не снижаясь, парить над миром, где разместилась бы сотня Тихих океанов. Покрыв около шестисот миллионов километров, «Кон-Тики» наконец-то начал оправдывать свое название. Воздушный плот плыл по течению в атмосфере Юпитера…
Хотя кругом простирался новый мир, прошло больше часа, прежде чем Фолкен смог уделить внимание панораме. Сперва надо было проверить все системы кабины, опробовать рукоятки управления. Определить, насколько увеличить подачу тепла, чтобы подниматься с нужной скоростью, сколько газа выпустить, чтобы снижаться. А главное — добиться стабильности. Отрегулировать длину тросов, соединяющих кабину с огромной грушей оболочки, чтобы погасить раскачивание и сделать полет возможно более плавным. До сих пор ему сопутствовала удача — ветер на этой высоте был устойчивым, и доплеровская локация показывала, что относительно невидимой поверхности он летит со скоростью трехсот пятидесяти километров в час. Очень скромная цифра для Юпитера, где отмечены скорости ветра до полутора тысяч километров в час. Но, конечно, не в скорости дело; турбулентность — вот что опасно. Если придется столкнуться с ней, Фолкена выручит только сноровка, опыт, быстрота реакций — все то, чего не заложишь в программу ЭВМ.
Лишь после того, как он наладил полный контакт со своим необычным аппаратом, Фолкен откликнулся на настойчивые просьбы Центра управления и выпустил штанги с измерительными приборами и устройствами для забора газов. И хотя кабина теперь напоминала неряшливо украшенную рождественскую елку, она все так же легко реяла над Юпитером, посылая непрерывный поток информации на самописцы далекого корабля-носителя. И наконец-то появилась возможность осмотреться…
Первое впечатление было неожиданным и в какой-то мере разочаровывающим. Если говорить о масштабах, то с таким же успехом он мог парить над земными облаками. Горизонт — там, где ему и положено быть, никакого ощущения, что летишь над планетой, поперечник которой в одиннадцать раз превосходит диаметр Земли. Но когда Фолкен посмотрел на инфракрасный локатор, зондирующий слой атмосферы внизу, сразу стало ясно, как сильно обмануло его зрение.
Облачный слой на самом деле был не в пяти, а в шестидесяти километрах под ним. И до горизонта не двести километров, как ему казалось, а почти три тысячи.
Кристальная прозрачность водородно-гелиевой атмосферы и пологие дуги поверхности планеты совершенно сбили его с толку. Судить на глаз о расстояниях здесь было еще труднее, чем на Луне. Видимую длину каждого отрезка надо умножать по меньшей мере на десять.
Элементарно и в общем-то ничего неожиданного. Все же Фолкену почему-то стало не по себе. Такое чувство, словно не в Юпитере дело, а сам он уменьшился в десять раз. Возможно, со временем он привыкнет к чудовищным масштабам этого мира, но сейчас, как поглядишь на невообразимо далекий горизонт, так и чудится, что тебя пронизывает холодный — холоднее окружающей атмосферы — ветер. Что бы он ни говорил раньше, может статься, что эта планета совсем не для людей. И будет Фолкен первым и последним, кто проник в облачный покров Юпитера.
Небо было почти черным, если не считать нескольких перистых облаков из аммиака километрах в двадцати над аппаратом. Там царил космический холод, но с уменьшением высоты быстро росли температура и давление. В зоне, где сейчас парил «Кон-Тики», термометр показывал минус пятьдесят, давление равнялось пяти атмосферам. В ста километрах ниже будет жарко, как в экваториальном поясе Земли, а давление примерно такое, как на дне не очень глубокого моря. Идеальные условия для жизни…
Уже минула четвертая часть короткого юпитерианского дня. Солнце прошло полпути до зенита, но облачную пелену внизу озарял удивительно мягкий свет. Лишних шестьсот миллионов километров заметно умерили яркость солнечных лучей. Несмотря на ясное небо, Фолкен не мог избавиться от ощущения, что выдался пасмурный день. Надо думать, ночь спустится очень быстро. Вот ведь еще утро, а будто сгустились осенние сумерки. С той поправкой, что на Юпитере не бывает осени, вообще нет никаких времен года.
«Кон-Тики» вошел в атмосферу в центре экваториальной зоны — наименее красочной из широтных зон планеты. Море облаков лишь чуть-чуть было тронуто оранжевым оттенком, не то что желтые, розовые, даже красные кольца, опоясывающие Юпитер и более высоких широтах. Знаменитое Красное Пятно, самая броская примета Юпитера, находилось далеко на юге. Было очень соблазнительно спуститься там, но южное тропическое возмущение оказалось слишком велико, скорость течений достигала полутора тысяч километров в час. Нырять в чудовищный водоворот неведомых стихий значило напрашиваться на неприятности. Пусть будущие экспедиции займутся Красным Пятном и его загадками.
Солнце перемещалось в небе вдвое быстрее, чем на Земле; оно уже приблизилось к зениту, и серебристая громада аэростата заслонила его. «Кон-Тики» по-прежнему шел на запад с неизменной скоростью трехсот пятидесяти километров в час, но отражалось это только на экране локатора. Может быть, здесь всегда так спокойно? Похоже все-таки, что ученые, которые авторитетно толковали о штилевых полосах Юпитера, называя экватор самой тихой зоной, не ошиблись. Фолкен крайне скептически относился к такого рода прогнозам, гораздо убедительнее прозвучали для него слова одного небывало скромного исследователя, который прямо заявил: «Никто не знает точно, что творится на Юпитере».
Что ж, под конец сегодняшнего дня появится, во всяком случае, один знаток.
Если Фолкен сумеет дожить до ночи.
4
В этот первый день фортуна ему улыбалась. На Юпитере было так же тихо и мирно, как много лет назад, когда он вместе с Вебстером парил над равнинами северной Индии. У Фолкена было время овладеть своими новыми талантами в такой мере, что он будто слился с «Кон-Тики». Он не рассчитывал на такую удачу и спрашивал себя, какой ценой придется за нее расплачиваться.
Пятичасовой день подходил к концу. Облачный полог внизу избороздили тени, и теперь он казался плотнее, массивнее, чем когда солнце стояло выше в небе. Краски быстро тускнели, только прямо на западе горизонт опоясывал жгут темнеющего пурпура. В кромешном мраке над ним бледным серпом светилась одна из ближних лун.
Простым глазом было видно, как солнце свалилось за край планеты в трех тысячах километров от «Кон-Тики». Вспыхнули мириады звезд, и среди них, на самом рубеже сумеречной зоны, прекрасная вечерняя звезда — Земля как напоминание о безбрежных далях, отделяющих его от родного дома. Следом за солнцем она зашла на западе. Началась первая ночь человека на Юпитере.
С наступлением темноты «Кон-Тики» пошел вниз. Шар уже не нагревался слабыми солнечными лучами и потерял частицу своей подъемной силы. Фолкен не стал возмещать потерю, этот спуск входил в его планы.
До незримой теперь пелены облаков оставалось около пятидесяти километров. К полуночи он достигнет ее. Облака четко рисовались на экране инфракрасного локатора; тот же прибор сообщал, что в них кроме обычных водорода, гелия и аммиака огромный набор сложных соединений углерода. Химики томились в ожидании проб этой розоватой ваты. Правда, атмосферные зонды уже доставили несколько граммов, но исследователей такая малость только раздразнила. Высоко над поверхностью Юпитера обнаружилась добрая половина молекул, необходимых для живого организма. Есть пища — так, может быть, и потребители существуют? Вопрос этот уже свыше ста лет оставался без ответа.
Инфракрасные лучи отражались облаками, но микроволновый радар пронизывал их, выявляя слой за слоем, вплоть до поверхности планеты в четырехстах километрах под «Кон-Тики». Путь к ней был прегражден Фолкену колоссальными давлениями и температурами; даже автоматы не могли пробиться туда невредимыми. Вот она — в нижней части радарного экрана, не совсем четкая и мучительно недостижимая… Аппаратура Фолкена не могла расшифровать ее своеобразную зернистую структуру.
Через час после захода солнца он сбросил первый зонд. Автомат пролетел быстро первые сто километров, потом завис в более плотных слоях, посылая поток радиосигналов, которые Фолкен транслировал в Центр управления. Сверх того до самого восхода солнца ему оставалось только следить за скоростью снижения, передавать показания приборов да отвечать на отдельные запросы. Влекомый устойчивым течением, «Кон-Тики» не нуждался в присмотре.
Перед самой полуночью на дежурство в Центре заступила оператор-женщина. Она представилась Фолкену, сопроводив эту процедуру обычными шутками. А через десять минут он снова услышал ее голос, на этот раз серьезный и взволнованный.
— Говард! Послушай сорок шестой канал, не пожалеешь!
Сорок шестой? Телеметрических каналов было столько, что он помнил лишь самые важные. Но как только включил тумблер, сразу сообразил, что принимает сигнал от микрофона на зонде, который висел в ста тридцати километрах под ним, где плотность атмосферы приближалась к плотности воды.
Сперва он услышал лишь шелест ветра, необычного ветра, дующего во мраке непостижимого мира. А затем на этом фоне исподволь родилась гулкая вибрация. Сильнее… сильнее… будто рокот исполинского барабана. Звук был такой низкий, что Фолкен не только слышал, но и осязал его, и частота ударов непрерывно возрастала, хотя высота тона не менялась. Вот уже какая-то почти инфразвуковая пульсация… Внезапно звук оборвался — так внезапно, что мозг не сразу воспринял тишину, память продолжала творить неуловимое эхо где-то в глубинах сознания.
Фолкен в жизни не слышал ничего подобного, никакие земные звуки не шли тут в сравнение. Тщетно пытался он представить себе явление природы, способное породить такой рокот. И на голос животного непохоже, взять хоть больших китов…
Звучание повторилось, с тем же нарастанием силы и частоты. На этот раз Фолкен был начеку и засек продолжительность: от первых негромких биений до заключительного крешендо — чуть больше десяти секунд.
А еще он услышал настоящее эхо, очень слабое и далекое. Возможно, звук отразился от какого-то еще более глубокого пограничного слоя многоярусной атмосферы, а может быть, исходил из совсем другого, далекого источника. Фолкен подождал, однако эхо не повторилось.
Центр управления не заставил себя ждать и попросил его тотчас сбросить второй зонд. Два микрофона позволят хотя бы приблизительно локализовать источники звука. Как ни странно, наружные микрофоны самою «Кон-Тики» воспринимали только шум ветра. Видимо, таинственный рокот в глубинах встретил вверху препятствие — отражающий слой — и растекся вдоль него.
Приборы быстро определили, что звучания исходят от источников примерно в двух тысячах километров от «Кон-Тики». Расстояние еще ничего не говорило об их мощи: в земных океанах довольно слабые звуки могут пройти такой же путь. Естественное предположение, что виновники — живые существа, было сразу отвергнуто главным экзобиологом.
— Я буду очень разочарован, — сказал доктор Бреннер, — если здесь не окажется ни растений, ни микроорганизмов. Но ничего похожего на живые существа не может быть там, где отсутствует свободный кислород. Все биохимические реакции на Юпитере должны протекать на низком энергетическом уровне. Активному существу попросту неоткуда почерпнуть силы для своих жизненных функций.
Так уж и неоткуда… Фолкен не первый раз слышал этот аргумент, и он его не убедил.
— Так или иначе, — продолжал экзобиолог, — длина звуковой волны порой достигала девяноста метров! Даже зверь величиной с кита неспособен производить такие звуки. Так что речь может идти только о каком-то природном явлении.
А вот это уже похоже на правду, и, наверное, физики сумеют найти объяснение. В самом деле, поставьте слепого пришельца на берег бушующего моря, рядом с гейзером, с вулканом, с водопадом — как он истолкует услышанные звуки? Может и приписать их огромному животному.
Примерно за час до восхода голоса из пучины смолкли, и Фолкен стал готовиться к встрече своего второго дня на Юпитере. От ближайшего яруса облаков «Кон-Тики» теперь отделяло всего пять километров; наружное давление возросло до десяти атмосфер, температура была тропическая — тридцать градусов. Человек вполне мог бы находиться в такой среде без какого-либо снаряжения, кроме маски и баллона с подходящей смесью гелия и кислорода для дыхания.
— Приятные новости, — сообщил Центр управления, когда рассвело. — Облака кое-где расходятся. Через час увидишь частичный просвет. Но остерегайся турбулентности!
— Уже чувствую кое-что, — ответил Фолкен. — На какую глубину я буду видеть?
— Километров на двадцать по меньшей мере, до следующего термоклина. Но уж та пелена поплотнее, просветов не бывает.
«И она для меня недоступна», — сказал себе Фолкен. Температуры там превышают сто градусов. Впервые «потолок» воздухоплавателя находился не над головой, а под ногами!
Через десять минут и он обнаружил то, что увидел сверху Центр управления. Окраска облаков у горизонта изменилась, пелена стала косматой, бугристой, как будто ее что-то распороло. Он прибавил жару в своей маленькой атомной топке и набрал несколько километров высоты для лучшего обзора.
Внизу и в самом деле быстро ширился просвет, словно что-то растворяло плотный полог. Перед глазами Фолкена разверзлась бездна: «Кон-Тики» прошел над краем небесного каньона глубиной около двадцати и шириной около тысячи километров.
Под ним простирался совсем новый мир. Юпитер отдернул одну из своих многочисленных завес. Второй ярус облаков, дразнящий воображение своей недосягаемостью, был намного темнее первого. Цвет розоватый, с причудливыми островками кирпичного оттенка. Островки овальные, вытянутые в направлении господствующего ветра, с востока на запад, примерно одинаковой величины. Их были сотни, и они напоминали пухлые кочевые облака в земных небесах.
Он уменьшил подъемную силу, и «Кон-Тики» начал снижаться вдоль тающего обрыва. И тут Фолкен заметил снег.
Белые хлопья возникали в воздухе и медленно летели вниз. Но откуда в такой жаре снег? Не говоря уже о том, что на этой высоте не может быть водяных паров. К тому же низвергающийся в бездну каскад не сверкал и не переливался на солнце. Вскоре несколько хлопьев легли на приборную штангу перед главным иллюминатором, и он рассмотрел, что они мутно-белые, отнюдь не кристаллические — и довольно большие, сантиметров десять в поперечнике. Похоже на воск. Скорее всего, воск и есть… В атмосфере вокруг «Кон-Тики» шла какая-то химическая реакция, которая рождала реющие над Юпитером хлопья углеводородов.
Километрах в ста прямо по курсу что-то всколыхнуло вторую облачную пелену. Маленькие красноватые овалы заметались, потом начали выстраиваться по спирали. Знакомая схема циклона, столь обычная в земной метеорологии. Воронка формировалась с поразительной быстротой. Если там зарождается ураган, «Кон-Тики» ожидают большие неприятности.
В следующий миг беспокойство в душе Фолкена сменилось удивлением — и страхом. Нет, это вовсе не ураган: нечто огромное, не один десяток километров в поперечнике, всплывало из толщи облаков на его пути.
Несколько секунд он цеплялся за мысль, что это, наверно, тоже облако — грозовое облако, которое заварилось в нижних слоях атмосферы. Но нет, тут что-то плотное. Что-то плотное протискивалось сквозь розоватый покров, будто всплывающий из глубин айсберг.
Айсберг, плавающий в водороде? Что за вздор! Но как сравнение, пожалуй, годится. Наведя телескоп на загадочное образование, Фолкен увидел беловатую аморфную массу с красными и бурыми прожилками. Не иначе как то самое вещество, из которого состоят «снежинки». Целая гора воска. Затем он разобрал, что она не такая уж компактная, как ему показалось сначала. Кромка таинственной громады непрерывно крошилась и возникала вновь.
— Я знаю, что это такое, — доложил он в Центр управления, который уже несколько минут тормошил его тревожными запросами, — Гора пузырьков, пена. Углеводородная пена. Скажите химикам, пусть… Нет, постойте!!!
— В чем дело? — заволновался Центр, — Что случилось?
Пренебрегая отчаянными призывами из космоса, Фолкен сосредоточил все внимание на том, что показывал телескоп. Необходима полная уверенность… Ошибешься — станешь посмешищем для всей Солнечной системы.
Наконец он расслабился, поглядел на часы и отключил неотвязный голос Центра.
— Вызываю Центр управления, — произнес он в микрофон официальным тоном. — Говорит Говард Фолкен с борта «Кон-Тики». Эфемеридное время девятнадцать часов, двадцать одна минута, пятнадцать секунд. Широта ноль градусов, пять минут, северная. Долгота сто пять градусов, сорок две минуты, система один. Передайте доктору Бреннеру, что на Юпитере есть живые организмы. Да еще какие!..
5
— Рад признать свою неправоту, — донесло радио веселый голос доктора Бреннера — У природы всегда припасен какой-нибудь сюрприз. Наведи получше телеобъектив и передай нам возможно более четкую картинку.
До восковой горы было еще слишком далеко, чтобы Фолкен мог как следует рассмотреть то, что двигалось вверх-вниз по ее склонам. Во всяком случае, что-то очень большое, иначе он их вообще не увидел бы. Почти черные, формой напоминающие наконечник стрелы, они перемешались, плавно извиваясь. Будто исполинские манты плавали над тропическим рифом.
Или это коровы небесные пасутся на облачных лугах Юпитера? Ведь эти существа явно обгладывали темные, буро-красные прожилки, избороздившие склоны, точно высохшие русла. Время от времени какая-нибудь из них ныряла в пенную громаду и пропадала из виду.
«Кон-Тики» летел очень медленно. Пройдет не меньше трех часов, прежде чем он окажется Над рыхлыми холмами. А солнце не ждет… Успеть бы до темноты как следует рассмотреть здешних мант и зыбкий ландшафт, над которым они реют.
Как же долго тянулись эти часы… Наружные микрофоны Фолкен держал включенными на полную мощность: может быть, перед ним источник ночного рокота? Манты были достаточно велики, чтобы издавать такие звуки. Точное измерение показало, что размах крыльев у них почти девяносто метров. В три раза больше длины самого крупного кита, хотя вес от силы несколько тонн.
За полчаса до заката «Кон-Тики» подошел к горе.
— Нет, — отвечал Фолкен на повторные запросы Центра управления, — они по-прежнему никак не реагируют на мое присутствие. Вряд ли это разумные создания. Они больше напоминают безобидных травоядных. Да если и захотят погоняться за мной, им не подняться на такую высоту.
По чести говоря, Фолкен был слегка разочарован тем, что манты не проявили ни малейшего интереса к нему, когда он пролетал высоко над их пастбищем. Может быть, им просто нечем его обнаружить?.. Рассматривая и фотографируя их через телескоп, он не заметил ничего, хотя бы отдаленно похожего на органы чувств. Казалось, огромные черные дельты из греческого алфавита сновали над откосами, которые плотностью немногим превосходили земные облака. На вил-то прочные, а наступи на белый склон — и провалишься, как сквозь папиросную бумагу.
Вблизи он рассмотрел слагающие гору многочисленные ячейки или пузыри. Иные достигали больше метра в поперечнике, и Фолкен спрашивал себя, в каком дьявольском котле варилось это углеводородное зелье. Похоже, в атмосфере Юпитера столько химических продуктов, что ими можно обеспечить Землю на миллионы лет.
Короткий день был на исходе, когда «Кон-Тики» прошел над гребнем восковой горы, и нижние склоны уже обволакивал сумрак. На западной стороне мант не было, и рельеф почему-то выглядел иначе. Вылепленные из пены длинные ровные террасы напоминали внутренность лунного кратера. Ни дать ни взять исполинские ступени, ведущие вниз, к незримой поверхности планеты.
На нижней ступени, как раз над роем облаков, раздвинутых изверженной из пучины горой, прилепилась какая-то округлая масса шириной в два-три километра. Фолкен едва ее различил — она была лишь чуть темнее сероватой пены, на которой покоилась. В первую минуту ему почудилось, что перед ним лес из белесых грибов-исполинов, никогда не видевших солнечных лучей.
В самом деле, лес… Из белой восковой пены торчали сотни тонких стволов, правда, они стояли очень уж густо, чуть ли не впритык. А может быть, не лес это, а одно огромное дерево? Что-нибудь вроде восточного баньяна с множеством дополнительных стволов. На Яве Фолкену однажды довелось видеть баньян, крона которого достигала шестисот метров в поперечнике. Но это чудовище раз в десять больше!
Сгущалась темнота. Преломленный солнечный свет окрасил облачный ландшафт в пурпур. Еще несколько секунд, и все поглотит мрак. Но в свете угасающего дня, своего второго дня на Юпитере. Фолкен увидел — или ему почудилось? — нечто такое, что основательно поколебало его трактовку белесого овала.
Если только его не обмануло слабое освещение, все эти сотни тонких стволов качались в лад гуда-обрагно, будто водоросли на волне.
И само дерево успело переместиться.
— Увы, похоже, что в ближайший час можно ждать извержения Беты, — сообщил Центр управления вскоре после захода солнца. — Вероятность семьдесят процентов.
Фолкен бросил взгляд на карту. Бета находилась на сто сороковом градусе юпитеровой широты, почти в тридцати тысячах километров от него, далеко за горизонтом. И хотя мощность извержений этого источника достигала десяти мегатонн, на таком расстоянии ударная волна не была ему опасна. Иное дело вызванная извержением радиобуря.
Всплески в декаметровом диапазоне, при которых Юпитер временами становился самым мощным источником радиоизлучения на всем звездном небе, были открыты еще в 1950-х годах и немало озадачили астрономов. И теперь, больше ста лет спустя, подлинная причина их оставалась загадкой. Признаки известны, а объяснения нет.
Самой живучей оказалась вулканическая гипотеза, хотя все понимали, что на Юпитере слово «вулкан» означает нечто совсем другое, чем на Земле. В нижних слоях юпитеровой атмосферы, может быть, даже на самой поверхности планеты то и дело — иногда по нескольку раз в день — происходили титанически извержения. Огромный столб газа высотой больше тысячи километров устремлялся вверх так, словно вознамерился улететь в космос.
Конечно, ему было не по силам одолеть поле тяготения величайшей из планет Солнечной системы. Но часть столба — от силы несколько миллионов тонн — обычно достигала ионосферы. Тут-то и начиналось…
Радиационные пояса Юпитера неизмеримо превосходят земные. И когда газовый столб устраивает короткое замыкание, рождается электрический разряд в миллионы раз мощнее любой земной молнии. Гром от этого разряда — в виде радиопомех — раскатывается по всей Солнечной системе и за ее пределами.
На Юпитере было обнаружено четыре основных очага всплесков. Возможно, к этим местам приурочены разломы, позволяющие раскаленному веществу недр прорываться наружу. Ученые на Ганимеде, крупнейшем из многочисленных спутников Юпитера, теперь брались даже предсказывать декаметровые бури. Их прогнозы были примерно такими же надежными, как прогнозы погоды на Земле в начале двадцатого века.
Фолкен не знал, бояться радиобури или радоваться ей. Ведь он сможет собрать ценнейшие данные — если останется жив. Весь маршрут был рассчитан так, чтобы «Кон-Тики» находился возможно дальше от главных очагов возмущения, особенно самого беспокойного из них — центра Альфа. Но случаю было угодно, чтобы сейчас проявил свой нрав ближайший очаг — Бета. Оставалось надеяться, что расстояние, равное трем четвертям земной окружности, предохранит «Кон-Тики».
— Вероятность девяносто процентов, — прозвучал напряженный голос Центра, — И забудь слова «в ближайший час». Ганимед считает, извержения можно ждать с минуты на минуту.
Только оператор договорил, как стрелка измерителя магнитного поля полезла вверх. Не успев зашкалить, она так же быстро поехала вниз. Далеко-далеко и на огромной глубине какая-то чудовищная сила всколыхнула жидкое ядро планеты.
— Вижу фонтан! — крикнул дежурный.
— Спасибо, я уже заметил. Когда буря дойдет до меня?
— Первые признаки жди через пять минут. Пик — через десять.
Где-то за дутой горизонта Юпитера столб газа шириной с Тихий океан рвался в космос со скоростью многих тысяч километров в час. В нижних слоях атмосферы уже бушевали грозы, но это было ничто перед свистопляской, которая разразится, когда радиационный пояс обрушит на планету избыточные электроны. Фолкен принялся убирать штанги с приборами. Единственная доступная ему мера предосторожности… Ударная волна покатится по атмосфере лишь через четыре часа после разряда, но радиовсплеск, распространяясь со скоростью света, настигнет его через десятую долю секунды.
Радиоиндикатор прощупывал весь спектр частот, но Фолкен слышал только обычный фон атмосферных помех. Вскоре уровень шумов начал медленно возрастать. Мощь извержения увеличивалась.
Он не ожидал, что на таком расстоянии сумеет что-либо разглядеть. Однако внезапно над горизонтом на востоке заплясали отблески далеких сполохов. Одновременно отключилась половина автоматических предохранителей на распределительном щите, погас свет и умолкли все каналы связи.
Фолкен хотел пошевельнуться — и не мог. Это было не только психологическое оцепенение, конечности не слушались его, и больно кололо все тело. Хотя электрическое поле никак не могло проникнуть в экранированную кабину, приборная доска излучала призрачное сияние, и слух Фолкена уловил характерное потрескивание тлеющего разряда.
Очередью резких щелчков сработала аварийная система. Снова включились предохранители, загорелся свет, и оцепенение прошло так же быстро, как возникло.
Удостоверившись, что все приборы работают нормально, Фолкен живо повернулся к иллюминатору.
Ему не надо было включать контрольные лампы — стропы, на которых висела кабина, словно горели. От стропового кольца и до пояса «Кон-Тики» протянулись во мраке яркие, голубые с металлическим отливом струи. И вдоль нескольких струй медленно катились ослепительные огненные шары.
Картина была до того чарующей и необычной, что не хотелось думать об опасности. Мало кто наблюдал шаровые молнии так близко. И ни один из тех, кто встречался с ними в земной атмосфере, летя на водородном аэростате, не уцелел. Перед внутренним взором Фолкена в который раз пробежали страшные кадры старой кинохроники — аутодафе цеппелина «Гинденбург», подожженного случайной искрой при швартовке в Лейк-херсте в 1937 голу. Но здесь такая катастрофа исключена, хотя в оболочке над головой Фолкена было больше водорода, чем в последнем цеппелине. Пройдет не один миллиард лет, прежде чем кто-нибудь сможет развести огонь в атмосфере Юпитера.
Скворча, как сало на горячей сковороде, ожил канал микрофонной связи.
— Алло, «Кон-Тики», ты слышишь нас? «Кон-Тики» — ты слышишь?
Слова были сильно искажены и будто изрублены. Но понять можно. Фолкен повеселел. Контакт с миром людей восстановлен…
— Слышу, — ответил он. — Роскошный электрический спектакль — и никаких повреждений. Пока.
— Слава богу. Мы уже думали, что потеряли тебя. Будь другом, проверь телеметрические каналы третий, седьмой и двадцать шестой. И наведи получше вторую камеру. И нас что-то смущают показания наружных датчиков ионизации…
Фолкен неохотно оторвался от пленительного фейерверка вокруг «Кон-Тики». Все же изредка он поглядывал в иллюминаторы. Первыми пропали шаровые молнии — они медленно разбухали и, достигнув критической величины, беззвучно взрывались. Но еще и час спустя все металлические части на оболочке кабины окружало слабое сияние. А радио продолжало потрескивать половину ночи.
Оставшиеся до утра часы прошли без приключений. Только перед самым восходом на востоке появилось какое-то зарево, которое Фолкен сперва принял за утреннюю зарю. Но до рассвета оставалось еще минут двадцать, к тому же зарево на глазах приближалось. Отделившись от обрамляющей невидимый край планеты звездной дуги, оно превратилось в сравнительно узкую, четко ограниченную световую полосу. Казалось, пол облаками шарит луч исполинского прожектора.
Километрах в ста за этой полосой возникла другая, она летела параллельно первой и с той же скоростью. А за ней — еще одна, и еще, и еще… И вот уже все небо переливается чередующимися полосами света и тьмы!
Фолкену казалось, что он уже привык ко всяким чудесам, и он не представлял себе, чтобы эти беззвучные переливы холодного света могли ему хоть как-то угрожать. Но зрелище было настолько поразительным и непостижимым, что в душу, подтачивая самообладание, проник леденящий страх. И какой человек не ощутил бы себя пигмеем перед лицом недоступных его пониманию сил… Может быть, на Юпитере все-таки есть не только жизнь, но и разум? И этот разум наконец-то начинает реагировать на вторжение постороннего?
— Да, видим. — В голосе из Центра звучал тот же трепет, который обуял Фолкена. — Никакого понятия, что это может быть. Следи, вызываем Ганимед.
Феерия медленно угасала. Выходящие из-за горизонта полосы стали намного бледнее, словно породившая их энергия иссякла. Через пять минут все было кончено. Последний тусклый световой импульс растаял в небе на западе. Фолкен почувствовал безграничное облегчение. Невозможно было долго созерцать такое завораживающее и тревожное зрелище без ущерба для душевною покоя.
Он гнал от себя саму мысль о том, как сильно потрясло его виденное. Электрическую бурю еще как-то можно было понять, но это… Это было нечто совершенно непостижимое.
Центр управления молчал. Фолкен знал, что сейчас на Ганимеде люди и электронные машины лихорадочно ищут ответ в информационных блоках. Не найдут — придется запросить Землю, это означает задержку почти на час. А если и Земля не сумеет помочь? Нет, о такой возможности лучше не думать.
Голос из Центра управления обрадовал его. как никогда прежде. Говорил доктор Бреннер, говорил с явным облегчением, хотя и глуховато, как человек, переживший серьезную встряску.
— Алло, «Кон-Тики». Мы решили загадку, хотя до сих пор как-то не верится… То, что ты видел, биолюминесценция, очень похожая на свечение микроорганизмов в тропических морях Земли. Правда, здесь они находятся в атмосфере, но принцип один и тот же.
— Но рисунок! — возразил Фолкен, — Рисунок был такой правильный, совсем искусственный. И он простирался на сотни километров!
— Даже больше, чем ты можешь себе представить. Тебе была видна только малая часть. Вся эта штука достигала в ширину пять тысяч километров и напоминала вращающееся колесо. Ты видел спицы этого колеса, они проносились со скоростью около километра в секунду…
— В секунду! — невольно перебил Фолкен. — Никакой организм не может развить такую скорость!
— Конечно, не может. Я сейчас объясню. Полосы, которые ты наблюдал, были вызваны ударной волной от очага Бета, а она распространилась со скоростью звука.
— Но рисунок? — не унимался Фолкен.
— Вот именно. Речь идет о редчайшем явлении, но такие же световые колеса, только в тысячу раз меньше, наблюдались в Персидском заливе и в Индийском океане. Вот послушай, что увидели моряки британского торгового судна «Патна» майской ночью в 1880 году в Персидском заливе. «Огромное светящееся колесо вращалось так, что спицы его, казалось, задевали судно. Длина спин составляла метров двести — триста… Всего в колесе было около шестнадцати спиц…» А вот сообщение от 23 мая 1906 года, дело происходило в Оманском заливе: «Ярчайшее свечение быстро приближалось к нам, один за другим направлялись на запад четко очерченные лучи, вроде луча из прожектора военного корабля… Слева от нас возникло огромное огненное колесо, его спицы терялись вдали. Колесо это продолжало вращаться две или три минуты…» ЭВМ на Ганимеде раскопала в архиве около пятисот случаев и принялась все выписывать, да мы ее вовремя остановили.
— Вы меня убелили. Хотя я все равно ничего не понимаю.
— Еще бы — полностью объяснить это явление удалось только в конце двадцатого века. Судя по всему, такое свечение возникает при, землетрясениях на дне моря. И всегда на мелких местах, где отражаются ударные волны и возникает устойчивый волновой спектр. Иногда видны полосы, иногда вращающиеся колеса — их назвали колесами Посейдона. Гипотеза получила окончательное подтверждение, когда произвели взрывы под водой и сфотографировали результат со спутника. Да, недаром моряки были склонны к суеверию. Кто бы поверил, что такое возможно?!
«Так вот в чем дело», — сказал себе Фолкен. Когда центр Бета дал выход своей ярости, во все стороны пошли ударные волны — и через сжатый газ нижних слоев атмосферы, и через толщу самого Юпитера. Встречаясь и перекрещиваясь, волны эти где-то взаимно гасились, где-то усиливали друг друга. Наверное, вся планета вибрировала, точно колокол.
Объяснение есть, но чувство благоговейного трепета осталось. Никогда ему не забыть этих мерцающих световых полос, которые пронизывали недосягаемые глубины атмосферы Юпитера. У Фолкена было такое ощущение, словно он очутился не просто на чужой планете, а в магическом царстве на грани мифа и действительности.
Поистине, в этом мире можно ожидать чего угодно, и нет никакой возможности угадать, что принесет завтрашний день.
И ведь ему еще целые сутки тут находиться…
6
Когда наконец рассвело по-настоящему, погода внезапно переменилась. «Кон-Тики» летел сквозь буран. Восковые хлопья падали так густо, что видимость сократилась до нуля. Фолкен с тревогой думал о лом, как оболочка выдержит возрастающий груз, пока не заметил, что ложащиеся на иллюминаторы хлопья быстро исчезают. Они тотчас таяли от выделяемого «Кон-Тики» тепла.
На Земле в слепом полете пришлось бы еще считаться с опасностью столкновения. Здесь хоть эта угроза отпадала, горы Юпитера находились в сотнях километров под аппаратом. Что до плавучих островов из пены, то наскочить на них, должно быть, то же самое, что врезаться в слегка отвердевшие мыльные пузыри…
Тем не менее Фолкен включил горизонтальный радар, в котором прежде не было надобности; до сих пор он пользовался только вертикальным лучом, определяя расстояние до невидимой поверхности планеты.
Его ожидал новый сюрприз.
Обширный сектор неба перед ним был насыщен отчетливыми эхо-сигналами. Фолкен припомнил, как первые авиаторы в ряду грозивших им опасностей называли «облака, начиненные камнями». Здесь это выражение было бы в самый раз.
Тревожная картина… Но Фолкен тут же сказал себе, что в атмосфере Юпитера не могут парить никакие твердые предметы. Скорее всего, это какое-то своеобразное метеорологическое явление. Так или иначе, до ближайшей цели было около двухсот километров.
Он доложил в Центр управления, но на сей раз объяснения не получил. Зато Центр утешил его сообщением, что через полчаса аппарат выйдет из бурана.
Однако его не предупредили о сильном боковом ветре, который вдруг подхватил «Кон-Тики» и понес его почти под прямым углом к прежнему курсу. Возможности управлять воздушным шаром невелики, и понадобилось все умение Фолкена, чтобы не дать неуклюжему аппарату опрокинуться. Через несколько минут он уже мчался на север со скоростью больше пятисот километров в час. Потом турбулентность прекратилась так же внезапно, как родилась. Может, это был местный вариант струйного течения?
Тем временем буран угомонился, и Фолкен увидел, что для него припас Юпитер.
«Кон-Тики» очутился в огромной вращающейся воронке диаметром около тысячи километров. Шар несло вдоль наклонной мглистой стены. Над головой Фолкена в ясном небе светило солнце, но внизу воронка ввинчивалась в атмосферу до неизведанных мглистых глубин, где почти непрерывно сверкали молнии.
Хотя шар опускался так медленно, что никакой непосредственной угрозы не было, Фолкен увеличил подачу тепла в обол очку и уравновесил аппарат. Только после этого он оторвался от фантастических картин за иллюминатором и снова обратился к радару.
Теперь до ближайшей дели было километров сорок. Он быстро разобрал, что все цели привязаны к стенам воронки и вращаются вместе с ней — очевидно, их, как и «Кон-Тики», подхватило вихрем. Фолкен навел телескоп по радарному пеленгу, и взгляду его явилось странное крапчатое облако.
Хотя оно заполнило почти все поле зрения, рассмотреть его было непросто — облако цветом лишь немногим отличалось от более светлого фона, образованного вращающейся стеной мглы. И прошло несколько минут, прежде чем Фолкен сообразил, что однажды уже видел такое облако.
В тот раз оно ползло по склону плывущей пенной горы, и он принял его за исполинское дерево с множеством стволов. Теперь представилась возможность точнее определить его размеры и конфигурацию. А заодно подобрать название, лучше отвечающее его облику. И вовсе не на дерево оно похоже, а на медузу. Ну конечно, на медузу, из тех, что медленно плывут в теплых завихрениях Гольфстрима, волоча за собой длинные щупальца.
Но эта медуза больше полутора километров в поперечнике… Десятки щупалец длиной в сотни метров мерно качались взад-вперед. На каждый взмах уходила минута с лишком. Казалось, будто диковинное существо тяжело идет на веслах по небу.
Остальные, более удаленные цели тоже были медузами. Фолкен рассмотрел в телескоп с пяток — никакой разницы ни в форме, ни в размерах. Наверное, все представляли один вид. Но почему они так неспешно вращаются по тысячекилометровому кругу? Может быть, кормятся атмосферным планктоном, который засосало в воронку так же, как и «Кон-Тики»?
— А ты подумал, Говард, — заговорил доктор Бреннер, придя в себя от удивления, — что эти создания в сто тысяч раз больше самого крупного кита? Даже если это всего лишь мешок с газом, он весит около миллиона тонн! Как происходит у него обмен веществ — выше моего разумения. Ему ведь, чтобы парить, нужны мегаватты энергии.
— Но если это мешок с газом, почему он так хорошо лоцируется?
— Не имею ни малейшего представления. Ты можешь подойти ближе?
Вопрос не праздный. Изменяя высоту и используя разницу в скорости ветра, Фолкен мог приблизиться к медузе на любое расстояние. Однако пока что он предпочитал сохранять дистанцию сорок километров, о чем и заявил достаточно твердо.
— Я тебя понимаю, — неохотно согласился Бреннер — Ладно, останемся на прежнем месте.
«Останемся»… Фолкен не без сарказма подумал, что разница в сто тысяч километров отражается на точке зрения.
Следующие два часа «Кон-Тики» продолжат спокойно вращаться вместе с могучей воронкой. Фолкен испытывал разные фильтры, изменял наводку, добиваясь возможно более четкого изображения. Быть может, эта тусклая окраска — камуфляж? Быть может, медуза, как это делают многие животные на Земле, старается слиться с фоном? К такому приему прибегают и преследователь, и преследуемый. К какой из двух категорий принадлежит медуза? Вряд ли он получит ответ за оставшееся короткое время.
Однако около полудня неожиданно последовал ответ.
Будто эскадрилья старинных реактивных истребителей, из мглы вынырнули пять мант. Они шли плугом прямо на белесое облако медузы, и Фолкен не сомневался, что они намерены атаковать. Он здорово ошибся, когда принял мант за безобидных травоядных.
Между тем действие развивалось так неспешно, словно он смотрел замедленное кино. Плавно извиваясь, манты летели со скоростью от силы пятьдесят километров в час. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем они настигли невозмутимо плывущую медузу. При всей своей огромной величине, они выглядели карликами перед чудищем, к которому приближались. И когда манты опустились на спину медузы, их можно было принять за птиц на спине кита.
Сумеет ли медуза оборониться? Кроме этих длинных неуклюжих щупалец, мантам вроде бы нечего опасаться. А может быть, медуза их даже и не замечает, для нее они всего лишь мелкие паразиты, как для собаки блохи?
Но нет, ей явно приходится туго! Медуза начала крениться — медленно и неотвратимо, словно тонущий корабль. Через десять минут крен достиг сорока пяти градусов; при этом медуза быстро теряла высоту. Трудно было удержаться от сочувствия атакованному чудовищу, к тому же эта картина вызвала у Фолкена горькие воспоминания. Падение медузы странным образом напоминало последние минуты «Куин».
На самом-то деле он должен сочувствовать другой стороне. Высокий разум может развиться только у хищников, а не у тех, кто лениво пасется в морских или небесных угодьях. Манты намного ближе к нему, чем этот чудовищный мешок с газом.
И вообще, можно ли по-настоящему симпатизировать существу, которое в сто тысяч раз больше кита?
А тактика медузы, кажется, возымела действие… Возрастающий крен пришелся не по нраву мантам, и они тяжело взлетели, будто сытые стервятники, спугнутые в разгар пиршества. Правда, они не стали особенно удаляться, а повисли в нескольких метрах от чудовища, которое продолжало валиться на бок.
Вдруг Фолкен увидел ослепительную вспышку, одновременно послышатся треск в приемнике. Одна из мант, медленно кувыркаясь, рухнула вниз. За ней тянулся шлейф черного дыма, и сходство с подбитым самолетом было так велико, что Фолкену стало не по себе.
В тот же миг остальные манты спикировали, уходя от медузы. Теряя высоту, они набрали скорость и быстро пропали в толще облаков, из которых явились. А медуза, прекратив падение, не спеша выровнялась и как ни в чем не бываю возобновила движение.
— Изумительно! — прервал напряженную тишину голос доктора Бреннера. — Электрическая защита, как у наших угрей и скатов. С той лишь разницей, что в этом разряде был миллион вольт! Тебе не удалось заметить, откуда вылетела искра? Что-нибудь вроде электродов?
— Нет, — ответил Фолкен, настроив телескоп на максимальное увеличение. — Постой, что-то тут не так… Видишь узор? Сравни-ка его с предыдущими снимками. Я уверен, раньше его не было.
На боку медузы появилась широкая пятнистая полоса. Поразительно похоже на клетки шахматной доски, но каждая клетка в свою очередь была расписана сложным узором из горизонтальных черточек. Они располагались на равном расстоянии друг от друга, образуя правильные колонки и ряды.
— Ты прав, — произнес доктор Бреннер с явным благоговением в голосе. — Он только что появился. И я даже не решаюсь поделиться с тобой своей догадкой.
— Ничего, зато у меня нет такой славы, чтобы за нее опасаться. Во всяком случае, мне не страшен суд биологов. Сказать, что я думаю?
— Давай.
— Это антенная решетка для метровых волн. Вроде тех, какими пользовались в начале двадцатого века.
— Вот именно… Теперь ясно, откуда такое четкое эхо.
— Но почему решетка появилась только теперь?
— Наверное, это следствие разряда.
— Мне сейчас пришла в голову одна мысль, — медленно произнес Фолкен. — Ты не допускаешь, что чудовище слушает наш разговор?
— На этой частоте? Вряд ли. Это же метровые, нет, даже декаметровые антенны, судя по размерам. Гм-м… А что…
Доктор Бреннер умолк, его мысли явно приняли новое направление. Наконец он опять заговорил:
— Бьюсь об заклад, они настроены на радиовсплески! На Земле природа до этого не дошла. У нас есть животные с системой эхолокации, даже с электрическими органами, но радиоволны никто не воспринимает. И к чему это, когда предостаточно света! Но здесь другое дело, Юпитер весь пропитан радиоизлучениями. Эту энергию можно использовать, даже запасать. Может быть, перед тобой плавучая электростанция!
В разговор вмешался новый голос:
— Говорит руководитель полета. Все это очень интересно, однако сперва надо решить гораздо более важный вопрос. Можно ли назвать это существо разумным? Если да, то нам не мешает вспомнить директивы о первом контакте.
— До полета сюда, — уныло отозвался доктор Бреннер, — я мог бы поклясться, что антенное устройство для коротких волн способно создать только разумное существо. Теперь я в этом не уверен. Возможно, это плод естественной эволюции. И ведь если на то пошло, такое устройство не удивительнее человеческого глаза.
— Ясно — на всякий случай согласимся считать это существо разумным. Следовательно, экспедиция должна придерживаться всех положений директивы.
Надолго воцарилась тишина, участники радиопереклички осмысливали, что из этого вытекает. Похоже, впервые в истории космонавтики пришла пора применить правила, разработанные в ходе столетней дискуссии. Человек извлек — должен был извлечь! — урок из ошибок, допущенных на Земле. Не только во имя морали, но и ради своих же собственных интересов нельзя повторять эти ошибки на других планетах. Слишком опасно обращаться с разумом так, как некогда американские поселенцы обращались с индейцами, а европейцы и другие обращались с коренным населением Африки…
Первое правило гласило: сохраняй дистанцию. Не пытайся приблизиться или хотя бы налаживать общение, не дав «им» вдоволь времени как следует изучить тебя. Что означает «вдоволь времени», никто не брался определить. Решать этот вопрос предоставлялось самому участнику контакта.
На плени Говарда Фолкена легла ответственность, о какой он никогда не помышлял. В те немногие часы, что он еще проведет на Юпитере, ему, быть может, суждено стать первым полномочным представителем человечества.
Какая изысканная ирония судьбы! Оставалось только пожалеть, что врачи не смогли вернуть ему способность смеяться.
7
Начинало темнеть, но Фолкену было не до этого, он все свое внимание сосредоточил на живом облаке в поле зрения телескопа. Ветер, упорно неся «Кон-Тики» по окружности исполинской воронки, сократил расстояние между ним и медузой до двадцати километров. Когда останется меньше десяти, придется совершать маневр уклонения. Хотя Фолкен был уверен, что электрическое оружие медузы поражает только вблизи, его не тянуло затевать проверку. Пусть этой проблемой займутся будущие исследователи, а он заранее желает им успеха.
В кабине стало совсем темно. Странно — до заката еще не один час. Что там на экране горизонтального локатора?.. Он все время на него поглядывал, но, кроме изучаемой медузы, километров на сто не было никаких целей.
Неожиданно с поразительной силой возник тот самый звук, который доносился до него из юпитеровой ночи. Гулкий рокот, чаще, чаще — вся кабина вибрировала, будто горошина в литаврах, — и вдруг оборвался…
В томительной внезапной тишине две мысли почти одновременно пришли в голову Фолкена.
На этот раз звук долетел до него не за тысячи километров по радиоканалу — он пронизывал атмосферу вокруг «Кон-Тики».
Вторая мысль была еще более тревожной. Фолкен совсем забыл — непростительно, но голова была занята другими вещами, которые казались важнее, забыл, что большая часть неба над ним закрыта газовой оболочкой «Кон-Тики*. А посеребренный для теплоизоляции шар непроницаем не только для глаза, но и для радара.
Все это он, конечно, знал. Знал о небольшом изъяне конструкции, с которым мирились, не придавая ему значения. Но этот изъян показался Говарду Фолкену очень серьезным сейчас, когда он увидел, как сверху на кабину со всех сторон опускается частокол огромных, толще всякого дерева, щупалец…
Раздался возбужденный голос Бреннера:
— Не забывай о директиве! Не вспугни его!
Прежде чем Фолкен успел дать подобающий ответ, все прочие звуки опять потонули в могучей барабанной дроби.
Настоящего пилота-испытателя узнают по его реакциям не в таких аварийных ситуациях, которые можно предусмотреть, а в таких, возможность которых никому даже в голову не приходила. Не больше секунды понадобилось Фолкену на анализ ситуации, затем он молниеносно дернул разрывной клапан.
Термин этот был пережитком поры водородных аэростатов — на самом деле оболочка «Кон-Тики» вовсе не разорвалась, просто открылись жалюзи, выше пояса. Тотчас нагретый газ устремился наружу, и «Кон-Тики», лишенный подъемной силы, начал быстро падать в поле тяготения, которое в два с половиной раза превосходило земное.
Чудовищные щупальца ушли вверх и пропали. Фолкен успел заметить, что они усеяны большими пузырями или мешками — очевидно, для плавучести, и заканчиваются множеством тонких усиков, напоминающих корешки растения. Он был готов к тому, что вот-вот сверкнет молния, но ничего, обошлось.
Стремительное падение замедлилось в более плотных слоях атмосферы, где спущенный шар стал играть роль парашюта. Потеряв около трех километров высоты, Фолкен решил, что уже можно закрывать жалюзи. Пока он восстановил подъемную силу и уравновесил аппарат, было потеряно еще около полутора километров, и оставалось совсем немного до рубежа безопасности.
Он посмотрел в верхний иллюминатор — не без тревоги, хотя был уверен, что увидит только округлость шара. Однако при падении «Кон-Тики» вильнул в сторону, и километрах в двух-трех над собой Фолкен увидел край медузы. Он никак не ожидал, что она так близко. Медуза продолжала опускаться с невероятной быстротой.
Радио донесло тревожный вызов Центра управления.
— У меня все в порядке, — прокричал в ответ Фолкен. — Но эта тварь продолжает меня преследовать, а мне больше некуда снижаться.
Не совсем точный ответ, он мог снижаться еще километров триста, но это было бы путешествием в один коней, и большая часть пути не принесла бы ему особого удовольствия.
В эту минуту Фолкен, к великому своему облегчению, обнаружил, что медуза выравнивается в полутора километрах над ним. То ли решила быть поосторожнее с чужим созданием, то ли ей тоже была не по нраву высокая температура нижних слоев. Наружный термометр показывал больше пятидесяти градусов, и Фолкен спросил себя, сколько еще сможет он полагаться на систему жизнеобеспечения.
Опять послышался голос Бреннера — его по-прежнему беспокоило соблюдение директивы.
— Учти, это может быть простое любопытство! — кричал экзобиолог, правда без особой уверенности — Не вздумай ее пугать!
Фолкена уже начали раздражать все эти наставления, ему вспомнилась одна телевизионная дискуссия специалиста по космическому праву с космонавтом. Выслушав доскональный разбор всех следствий, вытекающих из директивы о первом контакте, космонавт недоверчиво воскликнул:
— Это что же, если не будет другого выхода, я должен тихохонько сидеть и ждать, когда меня сожрут?
На что юрист без тени улыбки ответил:
— Вы очень точно схватили суть дела.
Тогда это звучало потешно. Тогда — но не теперь.
К тому же Фолкен увидел нечто такое, что еще больше омрачило его настроение. Медуза по-прежнему парила в полутора километрах над ним, но одно ее щупальце невероятно удлинилось и, утончаясь на глазах, тянулось к «Кон-Тики». Мальчишкой Фолкен однажды видел смерч над Канзасской равниной. Нынешнее зрелище живо напомнило ему ту извивающуюся черную змею, которая достала землю с облаков.
— У меня скоро не будет выбора, — доложил он Центру управления. — Остается одно из двух: либо напугать эту тварь, либо вызвать у нее желудочные колики. Подозреваю, ей будет нелегко переварить «Кон-Тики», если она замыслила им закусить.
Он ждал, что скажет на это Бреннер, но биолог молчал.
— Ну, что ж… До запланированного срока еще двадцать семь минут, но я включаю программу зажигания. Надеюсь, горючего хватит, чтобы потом исправить движение по орбите.
Медуза пропала из поля зрения, она опять была точно над аппаратом. Но Фолкен знал, что щупальце вот-вот дотянется до шара. А на то, чтобы реактор смог развить полную тягу, уйдет около пяти минут.
Запал заправлен. Вычислитель орбиты не отверг намеченный вариант как совершенно неосуществимый. Воздухозаборники открыты и готовы по команде заглатывать тонны окружающей водородно-гелиевой смеси. Скоро наступит момент, который даже в оптимальной ситуации можно было бы назвать моментом истины, — до сих пор не было никакой возможности проверить, как на самом деле будет работать ядерный воздушно-реактивный двигатель в чужеродной атмосфере Юпитера.
Что-то легонько толкнуло «Кон-Тики». Лучше не обращать внимания…
Механизм воспламенения рассчитан на другую высоту, километров на десять повыше, где на тридцать градусов холоднее и плотность атмосферы в четыре раза меньше. Н-да…
При каком минимальном угле пикирования будут работать воздухозаборники? И сумеет ли он вовремя выйти из пике, если учесть, что сверх двигателя его будут увлекать к поверхности Юпитера два с половиной g?
Большая тяжелая рука погладила шар. Весь аппарат закачался вверх-вниз, будто мячик на резинке — игрушка, которая только что вошла в моду на Земле.
Конечно, не исключено, что Бреннер прав и это существо таким способом демонстрирует дружелюбие. Обратиться к нему по радио? Что ему сказать? «Кисонька хорошенькая»? «На место, Трезор»? Или: «Проводите меня к вашему вождю»?
Соотношение тритий — дейтерий в норме… Можно поджигать спичкой, дающей тепло в сто миллионов градусов.
Тонкий конец щупальца обогнул шар метрах в пятидесяти от иллюминатора. Величиной с хобот слона — и почти такой же чувствительный, судя по тому, как осторожно он скользил по оболочке. На самом конце — щупики, словно вопрошающие рты. Доктор Бреннер был бы в восторге от этого зрелища.
Ну что ж, самое время. Фолкен быстро обвел взглядом пульт управления, начал отсчет последних четырех секунд до пуска двигателя, разбил предохранительную крышку и нажал кнопку «СБРОС».
Резкий взрыв… Внезапная потеря веса… «Кон-Тики» падал носом вниз. Над ним отброшенная оболочка устремилась вверх, увлекая за собой пытливое щупальце. Фолкен не успел проследить, столкнулся ли газовый мешок с медузой, потому что в мгновение ока двигатель пришел в движение и надо было думать о другом.
Ревущий столб горячей водородно-гелиевой смеси рвался из сопел реактора, быстро увеличивая тягу — в сторону Юпитера, а не от него. Фолкен не мог сразу выровнять аппарат, курсовые рули еще плохо слушались. Но если в ближайшие секунды он не подчинит себе «Кон-Тики» и не выйдет из пике, кабина слишком углубится в нижние слои атмосферы и будет разрушена.
Мучительно медленно — секунды показались Фолкену годами — вывел он аппарат на горизонталь, потом стал набирать высоту. Только раз оглянулся он назад и увидел далеко внизу медузу. Отброшенного шара не было видно — должно быть, выскользнул из щупалец.
Теперь Фолкен снова был сам себе хозяин, он больше не дрейфовал по воле ветров Юпитера, а возвращался в космос, оседлав атомное пламя. Воздушно-реактивный двигатель обеспечит нужную высоту и скорость, которая на рубеже атмосферы приблизится к орбитальной. А затем ракетная тяга выведет его на космические просторы.
На полпути к орбите Фолкен посмотрел на юг. Там из-за горизонта появилась исполинская загадка — Красное Пятно, плавучий остров вдвое больше земного шара. Он любовался его таинственным великолепием до тех пор, пока ЭВМ не предупредила, что до перехода на ракетную тягу осталось всего шестьдесят секунд. Фолкен неохотно оторвался от иллюминатора.
— Как-нибудь в другой раз, — пробормотал он.
— Что-что? — встрепенулся Центр управления. — Ты что-то сказал?
— Да нет, ничего, — отозвался Фолкен.
8
— Ты у нас теперь герой, Говард, а не просто знаменитость, — сказал Вебстер. — Дал людям пищу для размышлений, обогатил их жизнь. Хорошо если один из миллионов сам побывает на внешних гигантах, но мысленно все человечество их посетит. А это чего-то стоит.
— Я рад, что хоть немного тебя выручил.
Старые друзья могут позволить себе не обижаться на иронический тон. И все-таки он поразил Вебстера. К тому же это была не первая новая черточка в поведении Говарда после его возвращения с Юпитера.
Вебстер показал на знаменитую дощечку на своем письменном столе, с призывом, заимствованным у одного импресарио прошлого века: «Удивите меня!»
— Я не стыжусь своей работы, Говард. Новое знание, новые ресурсы — все это необходимо. Но человек, кроме того, нуждается в свежих и волнующих впечатлениях. Космические полеты успели стать чем-то обычным. Благодаря тебе они снова окружены ореолом большой романтики. Юпитер еще не скоро разложат по полочкам. Не говоря уже об этих медузах. Я вот почему-то уверен, что твоя медуза сознавала, где у тебя слепое пятно. Кстати, ты уже решил, куда полетишь в следующий раз? Сатурн, Уран, Нептун — выбирай!
— Не знаю. Я подумывал о Сатурне, но ведь там и без меня можно обойтись. Всего один g, а не два с половиной, как на Юпитере. С этим и человек справится.
«Человек, — сказал себе Вебстер. — Он говорит, человек. А ведь раньше не отделял себя от людей. И «мы» давно перестал говорить. Изменяется, отходит от нас…»
— Ладно, — произнес он вслух и встал, чтобы скрыть свое замешательство. — Пора начинать пресс-конференцию. Камеры установлены, все ждут. Ты увидишь множество старых друзей.
Он сделал ударение на последних словах, но не заметил никакой реакции. Эту кожаную маску — лицо Говарда — становится все труднее понимать.
Фолкен отъехал назад от стола, разомкнул лафет, игравший роль сиденья, и выпрямился во весь рост на гидравлических опорах. Два метра десять — хирурги знали, что делали, прибавив ему тридцать сантиметров. Небольшая компенсация за все то, что он потерял при аварии «Куин»…
Подождав, когда Вебстер откроет дверь, Фолкен четко повернулся кругом на пневматических шинах и бесшумно заскользил к выходу со скоростью тридцати километров в час. В его движениях не было ни вызова, ни рисовки, он вовсе не щеголял быстротой и точностью, у него это получалось бессознательно.
Говард Фолкен, который когда-то был человеком и который по телефону или по радио по-прежнему мог сойти за человека, был доволен своим успехом. И впервые за много лет он обрел что-то вроде душевного покоя. После возвращения с Юпитера кошмары прекратились. Наконец он нашел себя.
Теперь он знал, почему во сне ему являлся супершимпанзе с погибающей «Куин Элизабет». Ни человек, ни зверь, существо на грани двух миров… Как и Фолкен.
Только он может без скафандра передвигаться по поверхности Луны. Система жизнеобеспечения в металлическом кожухе, заменившем ему бренное тело, одинаково хорошо работает в космосе и под водой. В поле тяготения, в десять раз превосходящем силой земное, он чувствует себя несколько скованно, — но и только. А лучше всего — невесомость…
Он все больше отдашлея от человечества, все слабей ощущал узы родства. Эти комья неустойчивых углеводородных соединений, которые дышат воздухом, плохо переносят радиацию, — куда уж им соваться за пределы своей атмосферы, пусть сидят там, где им на роду написано — на Земле. Ну, еще на Луне и на Марсе.
Настанет день, когда подлинными владыками космоса будут не люди, а машины. А он, Говард Фолкен, — ни то ни другое. Вполне осмыслив свое предназначение, он ощущал мрачную гордость от сознания своей уникальной исключительности — первый бессмертный, мостик между органическим и неорганическим мирами.
Да, он будет полномочным представителем, посредником между старым и новым, между углеродными существами и металлическими созданиями, которые когда-нибудь их вытеснят.
Обе стороны будут нуждаться в нем в предстоящие беспокойные столетия.
Звезда
Перевод Л. Жданова
До Ватикана три тысячи световых лет. Некогда я полагал, что космос над верой не властен; точно так же я полагал, что небеса олицетворяют великолепие творений господних. Теперь я ближе познакомился с этим олицетворением, и моя вера, увы, поколебалась. Смотрю на распятие, висящее на переборке над ЭСМ-VI, и впервые в жизни спрашиваю себя: уж не пустой ли это символ?
Пока что я никому не говорил, но истины скрывать нельзя. Факты налицо, запечатлены на несчетных милях магнитоленты и тысячах фотографий, которые мы доставим на Землю. Другие ученые не хуже меня сумеют их прочесть, и я не такой человек, чтобы пойти на подделки вроде тех, которые снискали дурную славу моему ордену еще в древности.
Настроение экипажа и без того подавленное; как-то мои спутники воспримут этот заключительный иронический аккорд?.. Среди них мало верующих, и все-таки они не ухватятся с радостью за это новое оружие в войне против меня, скрытой, добродушной, но достаточно серьезной войне, которая продолжалась на всем нашем пути от Земли. Их потешало, что Главный астрофизик — иезуит, а доктор Чендлер вообще никак не мог свыкнуться с этой мыслью (почему врачи такие отъявленные безбожники?). Нередко он приходил ко мне в обсервационный отсек, где свет всегда приглушен и звезды сияют в полную силу. Стоя в полумраке, Чендлер устремлял взгляд в большой овальный иллюминатор, за которым медленно кружилось небо, — нам не удалось устранить остаточного вращения, и мы давно махнули на это рукой.
— Что ж, патер, — начинал он, — вот она, Вселенная, нет ей ни конца, ни края, и, возможно, что-то ее сотворило. Но как вы можете верить, будто этому «что-то» есть дело до нас и до нашего маленького мирка, — вот тут я вас не понимаю.
И разгорался спор, а вокруг нас, за идеально прозрачным пластиком иллюминатора, беззвучно описывали нескончаемые дуги туманности и звезды…
Должно быть, больше всего экипаж забавляла кажущаяся противоречивость моего положения. Тщетно я ссылался на свои статьи — три в «Астрофизическом журнале», пять в «Ежемесячных записках Королевского астрономического общества». Я напоминал, что мой орден давно прославился своими научными изысканиями, и пусть нас осталось немного, наш вклад в астрономию и геофизику, начиная с восемнадцатого века, достаточно велик.
Так неужели мое сообщение о туманности Феникс положит конец нашей тысячелетней истории? Боюсь, не только ей…
Не знаю, кто дал туманности такое имя; мне оно кажется совсем неудачным. Если в нем заложено пророчество — это пророчество может сбыться лишь через много миллиардов лет. Да и само слово «туманность» неточно: ведь речь идет о несравненно меньшем объекте, чем громадные облака неродившихся звезд, разбросанные вдоль Млечного Пути. Скажу больше, в масштабах космоса туманность Феникс — малютка, тонкая газовая оболочка вокруг одинокой звезды. А вернее — того, что осталось от звезды…
Портрет Лойолы (гравюра Рубенса), висящий над графиками данных спектрометра, точно смеется надо мной. А как бы ты, святой отец, распорядился знанием, обретенным мною здесь, вдали от маленького мира, который был всей известной тебе Вселенной? Смогла бы твоя вера, в отличие от моей, устоять против такого удара?
Ты смотришь вдаль, святой отец, но я покрыл расстояния, каких ты не мог себе представить, когда тысячу лет назад учредил наш орден. Впервые разведочный корабль ушел так далеко от Земли к рубежам изведанной Вселенной. Целью нашей экспедиции была туманность Феникс. Мы достигли ее и теперь возвращаемся домой с грузом знаний. Как снять этот груз со своих плеч? Но я тщетно взываю к тебе через века и световые годы, разделяющие нас.
На книге, которую ты держишь, четко выделяются слова: АД МАЙОРЕМ ДЕИ ГЛОРИАМ. К вящей славе Божией… Нет, я больше не могу верить этому девизу. Верил бы ты, если бы видел то, что нашли мы?
Разумеется, мы знали, что представляет собой туманность Феникс. Только в нашей Галактике ежегодно взрывается больше ста звезд. Несколько часов или дней они сияют тысячекратно усиленным блеском, затем меркнут, погибая. Обычные новые звезды, заурядная космическая катастрофа. С начала моей работы в Лунной обсерватории я собрал спектрограммы и кривые свечения десятков таких звезд.
Но трижды или четырежды в тысячелетие происходит нечто такое, перед чем новая меркнет, кажется пустячком.
Когда звезда превращается в сверхновую, она какое-то время превосходит яркостью все солнца Галактики, вместе взятые. Китайские астрономы наблюдали это явление в 1054 году, не зная, что наблюдают. Пятью веками позже, в 1572 году, в созвездии Кассиопеи вспыхнула столь яркая сверхновая, что ее было видно с Земли днем. За протекшую с тех пор тысячу лет замечено еще три сверхновых.
Нам поручили побывать там, где произошла такая катастрофа, определить предшествовавшие ей явления и, если можно, выяснить их причину. Корабль медленно пронизывал концентрические оболочки газа, который был выброшен шесть тысяч лет назад и все еще продолжал расширяться. Огромные температуры, яркое фиолетовое свечение отличали эти оболочки, но газ был слишком разрежен, чтобы причинить нам какой-либо вред. Когда взорвалась звезда, поверхностные слои отбросило с такой скоростью, что они улетели за пределы ее гравитационного поля. Теперь они образовали скорлупу, в которой, уместилась бы тысяча наших солнечных систем, а в центре пылало крохотное поразительное образование — Белый Карлик, размерами меньше Земли, но весящий в миллион раз больше ее.
Светящийся газ окружал нас со всех сторон, потеснив густой мрак межзвездного пространства. Мы очутились в сердце космической бомбы, которая взорвалась тысячи лет назад и раскаленные осколки которой все еще неслись во все стороны. Огромный размах взрыва, а также то обстоятельство, что осколки заполнили сферу поперечником в миллиарды миль, не позволяли простым глазом уловить движение. Понадобились бы десятилетия, чтобы без приборов заметить, как движутся клубы и вихри взбаламученного газа, но мы хорошо представляли себе этот яростный поток.
Выверив, уточнив свой курс, мы вот уже несколько часов размеренно скользили по направлению к маленькой лютой звезде. Когда-то она была солнцем вроде нашего, но затем в какие-то часы расточила энергию, которой хватило бы на миллионы лет свечения. И вот стала сморщенным скрягой, который промотал богатство в юности, а теперь трясется над крохами, пытаясь хоть что-то сберечь.
Никто из нас не рассчитывал всерьез, что мы найдем планеты. Если они и существовали до взрыва, катаклизм должен был обратить их в облака пара, затерявшиеся в исполинской массе светила. Тем не менее мы провели обязательную при подходе к любому неизвестному солнцу разведку и неожиданно обнаружили вращающийся на огромном расстоянии вокруг звезды маленький мир. Так сказать, Плутон этой погибшей солнечной системы, бегущий вдоль границ ночи. Планета была слишком удалена от своего солнца, чтобы на ней когда-либо могла развиваться жизнь, но эта удаленность спасла ее от страшной участи, постигшей собратьев.
Неистовое пламя запекло скалы окалиной и выжгло сгусток замерзших газов, который покрывал планету до бедствия. Мы сели, и мы нашли Склеп.
Его создатели позаботились о том, чтобы его непременно нашли. От монолита, отмечавшего вход, остался только оплавленный пень, но уже первые телефотоснимки сказали нам, что это след деятельности разума. Чуть погодя мы отметили обширное поле радиоактивности, источник которой был скрыт в сказе. Даже если бы пилон над Склепом был начисто срезан, все равно сохранился бы взывающий к звездам неколебимый, вечный маяк. Наш корабль устремился к огромному «яблочку», словно стрела к мишени.
Когда воздвигали пилон, он, наверно, был около мили высотой; теперь он напоминал оплывшую свечу. У нас не было подходящих орудий, и мы неделю пробивались сквозь переплавленный камень. Мы астрономы, а не археологи, но умеем импровизировать. Забыта была начальная цель экспедиции; одинокий памятник, ценой такого труда созданный на предельном расстоянии от обреченного солнца, мог означать лишь одно. Цивилизация, которая знала, что гибель ее близка, сделала последнюю заявку на бессмертие.
Понадобятся десятилетия, чтобы изучить все сокровища, найденные нами в Склепе. Очевидно, солнце послало первые предупреждения за много лет до конечного взрыва, и все, что они пожелали сохранить, все плоды своего гения они заранее доставили на эту отдаленную планету, надеясь, что другое племя найдет хранилище и они не канут бесследно в Лету. Поступили бы мы так же на их месте или были бы слишком поглощены своей бедой, чтобы думать о будущем, которого уже не увидеть и не разделить?
Если бы у них в запасе оказалось еще время! Они свободно сообщались с планетами своей системы, но не научились пересекать межзвездные пучины, а до ближайшей солнечной системы было сто световых лет. Впрочем, овладей они высшими скоростями, все равно лишь несколько миллионов могли рассчитывать на спасение. Быть может, лучше, что вышло именно так.
Даже если бы не это поразительное сходство с человеком, о чем говорят их скульптуры, нельзя не восхищаться ими и не сокрушаться, что их постигла такая участь. Они оставили тысячи видеозаписей и аппараты для просмотра, а также подробные разъяснения в картинках, позволяющие без труда освоить их письменность. Мы изучили многие записи, и впервые за шесть тысяч лет ожили картины чудесной, богатейшей цивилизации, которая во много раз превосходила нашу. Быть может, они показали нам только самое лучшее — и кто же их упрекнет. Так или иначе, но мир их был прекрасен, города великолепнее любого из наших. Мы видели их за работой и игрой, через столетия слышали певучую речь. Одна картина до сих пор стоит у меня перед глазами: на берегу на странном голубом песке играют, плещутся в волнах дети — как играют дети у нас на Земле. Причудливые деревья, крона — веером, окаймляют берег, и на мелководье, никого не беспокоя, бродят очень крупные животные.
А на горизонте погружается в море солнце, еще теплое, ласковое, животворное солнце, которое вскоре вероломно испепелит безмятежное счастье.
Не будь мы столь далеко от дома и столь чувствительны к одиночеству, возможно, не были бы так сильно потрясены. Многие из нас видели в других мирах развалины иных цивилизаций, но никогда это зрелище не волновало до такой степени. Эта трагедия была особенной. Одно дело, когда род склоняется к закату и гибнет, как это бывало с народами и культурами на Земле. Но подвергаться полному уничтожению в пору великолепного расцвета, исчезнуть вовсе — где же тут Божья милость?
Мои коллеги задавали мне этот вопрос; я пытался ответить, как мог. Быть может, отец Лойола, вы преуспели бы лучше меня, но в «Экзерсициа Спиритуалиа» я не нашел ничего, что могло бы мне помочь. Это не был греховный народ. Не знаю, каким богам они поклонялись, признавали ли вообще богов, но я смотрел на них через ушедшие столетия, и в лучах их сжавшегося солнца перед моим взглядом вновь оживало то прекрасное, на сохранение чего были обращены их последние силы. Они многому могли бы научить нас — зачем же было их уничтожать?
Я знаю, что ответят мои коллеги на Земле. Вселенная, скажут они, не подчинена разумной цели и порядку, каждый год в нашей Галактике взрываются сотни солнц, и где-то в пучинах космоса в этот самый миг гибнет чья-то цивилизация. Творил ли род добро или зло за время своего существования, это не повлияет на его судьбу: Божественного правосудия нет, потому что нет Бога.
А между тем ничто из виденною нами не доказывает этого. Говорящий так руководится чувствами, не рассудком. Бог не обязан оправдывать перед человеком свои деяния. Он создал Вселенную и может по своему усмотрению ее уничтожить. Было бы дерзостью, даже кощунством с нашей стороны говорить, как он должен и как не должен поступать.
Тяжко видеть, как целые миры и народы гибнут в печи огненной, но я и это мог бы понять. Однако есть предел, за которым начинает колебаться даже самая глубокая вера, и, глядя на лежащие передо мной расчеты, я чувствую, что достиг этою предела.
Пока мы не исследовали туманность на месте, нельзя было сказать, когда произошел взрыв. Теперь, обработав астрономические данные и сведения, извлеченные из скал уцелевшей планеты* я могу с большой точностью датировать катастрофу. Я знаю, в каком году свет исполинского аутодафе достиг нашей Земли. Знаю, сколь ярко эта сверхновая, что мерцает за кормой набирающего скорость корабля, некогда пылала на земном небе. Знаю, что на рассвете она ярким маяком сияла над восточным горизонтом.
Не может быть никакого сомнения: древняя загадка наконец решена. И все же, о, Всевышний, в твоем распоряжении было столько звезд! Так нужно ли было именно этот народ предавать огню лишь затем, чтобы символ его бренности сиял над Вифлеемом?
Воспроизведение
Перевод В. Гольдича, И. Оганесовой
Просто удивительно, как быстро я сумел все забыть. Я пользовался своим телом сорок лет; и мне казалось, что я его изучил. Однако воспоминания о нем рассеиваются, словно сон.
Руки, ноги, где вы? Что вы делали, когда принадлежали мне? Я посылал сигналы, пытаясь управлять конечностями, которые смутно помнил. Ничего не происходило. Все равно что кричать в вакууме.
Кричать. Да, я пытался. Возможно, они меня слышат, но сам я не слышу своего голоса. В моем сознании осталось слово «музыка» — но что оно означает?
(Так много слов выплывает из темноты, словно дожидаясь, что я их узнаю. И одно за другим исчезают, разочарованные.)
Привет. Значит, ты вернулся. Как тихо ты вошел в мое сознание! Я знаю, что ты здесь, но я не почувствовал, когда именно ты появился.
Я понимаю, что ты дружелюбен, и я благодарен за то, что ты сделал. Но кто ты? Конечно, я знаю, что ты не человек — наша наука не могла меня спасти, когда отказало силовое поле. Видишь, меня одолевает любопытство. Хороший знак, не правда ли? Теперь, когда боль ушла — наконец, наконец я вновь в состоянии размышлять.
Да, я готов. Все, что ты хочешь знать. Это меньшее из того, что я могу сделать.
Меня зовут Вильям Винсент Ньюберг. Я пшют Галактической инспекции. Родился в Порт-Лоуэлле, Марс, 21 августа 2095 года. Моя жена Джанита и трое наших детей находятся на Ганимеде. Кроме того, я писатель; мне довелось опубликовать немало книг о моих путешествиях. «По ту сторону Ригеля» весьма знаменита…
Что произошло? Наверное, вам известно не меньше, чем мне. Я перевел корабль в фантомное состояние и вышел на фазовую скорость, когда раздался сигнал тревоги. И я ничего не успел предпринять. Помню, как засияли стены кабины, — а потом жар, ужасный жар. Вот и все. Вероятно, взрыв выбросил меня в открытый космос. Но как мне удалось уцелеть? Неужели кто-то успел до меня добраться?
Скажите мне, что осталось от моего тела? Почему я не чувствую рук и ног? Не скрывайте от меня правды; я не боюсь. Если вы сумеете вернуть меня домой, биотехники снабдят меня новыми конечностями. До катастрофы мне уже заменили правую руку.
Почему вы не отвечаете? Я задал совсем несложный вопрос!
Что вы имеете в виду, когда говорите, что не знаете, как я выгляжу? Вы ведь спасли что-то!
Голову?
Значит, мозг?
И даже не… О нет!..
Прошу меня простить. Кажется, я долго отсутствовал?
Дайте мне взять себя в руки. (Ха! Очень смешно!) Я пилот первого класса Винсент Вильям Фриберг. Я родился в Порт-Лиоте, Марс, 21 августа 1895 года. У меня один… нет, двое детей…
Пожалуйста, разрешите мне начать снова, помедленнее. Моя подготовка рассчитана на выживание в любой допустимой реальности. Я готов взглянуть в лицо любым обстоятельствам. Только медленно.
Ну, могло быть гораздо хуже. Я остался в живых. Я знаю, кто я такой. Я даже думаю, что знаю, что я такое.
Я — запись. Некое фантастическое устройство для сохранения информации. Должно быть, вы поймали мой дух, мою душу, когда корабль обратился в плазму. И хотя я не представляю, как такое возможно, само по себе предположение выглядит логичным. В конце концов, первобытный человек никогда бы не сумел понять, как мы записываем симфонию…
Все мои воспоминания оказались записанными на пленке или заключенными в кристалле, как когда-то были заключены в клетках моего испарившегося мозга. И не только мои воспоминания. Я. МОЯ ЛИЧНОСТЬ — ВИНС УИЛЛ БУРГ, ПИЛОТ ВТОРОГО КЛАССА.
Ну, что будет дальше?
Пожалуйста, повторите. Я не понимаю.
О, замечательно! Вы можете сделать даже это?
Для таких вещей есть название… слово…
Множественное море инкардации. Нет. Не совсем так.
Инкардация, инкардация…
РЕИНКАРНАЦИЯ!
Да, да, я понимаю. Я должен составить базовый план, проект. Следите за моими мыслями очень внимательно.
Я начну с самого верха.
Сначала голова. Она овальная — вот так. Верхняя часть покрыта волосами. Мои были кра… нет, голубые.
Глаза. Они очень важны. Вы видели их у других животных? Хорошо, это упрощает дело. Можете показать какие-нибудь? Да, эти подойдут.
Теперь рот. Странно — я смотрел на него тысячи раз во время бритья, но почему-то…
Нет, не такой круглый — уже.
О нет, не так. Он расположен поперек лица, горизонтально…
Так, дайте-ка посмотреть… было еще что-то между глазами и ртом.
Как глупо с моей стороны. Я никогда не стану курсантом, если не смогу вспомнить…
О, конечно, — НОС! Немного длиннее, так мне кажется.
Что-то еще, только я забыл. Голова выглядит незаконченной. Нет, это не я, Билли Винсбург, самый умный парень во всем квартале.
Но меня звали совсем иначе — я не мальчик. Я пилот, двадцать лет прослуживший в Космическом флоте, и я пытаюсь восстановить свое тело. Почему я постоянно отвлекаюсь? Помогите мне, пожалуйста!
Это чудовище? Неужели я так себя описал? Сотрите его. Давайте, все сначала.
Начнем с головы. Она имеет идеальную сферическую форму и шляпу с загнутыми полями…
Слишком сложно, начнем с чего-нибудь другого. О, я знаю…
Бедренная кость соединяется с большой берцовой костью. Большая берцовая кость соединена с бедренной костью. Бедренная кость соединяется с большой берцовой костью. Большая берцовая…
Все расплывается. Слишком поздно, слишком поздно. Какая-то ошибка в воспроизведении. Спасибо за то, что вы пытались. Меня зовут… меня зовут…
Мама — где ты?
Мама!.. Мама!!!
Мааааа…
Прятки
Перевод П. Ехилевской
Мы возвращались назад через лес, когда Кингмэн увидел серую белку. Наша сумка была наполнена небогатой, но разнообразной добычей — три тетерева, четыре кролика (с сожалением должен сказать, что один был еще совсем детенышем) и пара голубей. И, несмотря на мрачные прогнозы, обе собаки остались в живых.
Белка заметила нас в то же мгновение. Она знала, что ее ждет немедленная казнь — наказание за тот вред, который она причиняла деревьям поместья. А возможно, ружье Кингмэна уже лишило ее близких родственников. В три прыжка она добралась до основания ближайшего дерева и серой молнией исчезла за ним. Мы еще раз увидели крохотную мордочку, на мгновение показавшуюся из-за края ее укрытия в дюжине футов над землей, но сколько мы с надеждой ни ждали, наведя ружья на разные ветки, она так и не появилась вновь.
Пока мы шли через лужайку к великолепному старому дому, Кингмэн выглядел очень задумчивым. Он молчал, пока мы передавали свою добычу повару, принявшему ее без большого энтузиазма, и вышел из этого состояния только тогда, когда все уселись в курительной комнате и он вспомнил о своем долге хозяина.
— Эта древесная крыса, — сказал он внезапно — он всегда называл их «древесными крысами» в присутствии людей, бывших слишком сентиментальными, чтобы стрелять в милых маленьких белочек, — она напомнила мне о весьма странном происшествии, приключившемся со мной незадолго до того, как я вышел в отставку. Действительно, весьма незадолго.
— Полагаю, что так, — сухо произнес Карсон.
Я послал ему предостерегающий взгляд: он служил во флоте и слышал истории Кингмэна раньше, но мне они все еще были в новинку.
— Разумеется, — слегка раздраженно отозвался Кингмэн, — если вы возражаете, я не стану…
— Продолжайте, — торопливо попросил я. — Вы разожгли мое любопытство. Какая связь может существовать между серой белкой и Второй юпитерианской войной, я просто не могу представить.
Кингмэн, казалось, смягчился.
— Полагаю, мне лучше изменить некоторые имена, — задумчиво произнес он. — Но я не стану менять названия мест. История началась на расстоянии свыше миллиона световых лет от Марса…
К-15 был агентом военной разведки. Ему причиняло немалую боль, когда лишенные воображения люди называли его шпионом, но в настоящий момент ему хватало более существенных поводов для жалоб. Уже несколько дней по пятам за ним шел быстроходный крейсер, и хотя безраздельное внимание столь великолепного корабля и немалого числа прекрасно тренированных ребят могло показаться лестным, он охотно отказался бы от этой чести.
Вдвойне неприятной ситуацию делал тот факт, что его друзья должны были встретиться с ним примерно через двенадцать часов за пределами Марса, на борту корабля, вполне способного управиться с заурядным крейсером, — как вы можете догадаться, К-15 был довольно важной персоной. К несчастью, максимально оптимистичные подсчеты показывали, что преследователи подойдут точно на расстояние выстрела через шесть часов. Следовательно, через каких-нибудь шесть часов пять минут К-15 будет занимать немалое по протяженности и все увеличивающееся пространство в космосе. Возможно, как раз пришло время высадиться на Марс, но такое решение можно считать наихудшим выходом из положения. Высадка, безусловно, разозлит агрессивно-нейтральных марсиан, а следовательно, могут возникнуть серьезные политические осложнения. К тому же, если друзья будут вынуждены высадиться на планету, чтобы выручить его, это может стоить им топлива более, чем на десять километров в секунду, то есть основной части их оперативного запаса.
У него оставалось всего одно преимущество, и оно казалось весьма сомнительным. Командир крейсера мог догадываться, что он направлялся на встречу, но он не знал, ни насколько близок к цели преследуемый, ни насколько велик корабль, к которому он стремился. Если он сможет продержаться всего двенадцать часов, то спасется. Это «если» превратилось теперь в некую, весьма значительную величину.
К-15 мрачно вглядывался в карты, размышляя, не лучше ли поберечь остатки горючего для финального рывка. Но рывка куда? В подобной ситуации он окажется достаточно беспомощным, а у корабля-преследователя, вполне вероятно, хватит горючего, чтобы поймать его, когда он рванет в пустую темноту, утратив любую надежду на спасение и пройдя мимо друзей, двигающихся по направлению к Солнцу на скорости столь огромной, что они ничего не смогут для него сделать.
Мыслительный процесс некоторых людей замедляется тем сильнее, чем короче становится отпущенное им время жизни. Их словно гипнотизирует приближение смерти, они до такой степени покоряются роковой судьбе, что не предпринимают ни малейшей попытки ее избежать. К-15, напротив, обнаружил, что в подобных отчаянных ситуациях его мозг работает лучше. Сейчас он функционировал как никогда прежде активно.
Командир крейсера «Дорадус» Смит — это имя ничуть не хуже любого другого — не сильно удивился, когда К-15 начал сбавлять скорость. Он почти ожидал, что шпион попытается высадиться на Марс, считая интернирование меньшим злом, чем аннигиляцию, но когда с поста наблюдения донесли, что маленький корабль-разведчик направляется к Фобосу, он ощутил полную растерянность. Внутренняя луна, диаметр которой составлял около двадцати километров, являлась не чем иным, как нагромождением скал, и даже практичные марсиане не смогли найти ей никакого применения. К-15, должно быть, совсем отчаялся, если надеялся извлечь там хоть какую-то пользу для себя.
Крохотный разведчик уже почти остановился, когда оператор радара потерял его возле массы Фобоса. Выполняя маневр торможения, К-15 потерял большую часть преимущества, и «Дорадус» находился теперь только в нескольких минутах от него — так что крейсеру пришлось начать торможение, чтобы не обогнать преследуемого. Он остановился почти в трех тысячах километров от Фобоса, а корабль К-15 все еще не появился в поле зрения. Вероятно, он находился на дальней стороне маленькой луны, в противном случае его без труда можно было бы увидеть в телескопы.
Корабль К-15 возник снова только спустя несколько минут и передвигался на полной тяге, придерживаясь курса по направлению от Солнца. Он уже разогнался почти до пяти g и прервал свое радиомолчание! Автоматический транслятор вновь и вновь передавал весьма странное сообщение:
«Я сел на Фобосе, меня атакует крейсер класса Z. Полагаю, что смогу продержаться до вашего прихода, но поторопитесь».
Сообщение даже не было закодировано и привело командира Смита в состояние крайнего замешательства. Предположение, что К-15 все еще находился на борту корабля и что послание не более чем хитрость, казалось слишком уж наивным. Но что, если это двойной блеф? Послание явно отправлено на доступном языке именно с тем расчетом, чтобы заставить его растеряться. Командир не мог позволить себе тратить время и топливо на преследование, если К-15 действительно остался на Фобосе. Было очевидно, что подкрепление на подходе, и чем быстрее крейсер Смита покинет окрестности, тем лучше. Фраза: «Полагаю, что смогу продержаться до вашего подхода», могла быть частью наглого блефа, а могла означать, что помощь действительно очень близка.
Тем временем корабль К-15 прекратил ускорение. Он явно исчерпал топливо и мог делать чуть больше шести километров в секунду в сторону от Солнца. К-15 обязательно должен был высадиться, поскольку его корабль, абсолютно беспомощный, сейчас двигался прочь из Солнечной системы. Командиру Смиту не понравилось передаваемое сообщение, явно адресованное приближавшемуся военному кораблю, находящемуся на неопределенном расстоянии, но с этим ничего нельзя было поделать. Стараясь не тратить зря времени, «Дорадус» начал движение по направлению к Фобосу.
На первый взгляд командир Смит казался хозяином ситуации. Его крейсер был вооружен дюжиной тяжелых управляемых ракет и двумя турелями электромагнитных орудий, противником являлся всего лишь один человек в скафандре, загнанный в ловушку на луну диаметром не более двадцати километров. И только впервые увидев Фобос с расстояния меньше ста километров, командир Смит начал понимать, что в конце концов К-15 мог придержать в рукаве несколько козырей.
Утверждать, что диаметр Фобоса составлял около двадцати километров, как неизменно делали это справочники по астрономии, значило вводить читателей в заблуждение. Слово «диаметр» подразумевает некоторое наличие симметрии, которой Фобос был начисто лишен. Как и другие подобные глыбы космического шлака, астероиды — это бесформенные массы скал, плавающие в космосе без малейшего, разумеется, намека на атмосферу и практически лишенные гравитации. Он совершал оборот вокруг своей оси за семь часов и тридцать девять минут, таким образом всегда показывая одну и ту же сторону Марсу, который находился столь близко, что видимой оставалась меньше чем половина планеты, полюса располагались ниже изгиба горизонта. И это, пожалуй, все, что можно сказать сказать о Фобосе.
У К-15 не осталось времени насладиться красотой заполнившего небо над ним мира в форме полумесяца. Он собрал все оборудование, которое мог вынести сквозь шлюз, нажал автопилот и прыгнул. С чувством, которого он не стал даже анализировать, агент смотрел вслед крохотному пылающему кораблику, устремившемуся к звездам. Он сжег свои корабли, оказавшись в крайней ситуации, и мог только надеяться, что приближавшийся корабль, успел перехватить радиограмму, прежде чем пустое судно на большой скорости ушло в никуда. Маловероятно, что вражеский крейсер бросится в погоню, этот шанс казался слишком призрачным, чтобы на него можно было надеяться.
Агент принялся исследовать свой новый дом. Пока Солнце находилось за горизонтом, единственным источником света было желтое излучение Марса, но для его целей этого было вполне достаточно, так что жаловаться на плохую видимость не приходилось. Он стоял в центре несимметричной равнины шириной около двух километров, окруженной холмами настолько низкими, что при желании он легко мог бы их перепрыгнуть. Некогда, много лет назад, ему довелось прочитать рассказ о человеке, который случайно спрыгнул с Фобоса, что, казалось бы, абсолютно невозможно, — впрочем, вполне вероятно, что это случилось на Деймосе, — поскольку вторая космическая скорость составляла все еще свыше десяти метров в секунду.
Но если он не побережется, то с легкостью может оказаться на высоте, падение с которой на поверхность потребует нескольких часов и неизбежно приведет к фатальным последствиям. План К-15 был весьма прост: он должен держаться как можно ближе к поверхности Фобоса и диаметрально противоположно крейсеру. «Дорадус» мог обратить все свое оружие против двадцати километров скал, а он даже не почувствует сотрясения. Существовали всего две серьезные опасности, и одна из них мало его беспокоила.
Для непрофессионала, ничего не знающего о тонкостях астронавтики, подобный план мог показаться абсолютно самоубийственным. «Дорадус» был снабжен новейшим сверхнаучным оружием; кроме того, двадцать километров, отделявших его от жертвы, заняли бы секунду полета на максимальной скорости. Но командир Смит был в высшей степени профессионалом, и уже понимал, что ему сильно не повезло. Он осознавал, возможно слишком хорошо, что из всех транспортных механизмов, когда-либо изобретенных человеком, космический крейсер отличался наименьшей маневренностью. Суть в том, что К-15 мог сделать с полдюжины оборотов вокруг своего маленького мира, пока командир, преследующий его на «Дорадусе», сделает хотя бы один.
Нет необходимости вдаваться в технические подробности, но те, кто еще не убедились, могут попытаться осмыслить эти элементарные факты. Космические корабли, безусловно, могут двигаться только по своим главным осям, то есть «вперед». Любое отклонение от прямого курса требует разворота корабля, так чтобы его моторы могли действовать в другом направлении. Любому известно, что это делается при помощи внутреннего гироскопа или тангенциальных рулевых двигателей, но очень немногие знают, сколько времени требует этот простой маневр. Средний крейсер, полностью заправленный горючим, достигает массы в две или три тысячи тонн, что начисто лишает его возможности быстро маневрировать. Но положение вещей еще хуже, поскольку имеет значение не только масса, но и момент инерции, а поскольку крейсер представляет собой длинный тонкий объект, его момент инерции почти колоссален. Этот печальный факт означает (хотя о нем редко вспоминают инженеры-астронавигаторы), что потребуется добрых десять минут, чтобы при помощи гироскопов любых разумных размеров развернуть космический корабль на 180 градусов. Рулевые двигатели действуют ненамного быстрее, и в любом случае их использование ограничено, потому что они производят перманентное вращение и, к досаде всех, находящихся внутри, способны уподобить корабль своего рода замедленной вертушке.
В обычных ситуациях такие недостатки не имеют большого значения. На протяжении миллионов километров и сотен часов полета корабль постоянно вынужден менять направление. Но движение по кругу радиусом в десять километров явно противоречит всем правилам, и командира «Дорадуса» это изрядно беспокоило. К-15 вел нечестную игру.
А в это время находчивый субъект пытался приноровиться к ситуации, которая вполне могла оказаться гораздо хуже. Он в три прыжка достиг холмов и почувствовал себя менее уязвимым, чем на открытой равнине. Пищу и оборудование, взятые с корабля, он спрятал там, где рассчитывал без труда найти их вновь, хотя, откровенно говоря, это его беспокоило меньше всего, поскольку скафандр мог сохранить ему жизнь не более чем на день. Небольшой пакет с самым необходимым — тем. что могло понадобиться ему при любых возникших проблемах, — был по-прежнему под рукой, в одном из многочисленных потайных мест, предусмотренных для таких целей в прекрасно продуманном скафандре.
Вокруг его горного гнезда царило возбуждающее одиночество, хотя оно и не было столь полным, как ему того хотелось. Навсегда застывший в небе Марс почти различимо пошел на убыль, в то время как Фобос повис над ночной стороной планеты. Беглец мог даже разглядеть огни некоторых марсианских городов, светящиеся булавочные головки, обозначавшие сочленения невидимых каналов. Кроме них оставались только звезды, тишина и линия зазубренных пиков, таких близких, что до них, казалось, можно было дотронуться. О «Дорадусе» не было ни слуху ни духу. Крейсер предусмотрительно перенес пристальные телескопические наблюдения на солнечную сторону Фобоса.
Марс служил весьма точными часами: когда он будет виден наполовину, тогда взойдет солнце, а с ним, вполне возможно, появится и «Дорадус». Но крейсер мог приблизиться с какой-либо совершенно неожиданной стороны; он мог даже — и это было единственной реальной опасностью — высадить группу поиска.
Это было первое, что пришло в голову командиру Смиту, как только он более или менее разобрался в ситуации. Однако вскоре он понял, что поверхность Фобоса занимает свыше тысячи квадратных километров, а он может выделить не более десяти человек из команды, чтобы обследовать этот скалистый, дикий район. К тому же К-15 наверняка вооружен.
Если принять во внимание оружие, которое нес на себе «Дорадус», это последнее обстоятельство могло показаться абсолютно незначительным. Но на самом деле такое мнение было очень далеко от истины. При обычном ходе вещей ручное вооружение и другое переносное оружие столь же полезны на космическом крейсере, как абордажные сабли и арбалеты. На «Дорадусе» — причем абсолютно случайно и в обход инструкций — нашелся один автоматический пистолет и сто патронов к нему. Любая группа поиска, следовательно, будет состоять из невооруженных людей, вынужденных столкнуться с прекрасно снаряженным и абсолютно отчаявшимся человеком, который с легкостью и не задумываясь их перебьет. К-15 вновь нарушал правила.
Терминатор Марса сейчас представлял собой абсолютно прямую линию, и почти в тот же миг взошло солнце — не столько как удар грома, сколько как взрыв атомной бомбы. К-15 подрегулировал фильтры своего визора и решил двигаться. Безопаснее оставаться вне солнечного света, не только потому, что там легче скрыться, но и потому, что в тени он видел гораздо лучше. У него имелась только пара бинокуляров, тогда как «Дорадус» был оснащен электронным телескопом с диафрагмой как минимум двадцать сантиметров.
К-15 счел за лучшее определить местонахождение крейсера, если, конечно, это удастся сделать. Подобное решение могло показаться опрометчивым, но он чувствовал себя гораздо увереннее, когда точно знал, где находится противник, и мог следить за всеми его передвижениями. Беглец мог в этом случае держаться ниже линии горизонта, а вспышки ракет дадут ему достаточное представление о любых передвижениях противника, угрожавших его безопасности. Осторожно отправившись почти вдоль траектории горизонта, он начал круговой обход своего мира.
Сужавшийся полумесяц Марса опускался за горизонт, пока только один обширный рог не остался загадочно сиять на фоне звезд. К.-15 забеспокоился, ибо по-прежнему не обнаружил никаких признаков «Дорадуса». Хотя в этом не было ничего странного — крейсер мог находиться в добрых ста километрах отсюда и к тому же был выкрашен черной как ночь краской. К-15 остановился, размышляя о том, правильно ли он в конце концов поступил. И тут нечто большое, двигавшееся медленно и плавно, закрыло. звезды прямо над его головой. Сердце К-15 на мгновение замерло, но он быстро пришел в себя и попытался проанализировать ситуацию и понять, каким образом он умудрился совершить столь катастрофическую ошибку.
Вскоре он понял, что черная тень, плывущая по небу, никак не могла быть крейсером, но тем не менее представляла не меньшую опасность. Она была гораздо меньше и гораздо ближе, чем показалось ему поначалу. «Дорадус» послал на поиски телевизионную управляемую торпеду.
Именно это и являлось вторым обстоятельством, которого он опасался, и в этой ситуации К-15 оставалось только всеми силами постараться спрятаться как можно лучше. Теперь «Дорадус» разыскивал его при помощи множества глаз, но возможности аппаратуры были строго ограничены. Ее создавали для поиска освещенных солнцем космических кораблей, находившихся на фоне звезд, а не для поиска человека, спрятавшегося среди темных зазубренных скат. Четкость изображения у этих телесистем была низкой, и видеть они могли только то, что находилось прямо перед ними.
Теперь за шахматной доской собралось гораздо больше игроков, да и сама игра стала чуть более смертельно опасной, но у него все еще оставалось небольшое преимущество.
Торпеда исчезла в ночном небе. Поскольку в слабом гравитационном поле она следовала почти прямым курсом, вскоре она оставит Фобос позади, и К-15 ждал того, что, как он знал, обязательно случится. Несколько минут спустя он заметил, что короткий росчерк ракеты погас, и догадался, что она медленно возвращается на свой курс. И почти в тот же миг он увидел другую, улетевшую в противоположную четверть неба. Интересно, сколько же этих адских машин было сейчас задействовано. Из того, что он знал о крейсерах класса Z, — а знал он гораздо больше, чем ему полагалось, — они были оборудованы четырьмя контрольными каналами для таких торпед, и все они, возможно, были использованы.
Внезапно его осенила идея настолько блестящая, что он был абсолютно уверен в невозможности ее осуществления. Радио в его скафандре поддавалось настройке, и оно охватывало необычайно широкую полосу частот, а где-то неподалеку «Дорадус» выкачивал энергию, превышавшую тысячу мегагерц. К-15 включил приемник и начал обследование.
Ему удалось довольно быстро обнаружить искомое — хриплое завывание передающихся импульсов, источник которого располагался не слишком далеко. Возможно, он ловил только помехи, но и этого вполне достаточно. Они слышались достаточно ясно, и в первый раз К-15 позволил себе строить далеко идущие планы на будущее. «Дорадус» выдал себя: пока крейсер управляет своими снарядами, К-15 будет точно знать, где тот находится.
Он осторожно двинулся но направлению к передатчику. К его удивлению, сигнал стал слабее, затем вновь резко усилился.
В первый момент К-15 даже несколько растерялся, но быстро понял, что, должно быть, двигался через зону дифракции. Будь он достаточно хорошим физиком, ее ширина могла бы сообщить ему кое-что полезное, но он не представлял себе, что именно.
«Дорадус» завис в пяти километрах над поверхностью при полном солнечном освещении. Его «неотражающая» окраска требовала обновления, а потому К-15 мог разглядеть его достаточно ясно. Поскольку беглец все еще оставался во тьме, а линия тени отодвигалась вместе с ним, он решил, что находится здесь в полной безопасности. Агент удобно устроился так, чтобы хорошо видеть крейсер, и принялся ждать, абсолютно уверенный в том, что ни один управляемый снаряд не подойдет так близко к кораблю. К настоящему моменту, по его представлению, командир «Дорадуса» должен был окончательно выйти из себя. И он был абсолютно прав.
Спустя час крейсер начал разворачиваться с грацией увязшего в трясине бегемота. К-15 догадался, что происходит. Командир Смит собирался осмотреть противоположную сторону и готовился к опасному пятидесятикилометровому путешествию. Агент очень внимательно наблюдал за тем, какое направление выберет корабль, и, когда тот остановился вновь, с облегчением обнаружил, что крейсер повернулся почти бортом к нему. Наконец резкими рывками, которые едва ли могли доставить удовольствие всем находящимся на борту, корабль начал. Движение к горизонту. К-15 последовал за ним, если можно так выразиться, прогулочным шагом. Задача состояла в том, чтобы не обогнать корабль на одном из километровых бросков и внимательно наблюдать, не позволяя какой-нибудь из торпед неожиданно подойти сзади.
Чтобы покрыть расстояние в пятьдесят километров, «Дорадусу» потребовалось около часа. К-15 подсчитал, что это составляло значительно меньше одной тысячной нормальной скорости корабля. В какой-то момент крейсер обнаружил, что направляется по касательной в космос, и предпочел не тратить время, снова переворачиваясь другим концом, а сделать несколько залпов, чтобы снизить скорость. Но наконец он добился желаемого результата, и К-15 пристроился для следующего бдения, закрепившись между двумя скалами, откуда он мог отчетливо видеть крейсер, будучи при этом абсолютно уверенным, что тот не видит его. Ему вдруг пришло в голову, что командир Смит должен бы уже всерьез засомневаться в том, что искомый объект действительно находится на Фобосе. К-15 вдруг почувствовал отчаянное желание подать сигнал, дабы успокоить противника. однако благоразумно подавил столь неразумный порыв.
Нет смысла подробно описывать события следующих десяти часов, поскольку от того, что происходило раньше, они отличались лишь незначительными деталями. «Дорадус» произвел еще три движения, и К-15 подкрадывался к нему с осторожностью опытного охотника, идущего по следу некой слоноподобной твари. Однажды, когда корабль вывел его в полосу полного солнечного света, он позволил крейсеру скрыться за горизонтом, прежде чем смог снова поймать его сигнал. Но большую часть времени, прячась за наиболее пригодными для этой пели холмами, он держал врага в поле зрения.
Однажды где-то в нескольких километрах в сторону раздался взрыв — возможно, кто-то из операторов увидел тень, вызвавшую его раздражение, или техник забыл выключить дистанционный взрыватель. Ничего другого, что могло бы разнообразить происходящее, не случилось, ситуация становилась изрядно скучной. К-15 почти радовался изредка проходившим над его головой торпедам, поскольку был совершенно уверен в том, что они не смогут обнаружить человека, неподвижно лежащего в укрытии. Если ему удастся оставаться в части Фобоса, диаметрально противоположной крейсеру, то, даже выйдя из укрытия, он окажется в полной безопасности, поскольку крейсер не мог контролировать его в тени луны, ибо сюда не доходили радиосигналы. Но если крейсер двинется вновь, надежный путь в безопасную зону отыскать будет весьма трудно.
Развязка наступила неожиданно. Последовал внезапный выброс рулевых реактивных струй и главный двигатель крейсера заработал во всею свою немалую мощь. Через секунду «Дорадус» устремился к солнцу, наконец свободный и счастливый, даже несмотря на то, что покидает эту жалкую кучку скал, которая столь нагло задержала его на пути к законной жертве, так и не добившись успеха. Всепоглощающее чувство покоя и облегчения охватило К-15, ибо он понял, что произошло. На посту наблюдения крейсера кто-то уловил эхо приближавшихся с невероятной скоростью колебаний. Теперь агенту оставалось только включить сигнальный огонь своего скафандра и ждать. Он даже мог позволить себе такую роскошь, как выкурить сигарету.
— Очень интересная история, — сказал я. — И теперь я понимаю, как она связана с белкой. Но у меня в связи с ней возникла пара вопросов.
— Неужели? — вежливо заметил Руперт Кингмэн.
Я всегда предпочитаю докапываться до сути вещей, и мне было известно, что наш хозяин играл некую роль, о которой он предпочитал не распространяться, в Юпитерианской войне. Я решил рискнуть и выстрелить наугад.
— Могу я спросить, откуда вы так много знаете об этом необычном военном происшествии? Неужели именно вы были К-15?
Карсон издал какой-то странный звук, а Кингмэн абсолютно спокойно ответил:
— Нет, это был не я.
Он поднялся на ноги и направился к оружейной комнате.
— Если вы извините мое недолгое отсутствие, я собираюсь еще раз выстрелить по той древесной крысе. Возможно, в этот раз я ее достану.
Затем он вышел.
Карсон смотрел на меня так, словно хотел сказать: «Вот и еще один дом, куда тебя никогда больше не пригласят». Когда наш хозяин уже не мог услышать, Карсон ледяным тоном заявил:
— Вы все испортили. Ну кто вас, скажите, тянул за язык?
— Ну, мне казалось, что догадка совершенно верна. Откуда же еще он мог узнать такие подробности?
— Полагаю, он встретился с К-15 после войны, и, должно быть, беседа их была весьма интересной. Но я думал, вы знали, что Руперт ушел в отставку всего лишь в чине капитан-лейтенанта. Военные следователи так ничего и не поняли. Ведь действительно казалось невозможным, чтобы командир самого быстрого во всем флоте корабля не смог поймать человека в скафандре.
Абсолютное превосходство
Перевод Ю. Данилова
Обращаясь к высокому суду с этим заявлением (которое я делаю совершенно добровольно), я хотел бы подчеркнуть со всей определенностью, что отнюдь не пытаюсь снискать сочувствие или как-то смягчить приговор. Я пишу эти строки, чтобы опровергнуть лживые сообщения, опубликованные в тех газетах, которые мне разрешено просматривать, и переданные по тюремному радио. Они рисуют в ложном свете истинную причину нашего поражения, и как главнокомандующий вооруженными силами системы во второй половине кампании вплоть до прекращения военных действий я считаю своим долгом заявить протест против клеветы и необоснованных обвинений в адрес тех, кто служил под моим началом.
Надеюсь также, что мое заявление объяснит, почему я уже дважды обращался к суду с прошением, и побудит удовлетворить мою просьбу, ибо я не усматриваю каких-либо поводов для отказа.
Основная причина нашего поражения проста. Несмотря на многочисленные уверения в обратном, мы потерпели поражение не из-за недостаточной храбрости наших солдат или неудачных действий флота. Мы потерпели поражение по одной-единственной причине: наука у нас находилась на более высоком уровне развития, чем у нашего противника. Повторяю, нам нанесла поражение отсталость науки нашего противника.
В начале войны ни у кого из нас не было сомнений в том, что окончательная победа будет за нами. Объединенные флоты наших союзников по численности и вооружению превосходили все, что враг мог выставить против нас, и во всех областях военной науки преимущество было на нашей стороне. Мы были уверены, что такое же превосходство нам удастся поддерживать и впредь. Увы! Как показали последующие события, наша уверенность не имела под собой ни малейших оснований.
В начале войны на вооружении нашего флота находились дальнодействующие самонаводящиеся торпеды, управляемые шаровые молнии и различные модификации лучей Клайдона. Это было штатным оружием всех кораблей нашего космического флота, и, хотя враг располагал такими же средствами поражения, его установки по мощности, как правило, уступали нашим. Кроме того, в состав наших вооруженных сил входил научно-исследовательский центр, превосходивший по своим масштабам аналогичную организацию нашего противника, и мы уповали на то, что его высокий научный потенциал позволит нам сохранить начальное преимущество.
Кампания развивалась по разработанному нами плану вплоть до Битвы Пяти Солнц. Мы, разумеется, одержали тогда победу, но противник оказался сильнее, чем можно было ожидать. Стало ясно, что окончательная победа будет не столь легкой и быстрой, как мы рассчитывали. Для обсуждения нашей стратегии на будущее было созвано совещание представителей высшего командования.
На нем впервые за время войны присутствовал профессор адмирал Норден, новый начальник научно-исследовательского центра, назначенный на этот пост после смерти нашего выдающегося ученого Мал вара. Эффективностью и мощью нашего оружия мы в большей мере, чем чему-нибудь или кому-нибудь другому, обязаны Малвару. Его смерть была для нас тяжелой потерей, но никто не сомневался в выдающихся достоинствах его преемника, хотя многие из нас считали неразумным назначение теоретика на пост, имеющий первостепенное значение для наших вооруженных сил. Но все наши возражения были отклонены.
Я хорошо помню, какое впечатление произвело выступление Нордена на том совещании. Военные советники были в затруднении и, как обычно, обратились за помощью к ученым. Можно ли усовершенствовать существующие типы оружия, спросили они, чтобы еще более увеличить достигнутое ныне военное превосходство?
Ответ Нордена был совершенно неожиданным. Малвару часто задавали такой вопрос, и он всегда делал то, что его просили.
— Честно говоря, джентльмены, — заявил Норден, — сомневаюсь, чтобы дальнейшее усовершенствование привело к желаемым результатам. Существующие типы оружия доведены практически до совершенства. Я далек от мысли критиковать моего предшественника или великолепную работу, проделанную научно-исследовательским центром на протяжении жизни нескольких последних поколений, но хотел бы, чтобы вы осознали: за последние сто лет никаких существенных изменений в нашем вооружении не происходило. Боюсь, что такое стало возможным лишь вследствие традиции, не лишенной консерватизма. В течение слишком долгого времени научно-исследовательский центр, вместо того чтобы разрабатывать новые виды вооружения, занимался усовершенствованием старых образцов оружия. К счастью для нас, наш противник до сих пор поступал столь же неразумно, однако мы не можем надеяться на то, что так будет продолжаться вечно.
Слова Нордена возымели свое действие, на что он, несомненно, рассчитывал, и адмирал принялся развивать достигнутый успех.
— Нам просто необходимы новые, никогда ранее не применявшиеся виды оружия. Они могут и должны быть созданы. Это потребует времени. Вступив в должность, я отправил в отставку ряд ученых преклонного возраста, назначив вместо них способных молодых людей, и приказал приступить к исследованиям в нескольких новых областях, которые представляются весьма многообещающими. Я верю, что принятые мной меры возымеют должное действие и произведут подлинный переворот в военном деле.
Мы отнеслись к выступлению Нордена довольно скептически. Нас насторожили напыщенные нотки в его голосе. Многие заподозрили Нордена в непомерном честолюбии. Тогда мы еще не знали о его обыкновении сообщать лишь о том. что находится в сталии окончательной доводки («у нас в лаборатории», как любил говаривать Норден).
Не прошло и месяца, как Норден доказал всем скептикам, что не бросает слов на ветер: он продемонстрировал Сферу Аннигиляции, приводившую к полному распаду вещества в радиусе нескольких сот метров. Завороженные мощью нового оружия, мы упустили из виду один его весьма существенный недостаток: Сфера Аннигиляции действительно была сферой и поэтому в момент возникновения разрушала и весьма сложную пусковую установку, находившуюся в ее центре. Ее нельзя было использовать на космических кораблях с экипажем на борту. Носителями Сферы Аннигиляции могли быть только управляемые ракеты, и мы приступили к развертыванию обширной и дорогостоящей программы по переделке всех самонаводящихся торпед под новое оружие. Все наступательные операции были на время приостановлены.
Теперь ни у кого не остаюсь сомнений в том, что. приняв подобное решение, мы совершили первую ошибку. Я по-прежнему склонен считать ее вполне естественной, поскольку нам тогда казалось, что имеющееся у нас оружие не сегодня-завтра окажется безнадежно устаревшим, и мы заранее смотрели на него как на примитивное и архаическое. Никто из нас не был в состоянии оценить грандиозность поставленной задачи и время, которое пройдет, прежде чем новое сверхоружие появится на поле битвы. Ведь ничего подобного за последние сто лет не происходило, и у нас не было нужного опыта, которым мы могли бы руководствоваться.
Переделка самонаводящихся торпед существующего образца оказалась задачей гораздо более трудной, чем предполагалось. Пришлось разработать торпеды нового типа, поскольку стандартный образец был слишком мал и не годился в качестве носителя. Увеличение габаритов торпед повлекло за собой увеличение тоннажа космических кораблей, но мы были готовы и на такие жертвы. Шесть месяцев спустя тяжелые корабли нашего флота были оснащены Сферой Аннигиляции. Учебные маневры и испытания показали, что тактико-технические данные нового оружия удовлетворительны, и мы решили при случае применить его. Нордена стали на все лады превозносить как творца грядущей победы, и он в несколько завуалированной форме пообещал удивить всех еще более впечатляющим оружием.
Между тем произошли два неожиданных события. Во время тренировочного полета бесследно исчез один из наших космических линкоров. Как показало расследование, радар дальнего обзора мог привести в действие Сферу Аннигиляции сразу же после запуска самонаводящейся торпеды с борта корабля. Переделка, понадобившаяся для устранения этого дефекта, была ничтожной, но начало очередной кампании пришлось перенести из-за нее на месяц. К тому же она вызвала резкое ухудшение отношений между личным составом космического флота и учеными. Мы уже были готовы приступить к ведению боевых операций, когда Норден объявил о том, что радиус поражающего действия Сферы удалось увеличить в десять раз. Вероятность поражения вражеского корабля возрастала при этом в тысячу раз.
Мы снова занялись модификацией установок, но на этот раз все считали, что игра стоит свеч. А тем временем наш противник, обескураженный внезапным прекращением всех наступательных операций с нашей стороны, нанес нам неожиданный удар. На наших кораблях к тому времени не было ни одной самонаводящейся торпеды, так как наши военные заводы прекратили их поставку, и нам пришлось отступить. Так мы потеряли системы Кирены и Флорана, а также планету-крепость Рамсондрон.
Утрата была не столь велика, сколь болезненна, так как захваченные противником системы были недружественными и управлять ими было трудно. Мы не сомневались, что в скором будущем нам удастся возместить все потери — следует лишь запастись терпением и дождаться, когда к нам на вооружение поступит усовершенствованная модификация Сферы Аннигиляции.
Наши надежды сбылись лишь отчасти. Когда возобновились наступательные операции, то выяснилось, что мы располагаем меньшим количеством Сфер Аннигиляции, чем рассчитывали. Нехватка оружия была одной из причин нашего ограниченного успеха. Другая причина была более серьезной.
Пока мы оснащали максимально возможное число кораблей всесокрушающим оружием, противник лихорадочно строил свой военный флот. Его корабли были старого типа и оснащены старым оружием, но по численности флот противника к тому времени уже превосходил наш флот. С началом боевых действий мы нередко стали сталкиваться с ситуациями, когда численность противника оказывалась вдвое больше ожидаемой, что приводило к путанице при наведении автоматического оружия и более высоким потерям с нашей стороны. Наш противник также нес тяжелые потери, поскольку если Сфера Аннигиляции срабатывала, то полное уничтожение цели достигалось в ста случаях из ста, но перевес в нашу пользу был не настолько велик, как мы надеялись.
Кроме того, пока наши главные силы были прикованы к основному театру военных действий, противник предпринял дерзкое нападение на охранявшиеся малыми силами системы Эристона, Дурана, Карманидора и Фаранидона и захватил их. Враг теперь стоял всего лишь в пятидесяти световых годах от нашего дома.
На следующем заседании высшего командования было высказано немало взаимных обвинений. Особенно много упреков пришлось выслушать Нордену. В частности, адмирал флота Таксарис заявил, что, полагаясь слепо на якобы всесокрушающее оружие, мы стали теперь значительно слабее, чем прежде. По его мнению, нам следовало продолжать строительство кораблей обычного типа, чтобы сохранить наше численное превосходство.
Норден возмутился и назвал представителей флотского командования неблагодарными «сапожниками». Но я думаю, что в действительности он, как и все мы, был обеспокоен неожиданным развитием событий. В своем выступлении он намекнул на то, что существует средство, позволяющее в кратчайшие сроки изменить ситуацию в нашу пользу.
Теперь-то мы знаем, что научно-исследовательский центр на протяжении многих лет работал над созданием Анализатора боевой обстановки, но в ту пору он показался нам откровением, и совратить нас уже не стоило труда. К тому же аргументы Нордена, как всегда, были соблазнительно весомы. Какое значение может иметь двукратный численный перевес противника, вопрошал Норден, если боевая мощь наших кораблей возрастет вдвое или даже втрое? На протяжении десятилетий ограничивающим в военном деле был не механический, а биологический фактор: одиночному или даже коллективному разуму небольшой группы людей было не под силу уследить за всеми деталями быстро изменяющейся боевой обстановки в трехмерном пространстве. Математики, работавшие у Нордена, проанализировали некоторые военные действия, ставшие достоянием истории, и доказали, что даже в тех случаях, когда мы одерживали победу, боевая мощь наших кораблей из-за недостаточно эффективного управления использовалась менее чем на половину теоретического значения.
Анализатор боевой обстановки мог бы резко изменить ситуацию, заменив штабных офицеров электронными вычислительными машинами. Сама по себе идея была не нова, но до сих пор она относилась к разряду утопий. Многие из нас с трудом верили в ее осуществимость. Но когда мы провели с помощью Анализатора боевой обстановки несколько необычайно сложных штабных учений, нам не оставалось ничего другого, как уверовать.
Анализаторы было решено разместить на четырех самых тяжелых кораблях, с тем чтобы каждый из наших главных флотов располагал одним из них. Тут-то и началась неприятность, о которой мы узнали позже.
В Анализаторе было около миллиона электронных ламп. Для обслуживания его и работы на нем требовался персонал в пятьсот инженеров и техников. Разместить такое количество народа на борту боевого космического корабля не было решительно никакой возможности, поэтому каждому из четырех кораблей с Анализаторами был придан вспомогательный корабль, на борту которого находился в свободные от вахты часы обслуживающий персонал. Монтаж Анализатора также оказался трудоемкой операцией и продвигался медленно, но самоотверженными усилиями его удалось завершить за шесть месяцев.
Затем мы столкнулись с еще, одной трудностью. Около пяти тысяч высококвалифицированных специалистов были отобраны для обслуживания Анализаторов и прошли интенсивную подготовку в Учебном центре технического состава. К концу седьмого месяца у 10 процентов слушателей врачи обнаружили нервное истощение, и только 40 процентов получили дипломы об окончании курсов.
И снова начались взаимные упреки и обвинения. Норден, разумеется, заявил, что научно-исследовательский центр не несет никакой ответственности, чем настроил против себя слушателей и профессорско-преподавательский состав Учебного центра. Наконец, было принято решение использовать лишь два из четырех Анализаторов, а остальные ввести в строй, когда будет укомплектован весь штат обслуживающего персонала. Времени у нас оставалось в обрез. Противник не прекращал активных наступательных действий, и дух его заметно поднялся.
Первый флот с Анализатором на борту флагмана получил приказ захватить временно оккупированную противником систему Эристона. По случайному стечению обстоятельств корабль, па борту которого находились свободные от вахты инженеры и техники, по дороге к Эристону подорвался на блуждающей мине. Обычный военный корабль при таком взрыве уцелел бы, но вспомогательный корабль с его незаменимым грузом был полностью разрушен. Операцию по захвату Эристона пришлось отменить.
Вторая экспедиция поначалу протекала более успешно. Никто не сомневался, что Анализатор полностью оправдает надежды своих создателей и в первом же сражении враг понесет тяжелое поражение. Так и случилось. Враг отступил, оставив в наших руках Сафран, Лейкон и Гексанеракс. Но, должно быть, разведка противника обратила внимание на изменения в нашей тактике и необъяснимое присутствие вспомогательного корабля в центре наших боевых порядков. По-видимому, не прошло незамеченным и то обстоятельство, что во время первого похода в составе нашего флота также находился вспомогательный корабль неизвестного назначения и после гибели его весь флот незамедлительно лег на обратный курс.
В следующем сражении противник, используя свое численное превосходство, предпринял массированную атаку на флагман и сопровождающий его безоружный вспомогательный корабль. Неся большие потери, противник сумел уничтожить наш флагман. Наш флот, по существу, был обезглавлен, так как вернуться к старым методам управления оказалось невозможным. Под сильным огнем противника мы отступили, оставив в его руках то, что успели отвоевать раньше, а также системы Лоримии, Исмарна, Берониса, Альфанидона и Сиденея.
Именно тогда адмирал флота Таксарис выразил свое неодобрение адмиралу Нордену, покончив жизнь самоубийством, и я принял верховное командование.
Ситуация была серьезной, больше того — было от чего прийти в ярость. С тупым упорством и полным отсутствием воображения враг продолжал одерживать победу за победой со своим старомодным и неэффективным космическим флотом, по численности уже намного превосходившим наш флот. Горько было сознавать, что если бы мы продолжали строить корабли старых типов, а не гнались за созданием нового оружия, то находились бы сейчас в более выгодном положении. На многочисленных совещаниях высшего командования Норден неизменно отстаивал ученых, которых многие считали виновниками всех бед. Трудность состояла в том, что Норден всегда досконально обосновывал каждое из своих утверждений. Какое бы несчастье ни произошло, у него всегда находились вполне удовлетворительные объяснения. Мы зашли так далеко, что даже не могли повернуть назад — поиск всесокрушающего оружия необходимо было продолжать. Сначала оно было своего рода роскошью, способной приблизить окончательную победу. Теперь оно стало необходимым, если мы вообще намеревались выиграть эту войну.
Мы, представители высшего командования, стояли за переход к обороне. Норден также ратовал за переход к обороне. Он был преисполнен решимости восстановить свой престиж и авторитет научно-исследовательского центра. Но мы уже дважды испытали разочарование и не хотели повторять ту же ошибку еще раз. Никто не сомневался, что двадцать тысяч ученых, работающих у Нордена. в состоянии разработать новые виды оружия, но никто из нас не был однозначно уверен, что именно так оно и будет на самом деле.
Но мы жестоко заблуждались. Последний вариант сверхоружия превосходил все доступное человеческому воображению. Трудно было поверить в то, что такое оружие вообще существует. Оно носило невинное, ничего не говорящее название Экспоненциального Поля, не раскрывавшее таившихся в нем реальных возможностей. Кто-то из работавших у Нордена математиков открыл Экспоненциальное Поле во время чисто теоретического исследования свойств пространства. Ко всеобщему удивлению, оказалось, что полученные результаты физически реализуемы.
Объяснить непосвященному принцип действия Экспоненциального Поля очень трудно. На языке, доступном специалисту, этот принцип формулируется так: «Создание особого (экспоненциального) состояния пространства, в котором расстояние, конечное в обычном (линейном) пространстве, может стать бесконечным в псевдопространстве». Норден привел аналогию, которая многим из нас прояснила суть дела. Представьте себе плоский диск из резины. Этот диск соответствует области обычного пространства. Потянем диск за центр и удалим центр в бесконечность. Окружность, ограничивающая диск, останется при этом неизменной, а его «диаметр» возрастет до бесконечности. Нечто подобное и проделывает генератор Экспоненциального Поля с окружающим пространством.
Предположим, например, что корабль, на борту которого находится такой генератор, со всех сторон окружен вражескими кораблями. Стоит включить Поле, и каждому из вражеских кораблей покажется, что наш корабль и корабли, находящиеся по другую сторону от нашего корабля, исчезли, обратившись в ничто. При этом граница круга останется прежней, только путешествие к центру круга потребует бесконечного времени, так как по мере приближения к центру все расстояния будут возрастать из-за изменившейся метрики пространства.
Экспоненциальное Поле было невероятно, фантастично, но чрезвычайно полезно для нас. Корабль с генератором Экспоненциального Поля на борту был недосягаем для противника. Его мог окружить вражеский флот, но он все равно оставался вне всякой опасности, как если бы противник находился на другом конце Вселенной. Правда, боевое применение Экспоненциального Поля наталкивалось на определенные трудности: не выключив генератор Поля, наш корабль не мог вести огонь по противнику. Тем не менее Экспоненциальное Поле обеспечивало нам важное преимущество не только в обороне, но и в наступлении: корабль с генератором Поля на борту мог скрытно приблизиться к неприятельскому флоту и совершенно неожиданно для противника оказаться среди его боевых порядков.
На этот раз нам казалось, что новое оружие лишено серьезных изъянов. Вряд ли нужно говорить о том, что, прежде чем принять Экспоненциальное Поле на вооружение, мы тщательно обсудили все доводы за и против. К счастью, необходимое оборудование было исключительно простым и для обслуживания его не требовалось многочисленного персонала. После продолжительных дебатов было решено запустить новое оружие в производство. Нам приходилось поторапливаться, ибо события развивались не в нашу пользу. К тому времени мы потеряли почти все, что нам удалось завоевать когда-то, и вражеские силы совершили несколько рейдов в нашу собственную солнечную систему.
Была поставлена стратегическая задача: любой ценой продержаться и выиграть время, необходимое для перевооружения флота и производства новой военной техники. Для боевого применения Поля необходимо было обнаружить противника, определить курс для его перехвата и включить генератор Поля с заданным упреждением. К моменту срабатывания генератора Поля, если бортовой компьютер выдал правильные расчетные данные, корабль-носитель должен был находиться в глубине боевых порядков противника, нанести ему удар, тяжесть которого усугубило бы неизбежное замешательство, и в случае необходимости лечь на обратный курс и благополучно вернуться назад.
Первые же учения дали удовлетворительные результаты. Оборудование казалось абсолютно надежным. Были произведены многочисленные учебные атаки, и экипажи наших кораблей в совершенстве овладели новой техникой. Я принимал участие в одном из испытательных полетов и хорошо помню странное ощущение, возникшее у меня при включении генератора. Корабли, шедшие рядом в боевом ордере, внезапно как бы оказались на поверхности быстро расширяющегося мыльного пузыря. Какой-то миг — и они скрылись из виду. Вслед за кораблями исчезли и звезды, но Галактика смутно угадывалась по слабым пучкам света вокруг корабля. В действительности радиус нашего псевдопространства не обращался в бесконечность, а достигал лишь нескольких сотен световых лет, поэтому при включении Экспоненциального Поля расстояния до наиболее далеких звезд увеличивались незначительно. Ближайшие же звезды исчезали из виду.
Учебные маневры пришлось преждевременно прервать из-за нескончаемых мелких неисправностей в различных узлах установки, главным образом в цепях связи. Неполадки доставляли нам массу хлопот и неприятностей, но не были сколько-нибудь существенными, хотя для устранения их было решено вернуться на базу.
К тому времени стало очевидным, что противник намеревается нанести решающий удар по планете-крепости Нтоп, расположенной у самых границ нашей солнечной системы. Нашему флоту пришлось покинуть базу и отравиться на сближение с противником, так и не устранив множества неисправностей.
Противник, вероятно, решил, что мы овладели секретом невидимости (в каком-то смысле так оно и было), наши корабли возникали совершенно неожиданно из «ничего» и наносили врагу ощутимый урон. Однако достигнутый нами успех оказался временным. Вскоре произошло нечто совершенно непонятное и необъяснимое.
Когда начались неприятности, я командовал флагманом нашего флота, космическим кораблем «Гиркания». Корабли в составе флота действовали в режиме свободного поиска: каждый должен был найти и поразить свои цели. Наши локаторы обнаружили скопление противника на средней дистанции. Офицеры наведения измерили с высокой точностью расстояние до цели. Мы проложили курс и включили генератор.
Экспоненциальное Поле возникло в тот момент, когда мы должны были оказаться в самом центре группировки противника. К нашему ужасу, придя в заданную точку, мы оказались в обычном пространстве на расстоянии многих сотен миль от противника: когда мы обнаружили противника, противник обнаружил нас. Мы отступили и повторили маневр. На этот раз мы оказались так далеко от противника, что он обнаружил нас первым.
Всем стало ясно, что мы допустили где-то серьезный просчет. Нарушив радиомолчание, мы попытались установить связь с другими кораблями нашего флота, чтобы узнать, не испытывают ли они аналогичного затруднения. И снова нас подстерегала неудача, на этот раз совершенно необъяснимая, так как все приборы связи работали бесперебойно. Оставалось лишь предположить, хотя такое предположение выходило за рамки разумного, что все остальные корабли нашего флота уничтожены противником.
Не буду описывать, как рассеянные в космическом пространстве корабли нашего флота по одному возвратились на базу. Скажу только, что, хотя потери были невелики, личный состав был полностью деморализован. Почти все корабли потеряли связь друг с другом, обнаружилось, что их локаторы позволяют определять дистанцию до цели лишь с колоссальными, необъяснимыми ошибками. Стало ясно, что столь сильные возмущения вызваны Экспоненциальным Полем, хотя возникали они лишь после его выключения.
Объяснение пришло слишком поздно, поэтому проку от него было немного. И то, что Норден в конце концов все же потерпел поражение, было слабым утешением за проигрыш в войне. Как я уже объяснял, генераторы Поля вызывали деформацию пространства в радиальном направлении: по мере приближения к центру искусственной псевдосферы расстояния возрастали. При выключении Поля пространство возвращалось в исходное состояние.
Но не совсем. Полностью восстановить исходное состояние было невозможно. Включение и выключение Поля было эквивалентно растяжению и сжатию корабля-носителя, но вследствие эффекта гистерезиса начальное условие из-за наводок, электрических зарядов и перемещений масс на борту корабля при включении Поля оказывалось невоспроизводимым. Все эти отклонения и искажения накапливались, и, хотя они по величине редко превосходили долю процента, их было вполне достаточно, чтобы нарушить тонкую регулировку радиолокационной аппаратуры и средств связи. Обнаружить изменения на каком-нибудь отдельном корабле не представлялось возможным. Остаточные «деформации» проявлялись лишь при сравнении оборудования одного корабля с аналогичным оборудованием другого корабля или при попытке войти в связь с другим кораблем.
Непредсказуемые изменения в жизненно важных узлах кораблей породили неописуемый хаос и неразбериху. Все модули и компоненты утратили взаимозаменяемость: нормальное функционирование любого узла на борту одного корабля отнюдь не гарантировало его безотказность на борту другого. Нарушилась взаимозаменяемость даже болтов и гаек. Определить местоположение своего корабля или координаты цели стало решительно невозможно. Будь у нас хоть немного времени, мы непременно справились бы со всеми этими трудностями, но неприятельские корабли уже тысячами шли на нас, атакуя оружием, которое казалось устаревшим на несколько веков по сравнению с нашим сверхсовременным вооружением. Наш доблестный флот, мощь которого была подорвана нашей собственной наукой, сражался из последних сил, но был вынужден отступить под ударами превосходящего по численности противника и сдаться на милость победителя. Корабли, оснащенные генераторами Поля, оставались по-прежнему недосягаемыми для противника, но как боевые единицы они не представляли никакой ценности. Каждый раз, когда они включали генератор, чтобы скрыться от противника, остаточная деформация оборудования возрастала еще больше. Через месяц все было кончено.
Такова подлинная история нашего поражения. Я изложил ее без прикрас, отнюдь не стремясь снискать сочувствие и склонить в свою пользу членов высокого суда. Мое заявление, как уже говорилось, я прошу рассматривать как протест против вздорных и безосновательных обвинений, выдвигаемых несведущими людьми против тех, кто служил под моим начатом, и как попытку указать истинного виновника постигших нас неудач.
Наконец, я прошу рассматривать мое заявление как покорнейшую просьбу. Как явствует из вышеизложенного, моя просьба продиктована весьма вескими соображениями и, я надеюсь, будет удовлетворена высоким судом.
Достопочтенные судьи, разумеется, понимают, что условия, в которых мы находимся, и неусыпный надзор днем и ночью действуют угнетающе. Однако я на это не жалуюсь, равно как не сетую и на тесноту, вынудившую разместить нас по двое в камере.
Но я снимаю с себя всякую ответственность, если и впредь мне придется находиться в одной камере с профессором Норденом, бывшим начальником научно-исследовательского центра вверенных мне вооруженных сил.
Путь во тьме
Перевод П. Ехилевской
Роберт Армстронг прошел уже больше двух миль, насколько он мог судить, когда его фонарь погас. Он на мгновение застыл, не в силах поверить, что на него могла обрушиться подобная неудача. Затем, обезумев от ярости, отбросил прочь бесполезный инструмент. Он упал где-то в темноте, потревожив покой этого крохотного мирка. Металлическое эхо отразилось звоном от низких холмов, и вновь наступила тишина.
«Это, — подумал Армстронг, — стало решающей неудачей». Ничего большего с ним не могло уже случиться. Он был даже в состоянии горько посмеяться над своим невезением и решил никогда больше не воображать, что капризная богиня когда-либо благоволила к нему. Кто бы мог поверить, что единственный трактор в Лагере-4 сломается как раз тогда, когда он соберется отправиться в порт Сандерсон. Армстронг припомнил интенсивные ремонтные работы, облегчение, испытанное, когда он вновь смог отправиться в путь, — и финальную катастрофу: гусеница трактора сломалась.
Что толку было сожалеть о том, как поздно он вышел: он не мог предвидеть все эти аварии, а до взлета «Канопуса» у него все еще оставалось добрых четыре часа. Он должен был попасть на него любой ценой. Никакой другой корабль не приземлится в этом мире еще целый месяц.
Его ждали не терпящие отлагательства дела, а кроме того, провести еще четыре недели на этой отдаленной планете просто немыслимо.
Оставалось сделать только одно. Какая удача, что порт Сандерсон находился чуть-чуть более чем в шести милях от лагеря — небольшое расстояние, даже для пешехода. Ему пришлось оставить все свое снаряжение, но его можно переслать на следующем корабле, а он пока обойдется. Дорога была плохой, просто выбитой в скале одной из бортовых стотонных дробилок, но зато не было риска заблудиться.
Даже сейчас он не подвергался реальной опасности, хотя вполне мог опоздать на корабль. Он двигался медленно, потому что не хотел потерять дорогу в этом районе каньонов и загадочных туннелей, которые никто никогда не исследовал. Было, конечно, абсолютно темно. Здесь, на краю Галактики, звезды так малочисленны и рассеянны, что их свет практически не виден. Странное малиновое солнце этого одинокого мира не взойдет еще много часов. И хотя в небе плавали пять маленьких лун, их с трудом можно было увидеть невооруженным глазом. Ни одна из них даже не отбрасывала тени.
Армстронг не привык долго сокрушаться по поводу своих неудач. Он медленно зашагал по дороге, ощупывая ее ногами. Она была, насколько ему известно, абсолютно прямой, за исключением того места, где путь проходил через ущелье Карвера. Он пожалел, что не захватил палку или что-нибудь в этом роде, чтобы ощупывать дорогу перед собой. Что ж, придется руководствоваться собственной интуицией.
Сперва Армстронг передвигался крайне медленно, но в конце концов обрел уверенность. Он никогда не предполагал, как трудно идти по прямой. Хотя слабые звезды давали ему некоторое направление, он вновь и вновь натыкался на девственные скалы у краев дороги, передвигался длинными зигзагами, от одной обочины до другой, ощупывал пальцами ног голые скалы и снова возвращался на утрамбованную почву.
Наконец его движения стали почти автоматическими. Он не мог оценить скорость передвижения; оставалось только с трудом пробиваться вперед и надеяться на лучшее. Нужно пройти четыре мили — четыре мили и столько же часов. Это достаточно легко, если он не потеряет дорогу. Но об этом путник не решался даже подумать.
Отточив технику передвижения, он мог позволить себе роскошь думать. Армстронг не собирался притворяться, что получает удовольствие от происходящего, но ему случалось попадать и в худшие положения. На дороге он был в абсолютной безопасности. Раньше он надеялся, что, когда его глаза привыкнут к темноте и едва различимому свету звезд, он сможет видеть дорогу, но теперь понял, что все путешествие придется проделать вслепую. Это открытие заставило живо почувствовать удаленность от центра Галактики. В такую ясную ночь, как эта, небеса над почти любой другой планетой сверкали бы звездами. Здесь, на окраине Вселенной, на небе было, возможно, сто слабо светящихся точек, таких же бесполезных, как пять смехотворных лун, на которые никто даже до сих пор не потрудился приземлиться.
Легкое изменение дороги прервало его мысли. Была ли здесь эта кривая, или он опять отклонился вправо? Армстронг медленно двигался вдоль невидимой и плохо очерченной границы. Да, это не ошибка: дорога загибалась влево. Он попытался вспомнить, как она выглядела в дневное время, но до этого он побывал здесь только один раз. Означало ли это, что он приближается к ущелью? Армстронг надеялся, что это так, ибо тогда путешествие было бы наполовину завершено.
Он напряженно вглядывался вперед, в темноту, но ломаная линия горизонта ни о чем ему не говорила. Наконец он обнаружил, что дорога опять выпрямилась, и его сердце упало. Вход в ущелье должен быть еще где-то впереди. Идти еще как минимум четыре мили.
Четыре мили! Каким смехотворным казалось это расстояние. Сколько времени потребовалось бы «Канопусу», чтобы преодолеть четыре мили? Он сомневался, что человек может измерить такой короткий интервал времени. А сколько триллионов миль пришлось ему, Роберту Армстронгу, сделать за свою жизнь? Должно быть, к настоящему времени уже можно подсчитать сумму, потому что за последние двадцать лет он редко оставался больше месяца в каком-нибудь одном мире. В этом году он дважды пересек Галактику, что можно рассматривать как значительное путешествие даже во времена фантомных перелетов.
Он споткнулся об одинокий камень, и толчок вернул его к реальности. Бесполезно размышлять здесь о кораблях, способных поглощать световые годы. Он очутился перед лицом природы, вооруженный только своей силой и опытом.
Странно, что ему понадобилось столько времени, чтобы определить истинную причину беспокойства. Последние четыре недели были очень напряженными, а поспешный отъезд вкупе с тревогой и раздражением из-за поломки трактора вытеснили из головы все остальное. Кроме того, он всегда гордился своей практичностью и недостатком воображения. До нынешнего момента он не вспоминал о первом вечере на базе, когда команда потчевала его обычными байками, состряпанными специально для новичков.
Именно тогда старый клерк базы рассказал историю о своей ночной прогулке из порта Сандерсон до базы и о том, что выслеживало его через ущелье Карвера, постоянно держась вне луча фонаря. Армстронг, которому приходилось слышать подобные истории в бессчетном числе миров, в тот раз не обратил на него внимания. В конце концов, эта планета была известна как необитаемая. Но логике оказалось нелегко взять верх в данном вопросе. Предположим, в фантастической истории старика содержалась какая-то правда…
Мысль была не из приятных, и Армстронг не собирался зацикливаться на ней. Но он знал, что, если выпустит ее из-под контроля, она все равно будет терзать его мозг. Единственной возможностью обуздать воображаемые страхи было смело повернуться к ним лицом — именно это он и собирался сейчас сделать.
Его самым сильным аргументом являлась абсолютная опустошенность и полное запустение мира, в котором он сейчас находился, хотя против одного этого можно было выставить множество контраргументов — взять хотя бы рассказ старого клерка. Человек поселился на этой планете только двадцать лет назад, и немалая ее часть по-прежнему оставалась неисследованной. Никто не мог отрицать, что туннели, ведущие с пустошей, казались весьма странными, но все верили, что они вулканического происхождения. Хотя, конечно, жизнь частенько скрывается именно в таких местах. Он с содроганием вспомнил о гигантском полипе, заманившем в ловушку первых исследователей Варгона III.
Все это было весьма неубедительно. Допустим — просто чтобы проверить свои аргументы — наличие здесь жизни. Что из этого?
Огромная часть форм жизни, существовавших во Вселенной, была абсолютна индифферентна по отношению к человеку. Некоторые, конечно, типа газообразных существ с Алкорана, или блуждающих волновых структур с Шандалуна, даже не могли обнаружить его, но прошли бы мимо или сквозь него так, словно его не существовало. Другие были просто любознательны, некоторые необычайно дружелюбны. На самом деле очень немногие из них стремились напасть, если их не провоцировали.
Тем не менее картина, нарисованная клерком из старожилов, казалась довольно мрачной. Вернувшись в теплую, хорошо освещенную курительную комнату, к приятелям и пушенной по кругу выпивке, над этой историей можно было разве что посмеяться. Но здесь, во тьме, за мили от любых человеческих поселений, все воспринималось совершенно иначе.
Он почувствовал почти облегчение, вновь оступившись с дороги и вынужденный ощупывать окружающее пространство руками. Почва вокруг казалась очень грубой, и дорога не сильно отличалась от вздымавшихся вокруг скал. Через несколько минут, однако, он вновь благополучно отыскал путь.
Было неприятно осознавать, как быстро его мысли вернулись к тому же тревожному предмету. Это явно беспокоило его гораздо больше, чем он хотел себе признаться.
Армстронг черпал утешение в одном факте: совершенно очевидно, что никто на базе не поверил россказням старика. Их вопросы и шутки служили тому доказательством. В тот раз он смеялся так же громко, как и любой из них. В конце концов, что служило доказательством? Туманный силуэт, промелькнувший во тьме, который, скорее всего, был не более чем скалой странной формы. И непонятный щелкающий шум, так впечатливший старика, — любому возбужденному человеку мог померещиться зловещий звук в ночи. Если это был враг, то почему создание не подошло ближе? «Потому что оно испугалось моего фонаря*,— объяснил старый шутник. Ну, это звучало достаточно правдоподобно: по крайней мере, объясняло, почему никто никогда не видел его при дневном свете. Подобное создание, должно быть, живет под землей и появляется только ночью… К черту! С какой стати он принимает всерьез бредни старого идиота? Армстронг вновь взял себя в руки. «Если я буду продолжать в том же духе, — сердито сказал он себе, — то скоро увижу и услышу целый зверинец монстров».
Имелся, к счастью, один фактор, который сходу разрушал всю нелепую историю. Действительно, очень просто — он пожалел, что не подумал об этом раньше. Чем должны питаться подобные создания? На всей планете не было и следа растительной жизни. Он засмеялся при мысли о том, что призрак можно так легко развеять, — и в то же время почувствовал досаду на самого себя за то, что не рассмеялся громко. Если он настолько уверен в своих рассуждениях, почему бы не засвистеть. или не запеть, или не сделать что-либо еще, дабы взбодриться? Он честно задал себе этот вопрос, чтобы проверить собственное мужество. Наполовину пристыженный, Армстронг убедился, что все еще боится, боится потому, что «в этом, в конце концов, что-то может быть». Но, как минимум, его анализ принес хоть какую-то пользу.
Следовало на этом и остановиться, удовольствоваться полу-убежденностью в своих аргументах. Но часть его сознания все еще упорно пыталась разрушить кропотливо подобранные резоны. Это получалось слишком хорошо, и когда Армстронг вспомнил растительное существо с Ксантил-Мэджора, потрясение оказалось настолько неприятным, что он замер на месте.
Честно говоря, растительные существа с Ксантила ни в коей мере не внушали ужаса. На самом деле они были потрясающе красивыми. Но сейчас воспоминание о них встревожило именно потому, что эти создания могли неопределенное время обходиться вообще без пищи. Всю энергию, необходимую для своего весьма странного существования, они извлекали из космического излучения, которое было здесь столь же интенсивным, как и в любом другом месте Вселенной.
Едва он успел подумать об одном примере, как в его мозгу возникли мириады других, и он вспомнил форму жизни Трантор Беты, которая единственная была известна своей способностью напрямую использовать атомную энергию. Та форма жизни тоже обитала в полностью опустошенном мире, очень похожем на этот…
Сознание Армстронга буквально разрывалось на две половины, каждая из которых пыталась убедить другую, и ни одна не добилась полного успеха. Он не понимал, насколько ухудшилось его моральное состояние, пока не обнаружил, что сдерживает дыхание, чтобы не заглушать любой звук, который мог исходить из окружающей темноты. Взбешенный, он выкинул из головы всю дрянь, скопившуюся там, и вновь вернулся к насущной проблеме.
Не было сомнений в том, что дорога медленно поднималась, и линия горизонта казалась теперь расположенной гораздо выше. Дорога начала извиваться, и внезапно он заметил огромные скалы, возвышавшиеся по обе стороны от него. Но вскоре осталась только узкая лента неба, и темнота, если это было вообще возможно, еще больше сгустилась.
Почему-то среди окружавших его скалистых стен он чувствовал себя в большей безопасности: так он оставался незащищенным только с двух сторон. К тому же дорога стала гораздо более ровной, и придерживаться ее стало легче. К счастью, теперь он знал, что проделано больше половины путешествия.
На мгновение его настроение улучшилось, но затем со сводящим с ума постоянством мысли вновь вернулись в прежнее русло. Он припомнил, что приключение старого клерка имело место именно в дальнем конце ущелья Карвера, если вообще имело место.
Примерно через полмили он вновь окажется на открытом пространстве, вне защиты этих гостеприимных скал. Сейчас эта мысль казалась вдвойне ужасной, и он уже чувствовал себя совершенно беспомощным — нападения можно было ждать с любой стороны…
До сих пор ему хотя бы частично удавалось сохранять самоконтроль. Армстронг старался не задумываться об одном факте, придававшем своеобразную окраску байке старика, — единственном эпизоде, остановившем шутки в переполненной комнате позади лагеря и заставившем компанию неожиданно притихнуть. Сейчас, когда воля Армстронга начала слабеть, он вновь припомнил слова, от которых на мгновение повеяло холодом даже в теплом и комфортабельном здании базы.
Маленький клерк упорно настаивал на одном пункте. Он не слышал никаких звуков преследования, исходящих от тусклого силуэта, и еще меньше видел из-за недостатка света. Не было скрежета клешней или когтей по скалам, ни даже шума передвигаемых камней. «Это было, — сообщил старик в своей торжественной манере, — как если бы тварь, следовавшая за мной, прекрасно видела в темноте и имела множество ножек или лапок, так что могла плавно двигаться по скалам, словно гигантская гусеница или одна из этих ковровок с Кралкора II».
Но, хотя шума преследования не было, имелся один звук, который старик уловил несколько раз. Он казался настолько необычным, что его абсолютная чужеродность делала его вдвойне зловещим. Это было слабое, но угрожающе постоянное потрескивание.
Старикан смог описать его весьма живо — гораздо более живо, чем Армстронгу сейчас бы хотелось.
«Вы когда-либо слышали, как большое насекомое с хрустом грызет свою жертву? — спросил он. — Ну так вот, это звучало очень похоже. Я думаю, что краб издает примерно такой же звук, клацая своими клешнями. Это был — как это называется? — хитиновый звук».
На этом месте, как вспомнил Армстронг, он громко расхохотался. (Странно, как все это возвращается к нему сейчас.) Но никто больше не рассмеялся, хотя они охотно делали это раньше. Ощущая изменившуюся интонацию, он моментально пришел в себя и попросил старика продолжить рассказ. Как он жалел теперь, что не обуздал свое любопытство!
История быстро подошла к концу. На следующий день партия скептически настроенных техников отправилась в безлюдные земли возле ущелья Карвера. Они не были настолько скептиками, чтобы оставить ружья, но им не пришлось пустить их в дело, поскольку ребята не обнаружили следов существования какой-либо живности. Встретились только неизменные ямы и туннели, уходящие вниз и слабо поблескивавшие, когда в них проникал и затем исчезал в бесконечности свет фонарей. Но планета не желала открывать людям свои тайны.
Хотя группа не обнаружила никаких следов жизни, она сделала весьма неприятное открытие. За пределами пустынных и неисследованных земель возле ущелья они вышли к большему, чем остальные, туннелю. Возле пасти этого туннеля располагалась массивная скала, наполовину погруженная в землю. И бока этой скалы были обтесаны так, словно ее использовали как гигантский точильный камень.
Не менее чем пятеро из присутствующих видели эту потревоженную скалу. Никто из них не мог убедительно доказать, что это была природная формация, но они по-прежнему отказывались верить в правдивость истории старика. Армстронг спросил, не желают ли они подвергнуть ее проверке. Ответом послужило неловкое молчание. Затем Большой Эндрю Харгрейвз произнес:
— Черт, кто бы стал шляться ночью через ущелье просто ради шутки!
На этом все закончилось.
И действительно, не было других упоминаний о том, чтобы кто-либо прогулялся от порта Сандерсон до лагеря, будь то ночью или днем. В светлые часы ни одно незащищенное человеческое существо не могло остаться в живых, открытое лучам чудовищного пылающего солнца, которое, казалось, занимало пол неба. И никто не пошел бы шесть миль, одетый в антирадиационную броню, если можно было воспользоваться трактором.
Армстронг чувствовал, что он выходит из ущелья. Скалы по обе стороны дороги опускались вниз, и дорога больше не была твердой и ровной. Он снова оказался на открытом пространстве, а где-то недалеко во тьме лежала та чудовищная глыба, которую мог использовать монстр, для того чтобы точить клыки или когти. Эта мысль отнюдь не успокаивала, но путник не мог выкинуть ее из головы.
Крайне обеспокоенный, Армстронг прилагал гигантские усилия, чтобы собраться с мыслями. Он вновь пытался рассуждать рационально, думать о делах, о работе, которую он делал в лагере, — о чем угодно, кроме этого жуткого места. На некоторое время ему это прекрасно удавалось. Но тут же, с маниакальным постоянством, мысли возвращались к прежнему предмету. Он не мог выкинуть из головы зрелище этой необъяснимой скалы и мысль об ее ужасающих возможностях. Вновь и вновь он ловил себя на том, что не может не гадать, как далеко она находится, миновал ли он ее и была ли она справа или слева…
Дорога вновь стала достаточно плоской и прямой как стрела. Это служило некоторым утешением: порт Сандерсон не мог находиться дальше чем в двух милях. Армстронг не имел представления, сколько времени он провел в пути. К сожалению, циферблат его часов не светился, и он мог только догадываться о том, который сейчас час. Если ему хоть чуть-чуть повезет, «Канопус» не взлетит как минимум еще два часа. Но Армстронг уже ни в чем не мог быть уверен, и теперь его охватил новый страх — ужас от того, что он увидит огромное скопление огней, плавно поднимавшихся в небо далеко впереди, и узнает, что все страдания, которые он пережил в своем воображении, были напрасны.
Теперь он уже шел не такими большими зигзагами и мог почувствовать края дороги, не спотыкаясь о них. Возможно, мысленно успокаивал он себя, он двигался почти с такой же скоростью, как и при свете. Если все шло хорошо, он находился в тридцати минутах ходьбы от порта Сандерсон — удивительно маленький отрезок времени. Как он посмеется над своими страхами, оказавшись в заранее зарезервированной каюте «Канопуса» и почувствовав специфическую дрожь, когда фантомная тяга бросит огромный корабль прочь из этой системы, назад, к клубящимся звездным облакам возле центра Галактики, — назад, к самой Земле, которую он не видел столько лет. «Однажды, — сказал он себе, — я действительно должен вновь посетить Землю». Армстронг уже не раз за свою жизнь давал это обещание, но всегда находилась одна и та же причина — недостаток времени. Действительно странно, что такая крохотная планета и грата столь огромную роль в развитии Вселенной, ей удавалось даже доминировать над мирами, гораздо более мудрыми и интеллектуальными, чем она сама!
Мысли Армстронга вновь потекли в безопасном направлении, и он почувствовал себя спокойнее. Сознание близости порта Сандерсон в значительной степени прибавляло уверенности, и он с легкостью переключался на обдумывание уже привычных и не слишком важных проблем. Ущелье Карвера находилось далеко позади, а вместе с ним то, о чем он больше не собирался вспоминать. Когда-нибудь, если он только вновь вернется в этот мир, он посетит ущелье днем и посмеется над своими страхами. А сейчас, через каких-нибудь двадцать минут, они присоединятся к его детским кошмарам.
Когда он увидел огни порта Сандерсон, поднимавшиеся из-за горизонта, это стало почти потрясением, правда одним из самых приятных из испытанных им когда-либо. Кривизна этого маленького мира была обманчивой: казалось неправильным, что планета с силой тяжести почти такой же, как у Земли, имела так близко расположенный горизонт. Однажды кто-нибудь откроет, что именно в центре этого мира давало такую плотность. Возможно, этому способствовало множество туннелей… Ну вот, опять неудачный поворот мыслей, но близость к цели теперь уменьшала его ужас. На самом деле возможность того, что он действительно находился в опасности, придает его приключению некую пикантность. Теперь, когда до видневшихся впереди огней порта Сандерсон оставалось десять минут ходу, с ним уже ничего не могло случиться.
Несколькими минутами позже, когда он подошел к неожиданному изгибу дороги, его чувства резко изменились. Он забыл о расселине, означавшей лишний крюк в полмили. «Хорошо, ну и что из этого? — подумал он упрямо. — Лишние полмили теперь не имеют значения — максимум лишние десять минут».
Он ощутил огромное разочарование, когда огни города неожиданно исчезли. Армстронг забыл о холмах, обрамлявших дорогу. Возможно, это была всего лишь низкая гряда, почти незаметная днем. Но, спрятав огни порта, она отняла его главный талисман и вновь отдала его на милость его страхов.
Весьма неразумно, о чем неустанно твердил ему внутренний голос, он принялся размышлять о том, как ужасно будет, если что-либо случится сейчас, так близко к цели путешествия. Армстронг отбивался от самых худших из своих страхов, отчаянно надеясь, что вот-вот вновь появятся огни города. Но минуты уходили, и путник понимал, что гряда, должно быть, длиннее, чем он предполагал. Армстронг пытался успокаивать себя мыслями о том, что город станет гораздо ближе, когда он увидит их вновь, но что-то внутри, казалось, препятствовало ему в этом. Внезапно он обнаружил, что делает нечто, до чего не унижался, даже проходя через ущелье Карвера.
Он остановился, медленно повернулся и, задержав дыхание, прислушивался, пока его легкие не начали разрываться.
Молчание казалось особенно жутким, учитывая, насколько близко он должен был быть от порта. Сзади тоже не доносилось ни звука. Конечно, и не могло доноситься, сказал он себе сердито. И тем не менее почувствовал огромное облегчение. Мысль о странном слабом, но упорном треске преследовала его на протяжении последнего часа.
Звук, долетевший до него наконец, показался таким дружелюбным и знакомым, что от облегчения он почти в голос расхохотался. Пробившись сквозь неподвижный воздух от источника, находящегося не более чем в миле отсюда, донесся звук трактора с посадочного поля — возможно, одной из машин, занятых на погрузке «Канопуса». Через пару секунд, подумал Армстронг, он обогнет эту гряду и порт окажется всего в нескольких сотнях ярдов перед ним. Путешествие почти закончено. Еще немного, и эта ужасная равнина станет не более чем рассеявшимся ночным кошмаром.
Это показалось ужасно несправедливым: ему требовалось сейчас столь малое время, такая маленькая частица человеческой жизни. Но небеса всегда были неблагосклонны к человеку, и теперь они наслаждались своей маленькой шуткой. Ошибки быть не могло: в темноте перед ним послышался треск чудовищных клешней…
Космический Казанова
На сей раз симптомы стали заметными через пять недель после отлета с Базы. В прошлый раз для этого потребовался всего месяц; не знаю, чему обязан такой разнице — то ли возраст берет свое, то ли диетологи что-то добавили в мои пищевые капсулы. А может, причина еще проще — я был слишком занят. Та ветвь Галактики, которую я разведывал в этом полете, была плотно, через каждые два-три световых года, нашпигована звездами, и на мысли о девушках у меня попросту не оставалось времени. Как только я классифицировал очередную звезду, а автоматический поиск планет завершался, наступало время отправляться к следующей. А когда, как это случалось примерно в одном случае из десяти, обнаруживались еще и планеты, я бывал просто отчаянно занят несколько дней подряд, а Макс, мой корабельный компьютер, заполнял свою память обильной информацией.
Но теперь плотно набитая звездами область пространства осталась позади, и иногда у меня уходило целых три дня на перелет от звезды до звезды. Такого промежутка вполне хватало, чтобы по кораблю на цыпочках начинал бродить Секс, а воспоминания о последнем отпуске делали предстоящие несколько месяцев полета бесконечно долгими.
Возможно, я перестарался тогда на Диадне-5, когда мой корабль готовили к следующему полету, а мне полагалось отдыхать. Но космический разведчик восемьдесят процентов своего времени проводит в одиночестве, а человеческая природа такова, что потом ему хочется наверстать упущенное. А я не просто его наверстал, а обеспечил и солидный задел на будущее — однако, как оказалось, на весь новый полет мне его не хватило.
Сперва, как я с тоской вспомнил, у меня была Хелен — ласковая и уступчивая блондинка. Правда, ей немного не хватало воображения. Мы отлично проводили время, пока ее муж не вернулся из своего полета; он повел себя поразительно порядочно, но вполне логично заметил, что у Хелен теперь останется очень мало времени на общение с другими мужчинами. К счастью, я уже успел познакомиться с Айрис, так что вакансия долго не пустовала.
Айрис оказалась еще та штучка — вспоминая ее, я даже сейчас вздрагиваю. Когда наши отношения прервались — по той простой причине, что мужчине надо иногда хоть немного поспать, — я целую неделю не приближался к женщинам. А потом мне попалось на глаза трогательное стихотворение поэта с древней Земли по имени Джон Донн — его книги стоит поискать, если вы умрете читать на примитивном английском, — которое напомнило мне, что утерянное время уже никогда не возместить.
Как это верно, подумал я и, облачившись в униформу космонавта, отправился на пляж единственного на Диадне моря. Не пройдя и пары сотен метров, я уже наметил десяток кандидаток, отделался от нескольких дамочек-добровольцев и положил глаз на Натали.
Сперва у нас все шло прекрасно, но потом Натали стала возражать против моих свиданий с Руфью (или то была Кэти?). Я терпеть не могу девушек, полагающих, будто мужчина — их собственность, поэтому после довольно тяжелой сцены, включающей битье дорогой посуды, я дал себе приказ «полный вперед». Несколько следующих дней я провел в одиночестве, потом меня спасла Синтия, и… но теперь вы уже поняли главное, поэтому не стану утомлять вас подробностями.
Так вот, это и были те нежные воспоминания, которые я мысленно перебирал, пока одна звезда тускнела за кормой, а другая разгоралась прямо по курсу. Я специально не взял в этот полет свои рисунки, решив, что они лишь усугубят мою тоску. Это оказалось ошибкой; будучи очень неплохим художником в весьма специализированной области, я рисовал на память своих подружек и вскоре стал обладателем коллекции, которой на любой респектабельной планете было бы трудно подыскать достойный аналог.
Только не подумайте, что все эти мысли влияли на эффективность моей работы как специалиста галактической разведки. Гормоны напоминали о себе лишь во время долгих и скучных межзвездных перелетов, когда мне, если не считать компьютера, не с кем было перекинуться словечком. При обычных обстоятельствах мой электронный коллега Макс был неплохим собеседником, но есть некоторые темы, где от машины трудно ждать понимания и сочувствия. Я нередко задевал его чувства, когда меня одолевало раздражение и я без видимой причины выходил из себя.
— Что с тобой, Джо? — недоумевал Макс. — Ты ведь не сердишься на меня за то, что я снова обыграл тебя в шахматы? Вспомни, я же предупреждал, что ты проиграешь.
— Да пошел ты к дьяволу! — огрызался я в ответ, а потом тревожные пять минут выяснял отношения с навигационным роботом, воспринимающим все сказанное буквально.
Но через два месяца после отлета с Базы, когда я зарегистрировал тридцать звезд и четыре планетные системы, произошло событие, заставившее меня позабыть обо всех личных проблемах. Пискнул монитор дальнего поиска — он уловил далекий сигнал, исходящий из области пространства где-то впереди. Я взял как можно более точный пеленг; передача оказалась немодулированной и в очень узком диапазоне — наверняка какой-то маяк. Однако, насколько я знал, наши корабли никогда не посещали этот дальний уголок Вселенной; мне полагалось разведывать совершенно неисследованные территории.
Значит, решил я, это ОН — мой великий момент, компенсация за все проведенные в космосе одинокие годы. Где-то впереди меня ждет другая цивилизация — достаточно развитая, чтобы изобрести гиперрадио.
Я точно знал, как мне следует поступить. Едва Макс подтвердил мои наблюдения и завершил свой анализ, я запустил в сторону Базы курьерскую капсулу. Теперь, если со мной что-либо случится, там будут знать, где это произошло, и догадаются о причине. А меня утешала мысль, что, если я не вернусь на Базу в срок, друзья явятся за моими останками.
Вскоре уже не осталось сомнений в том, откуда исходит сигнал, и я слегка изменил курс, направившись к маленькой желтой звезде, возле которой работал маяк. Такой мощный сигнал, говорил я себе, означает развитую технику космических полетов, и я, вполне возможно, наткнулся на культуру, развитую не меньше нашей — со всеми вытекающими последствиями.
Еще находясь очень далеко, я, не очень-то надеясь на успех, стал вызывать их со своего передатчика. К моему удивлению, на вызов быстро ответили. Непрерывная волна превратилась в цепочку повторяющихся импульсов. Даже Макс не смог расшифровать это послание. Вероятно, оно означало нечто вроде: «А кто ты такой, черт возьми?» — а это слишком короткий образец текста, и освоить по нему чужой язык не по зубам даже самой мошной машине-переводчику.
С каждым часом сигнал становился все сильнее, и я, желая показать, что принимаю ею четко и ясно, периодически посылал такое же сообщение в направлении источника. А потом мне преподнесли второй сюрприз.
Я ожидал, что они — кем бы они ни были — переключатся на голосовое общение, едва я окажусь в зоне уверенного приема. Именно так они и поступили; но я никак не ожидал, что голоса их окажутся человеческими, а язык — несомненной разновидностью английского, хотя совершенно для меня непонятной. Я распознавал лишь одно слово из десяти, остальные звучали или совершенно непонятно, или неразборчиво из-за помех.
Когда из динамика послышались первые слова, я обо всем догадался. Я обнаружил не инопланетную расу негуманоидов, а нечто почти столь же потрясающее, но намного более безопасное для одинокого разведчика. Я установил контакт с одной из утерянных колоний Первой империи — с пионерами, покинувшими Землю в самом начале межзвездной экспансии пять тысяч лет назад. Когда империя рухнула, очень многие из этих изолированных групп или погибли, или скатились к варварству. А здесь, похоже, отыскалась уцелевшая колония.
Я заговорил с ними очень медленно, подбирая простейшие английские слова, но пять тысяч лет — очень долгий срок в жизни любого языка, и реальный разговор оказался невозможен. Контакт, несомненно, стал для них величайшим событием — и приятным, насколько я мог судить. Это не всегда так; в некоторых изолированных культурах, оставшихся после Первой империи, развилась активная ксенофобия, и, когда колонисты заново узнают, что не одиноки во Вселенной, у них едва не начинается истерика.
Мы безуспешно пытались общаться, и тут возник новый фактор, резко изменивший мое отношение. Из динамика послышался женский голос.
Я никогда не слышал столь замечательного голоса, и, думаю, даже не будь у меня за спиной одиноких космических недель, я все равно мгновенно бы в него влюбился. Очень низкий, но несомненно женский, он звучал столь тепло и ласкающе, что все мои чувства мгновенно взыграли. Я был настолько ошеломлен, что лишь через несколько минут осознал — я понимаю слова невидимой обольстительницы. Она говорила на версии английского, где каждое второе слово было мне понятно.
Короче говоря, очень скоро я узнал, что ее зовут Лайала и что она единственный на планете филолог, специализирующийся по примитивному английскому. Ее вызвали в качестве переводчика, едва был установлен контакт с моим кораблем. Похоже, везение мое продолжалось, ведь переводчик запросто мог оказаться неким древним и седобородым ископаемым.
Шли часы, ее солнце становилось все крупнее, а мы с Лай-алой — все более тесными друзьями. Время поджимало, и мне пришлось действовать быстрее обычного. Тот факт, что никто иной не мог понимать наши разговоры, позволял нам беседовать практически с глазу на глаз. И в самом деле, Лайала недостаточно хорошо знала английский, и это позволяло мне выходить сухим из воды после какой-нибудь двусмысленной фразы; я мог не опасаться, что зайду слишком далеко с девушкой, которая все сомнения решает в мою пользу, считая, что не поняла сказанное…
Нужно ли говорить, что я был очень и очень счастлив? Получалось, что мои личные и официальные интересы идеально совпадают, и лишь одна проблема меня слегка тревожила. Я еще не видел Лайалу. А что, если она окажется абсолютной уродиной?
Первую возможность решить эту важную проблему я получил за шесть часов до посадки. Я настолько приблизился к планете, что уже мог принимать телепередачи, и Максу потребовалось всего несколько секунд, чтобы проанализировать передаваемый сигнал и настроить приемник на корабле. Наконец-то я увидел первые изображения с поверхности планеты — и Лайалу.
Она оказалась столь же прекрасна, как и ее голос. Долгие секунды я просидел, уставясь на экран и не в силах вымолвить и слова. Наконец Лайала спросила:
— Что с вами? Неужели вы никогда не видели девушку?
Я был вынужден признаться, что видел, и не одну, но такую, как она, — никогда. Я с великим облегчением обнаружил, что она отреагировала на мои слова весьма благосклонно, и, похоже, ничто не преграждало нам дорогу к будущему счастью — если мы сумеем избежать армии ученых и политиков, которые окружат меня сразу после посадки. Наши надежды на уединение были весьма шаткими, причем настолько, что у меня даже появилось искушение нарушить одно из своих самых незыблемых правил — я задумался о женитьбе на Лайале, если это окажется единственным для нас выходом. (Да, два месяца в космосе действительно повлияли на мою психику…)
Пять тысяч лет истории — десять тысяч, если приплюсовать еще и мои пять, — трудно сжать в несколько часов рассказа. Но, имея такого восхитительного наставника, я быстро впитывал знания, а все, что упускал я, Макс сохранял в своей бездонной памяти.
Аркадия, как очаровательно называлась их планета, располагалась на самой границе освоенного в ходе колонизации пространства; когда прилив имперской экспансии схлынул, о ней попросту забыли. Борясь за выживание, аркадцы утратили большую часть научных знаний, включая секрет межзвездных перелетов. Они не могли покинуть пределы своей солнечной системы, но у них такого желания и не возникало. Это оказалась плодородная планета с низкой гравитацией — всего четверть земной, — что придало колонистам физическую силу, потребовавшуюся для строительства жизни, достойной названия планеты. Даже допуская, что Лайала несколько приукрасила рассказ о своей родине, она показалась мне весьма привлекательным местечком.
Желтое солнце Аркадии уже превратилось в диск, когда меня осенила замечательная идея. Меня очень тревожила мысль о комитете по встрече, и я внезапно понял, как смогу от него избавиться. План требовал содействия Лайалы, но в ней я к тому времени уже был уверен. Если вы не сочтете мои слова нескромностью, то могу сказать, что всегда умел обращаться с женщинами, а заочно ухаживать мне не впервой.
И вот за два часа до посадки аркадцы узнали, что дальние разведчики — существа очень робкие и подозрительные. Сославшись на предыдущий печальный опыт общения с враждебными культурами, я вежливо отказался войти, подобно мухе, в их паутину. Поскольку я прилетел один, то готов встретиться лишь с одним из них в некоем изолированном месте, которое еще предстоит выбрать. Если эта встреча пройдет нормально, то я соглашусь полететь в их столицу, а если нет — вернусь, откуда прибыл. Надеюсь, они не сочтут такое поведение невежливостью, но я лишь одинокий путник вдали от дома и уверен, что они, как люди здравомыслящие, меня поймут…
Меня поняли. Выбор посланника был очевиден, и Лайала, отважно вызвавшись встретиться с монстром из дальнего космоса, в один миг стала всепланетной героиней. Своим встревоженным друзьям она пообещала, что свяжется с ними через час после того, как войдет в мой корабль. Я попытался уговорить ее на два часа, но она ответила, что это станет слишком подозрительно и даст завистникам повод распускать про нее сплетни.
Корабль уже пронзал атмосферу Аркадии, когда я неожиданно вспомнил про нарисованные уже в этом полете компрометирующие рисунки, и мне пришлось устроить торопливую приборку. (И все равно один довольно откровенный шедевр завалился за ящик с картами, и, когда несколько месяцев спустя его обнаружила команда обслуживания, я был готов провалиться сквозь палубу от смущения.) Когда я вернулся в рубку управления, экраны уже показывали пустую равнину, посреди которой меня ждала Лайала. Через две минуты я смогу обнять ее, вдохнуть аромат ее волос, ощутить ее податливое тело…
Я не стал утруждать себя наблюдением за посадкой, потому что мог положиться на Макса — он, как всегда, проделает свою работу безупречно. Я торопливо спустился к шлюзу и, собрав все остатки терпения, принялся ждать, когда распахнется отделяющий меня от Лайалы люк.
Мне показалось, что прошла целая вечность, пока Макс не завершил рутинную проверку атмосферы и не выдал сигнал: «Открывается наружный люк». Металлический диск еще двигался, когда я прыгнул в отверстие люка и коснулся наконец плодородной земли Аркадии.
Я помнил, что вешу здесь всего сорок фунтов, поэтому, несмотря на нетерпение, двигался осторожно. И все же я позабыл, погрузившись в розовые мечты, что пониженная гравитация может сделать с человеческим телом за две сотни поколений. А на маленькой планете эволюция за пять тысяч лет способна потрудиться на славу.
Лайала ждала меня — столь же прекрасная, как и на экране. Но изображение отличала от оригинала одна мелочь, которую я на экране заметить никак не мог.
Я никогда не любил высоких девушек, а теперь люблю их еще меньше. Пожалуй, если бы мне этого до сих пор хотелось, я смог бы обнять Лайалу. Но я выглядел бы полным идиотом, стоя на цыпочках и обнимая ее вокруг коленей.
Песни далекой Земли
Перевод В. Галанта
Лора стояла в тени пальм и смотрела на море. Она уже различала лодку Клайда — точечку у самого горизонта. Только это и нарушало безмятежное единство моря и неба. С каждой минутой точка увеличивалась, пока наконец не отделилась совершенно от края голубого купола, покрывающего весь этот мир. Теперь Лора уже видела Клайда на носу лодки, неподвижного, словно статуя. Одной рукой он держался за снасти. Лицо повернуто к берегу — верно, он пытался разглядеть ее среди густых теней.
— Где ты, Лора? — жалобно прозвучал его голос из радиобраслета, который он подарил ей вдень помолвки. — Иди сюда! Помоги мне перетащить домой рыбу. Улов богатый.
«Ах вот как! — подумала Лора. — Вот зачем я должна была спешить на берег».
Чтобы проучить Клайда и заставить его как следует поволноваться, она не откликалась, пока он не повторил свой зов по крайней мере полдюжины раз. Но и тогда она не стала нажимать великолепную золотистую жемчужину, служившую кнопкой передач, а неторопливо вышла из тени больших деревьев и начала спускаться к морю.
Клайд смотрел на нее с укоризной. Но, спрыгнув на песок и привязав лодку, он поцеловал ее именно так, как ей хотелось.
Потом они дружно принялись выгружать улов: катамаран был набит рыбой, крупной и мелкой. Лора морщила носик, но трудилась добросовестно, пока жертвы хитрости и умения Клайда не заполнили доверху санки-вездеходы, стоявшие на песке.
Добыча и впрямь оказалась богатой. Лора с гордостью сказала себе: что-что, а голодать, когда она выйдет замуж за Клайда, ей не придется. Неуклюжие, покрытые панцирями обитатели морей на этой молодой планете, в сущности, не были настоящими рыбами. До того как они изобретут чешую, пройдет еще миллионов сто лет. Тем не менее существа эти были достаточно вкусными, а первые колонисты дали им названия, которые вместе со множеством других традиций привезли с незабытой Земли.
— Вот и все! — пробурчал Клайд, бросив в блестящую кучу довольно удачную имитацию лосося, — Пошли!
Не без труда найдя точку опоры. Лора прыгнула на вездеход сзади. Гибкие ролики завертелись на песке, потом обрели сцепление. Клайд, Лора и сто фунтов отсортированной ими рыбы двинулись вверх по причесанному волнами берегу. Они одолели уже половину пути к дому, как вдруг в их простой, свободный от тревог мир ворвалось нечто, положившее конец привычному течению жизни.
Знамение этого конца было начертано на небе — казалось, гигантская рука провела меловую линию на голубом своде. Когда Клайд и Лора увидели этот сверкающий след, эту полосу пара, она уже кудрявилась по краям, превращаясь в клочья тумана.
Теперь до их слуха уже доносился с высоты во много километров звук, которого на их планете не слышали на протяжении нескольких поколений. Бессознательно схватившись за руки, они глядели на белоснежную борозду, прочеркнувшую небо, и прислушивались к резкому свисту с границ космоса. Опускавшийся корабль уже исчез за горизонтом, прежде чем они повернулись друг к другу и с трепетом прошептали волшебное слово: «Земля!».
После трехсотлетнего молчания Мать снова протянула руку и коснулась Талассы.
— Почему? — спрашивала себя Лора, когда миновал наконец затянувшийся миг озарения и затих крик разрываемого воздуха. — Что произошло? Почему спустя столько лет корабль с могущественной Земли вдруг вторгся в этот тихий и безмятежный мир?
На единственном острове в океане, покрывавшем всю планету, не было места для новых колонистов, и Земля знала об этом достаточно хорошо. Ее автоматические суда-разведчики обследовали Талассу из космоса и нанесли ее на карту пятьсот лет назад, когда изучение звездных миров только начиналось. Задолго до того как сам человек отважился проникнуть в межзвездное пространство, его электронные слуги облетели планеты, вращающиеся вокруг иных солнц, и повернули домой, обремененные запасами знаний, подобно пчелам, спешащим в родной улей.
Один из таких разведчиков и открыл Талассу — маленький мирок с единственным большим островом, затерянным в безбрежном море. Когда-нибудь и здесь родятся материки, но Таласса была молодой планетой, и историю ее еще никто не написал.
На возвращение домой роботу понадобилось сто лет, и еще столько же лет дремали собранные им сведения в электронной памяти гигантских запоминающих устройств, хранящих всю мудрость Земли, Первые волны колонизации не коснулись Талассы. Сначала осваивались планеты более удобные, не покрытые водой на девять десятых. Но пришло время — пионеры явились и сюда. В какой-нибудь дюжине миль от места, где сейчас находилась Лора, ее предки впервые высадились на планете и сделали ее собственностью человека.
Они срыли холмы, распахали и засеяли почву, повернули реки, воздвигли города и заводы, жили и множились, пока позволяли естественные пределы острова. Таласса с ее плодородной почвой, морем, кишащим живыми существами, мягким климатом, с погодой, которую так легко предсказать, не слишком многого требовала от своих приемных детей. Наступательного духа хватило лишь поколения на два. А потом колонисты работали ровно столько, сколько оказывалось необходимым, не больше того, тоскливо мечтали о Земле, но, удовлетворяясь своей участью, мало задумывались о будущем.
Когда Клайд с Лорой добрались до поселка, там только и было разговоров что о корабле. С северной оконечности острова сообщали, что звездолет уменьшил свою гигантскую скорость и на малой высоте движется в обратном направлении — по-видимому, команда выбирает место для посадки.
— У них, верно, старые карты, — сказал кто-то. — Ставлю десять против одного, что они сядут на холмах — там же, где и первая экспедиция.
Предположение выглядело правдоподобным, и через несколько минут весь имевшийся в селении транспорт ринулся на запад — по дороге, которой редко кто пользовался. Отец Лоры, как и подобало мэру такого важного культурного центра, каким был Палм-Бэй (население: 572 чел.; занятия: рыболовство, гидропоника; промышленность; отсутствует), ехал впереди на казенной машине. К сожалению, срок ежегодной покраски ее только еще приближался. Одна надежда, что гости не обратят внимания на то, что краска во многих местах отвалилась, обнажив металл. В сущности, автомобиль почти новый: Лора еще хорошо помнила оживление, вызванное его появлением лет тринадцать назад.
Маленький караван из легковых машин, грузовиков и пары едва поспевавших за ними саней-вездеходов для передвижения по песку перевалил через гребень холма и остановился подле плиты с полустертой от времени надписью — простой, но запоминающейся:
МЕСТО ПОСАДКИ ПЕРВОЙ ЭКСПЕДИЦИИ НА ТАЛАССУ 1 ЯНВАРЯ НУЛЕВОГО ГОДА (28 МАЯ 2626 г. н. э.)
— Первая экспедиция, — повторила про себя Лора. — Второй не было, но вот и она.
Корабль опускался так тихо, что люди не заметили, как он повис почти над их головами. Не было слышно рева двигателей — только шумели на деревьях листья, волнуемые потоком воздуха. Потом утихла и листва. Лоре подумалось, что блестящий предмет, опустившийся на траву, удивительно похож на большое серебристое яйцо, ждущее наседку, чтобы из него вывелось то новое, необычное, что нарушит мир Талассы.
— Такой маленький, — прошептал кто-то рядом с ней. — Не могли же они прилететь с Земли в этой штуке!
— Конечно, нет, — тотчас же отозвался один из тех, кто в подобных случаях сам себя назначает экспертом, — Это только шлюпка, а корабль там. в космосе. Разве не помните — первая экспедиция…
— Ш-ш-ш, — прервал его третий голос. — Они выходят.
Протекло не больше времени, чем нужно, чтобы сердце ударило дважды. Корпус, лишенный швов, был гладким и ровным, и взгляд напрасно искал бы в нем хоть признаков отверстия. И вдруг возник овальный люк с коротким трапом, откинутым на землю. Казалось, ничто не шелохнулось, но вдруг стало сушим. Как именно — Лора понятия не имела, она приняла свершившееся без всякого удивления. Именно такого и следовало ждать от корабля, прибывшего с Земли.
В темном отверстии показались люди. Толпа не издала ни звука, когда пришельцы медленно вышли из корабля и остановились, хмурясь от ярких лучей незнакомого им солнца. Их было семеро — одни мужчины, и они совсем не выглядели сверхлюдьми, какими в воображении Лоры рисовались жители Земли. Правда, они были высокими, но лица с четкими чертами поражали худобой и такой бледностью, что кожа казалась прозрачно-белой. Вид у них был встревоженный, слегка растерянный, и это очень озадачило Лору. У нее мелькнула догадка, что посадка на Талассу могла быть непредвиденной и что, оказавшись на этой планете, гости удивлены не меньше, чем колонисты, собравшиеся приветствовать их.
Мэр Палм-Бэя, чувствуя, что наступил наивысший взлет его карьеры, вышел вперед, чтобы произнести речь, которую лихорадочно готовил с того момента, как выехал на автомобиле из селения. Но только он собрался открыть рот, сомнение, словно влажная губка, прошлось по его памяти, как по школьной доске, и стерло все заготовленные слова. Островитяне приняли как само собой разумеющееся то, что корабль прибыл с Земли. Но ведь это только предположение. Корабль вполне мог прилететь с какой-нибудь другой освоенной планеты — по меньшей мере дюжина таких колоний располагалась ближе к матери-Земле, чем Таласса. Смятение перед этими дипломатическими вопросами охватило отца Лоры, он только и смог вымолвить:
— Добро пожаловать на Талассу. Полагаю, вы с Земли?
Это «полагаю» принесло мэру Фордайсу бессмертие. Прошло целое столетие, прежде чем кто-то докопался, что мэр был не совсем оригинален, употребив это выражение[2].
Во всей толпе встречающих, пожалуй, лишь одна Лора не расслышала утвердительного ответа. Это была английская речь, только за века, отделявшие Талассу от Земли, ставшая, видимо, более быстрой, чем раньше. Лора не расслышала, потому что в этот момент она впервые увидела Леона.
Он лишь сейчас вышел из корабля и, стараясь быть незаметным, присоединился к своим товарищам, стоявшим у трапа. Почему он задержался? Регулировал ли что-то в системе управления или же — это более вероятно — докладывал о ходе высадки командиру корабля-базы, который оставался в космосе, далеко за пределами атмосферы? Впрочем, Лора об этом не раздумывала, просто она не видела никого, кроме Леона.
Даже в это первое мгновение она уже знала, что жизнь ее никогда больше не будет прежней. Что-то новое и совершенно неведомое наполнило ее удивлением и страхом. Она испугалась за свою любовь к Клайду. Удивилась тому незнакомому, что ворвалось в ее жизнь.
Леон был ростом поменьше своих товарищей, но покрепче их, он выглядел сильным, владеющим какими-то особыми знаниями. Его глубоко сидевшие темные и очень живые глаза выделялись на резко очерченном лице, которое никто не назвал бы красивым, хотя Лоре оно показалось неотразимо привлекательным. Перед ней стоял мужчина, видевший такое, чего она и представить себе не могла, побывавший, быть может, в сказочных городах Земли, ходивший по их улицам. Что ему делать здесь, на затерянной в космосе Талассе? Почему у его пытливых глаз залегли морщинки тревоги и беспокойства?
Один раз он даже посмотрел в ее сторону, но взгляд этот не □становился на ней. Теперь взгляд его вернулся, словно подстегнутый памятью, и он впервые ощутил присутствие Лоры, которая не отрывала от него взора. Их глаза встретились, перекинув мост через бездны времени, пространства и опыта. Со лба Леона сбежали морщины тревоги, напряженное выражение лица смягчилось — он улыбнулся.
Речи, банкеты, приемы и интервью затянулись до сумерек. Пеон очень устал, но мысли его были слишком возбуждены, чтобы он мог уснуть. После напряжения последних недель — с того момента, как его разбудил колокол громкого боя и он ринулся вместе со своими товарищами на борьбу за спасение раненого корабля, — было непросто осознать, что опасности больше нет. Им здорово повезло, что так близко оказалась обитаемая планета! Если даже не удастся починить корабль и закончить полет, до завершения которого оставалось еще двести тет, они, во всяком случае, будут находиться среди друзей. Ни один потерпевший кораблекрушение, будь то в море или в космосе, не мог рассчитывать на большее.
Ночь стояла прохладная, тихая, на небе сверкали непривычные звезды. Но были там и старые друзья, хотя знакомые очертания созвездий изменились. Вот могучий Ригель, он нисколько не потускнел из-за того, что лучу его приходится преодолеть много добавочных световых лет, прежде чем он достигает глаз Леона. А это вот, должно быть, гигантский Канопус, который располагается почти на одной линии с той звездной системой, куда они держали путь; на одной линии, но так далеко, что, даже когда они достигнут своей новой родины, он будет светить им не ярче, чем с земного неба.
Леон тряхнул головой, словно хотел освободиться от парализующего и завораживающего видения бесконечности. «Забудь о звездах, — сказал он себе — Скоро ты снова встретишься лицом к лицу с ними. Держись за этот маленький мирок, пока ты находишься в нем, даже если он окажется только пылинкой на пути между Землей, которую ты никогда больше не увидишь, и целью путешествия, которой ты достигнешь через двести лет».
Друзья его уже спали, усталые и довольные, — они имели на то право. Он тоже отдохнет, как только его смятенный дух подлит уснуть. Но сначала ему нужно взглянуть на мирок, куда закинула его судьба, на этот населенный родичами оазис в пустыне космоса.
Он вышел из длинного одноэтажного дома, наспех подготовленного к приему нежданных гостей, и оказался на единственной улице Палм-Бэя. Улица была пуста, хотя в домах еще слышалась убаюкивающая музыка. Жители селения, видимо, привыкли рано укладываться спать, а может быть, их утомили волнения и хлопоты, связанные с ролью гостеприимных хозяев. Впрочем, Леон был этому рад, ему хотелось побыть одному, пока бег его мыслей наконец не замедлится.
Рокот моря в ночной тишине увлек его в сторону от пустынной улицы. Вскоре огни селения исчезли. Под пальмами было темно, но меньшая из двух лун Талассы высоко стояла над горизонтом в южной части небосклона, и ее странный желтый свет служил ему отличным проводником. Миновав узкий пояс деревьев, он увидел за круто спускавшимся пляжем океан, покрывавший почти всю эту планету.
У кромки воды виднелся ряд рыбачьих лодок, и Леон медленно направился к ним; его интересовало, как таласские мастера решали одну из древнейших задач, постоянно встававших перед человечеством. Он придирчиво осмотрел изящные корпуса из пластика, узкие балансиры, механические вороты для вытаскивания сетей, компактные маленькие моторы, радио с пеленгаторами. Простота этой техники, доходящая почти до примитивности, но прекрасно приспособленная к местным условиям, глубоко тронула его. Трудно было представить более разительный контраст со сложными лабиринтами могучего корабля, повисшего у него над головой. Леон усмехнулся, мелькнула забавная мысль: а ведь здорово было бы швырнуть за борт годы, потраченные на учебу и тренировку, и сменить жизнь специалиста по двигателям звездолета на нетребовательное существование мирного рыбака. Нужен ведь им кто-то, способный держать суда в порядке, а он еще, может быть, придумает кое-какие усовершенствования.
Леон тут же отбросил розовую мечту, не тратя времени на обсуждение ее очевидной нелепости, и пошел вдоль полосы иены, отмечавшей место, где волны, набегавшие на берег, лишались последних сил. Под ногами хрустели остатки живых существ, рожденных этим молодым океаном, — раковины и щитки, какими, возможно, были усеяны миллиард лет назад берега земных морей. Вот эту, например, туго закрученную известковую спираль он почти наверняка видел в каком-то музее. А почему бы и нет: природа бесконечно повторяла в одном мире за другим любую конструкцию, если она соответствовала своему назначению.
По восточной части небосклона быстро распространялось желтоватое сияние. На глазах у Леона ближайшая к планете луна — Селена — поднялась над горизонтом. Приближалось полнолуние. С удивительной быстротой диск Селены выкарабкался из моря, внезапно залив светом весь берег.
И в этот сияющий миг Леон увидел, что он не один.
Метрах в пятидесяти дальше по берегу в лодке сидела девушка. Спиной к нему, лицом к морю, видимо, не замечая Леона. Он заколебался: не хотелось нарушать ее уединения, к тому же он совсем не знал местных нравов. В такое время, в таком месте… вероятно, она ждет кого-нибудь. Пожалуй, самое правильное и тактичное — потихоньку вернуться в селение.
Однако было уже поздно. Словно разбуженная новым светом, разлившимся по берегу, девушка подняла голову и увидела его, С неторопливой грацией она встала в лодке, не выказывая никаких признаков тревоги или досады. Если бы в свете луны Леон смог разглядеть ее лицо, он с изумлением заметил бы, что оно озарилось спокойствием осуществившегося желания.
А ведь всего двадцать часов назад Лора возмутилась бы, если бы ей сказали, что она станет искать встречи с совершенно незнакомым мужчиной здесь, на пустынном берегу, да еще в такое время, когда все ее близкие спят. Даже и сейчас она, верно, попыталась бы дать своим поступкам разумное объяснение, стала бы уверять, что не могла уснуть и решила прогуляться. Но в тайниках души она знала, что это неправда. Весь день ее преследовал образ молодого инженера. Его должность и имя она выведала у друзей, не возбудив, как ей казалось, чрезмерного любопытства.
Она увидела, как он выходил из дома для гостей, вовсе не по счастливой случайности — весь вечер она следила за ним с крыльца резиденции своего отца на другой стороне улицы. И конечно же, не везение, а сознательный и тщательный расчет привел ее сюда, к этому месту, как только она поняла, куда направляется Леон.
Он остановился метрах в трех-четырех. Узнал ли он ее? Догадался ли, что встреча не случайна? На мгновение смелость покинула Лору, но отступать было некуда. А он улыбнулся странной, чуть асимметричной улыбкой, сразу осветившей лицо и сделавшей его еще моложе, чем он был на самом деле.
— Хэлло, — сказал он. — Не думал, что встречу кого-нибудь так поздно. Надеюсь, я не помешал вам.
— Конечно, нет, — ответила Лора, следя, чтобы голос не дрогнул и не выдал ее.
— Я с корабля. Захотелось взглянуть на Талассу, пока я здесь.
Лицо Лоры омрачилось. Ее внезапная печаль поразила Леона — ведь никакой причины для этого не было. Но тут память услужливо подсказала ему, что он уже видел эту девушку. Он догадался, почему она здесь. Это ведь та самая девушка, которая улыбнулась ему, когда он ступил на почву Талассы; впрочем, нет, это он улыбнулся ей…
Говорить, казалось, было не о чем. Они смотрели друг на друга через лежащую между ними полоску песка и удивлялись чуду, которое свело их в бесконечности времени и пространства. Потом, словно сговорясь, оба очутились на планшире рыболовного судна, все еще не произнеся ни слова.
«Безумие, — сказал себе Леон. — Что я тут делаю? Какое право имею я, странник, прохожий в этом мире, врываться в жизнь его людей? Я должен попросить прошения и уйти, оставить эту девушку берегу и морю. Все здесь по праву рождения принадлежит ей, а не мне».
Но он не ушел. Яркий диск Селены поднялся над морем на целую ладонь, когда он спросил наконец, как се имя.
— Я — Лора, — ответила она мягким говорком островитян, который было приятно слушать, но не всегда легко понять.
— А я — Леон Карелл, помощник корабельного инженера звездолета «Магеллан».
При этих словах на лице ее мелькнула улыбка, и Леон проникся уверенностью, что она уже знает его имя. То, что затем пришло ему в голову, конечно же, не имело отношения к происходившему с ним сейчас: всего несколько минут назад он чувствовал себя смертельно усталым и собирался вернуться, чтобы наконец уснуть. Теперь ему совсем не хотелось спать, он был полон бодрости и как бы стоял на пороге неведомых приключений, исход которых не мог предугадать.
Однако предугадать следующий вопрос Лоры было нетрудно: «Как вам понравилась Таласса?»
— Дайте мне время осмотреться, — ответил Леон. — Я видел только Палм-Бэй, да и то далеко не весь.
— Вы останетесь здесь… надолго?
Пауза была едва заметной, но ухо Леона уловило ее. Значит, этот вопрос важен для нее.
— Толком не знаю, — сказал он честно. — Зависит от того, сколько продлится ремонт.
— А что испортилось?
— О, мы налетели на какую-то штуку, которая оказалась чересчур велика для нашего защитного экрана, принимающего удары метеоритов. Бум! — и конец нашему экрану. Так что придется изготовить новый.
— Думаете, что это можно сделать здесь?
— Надеемся. Главная трудность — это поднять около миллиона тонн воды к «Магеллану». Хорошо, что Таласса свободно может пожертвовать этим миллионом тонн.
— Воды? Непонятно.
— Вы, конечно, знаете, что звездолет несется со скоростью, близкой к световой. И все-таки нужны годы и годы, чтобы попасть куда-нибудь, так что приходится прибегать к гибернации, предоставляя управление кораблем автопилотам.
Лора кивнула головой — разумеется, именно таким образом и добирались сюда ее предки.
— Скорость не проблема, если б космос был действительно пуст, но это не так. Каждую секунду полета корабль сталкивается с тысячами атомов водорода, частицами пыли, а иногда и крупными обломками. При субсветовой скорости весь этот космический лом бьет по звездолету с огромной энергией и может попросту сжечь его. Поэтому примерно в одной миле впереди нас движется щит, он-то постепенно и сгорает вместо корабля. Существуют в вашем мире зонтики?
— Ну да, — протянула Лора, озадаченная этим непоследовательным вопросом.
— Тогда звездолет можно сравнить с человеком, который шагает под ливнем, опустив голову и прикрывшись зонтиком. Дождь — это космическая пыль в межзвездных пространствах: нашему кораблю не повезло, и он потерял зонтик.
— И вы можете сделать новый из воды?
— Да, это самый дешевый строительный материал во Вселенной. Мы замораживаем ее, превращаем в айсберг и посылаем его впереди корабля. Что может быть проще?
Лора не ответила. Мысли ее пошли, видимо, по новому пути. Потом она сказала так тихо и невнятно, что Леону пришлось наклониться, чтобы расслышать ее слова, заглушаемые шумом прибоя.
— И вы покинули Землю сто лет назад?
— Сто четыре. Разумеется, нам кажется, что это было всего несколько недель тому назад, потому что все мы были погружены в глубокий сон, пока автопилот не разбудил нас. Все колонисты находятся еще в состоянии гибернации. Они не знают, что случилось с кораблем.
— И вы скоро присоединитесь к ним, заснете и будете спать всю дорогу к звездам?
Леон кивнул головой, стараясь не смотреть ей в глаза.
— Да, это так. Высадка на планету задержится на несколько месяцев, но какое это имеет значение для путешествия, длящегося триста лет?
Лора повела рукой, показывая на остров, расстилавшийся за ними, потом на безбрежное море, у которого они стояли.
— Так странно, что ваши спящие друзья там, наверху, ничего этого не увидят. Мне жаль их.
— Да, только мы, пятьдесят инженеров, сможем вспомнить Талассу. Все остальные, там, в звездолете, узнают о нашей остановке только из записи в судовом журнале, притом вековой давности.
Он взглянул на Лору и увидел, что лицо ее стало печальным.
— Почему это вас огорчает?
Она покачала головой, не в состоянии ответить. Как выразить чувство одиночества, разбуженное в ней словами Леона? Жизнь людей, их надежды, их страхи значат так мало по сравнению с невообразимыми пространствами, которые они осмеливаются преодолевать. Ее ужасала мысль об этом трехсотлетием путешествии, не завершенном еще и наполовину. А ведь в ее жилах текла кровь пионеров, тех, кто достиг Талассы таким же путем несколько веков назад.
Ночь перестала быть другом. Лоре вдруг захотелось домой, в тепло семьи, в маленькую комнатку. Все, что там находится, принадлежит Лоре, это и есть тот знакомый мирок, который ей нужен. Холод космоса замораживал ее сердце. Теперь она уже жалела о своем безумном поступке. Лора, давно пора уходить.
Они поднялись, и Лора с изумлением заметила, что лодка, на которой они сидели, была лодкой Клайда. Лоре подумалось: странно, что она невольно пришла именно к этому суденышку, хотя вдоль берега вытянулся такой ряд лодок, что из них составилась бы целая флотилия. При мысли о Клайде ее охватило чувство неуверенности, даже какой-то вины. Ни разу в жизни она не думала ни об одном мужчине, кроме него, разве что случайно, на мгновение. Теперь она не могла притворяться перед собой.
— Что с вами? — спросил Леон. — Вам холодно? — Он протянул ей руку. Лора бессознательно повторила его жест, и пальцы их впервые встретились. Она рванулась в сторону, как испуганное животное.
— Нет, все о’кей, — ответила она почти сердито. — Просто поздно, мне пора домой. До свидания!
Ее порывистость, внезапно холодный тон поразили Леона. Неужели он сказал ей что-нибудь обидное?
— Я еще увижу вас? — спросил он вдогонку быстро удалявшейся девушке.
Если она и ответила, то шум прибоя заглушил слова. Он смотрел ей вслед. Удивленный, слегка обиженный, он раздумывал, и не впервые в жизни, над тем, как трудно понять женщину.
Хотел было догнать ее и повторить вопрос, но что-то подсказывало ему, что в этом нет надобности. Они встретятся вновь — это так же верно, как то, что завтра взойдет солнце.
Над жизнью острова царил теперь раненый гигант, повисший в космосе на высоте в полторы тысячи километров.
После заката и перед рассветом, когда мир погружался во мрак, которого не могли преодолеть лучи солнца, «Магеллан» сверкал на небе, подобно яркой звезде — самой яркой из всех светил, если не считать, разумеется, двух лун. Но и тогда, когда он становился невидимым в свете дня или когда на него наползала тень Талассы, звездолет стоял перед глазами жителей.
Было трудно поверить, что только пятьдесят человек, разбуженных из всего состава команды (к тому же не более половины их находилось на Талассе одновременно), могли до такой степени оказываться повсюду. Космонавты вечно куда-то бежали группами по два-три человека, а если не бежали, то летели на маленьких антигравитационных скутерах, проносились так бесшумно и так низко над землей, что жить в селении стало просто опасно. Несмотря на самые настойчивые приглашения, гости не принимали пока никакого участия в культурной и общественной жизни острова. Они вежливо, но твердо объяснили, что, пока не обеспечат безопасность дальнейшего пути корабля, у них ни на что не будет времени. Потом — разумеется, но не сейчас…
И вот Талассе пришлось набраться терпения и ждать, пока земляне устанавливали свои приборы, производили съемки, глубоко бурили горные породы и ставили десятки опытов, не имевших, казалось, никакого отношения к их задаче. Иногда они проводили краткие совещания с учеными самой Талассы, но обычно держались в своем кругу. Не то чтобы они проявляли недружелюбие или чуждались островитян. Просто земляне тру-лились с таким яростным и целеустремленным напряжением, что никого и ничего вокруг не замечали.
Прошло два дня с первой встречи, прежде чем Лора снова заговорила с Леоном. Иногда она видела его быстро шагающим по селению, в руках он тащил туго набитый портфель. Лицо было озабоченным. При встрече они обменивались только мимолетными улыбками. Но и этого было достаточно, чтобы привести ее в смятение, лишить равновесия, отравить отношения с Клайдом.
С тех пор как она себя помнила, Клайд был частью ее жизни: бывало, что они ссорились, иногда спорили, но никогда никто не посягал на то место, которое он занимал в ее сердце. Она собиралась через несколько месяцев выйти за него замуж, но теперь отнюдь не была уверена даже и в этом, да и вообще ни в чем не была уверена.
«Потеряла голову» — недобрые слова, которые ей до сих пор доводилось относить только к другим. Но как еще назвать это стремление быть с человеком, который ворвался в ее жизнь внезапно, ниоткуда и оставит ее через несколько дней или недель? Конечно, ее влечение к нему можно отнести на счет его романтического происхождения, но это мало что объясняет. Среди землян были люди и покрасивее Леона, но она видела лишь его и жизнь могла иметь смысл только подле него.
К концу первого дня о чувствах Лоры догадались только в ее семье, к исходу второго каждый встречный понимающе улыбался ей. В такой тесной, жадной до новостей общине, как Палм-Бэй, невозможно было хранить что-либо в секрете. Лора понимала, что и пытаться не стоит.
Вторая ее встреча с Леоном была случайной — в той мере, в какой такие вещи вообще могут быть случайными. Она помогала отцу отвечать на письма и запросы, потоком хлынувшие в Палм-Бэй после прибытия землян, и как раз разбиралась в своих записях, когда дверь кабинета открылась. За последние дни она отворялась так часто, что Лора уже перестала оглядываться; приемом посетителей ведала младшая сестра, она и встречала их. И вдруг Лора услышала голос Леона. Строчки заплясали перед глазами, она перестала понимать, что читает, казалось, все это написано на чужом языке.
— Могу я видеть мэра?
— Разумеется, мистер?..
— Помощник корабельного инженера Карелл.
— Я позову его. Садитесь, пожалуйста.
Леон устало опустился в старинное кресло — лучшее из того, что могла предложить нечастым посетителям приемная мэра, и только тогда заметил, что Лора молча смотрит на него с другого конца комнаты. Усталость слетела с него, он вскочил с кресла:
— Хэлло, я не знал, что вы работаете здесь.
— Я живу здесь. Мэр — мой отец.
Это важное сообщение, видимо, не произвело особого впечатления на Леона. Он подошел к письменному столу и взял в руки толстенную книгу, которую Лора читала, урывая время от своих секретарских обязанностей.
— «Краткая история Земли, — прочел он. — От зарождения цивилизации до начала эпохи межзвездных полетов». И все это на какой-то тысяче страниц! Жаль, что она заканчивается за три сотни лет до наших дней.
— Надеемся, что вы скоро дополните ее. С тех пор как книга написана, произошло много событий?
— Достаточно, чтобы заполнить примерно пятьдесят библиотек. Прежде чем покинуть Талассу, мы оставим вам копии всех наших летописей, так что ваши учебники истории будут отставать от жизни всего лишь на сто лет.
Они словно ходили вокруг да около единственной важной для них темы: когда мы увидимся снова? Мысли Лоры метались, молотком стучали в виски и не могли превратиться в слова. Что это? Нравлюсь я ему? Или это любезный разговор воспитанного человека?
Отворилась внутренняя дверь, и из своего кабинета в приемную вышел мэр.
— Сожалею, что заставил вас ждать, мистер Карелл, — извинился он, — но на проводе был президент — он прибудет сегодня после полудня. Чем могу быть полезен?
Лора изо всех сил делала вид, что работает, но, пока Леон излагал послание капитана «Магеллана», напечатала восемь раз одну и ту же фразу. Впрочем, когда он умолк, она знала немногим больше, чем до того, как он начал говорить. Кажется, речь шла о том, что инженеры со звездолета хотели построить какую-то установку на мысе примерно в полутора километрах от селения. Им нужно было лишь получить согласие мэра.
— О, конечно, — с чувством ответил мэр Фордайс, всем своим видом давая понять, что для гостей он готов на все. — Действуйте, этот участок никому не принадлежит, там никто не живет. А что именно собираетесь вы там сделать?
— Мы сооружаем антигравитационное устройство, и генератор необходимо закрепить в скале. Возможно, что, когда он начнет действовать, на первых порах будет немного шумно, но я не думаю, чтоб этот шум очень мешал жителям селения. Разумеется, как только все будет кончено, мы демонтируем установку.
Лора невольно восхитилась выдержкой отца. Она прекрасно знала: отец мало что понял в просьбе Леона, так же как она сама, но, глядя на него, никто не догадался бы об этом.
— Что ж, чудесно — рады помочь, чем можем. Не будете ли вы добры сообщить капитану Голду, что президент прибывает сегодня в пять часов пополудни? Я пошлю за ним свою машину. Прием состоится в пять тридцать в зале собраний Палм-Бэя.
Когда Леон, поблагодарив мэра, вышел, Фордайс подошел к дочери и взял в руки тоненькую пачку писем, которые она перепечатала, возможно, не слишком точно.
— Он кажется приятным, этот молодой человек, — сказал мэр, — но благоразумно ли слишком увлекаться им?
— Не понимаю, что ты имеешь в виду.
— Что ты, Лора! Я ведь все-таки твой отец и не совсем лишен наблюдательности.
— Он, — тут Лора заносчиво фыркнула, — ничуточки не интересуется мной.
— А ты? Интересуешься им?
— Сама не знаю. О, папочка, я так несчастна!
Мэр Фордайс не был храбрецом. Он сделал все, что мог, — пожертвовал своим носовым платком и укрылся в кабинете.
Перед Клайдом впервые в жизни встала проблема, к решению которой он не знал как и подступиться, к тому же тут не могли помочь никакие прецеденты — их попросту не было. Всем известно, что Лора — его девушка. Если бы его соперником оказался кто-нибудь из парней селения или любой другой местности Талассы, Клайд не сомневался бы, как ему надлежит действовать. Но закон гостеприимства и прежде всего тот восхищенный трепет, который, естественно, внушало все связанное с Землей, мешали ему вежливо попросить Леона обратить свои взоры в другую сторону. Ему это было бы не впервой, и до сих пор подобные объяснения проходили без всяких затруднений. Возможно, потому, что рост Клайда превышал сто восемьдесят сантиметров, ширина плеч соответствовала росту и при весе в сто килограммов во всем его теле не было и грамма лишнего жира.
За долгие часы, которые он проводил теперь в море, не столько занимаясь рыбной ловлей, сколько предаваясь грустным размышлениям, Клайд тешил себя мечтами о короткой, решительной схватке с Леоном. Она отняла бы немного времени, потому что Леон хоть и не выглядел таким тощим, как все эти земляне, но был тоже бледный и утомленный, как и они. Куда ему тягаться с Клайдом, человеком, привыкшим к физической нагрузке. Но тут-то и беда: такую схватку нельзя назвать честной игрой. Клайд прекрасно понимал, что в случае драки с Леоном общественное мнение Талассы окажется не на его стороне, как бы прав он ни был.
А прав ли он действительно? Этот мучительный вопрос тревожил Клайда, как тревожил бесчисленное множество мужчин до него. Леон стал в доме мэра совсем своим; всякий раз как Клайд заходил к Фордайсам, он заставал там землянина, явившегося под каким-нибудь предлогом. Клайд никогда прежде не страдал от ревности, и симптомы ее отнюдь не доставили ему удовольствия.
Но воспоминание о бале все еще бесило его. Бал этот был самым крупным событием в светской жизни селения за много лет. Едва ли в истории Палм-Бэя повторится что-либо подобное. Чтобы в селении одновременно оказались президент Талассы, половина совета и пятьдесят гостей с Земли — такое вряд ли случится еще раз по сю сторону вечности.
Несмотря на свой рост и мощь тяжеловеса, Клайд был хорошим танцором — особенно в паре с Лорой. Но в тот вечер у него почти не было шансов доказать это: Леон слишком усердно показывал ей фигуры новых ганцев Земли (новых, если не принимать во внимание, что на Земле увлекались ими сто лет назад, хотя, впрочем, мода на них могла возродиться, и тогда эти танцы и впрямь последняя новинка сезона). По мнению Клайда, техника Леона никуда не годилась, танцы были уродливы, а интерес, который проявляла к ним Лора, просто смехотворен.
У него не хватило ума промолчать, и он, как только представилась возможность, тут же выложил все Лоре. И это быт последний танец, который он танцевал с ней в тот вечер. С этого момента Лора попросту не замечала его, как будто он совсем не приходил на бал. Он терпел этот бойкот, сколько хватило сил, а затем отправился в бар с совершенно определенной целью. Цели он достиг довольно быстро и только на следующее утро, проспавшись, узнал, как много потерял.
Танцы закончились рано. Потом президент произнес короткую речь — третью за вечер. Он представил собравшимся командира звездолета и обещал им небольшой сюрприз. Капитан Голд оказался столь же лаконичен: сразу было видно, что это человек, привыкший командовать, а не ораторствовать.
— Друзья, — начал он, — вы знаете, почему мы здесь, и мне незачем говорить вам, как высоко ценим мы ваше гостеприимство и любезность. Мы вас никогда не забудем и жалеем лишь о том, что у нас не хватило времени для более тесного знакомства с вашим чудесным островом и его жителями. Я надеюсь, вы простите нам многое, что могло показаться невниманием или невежливостью с нашей стороны. Мы были слишком заняты, все наше время было отдано ремонту корабля, а помыслы — безопасности наших спутников.
В конечном счете несчастный случай, приведший нас сюда, может оказаться счастливым для обеих сторон. Эта встреча укрепила наш дух, мы увезем с собой наилучшие воспоминания. То, что мы видели здесь, послужит нам примером. Да станет тот мир, который ждет нас в конце путешествия, такой же прекрасной родиной человека, в какую вы превратили Талассу.
Прежде чем вновь отправиться в путь, мы сочтем приятным долгом передать вам все материалы, которые помогут заполнить пробел в ваших знаниях из-за длительного отсутствия контакта с Землей. Мы приглашаем историков и других ученых Талассы посетить завтра наш корабль, мы предоставим им возможность скопировать любые из лент, содержащих информацию. Надеемся, что оставленное нами наследство обогатит многие поколения жителей вашего мира. Это максимум того, что мы можем сделать.
Но сегодня вечером история и иные науки пусть подождут. У нас есть и другие сокровища. За века, протекшие с тех пор, как ваши предки покинули планету-мать, жители Земли создали много прекрасного. И эти творения мы оставим Талассе, прежде чем отправимся в путь. Внемлите же теперь!
Огни померкли, заиграла музыка. И все, кто был в зале, понимали, что никогда не забудут этого мгновения. Оцепенев, слушала Лора созвучия, рожденные людьми за века разлуки. Время было побеждено, его не существовало. Она даже не замечала, что Леон, стоявший рядом, взял ее за руку, — поток музыки нес их обоих.
Она никогда не слыхала ничего подобного — это принадлежало всей Земле и ей одной. Гул колоколов медленно поднимался над шпилями старинных соборов и медленно таял в вышине; пели терпеливые лодочники, гребя домой наперекор волнам при последних лучах заходящего солнца, — пели на тысяче языков, теперь забытых навсегда; гремели марши армий, идущих сражаться, но их ярость и боль уже умиротворило время; звучали приглушенные голоса десятимиллионных городов, просыпающихся на рассвете; вставала неподвижная, холодная пляска северного сияния над бесконечными пустынями льда; ревели могучие двигатели, вздымая огромные корабли к звездам. Все это слышала Лора в музыке и песнях, принесенных из ночи, — песнях далекой Земли, дошедших до нее через световые годы…
Чистое сопрано, то парящее высоко-высоко, как птица, на пределе слышимости, то устремляющееся вниз, к земле, вело жалобу без слов, раздирая сердца слушателей. Это была погребальная песня любви, утраченной людьми в пустыне космоса, отпевание друзей и родного дома, воспоминание о которых в конце концов должно изгладиться из памяти, потому что космонавты никогда больше не увидят их. Это была песня, обращенная ко всем покинувшим Землю, одинаково внятная и тем, кого отделяли от родной планеты двенадцать колен, и тем скитальцам, которым казалось, что они покинули ее города и поля всего несколько недель назад.
Музыка утонула во мраке. С незрячими от слез глазами жители Талассы начали молча расходиться. Но Лора не пошла домой. Для нее существовала одна-единственная зашита от пронзительного одиночества. И она обрела эту защиту в теплом мраке леса, в кольце рук Леона. Подобно путникам, затерянным во враждебных дебрях, они искали тепла и утешения у костра любви. Пока он пылал, были не страшны ночные тени. Вселенная, со всеми звездами и планетами, стала безобидной игрушкой в их ладонях.
Леон никак не мог осознать до конца, что все происходящее реально. Несмотря на опасность, занесшую его сюда и потребовавшую такого напряжения всех сил, ему то и дело казалось, что в конце путешествия Таласса станет лишь сном, приснившимся в долгую ночь. И ему никогда не удастся проверить, было ли все так или не было. А эта страстная и обреченная любовь — он не просил о пей, она сама пришла к нему. Но у кого, говорил он себе, достало бы сил отказаться от нее на этой мирной приветливой планете после тревог, не отпускавших ни на минуту столько недель.
Когда ему удавалось оторваться от дел, он подолгу гулял с Лорой в полях, вдали от селения — там редко появлялись люди и тишину нарушали лишь роботы, обрабатывавшие пашни. Часами Лора расспрашивала его о Земле — и никогда о планете, к которой направлялся «Магеллан». Леон понимал, почему это так, и не уставал рассказывать ей о мире, который называли «родным домом» не только жители Земли, но и множество людей, никогда его не видевших.
Лора была жестоко разочарована, узнав, что эпохе городов давно пришел конец. Напрасно рассказывал ей Леон о децентрализованной цивилизации, которая распространилась теперь на всю планету — от полюса до полюса. Думая о Земле, Лора по-прежнему представляла себе только города-гиганты, такие как Чандригар, Лондон, Астроград, Нью-Йорк. И ей никак не верилось, что они исчезли навсегда вместе с образом жизни, символом которого служили.
— Когда мы покидали Землю, — объяснял Леон, — самыми крупными населенными пунктами были университетские города вроде Оксфорда, Анн-Арбора или Канберры. Некоторые из них насчитывают по пятьдесят тысяч студентов и профессоров. На Земле не осталось других городов, имеющих хотя бы половину их населения.
— Но что произошло с ними?
— О, тут действовала не одна причина. Началось с развития средств связи. Как только каждый житель Земли получил возможность слышать и видеть любого с помощью простого нажатия кнопки, надобность в городах в основном исчезла. А с изобретением антигравитации оказалось совсем нетрудным передвигать по небу товары или дома, не беспокоясь о географии. Это завершило покорение пространства, начатое самолетом несколькими веками ранее. Люди стали жить, где кому нравится, и города ушли в прошлое.
Лора не сразу заговорила. Она лежала на дерновой скамье, следя за пчелой, предки которой, так же как и ее собственные, были уроженцами Земли. Пчела безуспешно пыталась извлечь нектар из цветка, принадлежавшего к растительному миру самой Талассы. На этой планете еще не появлялись собственные насекомые, и немногочисленные разновидности местных цветов пока не изобрели приманок для воздушных гостей.
Неудачница-пчела отказалась от безнадежных попыток и улетела, сердито жужжа. Лора надеялась, что у нее хватит здравого смысла повернуть к фруктовым садам, где она найдет более отзывчивые цветы. Когда наконец девушка заговорила, она высказала мечту, которая прельщала человечество целое тысячелетие.
— Как ты думаешь, — задумчиво спросила она, — удастся ли нам когда-нибудь пробиться сквозь световой барьер?
Леон улыбнулся, понимая, куда ведут ее мечты. Летать быстрее света означало возможность посещать Землю, а затем возвращаться в тот мир, где ты родился, и находить друзей еще живыми — об этом хоть когда-нибудь да грезил каждый колонист.
Во всей истории человечества не было проблемы, на решение которой потрачено столько усилий — увы! — совершенно безрезультатно.
— Не думаю, — сказал он. — Если б была хоть малейшая возможность, кто-нибудь додумался бы, как надо поступить. Нет, приходится идти длинным путем, потому что короткого нет. Так построена Вселенная, и с этим уже ничего не поделать.
— Но можно ведь по крайней мере поддерживать связь?
Леон кивнул.
— Это верно, — сказал он, — мы стараемся. Не знаю, что стряслось, — вы давно уже должны были получить вести с Земли. Мы отправляем во все наши колонии роботов с подробной историей всего происшедшего на Земле до момента их отлета и с просьбой прислать тем же путем отчет о событиях на той планете. Когда информация прибывает на Землю, ее размножают и отсылают со следующим автокурьером. Так мы наладили нечто вроде межзвездной службы информации с центром на Земле. Конечно, она работает медленно, но иных возможностей нет. Если последний автокурьер, посланный на Талассу, пропал, то вслед за ним лет через двадцать — тридцать должны были послать следующего.
Лора попыталась представить себе обширную информационную сеть, охватывающую звездные системы, автокурьеров, снующих между Землей и ее рассеянными по Вселенной детьми, и удивилась, как это позабыли о Талассе. Но сейчас, когда рядом с ней был Леон, все казалось неважным. Он здесь, а Земля и звезды далеко. Далеко было и до завтра, какие бы беды оно ни сулило…
К концу недели на вдававшемся в море скалистом мысе пришельцы построили приземистую, прочно укрепленную пирамиду из металлических ферм. Внутри помещался какой-то таинственный механизм. Лора и остальные 571 житель Палм-Бэя да еще несколько тысяч приезжих талассцев наблюдали за первым испытанием. Впрочем, ближе чем на 400 метров подходить к сооружению запрещаюсь — предосторожность, вызвавшая нема!ую тревогу среди тех островитян, которые обладали не слишком крепкими нервами. Хорошо ли знают земляне, что делают? Неровен час, что-нибудь случится… Да и что именно они там задумали?
Леон вместе со своими друзьями что-то делал внутри металлической пирамиды. Шли последние приготовления. «Приближенное фокусирование», — как объяснил он Лоре, кратко, но невразумительно. Лора, как и все другие островитяне, охваченная тревогой непонимания, следила издали за землянами. Вот они покинули свое сооружение, направились к краю скалы, на которой оно было воздвигнуто, и остановились, глядя вдаль. Силуэты маленькой группы людей четко вырисовывались на фоне океана.
В миле от берега с водой творилось нечто странное. Казалось, что там начинается шторм, однако на совсем небольшом участке, радиусом всего лишь в несколько сот метров. Там рождались высокие, как горы, волны, сшибались и уничтожали друг друга. Скоро зыбь достигла берега, но центр замкнутого шторма оставался все там же. Лоре представилось: какой-то огромный невидимый палец невидимой руки опустился с неба и помешивает море.
И вдруг что-то изменилось. Теперь волны больше не сталкивались, они шагали в ногу, двигаясь по кругу все быстрее и быстрее. Из моря родился водяной конус. С каждой секундой он становился все выше и тоньше. Вот он вырос уже метров на тридцать и все тянется вверх. Сердитый рев этого новорожденного младенца сотрясал воздух, вселяя ужас в сердца всех, кто его слышал. Всех, кроме маленькой группы людей, вызвавших к жизни это чудовище из глубин и теперь глядевших на него со спокойной уверенностью. Огромные волны разбивались уже почти у их ног, но они не обращали на них внимания.
А крутящийся водяной столб между тем пробил тучи, как стрела, направленная в космос. Его покрытая пеной вершина исчезла, и с неба обрушились потоки дождя. Капли были крупные, как перед грозой. Верно, не вся вода, устремившаяся вверх, достигала цели, часть ее, избежав действия силы, управлявшей смерчем, низвергалась с границы космоса.
Толпа зрителей стала медленно расходиться. Удивление и испуг улеглись, талассцы просто приняли к сведению случившееся. Люди научились управлять силой тяжести полтысячи лет назад, и этот фокус — как бы эффектен он ни был — не шел ни в какое сравнение с таким чудом, как полет огромного звездолета от солнца к солнцу с субсветовой скоростью.
Земляне уже возвращались к своему сооружению, явно довольные тем, что сделали. Даже на таком расстоянии можно было прочесть удовлетворение и спокойствие на их лицах — быть может, впервые с тех пор, как они высадились на Талассе. Вода для нового щита «Магеллана» была на пути в космос, а там иные силы, покорные слуги этих людей, превратят ее в лед, придав нужную форму. Через несколько дней они полностью подготовятся к дальнейшему полету, а их огромный межзвездный ковчег будет как новенький.
До сих пор Лора втайне надеялась, что землян постигнет неудача. Но сейчас, когда искусственный смерч поднялся из моря на ее глазах, от надежды не осталось и следа. Она не отводила глаз от водяного столба — он слегка покачивался, основание его перемещалось то вперед, то назад, словно подчиняясь действию невидимых могущественных сил. Но силы эти управлялись людьми, которые непременно выполнят то, что задумали. Для Лоры это значило только одно: скоро она скажет Леону «прощай».
Она медленно направилась к группе землян, пытаясь привести в порядок свои мысли и овладеть чувствами. Увидев Лору, Леон отделился от друзей и пошел навстречу девушке. У него было лицо человека, испытывающего радость и облегчение, но радость быстро померкла, когда он разглядел лицо Лоры.
— Итак, — сказал он виновато, как уличенный в озорстве школьник, — мы это сделали.
— И теперь скоро… Сколько еще вы Здесь пробудете?
Он нервно водил носком ботинка по песку, боясь встретиться с ней взглядом.
— Дня три, может быть четыре.
Лора старалась спокойно принять его слова. Ведь она ждала этого — ничего нового она не услышала. Но не смогла, хорошо еще, что рядом с ними никого не было.
— Ты не должен улетать! — закричала она в отчаянии. — Останься здесь, на Талассе!
Леон нежно взял ее руки в свои и тихо заговорил:
— Нет, Лора, это не мой мир. Я никогда не сживусь с ним. Половина моей жизни ушла на подготовку к тому, что я сейчас делаю. Здесь, где нет больше неосвоенных просторов, я никогда не смогу быть счастливым. Через месяц умру со скуки.
— Тогда возьми меня с собой!
— Неужели ты говоришь это серьезно?
— Да, серьезно.
— Тебе только так кажется. В моем мире ты будешь чувствовать себя еще более чуждой, чем я в твоем.
— Я научусь, я смогу многое сделать. Только бы быть вместе с тобой.
Он положил ей руки на плечи и, глядя в ее глаза, читал в них искреннюю скорбь. «Да, она верит в то, что говорит», — сказал себе Леон. Он не думал или не хотел думать, как много значит для женщины чувство, гораздо больше, чем для мужчины.
Он совсем не хотел обидеть Лору. Он очень привязался к ней и был уверен, что будет всю жизнь вспоминать девушку с нежностью. Но теперь ему довелось узнать, как и многим мужчинам до него, что иногда не так-то легко сказать «прощай».
Оставалось только одно — лучше мгновенная боль, чем долгое страдание.
— Идем со мной, Лора, — сказал он. — Ты все увидишь сама.
Они молча направились к расчищенному участку леса, который служил землянам посадочной площадкой. Повсюду были разбросаны части и детали какого-то непонятного оборудования. Земляне упаковывали некоторые из них, другие откладывали, чтобы оставить талассцам. В тени пальм виднелось несколько антигравитационных скутеров. Они и в бездействии не соприкасались с почвой и висели в воздухе в нескольких сантиметрах над травой.
Леон прошел мимо скутеров и решительно зашагал к светящемуся мягким овалом летательному аппарату, возвышающемуся над участком. Он что-то сказал инженеру, стоявшему подле аппарата. Тот, по-видимому, возразил, по после короткого спора капитулировал.
— Он еще не полностью загружен, — объяснил Леон, помогая Лоре подняться по трапу. — Но мы все-таки полетим. Ведь через полчаса вернется второй подкидыш.
Лора очутилась в неведомом ей мире — в мире техники, которая поставила бы в тупик самых талантливых инженеров и ученых Талассы. На острове имелись все машины, необходимые для жизни в довольстве. Но то, что окружало ее сейчас, было за пределами постижимого для жителей Талассы. Лора надела однажды большую кибернетическую машину, которой фактически было вверено управление делами планеты. Предложенные ею решения приходилось отвергать, пожалуй, не чаще, чем один раз за жизнь целого поколения. Гигантский мозг был огромен и сложен, а машина землян отличалась устрашающей простотой, которая поразила даже далекий от техники ум Лоры. Леон сел перед смехотворно маленькой приборной панелью. Казалось, что руки молодого инженера лишь праздно касаются этой панели, он ничего как будто не сделал.
Но стены стали вдруг прозрачными, и Лора увидела под собой Талассу, которая становилась все меньше и меньше. Лора не чувствовала движения, не слышала никаких звуков, даже шороха, но остров таял у нее на глазах. Туманный горизонт — большой изгиб, отделявший голубизну моря от бархатистой черноты неба, — становился круче с каждой секундой.
— Посмотри, — сказал Леон, указывая на звезды.
Уже можно было разглядеть корабль, и Лора почувствовала разочарование от того, что он совсем невелик. Иллюминаторы сгруппировались лишь в центральной части, весь же остальной приземистый и угловатый корпус корабля казался сплошным.
Иллюзия длилась не более секунды. Затем на нее налетел вихрь новых ощущений и оглушил ее. Ей пришлось удостовериться, что собственные глаза обманули ее. То, что она видела, были не иллюминаторы — ведь до корабля оставалось еще много километров, а люки шлюзовых камер для приема подкидышей, поддерживавших сообщение между звездолетом и Талассой.
В космосе человека покидает чувство перспективы, на любом расстоянии все предметы имеют ясные и четкие очертания.
Даже когда они приблизились к корпусу корабля — изогнутой бесконечной стене из металла, заслонившей своей громадой звезды, — Лора ничего бы не могла сказать об истинных размерах звездолета. Ей показалось, что стена тянется километра на полтора.
Подкидыш пришвартовался к кораблю без всякого видимого участия Леона. Лора вышла за ним через маленькую рубку, где помещался пост управления. Тотчас же открылся воздушный шлюз, и она с удивлением обнаружила, что они движутся уже по проходу в корпусе самого звездолета.
Это был длинный коридор круглого сечения, простиравшийся в обе стороны, насколько хватало глаз. Пол двигался под ее ногами быстро и бесшумно; удивительно, что она не заметила, как ступила на эту бесконечную ленту транспортера, несшую ее теперь по кораблю, — ведь не было даже толчка. Эту загадку она не могла себе объяснить; впрочем, за время осмотра «Магеллана» Лора повидала еще немало чудес.
Прошло не меньше часа, прежде чем им попался навстречу кто-то из команды. За их спиной уже лежало много километров странствий по кораблю. Их то несли движущиеся коридоры, то поднимали вверх длинные трубы, в которых отсутствовала сила тяжести. Лора понимала, чего хочет Леон: он решил показать ей, как велик и сложен искусственный мир, созданный для того, чтобы нести к звездам зерна новой цивилизации.
Одно лишь машинное отделение с его спящими в своих кожухах чудовищами из металла и хрусталя простиралось более чем на пятьсот метров. Когда они стояли на балконе, высоко над этой ареной дремлющей сейчас мощи, Леон гордо, хоть, может, и не совсем точно, сказал: «Это мои». Лора смотрела вниз на гигантские, непонятные ей конструкции, пронесшие Леона через световые годы, и не знала, благословлять ли ей их за то, чем они ее одарили, или, наоборот, проклинать за то, что вскоре отнимут.
Они быстро миновали большие, похожие на пещеры трюмы, заполненные машинами, аппаратами и припасами — все это понадобится потом, при освоении девственной планеты, чтобы сделать ее достойным пристанищем человека. На целые километры тянулись стеллажи с сокровищами земной культуры, они хранились запечатленными в магнитофонных записях и микрофильмах или в ином, еще более компактном виде. В хранилище Лора и Леон встретили группу экспертов с Талассы; они пребывали в некоторой растерянности, потому что никак не могли решить, что же именно из этих сокровищ им разграбить теперь, когда до отлета корабля осталось всего несколько часов.
Лора думала, были ли ее предки так же хорошо оснащены, когда совершали свое путешествие через космос. Вряд ли. Их корабль был куда меньше, да к тому же со времени освоения Талассы земляне должны были приобрести больший опыт колонизации звездных миров. Когда спящие пассажиры «Магеллана» достигнут своей новой родины, они, конечно, добьются успеха, разумеется, если их дух и воля находятся на столь же высоком уровне, что и материальное оснащение корабля.
Вот они приблизились к большой белой двери, и она бесшумно растворилась перед ними. За дверью оказалось помещение, которое никак не вязалось с представлениями Лоры о космическом корабле. Это была гардеробная с вешалками, где висели одежды из густого меха. Леон помог Лоре облачиться в одно из этих одеяний, потом оделся и сам. Ничего не понимая, она последовала за ним к вделанному в пол кругу из матового стекла. Леон повернулся к ней и сказал:
— Там, куда мы сейчас попадем, нет силы тяжести. Держись ближе ко мне и в точности делай все, что я скажу.
Хрустальная крышка люка приподнялась, как стекло на циферблате часов, и из глубины потянуло таким холодом, какого Лора даже представить себе не могла и, разумеется, никогда не испытывала. В ледяном воздухе вокруг них, клубясь, как призраки, затанцевали облачка пара. Она взглянула на Леона, словно спрашивая: «Неужели ты хочешь, чтобы я пошла туда?»
Он успокаивающе взял Лору за руку и сказал:
— Не тревожься, через несколько минут ты привыкнешь к холоду. Я спущусь первым.
Трап поглотил его. Чуть поколебавшись, Лора спустилась вслед за ним. Спустилась? Нет, сказать так было бы неправильно; понятия «вверх» и «вниз» здесь не существовали. Здесь царила невесомость, и Лора свободно парила в этом холодном белоснежном мире. Куда ни глянь, блестели стеклянные соты — тысячи и десятки тысяч шестиугольных ячеек, оплетенных трубками и проводами. Каждая ячейка могла вместить человеческое тело.
И так оно и было. Вокруг спали тысячи колонистов, для которых Земля все еще оставалась воспоминанием о вчера. О чем грезили они, отмерив менее половины своего трехсотлетнего сна? Да и могли ли грезить в этой туманной ничьей стране, между жизнью и смертью?
Вдоль рядов сот тянулись узкие бесконечные ленты с прикрепленными примерно через каждый метр скобами. Леон ухватился за одну из них и быстро поплыл вместе с Лорой мимо огромной мозаики из шестиугольников. Дважды они меняли ленты, а с ними и направление, пока не оказались метрах в пятистах от точки, с которой начали осмотр.
Леон отпустил поручень, и они повисли в воздухе рядом с ячейкой, ничем не отличавшейся от множества других. Но, увидев лицо Леона, Лора поняла, зачем он привел ее сюда, и почувствовала, что проиграла сражение.
Черты женщины, парившей в хрустальном гробу, не были прекрасными, но отражали решительность и ум. Вековой сон не стер с этого лица выражения энергии и находчивости. Это было лицо первооткрывателя, подруги, способной стать рядом с мужем и вместе с ним сражаться тем сказочным оружием, которое наука вложила в руки, за создание новой Земли среди звезд.
Не замечая холода, Лора долго вглядывалась в спящую соперницу, которая никогда не узнает о ее существовании. Неужто за всю историю мира когда-нибудь еще существовала любовь, закончившаяся в столь странном месте, думала она.
Наконец Лора заговорила вполголоса, словно боясь потревожить спящих:
— Твоя жена?
Леон кивнул:
— Мне очень жаль, Лора. Я не хотел причинить тебе боль.
— Теперь это уже неважно. Я сама виновата.
Она помолчала и, всмотревшись еще пристальнее в спящую, спросила:
— Ты будешь отцом?
— Да, он родится через три месяца после посадки.
Как трудно представить себе беременность, которая продлится девять месяцев и триста лет! Что ж, в том мире, где, как теперь поняла Лора, для нее не оставалось места, все возможно.
Эти терпеливые сонмы спящих будут сниться ей всю жизнь. Когда люк наконец закрылся за Лорой и тепло вернулось в тело, она от всей души пожелала, чтобы холод, сковавший сердце, отпустил его так же быстро. Быть может, со временем так и будет. Но до этого пройдет много дней и одиноких ночей.
Она не запомнила обратный путь через лабиринт коридоров и гулких помещений и удивилась, очутившись снова в каюте маленького подкидыша, который доставил их с Талассы. Леон подошел к приборной панели, что-то подрегулировал, но садиться не стал.
— Прощай, Лора, — сказал он — Моя работа на Талассе закончена. Будет лучше, если я останусь здесь.
Он взял ее руки в свои. В эти последние минуты, когда они еще были вместе, она ничего не могла сказать и даже не видела его лица — слезы застилали ей глаза.
Он сжал ее руки и отпустил. Потом она услышала сдавленное рыдание. А когда наконец смогла видеть что-нибудь, каюта была уже пуста.
Через какое-то время бесстрастный механический голос сказал ей с приборной панели:
— Посадка произведена. Выходить через передний воздушный шлюз.
Открывающиеся двери указывали ей путь, и вскоре она очутилась на том самом расчищенном участке леса, откуда стартовал подкидыш. Ей показалось, что с тех пор она прожила целую жизнь.
Несколько человек глядели на космический паром с таким напряженным интересом, будто он не садился здесь уже сотни раз до этого. Лора сперва не понимала, что это значит. Но тут прогремел голос Клайда:
— Где же он? С меня хватит!
В два прыжка он поднялся по трапу и грубо схватил ее за руку:
— Скажи ему: если он мужчина, пусть выйдет!
Лора печально покачала головой.
— Его здесь нет, — ответила она. — Я с ним попрощалась. И больше никогда не увижу.
Клайд недоверчиво уставился на нее, но потом понял — она говорит правду. И тут же Лора приникла к нему, рыдая так, словно у нее разрывалось сердце. Гнев его мгновенно утих, и все слова, которые он хотел сказать ей, куда-то исчезли. Она снова принадлежала ему. Все остальное не имело теперь никакого значения.
Целых пятьдесят часов с ревом бил в небо гейзер из океана, покрывавшего Талассу, пока не закончил свою работу. Весь остров следил у экранов телевизоров, как формировался айсберг, который полетит к звездам впереди «Магеллана». Пусть новый щит послужит вам лучше, чем тот, который сопровождал звездолет с Земли, — единодушно желали космонавтам зрители. На те несколько часов, которые звездолет проведет вблизи жаркого солнца Талассы, огромный ледяной конус еще прикрыли экраном из тонкого, как бумага, полированного металла. Этот зонтик от солнца выбросят, как только начнется путешествие: в межзвездных пустынях он не понадобится.
Последний день пришел и ушел. Когда солнце зашло, земляне стали прощаться с миром Талассы. Они никогда его не забудут, хотя их спящие друзья никогда о нем не вспомнят. Лора была не единственной, кого охватила скорбь. В том же быстротечном молчании, в каком появился впервые, блестящий овал поднялся вверх, на мгновение снизился над селением в знак привета и снова взмыл ввысь, в свою стихию. А Таласса ждала.
Беззвучный световой взрыв пропорол ночную тьму. Пульсирующее сияние светящейся точки, казавшейся не больше звезды, прогнало все воинство небесное, заставило померкнуть бледный диск Селены и отбросило на землю резко очерченные тени. Жители Талассы увидели, что они движутся. Там, на границе космоса, горели огни, зажженные той же силой, которая заставляет сверкать солнца. Они готовились унести звездолет в безмерное пространство, где пролегал последний участок его прерванного пути.
Лора с сухими глазами следила за этим молчаливым триумфом человека, унесшим к звездам половину ее сердца. Она ничего больше не ощущала. Если у нее еще остались слезы, она заплачет потом.
Заснул ли уже Леон или смотрит на Талассу и думает о том, что могло быть? Спит или бодрствует — какое это имеет теперь значение?..
Она почувствовала, как смыкаются вокруг нее руки Клайда, и была рада этой защите от пустоты космоса. Она принадлежит своему миру и больше не изменит ему.
Прощай, Леон. Будь счастлив в том мире, который ты и твои дети завоюют для человечества. Но думай иногда обо мне, оставшейся в двухстах годах от тебя на пути к Земле.
Она отвернулась от ярко освещенного неба и уткнулась лицом в обнимавшие ее руки Клайда. Он гладил ее волосы с неуклюжей нежностью, искал слова утешения и в то же время понимал, что лучше всего молчать. Он не испытывал чувства победителя. Лора снова принадлежала ему, но их прежняя невинная дружба навсегда ушла в прошлое. Клайд знал, что всю его жизнь между ним и Лорой будет стоять призрак Леона — призрак человека, который не состарится ни на один день к тому времени, когда оба они будут лежать в могиле.
Свет на небе стал меркнуть — ярость двигателей звездолета слабела по мере того, как они уносили его все дальше по пустынному пути, с которого не было возврата. Лора только один раз отвернулась от Клайда, чтобы взглянуть на удаляющийся корабль. Путешествие его еще только начиналось, но он уже несся по небу быстрее любого метеора. Пройдет еще несколько мгновений, и он окажется за горизонтом, потом выйдет за пределы орбиты Талассы, минует пустынные внешние планеты и ринется в бездну.
Она отчаянно вцепилась в сильные руки, обнимавшие ее, и почувствовала щекой, как бьется сердце Клайда — сердце, снова принадлежащее ей. Никогда больше она не отвернется от него. Молчание ночи вдруг нарушил глубокий вздох, вырвавшийся из груди тысяч зрителей, и она поняла, что «Магеллан» исчез из виду, оказавшись за краем света. Все кончено.
Она взглянула на опустевшее небо, где вновь сияли звезды. Никогда больше она не сможет смотреть на них, без того чтобы не вспомнить о Леоне. Но он был прав: этот путь не для нее. Теперь она поняла с мудростью, несвойственной ее возрасту, что корабль «Магеллан» устремился в историю, а Таласса уже сыграла в ней свою роль. История ее мира началась и кончилась с пионерами, прибывшими сюда триста лет назад, колонисты же «Магеллана» пойдут к новым победам и достижениям, не уступающим самым великим из тех, что записаны в летописях человечества, Леон и его товарищи станут перемещать моря, срывать горы и побеждать неведомые опасности в то время, когда ее потомки в восьмом колене все еще будут грезить под напоенными солнцем пальмами.
А кто скажет, что лучше?
Дорога к морю
Перевод П. Ехилевской
Падали первые осенние листья, когда Дарвен встретился со своим братом на площадке около Золотого Сфинкса. Бросив флайер в кустах у дороги, он пешком добрался до вершины холма и взглянул на море. Резкий ветер гулял по вересковым пустошам, грозя ранними морозами, но внизу, в бухте, где лежал Шастар Великолепный, было еще тепло — холмы, стоявшие полумесяцем, надежно защищали город от ветра. Пустые причалы и набережные дремотно нежились в лучах бледного заходящего солнца, глубокая синева моря мягко омывала мраморные берега. Дарвен снова посмотрел вниз на знакомые до мельчайших черточек улицы и сады своей юности, чувствуя, что его решимость ослабевает. Он был рад, что встречается с Ханнаром здесь, в миле от города, а не среди знакомых картин и звуков, ожививших бы его детство.
Отсюда Ханнар казался ему лишь маленькой точкой далеко на склоне холма, — он взбирался вверх как всегда неспешно, в обычной своей ленивой манере. Дарвен мог бы за пару секунд одолеть на флайере расстояние, отделяющее его от брата, но знал, что тот не скажет ему за это спасибо. Поэтому он просто стоял и ждал под укрытием огромного Сфинкса, иногда делая несколько шагов туда и сюда, чтобы согреться. Раз или два он подходил к голове чудовища и пристально вглядывался в его неподвижное лицо, нависающее над городом и морем. Дарвен вспомнил, как когда-то давно, ребенком, гуляя в садах Шастара, он впервые увидел в вышине над горизонтом его припавшую к земле фигуру. Он подумал тогда еще, а вдруг эта фигура живая.
Ханнар выглядел не старше, чем при последней их встрече, двадцать лет назад. Его волосы были такими же темными и густыми, лицо оставалось гладким, и неудивительно: мало что нарушало спокойную жизнь Шастара и его обитателей. Это казалось жестокой несправедливостью, и Дарвен, поседевший за много лет неослабного каторжного труда, почувствовал укол зависти.
Их приветствие было коротким, но не лишенным тепла. Ханнар подошел к летательному аппарату, лежащему на подстилке из вереска и примятых кустов утесника. Он постучал палкой по плавным металлическим обводам флайера и повернулся к Дарвену:
— Какой маленький. Неужели ты проделал на нем весь путь?
— Нет, только с Луны. С Проекта я возвращался на лайнере, он больше этого корабля раз в сто.
— А где этот ваш Проект — если не секрет?
— Никакого секрета. Мы строим корабли в космосе, за орбитой Сатурна, где притяжение Солнца почти не чувствуется и требуется небольшое начальное ускорение, чтобы отправлять их за пределы Солнечной системы.
Ханнар взмахнул палкой, указывая на синие воды под ними, на цветной мрамор маленьких башенок, на широкие улицы с неспешным движением:
— Отправлять их в такую даль, где ничего этого нет, а только темнота и одиночество, — ради чего?
Губы Дарвена сжались в тонкую прямую линию.
— А я? — тихо произнес он. — Я ведь всю свою жизнь провел далеко отсюда.
— И это сделало тебя счастливым? — безжалостно продолжал Ханнар.
Дарвен некоторое время молчал.
— Это принесло мне нечто гораздо большее, — ответил он наконец. — Я вложил все свое умение, все таланты, но зато испытал минуты такого торжества, какое тебе даже не снилось. Тот день, когда Первая экспедиция вернулась в Солнечную систему, стоил целой жизни, проведенной в Шастаре.
— Ты думаешь, — сказал Ханнар, — что под теми чужими солнцами, когда покинешь этот мир навсегда, сможешь построить города прекраснее этого?
— Если возникнет надобность — да, мы их построим. Если нет — мы создадим другие вещи. Мы должны это делать. А что твой народ создал за последнюю сотню лет?
— Да, мы не изобретаем машин, мы повернулись спиной к звездам и довольствуемся своим собственным миром, но это еще не значит, что наш народ живет в праздности. Здесь, в Шастаре, мы ведем тот образ жизни, который вряд ли кто-то сумел превзойти. Мы научились искусству жить; наша аристократия — первая, не владеющая рабами. Это наше достижение, по нему история будет судить о нас.
— Это несомненно, — ответил Дарвен, — но не стоит забывать, что ваш рай был построен учеными, которым пришлось воевать с природой точно так же, как сражаемся мы, чтобы мечты превратить в реальность.
— Люди не всегда добивались успеха. Даже планеты нашей системы одерживали победу над человеком; почему миры под другими солнцами должны быть более гостеприимны?
Замечание было справедливым. И по прошествии пятисот лет память о тех первых неудачах была достаточно горька. С какими великими устремлениями и надеждами человек отправлялся к другим планетам в последние годы двадцатого века — и обнаружил, что они не только безжизненны и беспощадны, но и яростно враждебны к нему! От зловещих морей огненной лавы на Меркурии до кочующих ледников твердого азота на Плутоне — нигде не было места, где человек мог бы чувствовать себя в безопасности. И после целого века бесплодной борьбы он вновь вернулся в свой собственный мир, на Землю.
Однако мечта не умерла; от планет пришлось отказаться, но все равно оставались те, кто осмелился мечтать о звездах. Эти мечты наконец воплотились в необыкновенный прорыв, Первую Экспедицию, — и с ней пришло пьянящее чувство долгожданного успеха.
— На расстоянии десяти лет полета от Земли существуют пятьдесят звезд класса нашего Солнца, — сказал Дарвен, — и почти у каждой имеются планеты. Сейчас мы полагаем, что наличие планет — это так же характерно для звезд класса G2, как и наличие у них спектра, хотя и не знаем почему. Так что поиск миров, подобных Земле, в этот раз должен оказаться успешным; я не думаю, что в том, как скоро мы нашли Эдем, была какая-то особая удача.
— Эдем? Это так вы назвали ваш новый мир?
— Да. Название показалось вполне подходящим.
— Вы, ученые, просто неизлечимые романтики! Но не слишком ли вы прельстились названием? Ведь, если помнишь, жизнь в том первом Эдеме была не слишком-то дружелюбной по отношению к человеку.
Дарвен печально улыбнулся.
— Это, опять-таки, зависит от точки зрения, — ответил он, показывая на Шастар, где уже загорались первые огоньки — Если бы наши предки не вкусили от Древа Познания, у вас никогда бы не было всего этого.
— А что, с твоей точки зрения, случится со всем этим теперь? — горько спросил Ханнар. — Сейчас, когда вы открыли дорогу к звездам, вся сила и энергия человеческой расы отхлынут от Земли.
— Я не отрицаю этого. Такое случалось раньше, и случится опять. Шастар пойдет тем же путем, что и Вавилон, и Карфаген, и Нью-Йорк. Будущее строится на булыжниках прошлого; и мудрость состоит в том, чтобы принять этот факт, а не противиться ему. Я люблю Шастар не меньше, чем ты, — люблю так сильно, что не решаюсь спуститься и пройти по его улицам, хотя никогда не увижу их снова. Ты спрашиваешь меня, что с ним станет, и я скажу тебе, что. Наши действия лишь приблизят его конец. Даже двадцать лет назад, когда я побывал здесь в последний раз, я ощутил, как моя воля ослабляется бесцельным ритуалом вашей жизни. Вскоре так будет во всех городах Земли, потому что все они подражают Шастару. Я думаю, экспедиция подоспела вовремя. Возможно, даже ты поверил бы мне, поговорив с людьми, вернувшимися со звезд, и ощутил бы, как кровь быстрее струится по твоим венам после всех этих веков спячки. Твой мир умирает, Ханнар; то, что у тебя есть сейчас, ты сможешь удержать еще достаточно долго, но в конце концов оно выскользнет у тебя из пальцев. Будущее принадлежит нам, а тебя мы оставим с твоими мечтами. Мы тоже мечтаем, и теперь отправляемся превращать наши мечты в дело.
Последний луч света упал на лоб Сфинкса; солнце село в море, и Шастар погрузился в ночь, но не в темноту. Широкие улицы казались сияющими реками, по которым неслись мириады светящихся огоньков; башни и шпили, словно драгоценностями, были украшены цветными огнями; с медленно отчалившего от берега прогулочного суденышка ветер принес слабые отголоски музыки. С легкой улыбкой Дарвен смотрел, как судно отходит от изогнутого дугой пирса. Прошло пятьсот лет, даже больше, с тех пор как последнее торговое судно выгрузило здесь свой товар, но пока существует море, люди будут по нему плавать.
В общем, все было сказано, и вскоре Ханнар остался на холме в одиночестве, подняв голову к звездам. Он больше не увидит своего брата. Солнце, скрывшееся от Ханнара ненадолго, для Дарвена, чей взгляд устремлен в бездны космоса, не взойдет уже никогда. Равнодушный ко всему, Шастар протянулся, блестя огнями, вдоль береговой кромки. Ханнару казалось, что неумолимый клинок судьбы уже занесен над городом, сердце его переполняли тяжелые предчувствия. В словах Дарвена была правда, — предрекаемый исход неизбежен.
Десять тысяч лет назад другие энтузиасты отправились из первых городов человечества открывать новые земли. Они нашли их, и уже не вернулись в города, откуда пришли, а время навсегда поглотило их покинутые дома. То же самое будет и с Шастаром Великолепным.
Тяжело опираясь на палку, Ханнар медленно пошел вниз с холма к городским огням. Сфинкс бесстрастно следил за тем, как фигура Ханнара растворяется в темноте.
Пройдет пять тысяч лет, а он так же равнодушно будет смотреть на мир, который его окружает.
Бренту еще не исполнилось двадцати, когда его народ был изгнан из своих домов и переселен на запад, через два континента и океан. Напрасно они наполняли эфир жалобными криками оскорбленной невинности. Их жалобы встретили весьма скудное сочувствие со стороны остального мира, поскольку если кого-то и можно было винить в случившемся, так только себя, и вряд ли им стоило притворяться, что Верховный совет поступил с ними слишком жестоко. Он послал им с десяток предварительных предупреждений и не менее четырех последних, решительных ультиматумов, прежде чем неохотно предпринял какие-то шаги. Затем однажды маленький корабль с огромным акустическим излучателем внезапно появился в тысяче футов над деревней и стал испускать оглушительный шум. Через несколько часов этого кошмара мятежники капитулировали и принялись укладывать свои пожитки. Неделей позже появился транспортный флот и вывез их, все еще пронзительно протестующих, в новые дома на другой стороне планеты.
Таким образом, был исполнен закон, по которому никакое сообщество не могло оставаться на одном месте на срок больший, чем три средние человеческие жизни. Подчинение закону означало перемены, искоренение традиций, разрушение родных, обжитых домов. В этом и заключался смысл закона, принятого четыре тысячи лет назад; но застой, против которого он был направлен, больше не удавалось отразить. В один прекрасный день центральная структура, осуществляющая наблюдение за его выполнением, прекратит свое существование, и разбросанные повсюду поселения людей останутся там, где стояли, пока их не поглотит время, как оно поглотило более ранние цивилизации, наследниками которых они являлись.
Целых три месяца заняло у населения Чалдиса строительство новых домов, очистка и перевозка квадратной мили лесных угодий, показательный сбор нескольких урожаев экзотических фруктов, смещение устья реки и уничтожение холма, который оскорблял их эстетическое чувство. Все это весьма впечатляло, и, когда чуть позднее прибыл с проверкой местный инспектор, прегрешения им были прощены. Затем весь Чалдис с облегчением наблюдал, как транспорт, землеройная техника и прочие принадлежности мобильной и механизированной цивилизации растворились в небе. Не успел затихнуть гул отбывающей колонны, как вся деревня, как один человек, расслабилась и погрузилась в спячку, которую, как они искренне надеялись, ничто не нарушит по крайней мере в течение сотни лет.
Брент остался вполне доволен случившимся. Конечно, ему жаль было покидать места, в которых прошло его детство, ведь теперь он уже никогда не вскарабкается на одинокую гордую скалу, нависавшую над деревней, где он родился. В этом краю не было гор — только низкие, скругленные на вершинах холмы и плодородные долины, в которых за тысячелетие бурно разрослись леса, с тех пор как земледелие окончательно пришло в упадок. Здесь было теплее, чем у него на родине, новая земля лежала ближе к экватору, и суровые зимы севера остались позади. Почти со всех точек зрения перемена оказалась к лучшему, но в течение года или двух люди Чалдиса не без удовольствия ощущали себя мучениками.
Подобные политические соображения нисколько не волновали Брента. Вся человеческая история от темных веков и до дней нынешних значила для него сейчас меньше одной-единственной девушки по имени Ирадна и ее чувств по отношению к нему. Его постоянно интересовало, чем она занимается, и он то и дело придумывал предлоги, чтобы с ней повидаться. Но это означало встречу с ее родителями, а они смущали его тем, что упорно делали вид, будто молодой человек всего лишь наносит им визит вежливости.
Вот и теперь, вместо того чтобы пойти к ней, он решил сходить в кузницу, проведать Джона. С Джоном все получилось очень досадно, ведь еще совсем недавно они были близкими друзьями. Но любовь — смертельный враг дружбы, и пока Ирадна не сделала свой выбор, они оставались в состоянии вооруженного нейтралитета.
Деревня растянулась примерно на милю вдоль долины, ее аккуратные новые домики были разбросаны в хорошо спланированном беспорядке. Жители неспешно передвигались или болтали, собравшись маленькими группками под деревьями. Бренту казалось, будто все его провожают взглядами и говорят о нем, пока он проходит мимо, — а ведь так оно на самом деле и было. В закрытом обществе, состоящем меньше чем из тысячи высокоинтеллектуальных людей, никто не мог ожидать, что его личная жизнь будет скрыта от чужих глаз.
Кузница находилась на поляне, в дальнем конце деревни, чтобы своим неряшливым видом не слишком оскорблять взор. Она была окружена сломанными и наполовину разобранными машинами, до которых у старого Йохана еще не дошли руки. Тут же лежал один из трех деревенских флайеров, его металлические ребра ярко освещались солнцем — флайер требовал немедленного ремонта, но валялся тут уже несколько недель. Старый Йохан, конечно, починит его когда-нибудь, в свое время.
Широкая дверь кузницы была открыта, и из ее залитого ярким светом нутра долетали грохот и звон, когда какая-нибудь из машин-автоматов занималась обработкой металла, повинуясь воле хозяина. Брент осторожно прошел мимо занятых делом рабов и нырнул в относительную тишину задней части мастерской.
Старый Йохан, опрятный маленький человек с аккуратной бородкой клинышком, лежал в чрезвычайно удобном кресле и курил трубку с таким видом, словно он за всю свою жизнь не проработал и дня, и только его блестящие насмешливые глаза, постоянно перебегающие с предмета на предмет, говорили о его живом интересе к делу. Его можно было принять за элегического поэта, — каким он себя и воображал, — но никто бы не посчитал его за деревенского кузнеца.
— Ищешь Джона? — спросил Йохан между затяжками. — Он где-то здесь, мастерит что-то для этой девочки. Не понимаю, что вы оба в ней находите.
Брент слегка порозовел и уже собрался ответить, но в этот момент с одной из машин в кузнице, судя по звуку, что-то произошло. В мгновение ока старый Йохан соскочил с кресла, и примерно с минуту из-за двери слышались звон, треск и не-прекращающиеся ругательства. После этого он вновь взгромоздился в кресло с таким видом, будто был уверен наверняка, что теперь-то его точно ничто не потревожит.
— Вот что я тебе скажу, Брент, — продолжил он тем же тоном, словно их разговор и не прерывался. — Через двадцать лет она станет точной копией своей матери. Ты когда-нибудь думал об этом?
Естественно, Брент не думал и теперь слегка сник. Но в юности двадцать лет — это считай что целая вечность, и если бы сейчас он смог завоевать сердце Ирадны, то плевать ему тогда на какое-то там туманное будущее. Это он и сказал Йохану.
— Поступай как знаешь, — добродушно отозвался кузнец, — Лично я полагаю, что если бы мы заглядывали так далеко вперед, человеческая раса вымерла бы еще миллион лет назад. Послушай, а не сыграть ли вам с Джоном партию в шахматы, как разумным людям, чтобы решить, кому она достанется?
— Брент смошенничает, — ответил Джон, внезапно появляясь в дверном проеме и заполняя его почти целиком. Крупный, хорошо сложенный юноша совершенно не походил на отца; в руках он держал лист бумаги с какими-то чертежами. Бренту было интересно узнать, что за подарок соперник готовит Ирадне.
— Что это у тебя? — спросил он, не скрывая своего любопытства.
— А почему я должен тебе рассказывать? — добродушно ответил Джон, — Приведи мне хоть одну вескую причину.
Брент пожал плечами:
— Мне это абсолютно не важно — я спросил просто из вежливости.
— Только не заходи в своей вежливости слишком далеко, — посоветовал кузнец, — в последний раз, когда ты был вежлив с Джоном, у тебя неделю оставался синяк под глазом. Помнишь? — Он повернулся к сыну и бесцеремонно сказал: — Ну-ка, дай сюда чертежи — чтобы сразу объяснить тебе, почему этого нельзя сделать.
Старик критически рассматривал чертежи, а Джон, чем дольше тот их рассматривал, все более приходил в смущение. Наконец Йохан неодобрительно фыркнул и сказал: — А где ты собираешься доставать детали? Все они нестандартные, и большая часть их — субмикроскопических размеров.
Джон с надеждой оглядел мастерскую.
— Их не очень много, — сказал он, — это несложная работа, и я думал, может быть, ты…
— Позволю тебе вывести из строя все интеграторы, чтобы изготовить эти детали? Брент, мой гениальный сын пытается доказать, что у него имеются не только мускулы, но и мозги, и для этого предлагает изготовить игрушку, которая устарела примерно пятьдесят веков назад. Я надеялся, что ты придумаешь что-нибудь получше. Между прочим, я в твоем возрасте…
Его воспоминания только успели начаться, как сразу кончились. Ирадна выплыла из оглушительного грохота мастерской и смотрела на них из дверного проема с легкой улыбкой на губах.
Если бы Брента и Джона попросили ее описать, слушателю бы показалось, что они говорят о двух совершенно разных людях. Конечно, что-то в их описаниях сошлось бы. Волосы они одинаково бы назвали каштановыми, глаза — большими и синими, кожу — жемчужно-белой. Но Джону она виделась маленьким, хрупким созданием, которое следовало защищать и лелеять. Бренту же Ирадна представлялась настолько самостоятельной и уверенной в себе, что порой он даже подступиться к ней не отваживался. Причина столь удивительной разницы в представлениях обоих о девушке была не только в шести дюймах роста и девяти дюймах в обхвате, на которые Джон превосходил Брента. Она имела более глубокие психологические основы. Любимый человек — это всегда некая фикция, образ на мысленном экране, на который он может быть спроецирован с наименьшими искажениями. У Брента и Джона были совершенно разные идеалы, но каждый верил, что воплощением его идеала является Ирадна. Саму девушку это нисколько не удивляло; ее вообще трудно было чем-либо удивить.
— Я на реку, — сказала Ирадна. — Брент, я к тебе заходила, но не застала дома.
Это была стрела, пущенная в огород Джона, но Ирадна тут же сравняла счет.
— Я решила, что ты пошел с Лорейн или с кем-то еще, и поэтому пошла к Джону. Его-то всегда можно застать на месте.
Джон остался доволен этим ее заявлением. Юноша свернул чертежи и бросился к дому, радостно крикнув через плечо:
— Подожди меня — я быстро!
Брент, переминаясь с ноги на ногу, не отрывал глаз от Ирадны. Вообще-то она никого с собой на реку не приглашала, так что, пока его откровенно не отошлют подальше, он не собирается уступать сопернику. Но молодой человек помнил, что по этому поводу существует какая-то древняя поговорка, что-то насчет того, что третий в компании почему-то бывает лишним.
Вернулся Джон. Выглядел он великолепно, одетый в ярко-зеленый плащ с алыми вставками по бокам. Плащ был Джону несколько маловат, но все равно он смотрелся здорово. Брент подумал, может быть и ему заскочить домой и переодеться во что-нибудь этакое, но решил, что нечего рисковать. Во-первых, это выглядело бы как отступление с поля боя, а потом — битва могла кончиться раньше, чем к нему придет подкрепление.
— Ишь ты, какая толпа, — ехидно произнес старый Йохан, когда они уходили, — Может быть, мне тоже присоединиться? — Юноши смутились, но Ирадна весело рассмеялась, и видно было, что Йохану это нравится. Некоторое время он стоял в дверях, наблюдая с улыбкой, как молодые люди движутся между деревьями вниз по пологому, заросшему травой склону к реке. Но вскоре взгляд его затуманился, и старый кузнец ушел с головой в мечты — мечты об ушедшей юности. Так стоял он какое-то время, затем повернулся к солнцу спиной и с хмурым видом исчез в суматохе кузницы.
Близился день весеннего равноденствия, дни становились длиннее. Бесчисленные деревни, разбросанные по всему полушарию, готовились к встрече весны. С отмиранием больших городов и возвращением человека в поля и леса население планеты вновь вернулось ко многим древним традициям, основательно забытым за тысячу лет городской цивилизации. Некоторые из этих обычаев искусственно возродили антропологи и социальные инженеры третьего тысячелетия, чьими подвижническими трудами было сохранено без потерь множество образцов человеческой культуры. Потому-то и день весеннего равноденствия сопровождался древними ритуалами, которые, из-за своей сложности, были более привычны первобытному человеку, чем людям промышленных городов, чей дым когда-то коптил небо планеты.
Организация праздника Весны всегда была поводом для бесконечных интриг и препирательств между соседними деревнями. Хотя выбор места для праздника подразумевал прекращение всякой иной деятельности как минимум на месяц, для любой деревни становилось великой честью, если выбор этот падал на нее. Конечно, никому и в голову прийти не могло, что новое сообщество поселенцев, еще не оправившееся после переезда, может взять на себя такую ответственность. Однако народ Брента придумал хитроумный способ вернуть благосклонность властей и смыть пятно недавнего позора. На расстоянии ста миль в округе располагались еще пять деревень, и все они были приглашены в Чалдис на праздник.
Приглашение составили в очень осторожных выражениях. В нем тонко намекалось, что в силу известных причин Чалдис, конечно, не претендует столь торжественный церемониал провести на достойном уровне, и поэтому если гости рассчитывают провести время лучше, то, пожалуйста, пусть выбирают другое место. Жители Чалдиса рассчитывали на то, что хотя бы одна деревня да согласится, но любопытство соседей возобладало над их чувством морального превосходства. Все они ответили, что с удовольствием прибудут на праздник, и теперь уже не было никакой возможности пойти на попятную.
Ночь в долине сразу же превратилась в день, и жители Чалдиса практически не смыкали глаз. Высоко над деревьями горела гирлянда искусственных солнц, заливая окрестности бело-голубым светом. Были изгнаны и темнота ночи, и свет звезд, и привычная жизнь диких животных, обитающих в окрестных лесах, была повергнута в беспокойство и хаос. Удлинив дни и укоротив ночи, люди и машины с упорством возводили огромный амфитеатр, который должен был вместить четыре тысячи человек. По крайней мере, в одном жителям Чалдиса повезло: в местном климате не требовалось ни крыши, ни искусственного отопления. Не то что в местах, которые они с такой неохотой покинули, где в конце марта еще лежал снег.
В день празднования Брента ни свет ни заря разбудил звук самолета, кружившего над деревней. Он с ленцой потянулся, прикидывая, когда же ему удастся по-настоящему выспаться, и натянул на себя одежду. Пинок ногой в невидимый выключатель — и прямоугольник податливой пенорезины дюймом ниже уровня пола полностью закрылся жестким листом пластика, выехавшим из стены. Надобность в постельном белье отпала, поскольку в комнате автоматически поддерживалась температура тела. Со многих точек зрения жизнь Брента была проще жизни его далеких предков — благодаря неустанным и ныне почти забытым трудам ученых на протяжении пяти тысяч лет.
Комната, мягко освещенная льющимся через полупрозрачную стену светом, казалась невероятно захламленной. Единственным свободным участком пола оставался четырехугольник, под которым скрывалась кровать, но к ночи, вероятно, и он повторит участь заваленного хламом пространства. Брент очень любил все припрятывать про запас и ненавидел что-нибудь выбрасывать. Это свойство характера являлось весьма необычным в мире, где ценились очень немногие вещи, ведь их так легко было изготовить. Но предметы, которые собирал Брент, не относились к тем, что создавались с помощью интегралов. В одном углу к стене был прислонен кусок ствола дерева, обработанный так, что из него неясно выступала человеческая фигура. Большие куски песчаника и мрамора валялись по всему полу, ожидая того времени, когда Бренту вздумается поработать над ними. Стены полностью закрывали картины, в основном абстрактные. Нетрудно было догадаться, что Брент — художник, однако не так легко было понять, насколько он в своем художестве преуспел.
Молодой человек, пройдя между разбросанными заготовками, отправился на поиски еды. Кухни в доме не было; историки считали, что подобные помещения существовали до 2500 года, но уже задолго до этой даты большинство семей готовили себе пищу не чаще, чем шили одежду. Брент вошел в гостиную и приблизился к металлическому ящичку, встроенному в стену на уровне груди. В ее центре находилось нечто, знакомое каждому человеку последние пятьдесят веков, — диск набора с десятью цифрами. Брент набрал номер из четырех цифр и подождал. Ничего не произошло. Слегка раздраженный, он нажал скрытую кнопку, и передняя стенка прибора скользнула в сторону, открывая полость внутри, где, по всем правилам, должен был находиться завтрак. Но там было абсолютно пусто.
Брент мог вызвать центральную продуктовую службу и потребовать объяснений, но, скорее всего, не получил бы ответа. И без того было ясно, что произошло: департамент продовольствия был настолько озабочен будущим перерасходом продуктов, связанным с наплывом гостей, что Бренту еще крупно повезет, если удастся получить на завтрак хоть что-нибудь. Он нажал сброс, затем попытал счастья снова, набрав редко используемый номер. Раздалось слабое мурлыканье, глухой щелчок — и дверцы отворились, открывая взгляду чашку какого-то темного дымящегося напитка, несколько не слишком возбуждающих аппетит сэндвичей и большой кусок дыни. Сморщив нос и задаваясь вопросом, как скоро при таких темпах человечество вернется к варварским временам, Брент взялся за сомнительную еду и вскоре съел все дочиста.
Его родители спали, когда он быстро вышел из дома на широкую, поросшую травой площадку посреди деревни. Было еще очень рано, и в воздухе ощущался небольшой холодок, но начинающийся день был прозрачным, ясным, наполненным той утренней свежестью, которая уходит, когда высыхают последние капли росы. Несколько самолетов стояли на траве; прибывшие на них люди толкались вокруг и осматривали Чалдис критическим взором. Пока Брент наблюдал за гостями, одна из машин резко взмыла в небо, оставляя за собой белый след. Минуту спустя за ней последовали остальные; они могли перевозить только по два-три десятка пассажиров, и за день им придется сделать еще множество рейсов.
Брент побродил в толпе прилетевших, стараясь выглядеть уверенно и дружелюбно — чтобы не отпугнуть возможных желающих пообщаться. Большинство гостей были примерно его возраста; люди постарше прибудут в более разумное время.
Прибывшие смотрели на Брента с нескрываемым любопытством. Их кожа, насколько он заметил, выглядела гораздо темнее, чем у него, а голоса звучали мягче. У некоторых даже встречался какой-то намек на акцент: несмотря на международный язык и постоянное общение, региональные различия все-таки существовали. По крайней мере, Бренту казалось, что они говорят с акцентом, но пару раз он замечал на лицах гостей улыбку, когда он что-либо говорил сам.
Так продолжалось все утро: гости прибывали и направлялись к огромной арене, вырубленной в лесу. Там стояли палатки, развевались яркие флаги, слышались крики и смех развлекающейся молодежи. Хотя Афины за десяток тысячелетий река времени унесла далеко, модель спортивных соревнований мало изменилась с тех первых Олимпийских дней. Мужчины по-прежнему бегали, прыгали, боролись и плавали, но делали все это гораздо лучше, чем их предки. Брент был прекрасным бегуном на короткие дистанции и в беге на сто метров опередил всех. Его время чуть превысило восемь секунд — результат неплохой, потому что мировой рекорд составлял что-то около семи секунд. Брент изумился бы, узнав, что ни один бегун в мире не мог приблизиться к такой цифре.
Джон получал огромное удовольствие, кладя соперников много крупнее себя на дерн, и когда утренние результаты были подсчитаны, оказалось, что у команды Чалдиса в сумме больше очков, чем у любой из команд гостей, хотя первое место хозяева занимали не часто.
В полдень толпа, как амеба, стала перетекать к поляне под названием Пять Дубов, где с раннего утра работали молекулярные синтезаторы, заставляя едой не одну сотню столов. Немало трудов ушло на изготовление прототипов, которые воспроизводились с точностью до последнего атома, потому что, хотя механизм приготовления пищи полностью изменился, поварское искусство никуда не исчезло, даже наоборот — достигло неимоверных высот.
Основным событием второй половины дня стало длинное драматическое представление в стихах — попурри, умело составленное из произведений разных поэтов, чьи имена были забыты много веков назад. В целом представление показалось Бренту довольно скучным, хотя в нем прозвучали строки, запавшие в его память:
Миновала пора снегопадов стыдливых, Отгремели пороки, поутихла пурга…[3]Брент прекрасно знал, что такое снегопады, и радовался, что они миновали. «Порок» было архаичным словом, вышедшим из употребления три или четыре тысячи лет назад, но звучало оно зловеще и возбуждающе.
Юноша не видел Ирадны почти, до сумерек, когда начались танцы. Высоко над долиной зажглись искусственные огни, осветив лес переменчивыми узорами синего, красного и золотого. По двое, по трое, а затем десятками и сотнями танцующие выходили на огромный овал амфитеатра, и скоро он превратился в море смеющихся, кружащихся в танце людей. Вот где была та стихия, где Брент с легкостью мог победить Джона, и он позволил себе унестись на ее волнах, получая от этого чисто физическое удовольствие.
Музыка, звучавшая здесь, принадлежала всем эпохам и культурам. В какой-то момент воздух сотрясли барабаны, которые можно было услышать и в первобытных джунглях, когда мир был совсем юным; а мгновением позже зазвучали тонкие переливы четвертных тонов, исполненные благодаря высочайшим достижениям сложнейшей электронной техники. Звезды с любопытством смотрели с ночного неба на веселящихся под ними людей, но никто не обращал на звезды внимания и совсем не думал о времени.
Брент успел перетанцевать со многими, прежде чем увидел Ирадну. Она выглядела красавицей, жизнь в ней буквально выплескивалась через край, лицо светилось. Ирадна не очень-то спешила присоединиться к Бренту, проблема выбора перед ней не стояла — у девушки отбоя не было от кавалеров. Но вот они закружились в танце, и Брент почувствовал удовольствие от мысли, что Джон, должно быть, стоит сейчас и мрачно наблюдает за ними откуда-нибудь из толпы.
Музыка на время замолкла, и Ирадна сказала, что хочет чуточку отдохнуть. Брент был тоже не прочь устроить себе маленький перерыв, и они уселись под большим деревом, наблюдая с расслабленной отстраненностью за неудержимым потоком жизни, что била вокруг ключом.
Сладкое очарование вечера нарушил Брент. Он знал, что когда-нибудь должен был у нее спросить, и сейчас был самый удобный случай.
— Ирадна, — сказал он, — почему ты избегаешь меня?
Она посмотрела на него невинными, широко открытыми глазами.
— Брент, — ответила девушка, — зачем ты говоришь такие злые слова? Ты ведь знаешь, что это неправда. И вообще, откуда в тебе столько ревности? Не считаешь же ты, что я все время должна ходить за тобой?
— Нет, конечно, — чуть слышно ответил Брент и подумал, что ведет себя очень глупо. Но раз уж разговор начат, надо было его довести до конца. — Видишь ли, когда-то тебе придется выбрать одного из нас. Если ты будешь это откладывать, то рискуешь остаться ни с чем, как две твои тетушки.
Ирадна запрокинула голову и весело рассмеялась; видимо, ее позабавила мысль, что когда-нибудь она может сделаться старой и некрасивой.
— Ну, если ты такой нетерпеливый, — сказала она, — то уж Джон-то совсем другой. Ты видел, что он мне подарил?
— Нет, — упавшим голосом произнес Брент.
— Ты такой наблюдательный, что не заметил этого ожерелья?
На груди Ирадны, нанизанное на тонкую золотую цепочку, светилось целое созвездие драгоценных камней.
— Вещь красивая, но, в общем-то, ничего необычного, — сообщил ей на это Брент.
Ирадна загадочно улыбнулась и пальцами притронулась к ожерелью. В ту же секунду воздух наполнился музыкой, сперва смешавшейся с танцевальной, а затем заглушившей ее.
— Видишь, — с гордостью сказала она, — теперь, куда бы я ни пошла, музыка всегда будет со мной. Джон сказал, что здесь музыки на несколько тысяч часов, и ничего не записано по два раза. Правда, здорово?
— Возможно, — с затаенной досадой ответил Брент, — но все это давно устарело. Каждый когда-то таскал с собой подобные штуки, а потом, когда на Земле не осталось ни одного тихого места, все это пришлось запретить. Ты представь, какой получится хаос, если все мы будем такое носить!
Ирадна с сердитым видом отодвинулась от него.
— Ты всегда завидуешь тому, чего сам не умеешь делать. «Устарело, хаос»… А сам-то ты мне хоть что-нибудь подарил? Все, я ухожу. И не вздумай идти за мной!
Брент так и остался сидеть с разинутым ртом, ошеломленный ее бурной реакцией. Затем крикнул вдогонку:
— Эй, Ирадна, я не хотел… — Но девушка уже исчезла из виду.
Брент двинулся прочь от веселящейся в амфитеатре толпы. Настроение у него резко упало. Причина ее гневного взрыва была ясна. Все, что он ей сказал, ну, может быть, чересчур язвительно, было правдой, а нет ничего более раздражающего, чем правда. Подарок Джона — пусть искусный, но нисколько не оригинальный, интересный лишь потому, что сейчас такие уже не делают.
Но одна фраза Ирадны не давала ему покоя. А действительно, он хоть что-то ей когда-нибудь подарил? У него не было ничего, кроме картин, но сам он их не считал удачными. Да и Ирадна не проявляла к ним ни капельки интереса, хотя Брент не однажды предлагал ей самые лучшие. Трудно было объяснить даме сердца, что он вовсе не портретист и не будет даже пытаться ее нарисовать. Вот этого она ни за что не могла понять и сильно на юношу обижалась. Брента обычно вдохновляла природа, но он никогда не копировал то, что видел. Когда какая-нибудь из его картин бывала завершена (что время от времени случалось), ее название часто становилось единственным ключом к пониманию того, что послужило для картины толчком.
Вокруг по-прежнему гремела танцевальная музыка, но Брент утратил к ней всякий интерес. Зрелище веселящихся людей стало ему почему-то невыносимо. Бренту захотелось выбраться из толпы, а единственное тихое место, о котором он вспомнил, находилось внизу у реки, за светящейся полосой мха, посаженного незадолго до праздника.
Он сидел у самой кромки воды, бросал в воду ветки и смотрел, как их уносит течением. Время от времени кто-нибудь проходил мимо, но гуляющие обычно шли парами и не замечали его. Брент бросал на них завистливые взгляды, мрачно размышляя над тем, что ничего-то у него в жизни не получается.
В конце концов, думал он, было бы даже к лучшему, если бы Ирадна выбрала не его, а Джона и Брент остался бы один ' на один со своим горем. Но она не выказывала ни малейших признаков того, что предпочитает одного другому. Может, она просто развлекается за их счет, как считают некоторые — тот же старый Йохан, к примеру. Хотя, возможно, она просто не в состоянии выбрать. Наверное, нужно, мрачно решил Брент, чтобы кто-то из них двоих совершил нечто действительно из ряда вон выходящее, чего другой повторить не сможет.
— Привет, — раздался тоненький голосок за спиной. Он обернулся и посмотрел через плечо. Маленькая девочка лет восьми смотрела на него, слегка склонив набок голову, как любопытный воробышек.
— Привет, — без энтузиазма откликнулся он. — Почему ты не смотришь, как танцуют?
— А почему ты не танцуешь? — тут же откликнулась она.
— Я устал, — сказал юноша, надеясь, что это покажется ей достойным предлогом. — И вообще, тебе не стоило бы тут бегать одной. Ты можешь заблудиться.
— Я и заблудилась, — радостно заявила она, усаживаясь на берег с ним рядом. — И мне это нравится.
«Интересно, из какой она деревни?» — подумал Брент. Хорошенькая девчушка, но выглядела бы гораздо лучше, если бы ее личико не было перемазано шоколадом. Похоже, его одиночеству наступил конец.
Она уставилась на него с той естественной прямотой, которая вызывает в людях смущение и которая уходит навеки, когда кончается детство.
— А я знаю, что с тобой, — внезапно сообщила она.
— Вот как? — откликнулся Брент с вежливым скептицизмом.
— Ты влюблен!
Брент выронил из руки ветку, которую хотел бросить в реку, и повернулся, чтобы взглянуть на свою мучительницу. Она смотрела на него с таким торжественным сочувствием на лице, что за секунду вся его мрачная жалость к себе самому испарилась в приступе смеха. Она, кажется, обиделась, и молодой человек быстро взял себя в руки.
— Как ты догадалась? — спросил он с нарочитой серьезностью.
— Я читала об этом, — восторженно сообщила она. — А однажды я видела пьесу, и там человек тоже пришел к реке и сидел ну совсем как ты, и потом он в нее прыгнул. В этот момент заиграла ужасно красивая музыка.
Брент задумчиво посмотрел на развитого не по годам ребенка и ощутил облегчение от того, что она не жила в их деревне.
— Извини, что не могу организовать музыку, — серьезно сказал он. — Но в любом случае речка здесь недостаточно глубока.
— Дальше она глубже, — объяснила девочка, — это только речка-ребенок, и она не вырастет, пока не выйдет из леса. Я видела из флайера.
— А что с ней делается потом? — спросил Брент, которого ни в малейшей степени не интересовал этот разговор, но он был благодарен за то, что тема его стала более отвлеченной. — Я полагаю, она впадает в море?
Девчушка издала недостойное маленькой леди возмущенное фырканье.
— Конечно, нет, глупый. Все речки по эту сторону холмов впадают в Великое озеро. Оно такое же большое, как море, но настоящее море находится по другую сторону холмов.
Брент плохо разбирался в географических деталях своего нового местожительства, но понимал, что ребенок прав. Океан был менее чем в двадцати милях к северу, отделенный от них грядой невысоких холмов. В ста милях от побережья лежало Великое озеро, дававшее жизнь землям, некогда бывшим пустыней до тех пор, пока инженеры-геологи не изменили сам континент.
Гениальный ребенок тем временем сооружал карту из прутиков и терпеливо передавал знания своему довольно тупому ученику.
— Мы вот здесь, — говорила она, — а здесь река и холмы, а озеро вон там, около твоей ноги. Море идет вот так. И я тебе скажу один секрет.
— Какой же?
— Никогда не догадаешься.
— Да, наверно, не догадаюсь.
Ее голос понизился до доверительного шепота:
— Если идти вдоль побережья — это недалеко отсюда, — то придешь в Шастар.
Брент попытался принять потрясенный вил, но не сумел.
— Не думаю, чтобы ты о нем слышал! — воскликнула она, глубоко разочарованная.
— Извини, — ответил Брент, — я полагаю, это был город, и, кажется, я про него где-то слышал, но ведь городов было так много — и Карфаген, и Чикаго, и Вавилон, и Берлин, — всех просто не запомнишь. И в любом случае их уже нет.
— Вот и не так. Шастар все еще здесь.
— Ну, некоторые из городов сохранились, и люди часто их посещают. Примерно в пятистах милях от моего старого дома был когда-то довольно большой город, который назывался…
— Шастар не просто какой-то город, — таинственно перебила его девочка. — Мой дедушка рассказывал мне о нем, он там бывал. Он вовсе не разрушен, и там полно чудесных вещей, которых больше ни у кого нет.
Брент внутренне улыбнулся. Покинутые города Земли были местами, о которых ходили легенды в течение многих веков. Прошло четыре… нет, почти пять тысяч лет с тех пор, как Шастар был оставлен. Если здания в нем все еще стоят, что, конечно, вполне возможно, все ценное из них исчезло много веков назад. Наверное, дедушка придумывал всякие волшебные сказки, чтобы развлечь ребенка. Брент вполне понимал его.
Не чувствуя его скептицизма, девочка продолжала болтать. Брент только наполовину прислушивался к ее словам, вставляя вежливые «да», «нет» или «подумать только!» Внезапно наступила тишина.
Он поднял взгляд и увидел, что его собеседница с раздражением смотрит на просеку между деревьев.
— До свидания, — коротко сказала она. — Я должна спрятаться где-нибудь в другом месте — вон идет моя сестра.
Она исчезла так же внезапно, как и появилась. «Да, ее семье, должно быть, с ней нелегко», — решил Брент. Но в любом случае надо было отдать девочке должное — она развеяла его меланхолию.
Спустя несколько часов он осознал, что ока сделала для него гораздо больше.
Саймон опирался на дверной косяк, наблюдая за проходящим мимо народом, когда к нему подошел Брент. Люди обычно изрядно ускоряли шаги, проходя мимо двери Саймона, потому что он славился неудержимой болтливостью, и если ему случалось заполучить жертву, то ей было уже не вырваться раньше чем через час. Крайне редко кто-нибудь заходил к нему добровольно, как это сейчас сделал Брент.
Беда Саймона состояла в том, что он обладал великолепным умом, но был слишком ленив, чтобы им пользоваться. Возможно, ему повезло бы больше, родись он в более энергичный век; а так, все, что он мог делать в Чалдисе, — это оттачивать свой ум за счет других, таким образом приобретая известность, но не популярность. Но он был совершенно незаменим, потому что являлся кладезем знаний.
— Саймон, — без предисловий начал Брент. — Я хочу узнать подробнее о местности, где мы живем. Карты почти ничего об этом не говорят — они слишком новые. Что было здесь раньше, в старые времена?
Саймон поскреб свою жесткую, как проволока, бороду.
— Не думаю, что между «сейчас» и «раньше» есть какие-то существенные различия. А какое время тебя интересует?
— Например, время городов.
— Ну, деревьев тогда было поменьше. Здесь, наверное, находились сельскохозяйственные угодья, используемые для получения пиши. Ты видел машину, которую откопали, когда строили амфитеатр? Она, должно быть, очень старая — даже не электрическая.
— Да, — нетерпеливо ответил Брент, — я видел ее. Но расскажи мне о городах поблизости. Судя по карте, в нескольких сотнях милях к западу по побережью был город, называемый Шастар. Ты знаешь что-нибудь о нем?
— А, Шастар, — пробормотал Саймон; он явно тянул время. — Очень интересный город. Я думаю, у меня даже где-то есть картинка. Подожди минутку, я сейчас.
Он исчез в доме и появился лишь минут через пять. За это время он произвел широкий библиотечный поиск, хотя человек из книжных веков вряд ли догадался бы об этом по его действиям. Все знания, которыми располагал Чалдис, содержались в металлическом ящике метр на метр; он вмещал в атомарных моделях эквивалент миллиарда печатных томов. Почти все знания человечества и вся сохранившаяся литература скрывались здесь.
Это было не просто пассивное хранилище мудрости, при нем имелся и свой помощник-библиотекарь. Когда Саймон передал свое требование неутомимой машине, поиск пошел вглубь, слой за слоем, по почти бесконечной сети цепей. Потребовалась лишь доля секунды, чтобы найти нужную информацию, поскольку он сообщил название и примерную дату. Затем он расслабился, так как мысленные образы хлынули в его мозг под легким самогипнозом. Знания останутся при нем всего на несколько часов — вполне достаточно для его цели — и затем сотрутся. Саймон не имел никакого желания забивать свой организованный ум ненужными вещами, ведь для него вся история подъема и паления больших городов являлась лишь историческим эпизодом, не представляющим особой важности. Да, эпизод был интересным, но он принадлежал прошлому, которое исчезло безвозвратно.
Брент по-прежнему терпеливо ждал, когда Саймон появился из дома с выражением мудрости на лице.
— Картинок я не нашел, — сообщил он, — видимо, жена опять устраивала уборку. Но я расскажу тебе то, что я смог вспомнить о Шастаре.
Брент устроился поудобнее; разговор, похоже, получится долгим.
— Шастар был одним из самых последних городов, построенных человеком. Ты, конечно, знаешь, что города появились в человеческой культуре довольно поздно — примерно двенадцать тысяч лет назад. Они занимали все более важное положение, и число их росло в течение нескольких тысяч лет, пока наконец в них не скопились миллионы людей. Нам очень трудно представить себе, что значит жить в местах, где одна сплошная пустыня из стекла и камня и ни травинки на мили вокруг. Но города были необходимы, прежде чем транспорт и система коммуникаций не сделались совершенными, — ведь людям приходилось жить рядом, чтобы выполнять всякие сложные операции по торговле и производству, от которых зависела их жизнь.
Огромные города начали исчезать тогда, когда воздушный транспорт стал универсальным. Угроза нападения в те далекие, варварские времена тоже стала причиной их расселения. Но в течение длительного периода…
— Я изучал историю того времени, — вставил Брент не вполне правдиво. — Я знаю все о…
— …в течение долгого времени оставалось еще много небольших городов, которые существовали скорее благодаря культурным, чем коммерческим связям. Население в них достигало нескольких тысяч, и они продержались еще несколько веков после падения городов-гигантов. Вот почему Оксфорд, Принстон и Гейдельберг все еще что-то значат для нас, тогда как города много крупнее их — просто ничего не значащие названия. Но даже малым городам был вынесен приговор, когда изобретение интегратора дало возможность любому самому малому сообществу производить без усилий все, что нужно для цивилизованной жизни.
Шастар построили тогда, когда технически уже не было никакой необходимости в городах, но раньше, чем люди осознали, что культура городов подходит к концу. Кажется, его задумали как произведение искусства, спроектировали как одно целое, и те, кто там жил, в основном были художниками в той или иной области. Но существование его длилось недолго; в конечном итоге жители покинули город.
Саймон внезапно умолк, словно задумался о тех далеких веках, когда люди открыли дорогу к звездам и мир разорвался надвое. По этой дороге ушел цвет человеческой расы, остались немногие; и поэтому казалось, что история на Земле подошла к концу. В течение тысячи лет изгнанники изредка возвращались в Солнечную систему, горя желанием рассказать о чужих солнцах, о далеких планетах и об огромной империи, которая однажды подчинит себе всю Галактику. Но существует препятствие, которое не может преодолеть ни один даже самый быстроходный корабль; и препятствие это встало между Землей и ее странствующими детьми: у них становилось все меньше и меньше общего. Оттого корабли прилетали все реже и реже, пока наконец интервал между их появлениями не достиг нескольких поколений. Саймон не слышал о прибытии кораблей в течение последних трехсот лет.
Редко когда приходилось подгонять его в разговоре, но Брент сказал:
— Меня больше интересует сам город, чем его история. Ты думаешь, он все еще стоит?
— Как раз к этому я и подхожу, — Саймон вздрогнул, отвлеченный от своих мыслей. — Конечно, город стоит; тогда строили надежно. Но могу я спросить, с чего это ты им вдруг заинтересовался? В тебе что, пробудилась тяга к археологии? О, думаю, я догадался, в чем дело.
Брент прекрасно знал, что бесполезно что-либо скрыть от профессионального болтуна, сующего нос в чужие дела, каким и был Саймон.
— Я подумал, — попытался он оправдаться, — там могут еще оставаться какие-то интересные вещи, которые стоило бы отыскать, несмотря на то что прошло столько времени.
— Пожалуй, мне тоже следовало бы его как-нибудь посетить, — сказал Саймон с сомнением, — Город ведь совсем близко. Но как ты собираешься до него добираться? Флайер деревня тебе не выделит, а пешком туда не дойдешь, это заняло бы не меньше недели.
Однако именно это Брент и намеревался сделать — добраться до города пешком. И в течение последующих нескольких дней он всячески намекал соседям, что предпочитает ставить перед собой лишь такие задачи, осуществление которых связано с преодолением трудностей. То есть необходимость приходилось возвести в добродетель.
Приготовления Брента производились в атмосфере сугубой секретности. Он не хотел распространяться о своих планах: а вдруг кому-нибудь из тех, кто имеет право на пользование флайером, вздумается увидеть Шастар раньше его. Ведь нет ничего более унизительного, чем добраться до Шастара, затратив неделю пути, только ради того, чтобы увидеть приветствующего тебя соседа, у которого путешествие заняло всего десять минут.
С другой стороны, Бренту представлялось чрезвычайно важным, чтобы вся деревня и особенно Ирадна понимали, какие исключительные усилия он прилагает. Правду знал только Саймон, но он ворчливо согласился помалкивать. Брент надеялся, что ему удалось отвлечь внимание от своей настоящей цели благодаря его разговорам об области восточнее Чалдиса, где тоже находились несколько важных археологических реликвий.
Количество еды и снаряжения, необходимых для двух-трех-недельного путешествия, было поистине ошеломляющим, и первые же расчеты привели Брента в мрачное настроение. Он чуть было не предпринял попытку выпросить или взять взаймы флайер, но не было никакой гарантии, что просьба его будет удовлетворена, а отказ наверняка означал бы провал всего предприятия. Однако совершенно невозможно унести на себе все необходимое для путешествия.
Для любого человека, принадлежащего к менее автоматизированной эпохе, решение проблемы было бы абсолютно очевидно, но Брент пришел к такому решению не сразу. Летающие машины уничтожили все прочие виды сухопутного транспорта, кроме одного, самого старого и самого универсального из всех существующих, — а именно лошадей.
В Чаддисе было шесть лошадей — небольшое количество для поселения такого размера. В некоторых деревнях лошадей было больше, чем людей, но в той, где жил Брент, возможностей для верховой езды было мало. Сам Брент ездил верхом два или три раза в жизни, да и то понемногу.
Жеребец и пять кобыл находились в ведении Тригора, сварливого маленького человечка, у которого не осталось другого интереса в жизни, кроме животных. Он не принадлежал к самым выдающимся умам Чалдиса, но, казалось, был абсолютно счастлив, управляя частным зверинцем, в котором содержались собаки разных пород, пара бобров, несколько обезьян, львенок, два медведя, молодой крокодил и другие животные, которыми обычно принято восхищаться, не подходя к ним близко. Единственная неприятность, омрачавшая его безмятежную жизнь, состояла в том, что пока ему не удавалось приобрести слона.
Тригор, когда к нему подошел Брент, стоял, облокотившись на ворота загона. С ним разговаривал незнакомец, который был представлен Бренту как любитель лошадей из соседней деревни. Сходство между этими двумя людьми, от манеры одеваться до выражения лиц, делало подобное представление совершенно ненужным.
Человек всегда чувствует неуверенность в присутствии специалиста своего дела, поэтому Брент обрисовал свою проблему довольно робко. Тригор серьезно выслушал его и долго молчал, прежде чем ответить.
— Любая подойдет, если знать, как с ними управляться, — медленно сказал он, показывая большим пальцем в сторону кобыл. Тригор с сомнением оглядел Брента. — Они, знаешь ли, как люди: если невзлюбят тебя, то с ними уже ничего не поделаешь.
— Это точно, — эхом откликнулся незнакомец с явным удовольствием.
— А вы научите меня, как с ними управляться?
— Может, да, а может, нет. Я помню одного паренька вроде тебя, он тоже хотел выучиться ездить верхом. Так лошади просто не подпускали его к себе. Не подпускали, и все тут. Он им не понравился.
— Лошади умеют разбираться в людях, — мрачно изрек второй лошадник.
— Это верно, — согласился Тригор, — ты должен их чувствовать. Тогда тебе не о чем беспокоиться.
Брент подумал, что в бесчувственных машинах преимуществ, пожалуй, побольше.
— Я не хочу ехать верхом, — решительно объяснил он. — Я хочу, чтобы лошадь везла мое снаряжение. Или против этого она тоже станет возражать?
Его тонкий сарказм остался незамеченным. Тригор торжественно кивнул.
— С этим проблем не возникнет, — заверил он, — все они позволят вести себя в поводу — все, кроме Маргаритки, вот так. Ее-то ни за что не заставишь.
— Тогда, как вы думаете, не могу ли я взять на время одну из… ну, наиболее сговорчивых?
Тригор неуверенно переминался с ноги на ногу, раздираемый двумя противоречивыми желаниями. Ему было приятно, что кому-то понадобились его любимые животные, но он беспокоился, как бы им не причинили вреда. Любой ущерб, нанесенный Бренту, имел гораздо меньшее значение.
— Ну, — начал он с сомнением, — сейчас это не слишком-то удобно…
Брент внимательнее посмотрел на кобыл и понял, почему. Только одну из них сопровождал жеребенок, но было очевидно, что эта несправедливость скоро будет исправлена. Вот и еще одно осложнение, которого он не предусмотрел.
— Сколько времени ты будешь отсутствовать? — спросил Трегор.
— Самое большее, три недели, а скорее, уложусь в две.
Трегор быстро произвел в уме какие-то гинекологические подсчеты.
— Тогда ты можешь взять Солнышко, — заключил он, — с ней у тебя не будет проблем. Это самое покладистое животное из всех, что у меня когда-либо жили.
— Большое вам спасибо, — сказал Брент. — Я обещаю, что с ней все будет в порядке. Вы не могли бы нас представить друг другу?
— Не понимаю, почему я должен это делать? — добродушно ворчал Джон, подвешивая корзины к лоснящимся бокам Солнышка. — Тем более я даже не знаю, куда ты собрался и зачем.
Брент не мог ответить на последний вопрос, даже если бы хотел. В те моменты, когда к нему возвращалась способность разумно мыслить, он понимал, что ничего ценного он в Шастаре не найдет. На самом деле, трудно придумать что-нибудь, чего у людей теперь нет или чего бы они мгновенно ни получили, если бы захотели. Само путешествие должно стать доказательством — самым убедительным, какое он только мог придумать, — его любви к Ирадне.
На нее, без сомнения, произвела впечатление его подготовка, а он уж постарался подчеркнуть те опасности, с которыми ему придется встретиться по дороге. Ночлег под открытым небом, простая, однообразная пища, опасность заблудиться и сгинуть по пути навсегда. Ну и дикие, кровожадные звери, живущие среди холмов и в лесу.
Старый Йохан, которому было плевать на традиции предков, протестовал, считая, что недостойно приличному кузнецу иметь дело с таким пережитком первобытных времен, как лошадь. За это Солнышко слегка его укусила, выбрав удобный момент, когда Йохан наклонился, чтобы осмотреть ее копыта. Кузнец быстро приладил к сбруе целый набор корзин, куда Брент мог поместить все необходимое для путешествия — даже свои рисовальные принадлежности, с которыми он решительно отказался расстаться. Тригор тоже не остался в стороне и дал совет по поводу некоторых технических элементов упряжи.
Ранним утром все было готово к путешествию. Брент намеревался отправиться в путь как можно более скромно и слегка огорчился, когда на самом деле все так и вышло. Провожать его пришли только Джон и Ирадна.
В задумчивой тишине они добрались до конца деревни и перешли реку по изящному металлическому мосту. Затем Джон сказал с притворной ворчливостью:
— Не вздумай там сломать свою глупую шею, — пожал ему руку и ушел, оставив наедине с Ирадной. Это был очень великодушный поступок, и Брент оценил его.
Пользуясь тем, что хозяин занят, Солнышко принялась щипать травку на берегу. Брент неуклюже переступал с ноги на ногу, затем сказал не вполне искренне:
— Ну, мне, наверное, пора.
— Долго тебя не будет? — спросила Ирадна. Подарка Джона на шее у нее не было — возможно, он ей уже надоел. Брент вначале искренне понадеялся на это, но потом осознал, что вот так же быстро она может потерять интерес к любой вещи, которую он принесет для нее.
— Недели две, если все пойдет хорошо, — мрачно ответил он.
— Будь осторожен, — сказала она довольно легкомысленным тоном, — и не делай ничего опрометчивого.
— Я постараюсь, — заверил Брент, все еще не решаясь двинуться, — но иногда человек должен рисковать.
Бессвязный разговор мог тянуться бесконечно, но Солнышко решительно положила ему предел. Рука Брента с привязанным к ней поводком ощутила резкий рывок, и его потащило вперед. Юноша восстановил равновесие и собрался помахать Ирадне на прощание рукой, но та сама подбежала к нему, крепко поцеловала и исчезла в направлении деревни быстрее, чем он успел опомниться.
Она перешла на медленный шаг, когда Брент был уже далеко. Она могла вернуться, догнать его, но не стала этого делать. Странное, торжественное чувство, неуместное этим солнечным весенним утром, нахлынуло на нее. Очень приятно быть любимой, но в этом есть свои недостатки, если не думать только о настоящем моменте. На короткий миг Ирадна задумалась, справедливо ли она поступает по отношению к Джону, к Бренту, даже к себе самой. Ведь когда-то придется принять решение — его нельзя откладывать вечно. И все-таки она никак fie могла решить, кого из юношей предпочитает, — и вообще, любит ли она кого-то из них.
Никто пока что не объяснил ей, а сама она еще не открыла для себя того факта, что, если задаешься вопросом — на самом ли деле ты влюблен или нет, — ответ будет всегда отрицательным.
За Чалдисом лес простирался на пять миль к востоку, затем переходил в огромную равнину протяженностью на весь континент. Шесть тысяч лет назад эта земля была одной из самых больших пустынь в мире, и ее благоустройство стало одним из первых достижений Атомного века.
Брент намеревался двигаться на восток, пока не кончится лес, а затем повернуть на север, к нагорью. Согласно картам, когда-то гряду холмов пересекала дорога, связывая все города на побережье в одну цепочку, которая заканчивалась Шастаром. Было бы очень удобно следовать по этому пути, но Брент сомневался, что дорога вообще сохранилась.
Он держался ближе к реке, надеясь, что она не изменила свое русло с тех пор, как были созданы карты. Река служила ему и проводником, и дорогой через лес, а когда деревья росли слишком густо, они с Солнышком всегда могли брести по мелководью. Лошадь не возражала против выбранного Брентом маршрута, к тому же здесь не было травы, которая могла бы отвлечь ее, и почти без понуканий она мерно трусила вперед.
После полудня лес стал редеть и вскоре остался позади. Брент вышел на открытую равнину.
Он сверился с картой и заметил, что с тех пор, как она была составлена, деревня сдвинулась на огромное расстояние к востоку. Но существовал проторенный путь на север, к низким холмам и дороге, которая вдоль них пролегала в древности и к которой он намеревался добраться к вечеру.
В этот момент возникли первые непредвиденные трудности технического характера. Солнышко, обнаружив вокруг весьма аппетитную траву, не могла воспротивиться желанию останавливаться через каждые три-четыре шага, чтобы перекусить. Брент был привязан к ее уздечке весьма коротким поводком, поэтому рывок в результате каждой остановки едва не выдергивал его руку из плеча. Тогда он удлинил поводок, но это лишь ухудшило дело, так как Брент вовсе потерял контроль над сотрудницей.
Брент животных любил, но вскоре ему стало ясно, что Солнышко просто злоупотребляет его мягким характером. Он терпел такое с полмили, а затем направился к дереву, у которого были особенно тонкие и гибкие ветви. Солнышко осторожно, краем влажного карего глаза наблюдала, как Брент срезает тонкий упругий прут и напоказ затыкает его за пояс. Затем она двинулась в путь с такой прытью, что он едва за ней успевал.
Как Трегор и говорил, она и вправду была потрясающе умным животным.
Холмистая гряда, к которой Брент направлялся, высотой была футов в двести, с длинными, пологими склонами. Но на пути к вершине гряды оказалось множество мелких холмиков и лощинок, которые приходилось преодолевать; поэтому солнце уже совсем клонилось к закату, когда они добрались доверху. На юге Брент увидел лес, который они недавно пересекли. Где-то там, в гуще деревьев скрывался Чалдис, хотя юноша не мог сказать с точностью, в каком именно месте лежит деревня. Он с удивлением обнаружил, что не видит никаких следов большой просеки, сделанной людьми. К юго-востоку равнина простиралась докуда хватало глаз, ровное море травы кое-где разнообразили маленькие рощицы деревьев. На горизонте Брент увидел крошечные перемещающиеся точки и подумал, что там движется большое стадо диких животных.
На севере лежало море, примерно в десяти милях вниз по длинному пологому склону. Оно казалось почти черным в свете заходящего солнца, и только на мелких, будто нарисованных волнах поблескивали ниточки пены.
До наступления темноты Брент нашел защищенную от ветра лощину, привязал Солнышко к кусту и разбил маленькую палатку, которую старый Йохан специально соорудил для его похода. В теории, поставить палатку — операция проще некуда, но, как и множество людей до него, Брент неожиданно обнаружил, что она требует изрядной выдержки и умения. Наконец все было сделано, и он устроился на ночь.
Существуют вещи, которые не постигнешь умом, но которым учатся на печальном опыте. Кто б мог подумать, что лежащее тело человека настолько чувствительно к едва заметному уклону почвы, на которой разбита палатка? Еще более неприятными оказались резкие температурные колебания в голове и в ногах палатки, вызванные, по-видимому, сквозняками. Брент мог вынести постепенную смену температуры, но эти непредсказуемые изменения раздражали его до безумия.
Он раз десять пробуждался от тревожного сна, а может быть, ему только казалось, что десять, но к рассвету настроение Брента упало до нулевой отметки. Он чувствовал себя окоченевшим, несчастным, тело его затекло. Было такое чувство, что он не спал дней пять или шесть, и предложи ему кто сейчас отказаться от этого предприятия, он бы наверняка согласился. Он был готов — и даже с охотой — встретиться с опасностями на пути завоевания любви; но то, с чем он столкнулся в пути, было другое дело.
Неудобство ночлега вскоре забылось благодаря очарованию нового дня. Здесь, на холмах, воздух казался свежим, с привкусом соли — из-за ветра, дующего со стороны моря. Каждая травинка вокруг была густо усыпана капельками росы, но скоро роса исчезла, высушенная встающим солнцем. Как хорошо жить на свете — особенно когда молод. И вдвойне лучше — когда ты еще и влюблен.
Они набрели на дорогу довольно быстро, практически только начав дневной переход. Брент не замечал ее раньше, потому что она шла ниже по склону, обращенному к морю, а он ожидал увидеть ее на вершине холмов. Дорога была в превосходном состоянии — казалось, прошедшие тысячелетия нисколько ее не тронули. Природа тщетно пыталась стереть ее у себя с лица; слои почвы, которые изредка покрывали дорогу, смывались и сметались ее же, природы, слугами — ветром и дождем. Огромной сплошной лентой, окаймляя море на протяжении более тысячи миль, дорога по-прежнему соединяла города, любимые когда-то человеком и оставленные им в далекие времена.
Это была одна из величайших дорог мира. В древности она служила тропой, по которой дикие племена добирались к морю, чтобы обмениваться товарами с хитрыми ясноглазыми пришельцами из чужих земель. Затем у дороги появились новые, более обстоятельные хозяева; солдаты могущественной империи выровняли и вытесали дорогу среди холмов так искусно, что направление, которое они ей дали, осталось неизменным на протяжении многих веков. Они вымостили дорогу камнем, чтобы их непобедимые армии могли двигаться по ней быстрее любых других на земле; и именно по этой дороге их легионы молниеносно перемещались по велению великого города, чье имя они носили. Веками позднее этот город в свой последний час призвал их домой — и дорога осталась пустынной на пятьсот лет.
Потом были другие войны; под знаменами с изображением-полумесяца и с именем Пророка на устах армии отправлялись на запад завоевывать христианский мир. Еще позднее, спустя несколько веков, здесь произошло последнее и величайшее из сражений, определивших исход войны, когда в пустыне сшиблись насмерть стальные монстры и с неба падала дождем смерть.
Центурионы, паладины, бронированные дивизии, даже сама пустыня — все исчезло. Но дорога осталась — самое прочное из всех человеческих творений. Много веков несла она свою ношу; а теперь на всей ее тысячемильной ленте не было ни одного путника, кроме Брента и его лошади.
Брент шел по дороге три дня, все время видя рядом с собой море. Он привык к невеликим трудностям кочевой жизни, и даже ночные неудобства теперь ему не столь досаждали. Погода стояла превосходная, теплые дни и мягкие ночи, — но их тонкое очарование подходило к концу.
Вечером четвертого дня он рассчитал, что находится меньше чем в пяти милях от Шастара. Дорога отвернула от побережья, огибая большой мыс, выступающий далеко в море. За ним лежала защищенная бухта, на берегах которой и был расположен город; дорога обходила возвышенность и огромной плавной дугой спускалась к северу с холмов прямо к Шастару.
Ближе к сумеркам Бренту стало ясно, что он зря надеется увидеть цель своего путешествия в этот же день. Погода портилась, и на западе быстро собирались густые, мрачные тучи. Теперь он двигался в гору — дорога медленно пошла на подъем — и последний кряж миновал уже при сильном штормовом ветре. Он устроил бы здесь на ночь привал, если бы смог найти защищенное место, но холм выглядел абсолютно голым, и ничего другого не оставалось, кроме как с трудом продолжать путь.
Далеко впереди, на самой вершине холма, вырисовывался какой-то темный силуэт на фоне грозового неба. Надежда, что он может оказаться убежищем, гнала Брента вперед. Солнышко, опустив голову против ветра, упорно шагала с ним рядом.
До вершины оставалось примерно с милю, когда начался дождь; сперва одиночные крупные капли, а потом — сплошные потоки. Ничего не было видно дальше чем на несколько шагов, даже когда удавалось открыть глаза под секущими дождевыми струями. Брент уже настолько промок, что находил даже какое-то мазохистское удовольствие в состоянии, которое он испытывал. Но чисто физическая борьба с ураганом быстро его утомила.
Казалось, прошли века, пока дорога снова сделалась ровной и он понял, что достиг вершины. Брент напряг в темноте глаза и разглядел невдалеке, впереди, огромную темную фигуру, которую до этого он принимал за строение.
Дождь стал слабеть, когда юноша приблизился к непонятному объекту, тучи над головой поредели, пропуская последние угасающие лучи солнца с запада. Света было достаточно, чтобы Брент увидел, что перед ним находится вовсе не здание, а огромный каменный зверь, разлегшийся на вершине холма и смотрящий в море. У Брента не было времени рассмотреть загадочное существо повнимательнее, он поспешил поставить рядом палатку, воспользовавшись чудовищем как укрытием, защищавшим ее от ветра.
Уже совсем стемнело, когда Бренту удалось обсохнуть и приготовить еду. Некоторое время он отдыхал в своем маленьком теплом оазисе, испытывая состояние блаженной усталости, которая приходит после тяжелого и успешного труда. Затем он заставил себя встать, взял фонарик и вышел в ночь.
Шторм разметал тучи, и в небе блистали звезды. На западе серп луны шел прямо по следам солнца. На севере Брент ощущал недремлющую стихию моря. Внизу в темноте лежал Шастар, волны набегали на его каменные причалы, но как юноша ни напрягал взгляд, так ничего и не разглядел.
Брент двинулся вдоль гигантской статуи, фонариком освещая камень. Поверхность его казалась гладкой, без стыков или каких-либо швов, и хотя время выбелило ее и местами покрыло пятнами, следов разрушений не наблюдалось. Возраст изваяния определить было невозможно; статуя могла оказаться старше Шастара, а возможно, ее установили несколько веков назад.
Резкий бело-голубой луч фонаря скользил по блестящим бокам каменного животного и наконец упал на огромную спокойную морду и остановившиеся глаза. Можно было назвать эту морду лицом — мало того, лицом человеческим, но больше слов, чтобы его описать, у Брента не находилось. Ни женское, ни мужское, оно казалось совершенно равнодушным к страстям людей; затем Брент разглядел, что за многие века бури и ураганы оставили на нем свои неизгладимые следы. Бесчисленные капли дождя проделали борозды на его каменных шеках, и складывалось ощущение, что в них застыли крупные слезы — слезы по городу, чье рождение и смерть были теперь одинаково далеки.
Брент так устал, что, когда проснулся, солнце уже поднялось высоко. Юноша полежал с минуту в льющемся сквозь стенки палатки полусвете, приходя в себя и вспоминая, где он. Затем встал на ноги и, моргая, вышел на свет, прикрывая рукой глаза от ослепляющего сияния.
Сфинкс выглядел меньше, чем ночью, хотя все равно производил сильное впечатление. Брент увидел, что он выкрашен в богатые осенние золотые тона, какими не обладает ни один камень в природе. Из этого юноша заключил, что Сфинкс не принадлежит, как он подозревал раньше, к какой-либо доисторической культуре. Он был создан с помощью науки из какого-то непостижимо прочного синтетического вещества, и Брент догадывался, что время его рождения лежит где-то между днем нынешним и временем, когда древними скульпторами, вдохновленными знаменитым мифом, был изваян оригинал.
Медленно, словно опасаясь того, что может увидеть, Брент повернулся к Сфинксу спиной и взглянул на север. Холм у его ног понижался, и дорога тянулась к морю. А там, на ее конце, лежал Шастар.
Город был освещен солнцем, блестел и переливался разноцветными красками. Время, казалось, не тронуло просторные здания по обеим сторонам широких улиц. Широкая лента мрамора, окаймлявшая бухту, также хорошо сохранилась; парки и сады, хотя и заросли сорняками, пока что не стали джунглями. Город вытянулся по линии бухты примерно на пару миль и где-то еще на милю уходил от побережья на материк — по стандартам прошлого он действительно был довольно мал. Но Бренту он казался огромным, а лабиринт улиц и площадей до невозможности сложным. Затем он начал понимать подчеркнутую симметрию проекта, рассмотрел основные магистрали и увидел искусство, с которым строители сумели избежать как монотонности, так и диссонанса.
Брент долго стоял на вершине холма, думая о том чуде, которое развернулось перед его глазами. Он был один на фоне величественного пейзажа, крошечная фигурка, робкая и потерянная, перед достижениями исполинов прошлого. Ощущение истории, вид протяженного пространства холма, над благоустройством которого человек трудился более миллиона лет, ошеломляли. В этот момент Бренту казалось, что он обозревает скорее Время, а не Пространство, и в ушах его шелестит ветер вечности, точно так же, как он звучал для кого-то в прошлом.
Солнышко, похоже, очень нервничала, когда они подошли к окраине города. Она никогда в жизни не видела ничего подобного, и Брент не мог не разделять ее беспокойства. Даже человек, совсем лишенный воображения, почувствует что-то зловещее в домах, пустующих столетиями, — а дома Шастора пустовали добрую четверть десятка тысячелетий.
Дорога шла прямо, как стрела, между двух высоких колонн белого металла; как и Сфинкс, они выглядели потускневшими, но не разрушенными. Брент и Солнышко прошли мимо этих молчаливых стражей и оказались перед длинным низким зданием, которое, должно быть, являлось чем-то вроде пропускного пункта для приезжающих в город гостей.
На расстоянии казалось, что Шастар оставлен только вчера, но сейчас, вблизи, Брент видел тысячи следов запустения. Цветной камень зданий был испятнан паутиной времени, окна напоминали пустые глазницы черепа, кое-где в них непостижимым образом сохранились даже осколки стекла.
Брент привязал лошадь у низкого здания за колоннами и направился к его входу по булыжникам и густой пыли. Двери на месте не оказалось, если она вообще когда-нибудь здесь была, и он прошел через высокий арочный проем в холл, который, казалось, протянулся по всей длине здания. Через равные промежутки располагались проходы в соседние помещения, а прямо перед ним широкий пролет лестницы вел на второй этаж.
Изучение здания заняло почти час, и когда он вышел, то почувствовал бесконечную подавленность. Его тщательное расследование абсолютно ни к чему не привело. Все комнаты, огромные и маленькие, были абсолютно пустыми. Он чувствовал себя муравьем, ползающим между костей дочиста обглоданного скелета.
На солнце дух его слегка взбодрился. Здание, которое он осматривал, возможно, было чем-то вроде административного офиса и не хранило в своих стенах ничего, кроме бумаг и информации в памяти машин. Где-нибудь в другом месте все сложится по-иному. Но все равно громадность предстоящего поиска устрашала его.
Брент медленно ступал по широким проспектам, восхищаясь фасадами домов, возвышающихся по обеим сторонам. Ближе к центру Брент увидел один из многочисленных городских парков. Парк невероятно зарос сорняками и кустарником, но кое-где еще просвечивали поляны с травой, и он решил оставить Солнышко пастись на одной из них, самому же продолжить поиск. Вряд ли лошади вздумается куда-то уйти, раз здесь столько еды.
В парке было спокойно, и на некоторое время Брент ощутил полное нежелание уходить отсюда и окунаться в пустыню брошенного города. Растения здесь сильно отличались от всех, что Брент видел раньше, — дикие потомки тех, которые жители Шастара выращивали и лелеяли много веков назад. Вот так, стоя среди высокой травы и незнакомых цветов, Брент услышал в застывшей утренней тишине звук, который теперь всегда будет связан для него с Шастаром. Звук шел со стороны моря, и хотя Брент никогда в жизни не встречал его раньше, в сердце вспыхнуло чувство болезненного узнавания. Да это же морские чайки печально перекликаются над волнами.
Совершенно очевидно, что потребуется много дней, чтобы даже поверхностно осмотреть город, и первым делом для этого надо найти место для жилья. Брент провел несколько часов в поисках какого-нибудь жилого района, прежде чем до него стало доходить: что-то в этом Шастаре не так. Все здания, которые он осматривал, были предназначены для работы, развлечений и тому подобного; но ни одно не предназначалось для жилья. Ответ на загадку пришел не сразу. Когда он разобрался в городской планировке, то заметил, что почти везде на пересечении улиц стоят низкие одноэтажные строения примерно одинаковой формы. Они были круглыми или овальными и имели много входов и выходов, располагающихся с разных сторон. Когда Брент вошел в одно из таких строений, то оказался перед рядом больших металлических ворот, каждые из которых были снабжены вертикальным рядом индикаторных ламп. И тогда он понял, где жили люди Шастара.
Сперва идея подземных домов показалась ему отвратительной. Затем он справился с предубежденностью против этого и понял, что такое решение было столь же разумным, сколь и неизбежным. Исчезла необходимость загромождать поверхность и закрывать солнечный свет зданиями, построенными ради сна и принятия пищи. Спрятав эти помещения под землю, жители Шастара смогли построить благородный и просторный город — и одновременно сделать город таким компактным и небольшим, что всего его можно пройти из конца в конец за какой-то час.
Лифты, конечно, не работали, но существовали аварийные лестницы, винтообразно уходящие во темноту. Когда-то весь этот подземный мир, наверняка, был ярко освещен, но сейчас Брент заколебался, прежде чем начал спускаться по ступенькам. У него имелся фонарик, но он никогда до этого не бывал в подземельях и ужасно боялся заблудиться в их глубине. Но, пожав плечами, он стал спускаться; в конце концов, если принять элементарные меры предосторожности, то опасности можно избежать — существуют сотни других выходов, даже если он и заблудится.
Брент спустился на первый уровень и оказался в длинном широком коридоре, простирающемся так далеко, насколько хватало луча фонарика. По обе стороны шли ряды пронумерованных дверей, и Брент миновал их не меньше десятка, пока наконец нашел одну открытую. Медленно, почти благоговейно, он вошел в маленькое помещение, которое некогда служило кому-то домом.
Апартаменты выглядели чистыми и прибранными, потому что грязи и пыли было неоткуда взяться. Мебель в этих удивительно пропорциональных комнатах отсутствовала; ничего ценного жившие в этих комнатах не оставили, что было неудивительно при неторопливом, длиной в век, исходе. Некоторые приспособления все еще пребывали на положенных им местах; прибор доставки пищи с циферблатом набора был сильно похож на тот, что находился дома у Брента, и вид его почти притупил ощущение прошедших веков. Диск все еще поворачивался, хотя и с трудом, и Брент нисколько не удивился бы, увидев еду, появившуюся в камере материализации.
Брент исследовал еще несколько таких помещений, прежде чем поднялся на поверхность. Хотя он не нашел ничего ценного, но ощутил все возрастающее чувство родства по отношению к людям, которые когда-то здесь жили. Однако он по-прежнему считал, что они были ниже уровнем, потому что жизнь в городе — как бы прекрасен, как бы блестяще спроектирован он ни был — для него, Брента, являлась символом варварства.
В последнем помещении он увидел ярко раскрашенную комнату с фресками на стенах, изображающими танцующих животных. Картины были полны прихотливого юмора, который, наверняка, радовал сердца детей, для которых они и были созданы. Брент рассматривал их с интересом, потому что это были первые произведения изобразительного искусства, с которыми он столкнулся в Шастаре. Он уже собирался уходить, когда обнаружил кучку пыли в углу и, наклонившись, чтобы рассмотреть получше, понял, что перед ним остатки куклы. Ничего не сохранилось, кроме нескольких цветных пуговиц, рассыпавшихся в пыль у него в руках, лишь только он к ним притронулся. Интересно, подумал Брент, почему эта печальная маленькая реликвия была брошена здесь хозяйкой? Затем он на цыпочках вышел и поднялся на поверхность, к пустынным, залитым солнцем улицам. Больше он не стал спускаться в подземный город.
Ближе к вечеру он заглянул в парк — убедиться, что с Солнышком все в порядке, — и приготовился провести ночь в одном из многочисленных маленьких зданий, разбросанных среди кустов и деревьев. Здесь, окруженный зеленью, Брент вполне мог себе представить, что опять вернулся домой. Он спал лучше, чем за все время пути с тех пор, как покинул Чалдис, и в первый раз за много дней его последние мысли перед сном были не об Ирадне. Магия Шастара уже подействовала на Брента; мысль о бесконечно сложных путях развития цивилизации — той самой цивилизации, которую, как раньше ему казалось, он презирал, — повлияла на него гораздо скорее, чем он мог вообразить. Чем дольше он оставался в городе, тем больше отдалялся от него тот наивный и самоуверенный юноша, который вошел сюда всего несколько часов назад.
Второй день укрепил впечатления первого. Шастар не умер в течение года или даже в течение жизни одного поколения. Люди медленно покидали его, когда новая — и однако какая старая! — модель общества стала развиваться и человечество вернулось в холмы и леса. Они ничего не оставили, кроме этих мраморных памятников тому образу жизни, который ушел навсегда. Даже если что-нибудь ценное и оставалось, тысячи любопытных исследователей, появлявшихся здесь в течение прошедших пятидесяти веков, давно забрали все это. Брент обнаружил много следов своих предшественников; их имена были высечены на стенах повсюду — должно быть, желанию хоть как-то увековечить себя в веках люди не в силах противиться.
Наконец, утомленный бесплодными поисками, он вышел на берег моря и уселся на широкой каменной стене волнореза. Море, лежащее в нескольких футах под ним, выглядело совершенно спокойным и лазурно-голубым. Оно было таким тихим и чистым, что юноша видел рыб, проплывающих в глубине, а в одном месте сумел разглядеть обломок затонувшего судна, лежащего на боку и обросшего водорослями, которые развевались в воде, словно длинные зеленые волосы. Он знал, что бывают дни, когда волны с грохотом обрушиваются на каменные причалы, потому что широкий парапет за ними был устлан толстым ковром камушков и ракушек, принесенных сюда штормами.
Спокойствие морского пейзажа, преподающего наглядный урок тщеты человеческих устремлений, унесло ощущения разочарования и поражения. Хотя Шастар не дал ему ничего материально ценного, Брент не жалел о своем путешествии. Сидя здесь, на волнорезе, повернувшись к суше спиной и глядя на слепящую голубизну моря, он почувствовал себя свободным от всех проблем. Прошлое вспоминалось без боли, и он с бесстрастным любопытством взирал на сердечную тревогу, что томила его последние месяцы.
Брент прошел немного вдоль моря, затем медленно повернул к городу. Неожиданно он оказался перед большим круглым зданием с крышей, сделанной в виде купола из какого-то полупрозрачного материала. Без особого интереса он пробежался взглядом по зданию, решив, что это еще один театр или концертный зал. Юноша хотел пройти мимо, когда какая-то непонятная сила заставила его подойти к зданию и устремиться в дверной проем.
Внутри здания свет проходил через потолок почти беспрепятственно, Бренту даже показалось, что он все еще на открытом воздухе. Все здание было разделено на многочисленные просторные залы, назначение которых он осознал с внезапным приливом волнения. Предательские, лишенные цветного своего наполнения четырехугольники рам на стенах говорили о том, что стены когда-то украшали картины; возможно, какие-то из картин где-нибудь и остались, и было бы интересно увидеть, что мог предложить Шастар в области серьезного искусства. Брент, все еще с сознанием своего превосходства, не ожидал особенных впечатлений, и вдруг…
Вдруг — сияние красок по всей огромной стене, сразившее его наповал. На минуту он неподвижно застыл в дверном проеме, не в состоянии целиком охватить картину глазами и осознать значение увиденного. Затем, медленно, он начал вглядываться в детали огромной и сложной фрески, которая была перед ним.
Почти ста футов длиной, она была, безусловно, самой прекрасной вещью, которую Брент видел за свою жизнь. Шастар ошеломил и потряс его, но трагедия города странным образом не тронула юношу. Но эта фреска ударила его прямо в сердце — она говорила на понятном языке, и пока он ее разглядывал, последние остатки снисходительного отношения к прошлому разлетелись, как листья во время бури.
Взгляд Брента перемещался по фреске со все возрастающим вниманием. Слева виднелось море, такое же глубокое и синее, как здесь, в Шастаре, и по его поверхности плыли какие-то странные суда, приводимые в движение несколькими рядами вёсел и ветром, раздувающим паруса. Суда двигались к далекой земле. Настенная роспись включала в себя не только преодоленные по воде мили, но и прошедшие за время плавания дни; вот сцена, где суда достигают берега, и на широкой равнине лагерем становятся войска; при этом палатки, знамена и колесницы кажутся крошечными по сравнению со стенами осажденного города-крепости. Взгляд зрителя сам собой скользил по крепостным стенам и останавливался на женщине, стоявшей на вершине стены и смотревшей вниз, на готовящиеся к приступу войска, пересекшие ради нее морские просторы.
Женщина наклонилась вперед, и ее пляшущие на ветру волосы светятся золотым ореолом. На лице женщины застыла печаль, такая глубокая, что ее нельзя передать словами, но печаль не портила неправдоподобную красоту лица — красоту, настолько заворожившую Брента, что он долго не мог оторвать от женщины взгляда. Когда ему это наконец удалось, юноша проследил, куда она смотрит, и увидел нескольких воинов в тени под стеной. Они собрались вокруг чего-то, изображенного настолько условно, что Бренту понадобилось время, чтобы понять, что там такое. Это был большой деревянный конь, установленный на катках. Не проявив к коню особого интереса, Брент снова перевел взгляд на одинокую фигуру на стене, которая, как он уже догадался, и была тем центральным стержнем, вокруг которого разворачивался сюжет. Центральным, потому что взгляд зрителя, передвигаясь по пространству картины, потихоньку перемешался в будущее и находил ту же крепость, только уже разрушенную, видел дым над горящим городом и флот, который возвращался домой, выполнив свою миссию.
Брент покинул здание только тогда, когда света стало настолько мало, что глаза уже ничего не видели. Раз за разом он внимательно изучал картину, затем некоторое время тщетно искал подпись художника. Но ни подписи, ни названия не было и, возможно, не существовало никогда. История, рассказанная на картине, была, должно быть, слишком известна и не нуждалась в пояснениях. Однако на стене рядом кто-то из предыдущих посетителей Шастара нацарапал стихотворные строки:
Вот этот лик, что тысячи судов Гнал в дальний путь, что башни Илиона Безверхие сжег некогда дотла![4]Илион! Какое странное, какое волшебное имя! Но, увы, Бренту Оно ничего не говорило. Принадлежит ли это имя истории или мифологии, спрашивал он себя, не зная, что до него много других людей задавало тот же самый вопрос.
Когда юноша вышел в светящиеся сумерки, у него перед глазами все еще стояла эта печальная, неземная красота. Наверное, не будь он художником и не имей такую восприимчивую натуру, впечатление не было бы настолько ошеломляющим. Но ведь неизвестный мастер именно этого и добивался — чтобы, подобно Фениксу, из затухающих углей великой легенды в человеке возродилось чувство прекрасного. Мастер сумел запечатлеть и сохранить для будущих веков красоту, служить которой было единственной целью и оправданием жизни.
Брент долго сидел под звездами, смотрел, как месяц скрывается за домами, и мучался над вопросами, на которые он никогда не сможет найти ответа. Остальные картины галереи ушли, рассеялись без следа не только по всей земле, но и по всей вселенной. Можно ли было сравнить их с единственной гениальной работой, которая теперь навечно представляет искусство Шастара?
Всю ночь ему снились странные сны, и, едва рассвело, Брент вернулся в музей. В его мозгу возник план; он был настолько диким и амбициозным, что поначалу Брент не воспринимал его как нечто серьезное, но затем мнение его изменилось. Почти неохотно он установил маленький складной мольберт и приготовил краски. Раз он нашел в Шастаре вещь, которая была и редкостной, и прекрасной, то, может быть, у него хватит умения унести хоть слабое ее отражение назад в Чалдис.
Конечно, невозможно было скопировать больше, чем фрагмент огромного полотна, но проблема выбора не стояла. Он ни разу не рисовал портрета Ирадны, но теперь он изобразит женщину, которая, если когда-то и существовала, то давным-давно обратилась в прах.
Несколько раз он останавливался, чтобы обдумать противоречие, и наконец понял, что разрешил его. Ирадну он не рисовал потому, что сомневался в своем умении и боялся ее критики. Здесь, сказал себе Брент, такой проблемы не существует. Не стоит задумываться, какова будет реакция Ирадны, когда он вернется в Чалдис, принеся в качестве единственного подарка портрет другой женщины.
По правде говоря, до этого он рисовал для себя и ни для кого больше. В первый раз в жизни Брент сталкивался с великим произведением искусства, и это выбило у него почву из-под ног. Он чувствовал себя дилетантом, он боялся, что у него ничего не выйдет, и все-таки он продолжал рисовать, надеясь неизвестно на что.
Брент упорно работал весь день, и такой сосредоточенный труд принес ему некоторое успокоение. К вечеру он нарисовал стены крепости и башни с бойницами и был готов взяться за сам портрет. Спал он в эту ночь хорошо.
На следующее утро оптимизм его несколько подугас. Запасы пищи подходили к концу, и мысль, что время работает против него, встревожила юношу. Казалось, все идет не как надо; цвета не те, рисунок, нанесенный на холст вчера, сегодня перестал ему нравиться.
К тому же, как назло, испортилось освещение, хотя был еще только полдень. Брент догадался: небо заволокли тучи. Он подождал, когда сделается яснее, но никаких намеков на это не наблюдалось, и юноша возобновил работу. Сейчас или никогда. Если он не сумеет правильно передать красоту волос, он откажется от этой затеи…
День быстро убывал, но в яростной сосредоточенности на работе Брент не замечал времени. Раз или два ему показалось, что он слышит какие-то звуки, и Брент подумал, что, наверное, приближается шторм.
Нет более неприятного ощущения, чем внезапная, абсолютно неожиданная уверенность, что ты больше не один. Трудно сказать, какой импульс заставил Брента медленно положить кисть и еще медленнее повернуться к огромному дверному проему футах в сорока позади него. Человек, стоявший в проеме, должно быть, вошел беззвучно, и Брент не знал, сколько времени тот наблюдал за ним. Скоро к человеку присоединились двое других. Все трое, они стояли в дверях, не делая попытки войти.
Брент медленно поднялся на ноги, в голове его словно пронесся вихрь. На секунду он даже вообразил, что к нему явились духи из прошлого, но разум возобладал над фантазией. В конце концов, если он пришел в Шастар, почему другие не могли сделать того же?
Он шагнул вперед. Один из незнакомцев сделал то же самое. Когда их разделяло несколько ярдов, незнакомец заговорил очень ясным голосом и довольно медленно:
— Я надеюсь, что не помешал вам.
Начало разговора было вполне обыденным, но Брента слегка озадачило произношение человека, вернее то, с какой тщательностью он произносит слова. Казалось, незнакомец обеспокоен тем, что, если он начнет говорить быстрее, Брент его не поймет.
— Все в порядке, — отозвался Брент, тоже стараясь говорить медленно, — но вы меня немного смутили: я не ожидал тут никого встретить.
— Мы тоже, — отозвался эхом его собеседник с легкой улыбкой. — Мы понятия не имели, что в Шастаре еще кто-то живет.
— А я и не живу, — объяснил Брент. — Я здесь такой же посетитель, как вы.
Вошедшие обменялись улыбками, как будто вспомнили какую-то им одним понятную шутку. Затем один из них отцепил от пояса маленький металлический предмет и сказал в него несколько тихих слов — каких, Брент не расслышал. Юноша заключил, что сюда прибудут другие из этой же компании, и почувствовал раздражение — теперь его одиночество будет нарушено окончательно.
Двое незнакомцев подошли к огромной фреске и стали ее рассматривать. Бренту было интересно, что они думают по поводу картины; сам он не собирался высказывать свое восторженное к ней отношение, а вдруг для них это не более чем просто изображение и они не испытывают к ней никакого благоговения. Третий мужчина остался стоять рядом с ним, сравнивая копию Брента с оригиналом. Все трое, казалось, намеренно избегали дальнейшего разговора. Возникла длинная и неловкая пауза; затем двое стоявших перед картиной подошли к ним.
— Ну, Эрлин, что ты об этом думаешь? — спросил один, махнув рукой в сторону фрески. Казалось, они совершенно потеряли интерес к Бренту.
— Очень хороший примитив конца третьего миллениума, не хуже тех, что у нас. Ты не согласен, Латвар?
— Не совсем. Я бы не сказал, что это конец третьего. Во-первых, сюжет…
— Опять ты со своими теориями! Но — возможно, ты прав. Это слишком хорошо для последнего периода. Пожалуй, я бы отнес ее где-нибудь к две тысячи пятисотому году. Что ты скажешь, Треской?
— Согласен Возможно, Арун или один из его учеников.
— Чушь! — сказал Латвар.
— Вздор! — фыркнул Эрлин.
— Ну хорошо, хорошо, — отозвался добродушно Трескон, — я занимаюсь этим каких-то там тридцать лет, а вы — едва только родились. Склоняюсь пред вашими превосходящими знаниями.
Брент следил за их разговором со все возрастающим интересом, отвлекающим его от работы.
— Вы художники? — наконец выдавил он.
— Конечно, — величественно ответил Трескон. — Чего бы мы иначе здесь делали?
— Чертов лжец, — заметил Эрлин, даже не повышая голоса. — Да из тебя не выйдет художника, проживи ты хоть тысячу лет. Ты всего лишь художественный критик — и прекрасно об этом знаешь. Те, кто способен, — творят, кто не способен — критикуют.
— Откуда вы? — с некоторой робостью спросил Брент. Он никогда еще не встречался с такими людьми, как эти. Все они были немолоды, но, казалось, сохранили юношеский задор и энтузиазм. Все их движения и жесты выглядели немного утрированными, а когда они говорили друг с другом, то делали это так быстро, что Бренту трудно было следить за разговором.
Прежде чем ему успели ответить, случилась новая неожиданность. Теперь уже с десяток людей появились в дверном проеме — и замерли, увидев великолепную фреску. Затем они подошли к ним, и Брент сразу же оказался внутри небольшой толпы.
— Ну вот, Кондор, — сказал Трескон, — Мы нашли человека, который может ответить на твои вопросы.
Мужчина, к которому он обратился, секунду пристально смотрел на Брента, затем бросил быстрый взгляд на его неоконченный рисунок и слегка улыбнулся. Повернувшись к Трескону, он вопросительно вздернул брови.
— Нет, — коротко бросил он.
Брент ощутил раздражение. Происходило что-то странное, и ему сделалось неприятно.
— Не будете ли вы так любезны объяснить мне, что происходит? — обиженно спросил он.
Кондор посмотрел на него с непроницаемым выражением:
— Думаю, я сумею объяснить лучше, если мы с вами отсюда выйдем.
Он говорил так, будто ему никогда не приходилось повторять сказанное дважды, и Брент послушно пошел за ним. Остальные толпой повалили следом. На выходе из галереи Кондор отступил в сторону и кивком предложил Бренту выйти первому.
Снаружи все еще лежала неестественная тьма, словно грозовая туча закрыла солнце, но тень, лежавшая на всем Шастаре, не была тенью от тучи.
С десяток пар глаз наблюдали за Брентом, пока он стоял, уставясь в небо и пытаясь определить истинный размер корабля, повисшего над городом. Он находился так близко, что чувство перспективы утратилось, можно было только оценивать его плавные металлические обводы, простирающиеся до самого горизонта. Но должен же быть хоть какой-то звук, какой-нибудь признак наличия двигателей, энергии, державшей эту огромную массу в воздухе. Вокруг царила тишина, много глубже той, которую Бренту доводилось когда-либо слышать. Даже крик морских чаек исчез, словно их тоже перепугали незваные гости, вторгшиеся в их небеса.
Наконец Брент повернулся к людям, столпившимся около него. Он понимал, что они ждут его реакции, и причина их отчужденного, хотя и добродушного поведения стала внезапно совершенно ясна. Этим людям, равным по возможностям богам, он казался почти дикарем, который волею случая умеет говорить на их языке, пережитком собственного полузабытого прошлого, напомнившим им те времена, когда Землю населяли их общие предки.
— Теперь вы понимаете, кто мы? — спросил Кондор.
Брент кивнул.
— Вас долго не было, — сказал он, — мы вас почти забыли.
Он опять взглянул в небо, на огромную металлическую арку, перекрывающую его, и подумал о том, как странно, что первый контакт после стольких веков должен произойти здесь, в городе, который оставлен людьми. Но оказалось, эти звездные жители Шастар хорошо помнят и прекрасно знают. А затем, дальше к северу, взгляд Брента уловил всплеск отраженного солнечного света. Двигаясь по участку неба, видимому между горизонтом и кораблем, приближался еще один небесный гигант, похоже что близнец первого, хотя на расстоянии он казался меньше. Он быстро промелькнул вдалеке и через несколько секунд исчез из виду.
Значит, этот корабль — не единственный? И сколько их может прилететь еще? Каким-то образом эта мысль напомнила Бренту о фреске, перед которой он только что сидел и работал, и о судах под парусами и с веслами, приближающихся к обреченному городу. И в его душу вошел, ползком пробравшись из глубинных, потайных пещер памяти, страх перед чужаками, которые когда-то были проклятием человечества. Он повернулся к Кондору и обвиняюще воскликнул:
— Вы хотите захватить Землю!
Минуту все молчали. Затем Трескон сказал с легкой ноткой раздражения в голосе:
— Ну же, командир. Вам придется объяснить это рано или поздно. Вот вам и случай попрактиковаться.
Командир Кондор усмехнулся немного нервно, и улыбка поначалу успокоила Брента, а затем наполнила его еще более тревожными предчувствиями.
— Вы несправедливы к нам, молодой человек, — сказал он серьезно. — Мы не захватываем Землю. Мы ее эвакуируем.
— Я надеюсь, — сказал Трескон, который проявлял покровительственный интерес к Бренту, — что на этот раз ученые получили хороший урок, хотя я в этом сомневаюсь. Они всего лишь скажут: «Ну, что ж, аварии иногда происходят», — а когда выправят положение, то немедленно примутся за что-нибудь еще. Сигма-поле — безусловно, их наиболее эффектная неудача, но прогресс не остановишь.
— А если оно накроет Землю — что произойдет?
— То же самое, что произошло с контрольной аппаратурой, когда поле вырвалось на свободу. Аппаратура сделалась пылью и растворилась в космосе. С вами произойдет то же самое, если вы не уберетесь отсюда вовремя.
— Почему? — спросил Брент.
— Думаю, технические подробности тебя мало интересуют, верно? Скажу одно — это связано с принципом неопределенности. Древние греки — или, возможно, египтяне — открыли, что нельзя определить положение каждого атома с абсолютной точностью. Существует вероятность, пусть маленькая, что он может находиться в любом месте Вселенной. Люди, которые создавали поле, надеялись использовать его как средство передвижения. Оно изменило бы атомные вероятности таким образом, что корабль на орбите Веги вдруг решил бы, что ему следует быть возле Бетельгейзе. Но, похоже, это самое Сигма-поле делает только половину работы. Оно множит вероятности, но не дает возможности ими управлять. И теперь оно вслепую блуждает среди звезд, питаясь межзвездной пылью и случайно встреченными солнцами. Никто пока не изобрел способа нейтрализовать его, хотя существует довольно жуткая идея, что стоит сделать его близнеца и организовать их столкновение. Если они попытаются это сделать, я точно знаю, что произойдет.
— Я не понимаю, почему мы должны беспокоиться, — сказал Брент, — оно ведь на расстоянии десяти световых лет отсюда.
— Десять световых лет — это слишком мало для такой штуки, как Сигма-поле. Оно движется вслепую, зигзагообразно, способом, который у математиков называется «походкой пьяного». Если нам не повезет, оно окажется здесь уже завтра. Вероятность того, что Земля останется в стороне, примерно двадцать к одному, так что, возможно, через несколько лет вы сможете снова вернуться домой, как будто ничего не было.
«Как будто ничего не было…» Что бы ни принесло будущее, старый образ жизни уходил навсегда. То, что сейчас происходит в Шастаре, в той или иной форме происходило по всей Земле. Брент расширенными глазами наблюдал, как странные машины катили по великолепным улицам Шастара, очищая мусор веков и делая город снова пригодным для жилья. Как почти погасшая звезда может внезапно засиять в полную мощь в последний час своего существования, так и Шастар на несколько месяцев становился одной из столиц мира, домом для армии ученых, техников и администраторов, которые спустились сюда из космоса.
Брент узнавал пришельцев все лучше. Их энергия, щедрость и та детская радость, которую доставляли им их почти сверхчеловеческие возможности, не переставали удивлять юношу. Они были наследниками Вселенной, этого неисчерпаемого источника чудес, из которого они черпали и тайны которого раскрывали. Несмотря на все их знания, в них присутствовало ощущение эксперимента, даже веселой беспечности по отношению ко всему, что они делали. Само Сигма-поле служило типичным примером этого: да, они допустили ошибку', но, казалось, ни в коей мере не огорчались ею и были уверены, что рано или поздно они ее исправят.
Несмотря на суматоху, воцарившуюся в Шастаре, как и на всей планете, Брент упрямо занимался своим делом. Оно давало ему ощущение чего-то прочного и стабильного в мире меняющихся ценностей, и поэтому он отчаянно цеплялся за свою работу. Время от времени Трескон или его коллеги навещали его и давали советы — обычно дельные, — хотя юноша не всегда ими пользовался. Порою, когда Брент уставал и хотел дать отдых перетруженным голове и глазам, он выходил из зала на изменившиеся улицы города. Его новых обитателей отличало то, что хотя они не собирались пробыть здесь больше нескольких месяцев, все равно не жалели усилий по наведению в городе чистоты. Казалось, они хотели довести Шастар до полного совершенства, которое удивило бы и самих создателей города.
Шел к концу четвертый день его художнических трудов — так долго Брент еще никогда не работал ни над одной вещью, — когда юноша начал замедлять темп. С деталями можно было возиться сколь угодно долго, но это грозило риском испортить картину. Не без гордости за полученный результат, он отправился на поиски Трескона.
Искусствоведа он нашел в галерее спорящим с коллегами о том, что из накопленных человечеством предметов искусства следует спасать, а что — нет. Латвар и Эрлин угрожали физической расправой, если на борт будет взята еще одна картина Пикассо или Фра Анжелико. Поскольку Брент не слышал ни о том ни о другом, он без угрызения совести выложил собственную просьбу.
Трескон в молчании стоял перед картиной, время от времени взглядывая на оригинал. Его первый вопрос был совершенно неожиданным.
— Кто эта девушка? — спросил он.
— Вы сами сказали мне, что ее звали Еленой, — удивился Брент.
— Я имею в виду ту, которую ты на самом деле изобразил.
Брент посмотрел на холст, затем снова на оригинал. Странно, что он не замечал разницы раньше, но в женщине, которая стояла на стене крепости, безусловно было что-то от Ирадны. Копии, которую он хотел сделать, не получилось. Его ум и сердце выразили себя его же руками.
— Я понимаю, что вы имеете в виду, — медленно произнес он. — В моей деревне есть девушка, на самом деле я и пришел-то сюда, чтобы найти ей какой-нибудь подарок — что-нибудь, что произвело бы на нее впечатление.
— Значит, ты зря потратил время, — веско изрек Трескон. — Если она действительно любит тебя, она скоро скажет тебе об этом. Если нет — ты не сможешь заставить ее. Все очень просто.
Бренту это вовсе не казалось таким простым, но он предпочел не спорить.
— Вы не сказали мне, что вы об этом думаете, — проговорил он.
— В работе что-то есть, — осторожно ответил Трескон. — Через тридцать, ну, может быть, двадцать лет ты сможешь чего-то достичь, если будешь продолжать заниматься. Конечно, мазки довольно грубые, а эта рука выглядит как гроздь бананов. Но у тебя хорошая, смелая линия, и я высоко ценю то, что ты не стал делать точную копию. Ее может сделать любой дурак — но твоя работа говорит о том, что ты обладаешь своеобразной индивидуальностью. Тебе необходимо больше практики и, что еще важнее, больше опыта. Ну, я думаю, это мы тебе можем обеспечить.
— Если вы имеете в виду отлет с Земли, — сказал Брент, — то это не тот опыт, который мне нужен.
— Это принесет тебе пользу. Неужели мысль о путешествии к звездам не вызывает возбуждения в твоем уме?
— Нет, только тревогу. Но я не могу воспринимать это всерьез, потому что не верю, что вы можете заставить нас улететь.
Трескон мрачновато улыбнулся.
— Вы очень быстро улетите отсюда, когда Сигма-поле высосет звездный свет с вашего неба. И может быть, это вовсе неплохо. У меня есть предчувствие, что мы прибыли как раз вовремя. Хотя я часто посмеиваюсь над учеными, они навсегда освободили нас от застоя, который охватил твою расу.
Тебе нужно оторваться от Земли, Брент; ни один человек, проживший всю жизнь на поверхности планеты, никогда не видел звезд, но только их слабое отражение. Ты можешь вообразить, что это значит — висеть в космосе в самом центре одной из великих систем и видеть вокруг себя цветные слепящие солнца? Я видел это, и я видел звезды, плывущие в кольцах малинового огня, как ваша планета Сатурн, но в тысячу раз больше. А можешь ты вообразить ночь в мире, расположенном возле центра Галактики, где все небо сияет звездным туманом, который еще не породил звезд? Ваш Млечный Путь — лишь рассеянная горстка третьеразрядных солнц. Подожди, вот увидишь Центральную Туманность, тогда узнаешь, что такое настоящие звезды! Выпей свою порцию всего, что может предложить тебе Вселенная, а затем, если захочешь, возвращайся на Землю со своими воспоминаниями. Тогда ты сможешь начать работу. Только тогда, но не раньше, ты узнаешь, художник ты или нет.
Все это произвело на Брента впечатление, но не убедило.
— Если согласиться с вашими аргументами, — сказал он, — настоящее искусство начинается только после путешествия в космос.
— Ну, на этом тезисе основана целая искусствоведческая школа, — ответил Трескон. — На самом деле космическое путешествие — это одна из самых значительных вещей, которые повлияли на искусство. Путешествия, исследования, контакт с другими культурами — все это великий стимул для развития интеллектуальной деятельности, — Трескон сделал жест в сторону фрески на стене перед ними. — Люди, которые создали эту легенду, были мореплавателями, и пол мира побывало в их портах. Но через несколько тысяч лет моря стало слишком мало для вдохновения или приключений, и тогда пришло время отправляться в космос. Ну, а теперь это время пришло для тебя, нравится тебе это или нет.
— Не нравится. Я хочу жить здесь с Ирадной.
— То, чего людям хочется, и то, что им принесет пользу, — абсолютно разные вещи. Я желаю тебе удачи как живописцу, но не знаю, стоит ли пожелать тебе удачи в твоем другом стремлении. Великое искусство и блаженство у домашнего очага взаимно исключают друг друга. Рано или поздно тебе придется выбирать.
«Рано или поздно тебе придется выбирать». Эти слова все еще звучали в мозгу Брента, когда он шел по великой дороге к гряде холмов, а ветер дул ему навстречу. Солнышко явно жалела, что каникулы кончились, и двигалась вперед неохотно. Но постепенно пейзаж вокруг них менялся, линия горизонта отодвигалась к морю, и город стал все больше походить на игрушку, сложенную из разноцветных кубиков, — игрушку, над которой неподвижно и без всяких усилий висел космический корабль.
В первый раз Брент увидел корабль целиком — он находился примерно на уровне его глаз, — и юноша смог охватить корабль взглядом. По форме он представлял цилиндр, но заканчивался сложными многогранными конструкциями, о чьих функциях Брент не мог даже строить догадок. Огромная закругленная задняя часть ощетинивалась равно таинственными выпуклостями, рифлениями и куполами. В нем скрывались мощь и целеустремленность, но не было красоты, и Брент смотрел на него с неприязнью.
Этот мрачный монстр, узурпировавший небо, — если бы он мог рассеяться и исчезнуть, как облака, проплывающие мимо его бортов! Но корабль не исчезнет лишь потому, что Бренту этого хочется. По сравнению с теми силами, которые были задействованы здесь и сейчас, Брент и его проблемы казались просто микроскопическими, и юноша это прекрасно знал. Короткая передышка в истории, тихая минута между вспышкой молнии и первым раскатом грома. Вскоре над планетой разразится гроза, и этого мира не станет вовсе, а он и его народ сделаются бездомными изгнанниками среди звезд. Это было будущее, которое он не осмеливался вообразить, будущее, страшившее гораздо глубже, чем могли понять Трескон и его товарищи, для которых Вселенная была игрушкой уже пять тысяч лет.
Казалось несправедливым, что это должно было случиться именно в его время, после всех этих безмятежных веков. Но человек не может торговаться с судьбой и выбирать покой или приключения по своей воле. Приключения и перемены опять пришли в мир, и он должен воспользоваться этим — как сделали его предки, когда начался век космоса и первые хрупкие корабли устремились к звездам.
В последний раз он взглянул на Шастар, затем повернулся к морю спиной. Солнце било ему в глаза, и дорога впереди казалась покрытой яркой, мерцающей дымкой, дрожащей, как мираж или лунная дорожка на подернутой рябью поверхности воды. В течение минуты Брент задавался вопросом, не обманывает ли его зрение, но затем увидел, что это не иллюзия.
Так далеко, как только можно было охватить взором, дорога и земля по обе ее стороны были покрыты бесчисленными нитями паутины, такой тонкой и хрупкой, что только пляшущий солнечный свет позволял ее разглядеть. Последнюю четверть мили он шагал прямо по этим нитям, и нити сопротивлялись его шагам не больше, чем кольца дыма.
Все утро принесенные с ветром легкие паучки падали с неба миллионами, и, уставившись в голубизну, Брент сумел разглядеть секундные вспышки солнечного света на летящих шелковых нитях, когда запоздалые воздушные путешественники пролетали мимо. Не зная, куда летят, крошечные существа рискнули отправиться в бездну, гораздо более недружелюбную и бездонную, чем та, с которой встретится он, когда придет время проститься с Землей. Это был урок ему, который он запомнит вперед на долгие недели и месяцы.
Сфинкс медленно уходил за линию горизонта, сливаясь с Шастаром за изогнутым полумесяцем холмов. Только однажды Брент оглянулся на каменное чудовище, чье многовековое бодрствование клонилось к концу. Затем медленно зашагал навстречу солнцу, а невидимые пальцы снова и снова гладили Бренту кожу, когда шелковые нити касались его лица, влекомые ветром, дувшим из дома.
Второй рассвет
Перевод П. Ехилевской
— Вот они, — сказал Эрис, приподнимаясь на передних конечностях, чтобы удобнее было смотреть на простирающуюся под ними долину. На секунду горечь и боль ушли из его головы, и Джерил, чей мозг лучше, чем какой-либо другой, был настроен на мозг Эриса, едва их смогла обнаружить. Появился даже некий оттенок нежности, который остро напомнил Джерил другого Эриса, того, которого она помнила еще до войны и казавшегося теперь таким далеким, недосягаемым, словно он остался лежать на равнине вместе с остальными.
Темная волна пленников двигалась по долине в их сторону; движение ее было прерывистым, неестественным — паузы и топтание на месте сменялись быстрыми рывками вперед. Волну обрамляло золото — тонкая линия стражей аселени, которых было пугающе мало по сравнению с черной массой плененных. Но и малого их количества хватало вполне: они требовались исключительно для того, чтобы направлять бесцельно тычущийся по сторонам поток в нужное русло. Однако при виде этой многотысячной вражьей стаи Джерил поймала себя на том, что не в силах удержать дрожь, и плотней прижалась к своему другу — серебряная шкура на фоне золота. Эрис не подал виду, а возможно, и не заметил этого.
Страх исчез, когда Джерил увидела, как медленно движется вперед поток темных тел. Чего-то подобного она примерно и ожидала, но в реальности все оказалось гораздо хуже. Когда пленники подошли ближе, вся ненависть и горечь, что были в ней, отхлынули от ее мозга, и их место заняла жалость. Никто из ее расы больше не будет бояться этих безмозглых, лишенных разума орд, которых гнали сейчас в долину.
Страже ничего не оставалось делать, кроме как понукать пленников бессмысленными бодрящими криками, с какими обычно взрослые обращаются к детям, слишком маленьким, чтобы понимать слова. Джерил, как ни старалась, не могла уловить искру разума ни в одном из нескольких тысяч пленников, проходивших так близко. Тем ярче было для нее величие этой победы — и тем ужаснее. Чувствительный ум Джерил улавливал примитивные мысли, более присущие детям, находящимся на границе сознания. Побежденный враг превратился даже не в детей, а в младенцев с телами взрослых.
Поток находился в нескольких футах от них. В первый раз Джерил осознала, насколько митранианцы крупнее ее народа и как красиво свет двойного солнца отражается от их темных атласных тел. Вот какой-то внушительного вида митранианец, на целую голову выше Эриса, откололся от общей массы и неуверенно пошел к ним, остановившись в нескольких шагах. Затем он съежился, как потерявшийся испуганный ребенок, его великолепная голова стала неуверенно поворачиваться из стороны в сторону в поисках неизвестно чего. На секунду огромные пустые глаза остановились на лице Джерил. Она знала, что для митранианцев она выглядит такой же красивой, как для ее собственной расы, — но никакого проблеска эмоций не отразили его черты, а голова по-прежнему бесцельно и безостановочно двигалась. Раздраженный охранник вернул пленника к остальным.
— Пойдем, — взмолилась Джерил. — Я больше не могу этого видеть. Зачем ты вообще привел меня сюда? — Последняя мысль прозвучала тяжелым укором.
Эрис помчался по травянистым склонам огромными прыжками, и, пока он бежал, его мозг передал ей послание. В мыслях друга все еще стоял отголосок нежности, хотя боль была слишком глубока, чтобы как-нибудь ее утаить.
— Я хотел, чтобы все — и ты — видели, что нам пришлось сделать, чтобы выиграть войну. Тогда, возможно, в течение нашей жизни войн больше не будет.
Он подождал ее на вершине холма, нисколько не устав от подъема. Поток пленников был теперь далеко внизу. Джерил припала к земле рядом с Эрисом и начала ощипывать скудную растительность, сумевшую подняться сюда по склонам из плодородной долины. Постепенно Джерил начала приходить в себя после виденного.
— Но что с ними будет? — наконец спросила она; у нее все не выходил из памяти тот лишенный разума великолепный гигант, который шел в плен и не понимал этого.
— Их можно научить есть, — сказал Эрис, — в долине хватит еды на полгода, а затем их отведут дальше. Это тяжелая ноша для наших собственных ресурсов, но у нас существуют моральные обязательства — и мы внесли это пункт в мирный договор.
— А их уже нельзя будет вылечить?
— Нет. Их ум полностью поврежден. Они останутся такими до смерти.
Наступила долгая пауза. Джерил рассеянно блуждала взглядом по холмам, волнами сбегающим к морю. Местами между холмами проглядывала голубая полоска — таинственное, неодолимое море. Его голубизна скоро сгустится и потемнеет, слепящее белое солнце уже садилось, и в небе скоро останется только красный диск — в сто раз больше, но гораздо менее яркий, чем его спутник.
— Я понимаю, мы были вынуждены это сделать, — сказала наконец Джерил. Она думала почти про себя, но позволила отпустить свои мысли на расстояние, на котором Эрис их тоже слышал.
— Ты видела их, — коротко сказал он. — Они крупнее и сильнее нас. Хотя мы превосходили их числом, положение было безвыходным: в конце концов, я думаю, они бы нас победили. Сделав то, что мы сделали, мы спасли от смерти тысячи — от смерти или от унижения.
Горечь опять заполнила его мысли, и Джерил не осмеливалась на него даже взглянуть. Эрис наглухо закрыл глубины своего мозга, но она знала, что он думает об обломке рога на своем лбу. Война — не считая ее завершающей фазы — велась двумя способами: острыми как бритва копытами маленьких, не приносящих почти никакой пользы передних ног и похожим на единорожий рогом. И вот последним-то Эрис уже никогда не сможет воспользоваться, и эта потеря была главной причиной его печали и грубости, которая порой заставляла Эриса обижать тех, кто его любил.
Похоже, Эрис кого-то ждал, но Джерил не могла догадаться, кого. Она предпочитала не прерывать его мыслей, когда Эрис был в таком настроении, и поэтому просто оставалась с ним рядом, и ее тень слилась с его тенью, далеко протянувшись по склону горы.
Джерил и Эрис принадлежали к расе, в лотерее природы оказавшейся удачливее других, — и все-таки они были лишены одного из величайших ее даров. Они обладали могучим телом и таким же могучим разумом и жили в плодородном мире с умеренным климатом. По человеческим меркам вид их был очень странным, но не отталкивающим. Их лоснящиеся, покрытые шкурой тела сужались книзу, оканчиваясь единственной гигантской задней конечностью, на которой они могли совершать скачки над землей высотой до тридцати футов. Две передние конечности были гораздо меньше и в основном служили для равновесия. Они заканчивались заостренными копытцами, которые могли смертельно ранить в бою, но не имели никакого другого полезного применения.
И аселени, и их близкие родственники митранианцы обладали умственными способностями, которые позволили им достичь высот в математике и философии, но зато они не имели никакой власти над физическим миром. Дома, орудия производства, одежда — любые проявления материальной культуры — были им совершенно неведомы. Для рас, обладавших руками, щупальцами или другими средствами манипуляции, их культура могла показаться в высшей степени ограниченной; но такова приспособляемость мозга и сила привычки, что они редко замечали этот свой недостаток и не могли вообразить иного способа жизни. Для них было совершенно естественным бродить большими стадами по плодородным долинам, останавливаясь там, где находилось изобилие пищи, и вновь пускаясь в путь, когда ее запасы уменьшались. Эта кочевая жизнь оставляла достаточно времени для занятий философией и даже некоторыми искусствами. Телепатические возможности этой расы покуда не лишили их голосов, и они разрабатывали сложную вокальную музыку и еще более сложную хореографию. Но больше всего они гордились диапазоном своих мыслей, на протяжении жизни тысяч поколений они направляли свои мысли блуждать в туманной бесконечности метафизики. О физике же, и вообще о любой науке о веществе, они ничего не ведали, не знали даже, что подобные существуют.
— Кто-то идет, — внезапно сказала Джерил. — Кто это?
Эрис не потрудился даже взглянуть в сторону, куда Джерил показывала, но в его ответе прозвучала некоторая напряженность.
— Это Аретенон. Я здесь договорился с ним встретиться.
— Я рада. Когда-то вы были такими хорошими друзьями, что я даже огорчилась, когда вы поссорились.
Эрис угрожающе ударил копытом о дерн, как он делал всегда, будучи смущен или раздражен.
— Наша дружба кончилась, когда во время пятой битвы он оставил меня на Равнине. Я тогда еще не знал, зачем ему понадобилось уйти.
Глаза Джерил расширились во внезапном удивлении и понимании.
— Ты хочешь сказать — он имел какое-то отношение к Безумию и к тому, как закончилась война?
— Да. Очень немногие знают о рассудке больше, чем он. Я не знаю, какую именно роль он сыграл, но, безусловно, важную. Не думаю, что он когда-нибудь нам об этом расскажет.
Все еще находясь от них на существенном расстоянии, Аретенон большими прыжками зигзагом поднимался на холм. Скоро он был уже рядом и инстинктивно наклонил голову, чтобы коснуться ногами Эриса в универсальном жесте приветствия. Затем он остановился, страшно смущенный, и возникла неловкая пауза, пока Джерил не кинулась спасать ситуацию, отпуская какие-то общие замечания.
Наконец Эрис заговорил, и Джерил с облегчением ощутила его явное удовольствие от встречи со старым другом, впервые после того, как они расстались в разгар войны. Она же в последний раз виделась с Аретеноном еще раньше и теперь с удивлением замечала, как сильно он изменился. Аретенон был много моложе Эриса, но сейчас никто бы не догадался об этом. Часть его когда-то золотой шкуры с возрастом потемнела, и Эрис с присущим ему искрометным юмором вдруг заметил, что скоро его трудно будет отличить от митранианца.
Аретенон улыбнулся.
— В последние несколько недель это было бы мне полезно. Я только что прошел через всю их страну. Как ты можешь предположить, мы там были не слишком популярны. Если бы они узнали, кто я, вряд ли бы мне удалось вернуться живым, несмотря на перемирие.
— Но ведь не ты же, в конце концов, ответственный за Безумие? — спросила Джерил, не в силах сдержать любопытство.
Мгновенно она почувствовала стену плотного оборонительного тумана, которой, словно шитом, Аретенон отгородился от мира. Затем пришел ответ, странно приглушенный, как будто пришел откуда-то издалека, что очень редко происходило при телепатическом контакте.
— Нет, главная ответственность лежит не на мне. Но… я был очень близок к тем, кто это устроил.
— Конечно, — ответил Эрис несколько раздраженно, — я только простой солдат, и мне этих вещей не понять. Но я бы хотел знать, как вы это сделали. Естественно, — добавил он, — ни Джерил, ни я никому об этом не расскажем.
Опять показалось, что завеса окутала мысли Аретенона. Затем он слегка приподнялся.
— Мне мало что позволено об этом рассказывать. Как ты знаешь, Эрис, меня всегда интересовал ум и его работа. Ты помнишь игры, в которые мы когда-то играли, когда я пытался проникнуть в твои мысли, а ты делал все, чтобы остановить меня? И как я иногда заставлял тебя действовать против твоей воли?
— Я все равно считаю, — сказал Эрис, — что ты не смог бы сделать этого с кем-то, тебе не знакомым, а в тех играх я бессознательно тебе помогал.
— Тогда это так и было, но теперь все изменилось. И доказательство тому — вон там, в долине.
Он сделал жест, указывая на последних, отставших пленников, которых подгоняла охрана. Темный поток почти прошел, и вскоре вход в ущелье будет закрыт.
— Когда я стал старше, — продолжал Аретенон, — я проводил все больше и больше времени, исследуя работу ума и пытаясь понять, почему некоторые из нас могут с такой легкостью проникать в чужие мысли, а другие совершенно неспособны это сделать и вынуждены оставаться в изоляции, в одиночестве, должны общаться звуками или жестами. И особо меня заинтересовали те редкие, полностью расстроенные умы, чьи обладатели уровнем ниже, чем дети.
Мне пришлось отложить свои исследования, когда началась война. Затем, ты знаешь, во время пятой битвы, меня неожиданно вызвали. Даже сейчас я точно не знаю, кто ответствен за это. Меня привезли в одно место, далеко отсюда, где я нашел маленькую группу мыслителей — с некоторыми из них я уже был знаком.
План был простым — и грандиозным. С самого рассвета нашей расы мы знаем, что два или три ума, объединенные вместе, могут быть использованы для управления другим умом, если он этого хочет, так, как я когда-то управлял тобой. Мы использовали эту возможность для лечения больных с древних времен. Теперь мы решили использовать ее для разрушения.
Существовали две основные сложности. Одна связана с любопытным ограничением наших обычных телепатических способностей — когда, за редким исключением, мы можем вступать в контакт на расстоянии только с тем, кого мы уже знаем, а общаться с чужими можем только в их присутствии.
Вторая, и более сложная, проблема заключалась в том, что требовалась объединенная мощь многих умов, а ведь до этого мы вообще не умели соединять усилия более двух или трех человек. Как мы этого достигли — в этом и состоит наш главный секрет. Далее же, когда нам этого удалось добиться и мы приступили к осуществлению основной цели, достичь ее оказалось проще, чем мы ожидали. Два ума мощнее одного не вдвое, а три не втрое, а во много больше раз. Точное математическое отношение между ними очень интересно. Вы ведь знаете, что чем больше в группе элементов, тем быстрее растет число связей между ними. Аналогичная закономерность соблюдается и в этом случае.
Итак, в результате мы получили Объединенный Ум. Сперва он был нестабилен, и мы могли сохранять его только на несколько секунд. Даже сейчас это дается невероятным напряжением умственных ресурсов, и мы по сей день не можем удерживать себя в таком состоянии в течение… достаточно долгого времени, скажем так.
Все эти эксперименты, разумеется, проводились в обстановке строжайшей секретности. Если мы могли это сделать, то же самое могли сделать и митранианцы, их умы ведь оснащены не хуже наших. У нас были пленники, и мы использовали их как подопытные экземпляры.
На секунду завеса, скрывавшая глубинные мысли Аретенона, казалось, дрогнула и рассеялась, затем он восстановил контроль.
— Это было самым тяжелым. Одно дело — насылать безумие в отдаленные земли, когда противника не видишь в лицо, но совсем другое, когда ты собственными глазами вынужден наблюдать результат сделанного.
Когда мы усовершенствовали свою методику, мы устроили испытание на большом расстоянии. Нашей жертвой был некто, настолько хорошо знакомый одному из наших пленников, чей ум мы полностью контролировали, что мы могли полностью идентифицировать его, — и таким образом расстояние между нами не являлось помехой. Опыт удался, но, конечно, никто не подозревал, что это сделали мы.
Мы ничего не предпринимали до тех пор, пока не убедились, что наша атака своей внезапностью положит конец войне. Из голов наших пленников мы извлекли возможность идентификации множества митранианцев в подробностях, которых вполне хватало, чтобы выявить и разрушить их умы. Каждый ум, подвергшийся нашему нападению, выдавал нам знания о других, и наша мощь увеличивалась. Мы могли причинить гораздо больший урон, чем причинили, тем более что разрушение умов велось у одних мужчин.
— Вы полагаете, — горестно сказала Джерил, — что так более милосердно?
— Возможно, и нет, и все-таки, согласитесь, это поступок, который делает нам честь. Мы остановились, едва только враг начал мирные переговоры, а так как о произошедшем, кроме нас, не знает никто, мы отправились в их страну, чтобы хоть как-то возместить тот ущерб, который мы нанесли. Впрочем, мы мало что могли сделать.-
Наступила долгая пауза. В ущелье внизу никого не было, и белое солнце зашло. Холодный ветер дул над холмами, над пустынным, без единого корабля, морем, где он был единовластным хозяином. Эрис заговорил, и его мысли чуть слышно раздавались в мозгу у Аретенона.
— Ты пришел не для того, чтоб рассказать мне об этом, верно? За этим стоит что-то еще. — Это был не вопрос, а утверждение.
— Да, — согласился Аретенон, — У меня для тебя послание, и оно тебя сильно удивит. Послание от Теродимуса.
— Теродимуса?! Я думал…
— Ты думал, что он погиб или, что еще хуже, предал. Однако ни то ни другое не верно, хотя он прожил последние двадцать лет на вражеской территории. Митранианцы относились к нему так же, как и мы, и давали ему все, что нужно. Они ценили его ум по справедливости, и даже во время войны никто не тронул его. Теперь он хочет вновь увидеться с тобой.
Эрис был чрезвычайно взволнован известием о своем старом учителе, но внешне это на нем нисколько не отразилось. Он вспомнил юность, время, когда Теродимус влиял на него особенно сильно.
— Что он делал все эти годы? — спросил Эрис после затянувшейся паузы. — И почему он хочет увидеться со мной снова?
— Это длинная и сложная история, — сказал Аретенон. — Теродимус сделал открытие не менее грандиозное, чем наше; и его открытие может иметь еще более значительные последствия.
— Открытие? Какого рода?
Аретенон помолчал, задумчиво глядя вниз. Охрана возвращалась, оставив в долине лишь небольшую часть стражников — для того, чтобы справляться с отбившимися от стада пленниками, много было не нужно.
— Ты знаешь о нашей истории не меньше моего, Эрис, — начал он, — Принято считать, что прошло не менее миллиона поколений, прежде чем мы достигли нынешнего уровня развития, — а это огромный промежуток времени! Почти весь прогресс, достигнутый нами, возможен благодаря нашим телепатическим способностям; без них мы немногим бы отличались от всех других животных, которые обладают таким поразительным сходством с нами. Мы очень гордимся нашей философией и математикой, нашей музыкой и хореографией, — но задумывался ли ты когда-нибудь, Эрис, что возможны иные направления культурного развития, о которых мы даже не мечтали? Что во Вселенной могут быть и другие силы, кроме умственных?
— Я не понимаю, о чем ты говоришь, — коротко ответил Эрис.
— Это трудно объяснить, и я не буду даже пытаться — разве что скажу тебе следующее. Понимаешь ли ты, насколько слаб наш контроль над внешним миром и насколько на самом деле бесполезны эти наши конечности? Нет, ты не можешь этого осмыслить, потому что не видел того, что видел я. Но, возможно, это поможет тебе понять.
Кружево мыслей Аретенона вдруг перешло в минор.
— Я помню, как однажды набрел на целую поляну прекрасных и каких-то очень уж необычных по форме цветов. Я хотел увидеть, как они выглядят изнутри, и попытался раскрыть один из них, зажав его между копыт и пытаясь проникнуть внутрь зубами. Я пытался снова и снова — и ничего не получилось. В конце концов, ополоумев от ярости, я втоптал эти цветы в грязь.
Джерил ощущала недоумение Эриса, но также она видела, что ему любопытно узнать побольше.
— У меня тоже бывало такое чувство, — признался он, — но что тут можно сделать? И в конце концов, так ли это важно? Существует многое во Вселенной, что происходит не так, как нам хотелось бы.
Аретенон улыбнулся.
— В целом ты прав. Но Теродимус открыл, что можно с этим сделать. Ты не хочешь отправиться повидать его?
— Это, должно быть, долгое путешествие.
— Около двадцати дней пути, и придется пересекать реку.
Джерил почувствовала, как Эрис слегка содрогнулся. Аселени ненавидели воду. Кости их были слишком тяжелыми, чтобы эти создания могли плавать, и поэтому если они падали в воду, то тут же тонули.
— Это на территории противника, вряд ли я им понравлюсь.
— Они уважают тебя, и потом — отправиться туда будет означать что-то вроде жеста дружелюбия.
— Но я нужен здесь.
— Поверь моему слову — ничто из того, что ты должен делать здесь, не так важно, как сообщение Теродимуса тебе — и всему миру.
Эрис на секунду закрыл свои мысли, но быстро поднял завесу.
— Я подумаю об этом, — сказал он.
Поразительно, как мало Аретенон ухитрился рассказать за много дней путешествия. Временами Эрис пытался прорвать оборону его ума, но все его попытки умело и без труда отражались. О том абсолютном оружии, которое положило конец войне, он не сказал ничего, но Эрис знал, что те, кто им владеет, еще не расформированы и по-прежнему находятся в каком-то тайном убежище. Зато он часто заводил разговор о будущем — всякий раз с непреходящей тревогой того, кто помогал это будущее сформировать и не был при этом уверен, что действовал правильно. Как и многих других представителей его расы, Аретенона постоянно одолевало чувство вины за содеянное. Порою он делал выводы, которые озадачивали Эриса, но которые впоследствии вспоминались ему все чаще и чаще.
— Мы подошли к переломному моменту нашей истории, Эрис. Возможности, которые мы открыли, скоро станут известны и митранианиам, и следующая война будет означать полное уничтожение и для нас, и для них. Всю жизнь я работал, чтобы увеличить наши знания о разуме, но теперь я задаюсь вопросом, не принес ли я в этот мир слишком могущественную и слишком опасную вещь, которой мы не сможем управлять. Впрочем, возврата нет — рано или поздно наша культура все равно дошла бы до этого.
Дилемма ужасна, а решение только одно. Мы не можем вернуться назад, а если пойдем вперед, это может привести к катастрофе. Поэтому мы должны изменить саму природу нашей цивилизации и окончательно порвать с миллионом поколений, живших до нас. Ты не можешь представить себе, что это значит, — я тоже не мог, пока не встретил Теродимуса, а он рассказал мне о своей мечте.
Ум — это чудесная вещь, Эрис, но сам по себе он беспомощен во Вселенной, которая состоит из материи. Мы теперь знаем, как увеличить мощь наших мозгов в неисчислимое количество раз. Мы, вероятно, можем решать величайшие математические задачи, которые много веков ставили нас в тупик. Но ни одиночный, ни коллективный ум, который мы создали, ни в малейшей степени не могут изменить того факта, который на протяжении всей истории вызывал противостояние между нами и митранианцами, — а именно что запас пищи имеет предел, количество же населения, наоборот, растет постоянно.
Джерил наблюдала за ними, почти не принимая участия в их мысленном споре. Большинство этих споров происходило во время еды — как и подобает всем активным жвачным, они тратили значительную часть дня на поиски пищи. К счастью, земля, через которую пролегал их путь, была чрезвычайно плодородной — и это ее плодородие как раз и явилось одной из главных причин войны. Эрис, с радостью отмечала Джерил, вновь становился похожим на самого себя. Чувство горького разочарования, которое наполняло его ум столько месяцев, не прошло, но оно уже не казалось таким всеохватным, как раньше.
Они покинули открытую равнину на двадцать второй день своего путешествия. В течение долгого времени они передвигались по бывшей митранианской территории, но те немногие из бывших врагов, которых они встречали, казались скорее любопытными, чем враждебными. Теперь травянистые пастбища подошли к концу, и перед ними лежал лес со всеми его первобытными ужасами.
— В этом районе живет только один вид плотоядных, — успокаивал их Аретенон, — им не справиться с нами тремя. Мы пройдем лес за сутки.
— Ночь в лесу! — выдохнула Джерил, наполовину парализованная страхом от одной только мысли об этом.
Аретенону стало неловко из-за того, что он ее так напугал.
— На самом деле никакой опасности нет, — Он попытался выправить положение. — Я проходил здесь несколько раз. Крупных хищников давно не существует, полной темноты в лесу не бывает из-за красного солнца.
Джерил все-таки чуть дрожала. Она происходила из рода, который несколько тысяч поколений селился на высоких холмах и в открытых долинах, спасаясь от опасности исключительно за счет быстрого бега. Мысль о том, что придется продвигаться среди деревьев — в красных сумерках, когда основное солнце зайдет, — наполняла ее ужасом. Из них троих только у Аретенона имелся рог, которым можно было сражаться («И отнюдь не такой длинный и острый, как был когда-то у Эриса», — подумала Джерил.)
Дневной переход по лесу, хотя и прошел без особых приключений, никакой радости у Джерил не вызвал. Единственными животными, попавшимися им на глаза, были крохотные создания с длинными хвостами, которые бегали вверх-вниз по стволам деревьев с удивительной скоростью, что-то рассерженно лопоча при виде вторгшихся в их владения чужаков. Наблюдать за ними было довольно весело, но Джерил отнюдь не думала, что ночь в лесу окажется такой же веселой.
Ее страхи имели под собой основание. Когда яркое белое солнце скрылось за деревьями и алые тени красного гиганта легли повсюду, весь мир вокруг переменился. Лес окутала тишина, но внезапно откуда-то издалека до них долетел вой. Инстинкт предков заставил всех троих мгновенно обернуться на звук.
— Что это было? — с трудом выдохнула Джерил.
Дыхание Аретенона участилось, но он приложил все старания, чтобы ответить спокойно.
— Я не знаю, — сказал он — Это очень далеко отсюда.
Они по очереди решили нести караул, и потянулась долгая ночь. Время от времени Джерил пробуждалась от страшных снов и находила вокруг себя еще более кошмарную реальность — странные, кривые деревья, от которых исходила угроза. Однажды, когда была ее очередь караулить, она услышала, как что-то тяжелое пробирается по лесу, — но это что-то не приближалось, и она не стала будить остальных. Но вот наконец на небе засияло долгожданное солнце, и снова начался день.
Аретенон, как показалось Джерил, испытывал большее облегчение, чем хотел показать. Он вел себя почти по-мальчишески, прыгал в утреннем свете, срывая ртом со свисающих ветвей целые охапки листвы.
— Теперь осталось недолго, — бодро сказал он, — к полудню мы выберемся из леса.
В его мыслях скрывался какой-то пугающий подтекст, который озадачивал Джерил. Казалось, у Аретенона имелся от них некий секрет, и Джерил спрашивала себя, какие еще препятствия им предстоит одолеть. К середине дня она уже знала, какие, потому что путь им преградила широкая река, текущая мимо них так медленно, словно она не торопилась впадать в море.
Эрис смотрел на реку с досадой, опытным глазом прикидывая ее глубину.
— Слишком глубоко, чтобы перейти здесь вброд. Придется подниматься вверх по течению, прежде чем мы сможем проделать это.
Аретенон улыбнулся.
— Наоборот, — бодро сказал он, — мы пойдем вниз по течению.
— Ты спятил? — вскричал Эрис, услышав это.
— Скоро увидишь. Нам осталось недалеко — ты ведь уже столько прошел, так что доверься мне.
Река медленно углублялась и ширилась. Она и раньше казалась непроходимой, теперь же стала непроходимой вдвойне. Если какой-нибудь неширокий ручей можно перейти по упавшему стволу дерева, да и это было связано с риском, то реку, текущую перед ними, и множество деревьев не перекрыли бы.
— Мы уже почти добрались, — сказал наконец Аретенон. — Я узнаю это место. Сейчас кто-нибудь выйдет из того леса — Он указал рогом на деревья на другой стороне реки, и почти сразу же вышли из леса и направились к берегу три фигуры. Двое, как заметила Джерил, были аселени, третий — митранианец.
Они приблизились к огромному дереву, стоявшему у кромки воды, но Джерил не обратила на дерево никакого внимания; она слишком заинтересовалась фигурами на берегу, размышляя, что они будут делать дальше. Поэтому, когда изумление Эриса ударом грома отозвалось в ее мозгу, она была слишком ошарашена, чтобы понять его причину. Затем повернулась к дереву и увидела то, что увидел Эрис.
Существуют умы и расы, для которых канат, привязанный к стволу дерева и протянутый до другого берега, чтобы таким способом преодолевать реку, — вещь привычная и вполне естественная. Но и Джерил, и Эриса это наполнило ужасом неизведанного, и на один жуткий момент Джерил даже показалось, что из воды появляется гигантский змей. Затем она увидела, что к ним приближается что-то неживое, но ее страх не прошел. Потому что это был первый искусственный предмет, который она видела в своей жизни.
— Не думай о том, что это такое и как оно здесь оказалось, — посоветовал Аретенон. — Оно перенесет вас через реку, и это главное. Посмотрите — кто-то движется с того берега!
Одна из фигур вошла в воду и стала пересекать реку, перебирая передними конечностями по канату. Когда фигура приблизилась — это оказалась митранианка, — Джерил увидела, что верхняя часть ее тела обхвачена второй, меньшей веревкой.
С мастерством, дающимся долгим опытом, незнакомка перебралась по плавучему канату и, отряхиваясь, выбралась из реки. Похоже, они были с Аретеноном знакомы, но Джерил не удалось перехватить ее мысли.
— Я могу перебраться без всякой помощи, — сказал Аретенон, — но вам я покажу самый легкий способ.
Он проскользнул верхней частью туловища в веревочную петлю, вошел в воду и, как крючками, зацепился передними конечностями за натянутый канат. Минуту спустя его уже быстро тащили через реку те двое, что были на другом берегу, где, после множества переживаний, Эрис и Джерил вскорости оказались тоже.
Конечно, это был не тот мост, которого следовало бы ожидать от расы, способной с легкостью рассчитать железобетонную арочную конструкцию — если бы возможность существования такого предмета когда-либо пришла им в голову. Но и этот мост служил своей цели, и раз уж он был построен, они вполне смогли им воспользоваться.
Раз уж он был построен… Но кто его создал, вот в чем вопрос. Когда сопровождающие, отряхиваясь, присоединились к ним, Аретенон предупредил своих друзей:
— Боюсь, что здесь вас ожидает множество потрясений. Вы увидите много странного, но когда поймете, в чем дело, они перестанут вас озадачивать. На самом деле вы скоро начнете принимать их как данность.
Один из незнакомцев, чьи мысли ни Эрис, ни Джерил не смогли уловить, передал ему сообщение.
— Теродимус ждет нас, — сказал Аретенон. — Он очень хочет тебя увидеть.
— Я пытался войти с ним в контакт, — пожаловался Эрис. — Но у меня ничего не вышло.
Казалось, Аретенон чуть встревожился.
— Ты найдешь, что он изменился, — сказал он, — но вы же не виделись много лет. Может пройти некоторое время, пока полный контакт между вами восстановится.
Дорога, петляя, шла через лес, и время от времени от нее отходили в стороны узкие тропки. Теродимус, думал Эрис, должно быть, действительно изменился, раз поселился среди деревьев. Наконец дорога вывела их на открытую поляну, над которой выступала невысокая белая скала. У подножия скалы находились несколько темных отверстий разных размеров — входы в пещеры.
Впервые в жизни Эрис и Джерил приходилось войти в пещеру, и радости они от этого не испытывали. Наоборот, у них гора с плеч свалилась, когда Аретенон велел подождать у входа и в одиночку направился в глубину, откуда лился удивительный желтоватый свет. Минутой позже смутные воспоминания запульсировали в мозгу Эриса, и, хотя он не мог полностью схватывать мысль учителя, Эрис понял, что тот идет к ним.
И вот Теродимус вышел на солнечный свет. При взгляде на него Джерил взвизгнула и спрятала голову в гриве Эриса, но Эрис стоял твердо, хотя сам дрожал так, как никогда не дрожал перед боем. Теродимус сиял великолепием, которого не знал ни один представитель их расы с самого начала истории. Вокруг его шеи висело ожерелье из блестящих предметов, которые ловили и отражали солнечные лучи тысячами цветных бликов, а его тело покрывал кусок плотного переливающегося материала, мягко шелестящего при ходьбе. И рог его больше не был желтоватым, как слоновая кость, какая-то магия окрасила его в пурпурный цвет, такой красивый, какого Джерил до этого никогда не видела.
Теродимус секунду стоял не двигаясь, наблюдая их изумление. Затем в мозгу Джерил и Эриса эхом прозвучал его громкий смех, и он сел на заднюю конечность. Цветное одеяние с шорохом опустилось на землю, а оттого, что он часто вскидывал голову, блестящее ожерелье распространяло вокруг себя радугу. Только пурпурный рог его не менялся в цвете.
Эрису казалось, что он стоит на краю огромной пропасти, а Теродимус манит его к себе с другого края. Их мысли пытались образовать мост, но контакта не получалось. Между ними лежал поток, вмещавший в себя почти половину жизни и множество битв, состоящий из огромного количества неразделенного опыта, — годы, прожитые Теродимусом в этой чужой стране, его собственный брак с Джерил и их погибшие дети. Хотя они стояли лицом к лицу и их разделяли всего несколько футов, их мысли никак не могли соединиться.
Тогда Аретенон со всей мощью своего непревзойденного мастерства сделал с его умом что-то такое, чего Эрис не мог полностью осознать. Он только ощутил, что годы как будто покатились назад, что он вновь стал любознательным и страстным учеником — и снова смог говорить с Теродимусом.
Странно было ночевать под землей, но все же лучше, чем среди ужасов леса. Глядя на малиновые тени, сгущающиеся у входа в маленькую пещеру, Джерил попыталась разобраться в своих обрывочных мыслях. Она поняла только малую часть того, что происходило между Эрисом и Теродимусом, но знала, что творится что-то невероятное. Если уж она видела вещи, для которых в ее языке не находилось названия, — одно это говорило о многом.
Она не только видела, но и слышала. Когда они проходили мимо одного из входов в пещеру, оттуда доносилось ритмичное жужжание, подобного которому не издавало ни одно из животных. Звук шел постоянно, без пауз, без перерывов, и даже сейчас, ночью, его неспешный ритм продолжал звучать в ее голове. Аретенон, вероятно, тоже обратил на это внимание, хотя звук его и не удивил; Эрис же был слишком поглощен Теродимусом.
Старый философ рассказывал очень мало, предпочитая, как он сам выразился, показать им свою империю, когда они как следует отдохнут за ночь. Почти вся их беседа касалась событий, произошедших на их собственной земле за последние несколько лет, и Джерил она показалась скучноватой. Только одна вещь заинтересовала ее и сконцентрировала на себе все ее внимание. Это было потрясающее ожерелье из цветных кристаллов, которое Теродимус носил на шее. Что это и как оно было создано, Джерил и вообразить не могла, но она хотела иметь такое же. Засыпая, она поймала себя на мысли, какую сенсацию вызовет ее появление дома с этим чудом, блистающим на фоне ее собственной шкуры. Да уж, на ней оно выглядело бы гораздо лучше, чем на старом Теродимусе.
Аретенон и Теродимус встретили их у пещеры вскоре после рассвета. Философ на этот раз отказался от своих украшений — которые он явно надевал для того, чтобы произвести на гостей впечатление. Рог тоже стал обычного, желтоватого цвета. Это было единственной вещью, которую Джерил еще как-то могла понять, потому что встречалась с фруктами, чьи соки могли вызывать цветовые изменения.
Теродимус устроился у входа в пещеру. Он начал свое повествование без всяких предисловий, и Эрис догадался, что учитель уже рассказывал об этом множество раз прежним посетителям.
— Я пришел в это место, Эрис, примерно через пять лет после того, как покинул нашу страну. Как ты знаешь, меня всегда интересовали чужие земли, а от митранианцев долетало множество слухов, которые меня сильно заинтриговали. Как я выследил их источник — долгая история, и сейчас это не имеет уже никакого значения. Однажды летом я пересек реку далеко вверх по течению, когда уровень воды был очень низким. Существует всего лишь одно место, где это можно сделать, да и то только в наиболее засушливые годы. Еще выше река теряется в горах, и я не думаю, что там можно пройти. Так что место это — практически остров, почти полностью отрезанный от территории митранианцев.
Это остров, но отнюдь не необитаемый. Народ, живущий здесь, называет себя филени, и у них весьма примечательная культура — совершенно отличная от нашей. Некоторые из продуктов этой культуры вы уже видели.
Как вы знаете, в нашем мире имеется множество видов живых существ, и только некоторые из них обладают каким-то интеллектом. Но существует огромная пропасть между нами и всеми иными существами. Насколько мы знаем, мы — единственные, кто способен к абстрактному мышлению и сложным логическим процессам. Филени — гораздо более молодая раса, чем мы: они — промежуточное звено между нами и другими животными. Они живут здесь, на этом довольно большом острове в течение нескольких тысяч поколений, — но скорость их развития оказалась во много раз быстрее, чем наша. Они не обладают нашими телепатическими возможностями и даже не понимают, как это у нас получается, но у них есть нечто иное, чему мы вполне можем позавидовать, — нечто, создавшее всю их цивилизацию и осуществляющее этот невероятно быстрый прогресс.
Теродимус сделал паузу, затем медленно поднялся.
— Следуйте за мной, — сказал он. — Я покажу вам филени.
Он снова повел их к пещере, но в этот раз остановился у входа, откуда Джерил слышала странный ритмично жужжащий звук. Теперь он слышался яснее и громче, и она увидела, как Эрис вздрогнул, словно не замечал его раньше. Затем Теродимус издал высокий свист, и жужжание сразу стало слабеть, становясь все ниже и ниже, октава за октавой, пока не умолкло вовсе. Минутой спустя что-то вышло к ним из полутьмы.
Это было маленькое существо, вдвое ниже их ростом, и оно не прыгало, а шло на двух соединенных конечностях, которые казались очень тонкими и слабыми. На его большой круглой голове самыми заметными были три огромных глаза, широко расставленные и способные двигаться независимо друг от друга. При самом доброжелательном отношении Джерил никак не могла найти существо привлекательным.
Затем Теродимус свистнул еще раз, и существо подняло свои передние конечности.
— Смотрите внимательно, — очень мягко посоветовал Теродимус, — и вы узнаете ответы на многие свои вопросы.
В первый раз Джерил заметила, что передние конечности существа заканчиваются не копытами и не тем, чем оканчиваются конечности любого известного ей животного. Вместо этого они делились на минимум дюжину тонких и гибких щупальцев и два загнутых когтя.
— Подойди к нему, Джерил, — сказал Теродимус. — У него для тебя кое-что есть.
Джерил неуверенно выступила вперед. Она заметила, что тело существа перекрещено лентами темного материала, к которым присоединялись непонятные предметы. Вот существо поднесло переднюю конечность к одному из них, и крышка предмета открылась, показывая углубление, внутри которого что-то мерцало. Маленькие щупальца сжали чудесное хрустальное ожерелье, и движением таким быстрым и ловким, что Джерил едва успела его увидеть, филени подошел к ней и застегнул ожерелье на ее шее.
Теродимус отмахнулся от ее смущенных благодарностей, но его проницательный старый ум явно был очень доволен. Теперь Джерил будет его союзницей во всем, что он собирался делать. Но справиться с эмоциями Эриса оказалось не настолько легко, и в этом деле простой логики было недостаточно. Ученик Теродимуса изменился, он был так глубоко изранен прошлым, что Теродимус сомневался в успехе. Однако у него имелся план, который мог даже эти сложности обратить во благо.
Он еще раз свистнул; филени сделал машущий жест руками и исчез в пещере. Еще через мгновение в ее глубине возобновилось странное жужжание, но теперь любопытство Джерил пересиливал восторг от подаренного.
— Мы пройдем через лес, — сказал Теродимус, — к ближайшему селению, это недалеко отсюда. Филени не живут на открытом воздухе, как мы. На самом деле они отличаются от нас по всем мыслимым параметрам. Я даже опасаюсь, — добавил он печально, — что они обладают лучшим характером, чем мы, и я полагаю, что когда-нибудь их интеллект станет выше нашего. Но сперва позвольте мне рассказать, что я о них узнал, тогда вы поймете, что я собираюсь сделать.
Умственная эволюция любой расы обусловлена и в сильнейшей степени зависит от физических факторов, которые эта раса неизменно принимает как должное, считая их частью естественного хода вещей. Чувствительные конечности филени дали им возможность путем проб и экспериментов обнаружить факты, которые другие интеллектуальные расы методом чистой дедукции открыли за более длительный промежуток времени. Довольно рано филени изобрели простейшие орудия. От них они перешли к тканям, гончарным изделиям и использованию огня. Когда Теродимус нашел их, они уже изобрели токарный станок и гончарное колесо и собирались вступать в свой первый металлический век — со всем, что под этим подразумевалось.
В области чистого интеллекта их прогресс был не так быстр. Они стали толковыми и умелыми, но испытывали неприязнь к абстрактному мышлению и их математика была чисто эмпирической. Они знали, например, что треугольник со сторонами в соотношении 3:4:5 являлся прямоугольным, но даже не подозревали, что это частный случай гораздо более общего закона. Их знание полно таких зияющих прорех, которые, несмотря на помощь Теродимуса и нескольких десятков его учеников, они не спешили латать.
Теродимуса они почитали как бога, и два поколения их недолго живущей расы подчинялись ему во всем и снабжали его всеми продуктами своих ремесел, которые ему требовались. Под его руководством они изготовляли новые инструменты и приборы, которые приходили ему в голову. Такое партнерство оказалось невероятно плодотворным, потому что обе расы как будто внезапно оказались избавленными от своих природных недостатков. Великое искусство ручного труда и огромные интеллектуальные возможности объединились в плодотворный союз — вероятно, единственный на всю Вселенную, — и прогресс, на который обычно уходила тысяча лет, был достигнут меньше чем за десятилетие.
Как и обещал Аретенон, после того как Эрис и Джерил увидели маленького ремесленника-филени за работой, посмотрели, с каким волшебным мастерством его пальцы превращают природные материалы в красивые и полезные предметы, их уже ничего не удивляло. Даже крошечные города и примитивные фермы филени перестали ими восприниматься как чудо и сделались частью принятого порядка вещей.
Теродимус дал им увидеть достаточно для того, чтобы они составили представление о каждом аспекте этой странно утонченной культуры каменного века. Поскольку они не знали ничего другого, они не нашли ничего несообразного в том, как гончар-филени, который вряд ли умел считать дальше десяти, создавал множество сложных поверхностей под руководством юного митранианского математика. Как вся его раса, Эрис обладал мощным пространственным воображением, но он понимал, насколько легче для понимания стала бы геометрия, если бы можно было воочию видеть представляемые в уме фигуры. От этого истока (хотя он еще не мог догадываться об этом) однажды возникнет идея письменности.
Джерил больше всего привлекло зрелище маленьких жен-шин-филени, которые работали на своих примитивных ткацких станках. Она могла часами сидеть, наблюдая за летающими челноками и жалея, что не может заняться тем же, хотя все действия были понятны и очевидны, — неуклюжие верхние конечности ее народа не давали ей никакой возможности заниматься ткачеством.
Они очень полюбили филени, которые всегда были рады им угодить и трогательно гордились своими ценностями и мастерством в ремеслах. В этих новых условиях, когда каждый день приносил новые чудеса, Эрис, казалось, излечивался от тех шрамов, которые оставила на нем война. Однако Джерил знала, что еще многое предстоит залечить. Иногда, прежде чем он успевал скрыть их, она натыкалась на болезненные гневные раны в глубинах мозга Эриса и боялась, что многие из них — как обломанный рог — залечить уже не удастся. Эрис ненавидел войну, и то, как она закончилась, все еще угнетало его. Кроме того, Джерил знала, что его мучает страх, что война может разразиться снова.
Все это она часто обсуждала с Теродимусом, к которому очень привязалась. Она все еще не совсем понимала, зачем Теродимус позвал их сюда и что он и его соратники планируют предпринять. Теродимус не торопился объяснять свои действия, потому что хотел, чтобы Джерил и Эрис сами обо всем догадались. Но наконец, через пять дней после их прибытия, он позвал их в свою пещеру.
— Вы уже видели, — начал он, — большую часть того, что мы должны были показать вам. Теперь вы знаете, на что способны филени, и, возможно, поняли, как обогатится наша жизнь, когда мы сумеем пользоваться продуктами их труда. Это первое, что пришло мне на ум, когда я прибыл сюда много лет назад.
Мысль очевидная и простая, но она меня привела к другой, гораздо более важной. По мере того как я узнавал филени и видел, как быстро развивается их ум и как они продвинулись вперед за столь короткое время, я постепенно осознавал, какая роковая причина мешала развитию нашей расы. Я стал задаваться вопросом, насколько дальше мы могли бы продвинуться, если бы обладали возможностями филени справляться с физическим миром. Это не вопрос чистого удобства или умения создавать прекрасные вещи, такие как твое ожерелье, Джерил, но нечто гораздо более глубокое. Это разница между невежеством и знанием, между слабостью и силой. Мы развили наш ум и только ум, и теперь нам некуда двигаться дальше. Аретенон уже говорил вам, что мы подошли к черте, за которой жизни всей нашей расы грозит опасность. Мы существуем под тенью неотразимого оружия, против которого не существует защиты.
И решение этой проблемы, если говорить откровенно, находится в руках филени. Мы должны использовать их мастерство для переделки нашего мира и таким образом устранить причину наших войн. Мы должны вернуться к началу и вновь заложить фундамент нашей культуры. Хотя это уже будет не только наша культура, потому что мы разделим ее с филени. Они будут руками, мы — мозгом. О, я мечтаю о том мире, который будет существовать через несколько веков, когда даже те чудеса, что вы видите, покажутся детскими игрушками! Но не все среди нас философы, и мне нужен более весомый аргумент, чем мечты. Я полагаю, что, возможно, нашел этот окончательный аргумент, хотя все еще не уверен в этом до конца.
Я пригласил тебя, Эрис, сюда потому, что хотел возобновить нашу старую дружбу. А вторая причина в том, что ты сейчас пользуешься очень большим влиянием среди своего народа. Ты — герой, и митранианцы прислушаются к тебе. Я хочу, чтобы ты вернулся к своим вместе с несколькими филени и вещами, которые они производят. Покажи их своим и попроси прислать сюда ваших юношей, чтобы помочь нам в работе.
Возникла пауза, во время которой Джерил не могла уловить и намека на то, о чем думал Эрис. Затем он нерешительно произнес:
— Но я все еще не понимаю. Да, вещи, которые делают филени, очень красивы, и некоторые из них могут быть нам полезны. Но как они могут изменить нас так глубоко?
Теродимус вздохнул. Эрис не смог отрешиться от настоящего и заглянуть в будущее. Он не уловил, что сулят им умелые руки и инструменты филени — первые слабые возможности создания машин. Может быть, он никогда этого не поймет, и тем не менее убедить его можно.
Закрыв свои более глубокие мысли, Теродимус продолжал:
— Какие-то из этих вещей — действительно, игрушки, но они могут оказаться более значимыми, чем ты думаешь. Джерил, я знаю, была бы ненавистна мысль о том, чтобы расстаться с ее игрушкой… и, возможно, я смогу найти такую, которая убедила бы и тебя.
Эрис был настроен скептически, и Джерил видела, что он вообще пребывает в состоянии мрачнее некуда.
— Я в этом сильно сомневаюсь, — заявил он.
— Ну, я все-таки попробую, — Теродимус свистнул, и на его свист примчался один из филени. Они перебросились парой коротких фраз.
— Пойдем со мной, Эрис. Это займет некоторое время.
Эрис пошел за ним, остальные, по просьбе Теродимуса, остались. Они вышли из большой пещеры и пошли к целому ряду малых, которые филени использовали для мастерских.
Странное жужжание раздавалось все громче, но в первый момент Эрис не увидел его источника — свет грубо сделанных масляных ламп был слишком слабым для его глаз. Затем он разглядел филени, склонившегося над деревянным столом, на котором что-то быстро вращалось, приводимое в движение ремнем от педали, которую крутило еще одно из маленьких существ. Он уже видел подобное устройство, использующееся в гончарном деле, но это действовало иначе. Оно вращало дерево, а не глину, а пальцы гончара заменяло острое металлическое лезвие, от которого длинные тонкие стружки завивались фантастическими спиралями. Своими огромными глазами филени, которые не любили яркого солнечного света, прекрасно видели в полутьме, но прошло некоторое время, прежде чем Эрис смог разглядеть, что происходит. Когда же он разглядел, то понял.
— Аретенон, — сказала Джерил, когда Эрис и Теродимус скрылись в пещере, — а почему филени должны всё это делать для нас? Им наверняка и без нас хорошо.
Аретенон подумал, что вопрос очень характерен для Джерил и никогда не придет в голову Эрису.
— Они будут делать все, что говорит Теродимус, — ответил он. — Но даже помимо этого существует многое, что мы можем им дать. Когда мы направим наш ум на проблемы филени, мы поймем, как их решать такими способами, которые никогда не придут в головы им самим. Они очень хотят учиться, и мы уже продвинули их культуру вперед на сотни поколений. Кроме того, они физически очень слабы. Хотя мы не обладаем их ловкостью, наша сила делает возможным решение многих задач, с которыми они никогда бы и не пытались справиться.
Они добрели до кромки реки и постояли минуту, глядя на неспешные воды, плавно текущие к морю. Затем Джерил повернулась, чтобы пойти вверх по течению, но Аретенон остановил ее.
— Теродимус не хочет, чтобы мы ходили туда — пока, — объяснил он, — Это еще один из его маленьких секретов. Он никогда не раскрывает своих планов, пока они полностью не продуманы.
Слегка раздосадованная и охваченная любопытством, Джерил послушно повернула назад. Конечно, она отправится туда снова, как только никого не будет поблизости.
Сейчас, среди деревьев, на нагретых солнцем прогалинах Джерил чувствовала себя спокойно. Ощущение страха перед лесом почти прошло, хотя она знала, что уверенности ей здесь не обрести никогда.
Аретенон казался очень рассеянным. Джерил понимала, что он хочет ей что-то сказать и собирается с мыслями. Но вот слова полились из него со свободой, которая возможна только между существами, любящими друг друга — не физически, а духовно.
— Очень трудно, Джерил, повернуться спиной к делу всей своей жизни. Когда-то я надеялся, что те великие силы, которые мы раскрыли в себе, можно будет использовать без вреда, но теперь я знаю, что это невозможно, по крайней мере в течение еще многих веков. Теродимус прав — мы не можем идти вперед, пользуясь только своим умом. Наша культура безнадежно односторонняя, хотя и не по нашей вине. Мы не можем решить основную проблему войны и мира без того, чтобы овладеть физическим миром так, как им владеют филени, — и мы надеемся позаимствовать это у них.
Возможно, для наших умов найдутся другие обширные сферы деятельности, чтобы заставить нас забыть то, что нам придется отвергнуть. В конце концов, мы сможем научиться чему-то от самой природы. Какова разница между огнем и водой, между деревьями и камнями? Что такое два наших солнца? А эти миллионы слабеньких огоньков, которые мы видим на небе, когда оба солнца заходят, — что они? Возможно, ответы на все эти вопросы находятся в конце нового пути, по которому мы должны идти.
Он остановился.
— Новые знания, новая мудрость в тех областях, о которых мы никогда не мечтали раньше, — это может отвлечь нас от тех опасностей, с которыми мы столкнулись. Ведь ничто в природе не представляет такой опасности, как та угроза, которую мы обнаружили у себя в умах.
Поток мыслей Аретенона неожиданно прервался. Затем он сказал:
— Мне кажется, Эрис хочет тебя видеть.
Джерил спросила себя, почему Эрис не послал ей сообщения сам; ее также заинтересовал оттенок удовольствия— или чего-то другого? — в мыслях Аретенона.
Когда они приближались к пещерам, Эриса нигде не было видно, но не успели они туда подойти, как он выскочил на солнечный свет. Джерил с невольным криком отступила на пару шагов, когда ее супруг устремился к ней.
Эрис был таким же, как раньше. Обломок со лба исчез, вместо него сиял новый великолепный рог, нисколько не хуже прежнего.
В запоздалом жесте приветствия, Эрис коснулся рогом рога Аретенона. Затем помчался в сторону леса огромными ликующими прыжками — но перед этим слился мыслями с Джерил так, как это редко бывало даже в довоенные дни.
— Пусть идет, — мягко сказал Теродимус, — ему надо побыть одному. Когда он вернется, я думаю, ты найдешь его несколько… иным. — Он негромко рассмеялся. — Филени умные, верно? Возможно, Эрис теперь более высоко оценит их «игрушки».
— Я знаю, что я нетерпелив, — продолжал Теродимус, — но я стар и хочу увидеть начало перемен, пока жив. Вот почему я начинаю так много дел в надежде, что хоть некоторые окажутся успешными. Но это то дело, в которое я верю более всего.
На секунду он погрузился в свои мысли. Даже малая доля представителей расы, к которой принадлежал Теродимус, не смогла бы полностью разделить его мечты. Даже Эрис, хотя теперь он поверил в них, делал это больше сердцем, чем разумом. Может быть, Аретенон, который так отчаянно стремился нейтрализовать те силы, которые сам же и принес в этот мир, мог бы оценить реальное положение вещей. Но из всех умов он был самым непроницаемым, если сам не хотел открыться.
— Вы не хуже моего знаете, — говорил Теродимус, когда они шли вверх по течению, — что наши войны имеют только одну причину — пища. Мы и митранианцы заперты, как в ловушке, на этом континенте с его ограниченными ресурсами, для увеличения которых мы ничего не делаем. Перед нами маячит страшная картина голодной смерти, и при всем нашем хваленом интеллекте мы ничего не можем с этим поделать. Ах да, мы прорыли безумно трудоемкие ирригационные канавы нашими передними копытами, но как мало они помогают!
Филени научились выращивать зерновые, они знают, как увеличивать плодородность почвы во много раз. Я полагаю, что мы сможем делать то же самое — когда приспособим их орудия труда для собственных нужд. Это наша первая и самая важная задача, но не она занимает главное место в моем сердце. Окончательным решением нашей проблемы, Эрис, должно быть открытие новых плодородных земель, на которые может переселиться наш народ.
Он улыбнулся их изумлению.
— Нет, не думайте, что я сошел с ума. Такие земли на самом деле существуют, я в этом уверен. Однажды я стоял на берегу и наблюдал за большой стаей птиц, летевших из глубины материка куда-то за море. Я видел, как они летели туда, летели настолько целенаправленно, что я уверен, они собирались в какие-то другие страны. Я мысленно летел вместе с ними.
— Даже если ваша теория верна, а вероятно, так оно и есть, — сказал Эрис, — как мы ее можем использовать? — Он показал на плавно текущую реку. — Мы тонем в воде, а вы не можете изготовить такую веревку, чтобы… — Внезапно его мысли превратились в беспорядочный хаос идей.
Теродимус улыбнулся.
— Кажется, ты уже догадываешься, что я собираюсь сделать. Ну а теперь ты можешь увидеть, так это или не так.
Они вышли на ровный участок берега, на котором группа филени что-то делала под руководством одного из помощников Теродимуса. У кромки воды лежал странный предмет, изготовленный, как понял Эрис, из множества стволов деревьев, скрепленных канатами.
Как завороженные, они следили за творящейся на берегу суетой. После нескольких сильных рывков плот тяжело лег на воду. Еще не улеглись брызги, как какой-то юный митранианец уже запрыгнул на плот и, ликуя, принялся танцевать на бревнах. Швартовые канаты натянулись, казалось, вот-вот и они порвутся и плот устремится вниз по реке к морю. Минутой позже к митранианцу присоединились остальные, радуясь тому, что они победили стихию. Маленькие филени, которые не могли прыгнуть так далеко, терпеливо стояли на берегу, наблюдая за тем, как радуются их учителя.
Пьянящая радость победы не обошла никого, но, наверное, лишь немногие понимали, что случившееся — поворотный пункт истории. Теродимус стоял в стороне, погруженный в мысли. Он знал, что этот примитивный плот — только начало. Его нужно было испытать на реке, затем близ берега моря. Работа должна занять годы, и он никогда не увидит первых путешественников, возвратившихся из тех сказочных земель, существование которых было пока не более чем догадкой. Но то, что начато, закончат другие.
Стая птиц поднялась над лесом и пролетела над его головой. Теродимус смотрел на птиц и завидовал их свободному полету. Сейчас он положил начало завоеванию водного пространства для своей расы, но что когда-нибудь ей будут принадлежать небеса, лежало за гранью даже его богатого воображения.
Аретенон, Джерил и все остальные уже перебрались через реку, пока Эрис прощался с Теродимусом. На этот раз ни капля воды не коснулась их тел, плот спокойно доставил их куда надо. Новая, усовершенствованная модель плота уже строилась, ведь было совершенно очевидно, что та, что существует сейчас, не выдержит морских путешествий. Эти трудности быстро преодолеют проектировщики, даже несмотря на орудия каменного века, с которыми они имели дело.
— Тебе предстоит непростая задача, — говорил Теродимус, — ведь ты не можешь показать своему народу всего, что видел здесь сам. Ты должен радоваться, если только заронишь семя, вызовешь хоть какой-то в них интерес — особенно среди молодежи, которая придет сюда, чтобы научиться большему. Возможно, ты встретишь сопротивление — я не исключаю и этого. Но каждый раз, когда ты будешь возвращаться сюда, у нас найдется что-то новое, чтобы показать тебе и усилить твои аргументы.
Они коснулись друг друга рогами; затем Эрис ушел, унося с собой знания, с помощью которых предстояло изменить мир. Сперва медленно, затем, когда барьеры будут преодолены и митранианцы и аселени получат простые инструменты, которые они смогут пристегивать к своим верхним конечностям и использовать без чужой помощи, прогресс двинется быстрее. Но в настоящий момент они вынуждены были во всем полагаться на филени.
Теродимус остался доволен. Только одно разочаровало его: он надеялся, что Эрис, любимый его ученик, сможет стать и его преемником. Эрис, который сейчас возвращался к своему народу, больше не погружался в себя и не ожесточался, потому что у него была цель и надежды на будущее. Но ему не хватало острого и широкого видения мира, которое являлось совершенно необходимым. Продолжать начатое будет Аретенон. Тут уж ничего не поделаешь, так что нет нужды размышлять об этом. Теродимус был очень стар, но он знал, что не раз еще увидится с Эрисом.
Парома больше не было, и, хотя он и ожидал чего-то подобного, Эрис остановился в изумлении у широкого пролета моста, слабо раскачивающегося на ветру. Исполнение не вполне соответствовало проекту — много математических познаний было вложено в его параболическую подвеску, — но все равно он стал первым величайшим инженерным сооружением в истории. Сконструированный из дерева и канатов, тем не менее он предвосхищал форму будущих металлических гигантов.
Эрис задержался на середине моста. Он видел дымок, поднимающийся от корабельных верфей, открытых в сторону моря, и ему показалось, что он заметил даже мачты судов, которые строились для торговых маршрутов вдоль побережья. Трудно было поверить, что, когда он впервые перебирался через эту реку, его тащили, висящего на канате.
Аретенон ждал их на другом берегу. Походка его сделалась медленной, но в глазах по-прежнему горел незатухающий интерес ко всему. Он тепло приветствовал Эриса.
— Я рад, что ты прибыл именно сейчас. Как раз вовремя.
Эрис знал, что это могло означать только одно.
— Корабли вернулись?
— Приближаются, их заметили час назад на горизонте. Они будут здесь с минуты на минуту, и тогда, после всех этих лет, мы наконец-то узнаем правду. Если бы только…
Его мысль ушла в сторону, но Эрис сам мог продолжить фразу. Они подошли к большой каменной пирамиде, под которой лежал Теродимус — Теродимус, чей ум стоял за всем, что они видели, и который уже никогда не узнает, сбылась его мечта или нет.
С моря шел шторм, и они поспешили по новой дороге, идущей вдоль берега реки. Время от времени мимо них проплывали маленькие суденышки, каких Эрис еще не видел. Сидящие в них аселени или митранианцы приводили суда в движение деревянными лопастями, привязанными к передним конечностям. Эрис всегда с большой радостью наблюдал за любыми новшествами, освобождавшими его народ от вековых ограничений. И все-таки иногда представители его расы напоминали ему детей, внезапно оказавшихся в чудесном мире, полном потрясающих вещей, которые нужно сделать, неважно, окажутся ли они полезными или нет. Однако все, что помогало сделать из его расы хороших мореплавателей, было более чем полезным. В последнее десятилетие Эрис открыл, что чистого интеллекта явно недостаточно, — существовали навыки, которые нельзя было приобрести никакими умственными усилиями. Хотя его народ в основном преодолел страх воды, они все еще были не способны совершать дальние морские плавания, и поэтому первыми мореплавателями стали филени.
Джерил нервно озиралась, когда первый раскат фома ударил со стороны моря. На шее у нее по-прежнему висело ожерелье, которое Теродимус подарил ей когда-то давно, но теперь оно уже не было единственным украшением, которое она носила.
— Я надеюсь, кораблям ничто не угрожает, — тревожно сказала она.
— Ветер пока не сильный, а они могут выдержать гораздо более страшные штормы, чем этот, — успокоил ее Аретенон, когда они вошли в его пещеру. Эрис и Джерил с интересом огляделись, горя желанием узнать, какие новые чудеса изготовили филени за время их отсутствия; но если они и были, Аретенон прятал их до поры до времени. Он по-прежнему, как ребенок, обожал маленькие сюрпризы и тайны.
В их встрече присутствовала какая-то отстраненность, которая озадачила бы стороннего наблюдателя, не знавшего ее причины. Пока Эрис рассказывал о всех изменениях во внешнем мире, о новых поселениях филени и об успехах в сельском хозяйстве, Аретенон слушал его вполуха. Его мысли, как и мысли его друзей, были далеко, на 6epeiy моря. Они с волнением ожидали прибытия кораблей, которые могли принести величайшую новость из всех, которые когда-либо получал его мир.
Когда Эрис закончил свой отчет, Аретенон поднялся и стал беспокойно кружить по пещере.
— Ты достиг многого. Мы и не надеялись на такое. По крайней мере, в течение жизни поколения не было ни одной войны, и в первый раз за всю историю продовольствия у нас больше, чем населения, — благодаря новым сельскохозяйственным технологиям.
Аретенон оглядел убранство своего помещения. Почти все, что он сейчас видел, в годы юности показалось бы ему невозможным и просто бессмысленным. Тогда не существовало даже простейших орудий труда, во всяком случае его народ их не знал. Теперь у них были дома, мосты, корабли — и это только начало.
— Я доволен, — произнес он. — Как и планировалось, мы изменили все направление нашей культуры и обошли опасность, которая нас ожидала. Те силы, сделавшие возможным Безумие, скоро будут забыты. Маленькая горстка соплеменников еще помнит о них, но мы унесем наши секреты с собой. Возможно, когда наши потомки вновь доберутся до них, они окажутся достаточно мудрыми, чтобы использовать их надлежащим образом. Но мы открыли так много новых чудес, что, наверное, пройдет тысяча поколений, прежде чем наш народ опять захочет заглянуть в свой собственный мозг и экспериментировать с силами, заключенными в нем.
Вход в пещеру осветился внезапной вспышкой молнии. Гроза приближалась, хотя была еще на расстоянии нескольких миль от них. Со свинцового неба большими сердитыми каплями стал падать дождь.
— Пока мы ждем кораблей, — неожиданно сказал Аретенон, — зайдите в соседнюю пещеру и посмотрите несколько новых вещей, появившихся со времени вашего последнего визита.
Это была странная коллекция. Бок о бок на одной и той же скамье располагались инструменты и изобретения, которые в других культурах отделяли друг от друга тысячи лет. Каменный век завершился, пришли железо и бронза, и уже были созданы первые, пока еще грубые, научные приборы для проведения экспериментов, раздвигавших границы неизведанного. Примитивная реторта говорила о зачатках химии, а рядом с ней находились первые линзы — мир стоял на пороге открытия неизвестных ранее бесконечно малых и бесконечно огромных вселенных.
Гроза разразилась над ними тогда, когда рассказ Аретенона о новых чудесных вещах подошел к концу. Время от времени он с тревогой поглядывал на вход в пещеру, словно ожидая гонца из гавани, но никто не тревожил их, кроме раскатов грома.
— Самое важное я вам уже показал, — сказал он, — но есть кое-что, что может развлечь вас, пока мы ждем. Как я говорил, повсюду были посланы экспедиции, чтобы собрать и классифицировать горные породы, все, какие попадутся, в надежде найти полезные ископаемые. Одна из экспедиций принесла вот это.
Он погасил огонь, и в пещере стало абсолютно темно.
— Пройдет некоторое время, пока ваши глаза станут достаточно чувствительными, чтобы разглядеть, — предупредил Аретенон. — Смотрите вот в тот угол.
Эрис напряг зрение. Сперва он ничего не видел, затем, постепенно, перед ним слабо замерцал голубой свет. Он казался таким туманным и рассеянным, что на нем трудно было сконцентрировать зрение, и Эрис автоматически подался вперед.
— Я бы не советовал подходить слишком близко, — предостерег Аретенон. — Он кажется совершенно обычным минералом, но филени, который нашел и принес его сюда, получил какие-то странные ожоги. Однако на ощупь он холодный. Когда-нибудь мы узнаем его секрет, но я не думаю, что он очень важен.
Небо рассеклось молнией; на секунду ее отраженный свет наполнил пещеру, и по стенам заходили причудливые тени. В этот же момент один из филени появился у входа и сказал что-то Аретеиону своим тонким пронзительным голосом. Тот издал громкий крик радости — точно так же кричали предки Аретенона на поле битвы, — затем его мысли ворвались в ум Эриса.
— Земля! Они нашли землю — целый новый континент, который ждет нас!
Эрис почувствовал, как чувства торжества и победы переполняют его.
Перед ним лежала ясная дорога в будущее — новая, славная' дорога, по которой пойдут их дети, осваивая мир и все его секреты. То, что видел Теродимус, наконец отчетливой и блестящей картиной встало перед ним.
Он потянулся мыслями к Джерил, чтобы она могла разделить его радость, и почувствовал ее рядом. Наклонившись к ней в темноте, он ощутил, что она все еще смотрит в глубь пещеры, как будто не слыхала чудесной новости, и не может оторвать глаз от загадочного свечения.
Из ночи пришел грохот запоздалого грома, рассыпавшийся по небу. Эрис почувствовал, как тело Джерил дрожит, и послал ей свои мысли, чтобы утешить ее.
— Это же просто гром, — мягко произнес он, — чего тут бояться?
— Я не знаю, — ответила Джерил. — Я боюсь — но не из-за грома. О, Эрис, мы сделали чудесную вещь, и я бы так хотела, чтобы Теродимус был сейчас с нами и видел это. Но куда она в конце концов приведет — эта новая дорога?
Из прошлого выплыли вдруг слова, сказанные когда-то Аретеноном. Она вспомнила их давнюю прогулку вдоль берега реки, когда он говорил о своих надеждах. Он сказал тогда: «Ничто, чему мы можем научиться у природы, не будет таить такой огромной опасности, какая таится в наших собственных умах». Слова эти, казалось, дразнили ее и отбрасывали тень на золотое грядущее, но почему — она не могла этого объяснить.
Может быть, потому, что из всех рас во Вселенной только ее народ достиг следующего перекрестка дорог, минуя предыдущий. Теперь они вновь должны пройти по дороге, которую пропустили вначале, и лицом к лицу столкнуться с угрозой, ждущей в конце пути, — угрозой, которой на этот раз им не удастся избежать.
В темноте перед ней слабое свечение распадающихся ядер прожигало скальную твердь. Едва различимое, вот так же оно будет светить и тогда, когда Джерил и Эрис давно превратятся в прах. Оно станет лишь немного слабее, когда цивилизация, которую они строят, наконец раскроет его секреты.
Стена мрака
Перевод Л. Жданова
Многочисленны и удивительны миры, плывущие подобно пузырькам пены по Реке Времени. Иные, их очень мало, движутся против или поперек течения; еще меньше таких, что находится вне его пределов и не ведают ни будущего, ни прошлого. Маленькая вселенная Шервана в их число не входила, ее своеобразие было иного рода. Она насчитывала всего лишь один мир — планету племени Шервана — и одну лишь звезду, великое солнце Трилорн, дающее планете свет и жизнь.
Шерван не знал, что такое ночь, ибо Трилорн всегда парил высоко над горизонтом, опускаясь к нему только в долгие зимние месяцы. Правда, в Стране Вечной Тени каждый год бывала пора, когда Трилорн исчезал за краем планеты и наступала тьма, в которой ничто не могло жить. Но и тогда мрак не был полным, хоть и не было звезд, чтобы его рассеять.
Один в своей маленькой вселенной, вечно обращенный одной и той же стороной к своему одинокому солнцу, мир Шервана был последней и наиболее странной причудой творца звезд.
И однако же мысли, которые наполняли голову Шервана, когда он глядел на земли своего отца, могли родиться в сознании любого из детей человеческого рода. Он ощущал и благоговение, и любопытство, и немного страха, но над всем преобладало стремление изведать огромный мир, окружающий его. Пока он был слишком юн для этого, но старинный дом стоял на самой высокой на много миль точке, и во все стороны открывался вид на край, которым ему владеть. Если повернуться лицом на север, к Трилорну, то вдали можно было разглядеть длинную гряду гор, которые уходили вправо, становясь все выше и выше, пока не терялись в далях за его спиной — там, где начиналась Страна Вечной Тени. Когда-нибудь, став постарше, он пройдет через эти горы, через перевал, что ведет в обширные страны востока.
Слева — всего несколько миль — океан; иногда Шерван слышал даже рокот волн, катящихся на пологий песчаный берег. Никто не знал, как далеко протянулся океан. Корабли выходили в его просторы и плыли на север, но Трилорн все выше поднимался в небе, все сильней и сильней становился жар его лучей. И задолго до того, как могучее солнце достигало зенита, кораблям приходилось поворачивать вспять. Так что, если мифическая Огненная Страна и впрямь существует, никому не суждено достичь ее берегов. Правда, есть легенды, они говорят, будто некогда были быстроходные металлические суда, которые могли пересечь океан наперекор палящим лучам Трилорна и достигнуть земель на том краю света. Теперь туда можно попасть только после долгого путешествия по суше и по морю, а если пожелаешь хоть немного сократить путь, надо следовать севернее, насколько хватит отваги.
Все обитаемые земли мира Шервана лежали в узком поясе между палящим зноем и нестерпимым холодом. В каждой стране крайний север — это неприступная область, опаленная гневом Трилорна. А к югу от всех государств раскинулась огромная и мрачная Страна Вечной Тени, где Трилорн — всего лишь бледный диск над самым горизонтом, а то и вовсе нет его.
Все это Шерван узнал в годы своего детства, и в ту пору его не впекло за пределы обширной страны между горами и океаном. Издревле его предки и предшествовавшие им племена упорно трудились, стремясь сделать эти земли самыми прекрасными на свете, и они добились своего, или почти добились. Удивительные цветы украшали сады; лаская мшистые утесы, тихо журчали потоки, которые вливались в прозрачное, не ведающее приливов море. Поля шелестели колосьями на ветру, словно поколения еще не родившихся семян перешептывались между собой. На просторных лугах и под сенью деревьев, мыча и блея, лениво бродили послушные стада. А еще был большой дом с огромными залами и бесконечными коридорами, который ребенку казался исполинским. Вот в каком мире рос Шерван, какой мир он знал и любил. И то, что находилось за родными рубежами, его пока не занимало.
Но мир Шервана был подвластен времени. Урожай созревал, и хлеб засыпали в амбары; Трилорн медленно плыл по своей короткой небесной дуге; сменялись времена года, крепли тело и дух Шервана. Такой родной край уже не казался ему таким огромным, горы подступили ближе, и до океана было рукой подать от большого дома. Он начал познавать мир, в котором жил, готовясь исполнить предназначенную ему роль в судьбах этого мира.
Кое-что ему поведал отец, Шервал, но главным наставником был Грейл, который пришел из-за гор в дни отца его отца и воспитал уже три поколения в их роду. Мальчик привязался к Грейлу (хоть было много такого, чему он учился без всякой охоты), и годы детства текли безмятежно. Но вот настала пора Шервану отправиться через горы в соседнюю землю. Много веков назад его род пришел из великих стран востока, и с тех пор в каждом поколении старший сын совершал туда паломничество, проводя год юности среди сородичей. Это был мудрый обычай, потому что в стране за горами еще хранили память о знаниях, коими обладали древние; к тому же было легко встретить людей из других земель, изучить их обычаи.
Весной того года, когда пришел срок сыну отправляться в путь, Шервал призвал к себе трех слуг, взял несколько животных (назовем их для простоты лошадьми) и поехал вместе с Шерваном в те части родной страны, которых юноша еще не знал. Сперва они ехали на запад, потом, спустившись к морю, много дней следовали вдаль берега. Трилорн заметно приблизился к горизонту, но они продолжали путь на юг, и тени у их ног становились все длиннее и длиннее. И только когда лучи солнца, казалось, вовсе утратили свою силу, путники повернули на восток. До Страны Вечной Тени оставалось совсем немного, и было бы неразумно ехать дальше на юг, пока не наступило лето.
Шерван ехал рядом с отцом, жадно рассматривая новые ландшафты с любопытством мальчика, который впервые попал в незнакомую страну. Отец говорил ему о почве, о том, какие злаки здесь можно выращивать, а какие не привьются. Но мысли Шервана были заняты другим — он смотрел туда, где начинались пустынные земли Страны Вечной Тени, пытаясь представить себе, далеко ли она простирается и какие тайны хранит.
— Отец, — заговорил он наконец, — если ехать на юг все прямо и прямо, через Страну Вечной Тени, попадешь на противоположную сторону мира?
Отец улыбнулся.
— Люди много веков задают себе этот вопрос, — но есть две причины, из-за которых им никогда не узнать ответа.
— Какие причины?
— Во-первых, разумеется, мрак и холод. Даже здесь никто и ничто не может жить зимой. Но есть и более веская причина, хотя Грейл, насколько я понимаю, не говорил тебе о ней.
— Кажется, не говорил, во всяком случае, я не припомню.
Шервал помолчал. Привстав в стременах, он обвел взглядом земли, простершиеся к югу.
— Когда-то я хорошо знал эти места, — сказал он наконец Шервану. — Поедем, я тебе кое-что покажу.
Они свернули с тропы и несколько часов ехали спиной к солнцу. Местность постепенно повышалась, и Шерван увидел, что они поднимаются вдоль гребня вершины, которая напоминала кинжал, нацеленный в самое сердце Страны Вечной Тени. Стало слишком круто для их коней, тогда они соскочили и оставили животных на попечение слуг.
— Можно обойти кругом, — объяснил Шервал, — но лезть напрямик быстрее, чем вести коней в обход.
Вершина была хоть и крутая, но не очень высокая, и они за несколько минут поднялись на нее. Сперва Шерван не заметил ничего необычного: та же самая дикая пересеченная страна, только чем дальше от Трилорна, тем мрачнее и суровее.
Он в замешательстве повернулся к отцу, но Шервал поднял руку, указывая на юг, и пальцем отчеркнул линию горизонта.
— Это не сразу рассмотришь, — тихо произнес он. — Мой отец показал мне как раз отсюда, за много лет до того, как ты родился.
Напрягая зрение, Шервал всматривался в сумрак. Небо на юге было темное, почти черное там, где встречалось с краем земли. А впрочем, нет, не встречалось: вдоль горизонта, разделяя землю и небо, широкой дугой протянулась полоса еще более густого мрака, черная как ночь, которой Шерван не знал.
Долго и пристально глядел он на эту полосу, и, видимо, в душу Шервана вкралось предчувствие, потому что угрюмый край вдруг словно ожил, маня его. И когда он наконец оторвал взгляд от черной полосы, то — хоть и был слишком юн, чтобы истолковать загадочный зов, — знал: отныне все будет представляться ему в ином свете.
Ранней весной он простился с родными и в сопровождении слуг направился через горы в великие страны восточного мира. Здесь Шерван встретил людей одной с ним крови, и здесь он изучил историю своего народа, узнал искусства и ремесла, уходящие корнями в древность, науки, направляющие жизнь людей. В местах учения он завязывал дружбу с юношами, что прибыли из стран, лежащих еще дальше на восток; дружба была короткой, но одному из этих молодых людей суждено было сыграть неожиданно большую роль в жизни Шервана.
Отец Брейлдона был прославленный зодчий, однако сын явно готовился превзойти его. Он путешествовал из страны в страну и непрестанно учился, наблюдал, задавал вопросы. И хотя он был всего несколькими годами старше Шервана, но бесконечно больше него знал о мире, — во всяком случае, так казалось Шервану.
Беседуя, они весь мир разбирали на составные части и собирали вновь так, как хотелось им. Брейлдон мечтал о городах с широкими проспектами и величественными башнями, которые затмят все чудеса прошлого; Шерван занимала судьба людей, которым предстояло населять эти города, устройство их жизни.
Они часто говорили о Стене; Брейлдон знал о ней из преданий своего народа, но сам ее не видел. Далеко-далеко на юге, за всеми странами — как в том убедился Шерван — тянется она подобно могучему барьеру, окаймляя Страну Вечной Тени. Летом можно было ее достигнуть, хотя и с превеликим трудом, но проникнуть за Стену невозможно, и никому не ведомо, что лежит за ней. Сама будто целый мир, сплошная, без единого уступа, стократ выше человека, она пересекает неприветливое море, омывающее берега Страны Вечной Тени. Путники, едва согреваемые последними бледными лучами Трилорна, достигали этих пустынных берегов и видели, как Стена вздымается из воды, равнодушная к волнам, омывающим ее подножье. И на других далеких берегах другие путники видели, как она шагает через океан, смыкаясь в сплошное кольцо в своем кругосветном обхвате.
— Один из братьев моего отца, — рассказывал Брейлдон, — в молодости ходил до Стены. Он побился об заклад и десять дней ехал верхом, чтобы достичь ее. Огромная, холодная, она вызвала в нем страх. Он не мог сказать, из метала она или из камня, и, когда он кричал, эха не было, звук голоса затухал, словно Стена его поглощала. У нас есть поверье, что там край света и дальше ничего нет.
— Будь это так, — возразил Шерван очень рассудительно, — океан хлынул бы через край, прежде чем построили Стену.
— А если Стену воздвиг Кайрон, когда сотворил мир?
Но Шерван стоял на своем:
— У нас верят, что Стена создана людьми, возможно мастерами Первой Династии, они ведь делали такие замечательные вещи. Если у них вправду были корабли, способные достигнуть Огненной Страны — даже летать! — они, наверное, обладали достаточной мудростью, чтобы построить Стену.
Брейлдон пожал плечами.
— Видимо, у них была на то причина, — сказал он. — Но мы все равно не узнаем ответа, так зачем ломать себе голову?
Шерван уже успел убедиться, что у обыкновенных людей он, кроме этого разумного практического совета, ничего не почерпнет; только мыслителей занимают вопросы, на которые нет ответа. Большинство людей совершенно безучастно относилось к загадке Стены, как и к загадке жизни. А философы, коих он встречал, отвечали ему каждый раз по-своему.
Начать с Грейла, к которому он обратился, возвратившись из Страны Вечной Тени. Старик спокойно поглядел на Шервана и сказал;
— За Стеной, насколько мне известно, кроется только одно — безумие.
Был он и у Артекса, древнего старца, который едва расслышал взволнованный голос юноши. Старец долго смотрел на Шервана из-под опушенных век, чересчур утомленных, чтобы открываться полностью, наконец ответил;
— Кайрон воздвиг Стену на третий день сотворения мира. А что за ней, мы узнаем, когда умрем, ибо туда уходят души умерших.
Однако Ирген, живший в том же городе, сказал совсем иное.
— Только память может ответить на твой вопрос, сын мой. Ибо за Стеной находится страна, где мы обитали до нашего рождения.
Кому верить? Ясно; ответ неизвестен никому из них. Даже если его когда-то знали, это знание утрачено много веков назад.
Но хотя поиски Шервана были бесплодными, он приобрел немало знаний за год учения. И когда вновь наступила весна, он попрощался с Брейлдоном и другими друзьями, с которыми только-только успел сблизиться, и по древней дороге направился домой, на родину. Опять совершил он трудный переход через высокий перевал в горах, где сверху угрожающе свисали глыбы льда. Дальше Шерван достиг того места, откуда извилистая дорога снова шла под уклон, спускаясь к людям. Здесь было тепло, струились шумные потоки и не перехватывало дыхание от морозного воздуха, и отсюда, с уступа, после которого дорога устремлялась вниз, в долину, открывался вид на предгорья и на равнину, вплоть до мерцающего вдали океана. И там, у края неба, взгляд Шервана различил во мраке смутную тень — его родину.
Он спускался по могучему каменному ребру, пока не достиг моста, перекинутого людьми через теснину еще в древности, когда землетрясение разрушило единственную в этих горах дорогу. Но мост исчез; весенние бури и лавины снесли одну из могучих опор, и чудесная металлическая радуга обратилась в груду лома, омываемую неистовым пенистым потоком на дне тысячефутовой пропасти. Только к концу лета путь будет открыт опять… Поворачивая обратно, опечаленный Шерван знал, что пройдет еще год, прежде чем он сможет увидеть родной дом.
Долго простоял он на верхнем изгибе дороги, глядя на недосягаемую страну, где находилось все, что дорого его сердцу. Но вот сгустившийся туман скрыл ее, и Шерван решительно двинулся к перевалу. Равнина исчезла из виду, снова его со всех сторон обступили горы.
Брейлдон еще был в городе, когда вернулся Шерван; он удивился и обрадовался, увидев друга. Вместе они обсудили, чем заполнить предстоящий год. Родичи Шервана успели привязаться к своему гостю и были только рады ему, однако он без воодушевления выслушал их совет посвятить еще год учению.
Замысел Шервана постепенно созревал вопреки всем препятствиям. Даже Брейлдон на первых порах колебался, и понадобились долгие уговоры, чтобы привлечь его на свою сторону. Зато после этого нетрудно было добиться согласия всех остальных, от кого зависит успех.
Близилось лето, когда двое юношей выехали в путь, направляясь в страну Брейддона. Они торопили коней, потому что путь был долгий, и его надо было завершить до того, как Трилорн начнет клониться к горизонту, возвещая приход зимы. Достигнув мест, знакомых Брейлдону, они стали расспрашивать жителей, и те сперва только кивали, но в конце концов дали точные ответы, и вскоре друзья очутились в Стране Вечной Тени. А затем Шерван во второй раз в жизни увидел Стену.
Когда она предстала их глазам, высясь над пустынной, скудной равниной, то казалось — до нее не так уж далеко. Однако пришлось еще очень долго ехать по равнине, прежде чем Стена заметно приблизилась. Зато потом вдруг оказалось, что они почти у ее подножия; невозможно было определить расстояние, пока не подойдешь вплотную к Стене.
Глядя на черную поверхность, столь сильно занимавшую его мысли, Шерван чувствовал, что она словно зависает над ним, готовая упасть и сокрушить его своей тяжестью. Лишь с трудом он оторвал взгляд от гипнотического зрелища и подъехал еще ближе, чтобы понять, из чего сложена Стена.
Как и говорил Брейлдон, она была холодная на ощупь, холоднее, чем можно было ожидать. Не мягкая и не твердая; ее покров каким-то непонятным образом ускользал от осязания. У Шервана было такое чувство, будто что-то мешает ему по-настоящему дотронуться до поверхности; и однако же он не видел никакого просвета между Стеной и своими пальцами, когда прижимал их к ней. Всего удивительнее была жуткая тишина, о которой рассказывал дядя Брейллона: каждое слово тонуло, всякий звук затухал с неестественной быстротой.
Брейлдон снял с вьючных коней привезенный инструмент и принялся исследовать поверхность Стены. Очень скоро он убедился, что ни сверло, ни долото не оставляют на ней никакого следа. И Брейлдон согласился с Шерваном: Стена не только несокрушима — она недосягаема.
С досадой взял он наконец совершенно прямую металлическую линейку и приложил ее ребром к Стене. Шерван зеркалом направил на черту соприкосновения отраженный свет тускнеющего Трилорна, а Брейлдон смотрел с другой стороны линейки. Так и есть: чрезвычайно тонкая сплошная полоска света просачивалась между двумя поверхностями.
Брейлдон задумчиво взглянул на друга.
— Шерван, — сказал он, — мне сдается, Стена сделана из неизвестной материи.
— Тогда, быть может, правы легенды, говоря, что ее никто не воздвигал, что она сразу появилась в таком виде.
— Мне тоже так кажется, — ответил Брейлдон. — Мастера Первой Династии могли решать такие задачи. В моей стране есть очень древние здания, будто разом отлитые из вещества, на котором незаметно никаких следов износа. Будь они черные, а не цветные, я бы сказал, что тот материал очень похож на вещество Стены.
Он убрал бесполезный инструмент и стал устанавливать переносной теодолит.
— Если больше ничего не выходит, — сказал он, криво усмехаясь, — то хоть ее высоту определю!
Когда они, возвращаясь, в последний раз оглянулись на Стену, Шерван думал о том, что вряд ли он увидит ее вновь. Больше ничего не выведаешь, остается только забыть свою нелепую мечту когда-нибудь раскрыть ее секрет… А может быть, никакого секрета и нет, может быть за Стеной снова тянется Страна Вечной Тени, огибая планету, пока с другой стороны опять не упрется в Стену. Да, скорее всего, так и есть. Но если это так, то зачем она сооружена и кем?
Усилием воли, чуть ли не сердясь, он отогнал прочь эти мысли и пришпорил коня навстречу Трилорну, размышляя о будущем, в котором Стене отводилось не больше места, чем в жизни любого человека.
Итак, два года минуло, прежде чем Шерван смог вернуться на родину. За два года, особенно когда вы молоды, многое забывается, тускнеют даже самые дорогие сердцу образы, и трудно представить их себе отчетливо. Когда Шерван, выехав из предгорий, вновь очутился в стране своего детства, радость смешивалась в его душе со странной печалью. Забыто много такого, что некогда казалось ему навеки запечатленным в памяти…
Весть о возвращении Шервана опередила его, и вот уже он видит вдали скачущих навстречу коней. Он и сам поехал быстрее, надеясь, что это Шервал; оказалось, однако, что кавалькаду возглавляет Грейл.
Шерван остановил коня, как только старик поравнялся с ним. Грейл положил руку юноше на плечо, но отвернулся и заговорил не сразу.
Вот когда Шерван узнал, что прошлогодние бури разрушили не только мост: молния разбила вдребезги его отчий дом. Задолго до назначенного часа все земли, принадлежавшие Шервалу, перешли во владение сына. И не только они: ведь пламя пало на большой дом, когда в нем собрались на ежегодную встречу все члены семьи. Так в одно мгновение весь край от гор до океана стал собственностью Шервана. Он оказался самым богатым человеком на памяти людей — и все это богатство Шерван охотно отдал бы за то, чтобы еще раз взглянуть в спокойные серые глаза отца, которого ему не суждено было больше увидеть.
Трилорн уже много раз совершил свой годичный путь в небесах с тех пор, как Шерван на дороге у подножья гор расстался с детством. Все эти годы страна процветала; земли, что вдруг перешли к Шервану, постоянно росли в цене. Он рачительно управлял ими, и теперь у него снова появилось время мечтать. Больше того, он располагал средствами, чтобы осуществить свою мечту.
Из-за гор часто доходили вести о работах, которыми руководил Брейлдон в стране на востоке, и хотя друзья юности не встречались, они постоянно обменивались посланиями. Брейлдон достиг заветных целей: не только начертил планы двух крупнейших зданий, воздвигнутых со времен древности, но задумал построить целый город — правда, он не рассчитывал, что это будет завершено при его жизни. Слыша все эти новости, Шерван вспоминал мечты своей юности, и мысли его вновь и вновь обращались к тому дню, когда друзья стояли вместе перед могучей Стеной. Долго он боролся с собой, боясь понапрасну пробудить старые стремления. Но в конце концов он решился и написал письмо Брейлдону; ибо что толку от могущества и богатства, если их не использовать для осуществления мечты?
И Шерван стал ждать ответа, беспокоясь: уж не забыт ли Брейлдон за все эти годы, увенчавшие его славой, о бьиом. Ему не пришлось ждать долго. Брейлдон сообщил, что не может прибыть тотчас, нужно довести до конца большие работы, но как только они будут завершены, он приедет. Шерван задал ему достойную задачу — ее выполнение сулило зодчему высшую радость, какую ему когда-либо довелось испытать.
Брейлдон прибыл в начале лета; Шерван встречал на дороге ниже моста. Они были юношами, когда расставались, теперь уже почти достигли средних лет, и все-таки, приветствуя друг друга, оба чувствовали себя так, словно и не было долгой разлуки, и каждый, глядя на друга, втайне радовался тому, сколь бережно время коснулось знакомых черт.
Много дней они совещались, обсуждая составленный Брейлдоном план. Замысел был обширнейший, рассчитанный на много лет упорного труда, но вполне доступный для такого богатого человека, как Шерван. Прежде чем сказать последнее слово, он повел друга к Грейлу.
Старик уже несколько лет жил в маленьком доме, который построил для него Шерван. Он давно отдалился от высших кругов, однако всегда был готов помочь советом, и советы его оставались неизменно мудрыми.
Грейл знал, для чего приехал Брейлдон, и не удивился, когда архитектор развернул перед ним свои чертежи. На самом большом чертеже был намечен профиль Стены, а рядом с ней от подножья возвышалась огромная пологая лестница. В шести местах, разделенных совершенно равным расстоянием, наклонная плоскость переходила в просторные площадки; последняя из них немного не достигала верхней кромки Стены. По всей длине лестницы отходило десятка два аркбутанов, которые сперва показались Грейлу чересчур тонкими и хрупкими. Но затем он понял, что могучее сооружение будет главным образом опираться на собственное основание, а с одной стороны сама стена примет на себя боковой распор.
Некоторое время он молча рассматривал чертеж, наконец негромко заметил:
— Ты всегда умел настоять на своем, Шерван. Я должен был предвидеть, что кончится этим…
— Значит, ты одобряешь наш замысел? — спросил Шерван.
Он никогда не шел наперекор советам мудрого старца, и на этот раз ему хотелось получить его одобрение. Как обычно, Грейл заговорил о главном:
— Сколько это будет стоить?
Брейлдон ответил, на мгновение воцарилась выразительная тишина.
— Сюда входит, — поспешно добавил архитектор, — стоимость хорошей дороги через Страну Вечной Тени и жилищ для работников. Лестница будет сложена примерно из миллиона одинаковых кирпичей. Если тщательно подогнать их, получится очень прочно. Я рассчитываю, что сырье для кирпичей мы найдем в Стране Вечной Тени, — Он тихо вздохнул. — конечно, я предпочел бы лестницу из соединенных вместе железных брусьев, но это станет еще дороже, ведь придется вести железо из-за гор.
Грейл изучил чертеж более тщательно.
— Почему вы останавливаетесь, не доходя до кромки? — спросил он.
Брейлдон перевел взгляд на Шервана, который ответил с некоторым замешательством:
— Я хочу один подняться на Стену. Последний кусок преодолею на подъемнике, мы установим его на верхней площадке. Один потому, что дальше может оказаться опасно.
Это была не единственная причина, но достаточно веская. За Стеной, как однажды сказал Грейл, человека подстерегает безумие. Если это так, то незачем еще кому-то подвергать себя опасности.
Снова заговорил Грейл спокойным, чуть ли не сонным голосом:
— В таком случае твой замысел не назовешь ни хорошим, ни дурным, ибо речь идет о тебе одном. Если Стену соорудили, чтобы от чего-то оградить наш мир, с той стороны все равно ничего не проникнет.
Брейлдон кивнул.
— Все это мы предусмотрели, — произнес он не без гордости.
— Если понадобится, лестницу можно мгновенно уничтожить: мы заложили в самых уязвимых местах взрывчатое вещество.
— Хорошо, — ответит старик. — Хоть я и не верю всем этим россказням, лучше быть начеку. Надеюсь, я еще буду жив, когда вы закончите работу. А теперь попытаюсь вспомнить, что я слышал о Стене, когда сам был таким же молодым, каким был ты, Шерван, когда впервые спросил меня о ней.
Еще до начала зимы провели дорогу к Стене и начали строить жилища для работников. Большую часть того, в чем нуждался Брейлдон, было легко раздобыть, в Стране Вечной Тени было изобилие всякого камня. Он успел также обмерить Стену и выбрать место для лестницы. К тому времени, когда Трилорн стал спускаться к горизонту, Брейлдон с удовлетворением подвел итог сделанному.
К следующему лету были изготовлены, испытаны и одобрены Брейлдоном первые большие кирпичи; в том же году их сделали несколько тысяч и до зимы начали класть основание. Брейлдон оставил за себя надежного человека и возвратился на родину к прерванным там работам. Когда будет приготовлено вдоволь кирпичей, он приедет опять, а до тех пор в его надзоре нет нужды.
Шерван дважды или трижды в год отправлялся верхом к Стене, наблюдал, как вырастают пирамиды готовых кирпичей. А через четыре года вместе с ним туда снова приехал Брейлдон. Вдоль Стены поползли вверх ряды кладки, один за другим изогнулись в воздухе стройные аркбутаны. Поначалу лестница росла медленно, но чем уже она становилась, тем быстрее тянулась ввысь. Треть года длился вынужденный перерыв, и в тревожные зимние месяцы Шерван не раз стоял возле рубежей Страны Вечной Тени, прислушиваясь к бешеному вою ветра в гулком мраке. Но Брейлдон строил надежно, и каждую весну оказывалось, что постройка стоит невредимая, точно она готовилась поспорить незыблемостью с самой Стеной.
Последние кирпичи легли на место через семь лет после начала работ. Стоя в миле от Стены, чтобы видеть постройку в целом, Шерван с удивлением думал, что это вышло из нескольких чертежей, которые показывал ему Брейлдон. И он ощутил нечто вроде того, что испытывает художник, осуществив заветный замысел. А еще он вспомнил день, когда мальчиком, стоя рядом с отцом, впервые увидел Стену вдали, на фоне сумеречного неба Страны Вечной Тени.
Верхняя площадка была огорожена, но Шерван не стал подходить к краю. Стараясь не думать о головокружительной высоте, он помог Брейлдону и работникам установить несложный подъемник, который должен был поднять его на остающиеся двадцать футов. И когда все было сделано, Шерван стал на платформу и, призвав на помощь все свое самообладание, повернулся к друзьям.
— Я всего на несколько минут, — сказал он с напускной небрежностью — Что бы я ни нашел, вернусь немедленно.
Мог ли он знать, что у него просто не будет выбора.
Грейл к этому времени уже почти ослеп и не надеялся дожить до следующей весны. Но он узнал приближающиеся шаги и окликнул Брейдцона по имени прежде, чем тот успел заговорить.
— Я рад, что ты пришел, — сказал он. — Я размышлял обо всем, что вы мне говорили, и мне кажется, я теперь знаю истинный ответ. Возможно, и вы его уже угадали.
— Нет, — ответил Брейлдон. — Я боялся об этом думать.
Старик чуть улыбнулся.
— Зачем бояться чего-то лишь потому, что оно необычно? Стена замечательна, но в ней нет ничего страшного для того, кто готов бестрепетно бросить вызов ее тайне. Когда я был мальчиком, Брейлдон, мой старый учитель однажды сказал мне, что время не может уничтожить истину, может только скрыть ее под покровом легенд. Он был прав. Из всех мифов, повествующих о Стене, я извлек зерна истины… Давным-давно, Брейлдон, в пору расцвета Первой Династии, Трилорн давал больше тепла, чем теперь, и Страна Вечной тени была плодородна и обитаема — какой, возможно, станет Огненная Страна, когда Трилорн еще больше состарится и потускнеет. В то время никакая Стена не преграждала людям путь на юг. И многие, видимо шли туда в поисках новых земель. А там с ними происходило то же, что с Шерваном, и у людей мутился рассудок. Число жертв было так велико, что ученые первой династии воздвигли Стену, чтобы обуздать безумие. Мне-то это кажется неправдоподобным, но легенды утверждают, что Стена была создана в один день, без применения труда, из облака, которое опоясало весь мир…
Грейл впал в задумчивость, и Брейлдону не хотелось ему мешать. Мысленно он перенесся в далекое прошлое, и родная планета представлялась ему в виде парящего в космосе шара, вдоль экватора которого сгущался созданный Древними обруч мрака. И хотя этот образ был неверен в самом главном, Брейлдон после так и не смог совершенно забыть его.
По мере того как уходили вниз последние футы Стены, Шервану пришлось собрать все свое мужество, чтобы не закричать: «Спускайте обратно!» Вспомнились страшные рассказы. Некогда он встречал их смехом, ибо в его роду не было суеверных, но вдруг они окажутся правдой, вдруг Стена и впрямь окажется создана для того, чтобы скрыть от мира нечто ужасное?
Шерван попытался выбросить из головы подобные мысли — ему это удалось, когда он поднялся. над верхней кромкой Стены. В первый миг Шерван никак не мог осмыслить картину, представшую его глазам, затем он понял, что перед ним непрерывная черная поверхность, но протяженность ее определить невозможно.
Подъемник остановился; Шерван с восхищением отметил, сколь точны были расчеты Брейлдона. А затем, еще раз сказав напоследок что-то успокоительное ожидающим внизу, он ступил на Стену и решительно зашагал вперед.
На первый взгляд плоскость казалась бесконечной, он не мог даже различить, где она смыкается с небом. Однако Шерван продолжал упорно идти вперед, обратившись спиной к Трилорну. Жаль, что нельзя узнать направление по собственной тени: она терялась во мраке под ногами.
Что-то не так, отметил Шерван, с каждым шагом кругом все темней и темней… Встревоженный, он обернулся назад и увидел, что диск Трилорна стал бледным и мутным, точно он смотрел на него через закопченное стекло. Но это еще не все: с нарастающим чувством тревоги Шерван понял, что Трилорн меньше того солнца, которое он знал всю жизнь.
Он сердито, упрямо тряхнул головой. Вздор, игра воображения. Все это настолько не отвечало всему его жизненному опыту, что страх каким-то образом исчез, и Шерван, еще раз оглянувшись на солнце, решительно пошел дальше.
Но когда Трилорн обратился в точку и Шервана со всех сторон обступил густой мрак, пришла пора отбросить притворство. Более рассудительный человек тут бы и повернул обратно; Шерван, словно в кошмаре, увидел себя затерявшимся в вечном сумраке между землей и небом, бессильным одолеть обратный путь — путь к безопасности. Затем он вспомнил, что, покуда хоть немного виден Трилорн, ему ничего не грозит.
Уже не так бодро Шерван продолжал путь, поминутно озираясь на едва приметный свет. Диск Трилорна скрылся, на его месте осталось лишь слабое зарево в небесах. И вдруг исчезла надобность в этом маяке: далеко впереди виднелся на небосводе другой свет.
Сперва Шерван уловил чуть заметное, неверное сияние, и, когда он удостоверился, что это не обман зрения, Трилорн окончательно погас. Но теперь он уже чувствовал себя увереннее. С каждым шагом свет становился ярче, и его страхи поумерились.
Когда он увидел, что идет навстречу другому солнцу, когда стало совершенно очевидно, что оно растет, как незадолго перед тем уменьшался Трилорн, Шерван заставил себя не удивляться.
Сейчас — только наблюдать, запоминать. Осмысливать он будет потом. В конце концов, можно же представить себе, что в его мире два солнца, каждое из которых освещает свою сторону мира.
Наконец Шерван сквозь мрак различил черную линию, обозначающую край Стены. Скоро он будет первым человеком за много тысяч лет, если не вообще первым человеком, который увидит страну, отделенную Стеной от его мира. Так ли она прекрасна, как его родина, есть ли там люди, встреча с которыми принесет ему радость?..
Мог ли он предвидеть — кто и как его будет ждать!
Грейл протянул руку к шкафу и нащупал большой лист бумаги, лежащий сверху. Брейлдон молча ждал; старик снова заговорил:
— Как часто мы слышим суждения о протяженности вселенной, есть ли у нее границы! Космос представляется нам бесконечным, однако наша мысль восстает против представления о бесконечности. Некоторые философы предположили, что космос ограничен кривизной в некоем высшем измерении. Ты, конечно, слышал об этой догадке. Она верна, быть может, для других вселенных, если они существуют, для нас же ответ более прост. Вдоль линии, обозначенной Стеной, Брейлдон, наш мир кончается — и не кончается. Пока не воздвигли Стену, не было рубежа, не было ничего, что мешало бы идти вперед. Стена — барьер, созданный человеком и наделенный свойствами среды, в которой он расположен. Эти свойства всегда существовали, Стена не внесла ничего нового.
Он поднял листок бумаги и медленно повернул его.
— Вот… — сказал он Брейлдону, — плоский лист. У него, разумеется, две стороны. Можешь ты представить себе лист без двух сторон?
Брейлдон удивленно воззрился на него.
— Это невозможно… смехотворно!
— Так ли? — мягко сказал Грейл.
Он еще раз протянул руку к шкафу, взял из ящика длинную полоску бумаги и обратил взгляд на молчаливо ожидающего Брейлдона.
— Мы не можем сравниться умом с людьми Первой Династии, но что они понимали прямо, мы можем постичь сопоставлением. Простой фокус, по видимости такой ненаучный, поможет приблизиться тебе к пониманию.
Он провел пальцами вдоль бумажной полоски, затем соединил ее концы так, что получилось замкнутое кольцо.
— Ты видишь нечто очень знакомое тебе — часть цилиндра. Я провожу пальцем с внутренней стороны… вот так. Теперь с наружной стороны. Две раздельные поверхности, перейти с одной стороны на другую можно только через толщину полоски. Согласен?
— Разумеется, — сказал Брейлдон, все еще озадаченный, — Но что это доказывает?
— Ничего, — ответил Грейл. — Однако смотри теперь…
Шерван сказал себе, что новое солнце — двойник Трилорна. Мрак совершенно рассеялся, и у него уже не было необъяснимого ощущения, что он идет по бесконечной плоскости.
Шерван пошел медленнее, ему вовсе не хотелось вдруг очутиться на краю головокружительного обрыва. А затем на горизонте показались низкие холмы, такие же голые и бесплодные, как те, которые он оставил позади. Это его не обескуражило: ведь первое впечатление от собственной страны было бы не более отрадным.
И Шерван продолжал идти. Вдруг словно ледяная рука сжала его сердце, но он не остановился, как поступил бы на его месте менее храбрый человек. Полный прежней решимости, он смотрел на потрясающе знакомый ландшафт впереди… Вот и равнина, откуда он начал свое восхождение, вот огромная лестница, и вот, наконец, озабоченное лицо ожидающего его Брейлдона.
Грейл снова соединил вместе концы бумажной полоски, но сперва один раз перекрутил ее.
— Проведи теперь пальцем, — тихо сказал Грейл.
Брейлдон не стаз этого делать, он и без того понял, что подразумевает старый мудрец.
— Я понимаю, — произнес он, — Больше нет двух раздельных плоскостей. Теперь — одна сплошная поверхность, односторонняя плоскость, хотя на первый взгляд это кажется совершенно невозможным.
— Да, — мягко ответил Грейл. — Я так и думал, что ты поймешь. Односторонняя плоскость. Может быть, тебе теперь ясно, почему в древних религиях так распространен символ перекрученной петли, хотя смысл ее был совершенно утрачен. Разумеется, это всего-навсего грубая, упрощенная аналогия, пример в двух измерениях того, что существует в трех. Но это наибольшее приближение к истине, на какое способен наш разум.
Долго стояла задумчивая тишина. Грейл глубоко вздохнул и повернулся к Брейлдону, будто все еще мог видеть его лицо.
— Почему ты возвратился прежде Шервана? — спросил он, хотя отлично знал ответ.
— Мы вынуждены были сделать это, — печально произнес Брейлдон, — но я не мог смотреть, как разрушают мое творение…
Грейл сочувственно кивнул.
— Понимаю…
Шерван скользнул взглядом вдоль длинной череды ступеней, по которым не суждено было больше ступать никому. Ему не в чем упрекнуть себя: он сделал все, никто на его месте бы не добился большего. Он победил, насколько тут вообще можно говорить о победе.
Он медленно поднял руку, подавая знак. Стена поглотила взрыв, как поглощала все звуки, но Шерван на всю жизнь запомнил неспешную грацию, с какой длинные пролеты кладки надломились и рухнули вниз. На миг ему с мучительной отчетливостью представилось странное видение: другая лестница на глазах у другого Шервана распадается на такие же обломки по ту сторону Стены.
Но он сам понимал, сколь нелепа эта мысль: ибо кто лучше его мог знать, что у Стены нет другой стороны.
ЧАСТЬ III
Свидание с Рамой Перевод О. Битова
Посвящается острову Шри Ланка, где я взошел по Лестнице богов.
1 КОСМИЧЕСКИЙ ПАТРУЛЬ
Рано или поздно это должно было случиться. 30 июня 1908 года, задержись Тунгусский метеорит на три часа или приземлись он на четыре тысячи километров западнее — величины ничтожно малые в масштабах Вселенной, — могла бы пострадать Москва. 12 февраля 1947 года на волоске от гибели оказался другой русский город: второй великий метеорит XX века взорвался менее чем в четырехстах километрах от Владивостока, и этот взрыв по силе мог бы соперничать с только что изобретенной атомной бомбой.
В те дни у человечества просто не было средств оградить себя от космической бомбардировки, от выстрелов вслепую, некогда изувечивших поверхность Луны. Метеориты 1908 и 1947 годов упали на безлюдные, дикие места. Но к концу XXI столетия на Земле не осталось районов, которые можно было бы без опаски использовать как полигоны для небесной артиллерии. Человек расселился от полюса до полюса. И произошло неизбежное…
Лето 2077 года выдалось исключительно теплым и ласковым. Утром 11 сентября, в 9 часов 46 минут по Гринвичу, жители Европы поневоле обратили внимание на ослепительный огненный шар, появившийся на восточном небосклоне. За считанные секунды он затмил своим сиянием Солнце и, бесшумно перечеркнув небо, оставил за собой клубящийся дымный след.
Где-то над Австрией шар начал распадаться, и на Землю обрушились волны чудовищного грома. Более миллиона человек до конца дней своих не услышали уже ни звука — но этим еще повезло.
Со скоростью пятьдесят километров в секунду тысячи тонн железа и камня рухнули на равнины Северной Италии, уничтожив за несколько огненных мгновений труд тысячелетий. Города Падуя и Верона были стерты с лица земли, и последние из красот Венеции навеки ушли на дно морское — воды Адриатики с ревом хлынули в гигантскую вмятину.
Погибло шестьсот тысяч человек, общий материальный ущерб превысил триллион долларов. Но чем измерить невосполнимые потери, которые понесли искусство, история, наука и вообще весь род человеческий? За одно-единственное утро люди словно бы начали и проиграли страшную войну — лишь немногим послужили утешением изумительной красоты восходы и закаты, которые дала миру пыль катастрофы, — ничего подобного он не видел с 1883 года, с извержения Кракатау.
Едва прошел первый шок, человечество ответило на несчастье решительностью и сплоченностью, немыслимыми в иные, более ранние эпохи. Разумеется, катастрофа таких масштабов могла и не повториться или повториться через тысячи лет, но кто бы поручился, что завтра она не разразится вновь… Бедствия в следующий раз могли оказаться еще ужаснее.
И было решено, что «следующего раза» не будет.
Ведь еще столетием раньше, когда мир был куда беднее, а его ресурсы ограниченнее, народы не посчитались с затратами, стремясь уничтожить запасы оружия, достигшие самоубийственных размеров. Замысел этот тогда не увенчался полным успехом, но был накоплен определенный опыт. И теперь его использовали для еще более благородной цели, использовали с грандиозным размахом. Ни один метеорит, достаточно большой, чтобы стать опасным, впредь никогда не должен был пробить оборонительные рубежи землян.
Так зародилась система «Космический патруль». Спустя полвека она полностью оправдала себя. Оправдала весьма неожиданным образом, не предусмотренным ее конструкторами.
2 ПРИШЕЛЕЦ
К 2130 году было открыто множество мелких астероидов: локаторы, базирующиеся на Марсе, засекали их буквально по десятку в день. Компьютеры Космического патруля автоматически вычисляли их орбиты и копили эти сведения в своей необъятной памяти на тот нечастый случай, если какой-нибудь фанатик-астроном поинтересуется итоговой статистикой. Статистика выглядела очень впечатляюще.
Самый крупный из астероидов, Церера, был обнаружен в первый день XXI века, и понадобилось больше ста двадцати лет, чтобы довести счет карликовых планет до тысячи. Сотни их открывали, тут же теряли, а затем находили заново; астероиды роились так густо, что один сердитый астроном обозвал их «паразитами небес». Его, наверное, потрясло бы, что Космический патруль ухитряется следить за каждым из полумиллиона астероидов.
Среди них только пять гигантов — Церера, Паллада, Юнона, Эвномия и Веста — превышали в поперечнике двести километров; подавляющее большинство астероидов составляли, в сущности, валуны-переростки, вполне уместные в каком-нибудь живописном парке. Почти все они двигались по орбитам, лежащим между Марсом и Юпитером; внимание Космического патруля привлекали лишь те, которые намного ближе к Солнцу и, следовательно, представляли собой потенциальную опасность. Но и среди таких едва ли один из тысячи хоть однажды за всю историю Солнечной системы приближался к Земле на расстояние меньше миллиона километров.
Объект, внесенный в каталоги первоначально под номером 31/439 —год открытия плюс порядковый номер, — локаторы засекли еще за орбитой Юпитера. В самом его местонахождении не было ничего необычного: немало астероидов, прежде чем вернуться к своему повелителю — Солнцу, отдалились от него до Сатурна и даже за Сатурн. А Туле-И, самый дальний из всех, настолько близко подлетает к Урану, что, похоже, некогда являлся его луной.
Но засечь астероид на таком расстоянии до сих пор не удавалось; очевидно, номер 31/439 отличался огромными размерами. По силе отраженного сигнала компьютеры определили, что диаметр астероида составляет не менее сорока километров. Такого великана не открывали, наверное, добрую сотню лет, и оставалось только недоумевать, почему же никто не обнаружил его намного раньше.
Когда вычислили элементы орбиты нового астероида, загадка вроде бы разрешилась, однако на смену ей пришла другая, более существенная. Номер 31/439 вовсе не был обыкновенным астероидом, бегущим по эллиптической орбите и повторяющим ее с точностью часового механизма каждые несколько лет. Он оказали одиноким межзвездным скитальцем, посетившим Солнечную систему в первый и последний раз, и двигался так стремительно, что даже гравитационное поле Солнца не способно было взять его в плен. Пронзив орбиты Юпитера, Марса, Земли, Венеры и Меркурия и непрерывно набирая скорость, он должен был в конце концов обогнуть Солнце и вновь уйти в неведомое.
Тогда-то, закончив вычисления, компьютеры послали людям сигнал: «Внимание! Мы откопали доя вас кое-что интересное», и номер 31/439 впервые привлек внимание человечества. Легкий шквал возбуждения в штабе Космического патруля — и межзвездного бродягу вместо заурядного номера удостоили имени собственного. Астрономы давно уже исчерпали как греческую, так и римскую мифологию и теперь принялись за индуистский пантеон. Номер 31/439 нарекли именем Рама.
Средства массовой информации подняли было шум вокруг небесного гостя, но через два-три дня вынужденно утихли — кричать оказалось не о чем. Все данные о Раме исчерпывались двумя параметрами — необычной орбитой и удивительными размерами. Но и размеры, вычисленные по силе отраженного радиосигнала, еще нельзя было считать окончательно установленными. В телескоп Рама по-прежнему казался слабенькой звездочкой пятнадцатой величины, о видимом диске не могло быть еще и речи. Но по мере того как он продвигался к центру Солнечной системы, величина и яркость должны были постепенно возрастать; прежде чем Рама скроется навсегда, орбитальные обсерватории сумеют составить более точное представление о его форме и размерах. А может статься — времени впереди еще достаточно, — какой-нибудь космический корабль, не отклоняясь от маршрута, приблизится к пришельцу настолько, чтобы сделать четкие фотографии. Специальное свидание с Рамой представлялось в высшей степени невероятным — слишком велики оказались бы энергетические затраты, ведь объект исследования пересекал орбиты планет со скоростью более ста тысяч километров в час.
И мир благополучно забыл о Раме — мир, но не астрономы. Напротив, их интерес к нему неуклонно обострялся: необычный астероид задавал им все новые загадки.
Прежде всего возник вопрос: почему яркость Рамы остается постоянной?
Всем известным астероидам, всем без исключения, свойственны определенные колебания яркости, то нарастающей, то слабеющей с периодом в несколько часов. Давным-давно было установлено, что эти колебания — неизбежное следствие вращения астероидов и их неправильной формы. Они кувыркаются по своим орбитам, и отражающие поверхности, обращенные к Солнцу, непрерывно сменяют друг друга, соответственно изменяется и яркость.
Яркость Рамы оставалась постоянной. То ли этот астероид вообще не вращался, то ли имел идеально правильную форму. Оба этих явления выглядели одинаково неправдоподобно.
Разгадки пришлось ждать многие месяцы: большие, вынесенные в космос телескопы без устали всматривались в дальние глубины Вселенной и не могли отвлекаться на подобные пустяки. Орбитальная астрономия — удовольствие дорогое, время на крупных инструментах расписано по минутам, и каждая минута оценивается примерно в тысячу долларов. Доктор Уильям Стентон никогда не получил бы в свое распоряжение двухсотметровый рефлектор на обратной стороне Луны, если бы другая, много более важная программа не сорвалась из-за отказа какого-то грошового конденсатора. Беда, постигшая коллегу, обернулась для Стентона редкостной удачей.
Он, разумеется, и не догадывался о ней, пока на следующий день не обработал полученные данные с помощью компьютера. И даже увидев результаты на экране, он не сразу смог осознать их смысл.
Яркость солнечного света, отраженного Рамой, все-таки не была абсолютно постоянной! Прослеживались колебания — слабые, едва уловимые, но несомненные и, главное, регулярные колебания. Подобно всем другим астероидам, Рама вращался вокруг своей оси. Но если на обычном астероиде «сутки» продолжались несколько часов, Рама совершал полный оборот за четыре минуты.
Доктор Стентон тотчас же проделал примерный подсчет — результатам трудно было поверить. Скорость вращения этого крошечного мирка на экваторе превышала тысячу километров в час; всякая попытка совершить посадку где-либо, кроме полюсов, окончилась бы весьма плачевно. Центробежная сила на экваторе Рамы отбросила бы любое тело с ускорением, почти равным земному ускорению свободного падения. Космическая пыль — и та не могла удержаться на поверхности Рамы; удивительно, как подобное тело вообще ухитрилось сохранить себя в целости, не распавшись по пути на сотни миллионов осколков.
Объект диаметром сорок километров с периодом вращения вокруг оси, равным четырем минутам, — как, спрашивается, втиснуть такое чудище в астрономическую картину мира? Стентон был человек, не лишенный воображения, больше того, порою склонный к поспешным выводам. И он не замедлил сделать заключение, которое на какое-то время совершенно выбило его из колеи.
Единственным экспонатом небесного зверинца, соответствующим полученному описанию, оказывалась нейтронная звезда. А что, если Рама в самом деле представляет собой мертвое солнце, бешено вращающийся шар из сверхплотной материи, каждый кубический сантиметр которой весит миллионы тонн?..
В ту же секунду в распаленном воображении доктора Стентона вспыхнули картины, навеянные классическим уэллсовским рассказом «Звезда». Впервые он прочитал этот рассказ еще в детстве, и именно Уэллс пробудил в юном Стентоне интерес к астрономии. За два столетия рассказ ни на йоту не потерял своей впечатляющей и устрашающей силы. Стентон не мог забыть ураганы, исполинские приливные волны, проглоченные морем города, неисчислимые разрушения, вызванные уэллсовской звездой-гостьей, когда та, предварительно столкнувшись с Юпитером, пролетала мимо Земли в сторону Солнца. Правда, звезда, которую нарисовал старик Уэллс, была не холодной, а раскаленной добела. Но это вряд ли что-то меняло: полностью остывшее тело, светящее отраженным светом, способно убивать одним своим притяжением с такой же легкостью, как раскаленное — теплом.
Масса звездных размеров, вторгшаяся в Солнечную систему, неизбежно повлияет на орбиты планет. А ведь достаточно Земле передвинуться на два-три миллиона километров ближе к Солнцу — или дальше от него, — как тонкий климатический баланс окажется безвозвратно нарушенным. Антарктическая ледовая шапка растает и затопит низменности и равнины, или, того хуже, океаны замерзнут, и мир закоченеет в оковах вечной зимы. Чуть подтолкни Землю в любом из двух направлений — и готово…
Туг доктор Стентон наконец расслабился и вздохнул с облегчением. Все это чепуха; стыдитесь, доктор, стыдитесь!
Рама никак не может состоять из сверхплотной материи. Масса таких размеров не могла бы проникнуть так глубоко в Солнечную систему, не вызвав в ней беспорядка, который давным-давно выдал бы себя с головой. Дальние планеты наверняка отклонились бы от привычных орбит, а ведь именно возмущения в небесной механике привели к открытию Нептуна, Плутона и Персефоны. Положительно невозможно, чтобы никто не заметил возмущений, вызванных гигантской массой мертвого солнца.
И все-таки жаль, что это невозможно. Встреча с черной звездой стала бы для астрономов событием…
События были еще впереди.
3 РАМА И «СИТА»
Чрезвычайное заседание Космического консультативного совета было недолгим, но бурным. Даже в XXII столетии так и не сыскали способа отвадить консервативно настроенных ученых от ключевых административных постов. Надо думать, эта проблема принадлежит к числу психологически неразрешимых.
В довершение всех бед председателем совета в данный момент являлся отставной профессор Олаф Дэвидсон, знаменитый астрофизик. Профессор Дэвидсон не испытывал ни малейшего интереса к объектам, которые по размерам были меньше галактик, и не считал необходимым скрывать свои чувства. И хотя он вынужденно признавал, что девять десятых новых данных его наука получает теперь с помощью инструментов, вынесенных в космос, это обстоятельство его отнюдь не радовало. На протяжении долгой научной карьеры профессора по меньшей мере трижды случалось, что спутники, запущенные с целью доказать какую-нибудь из взлелеянных им теорий, не оставляли от нее камня на камне.
Вопрос, который надлежало решить сегодня, требовал однозначного ответа. Несомненно, Рама представляет собой необычный объект, но насколько важен этот объект для науки? Два-три месяца — и он скроется навсегда, потеряно уже слишком много времени. Другого шанса встретиться с чем-то подобным, вероятно, просто не будет.
Это обойдется ужасающе дорого — и тем не менее космический корабль, который планировалось запустить с Марса в межпланетное пространство за Нептуном, можно спешно переоборудовать и послать на перехват Рамы. О сколько-нибудь длительном свидании, разумеется, говорить не приходилось — рассчитывать следовало лишь на аппаратуру записи: два тела разминутся со встречной скоростью двести тысяч километров в час. Продолжительность прямого наблюдения составит в лучшем случае пять минут, а длительность съемки крупным планом — менее секунды. Но при надлежащей наладке аппаратуры этого все же хватит на то, чтобы многое увидеть и многое понять.
Хотя профессор Дэвидсон исходил желчью при одном упоминании об экспедиции за Нептун, она была уже одобрена; теперь он не понимал, зачем швырять на ветер еще большие средства. Профессор произнес пламенный монолог о том, что лишь безумцы могут охотиться за астероидами и что гораздо целесообразнее установить на Луне новый интерферометр с высокой разрешающей способностью и доказать раз и навсегда космологическую гипотезу «большого взрыва».
Это была роковая тактическая ошибка, поскольку трое из членов совета являлись пылкими сторонниками гипотезы устойчивой Вселенной. В душе они были совершенно согласны с профессором Дэвидсоном, что охота за астероидами — пустая трата денег, и однако…
Его возражения были отвергнуты большинством в один голос.
Три месяца спустя космический корабль, получивший новое имя «Сита»[5], стартовал с Фобоса, спутника Марса. Полет продолжался семь недель, а аппаратура была включена на полную мощность лишь за пять минут до момента встречи. Одновременно были запущены ракеты с телекамерами, чтобы сфотографировать Раму сразу со всех сторон.
Первые же изображения, переданные с расстояния в десять тысяч километров, заставили человечество отложить в сторону все дела. На миллиардах телевизионных экранов появился крохотный тусклый цилиндрик, который с каждой секундой стремительно вырастал. Когда он увеличился вдвое, уже никто в целом мире не смел бы утверждать, что Рама имеет естественное происхождение.
Тело представляло собой цилиндр столь совершенной геометрической формы, словно его выточили на токарном станке — гигантском станке, бабки которого разнесены на пятьдесят километров. Оба торца цилиндра были совершенно плоскими, лишь в центре одного из них возвышалось какое-то небольшое сооружение; диаметр цилиндра был двадцать километров, но на расстоянии, пока не ощущался истинный масштаб, Рама до смешного напоминал заурядную стиральную машину.
Но вот цилиндр заполнил собою весь экран. Поверхность у него была тусклая, коричневато-серая, безжизненная, как у Луны, и лишенная каких бы то ни было ориентиров, кроме единственного. Примерно посредине большой оси боковую поверхность пятнал километровый темный мазок, будто что-то когда-то, многие века назад, ударилось и расплющилось о нее, Удар, по-видимому, не причинил Раме никакого вреда, но именно этот мазок вызывал те легкие колебания яркости, которые обнаружил Стентон.
Изображения, переданные другими камерами, не добавили к этой картине ничего нового. Однако траектории, прочерченные ракетами через собственное гравитационное поле Рамы, дали добавочную и притом важную информацию — позволили определить массу цилиндра.
Для монолитного цилиндра таких размеров масса оказалась чрезвычайно малой. Это уже никого не удивило: искусственное тело и должно быть полым.
Событие, на которое давно надеялись, которого давно опасались, наконец свершилось. Человечеству, видимо, предстояло принять первых гостей со звезд.
4 СВИДАНИЕ
Капитан Нортон ясно помнил эти первые телевизионные передачи, тем более что сегодня перед посадкой много раз прокручивал их заново. Однако наяву создавалось впечатление, какого электронное изображение не в состоянии было передать: размеры Рамы просто ошеломляли.
Такого впечатления никогда не возникало при посадке на естественное небесное тело, на Луну или на Марс. То были миры, и вы заведомо понимали, что они велики. Однако Нортону доводилось садиться и на восьмом спутнике Юпитера, который был даже несколько больше Рамы и все же казался совсем, совсем маленьким.
Парадокс объяснялся просто. Сознание не могло смириться с фактом, что это искусственное сооружение, в миллионы раз более массивное, чем любая из космических станций, созданных человеком. Масса Рамы достигала как минимум десяти миллионов тонн; космонавту подобная цифра внушала не просто благоговение, но и самый настоящий страх. Неудивительно, что по мере того, как громада выпуклого вечного металла заполняла небо, капитан все острее ощущал собственную ничтожность и уныние.
Возникало также и чувство опасности, чувство совершенно непривычное. Какую из предыдущих посадок ни припомнить, Нортон всегда знал, что его ожидает; конечно, оставалась вероятность несчастного случая, но и только. Здесь, на Раме, несомненным было только одно — полнейшая неизвестность.
«Индевор» висел менее чем в тысяче метров над северным поляком цилиндра, над центром вращающегося диска. Этот полюс выбрали потому, что он был освещен солнцем; по металлической плоскости, что без устали кружилась под ними, размеренно бежали тени от невысоких загадочных сооружений вблизи оси. Северная поверхность Рамы выглядела как исполинские солнечные часы, отмеряющие его стремительные четырехминутные дни.
Как опустить корабль весом в пять тысяч тонн строго в центре вращающегося диска — эта задача капитана, в сущности, не смущала. Она не отличалась от посадки на оси большой космической станции. Вспомогательные двигатели уже раскрутили «Индевор» со скоростью, в точности соответствующей скорости вращения Рамы, и у Нортона были все основания верить, что лейтенант Джо Колверт посадит корабль мягко, как снежинку. Посадит независимо от того, поможет ему бортовой компьютер или нет.
— Через три минуты, — заметил Джо, не отрывая глаз от раскрывшейся внизу панорамы, — мы узнаем, не состоит ли Рама из антиматерии…
Перебрав в памяти самые жуткие из теорий происхождения Рамы, Нортон усмехнулся. Непохоже, чтобы эти чудовищные гипотезы имели под собой почву, но если имеют, то через три минуты в Солнечной системе грянет взрыв, равного которому не было с самого ее формирования. Полная аннигиляция десяти тысяч тонн массы на мгновение дала бы планетам второе солнце.
Вот почему в полетном задании была предусмотрена даже эта, пусть маловероятная, возможность: с безопасной дистанции в тысячу километров «Индевор» выстрелил в сторону Рамы реактивной струей. И ничего не произошло — цели достигло лишь разреженное облачко газов, а ведь даже миллиграммы материи, соединившись с антиматерией, вызвали бы внушительный фейерверк.
Космические капитаны — народ осторожный. Нортон долго и пристально вглядывался в северную плоскость Рамы, выбирая точку посадки. По зрелом размышлении, он решил отказаться от соблазна опуститься в самом центре, точно по оси. Там, на полюсе, располагалась ясно видимая круглая конструкция ста метров в диаметре, и у Нортона возникло сильное подозрение, что это внешний замок грандиозного входного шлюза. Должны же были существа, построившие этот пустотелый мир, каким-то образом проникать вместе со своим снаряжением внутрь. Для главного входа было бы наиболее логично избрать полюс и крайне неразумно — заблокировать парадную дверь собственным кораблем.
Но такое решение порождало другие проблемы. Достаточно при посадке отклониться от оси хотя бы на десяток метров — и быстрое вращение Рамы потащит «Индевор» прочь от полюса. Поначалу центробежная сила будет очень и очень мала, зато действовать она будет беспрерывно и неотвратимо. И капитану Нортону вовсе не улыбалось, что его корабль станет скользить по своей посадочной площадке, минута за минутой набирая скорость, пока не достигнет края диска и не вылетит в космос, словно из пращи, со скоростью тысяча километров в час.
Возможно, впрочем, что собственное гравитационное поле Рамы — порядка одной тысячной земной — все-таки удержит корабль на месте. Притяжение прижмет «Индевор» к поверхности с силой в несколько тонн, и, если эта поверхность шероховата, ничего не случится. Однако Нортон что-то не ощущал желания испытывать на себе гипотетическую силу трения; можно было полагаться лишь на вполне достоверную центробежную силу.
К счастью, ответ подсказали сами конструкторы Рамы. Вокруг полюса на равном расстоянии от оси были расположены три приплюснутых коробчатых возвышения, каждое метров по десять в поперечнике. Отсюда следовало, что «Индевор» надо посадить между этими возвышениями — и та же центробежная сила придавит его к ним и удержит, как на привязи, словно судно, прибитое к пирсу морским приливом.
— Контакт через пятнадцать секунд, — предупредил Джо.
Лейтенант весь напрягся, склонившись к кнопкам ручного управления, хотя и не терял надежды, что трогать их не придется. Капитан Нортон сознавал величие момента: с той, отделенной от них полутора столетиями секунды, когда человек впервые достиг Луны, это, несомненно, была самая важная космическая посадка.
Серые коробчатые возвышения на контрольных экранах медленно перемещались вверх. Прощальный свист ракетных дюз, едва уловимый толчок.
На протяжении последних недель Нортон нередко размышлял о том, что он скажет в этот знаменательный миг. Но когда миг настал, история распорядилась за него, и он произнес почти автоматически, не отдавая себе отчета в том, что его слова прозвучали эхом из прошлого:
— Говорит Рама. «Индевор[6] сел.
Еще месяц назад он и сам ни за что не поверил бы, что это возможно. Корабль шел своим обычным маршрутом, проверяя и устанавливая на астероидах предупредительные радиобакены, когда получил единственный в своем роде приказ. Оказалось, что во всей Солнечной системе просто нет другого корабля, кроме «Индевора», который успел бы нагнать Раму, прежде чем тот развернется вокруг Солнца и вновь устремится к звездам. Но и «Индевору» пришлось по дороге буквально ограбить трех разведчиков, приписанных к Службе Солнца, и те сейчас беспомощно дрейфовали в пространстве в ожидании танкеров-заправщиков. Нортон побаивался, что теперь шкиперы «Калипсо», «Бигла» и «Челленджера»[7] не скоро начнут здороваться с ним снова.
И даже несмотря на дополнительное топливо, погоня выдалась долгой и трудной: незваный гость уже пересек орбиту Венеры, когда «Индевор» наконец настиг его. Ни один корабль никогда не сможет повторить этот маневр; привилегия, дарованная Нортону, была уникальной, и из оставшихся немногих недель ни единой минуты нельзя было потратить впустую. Тысячи ученых Земли с восторгом заложили бы собственную душу за право находиться рядом с ним, однако им оставалось лишь следить за происходящим по телевидению и, кусая губы, думать о том, насколько лучше они справились бы с этой миссией сами. Вероятно, они рассуждали правильно, но другого выхода не было. Неумолимые законы небесной механики продиктовали именно «Индевору» стать первым и последним пилотируемым кораблем землян, который когда-либо приблизился к Раме.
Конечно, Земля беспрестанно давала Нортону советы, однако это отнюдь не снимало с него ответственности. На то, чтобы принять решение, подчас отпускается лишь доля секунды — и тут рассчитывать было не на кого: запаздывание радиосообщений из Контрольного центра уже достигло десяти минут и неуклонно возрастало. Капитан частенько завидовал великим мореплавателям прошлого, не ведавшим электронной связи; вскрыв запечатанный приказ, они вольны были толковать его без назойливой опеки со стороны начальства. Если они ошиблись, об этом не знал никто.
И в то же время Нортон был рад возможности переложить груз некоторых решений на плечи Земли. Сейчас, когда орбита «Индевора» совпала с орбитой Рамы, они неслись к Солнцу как единое целое; через сорок дней, достигнув перигелия, они оказались бы в двадцати миллионах километров от светила. Двадцать миллионов — это слишком близко, и задолго до того «Индевору» придется, использовав оставшееся топливо, перейти на более безопасную орбиту. На исследования было отпущено от силы три недели, а затем они расстанутся с Рамой, расстанутся навсегда.
Ну а потом — потом они попадут в рабскую зависимость от Земли. «Индевор» станет фактически беспомощным, а его орбита будет такова, что он, в свою очередь, сможет долететь до звезд — приблизительно через пятьдесят тысяч лет. Но Центр заверил, что для беспокойства нет оснований: рано или поздно «Индевор» дозаправят. Дозаправят, не считаясь с расходами, даже если понадобится покинуть опорожненные до грамма танкеры на произвол судьбы. Цель — Рама — оправдывала любые средства, за исключением самоубийства.
И раз уж на то пошло, самоубийство тоже не исключалось. Нортон не питал иллюзий на этот счет. Впервые за добрую сотню лет в человеческие планы вторглась полная неопределенность. А это, как известно, вещь непереносимая ни для политиков, ни для ученых. Если за то, чтобы покончить с нею, надо платить, то «Индевор» и его экипаж — цена не столь уж высокая…
5 ПЕРВАЯ ВЫЛАЗКА
Вокруг стояла могильная тишина. А может, это и в самом деле была могила? Никаких радиосигналов ни на одной из мыслимых частот; никакой вибрации, заметной для сейсмографов, не считая микроколебаний, вызванных, без сомнения, действием солнечных лучей; никаких электрических полей; ни следа радиоактивности. На Раме царило почти зловещее спокойствие — даже на астероидах, казалось, бывает больше шума.
«А чего мы, собственно, ждали? — спросил себя Нортон. — Церемониальной встречи?..» Он и сам не понимал, разочаровало его это молчание или ободрило. Инициатива, во всяком случае, была в его руках.
Инструкция предписывала выждать двадцать четыре часа, а затем выйти на рекогносцировку. Никто из членов экипажа не спал толком в этот первый день; даже те, кто был свободен от вахты, все свое время проводили у приборов, без устали разглядывая на обзорных экранах застывший геометрический ландшафт. Всех мучил один и тот же вопрос: жив этот мир или мертв? Или просто уснул?..
В первую вылазку Нортон взял с собой только одного человека — капитан-лейтенанта Карла Мерсера, несговорчивого, но изобретательного специалиста по системам жизнеобеспечения. На первый раз он не собирался уходить далеко от корабля. И выводить сразу многих было незачем: если вдруг возникнут осложнения, это вряд ли поможет. Впрочем, предосторожности ради два других члена экипажа, заранее надев скафандры, дежурили возле выходного люка.
Под действием притяжения и центробежной силы каждый человек «весил» пять — десять граммов; рассчитывать приходилось лишь на ранцевые двигатели. Нортон решил, что при первой же возможности натянет между кораблем и ближайшим возвышением страховочную сетку, чтобы не было нужды тратить на каждый шаг топливо.
«Коробочка» находилась в каком-то десятке метров от выходною люка, и Нортон первым делом проверил, не причинила ли посадка вреда «Индевору». Но нет — хоть корпус и прижимало к поверхности с силой в несколько тонн, нагрузка распределялась равномерно. У капитана отлегло от сердца, и он пустился в путь вокруг «коробочки», пытаясь разгадать ее предназначение.
И буквально через три-четыре метра он натолкнулся на разрыв в гладкой, вероятно металлической, стене. Сначала ему подумалось, что это какое-то диковинное украшение, — казалось, оно не служиз никакой разумной цели. Шесть радиальных борозд, вернее пазов, глубоко врезанных в металл, а в них шесть перекрещивающихся планок, словно спицы колес без обода, и небольшая ступица в центре. Но каким же образом повернуть это колесо, если оно утоплено в стене?
И тут Нортон не на шутку разволновался, заметив на концах спиц специальные углубления, будто созданные для того, чтобы захватить их рукой (а может, клешней или щупальцем?). Если встать вот так, опершись о стену, и потянуть за спицу вот так…
Колесо легко и беззвучно выскользнуло из стены. К величайшему удивлению Нортона — в душе он был уверен, что любые движущиеся части здесь, в вакууме, давным-давно сплавились, — у него в руках оказался самый настоящий штурвал. Он мог бы вообразить себя капитаном старинного парусника, замершим на мостике у руля.
Оставалось только радоваться, что светофильтр не позволяет Мерсеру следить за выражением его лица.
Нортон был озадачен, больше того, сердит на себя. Быть может, он совершил первую ошибку; быть может, где-то внутри Рамы уже звучат тревожные сирены; быть может, его бездумный поступок привел в действие какой-нибудь непостижимый механизм?
Однако с «Индевора» сообщили, что не наблюдают никаких перемен: чувствительные приборы по-прежнему не улавливали ничего, кроме микрорасширения материалов и движений самого «Индевора».
— Ну что, шкипер, рискнем повернуть?..
Нортон еще раз припомнил данные ему инструкции: «Поступайте по своему усмотрению, но соблюдайте осторожность». Если каждый пустяк согласовывать с Центром, они не стронутся с места до скончания веков.
— Каков твой диагноз, Карл? — обратился он к Мерсеру.
— Полагаю, что это штурвал ручного управления воздушным шлюзом. Возможно, аварийная система на случай отказа электропривода. Надо думать, даже самая совершенная техника не может отказаться от предосторожностей такого рода…
«И система эта наверняка застрахована от непреднамеренных срывов, — добавил Нортон про себя. — Ею можно воспользоваться, только если это не опасно для Рамы в целом…»
Он взялся за две противоположные спицы, уперся прочнее ногами и попробовал повернуть колесо. Оно не шевельнулось.
— Ну-ка помоги, — попросил он Мерсера. Теперь каждый из них ухватил по спице, но, даже напрягая все силы, они не стронули штурвал ни на волос.
Однако кто сказал, что стрелки часов и штопоры на Раме должны вращаться в ту же сторону, что и на Земле?
— Попробуем наоборот, — предложил Мерсер.
На этот раз сопротивления, в сущности, не было. Колесо легко описало полный круг, затем нагрузка постепенно стала возрастать.
В полуметре от людей стена «коробочки» пришла в движение и не спеша разверзлась, будто чья-то черная пасть. Вырвавшаяся изнутри струйка воздуха вынесла частички пыли, которые заискрились в солнечных лучах, словно алмазы.
Дорога в глубь Рамы была открыта.
6 КОМИТЕТ
Доктор Боуз не мог избавиться от мысли, что те, кто основал штаб-квартиру Организации Объединенных Планет на Луне, совершили серьезную ошибку. Это неизбежно привело к тому, что делегаты-земляне стремились господствовать на заседаниях подобно тому, как сама Земля господствовала над окружающим ландшафтом. Если уж обосновываться именно на Луне, то следовало бы предпочесть ее обратную сторону, куда не достигает гипнотическое свечение земного диска.
Но, разумеется, теперь менять что-либо слишком поздно, да и какую альтернативу он мог бы предложить? Нравится это дальним колониям или нет, но Земля и в культурном, и в экономическом отношениях останется сюзереном Солнечной системы на многие грядущие столетия…
Доктор Боуз и сам родился на Земле. На Марс он эмигрировал в тридцатилетием возрасте и полагал, что способен рассматривать политическую ситуацию совершенно беспристрастно. Он знал, что ему больше не суждено вернуться на родную планету, хотя отсюда до нее лишь пять часов на ракетном пароме. В свои 115 лет Боуз отличался завидным здоровьем, однако реадаптироваться к силе тяжести втрое большей, чем та, к которой он привык на Марсе, уже не мог. Он был осужден на вечную разлуку с планетой-матерью; впрочем, это его не слишком удручало — Боуз не был сентиментален.
А вот что подчас приводило его в уныние, так это необходимость видеть одни и те же до отвращения знакомые лица. Чудеса медицины — вещь замечательная, и, конечно, он вовсе не желал повернуть колесо истории вспять, но за этим столом собрались люди, с которыми он работал бок о бок уже более полувека! Он заведомо знал, кто что скажет и как проголосует по любому конкретному поводу. А как хотелось бы, чтобы в один прекрасный день кто-нибудь выкинул хоть какой-нибудь фортель, пусть даже совершенно безумный!
И отнюдь не исключалось, что окружающих обуревают точно такие же чувства по отношению к нему, Боузу.
Специальный комитет ООП по проблемам Рамы был пока еще столь невелик, что даже поддавался управлению; правда, никто не сомневался, что в самое ближайшее время с этим упущением будет покончено. Шесть коллег доктора Боуза — постоянные представители Меркурия, Земли, Луны, Ганимеда, Титана и Тритона — присутствовали на заседании во плоти. Им и не оставалось ничего другого: электронная дипломатия на межпланетных расстояниях оказывалась несостоятельной. Политические деятели постарше, привыкшие к мгновенной связи — на Земле ее давно воспринимали как нечто само собой разумеющееся, — так и не сумели примириться с фактом, что радиоволнам нужны минуты и даже часы на то, чтобы пересечь бездны, отделяющие планеты друг от друга. «Неужели вы не в силах ничего придумать?* — горько упрекали они ученых, обнаружив, что прямые собеседования между Землей и блудными ее детьми — колониями — неосуществимы. Исключение составляла лишь Луна — к полуторасекундной задержке радиосигнала еще можно было как-то приспособиться. Отсюда следовало, что Луна — и только она — навеки обречена оставаться пригородом Земли.
На заседание собственной персоной прибыли также трое кооптированных в комитет специалистов. Уже знакомый нам профессор Дэвидсон сегодня, казалось, усмирил свое необузданное «я». Доктор Боуз был не в курсе событий, предшествовавших запуску «Ситы», но коллеги профессора не могли допустить, чтобы тот запамятовал свой промах.
Доктор Тельма Прайс была известна Боузу по ее многочисленным телевизионным выступлениям: она прославилась еще пятьдесят лет назад, в эпоху взрыва археологических открытий, последовавшую за осушением гигантского подводного музея — бассейна Средиземного моря. Боуз до сих пор ясно помнил волнения тех дней, когда затерянные сокровища греческой, римской и десятка других культур оказались доступными для всеобщего обозрения. Это был один из немногих случаев, когда он пожалел, что живет на Марсе.
Вполне очевидными для всех были кандидатуры экзобиолога Карлайла Перера и Денниса Соломонса, который занимался историей науки. Но они пока не явились, зато — и это было не по душе Боузу — на заседании присутствовал Конрад Тейлор, знаменитый антрополог, который сделал себе имя на трудах, посвященных удивительным нравам Беверли-Хиллз[8] конца XX века.
Никто, наверное, не осмелился бы возражать против выдвижения в состав комитета сэра Льюиса Сэндса. Сэр Льюис был человек, чья ученость могла поспорить разве что с его же учтивостью; говорили, что он теряет самообладание только тогда, когда его называют Арнольдом Тойнби[9] своего времени.
Великий историк не почтил комитет личным присутствием: он упрямо отказывался покидать Землю даже по таким исключительным поводам, как данное заседание. Его стереоизображение, неотличимое от оригинала, в настоящий момент занимало кресло по правую руку от доктора Боуза; словно для того, чтобы довершить иллюзию, кто-то поставил перед лже-Сэндсом стакан воды. По мнению самого Боуза, такого рода техническое трюкачество было явно бессмысленным, и оставалось только диву даваться, как люди, бесспорно выдающиеся, по-детски радуются возможности присутствовать в двух местах сразу. Иной раз эти электронные фокусы порождали комические ситуации: Боуз собственными глазами видел на одном из дипломатических приемов, как некто, пытаясь пройти сквозь стереограмму, слишком поздно обнаружил, что это вовсе не изображение, а живой человек. Но еще забавнее было наблюдать, как изображения подчас стараются пожать друг другу руки…
Тут доктор Боуз призвал свои разгулявшиеся мысли к порядку, откашлялся и начал:
— Считаю заседание открытым. Полагаю, что имею полное право заявить: здесь собрались выдающиеся представители человечества, чтобы обсудить ситуацию, беспрецедентную в его истории. Указания, данные нам генеральным секретарем Организации, обязывают нас оценивать создавшееся положение и проконсультировать капитана Нортона, если это окажется необходимым…
Эта речь явила собой образец очевидного для всех упрощенчества. Весьма сомнительно, что комитет когда-либо сможет вступить в прямой контакт с Нортоном, разве что при самых чрезвычайных обстоятельствах; возможно, что Нортон никогда и не узнает о существовании комитета. Комитет — всего лишь временный орган при научном отделе ООП, подотчетный директору отдела, а через него — генеральному секретарю. Конечно, Служба Солнца тоже подчиняется ООП, однако не научному, а оперативному ее отделу. Казалось бы, невелика разница; почему бы комитету по проблемам Рамы, да и кому угодно еще не связаться с капитаном Нортоном, если возникло желание дать ему толковый совет? Но все было не так-то просто…
Связь в глубоком космосе обходится баснословно дорого. Вызвать «Индевор» можно только через Планетком — автономную организацию, известную строгостью и категоричностью своих правил. Чтобы добиться влияния на Планетком, понадобится время и время; кто-то когда-то, несомненно, позаботится об этом, но в настоящий момент жестокосердные компьютеры Ппанеткома не признают за новоявленным комитетом ровным счетом никаких прав.
— На плечи этого капитана Нортона, — заявил сэр Роберт Маккей, представитель Земли, — легла огромная ответственность. Что он за человек?
— Могу ответить на ваш вопрос, — откликнулся профессор Дэвидсон, пробежав пальцами по клавишам карманного информатора. Нахмурившись, он вгляделся в строчки, бегущие по экрану, потом бегло начал: — Уильям Тсайен Нортон родился в 2077 году в Брисбене, Океания. Образование получил в Сиднее, Бомбее, Хьюстоне. Затем прошел пятилетний курс в Астрограде, специализировался по двигателям. Произведен в офицеры в 2102 году. Начал службу лейтенантом в третьей экспедиции на Персефону, отличился при пятнадцатой попытке основать базу на Венере… гм… послужной список образцовый… двойное гражданство, Земли и Марса… жена и ребенок в Брисбене, жена и двое детей в Порт-Лоуэлле, недавно получил новое разрешение на увеличение…
— Числа жен? — с самым невинным видом осведомился Тейлор.
— Детей, разумеется, — огрызнулся профессор, прежде чем уловил усмешку на лице оппонента. По конференц-залу пронесся легкий шумок; впрочем, те, кто жил на перенаселенной Земле, скорее завидовали, чем забавлялись. Самые энергичные меры, предпринимаемые на протяжении целого столетия, все еще не давали ощутимых результатов: население собственно Земли по-прежнему значительно превышало десять миллиардов…
— …назначен командиром разведывательного корабля «Индевор», — продолжал Дэвидсон. — Совершил первый полет на отдаленные спутники Юпитера… гм, это была хитроумная затея… находился в поясе астероидов, когда получил приказ выполнить настоящее задание… сумел уложиться в предельно жесткий срок…
Профессор обвел взглядом коллег.
— Думаю, нам очень повезло. Ведь выбора не было, и на месте Нортона вполне мог оказаться самый заурядный флибустьер…
Прозвучало это так, словно профессор и впрямь представлял себе типичного космического капитана пиратом на деревянной ноге, с пистолетом в одной руке и абордажной саблей в другой.
— Приведенные данные говорят лишь о том, что Нортон — не новичок в своем деле, — возразил делегат Меркурия (население этой планеты составляло на текущий момент 112 500 человек, но быстро росло). — Однако как он поведет себя в ситуации совершенно беспрецедентной…
На Земле сэр Льюис Сэндс слегка кашлянул. Полторы секунды спустя он точно так же кашлянул на Луне.
— Не такая уж она беспрецедентная, — напомнил он мерку-рианину, — хотя последний прецедент имел место три столетия назад. Если создатели Рамы погибли или покинули его — а до сих пор все свидетельствует в пользу такого заключения, — то Нортон попадает в положение археолога, исследующего остатки исчезнувшей культуры. — Он учтиво поклонился в сторону Тельмы Прайс, и та кивком выразила свое согласие. — Напрашивается пример Шлимана, обнаружившего Трою, или Муо, первооткрывателя храма Ангкор-Ват[10]. Опасность минимальна, хотя полностью исключить возможность несчастного случая, к сожалению, нельзя…
— А как насчет ловушек и сюрпризов, о которых толкуют приверженцы «теории Пандоры»? — спросила доктора Прайс.
— «Теория Пандоры»? — живо заинтересовался меркурианин. — А это что еще такое?
— Есть такие психопаты, — объяснил сэр Роберт несколько смущенно, что для дипломата было равносильно серьезному замешательству, — убежденные, что Рама представляет собой смертельную угрозу для человечества. Яшик, который нельзя раскрывать… Да вы, конечно, помните легенду…
На самом деле он весьма сомневался, что меркурианин вообще слышал о Пандоре: классическое образование на этой планете было не в чести.
— Паранойю! — фыркнул Конрад Тейлор — Предполагать, разумеется, можно все что угодно, но зачем высокоразвитая цивилизация станет прибегать к ребяческим фокусам?
— Но даже если забыть о них, — продолжал сэр Роберт, — остается другая возможность, еще более неблагоприятная. Что, если Рама не бездействует, что, если он все-таки обитаем? Произойдет столкновение двух культур, двух разных уровней технического развития. Вспомните Писсаро и инков, коммодора Перри[11] и японцев, проникновение европейцев в Африку. Последствия почти неизбежно оказывались катастрофическими, во всяком случае для одной стороны. Я не готов выступить с рекомендациями, а лишь напомнил вам известные факты…
— Благодарю вас, сэр Роберт, — сказал доктор Боуз. «Что за досада, — добавил он про себя, — в таком малюсеньком комитете целых два «сэра»: похоже, что в наши дни титулованными стали почти все англичане без исключения…» Вслух он произнес: — Уверен, что каждый из нас также размышлял об этой тревожной возможности. Но если существа, населяющие Раму, окажутся… как бы это сказать… недоброжелательными, то какая разница, что именно мы предпримем?
— Если мы уберемся восвояси, они, может, и не обратят на нас внимания…
— Что? После того как совершили путь длиною в триллионы миль и тысячи лет?
Спор достиг своей исходной точки и пошел по замкнутому кругу. Доктор Боуз откинулся в кресле и, почти не вмешиваясь, ждал, пока стороны придут к соглашению.
Все произошло именно так, как он и предвидел. Члены комитета сошлись на том, что, поскольку капитан Нортон уже распахнул первую дверь, просто нелогичным будет не отворить и вторую.
7 ДВЕ ЖЕНЫ
Выдайся им когда-нибудь случай сравнить полученные от него видеограммы, хлопот у капитана сразу бы резко прибавилось. Но мысли такого рода Нортона не столько беспокоили, сколько забавляли. Он составлял одно длинное послание, снимал с него копию, в каждом случае добавляя в конце два-три ласковых слова, адресованных уже персонально, а затем передавал почти идентичные тексты соответственно на Землю и на Марс.
Да и с какой, собственно, стати будут его жены тратиться на сличение видеограмм? Даже по льготным тарифам, предусмотренным для семей космонавтов, это обошлось бы недешево. И главное, в этом просто не было смысла — семьи сохраняли друг с другом прекрасные отношения, по праздникам и дням рождения обменивались традиционными поздравлениями. Правда, лично жены никогда не встречались и, вероятно, никогда не встретятся, да это и к лучшему. Мирна родилась на Марсе и не вынесла бы тройного притяжения Земли, а Каролина терпеть не могла переездов, и даже 25 минут в ракете — предельная продолжительность путешествия в пределах Земли — выводили ее из себя.
— Извини, что на целые сутки запоздал с весточкой, — продиктовал капитан после нескольких общих вступительных фраз, — но, веришь ли, я не был у себя на корабле целых тридцать часов…
Не тревожься — все идет как надо, все хорошо. У нас ушло на это два дня, но мы уже почти миновали систему воздушных шлюзов. Конечно, если бы знать все то, что мы знаем теперь, с ней можно было бы справиться за пару часов. Но мы не имели права рисковать, а потому выслали вперед телекамеры с дистанционным управлением, по десять раз опробовали каждый шлюз, чтобы увериться, что он не захлопнется сам собой…
Каждый шлюз — это обыкновенный вращающийся цилиндр, имеющий и одном месте прорезь. Входишь в нее, поворачиваешь цилиндр вручную на 180 градусов и, пожалуйста, выходи. Или, точнее, вплывай потихоньку.
Эти рамане, судя по всему, народ основательный: три цилиндрических шлюза следуют один за другим. Положительно не представляю, как может отказать даже один такой шлюз, разве что взрывчаткой его рвануть…
Последний, третий, шлюз открывается в тоннель полукилометровой длины, удивляющий, как и все, что мы пока здесь видели, своей чистотой. Через каждые несколько шагов попадаются маленькие ниши; быть может, в них когда-то стояли осветительные приборы, но сейчас в коридоре темным-темно и, не побоюсь признаться, страшновато. Вдоль стен по всей длине тоннеля тянутся параллельные щели шириной в сантиметр. Есть подозрение, что это направляющие для каких-нибудь тележек, чтобы перевозить снаряжение, а возможно, и людей. Если бы мы нашли тележки и сумели ими воспользоваться, то сэкономили бы бездну времени и сил…
Я уже говорил, что тоннель тянется на полкилометра. Сейсмическое зондирование показало, что такова примерно толщина корпуса Рамы, значит, тоннель прорезает корпус насквозь. И мы не удивились, обнаружив в конце пути еще одну серию цилиндрических шлюзов.
Да, да, серию — один, и второй, и третий. Эти рамане, кажется, любую свою конструкцию повторяют трижды. Сейчас мы достигли последнего из этих шлюзов и ждем только разрешения с Земли, чтобы миновать и его. От тайн Рамы нас отделяют сейчас лишь считанные метры. Поскорее бы получить с Земли «добро» — ожидание прямо-таки смерти подобно…
Ты ведь знакома с Джерри Кирчоффом, моим старшим помощником? Ну да, с тем самым, который собрал такую коллекцию древних книг на бумаге, что теперь никогда не сможет эмигрировать с Земли — вывезти эти книги никаких денег не хватит. Так вот, Джерри рассказал мне про очень похожий случай, который произошел в начале двадцать первого, нет, кажется, двадцатого века. Один археолог нашел усыпальницу фараона — первую, до которой не добрались грабители. Его землекопам понадобились месяцы на то, чтобы ярус за ярусом вскрыть ее, и вот наконец перед ними предстала еще одна стена, самая последняя. Пробив кладку, он сунул в дыру голову и руку с фонарем. И перед ним открылась комната, полная невероятных сокровищ, золота и драгоценностей…
Быть может, Рама — тоже гробница или что-то очень похожее на нее. До нас ни разу не донеслось ни малейшего звука, ни намека на какое-либо движение. Ну что ж, завтра мы все узнаем наверняка…
Капитан Нортон остановил записывающий аппарат. Что еще можно сказать, прежде чем диктовать заключительные фразы, разные для обеих семей? Обычно он не вдавался в подробности технического характера, но сегодня обстоятельства вряд ли можно было назвать обычными. Не исключено, что это последняя его видеограмма тем, кого он любил; Нортон чувствовал себя обязанным объяснить им, что он делает и зачем.
Когда они увидят его на экране и услышат его слова, он будет уже внутри Рамы. На радость это или на беду, но внутри.
8 ШЛЮЗЫ ПОЗАДИ
Прежде Нортон никогда не ощущал своего родства с давно умершим египтологом. С тех пор как Говард Картер впервые заглянул в гробницу Тутанхамона, никому из людей не довелось пережить мгновения, подобного этому, — да и сравнение с Картером было до смешного примитивным.
Тутанхамона похоронили чуть ли не вчера — менее четырех тысяч лет назад; возраст Рамы мог оказаться почтеннее возраста самого человечества. Крошечная гробница из Долины фараонов затерялась бы в коридорах, которые они уже прошли, а впереди, за последним препятствием, лежало пространство, по крайней мере в миллион раз большее. А уж сокровища, которые, вероятно, поджидали их здесь, были просто невообразимы.
В эти решающие минуты прекратились всякие радиопереговоры; знающая свое дело команда и не нуждалась в изустных докладах, чтобы понять, что все проверки закончены. Мерсер лишь поднял руку в знак того, что все в порядке, и показал капитану на жерло последнего тоннельчика. Люди, не сговариваясь, разом почувствовали, что этот исторический момент нельзя принижать болтовней по пустякам. Нортон засветил фонарь, включил ранцевый двигатель и медленно поплыл по короткому коридорчику, волоча за собой страховочный трос. Десять секунд — и вот он внутри.
Внутри чего? Впереди была глубочайшая тьма, не отражающая ни искорки света. Собственно, он того и ждал; ждал — и все-таки не верил. Все вычисления показывали, что противоположная стена удалена от него на десятки километров; теперь его глаза подтверждали, что это действительно так. Он не спеша вплывал в эту тьму — и вдруг о шутил острое желание удостовериться в прочности страховочного троса, намного более острое, чем когда бы то ни было прежде, даже при первой вылазке. Ну не смешно ли: в полете он без содрогания мерил взглядом космические бездны, отчего же его приводят в смущение какие-то жалкие кубические километры пустоты?
Он все еще обсуждал с собой щекотливую проблему, когда закрепленный на тросе амортизатор прервал парение; сработал амортизатор мягко: Нортон почти не почувствовал отдачи. Он перестал тщетно вглядываться в ничто, лежащее впереди, и направил луч фонаря под ноги, туда, откуда только что взмыл.
Можно было подумать, что его подвесили над центром игрушечного кратера, который, в свою очередь, был лишь оспинкой у основания другого, несравненно большего. Во все стороны от этого большого кратера вздымались склоны и террасы геометрически правильной формы и несомненно искусственного происхождения; склоны и террасы чередовались, пока не исчезали во мраке. В сотне метров от себя Нортон заметил выходы двух других воздушных шлюзов, однотипных с тем, который они прошли.
И все. В том, что он видел, не было ничего слишком непривычного и чуждого — картина во многом напоминала заброшенный рудник. Нортон поневоле ощутил известное разочарование: затраченные усилия предполагали, что их ожидают здесь фантастические откровения, нечто драматическое и даже сверхъестественное. Он вынужден был напомнить себе, что в поле его зрения лишь считанные сотни метров; тьма, простирающаяся за ними, может таить в себе чудес куда больше, чем он в состоянии переварить. Кратко сообщив об этом своим изнывающим товарищам, он добавил:
— Запускаю осветительную ракету, вспышка через две минуты. Отсчет!..
Размахнувшись изо всех сил, он швырнул вверх — как можно дальше — маленький цилиндрик и, наблюдая за ракетой, быстро исчезающей из виду, начал отсчет. Не прошло и пятнадцати секунд, как ракета исчезла; досчитав до ста, он прикрыл глаза и одновременно поднял камеру. Его всегда отличало хорошо развитое чувство времени. Вот и на этот раз он ошибся всего на две секунды — окружающий мир взорвался светом.
Даже миллионов свечей, спрессованных в одной вспышке, не хватило на то, чтобы вырвать из тьмы всю глубину этой гигантской полости, и все же он успел увидеть достаточно, чтобы уяснить себе ее планировку и оценить по достоинству ее титанический размах. Он находился в торце полого цилиндра как минимум десятикилометровой ширины и неопределенной длины. За один миг он увидел на изогнутых стенах столько, что разум не в состоянии был этого вместить; он как бы взглянул на целый мир при блеске молнии и усилием воли попытался запечатлеть его в своем сознании.
Насколько хватало глаз, террасированные склоны «кратера» поднимались вверх и вверх, пока не сливались со сплошной стеной, опоясывающей небо. Стоп — это ложное впечатление, надо отрешиться от представлений, воспитанных Землей и открытым космосом, и выработать для себя новую систему координат…
Он находится вовсе не на дне этого странного, вывернутого наизнанку мира, а, напротив, в его самой высокой точке. Любое направление ведет отсюда не вверх, а вниз. Стоит лишь отодвинуться от центральной оси в сторону вогнутой стены — нет, о ней нельзя больше думать как о стене, — и сила тяжести начнет понемногу возрастать. Добравшись до внутренней поверхности цилиндра, он сможет нормально стоять и ходить выпрямившись. и ноги его будут обращены к звездам, а голова — к центру этого исполинского вращающегося волчка. Сама идея достаточно ясна: еще на заре космонавтики центробежную силу использовали для имитации силы тяжести. Ошеломляет, не укладывается в сознании лишь масштаб применения знакомой идеи. Крупнейшая из космических станций землян, «Синскэт-5», в диаметре не достигает и двухсот метров. Воистину требуется какое-то время, чтобы приноровиться к размаху, во сто раз большему…
Свернутый в трубку ландшафт, охвативший его со всех сторон, был испещрен пятнами света и тени, которые могли оказаться лесами, полями, замерзшими озерами и городами; значительность расстояния и быстрота, с которой угасала ракета, делали опознание практически невозможным. Узкие линии — не то дороги, не то каналы или выпрямленные реки — складывались в едва различимую, но геометрически правильную сеть, а дальше, на самой границе видимости, цилиндр опоясывала какая-то более темная полоса. Она очертила полный круг, охватывала кольцом интерьер этого мира, и Нортон вдруг припомнил миф об Океане, который, по верованиям древних, омывал диск Земли.
Быть может, здесь — наяву — существовало еще более странное море, не кольцевое, а цилиндрическое? Ведало ли оно, прежде чем застыть в межзвездной ночи, буруны, приливы, течения, волны? Населяли ли его рыбы?
Ракета догорела и погасла, миг откровения миновал. Но Нортон понимал: эта картина не изгладится теперь из его памяти до гробовой доски. Какие бы открытия ни ждали его впереди, они никогда не притупят первого впечатления. И история никогда не сможет оспорить тот факт, что ему первому из всего человечества выпала честь увидеть собственными глазами творения иной цивилизации.
9 ЗНАКОМСТВО
— Мы запустили пять осветительных ракет, настроив их часовые механизмы так, чтобы надежно перекрыть фотосъемкой всю длину цилиндра. Все главные ориентиры нанесены на карты, и хотя их очень трудно отождествить с чем-то знакомым, тем не менее мы дали им условные имена.
Внутренняя полость имеет пятьдесят километров в длину и шестнадцать в ширину. Оба ее конца — как бы гигантские чаши довольно сложной конструкции. Ту из них, где мы сейчас находимся, мы назвали Северным полушарием; здесь, у самой оси, расположена наша первая база.
От центральной площадки под углом 120 градусов один к другому расходятся три трапа почти километровой длины. Все они заканчиваются на круговой террасе — отсюда она представляется обегающим чашу кольцом. А от кольца вниз, продолжая эти трапы, убегают три исполинские лестницы, которые в конце концов достигают равнины. Представьте себе зонтик, у которого всего три спицы, равно удаленные друг от друга, — это даст вам довольно точное представление о том, как выглядит Рама с нашей стороны.
Каждая спица — лестница, вблизи оси очень крутая, а затем все более полого сливающаяся с равниной внизу. Лестницы — мы назвали их Альфой, Бетой и Гаммой — не непрерывны, а пересечены еще пятью кольцевыми террасами. По нашей оценке, каждая лестница насчитывает от двадцати до тридцати тысяч ступеней… Надо думать, они предназначены исключительно для аварийных ситуаций, ведь нельзя всерьез полагать, что рамане — называйте их так или как-нибудь иначе — не предусмотрели других, более удобных способов добираться до оси своего мира.
Южное полушарие устроено совершенно по-другому: там нет ни лестниц, ни кратера в центре. Вместо кратера там высится остроконечный лик высотою в несколько километров; он расположен строго по оси и окружен шестью пиками поменьше. Конструкция в целом выглядит очень странно, и мы даже отдаленно не догадываемся, какой цели они служат.
Основную пятидесятикилометровую часть цилиндра между двумя чашами мы назвали Центральной равниной. Не считайте, что мы сошли с ума, именуя «равниной» нечто столь отчетливо вогнутое, — мы уверены, что это вполне оправданно. Как только мы спустимся на нее, она покажется нам плоской — муравью, который забрался в бутылку, ее внутренняя поверхность тоже должна представляться плоскостью…
Самое удивительное в Центральной равнине — это темная лента десяти километров в ширину, обегающая цилиндр вокруг и разделяющая его пополам. Лента похожа на ледяную, и мы окрестили ее Цилиндрическим морем. Посреди моря расположен большой остров овальной формы, размером десять километров на три, сплошь покрытый какими-то высокими сооружениями. Поскольку он напомнил нам виды старого Манхэттена, мы назвали его Нью-Йорком. Правда, я не склонен думать, что это действительно город: скорее он похож на какую-то колоссальную фабрику или, скажем, на химический завод.
Но на равнине есть и города или, во всяком случае, поселки. Их по крайней мере шесть; если бы их строили для людей, то каждый мог бы вместить примерно пятьдесят тысяч человек. Мы назвали их Рим. Париж, Москва, Лондон, Пекин и Токио. Между собой они связаны дорогами и еще каким-то подобием рельсовой системы.
Материала, достойного изучения, в этом застывшем мире хватило бы на столетия. Четыре тысячи квадратных километров и всего две-три недели на то, чтобы их обследовать. Не знаю, найдем ли мы ответ хотя бы на два вопроса, которые мучают меня с той самой секунды, когда мы оказались здесь, внутри: кто они были и что с ними случилось?..
Запись окончилась. На Земле и на Луне члены Комитета по проблемам Рамы перевели дух и принялись с новой энергией изучать разложенные на столах карты и фотографии. Они предавались этому занятию уже не первый час, однако голос капитана Нортона будто высветлил в снимках что-то, добавил им глубины. Пусть ракеты разорвати вековую ночь Рамы совсем ненадолго, но капитан видел этот необычный вывернутый мир собственными глазами. И именно он, Нортон, поведет в этот мир исследователей и будет его изучать…
— Доктор Перера, вы, кажется, хотели что-то сказать?..
Доктор Боуз подумал, не следовало ли в первую очередь предоставить слово профессору Дэвидсону — старшему из ученых и единственному астроному среди присутствующих. Но профессор, видимо, еще не вполне оправился от шока, ему было явно не по себе. Всю жизнь он взирал на Вселенную как на арену борьбы титанических, но безличных сил гравитации, магнитных и радиационных полей; ему никогда не верилось, что жизнь играет сколько-нибудь существенную роль в мироздании, и он рассматривал ее проявления на Земле, на Марсе и на Юпитере как нечаянное отступление от общих правил.
И вот теперь налицо было доказательство, что жизнь не только существует за пределами Солнечной системы, но и достигла высот, далеко превосходящих все, что человечество уже совершило, и все, что надеялось совершить в ближайшие столетия. Более того, появление Рамы опровергало и другую догму, которую профессор исповедовал годами. Под нажимом он еще кое-как соглашался, что жизнь, может быть, существует и в иных звездных системах, но совершеннейшая нелепость, подчеркивал он, верить, что она способна пересечь межзвездные бездны…
Допустим даже, что рамане действительно потерпели неудачу, что капитан Нортон прав, утверждая, что их мир ныне превратился в гробницу. Но сама попытка совершить невозможное говорила о том, что они всерьез рассчитывали на удачу. И если такое случилось хоть однажды, то в Галактике с ее сотней тысяч миллионов солнц это должно было происходить много-много раз… и кто-то где-то непременно добился успеха.
А это был тот самый тезис, в который бездоказательно, но весьма горячо верил доктор Карлайл Перера. И теперь он не мог решить, радоваться ему или огорчаться. Рама самым впечатляющим образом подтвердил воззрения ученого, но никогда не суждено ему ступить в пределы чужого мира, не суждено даже увидеть этот мир своими глазами. Если бы перед ним внезапно вырос дьявол и предложил дар мгновенной телепортации, доктор Перера подписал бы контракт, даже не взглянув на условия.
— Да, господин председатель, пожалуй, я располагаю информацией, представляющей определенный интерес. Перед нами, вне всякого сомнения, «космический ковчег». Идея в астронавтической литературе не новая — я сумел установить, что английский физик Джон Бернал выдвигал ее как метод колонизации соседних звезд в книге, вышедшей в 1929 году, — да, да, двести лет назад! А великий русский первооткрыватель Циолковский выступал с аналогичными предложениями еще раньше.
Если вам угодно отправиться из одной звездной системы в другую, вы располагаете несколькими возможностями. Допустим, что скорость снега действительно является абсолютным пределом скорости, — а этот факт по-прежнему нельзя считать окончательно установленным, что бы и как бы ни говорили вам на сей счет (профессор Дэвидсон возмущенно фыркнул, однако вслух протеста не выразил), — значит, вы можете либо лететь быстро, но в небольшом корабле, либо гораздо медленнее, но в корабле гигантском.
Насколько я знаю, нет никаких технических причин, по которым космический корабль не может разогнаться до скорости, составляющей девяносто и более процентов скорости света. Тогда время полета между соседними звездами сокращается до пятидесяти лет — скучновато, пожалуй, но отнюдь не нереально, в особенности для существ, жизненный цикл которых измеряется столетиями. Можно без труда представить себе путешествия такой продолжительности на кораблях, ненамного больших, чем наши нынешние.
Но, может быть, подобные скорости недостижимы для кораблей, несущих значительный полезный груз; не забывайте, надо везти с собой еще и топливо на торможение, даже если не заботиться об обратном пути. Так не разумнее ли в таком случае пожертвовать временем — пусть десятком, пусть даже сотней лет?..
Бернал и другие авторы полагали, что это осуществимо, надо лишь построить движущийся мирок диаметром в несколько километров, рассчитанный на тысячи пассажиров и на путешествия длительностью в десятки поколений. Конечно, все системы такого мирка должны функционировать как полностью замкнутые, автоматически воссоздавая пищу, воздух и все остальное. Но в конце концов не так ли обстоит дело у нас на Земле, да еще и масштабы у нас солиднее…
Одни авторы предлагают строить «космические ковчеги» в форме концентрических сфер, другие — в форме пустотелых вращающихся цилиндров, с тем чтобы центробежная сила искусственно заменила силу тяжести, — в точности так, как это осуществлено на Раме…
Профессор Дэвидсон не мог дольше терпеть безграмотную болтовню.
— Да нет же такой силы в природе, просто нет! Центробежную силу выдумали инженеры. А в науке есть сила инерции…
— Вы, разумеется, совершенно правы, — согласился Перера, — хотя убедить в этом тех, кому доводилось падать с карусели, будет, согласитесь, не просто. Но, мне кажется, у нас нет нужды добиваться математической строгости выражений…
— Спокойнее, доктор, — вмешался Боуз, не в силах совладать с раздражением. — Мы все поняли, что вы имеете в виду, по крайней мере нам так показалось. Не разрушайте, пожалуйста, наших иллюзий…
— В сущности, я хотел лишь подчеркнуть, что в самой идее Рамы нет ничего принципиально нового, поражают только его размеры. Люди рисовали себе нечто подобное еще двести лет назад.
Теперь я задаю себе другой вопрос. Можем ли мы со всей определенностью установить, как долго Рама путешествует в пространстве?
К настоящему времени мы провели тончайшие измерения его орбиты и скорости. Исходя из предположения, что он не менял курса, мы можем вычислить его координаты на протяжении миллионов лет. Естественно, мы ожидали, что он прибыл к нам с одной из ближайших звезд, однако это отнюдь не так.
С тех пор как Рама проходил вблизи звезды, какой бы то ни было звезды, минуло более двухсот тысяч лет. Да и эта звезда, как выяснилось, принадлежит к непериодическим переменным, то есть к таким, у которых никак нельзя допустить наличия населенных планетарных систем. Светимость этой звезды изменяется от единицы до пятидесяти с лишним[12]; планеты, если они там есть, то раскаляются, то леденеют каждые несколько лет…
— У меня есть гипотеза! — воскликнул доктор Прайс, — Быть может, это как раз все и объясняет! Быть может, некогда это солнце было нормальным, а потом стало нестабильным. И рамане вынужденно пустились на поиски нового солнца…
Доктор Перера питал слабость к старушке-археологу и потому пощадил ее самолюбие. Но интересно, что сказала бы она, если бы он усомнился в аксиомах ее профессии…
— Мы рассматривали такую возможность, — мягко ответил он. — Однако, если общепринятые теории звездной эволюции верны, эта звезда никогда не была стабильной и на ее планетах никогда не возникало жизни. Так что Рама странствует в космосе никак не меньше двухсот тысяч лет, а может статься — больше миллиона…
Теперь там царство холода и тьмы, по-видимому, мертвое царство, и, кажется, я догадываюсь, почему. Возможно, у раман действительно не оставалось выбора, возможно, они действительно спасались от какой-то катастрофы, но они ошиблись в расчетах.
Ни одна замкнутая экологическая система не может быть эффективной на все сто процентов: всегда существуют какие-то отходы, потери, оскудение внешней среды, накопление вредоносных веществ. На то, чтобы отравить и истощить целую планету, подчас нужны миллиарды лет, но когда-то это произойдет. Океаны высохнут, атмосфера рассеется…
По нашим меркам, Рама — исполин, но как планета он совершенный карлик. Проведенные мной расчеты показывают, что его экологический баланс может поддерживать себя примерно тысячу лет. Максимальное допущение — десять тысяч…
При той скорости, которую развивает Рама, этого вполне достаточно для перелетов в центре Галактики, где звезд полным-полно. Но не здесь, в ее спиральных малонаселенных рукавах. Рама — корабль, растративший свои запасы задолго до того, как он достиг цели. Опустевший остров, блуждающий среди звезд.
Эта теория допускает единственное серьезное возражение, и я сам выдвину его, не дожидаясь, пока это сделает кто-нибудь другой. Орбита Рамы настолько точно нацелена на Солнечную систему, что случайное совпадение просто исключено. Я бы сказал, что наш гость пройдет даже слишком близко к Солнцу; «Индевору» во избежание перегрева придется расстаться с ним задолго до перигелия.
Не стану притворяться всепонимающим. Можно допустить, что на Раме до сих пор действуют какие-то автоматические навигационные устройства, которые вывели корабль к ближайшей подходящей звезде спустя тысячелетия после того, как погибли его создатели.
А они, ручаюсь своей репутацией, несомненно погибли. Пробы, взятые внутри цилиндра, абсолютно стерильны, мы не обнаружили в них никаких микроорганизмов. И всякие толки о том, что рамане еще оживут, следует забыть. Существуют основательные причины, по которым гипотермический сон может длиться не более двух-трех столетий, а речь идет о сроках в тысячи раз больших.
Пандорианцам и их сторонникам волноваться не о чем. Мне лично даже жаль, что это так. Разве не замечательно было бы встретиться с представителями иного разума?
Но по крайней мере мы знаем теперь ответ на вопрос, мучивший нас испокон веков. Мы не одиноки во Вселенной. И звезды будут казаться нам не такими далекими, как прежде.
10 СПУСК ВО ТЬМУ
Нортон пережил тяжкое искушение, однако долг капитана обязывал его сначала позаботиться о безопасности своего корабля.
Если их операция вдруг потерпит провал, первым делом надо спасать «Индевор»…
Выбор очевидным образом пал на второго помощника, капитан-лейтенанта Мерсера. Нортон не мог не признать, что Карл как нельзя лучше подходит для данной миссии.
Непререкаемый авторитет во всем, что касается систем жизнеобеспечения, Мерсер выступил даже автором типовых учебников по этому предмету. Он лично испытал множество образцов снаряжения, зачастую в невероятно сложных условиях, и прославился редким искусством саморегуляции. По желанию он мог замедлить свой пульс или задержать дыхание на целых десять минут. Эти ценные навыки не раз спасали ему жизнь.
И тем не менее, невзирая на все свои дарования и эрудицию, он отличался почти полным отсутствием воображения. Самые опасные эксперименты и поручения для него оставались просто-напросто работой, которую надо выполнить. Он никогда не шел на неоправданный риск и совершенно не видел смысла в том, что обычно именуют безрассудной смелостью.
Над его рабочим местом красовались два девиза — итог его жизненной философии. Первый: «Ты ничего не забыл?» И второй: «Остерегайся храбрецов!» То обстоятельство, что его считают самым отчаянным храбрецом на всем космическом флоте, было единственным, что выводило его из себя.
Ну а если вопрос о Мерсере решен, тогда автоматически решен и вопрос о его неразлучном спутнике, лейтенанте Джо Колверте. Что между ними общего — понять никто не мог: тщедушный, вечно озабоченный чем-то штурман был на десять лет моложе своего хладнокровного, невозмутимого друга, который к тому же отнюдь не разделял его пылкого увлечения искусством примитивного кино.
Но давно замечено, что крайности сходятся, — Мерсер и Колверт стали друзьями, и дружба их оказалась прочной. Впрочем, это еще менее удивительно, чем то, что на Земле они любили одну женщину, подарившую каждому из них по ребенку. Нортону не раз приходило в голову, что с ней при случае следовало бы познакомиться, — вероятно, она весьма незаурядная особа. Треугольник существовал уже минимум пять лет и все еще казался равносторонним…
Однако двое еще не составляют полноценной исследовательской группы: давно установлено, что оптимальный состав — трое: в случае чьей-то гибели там, где одиночка будет обречен, двое все-таки могут выжить. По зрелом размышлении, Нортон остановился на кандидатуре сержанта технической службы Уильяма Майрона. Блестящий механик, способный привести в действие любую машину или, на худой конец, сконструировать новую, Майрон был идеальным партнером на случай, если придется разбираться в инопланетной аппаратуре. Раньше он занимал должность адъюнкт-профессора в Астротехническом институте, взял годовой отпуск, отпуск явно затянулся, однако сержант наотрез отказался от офицерского чина под тем предлогом, что не хочет мешать продвижению более достойных. Никто не принял этого объяснения всерьез, но все сошлись на том, что самолюбия у Уилла нет и в помине. Он, может, и станет еще старшим сержантом, но звания профессора не получит никогда. Майрон, как и многие представители сержантской гильдии до него, нашел для себя желанный компромисс между властью и ответственностью.
Едва они миновали последний шлюз и выплыли в невесомость возле оси Рамы, лейтенанта Колверта, как это нередко с ним бывало, засосало в омут киновоспоминаний. Возможно, стоило бы излечиться от этой неотвязной привычки, но, по правде говоря, Колверт не видел в ней вреда. Напротив, она помогает скрасить любое нудное занятие и — кто знает? — может, в один прекрасный день спасет ему жизнь. Допустим, он вспомнит, как поступали в сходных обстоятельствах Фербэнкс, Коннери или Хироши…
На сей раз он казался себе участником одной из войн начала XX века и шел в атаку; Мерсер был сержантом и командовал группой разведчиков из трех человек, которая под покровом ночи проникла на территорию противника. Не требовалось особых усилий, чтобы вообразить, что они укрылись на дне огромной воронки, склоны которой образуют ряд восходящих террас. Воронка была залита лучами трех вынесенных по сторонам плазменных дуговых ламп, и в ней почти не оставалось тени. Но за ее пределами, за кромкой дальней террасы, царили мрак и неизвестность.
Мысленно Колверт, конечно же, прекрасно представлял себе, что прячется во тьме. Сначала плоское кольцо более километра в поперечнике. Его разделяют на равные части три трапа, похожих на железнодорожные колеи с утопленными шпалами. Трапы располагаются строго симметрично и совершенно одинаковы. Они выбрали тот, который начинался ближе к шлюзу Альфа.
Правда, перекладины располагались далековато друг от друга, но даже в полукилометре от оси сила тяжести не достигала и одной тридцатой g, так что, взвалив на себя приборы и снаряжение весом килограммов по сто, они могли двигаться без особого труда.
Капитан Нортон и группа обеспечения проводили их до конца канатов, протянутых от шлюза Альфа: далее свет прожекторов не доставал, и они окунулись в первозданную тьму Рамы. Все, что удавалось различить в пляшущих лучах шлемовых фонарей, — это первые сотни метров убегающего вдаль трала.
«А теперь, — сказал себе Карл Мерсер, — пробил час принять первое решение. Поднимаюсь я по этому трапу или спускаюсь?..»
Вопрос был отнюдь не прост. По существу, гравитация все еще не отличалась от нулевой, и мозг мог избрать произвольную систему координат. Усилием воли Мерсер мог заставить себя думать, что смотрит или на горизонтальную равнину, или снизу вверх на вертикальную стену, или сверху вниз с отвесной скалы. Не так уж редко случалось, что космонавты, приступая к выполнению какой-нибудь сложной задачи, ошибались в выборе координат и это приводило к серьезным психологическим трудностям.
Мерсер решил двигаться головой вперед; любой другой способ оказался бы менее удобным, а так он хоть видел, что впереди. Следовательно, первые несколько сот метров он мог внушать себе, что карабкается вверх, а когда растущая сила тяжести разрушит эту иллюзию, он должен будет мысленно переориентироваться на сто восемьдесят градусов.
Капитан-лейтенант схватился за первую перекладину и слегка подтянулся вдоль трапа. Движение почти не требовало усилий, словно плавание под водой, — да нет, и того меньше, под водой он встретил бы сопротивление среды. А здесь все давалось так легко, что приходилось бороться с искушением увеличить скорость, но Мерсер был слишком опытен для того, чтобы торопиться в столь незнакомой обстановке.
В наушниках слышалось размеренное дыхание двух его товарищей. Он не нуждался в иных доказательствах того, что у них все в порядке, и не тратил времени на разговоры. Его подмывало оглянуться назад, однако он решил не рисковать до тех пор, пока не доберется до платформы в конце трапа.
Промежутки между перекладинами были стандартными — примерно по полметра, и поначалу Мерсер хватался за перекладины через одну. Но при этом он старался, не сбиться со счета, и примерно на двухсотой перекладине к нему впервые пришло ощущение собственного веса. Вращение Рамы наконец-то дало о себе знать.
На четырехсотой перекладине он оценил свой вес килограммов в пять. Само по себе это не добавило трудности, но обманывать себя было уже ни к чему: в самом деле, как притворяться, что продолжаешь восхождение, если тебя ощутимо тянет вверх?
Пятисотая перекладина показалась ему самым подходящим местом для того, чтобы передохнуть. Он чувствовал, что мышцы на руках уже начинают ныть от непривычных движений, а ведь всю работу за них фактически выполнял Рама, им оставалось лишь страховать себя…
— Все в порядке, шкипер, — доложил Мерсер. — Прошли половину трапа. Джо, Уилл, как у вас?
— У меня лучше некуда, — отозвался Джо Колверт, — Для чего ты, собственно, остановился?
— У меня тоже неплохо, — добавил сержант Майрон. — Но обратите внимание: начинает сказываться сила Кориолиса…
Это Мерсер уже заметил и сам. Стоило отпустить перекладину — и его отчетливо сносило вправо. Он, разумеется, понимал, что во вращающемся мире подобный эффект неизбежен, и все же ему мерещилось, что какие-то духи тьмы мягко отталкивают его тело от трапа.
Быть может, настало время повернуться ногами вниз — ведь теперь слово «вниз» обретало реальный смысл. Существовал, конечно, определенный риск на мгновение потерять ориентацию…
— Следите за мной, сейчас я перевернусь…
Твердо взявшись за перекладину, он описал телом дугу в сто восемьдесят градусов — и тотчас же зажмурился, ослепленный фонарями товарищей. Далеко-далеко за ними — нет, теперь уже над ними — он, как только приспособился к свету, различил более слабое сияние. На краю отвесного утеса силуэтами выделялись фигурки капитана Нортона и группы обеспечения. Они казались такими маленькими и беспомощными, что он ободряюще помахал им рукой.
Потом он разжат пальцы и отдался во власть едва ощутимого притяжения Рамы. Падение от перекладины до перекладины продолжалось более двух секунд; на Земле он за то же время пролетел бы добрых тридцать метров. Скорость была томительно мала, и он стал, отталкиваясь руками, пролетать по десятку перекладин в один прием.
На семисотой перекладине он сделал еще одну остановку и направил луч фонаря под ноги; как он и рассчитывал, от начала большой лестницы его отделяли теперь всего полсотни метров.
Еще три минуты — и он на первой ступеньке. После многих месяцев, проведенных в космосе, странно было стоять в рост, опираясь о твердую поверхность и ощущая ее подошвами. Каждый из них и сейчас весил менее десяти килограммов, но этого вполне хватало, чтобы обрести устойчивость. Закрыв глаза, Мерсер мог спокойно представить себе, что попирает ногами какую-то очередную планету.
Уступ, с которого начиналась лестница, был шириной порядка десяти метров и в обе стороны изгибался вверх, пока не растворялся во мраке. Мерсер знал, что уступ описывает полный круг и что если двинуться вдоль него, то, пройдя километров пять, они совершат «кругосветное путешествие» и очутятся вновь в исходной точке. Однако при том матом притяжении, какое действовало здесь, ходьба неизбежно превратилась бы в вереницу длинных прыжков. И в этом таилась грозная опасность.
Спускаться по лестнице, убегающей вниз во тьму, далеко за пределы видимости, тоже обманчиво легко. Тем не менее необходимо придерживаться за обрамляющие лестничный марш высокие поручни: один неосторожный шаг — и беспечный путник свечой взовьется в пространство. «Приземление» состоится, наверное, метров сто ниже; удар сам по себе будет пустяковым, но последствия прыжка — вряд ли, поскольку вращение Рамы тем временем сдвинет лестницу влево. И тело, завершив падение, опустится прямо на склон, гладкий, чуть вогнутый склон, что уходит, нигде не прерываясь, к равнине в семи километрах внизу.
«Вот это, — сказал себе Мерсер, — был бы спуск почище бобслея!..» Конечная скорость даже при таком положении достигла бы нескольких сот километров в час. Кто знает, велика ли здесь сила трения, достаточна ли она для того, чтобы превратить безудержное скольжение в контролируемое; если достаточна, тогда возможно, что такой способ спускаться на внутреннюю поверхность Рамы окажется самым рациональным. Но прежде чем рискнуть на это, надо провести хотя бы парочку экспериментов…
— Шкипер, — доложил Мерсер, — спуск по трапу трудностей не составил. С вашего разрешения я хотел бы продолжить его, скажем, до следующей площадки. Надо рассчитать скорость движения по лестнице…
Нортон ответил без колебаний:
— Действуйте.
Добавлять: «Будьте осторожны» — не было нужды.
Не прошло и минуты, как Мерсер совершил важное открытие. При одной двадцатой g идти по ступеням обычным манером оказалось просто немыслимо; Шаги становились замедленными, как во сне, и нестерпимо томительными; оставалось одно — игнорировать ступени и тянуть себя вниз по воздуху, используя поручень как опору.
Колверт пришел к такому же заключению.
— По этой лестнице ходят только вверх, а не вниз! — воскликнул он. — Можно перебирать ступеньки, пока движешься против гравитации, но в обратном направлении это более чем неудобно. Пусть меня обвинят в утрате собственного достоинства, но, по-моему, лучший способ спуститься — сесть на поручень верхом…
— Но это просто смешно! — запротестовал сержант Майрон. — Не могу поверить, что рамане поступали именно так…
— Сомневаюсь, что они вообще когда-либо пользовались этой лестницей: она построена, очевидно, лишь на случай какой-нибудь аварии. У них должен быть еще и механический транспорт. Возможно, фуникулер. Это объяснило бы, зачем нужны вон те прорези, что тянутся до самого низа…
— А я думал, что это желоба водостока. Впрочем, одно не исключает другого. Интересно, случается ли здесь дождь?..
— Вполне вероятно, — заявил Мерсер. — Но, на мой взгляд, Джо прав, черт с ним, с достоинством. Поехали!..
Поручень, явно предназначенный для чего-то очень похожего на руки, представлял собой гладкую металлическую полосу на редких стойках метровой высоты. Мерсер оседлал ее и, удостоверившись, что руки могут создать достаточное тормозное усилие, заскользил. Очень плавно, медленно набирая скорость, спускался он в темноту, и вместе с ним двигалась лужица света от шлемового фонаря. Проехав метров пятьдесят, он разрешил остальным последовать его примеру.
Никто из них не признался бы в этом, но чувствовали они себя мальчишками, съезжающими по школьным перилам. Менее чем за две минуты они проделали километровый спуск — комфортабельно и безопасно. Как только скольжение становилось слишком стремительным, рука чуть сильнее сжимала поручень и тормоз срабатывал вполне надежно.
— Надеюсь, вы хорошо позабавились, — обратился к ним капитан Нортон, когда все трое добрались до площадки. — Учтите, что карабкаться обратно будет отнюдь не так весело…
— Это нам и предстоит проверить, — ответил Мерсер, прохаживаясь опыта ради туда и сюда и прикидывая, насколько увеличилась сила тяжести. — Здесь уже около одной десятой g, разницу просто невозможно не заметить…
Он подошел — вернее, подплыл — к краю площадки и осветил фонарем следующий лестничный марш. Луч не позволил видеть далеко, и марш казался точной копией предыдущего, хотя внимательное изучение фотографий показывало, что высота ступеней с нарастанием гравитации уменьшается. Лестница, вероятно, была построена с тем расчетом, чтобы интенсивность движений того, кто карабкается по ней вверх, оставалась более или менее постоянной по всей длине гигантской кривой.
Мерсер бросил взгляд в сторону шлюзов, которые теперь оставались в двух километрах над головой. Слабенькое пятнышко света и две крохотные фигурки, едва заметные на его фоне, были чудовищно далеки. И он вдруг впервые обрадовался тому, что не в силах различить исполинскую лестницу целиком.
Ни крепкие нервы, ни нехватка воображения еще ничего не значили: приятно воочию увидеть себя мошкой, ползущей по чаще, которая в поперечнике имеет более шестнадцати километров? До сих пор темнота раздражала Мерсера, теперь он почти благословлял се.
— Температура не меняется, — доложил он Нортону, — по-прежнему чуть ниже нуля. Однако давление воздуха, как и ожидалось, повышается и достигло примерно трехсот миллибар. Даже в таких условиях здесь почти можно дышать, а ниже тем более это не составит проблемы. Наша задача серьезно упрощается. Какая удача — первый мир, где мы сможем ходить без кислородных приборов! Пожалуй, я рискну вздохнуть…
Высоко над ними, у самой оси, капитан Нортон беспокойно поежился. Но Мерсер, как никто другой, всегда отдавал себе отчет в собственных поступках. Он наверняка уже провел все необходимые пробы и счел их результаты удовлетворительными…
Мерсер снизил давление в скафандре, отключил герметизацию шлема и приоткрыл шелку. Неуверенный вздох, потом другой, поглубже…
Воздух Рамы был безжизненным, застойным, словно в могиле, но такой древней, что запах тлена выветрился из нее столетия назад. Даже Мерсер со своим сверхчувствительным обонянием, выработанным за годы возни с системами жизнеобеспечения как в нормальных, так и смертельно опасных условиях, не улавливал никаких отчетливых запахов. Впрочем, ощущался какой-то легкий металлический привкус, и он внезапно вспомнил, что участники первой экспедиции на Луну жаловались на запах, сходный с запахом горелого пороха. Вероятно, загрязненная лунной пылью кабина «Орла»[13] приобрела такой же мертвенный душок.
Он снова герметизировал шлем и сделал несколько глубоких вздохов. Чужой воздух не придал ему сил; даже альпинист, привычный к разреженной атмосфере высот, не выдержал бы здесь и нескольких минут. Но еще два-три километра вниз по лестнице — и все будет обстоять иначе…
Итак, они выполнили свою задачу. Теперь Мерсер мог позволить себе просто насладиться ощущением силы тяжести, хотя и небольшой. Он почти отвык от тяготения, однако и привыкать к нему заново тоже не годилось: ведь им следовало тотчас же вернуться в невесомость вблизи оси.
— Мы возвращаемся, шкипер, — сообщил он, — Идти дальше пока не имеет смысла. Придет час — подготовимся и спустимся до конца…
— Согласен, Мы засечем время, но особенно не торопитесь,
Едва Мерсер «зашагал» по ступенькам вверх — по три-четыре за один шаг-прыжок, — ему стало ясно, что Колверт был абсолютно прав: эти лестницы предназначены для того, чтобы по ним ходили вверх, а не вниз. Если не оглядываться назад и не пугаться головокружительной крутизны кривой по сторонам, восхождение могло показаться даже приятным. Тем не менее ступеней через двести мышцы ног начали отзываться болью, и он решил замедлить темп. Остальные сделали то же самое; бросив короткий взгляд через плечо, он убедился, что они значительно отстали.
Восхождение прошло без всяких приключений — бесконечная череда ступеней, и только. Когда они вновь добрались до верхней платформы, примыкающей к трапу, то совершенно сбились с дыхания, а ведь обратный путь занял всего-то десять минут. На платформе они отдыхали еще минут десять, затем принялись за последний вертикальный километр.
Подпрыгнуть — ухватиться рукой за перекладину — подпрыгнуть — ухватиться — подпрыгнуть — ухватиться… Это было, в сущности, легко, но настолько однообразно, что возникала угроза потерять бдительность. На середине трапа они передохнули еще пять минут; к этому времени у них ныли уже не только ноги, но и руки. И Мерсер в который раз порадовался, что различает перед собой лишь матую часть вертикальной стены, к которой они приникли. Можно было вообразить, что трап тянется лишь на десяток метров за границу света, что скоро, совсем скоро он кончится…
Подпрыгнуть — ухватиться за перекладину — подпрыгнуть… И неожиданно трап действительно кончился. Они опять очутились в невесомом мирке оси, в кругу обеспокоенных друзей. Вся экспедиция не продолжалась и часа и оставила у ее участников чувство причастности к некоему подвигу.
Однако время гордиться собой еще не настало: они преодолели едва ли восьмую часть этой циклопической лестницы.
11 МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ И ОБЕЗЬЯНЫ
Капитан Нортон уже давно пришел к выводу, что иным женщинам вход на борт космического корабля должен быть категорически воспрещен; невесомость шутит с их фигурами такие шутки, что никто не может сосредоточиться на деле. Пока они не двигаются, еще полбеды, но стоит им шевельнуться — и возникает зрелище, какого ни один мужчина, если у него в жилах не рыбья кровь, перенести не в состоянии. Капитан был совершенно уверен, что один серьезный инцидент в космосе случился именно по этой причине: в рубку некстати вплыла женщина-офицер, и экипажем овладел приступ острой рассеянности.
Однажды он упомянул о своей теории в разговоре со старшим корабельным врачом Лаурой Эрнст, не раскрывая, впрочем, секрета, кто впервые навел его на подобные мысли. Да в том и не было нужды — они слишком хорошо знали друг друга. Годы назад, на Земле, они как-то, поддавшись настроению, преступили черту. Возможно, этому эпизоду суждено навсегда остаться единственным (но кто может ручаться за что-нибудь в таких делах?). И для него и для нее с тех пор много воды утекло, но когда бы врач ни появилась в капитанской каюте, он ощущал словно бы мимолетный отзвук былого, она чувствовала, что он ее не забыл, и оба были довольны.
— Билл, — начала она, — я осмотрела наших альпинистов, и вот мое заключение: Карл и Джо в добром здравии, и если учесть, какую работу они проделали, то все показатели у них в норме. А вот у Уилла явные признаки переутомления и мышечного истощения. Не стану докучать тебе деталями, но думаю, что он просто не выполнял всех положенных физических упражнений. И если б он был одинок в своей лени! На центрифуге ловчат сплошь и рядом — того и гляди, докатимся до морской болезни. Пожалуйста, скажи им свое слово.
— Слушаюсь, мадам. Но отчасти их можно и извинить. У команды было очень много работы…
— Умственной — да. Пальцами по кнопкам — тоже да. Но не работы в прямом смысле слова, не такой, какую можно выразить в килограммометрах. А здесь мы столкнемся с такой и прежде всего с такой работой. Если, конечно, собираемся продолжать исследования.
— Значит, ты разрешаешь их продолжать?
— Да, только без лихачества. Мы с Карлом подготовили примерный план, вполне умеренный. Мы исходили из предположения, что ниже второго уровня можно дышать без кислородных приборов. Это, конечно, невероятная удача, меняющая все прежние расчеты. Никак не могу освоиться с мыслью, что мы попали в кислородный мир… Остается лишь обеспечить людей водой и пищей, защитить их от холода — и дело в шляпе. Спуститься будет лете легкого — похоже, большую часть пути удастся проделать по перилам, словно нарочно для этого созданным…
— Я уже засадил техников за разработку специальных санок с парашютными тормозами. Даже если мы не рискнем сесть на них сами, используем для припасов и снаряжения.
— Прекрасно — это сократит спуск до десяти минут. Без саней он занял бы около часа. Труднее установить время, необходимое на обратный путь. Мне представляется, что на подъем надо отвести часов шесть, включая две остановки на отдых по часу каждая. Потом, когда мы наберемся опыта, а наши мышцы — силы, это время, быть может, удастся сократить…
— А как насчет психологических факторов?
— Обстановка столь непривычна, что однозначно и не ответишь. Главная из проблем, по всей вероятности, темнота…
— А что, если установить у начала трапа прожектор? Партии, спускающиеся вниз, будут непрерывно ощущать на себе его лучи.
— Хорошая идея. Это может нам серьезно помочь.
— Еще один вопрос: надо ли посылать вторую группу лишь до середины лестницы, а потом назад, или можно проделать весь путь с первой попытки?
— Если бы у нас было время, я бы предпочла первое. Но времени в обрез, и я не вижу, почему бы не спуститься сразу до конца — и хорошенько осмотреться внизу…
— Спасибо, Лаура, это все, что мне хотелось у тебя узнать. Первый помощник отработает детали. И еще я прикажу всем членам экипажа ежедневно тренироваться на центрифуге — по двадцать минут в день при половине g. Это тебя устроит?
— Нет. Там внизу на равнине ноль целых шесть десятых, и я хочу иметь некоторый запас «прочности». Пусть будет три четверти g…
— Ух!..
— …по десять минут…
— Ладно, я договорюсь…
— …два раза в день.
— Лаура, ты жестокая, бессердечная женщина. Ну, да будет так. Я оповещу о твоем решении перед обедом. Кое-кому оно, наверное, испортит аппетит.
Никогда раньше капитан Нортон не замечал, чтобы Карлу Мерсеру было не по себе. Вот уже четверть часа Карл обсуждал с капитаном вопросы снабжения, высказывался, как всегда, компетентно, но что-то его явно тревожило. Проницательный капитан догадывался, что именно, но терпеливо ждал, когда помощник решится сказать вес сам.
— Шкипер, — произнес Карл наконец, — вы уверены, что должны лично возглавить партию? Если что-нибудь выйдет не так, мной пожертвовать значительно проще. Да к тому же я уже спускался глубже, чем кто-либо другой, пусть на какие-то пятьдесят метров, но глубже…
— Само собой. Однако пробил час, когда командир обязан лично повести свои войска. И ведь мы пришли к выводу, что риска в этом спуске вряд ли больше, чем в предыдущем. При первых признаках опасности я взлечу по этой лестнице обратно со скоростью, достойной кандидата на Лунные Олимпийские… — Он ожидал дальнейших возражений, но их не последовало, хотя вид у Карла был совершенно несчастный. Нортон пожалел его и добавил мягко: — И ручаюсь, Джо на финише обгонит меня…
Великан Мерсер смягчился, и улыбка медленно осветила его лицо.
— Все равно, Билл, я хотел бы, чтобы ты выбрал кого-нибудь другого…
— Мне нужен по крайней мере один человек, который уже был внизу, а мы с тобой вместе идти не можем. Наш профессор, сержант Майрон, тоже не годится: Лаура утверждает, что в нем до сих пор два кило лишнего весу. Ему даже усы сбрили — и то не помогло…
— А кто у тебя намечен третьим номером?
— Сам еще не решил. Это зависит от Лауры.
— Она хочет идти сама.
— А кто не хочет? Вот если в составленном ею списке кандидатов наивысший коэффициент годности окажется у нее самой, тогда придется и впрямь заподозрить неладное…
Когда капитан-лейтенант Мерсер собрал свои бумаги и выплыл из каюты, Нортон ощутил мимолетный укол зависти. Почти все в команде — восемьдесят пять процентов ее, по самой скромной оценке, — нашли на борту корабля выход своим чувствам и привязанностям. Он знавал капитанов, которые поступали точно так же, но не считал возможным подражать им. Хотя дисциплина на «Индеворе» основывалась прежде всего на взаимном уважении умных, высококвалифицированных специалистов — мужчин и женщин, командир занимал особое положение и должен был как-то подчеркнуть это. Ответственность, возложенная на него, была настолько велика, что требовала определенного отчуждения от всех, даже от ближайших друзей. Выдели он кого-нибудь — и моральному состоянию экипажа был бы нанесен серьезный урон: почти наверняка его обвинили бы в пристрастии. По этой-то причине на флоте резко неодобрительно относились к связям между людьми, разделенными более чем двумя ступеньками служебной лестницы; не считая этого неписаного закона, существовало лишь одно правило, регулирующее личную жизнь космонавтов: «Не выясняйте отношений в коридорах — не пугайте шимпанзе».
На борту «Индевора» находилась четверка супершимпанзе. Строго говоря, подобное наименование было неточным — с научной точки зрения обезьяний экипаж корабля не имел с шимпанзе ничего общего. В условиях невесомости хватательный хвост представлял собой неоценимое преимущество, а все попытки снабдить подобным приспособлением людей не увенчались успехом. Опыты с человекообразными обезьянами оказались столь же неудовлетворительными, и тогда компания, успевшая присвоить себе наименование «Супершимпанзе корпорейшн», обратила свои взоры к их низшим собратьям.
Блэки, Блонди, Голди и Брауни. Их родословная восходила к наиболее смышленым обезьянкам Старого и Нового Света, и к генам многих видов были еще добавлены искусственные, никогда не существовавшие в природе. Вырастить их и обучить стоило, наверное, не меньше, чем подготовить среднего космонавта, но они того заслуживали. Каждая весила менее тридцати килограммов и потребляла кислорода и пиши вдвое меньше человека, но при уборке помещений, приготовлении простых блюд, переноске инструментов и на других элементарных работах заменяла практически трех членов команды.
Эффективность 2,75 — эту цифру вывела сама корпорация на основе бесчисленных хронометрических наблюдений. Цифра ошеломляла, ее нередко оспаривали, но, судя по всему, она была верна: суперобезьяны с радостью трудились по пятнадцать часов в сутки, не отказываясь от самой грязной, самой нудной работы. А людям оставались дела, воистину достойные человека; на космическом корабле это приобретало жизненно важное значение.
Не в пример обезьянам, своим ближайшим сородичам, «суперы», приписанные к «Индевору», были понятливы, послушны и нелюбопытны. Выведенные искусственным путем, они отличались также бесполостью, что само по себе снимало множество проблем. Их воспитали убежденными вегетарианцами, приучили к опрятности, они не издавали никаких запахов; из них получились бы замечательные комнатные зверушки, если бы обзавестись таким любимцем оказалось кому-нибудь по карману.
Но, конечно, присутствие «суперов» на борту вызывало и определенные трудности. Пришлось выделить им отдельное помещение, которое не замедлили окрестить «обезьянником». Маленькая их каютка блистала чистотой; в распоряжение «суперов» предоставили телевизор, игры, программированные обучающие машины. Во избежание инцидентов им было категорически воспрещено переступать порог технических служб корабля; соответствующие двери выкрасили в красный цвет, а у шимпанзе выработали условный рефлекс — преодолеть цветовой барьер стаю для них психологически невозможным.
Неизбежно возникала и проблема общения. КИ, коэффициент интеллектуальности, у «суперов» достигал примерно 60, они понимали несколько сотен английских слов, но говорить не могли. Дать обезьянам — как человекообразным, так и низшим — действующие голосовые связки оказалось задачей невыполнимой, и они были навеки обречены изъясняться на языке жестов.
Основные жесты были самоочевидными, легко запоминались, и буквально каждый на борту умел обменяться с «суперами» двумя-тремя простыми фразами. Но в совершенстве владел обезьяньим «языком» лишь один человек — их попечитель, старший споард Макэндрюс.
Бытовала шутка, что сержант Рэви Макэндрюс и сам стад похож на обезьяну. Вряд ли эта шутка могла восприниматься как оскорбление — «суперы» с их короткой, чуть подцвеченной шерстью и грациозными движениями были просто красивы. Мачо того, они были еще и ласковы, и у каждого из членов экипажа была своя любимица; симпатии капитана Нортона принадлежали Голди.
Однако легкость, с которой супершимпанзе привязывались к человеку, а человек — к шимпанзе, порождала еще одну проблему, и ее частенько использовали как серьезный аргумент против посылки «суперов» в космос. Поскольку их предназначали лишь для нудного, неквалифицированного труда, то в обстоятельствах чрезвычайных они только приумножали опасность. Еще ни одного «супера» не удалось научить пользоваться космическим скафандром: необходимые навыки и представления лежали далеко за границами их понимания.
На эту тему не любили говорить, но все прекрасно знали, что надлежит делать, если в корпусе случится пробоина или если придет приказ покинуть корабль. До сих пор такое произошло лишь однажды; попечитель «суперов» исполнил предписания инструкции более чем тщательно. Его нашли возле своих питомцев — он отравился тем же самым ядом. С тех пор задача усыпить шимпанзе в случае крайней необходимости возлагалась на старшего корабельного врача — считалось, что он способен на большую бесстрастность.
Нортон был признателен начальству за то, что хоть эта обязанность не легла на плечи капитана. Он знавал немало людей, на которых ему поднять руку было бы куда легче, чем на Голди.
12 ЛЕСТНИЦА БОГОВ
В прозрачной застывшей атмосфере Рамы луч прожектора был совершенно невидим. Но в трех километрах от центральной оси на ступени исполинской лестницы лег стометровый овал света. Сверкающий оазис среди окрестной тьмы, он медленно перемешался к вогнутой равнине, расстилавшейся еще в пяти километрах ниже, а в центре овала, отбрасывая перед собой длинные тени, двигались три маленькие фигурки.
Как они и ожидали, а вернее, как и надеялись, спуск прошел без каких бы то ни было неожиданностей. На первой площадке они сделали короткую остановку, и Нортон совершил небольшую прогулку по узкому кольцевому уступу, затем по перилам соскользнул на следующий уровень. Здесь они сбросили кислородные приборы и предались непривычной роскоши — дышать без каких бы то ни было механических устройств. Теперь, избавившись от величайшей из опасностей, подстерегающих человека в пространстве, и перестав тревожиться о герметичности костюма и запасах кислорода, они могли продолжать исследования в самых благоприятных условиях.
К тому времени, когда они достигли пятого уровня и впереди оставался последний пролет, притяжение возросло почти до половины земного. Скорость вращения Рамы наконец-то дала о себе знать в полной мере; они вынужденно подчинялись неумолимой силе, которая правит планетами, а подчас взимает беспощадно высокую плату за малейшую ошибку. Спускаться было по-прежнему легко, но в сознание уже закрадывалась мысль о возвращении — тысячи ступеней вверх, а следом — новые тысячи…
Головокружительно крутая лестница давно сменилась пологой и теперь постепенно выравнивалась до горизонтали. Уклон составлял теперь лишь 1:5, а ведь вначале был 5:1. Стало вполне возможно — и физически, и психологически — идти самым нормальным шагом; если бы не пониженная гравитация, они могли бы вообразить, что спускаются по какой-то грандиозной лестнице на Земле. Нортону однажды случилось осматривать развалины ацтекского храма — здесь к нему вернулись те же чувства, что он испытал тогда, но умноженные во сто крат. Благоговение, тайна и печаль, печаль по прошлому, сгинувшему безвозвратно. Однако здесь масштабы были настолько больше — и во времени, и в пространстве, — что мозг отказывался оценить их по достоинству, а потом и просто перестал воспринимать.
«Интересно, — подумал Нортон, — скоро ли мы начнем считать Раму чем-то само собой разумеющимся?..»
Положительно все земные ассоциации рушились, не успев возникнуть. Рама был в сотни раз старше любого сооружения, уцелевшего на Земле, в сотни раз древнее Великой пирамиды. Но в то же время все, чего касался взгляд, выглядело как с иголочки, без малейших признаков старения.
Нортон уже задумывался над этим загадочным явлением, пытаясь найти ему объяснение. В конце концов, то, что они видели до сих пор, составляло лишь вспомогательную, аварийную систему, которой фактически почти никогда не пользовались. Мыслимое ли дело, чтобы рамане действительно лазали вверх и вниз по этой невероятной лестнице, а равно по двум другим, сплетающимся в невидимый трилистник где-то высоко-высоко над головой? Разве что они были фанатиками физических упражнений — впрочем, на Земле таких не слишком мало… Но, скорее, все эти лестницы нужны были лишь в процессе сборки Рамы и с того давнего дня не служили никакой конкретной цели. На мгновение Нортону показалось, что эта теория и вправду все объясняет, но нет, она тоже не годилась. Что-то тут было не так, определенно не так…
Последний километр они преодолели, шагая через ступеньку долгими, мягкими шагами: Нортон решил, что надо дать более существенную нагрузку мускулам, которые им вскоре очень пригодятся. И конец лестницы застал их почти врасплох — просто впереди не осталось ступеней, только плоская равнина, мутно-серая в слабнущем свете осевого прожектора, да и этот свет еще через несколько сотен метров сливался с тьмой…
Нортон бросил взгляд в ту сторону, откуда падал луч, — до его источника на оси отсюда было больше восьми километров. Он понимал, что Мерсер, вероятно, смотрит на них в телескоп, и весело помахал ему рукой.
— Говорит капитан, — произнес он в микрофон. — Все в добром здравии, никаких осложнений. Продвигаемся, как намечали.
— Рад слышать, — откликнулся Мерсер. — Наблюдаем за вами.
Короткая пауза — и в разговор вмешался новый голос.
— Говорит первый помощник. Я на борту корабля. Послушайте, шкипер, так все-таки не пойдет. Вы же знаете, что Служба новостей не дает нам покоя уже целую неделю. Не требую от вас высокого слога, но дайте хоть какие-нибудь подробности!..
— Попытаюсь, — усмехнулся Нортон — Но учтите, видеть пока, собственно, нечего. Мы словно… словно на огромной затемненной сиене, где горит один-единственный софит. Со сцены вверх поднимается лестница, поднимается и исчезает во мраке — видна, наверное, сотня ступеней или чуть больше. А равнина вокруг выглядит совершенно ровной, изгиб слишком мал, чтобы заметить его на такой ограниченной площади. Вот, пожалуй, и все…
— И никаких других впечатлений?
— Ну, по-прежнему очень холодно — ниже нуля, хорошо, что костюмы у нас термические. И разумеется, тихо, тише, чем где бы то ни было на Земле или даже в космосе, — ведь на корабле всегда есть хоть какой-то шумовой фон. Здесь поглощаются все и всякие звуки, окружающее нас пространство так велико, что гасит любое эхо. Ощущение странное, но, надеюсь, мы привыкнем…
— Спасибо, шкипер. Кто хочет что-нибудь добавить? Джо, Борис?..
Лейтенант Джо Колверт никогда не лез за словом в карман. Он и теперь не растерялся:
— Все время думаю: ведь это впервые — впервые! — человек попал в мир, где можно дышать естественной атмосферой. Хотя, наверное, слово «естественная» не очень-то применимо в подобных обстоятельствах… И тем не менее Рама должен в определенной степени походить на ту планету, откуда прибыли его создатели. Разве наши космические корабли, каждый из них, не повторяет в миниатюре Землю? Два примера — это, конечно, чертовски мало, но как тут не подумать, что, быть может, все разумные существа дышат кислородом… По тому, что мы видим, можно предположить, что рамане были гуманоидами, только раза в полтора выше нас. Ты не согласен со мной, Борис?..
«Он что, нарочно дразнит Бориса? — спросил себя Нортон. — Интересно, каков будет ответ?..»
Для своих товарищей по экипажу Борис Родриго оставался непостижимой загадкой. Он был офицером связи, держался всегда спокойно, с достоинством, его любили, но в общих развлечениях он участвовал лишь постольку поскольку и, казалось, был слегка отдален от всех, словно прислушивался к музыке, слышной ему одному.
Так оно, в сущности, и было: Борис ревностно веровал в догмы пятой христианской, иначе «космической», церкви. Нортон, правда, не сумел установить для себя, что случилось с предыдущими четырьмя; в равной мере пребывал он в неведении и по части требуемых религией ритуалов и церемоний. Но главный догмат «пятой космической» был известен достаточно широко: ее приверженцы утверждали, что Иисус Христос снизошел на Землю из космоса, и на этой зыбкой почве возвели целое теологическое здание.
Нет ничего удивительного в том, что большинство адептов этого учения стремились получить работу в космосе. К тому же они неизменно оказывались умелыми и добросовестными работниками, заслуживающими полного доверия. К ним повсеместно относились с уважением и даже с симпатией, особенно если они не пытались обратить в свою веру других. И все-таки не нелепо ли, не дико ли: люди с такой развернутой научной и технической подготовкой — и вдруг всерьез верят, как в истину, во всякую белиберду?
Поджидая, пока лейтенант Родриго найдет ответ на заданный ему, по-видимому не без злого умысла, вопрос, капитан внезапно осознал и мотивы своего собственного выбора. Он предпочел Бориса потому, что тот был физически крепок, технически хорошо подготовлен, безусловно достоин доверия. И в то же время, если не кривить душой, не руководствовался ли он отчасти обыкновенным и почти озорным любопытством? Как человек с убеждениями Бориса будет реагировать на внушающую благоговейный трепет реальность Рамы? Что, если он натолкнется на нечто, опровергающее все его верования или, напротив, подтверждающее их?
Но Борис Родриго оказался, как всегда, осмотрительным и не пожелал ввязываться в спор.
— Дышали ли они кислородом? Конечно. Были ли гуманоидами? Возможно. Поживем — увидим. Если нам повезет, то вскоре мы установим, как они выглядели. Найдем картины, статуи, быть может, и тела. Вон там, в городах. Впрочем, города ли это?..
— До ближайшего всего-то восемь километров, — произнес Джо Колверт веселым тоном.
«Так-то оно так, — подумал капитан, — но потом и восемь километров обратно. А еще карабкаться по этой чудовищной лестнице вверх. Не слишком ли это рискованно?..»
Молниеносная вылазка в сторону «города», названного Парижем, действительно входила в число его ближайших планов, и теперь оставалось лишь окончательно решить: да или нет. Пиши и воды у них хватит на двадцать четыре часа; они будут все время на глазах у команды обеспечения, оставшейся близ оси, да и что, в сущности, может с ними случиться на этой гладкой, чуть изогнутой металлической равнине? Единственная опасность, какую он мог предвидеть, — переутомление: добраться до Парижа несложно, но многое ли они там успеют, прежде чем изнеможение вынудит их вернуться? Сделать несколько фотоснимков и, если выйдет, подобрать парочку мелких сувениров?
Однако даже самый непродолжительный набег на Париж стоил того, чтобы его совершить: времени было в обрез, Рама мчался к перигелию, туда, куда «Индевор» последовать за ним не сможет.
И к тому же решение зависело отнюдь не только от Нортона. Вдалеке от них, в каюте корабля, доктор Эрнст внимательно следила за данными биотелеметрических систем, датчики которых были закреплены у него на теле. Если она придет к выводу, что хватит, ему останется только подчиниться.
— Лаура, что скажешь?
— Отдохните с полчаса, примите по пятьсот калорий — и можете двигаться дальше.
— Спасибо, док, — вмешался Колверт. — Теперь я могу умереть спокойно. Я всегда мечтал побывать в Париже. Жди нас, Монмартр!..
13 РАВНИНА РАМЫ
После нескончаемых лестниц странной роскошью казалось просто идти, шагать по горизонтальной поверхности. Прямо перед ними она и в самом деле представлялась совершенно плоской, хотя левее и правее, к границам освещенной площади, становился заметен легкий изгиб. Словно они шли по очень широкой и неглубокой долине; никак не верилось, что в действительности они движутся внутри исполинского цилиндра и что за краем пятнышка света земля взмывает вверх и вверх, пока не смыкается с небом — нет, становится небом.
Невзирая на всю свою самоуверенность и еле сдерживаемое возбуждение, здесь они особенно ощутили нависшую вокруг тишину — она была такой плотной, что, казалось, ее можно было потрогать. Шаги и слова мгновенно растворялись во всепоглощающей пустоте; не прошли они и полукилометра, как лейтенант Колверт понял, что не в силах больше этого вынести.
Среди многочисленных его дарований был талант, встречающийся все реже — хотя некоторые и полагают, что все же слишком часто, — искусство свиста. По просьбе слушателей, да и по собственному почину он мог воспроизвести мелодии из большинства кинофильмов за последние двести лет. На сей раз он начал с марша из «Белоснежки» Диснея, но обнаружил, что не выдерживает соревнования с веселыми гномами на басах, и быстренько переключился на «Реку Квай». Затем он перебрал более или менее в хронологическом порядке еще с полдюжины боевиков и закончил свои упражнения музыкальной темой из знаменитого фильма «Наполеон», снятого в конце XX века режиссером Сидом Крассманом.
Свистел он хорошо, только его попытка приободрить себя и других успеха не имела. Рама требовал величия Баха, Бетховена, Сибелиуса или Туана Суна, а не обыденных популярных песенок. Нортон уже готов был попросить Джо поберечь дыхание на обратный путь, но молодой офицер и сам осознал тщету собственных усилий. С этой секунды, если не считать эпизодических переговоров с кораблем, они двигались в полном молчании. Рама выиграл первый раунд.
Даже в этой сугубо предварительной экспедиции Нортон позволил себе сделать небольшой крюк. Париж лежал прямо впереди, на полпути между подножием лестницы и берегом Цилиндрического моря, но в каком-нибудь километре вправо находилось очень приметное и весьма загадочное образование, которое они нарекли Прямой долиной. Длинная борозда или траншея с наклонными стенками — сорок метров в глубину, сто в ширину — издали напоминала ирригационный ров или канал. Как и у лестницы, у траншеи были два двойника, расположенные на равных расстояниях по окружности Рамы.
Каждая из трех долин протянулась почти на десять километров и неподалеку от моря внезапно обрывалась — это было непонятно, если каналы и впрямь предназначались для воды. А на противоположном берегу моря повторялась та же картина: еще три десятикилометровые траншеи пролегли почти до самого Южного полюса.
Четверть часа неторопливой ходьбы — и они, достигнув края Прямой долины, задумчиво уставились в ее глубины. Боковые склоны, идеально гладкие, устремлялись вниз под углом шестьдесят градусов, и нигде не видно было ни ступенек, ни какой-либо другой опоры для ног. Дно долины представляло собой зеркальный лист какого-то белого вещества, весьма похожего на лед. Нортон решил добыть образчик этого вещества, что сразу бы положило конец многим спорам.
Колверт и Родриго играли роль якорей: они помалу вытравливали канат, а Нортон медленно переступал вниз по крутому склону. Капитан приготовился, коснувшись дна, ощутить подошвами привычную скользкость льда, но ничего подобного. Трение было много выше, опасность поскользнуться здесь не угрожала. Вещество дна, — не то стекло, не то какой-то полупрозрачный кристалл, — когда он дотронулся до него пальцами, оказалось холодным, твердым и неподатливым.
Повернувшись спиной к прожектору и защитив глаза ладонями, Нортон попытался всмотреться в кристаллические бездны под ногами — ведь удается же иногда увидеть что-то сквозь лед замерзшего озера. Но на этот раз ничего не вышло; не помог и узкий луч шлемового фонаря. Вещество просвечивало, но все-таки было непрозрачным. Если это какая-то застывшая жидкость, то тает она при температуре много более высокой, чем вода.
Он легонько постучал по дну геологическим молотком — молоток отскочил с глухим немузыкальным звуком. Стукнув порезче — вновь безрезультатно, — Нортон уже собирался ударить в полную силу, но, повинуясь неожиданному импульсу, отвел руку.
Крайне маловероятно, что ему удастся расколоть это вещество, ну а если все-таки удастся? Не будет ли это поступком дикаря, разбившего вдребезги исполинскую зеркальную витрину? Случай добыть образцы еще представится, а сейчас он по крайней мере получил ценную информацию. По всей видимости, это не канал, а просто диковинная траншея без начала и конца. Если здесь когда-либо текла жидкость, то где пятна, где натеки от засохших брызг? Все чистенькое, новенькое, словно строители ушли отсюда только вчера…
И вновь он оказался лицом к лицу с главной тайной Рамы и не вправе был больше уклоняться от нее. Нортон не мог пожаловаться на отсутствие воображения, но он никогда не стал бы капитаном, если бы позволял себе необузданные взлеты фантазии. Тем не менее сейчас, впервые в жизни, он поддался какому-то странному предчувствию. Все вокруг оказалось вовсе не тем, чем представлялось поначалу; странное, очень странное это место, где вещи, насчитывающие миллионы лет, выглядят как с иголочки…
Погруженный в размышления, он медленно шел по дну долины. Товарищи, не выпуская из рук веревки, привязанной к его поясу, двигались следом по краю обрыва. Нортон не ждал от своей прогулки новых открытий, просто ему нужно было время, чтобы определиться. Дело было не только в необъяснимой новизне Рамы: его тревожило что-то совсем, совсем другое…
Он не прошел и десятка метров, как вдруг замер, точно пораженный громом.
Он узнал это место. Он уже был здесь! Даже на Земле или на другой знакомой планете подобное ощущение не из приятных, хотя и не такое уж редкое. Большинство людей время от времени испытывали это чувство, испытывали и отгоняли: виновата мол, какая-нибудь позабытая фотография или просто совпадение; меньшинство, склонное к мистике, искало объяснения в телепатии или даже истолковывало такие мгновения как озарение.
Но узнать место, какого не видела и не могла видеть ни одна человеческая душа, — это было уж слишком! Секунд десять капитан Нортон стоял как пригвожденный к гладкой кристаллической поверхности дна, стараясь собраться с мыслями. Казалось, все его доселе упорядоченные воззрения полетели вверх тормашками, будто он бросил взгляд в головокружительную пропасть на границе познания, которую благополучно игнорировал большую часть своей жизни.
Затем, к огромному его облегчению, на помощь пришел здравый смысл. Тревожное чувство, что это он уже видел, улетучилось, уступив место подлинному и достаточно четкому воспоминанию юности.
Совершенно верно — однажды он уже стоял между такими же круто падающими склонами, глядя, как они сливаются в бесконечной дали. Но те склоны покрывала аккуратная стриженая травка, а под ногами был не гладкий кристалл, а щебень. Это случилось в Англии, на летних каникулах тридцать лет назад. Главным образом под влиянием своей приятельницы-студентки (он ясно помнил ее лицо, но начисто забыл имя) Нортон записался на занятия по индустриальной археологии, очень популярной в те времена среди начинающих ученых и инженеров. Они обследовали заброшенные угольные шахты и ткацкие фабрики, карабкались по остовам разрушенных домен и паровых машин, таращили глаза на примитивные (и все еще опасные) ядерные реакторы, водили нелепые рыдваны с турбинными двигателями по реставрированным автострадам.
Отнюдь не все, что им показывали, было подлинниками; многое затерялось в веках — ведь человек почти не заботится о сохранности предметов своего повседневного быта. Но когда возникала нужда воссоздать что-то в копии, это делалось с неизменной любовью и тщательностью.
И однажды юный Билл Нортон оказался на паровозе, который выглядел двухсотлетним патриархом, а наделе был моложе Билла; он яростно швырял в топку драгоценный уголь, а паровоз катился вперед с развеселой скоростью сто километров в час. Впрочем, тридцатикилометровый отрезок Великой Западной железной дороги, по которому они ехали, был самым настоящим, хотя его и пришлось, прежде чем вернуть к жизни, в буквальном смысле слова выкопать из-под земли.
С пронзительным свистом паровоз нырнул прямо в середину холма и понесся сквозь дымную, озаренную искрами тьму. Прошли удивительно долгие минуты, и наконец они вырвались из тоннеля в глубокую и совершенно прямую выемку с крутыми, заросшими травой откосами. Эта давно забытая перспектива и была почти идентична той, которая открывалась перед ним здесь.
— Что стряслось, шкипер? — окликнул его лейтенант Родриго. — Нашли что-нибудь интересное?
Нортон усилием воли вернул себя к реальности. Да, вокруг была, несомненно, тайна, но человек должен и способен ее понять. Он получил урок, пусть и не такой, каким хочется тут же поделиться с другими. Чего бы это ни стоило, нельзя позволить Раме ошеломить себя. Случись такое — и неизбежен провал, а может статься, и безумие.
— Да нет, — ответил он, — ничего особенного. Ташите меня наверх, мы направляемся прямо в Париж
14 ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
— Я пригласил вас на данное заседание, — заявил председатель, — в связи с тем, что доктор Перера хочет сообщить нам нечто чрезвычайно важное. Он настаивает, чтобы мы немедленно связались с капитаном Нортоном, используя то самое внеочередное право, которого, смею заметить, нам удалось добиться с таким трудом. Однако заявление доктора Переры носит довольно специфический характер, и, прежде чем мы предоставим ему слово, я предлагаю заслушать отчет о проделанной работе, который подготовила доктор Прайс. Да, вот еще что — отсутствующие просили передать свои извинения. Сэр Льюис Сэндс не может быть с нами, так как в настоящий момент председательствует на научной конференции, и доктор Тейлор также просил извинить его…
Это последнее обстоятельство, признаться, радовало Боуза. Антрополог потерял к Раме всякий интерес, едва стало ясно, что лично ему широкого поля деятельности не представится. Как и многие другие, он испытал горькое разочарование, узнав, что движущийся мирок мертв; теперь, конечно, нечего и ждать ни материала для сенсационных книг, ни видеопередач, посвященных ритуалам и обычаям раман. Пусть кто хочет выкапывает скелеты и классифицирует находки — такого рода вещи Конрада Тейлора не привлекали. Единственное, что еще, пожалуй, могло бы заставить его вернуться в комитет, — это какие-нибудь оставленные раманами выдающиеся произведения искусства, подобные, например, знаменитым фрескам Теры и Помпеи.
Тельма Прайс, археолог, придерживалась диаметрально противоположной точки зрения. Она предпочитала раскопки и руины, свободные от обитателей, которые только создают суматоху, несовместимую с бесстрастными научными исследованиями. Дно Средиземного моря в этом смысле было идеальной зоной — по крайней мере до тех пор, пока под ногами не стали путаться проектировщики городов и художники по ландшафту. Рама был бы еще ближе к идеалу, если бы не доводящая до бешенства мысль, что он находится за сто миллионов километров и она никогда не сможет наведаться туда собственной персоной.
— Как вы уже знаете, — начала она, — капитан Нортон совершил пока одну экспедицию протяженностью почти тридцать километров, не встретив никаких серьезных трудностей. Он обследовал своеобразную траншею, обозначенную на ваших картах как Прямая долина; назначение ее по-прежнему неясно, хотя очевидно, что она играет важную роль, ибо, как и две аналогичные долины, тянется во всю длину Рамы и прерывается лишь в районе Цилиндрического моря.
Затем экспедиция повернула влево — или на восток, если ориентироваться по Северному полюсу, — и достигла Парижа. Как видно на этой фотографии, снятой телескопической камерой от оси, Париж представляет собой несколько сотен строений, разделенных широкими улицами.
А вот эти фотографии сделаны группой капитана Нортона непосредственно на месте. Если Париж действительно город.
то город очень странный. Обратите внимание — ни в одном из строений нет ни окон, ни дверей! Это гладкостенные прямоугольные сооружения одинаковой тридцатипятиметровой высоты. И кажется, что они так и отштампованы вместе с корпусом — ни швов, ни стыков, — взгляните на этот снимок крупным планом, и вы увидите, что стены плавно смыкаются с основанием…
Мое личное мнение таково, что это вовсе не жилые помещения. а какие-то склады или гаражи. В поддержку моей гипотезы говорит, к примеру, вот эта фотография… Такие прорези или желобки, сантиметров по пять шириной, бегут буквально по всем улицам, более того, подходят к каждому строению и упираются в глухую стену. Они поразительно напоминают трамвайные пути начата XX века и, очевидно, являются частью какой-то транспортной системы.
Мы никогда не задавались целью подводить общественный транспорт к каждому отдельному дому. Это же экономически нелепо — куда проще, чтобы человек прогулялся полквартала. Но если в этих строениях размешены склады каких-нибудь тяжелых материалов, тогда такая мера приобретает смысл…
— Могу я задать вопрос? — осведомился представитель Земли.
— Разумеется, сэр Роберт.
— Неужели капитан Нортон не сумел проникнуть ни в одно из этих строений?
— Нет, не сумел. Прослушав его доклад, вы поймете, что он и сам был очень расстроен. Сначала он решил, что проникнуть внутрь можно только из-под пола, потом обнаружил желобки транспортной системы и изменил свое мнение…
— Но он хоть пытался?..
— А что он мог сделать без взрывчатки или специальных инструментов? Естественно, что он и не хотел прибегать к подобным средствам, не испытав все другие возможности.
— Понятно! — воскликнул вдруг Деннис Соломоне, — Техника кокона!..
— Извините, не поняла…
— Техника кокона — методика, разработанная лет двести назад, — продолжал историк, — Ее не без иронии называли «зашитой от моли». Для предохранения от порчи предмет покрывают пластмассовой оболочкой, которую заполняют инертным газом. Первоначально так хранили военное снаряжение между войнами — представьте себе, укутывали целые корабли. Да и сейчас к этой методике прибегают в музеях, испытывающих нехватку складских помещений. Ни одна живая душа не знает.
что именно содержат в себе иные коконы вековой давности в подвалах Смитсоновского института…
Долготерпение не принадлежало к числу добродетелей Карлайла Переры; он жаждал швырнуть заготовленную им бомбу и более сдерживаться не мог.
— Господин председатель, разрешите мне!.. Все это очень интересно, но мне кажется, что информация, которой располагаю я, носит более срочный характер…
— Если у присутствующих нет возражений… Прошу вас, доктор Перера.
Не в пример Конраду Тейлору экзобиолог отнюдь не считал, что Рама обманул его ожидания, правда, он уже не надеялся встретить там жизнь, но был совершенно уверен, что рано или поздно удастся найти останки существ, построивших этот фантастический мир. Ведь исследования едва начались… Правда, времени на них осталось ужасающе мало — считанные дни, и «Индевору» придется спасаться бегством, чтобы невзначай не коснуться Солнца…
Хуже того: если верны его вчерашние вычисления, контакт человека с Рамой окажется еще кратковременнее, чем предполагаюсь. Потому что абсолютно все проглядели одну деталь…
. — Согласно последним данным, — начал он, — одна группа сейчас движется к Цилиндрическому морю, а другая во главе с капитаном Нортоном разбивает опорную базу у подножия лестницы Альфа. Затем капитан намерен снаряжать по два отряда одновременно. Людей у него немного, и он надеется, что таким образом их удастся использовать с максимальной эффективностью.
План неплох, если только у Нортона останется время на его выполнение. Я посоветовал бы капитану немедленно объявить тревогу и приготовиться к полной эвакуации через двенадцать часов. Нет, нет, позвольте, я объясню…
Удивительно, что никто пока не обратил внимания на бросающуюся в глаза аномалию. Рама давно уже пересек орбиту Венеры, а внутри его до сих пор мороз. Но ведь внешняя температура объекта, освещенного прямыми лучами Солнца, на таком расстоянии достигает пятисот по Цельсию!
Дело в том, разумеется, что Рама просто еще не успел разогреться. В межзвездном пространстве он должен был остыть почти до абсолютного нуля — до минус двухсот семидесяти. Сейчас по мере приближения к Солнцу внешние слои корпуса раскалились почти до точки плавления свинца. А внутри еще держится холод — нужно время, чтобы тепло проникло сквозь километровую толщу металла.
Есть такое изысканное десертное блюдо, горячее снаружи, но с мороженым в середине — не помню, как оно называется…
— «Запеченная Аляска». Его, к сожалению, частенько подают у нас на межпланетных банкетах…
— Благодарю вас, сэр Роберт. Именно такова в настоящий момент и ситуация на Раме. Но продлится она недолго. Многие недели солнечное тепло прокладывало себе дорогу внутрь цилиндра, и буквально в ближайшие часы можно ожидать резкого подъема температуры. Однако проблема не в этом — к тому времени, когда нам так или иначе придется покинуть Раму, климат там будет не жарче умеренно тропического…
— Тогда в чем же дело?
— Могу ответить в двух словах, господин председатель. Поднимутся ураганы.
15 БЕРЕГ МОРЯ
Число мужчин и женщин внутри Рамы уже перевалило за двадцать — шестеро трудились внизу, на равнине, остальные переносили оборудование и инструменты сквозь систему воздушных шлюзов и спускали их вниз по лестнице. Корабль был почти покинут, не считая минимального штата дежурных; кто-то пошутил, что «Индевором» теперь заправляет четверка обезьян, а Голди исполняет обязанности капитана.
Для первых исследовательских групп Нортон ввел несколько непреложных правил. Основное из них впервые было установлено еще на заре космических вылазок человечества: в каждую группу должен входить один из участников предшествовавших экспедиций. Но не более чем один — чтобы каждый из членов экипажа освоился с пребыванием внутри Рамы в предельно короткий срок.
Вот почему в группу, которая направилась к Цилиндрическому морю и которую возглавила Лаура Эрнст, включили и «ветерана» Бориса Родриго, только что вернувшегося из Парижа. Третьим был сержант Питер Руссо, специалист по инструментам космической разведки; на этот раз он мог полагаться лишь на собственные глаза да на маленький переносный теле-жоп.
Переход от подножия лестницы Альфа до берега моря — чуть меньше пятнадцати километров — в условиях низкого притяжения Рамы соответствовал восьми земным километрам. Лаура Эрнст, желая доказать, что уж она-то никогда не нарушала собственных предписаний, предложила быстрый шаг: На середине пути они сделали тридцатиминутную остановку и в результате уложились в три часа — без каких бы то ни было происшествий.
Движение было донельзя монотонным — шаг за шагом сквозь заглушающую все звуки тьму. Лужица света от прожектора, перемещаясь вместе с ними, постепенно вытягивалась в длинный узкий овал; только это и доказывало, что они не топчутся на месте. Если бы группа наблюдения не вела регулярных измерений, сами путники не сумели бы определить, сколько ими пройдено — один километр, пять или десять. Они шли и шли в непроглядной ночи по однообразной, лишенной даже швов металлической равнине.
Но наконец далеко впереди, гам, куда еле проникал слабнущий луч, забрезжило что-то новое. В нормальном мире это напоминало бы горизонт; присмотревшись, они увидели, что равнину пересекает резко очерченный обрыв. Они приближались к берегу моря.
— Осталось сто метров, — сообщила группа наблюдения. — Рекомендуем снизить темп.
В сущности, рекомендация была излишней: они сами уже замедлили шаг. Гладкий отвесный утес пятидесятиметровой высоты отделял уровень равнины от уровня моря — если это действительно было море, а не очередной лист загадочного кристаллического вещества. Впрочем, несмотря на предостережения Нортона — тот внушал всем и каждому, что на Раме доверяться первому впечатлению неразумно и опасно, — почти никто не сомневался, что море покрыто настоящим льдом. Но почему, по какой причине южный берег моря в десять раз выше северного, почему там утес вздымается на полукилометровую высоту?..
Они словно подкрадывались к краю света: переднюю часть светового овала срезало точно ножом, и остаток пятна с каждым шагом становился все короче и короче. Зато далеко внизу на вогнутом экране моря появились исполинские вытянутые тени, подчеркивающие и утрирующие каждое движение. Тени, неизменные спутники людей с той самой секунды, когда они начали шагать вдоль луча, теперь, перерезанные краем утеса, как бы обрели независимость. Казалось, что это обитатели Цилиндрического моря подстерегают пришельцев, вторгшихся в их владения.
Именно здесь, на краю пятидесяти метрового обрыва, людям впервые представилась возможность по достоинству оценить кривизну внутренней поверхности Рамы. Но ведь никому никогда не доводилось видеть изогнутую ледовую гладь; зрелище действовало на нервы, и разум невольно старался истолковать его как-нибудь иначе. Даже Лауре Эрнст, которая в свое время специально изучала обманы зрения, то и дело чудилось, что она смотрит на бухту, врезанную в горизонтальную сушу, а вовсе не на море, взмывающее в небеса. Требовалось сознательное усилие воли, чтобы смириться с невероятным.
Лишь в одном направлении — строго вперед по линии, параллельной оси Рамы, — обычные представления о природе вещей оставались ненарушенными. Лишь на этой линии зрение и логика были согласны между собой. Здесь — по крайней мере в пределах нескольких километров — поверхность выглядела, да и в самом деле была плоской. Но где-то чуть дальше, там, куда не достигали их тени, куда не проникал луч прожектора, лежал остров, господствующий над Цилиндрическим морем…
— Группа наблюдения, — обратилась по радио доктор Эрнст, — будьте добры перебросить луч на Нью-Йорк…
Как только овал света скользнул от них прочь, в море, на плечи тяжко навалилась раманская ночь. Вспомнив, что у самых ног затаился невидимый теперь обрыв, люди, не сговариваясь, отступили на два-три метра. И тут, словно по мановению волшебной палочки, из темноты выплыли башни Нью-Йорка.
Сходство со стародавним Манхэттеном было, разумеется, чисто внешним — рожденное звездами эхо земного прошлого обладало своей ярко выраженной индивидуальностью. И чем дольше Лаура Эрнст разглядывала раманский Нью-Йорк, тем больше она убеждалась, что это вообще не город.
Настоящий Нью-Йорк, как и все другие города человека, никогда не был завершен и тем более не возводился по единому плану. А здесь царили строгая симметрия и шаблон, правда, настолько сложный, что рассудок не сразу принимал его. Все, что тут было, задумали и спроектировали разумные существа — задумали в целом, а потом и построили, как строят машину, предназначенную для какой-то определенной пели. И после этого она, машина, измениться уже не может.
Луч прожектора неспешно блуждал среди отдаленных башен и куполов, сомкнутых полусфер и перекрещенных трубопроводов. Временами свет, упав на какую-нибудь плоскость, отражался яркой вспышкой. Первая вспышка едва не лишила людей дара речи — будто кто-то подал им с этого загадочного острова ответный сигнал…
И тем не менее они не могли разглядеть там ничего нового, чего не знали бы — и более детально — по снимкам, сделанным ранее. Спустя пять минут они попросили вернуть луч прожектора и двинулись по краю обрыва на восток. Казалось вполне вероятным встретить где-нибудь неподалеку лестничный марш или наклонный спуск, ведущий вниз, к морю. Одна из женщин, по натуре заядлая морячка, высказала небезынтересную догадку:
— Там, где есть море, — утверждала сержант Руби Барнс, — обязательно должны быть доки, гавани и, конечно, корабли. Каждая цивилизация строит корабли по-своему, и потому, как это делается, можно узнать о ней практически все…
По мнению коллег Руби, ее точка зрения страдала некоторой узостью, но все же обнадеживала. Лаура Эрнст уже почти отчаялась найти спуск и решила прибегнуть к канату, когда лейтенант Родриго заметил неширокую лесенку. Она пряталась в тени за краем обрыва, так что мимо нее немудрено было и пройти: хозяева не позаботились ни о поручнях, ни даже о какой-нибудь вешке. К тому же лесенка никуда не вела, а просто под небольшим углом сбегала по пятидесятиметровой вертикальной стене и исчезала под поверхностью моря.
Внимательно осмотрев лесенку с помощью шлемовых фонарей и не обнаружив ничего опасного, Лаура с разрешения капитана Нортона спустилась вниз. Минутой позже она осторожно коснулась моря ногой.
Подошва легко скользнула по поверхности — трения почти не ощущалось, все говорило о том, что под ногами лед. Это и на самом деле был лед. Едва она стукнула по нему молотком, от удара разбежалась характерная сетка трещин, и Лаура без труда набрала множество осколков. Как только она поднесла пробирку к свету, мелкие осколки растаяли: в пробирке плескалась теперь мутноватая водичка, и Лаура дерзнула понюхать ее.
— А это не опасно? — с беспокойством в голосе осведомился оставшийся наверху Родриго.
— Поверьте, Борис, — ответила она, — если бы здесь существовали болезнетворные факторы, ускользнувшие от наших детекторов, то вся система профилактических мер потерпела бы крах еще неделю назад…
Однако в беспокойстве Бориса был свой резон. Несмотря на проведенные опыты, оставался некоторый, пусть и весьма незначительный, риск, что именно эта жидкость ядовита или способна вызвать какую-нибудь неведомую болезнь. При обычных обстоятельствах доктор Эрнст не стала бы пренебрегать даже столь мизерной вероятностью. Но времени было в обрез. И если бы даже потом пришлось посадить на карантин весь экипаж «Индевора», то и такая цена не была бы чрезмерной.
— Это вода, но пить ее не советую — пахнет гнилыми водорослями. Поскорей бы доставить ее в лабораторию…
— А как лед, выдержит нас?
— Да, крепок как скала.
— Значит, мы можем перебраться в Нью-Йорк?
— Это вы серьезно, Питер? А вы когда-нибудь пробовали пройти четыре километра по льду?
— Понимаю, к чему вы клоните. Но только представьте себе физиономии наших интендантов, попроси мы у них три пары коньков! Да если бы коньки и нашлись, немногие на борту сумели бы ими воспользоваться…
— Есть еще и другая проблема, — включился в разговор Борис Родриго. — Вы заметили, что температура поднялась уже выше нуля? Недалек час, когда лед начнет таять. Кто из космонавтов способен преодолеть четыре километра вплавь? Во всяком случае, не я..
Доктор Эрнст взобралась к ним на край обрыва и триумфальным жестом подняла вверх маленькую пробирку.
— Дальняя получилась прогулка ради нескольких кубиков грязной воды, но эта водица, надо думать, расскажет нам о Раме больше, чем все, что мы видели до сих пор. Давайте возвращаться домой.
Они повернули в сторону ослабленных расстоянием огней лагеря Альфа. Передвигаясь мягкими шагами-прыжками — такой вид ходьбы оказался здесь самым целесообразным, — они то и дело оглядывались назад, не в силах отрешиться от загадки величественного острова.
На полпути Лауре Эрнст померещилось, что она ощутила дуновение слабого ветерка.
Однако ветерок не повторился, и она тут же забыла о нем.
16 КЕАЛАКЕКУА
— Вы же прекрасно знаете, доктор Перера, — произнес с показным смирением председатель, — что мы. увы, не можем тягаться с вами в познаниях в области математической метеорологии. Сделайте милость, снизойдите к нашему невежеству…
— С удовольствием, — отозвался экзобиолог, нимало не смутившись, — Лучше всего я просто расскажу вам, что произойдет внутри Рамы в самое ближайшее время.
Солнечное тепло уже проникло внутрь цилиндра, и температура воздуха там постепенно поднимается. Согласно последним полученным мною сведениям, она уже сейчас выше точки замерзания. Цилиндрическое море вскоре начнет таять, только, не в пример водным массам на Земле, таяние будет происходить от дна к поверхности. Эго, вероятно, вызовет ряд своеобразных явлений, но меня заботит главным образом состояние атмосферы.
Нагреваясь, воздух внутри Рамы будет расширяться — и соответственно подниматься от внутренней поверхности цилиндра к центральной оси. На уровне поверхности он, хотя и кажется неподвижным, в действительности движется со скоростью вращения Рамы, то есть со скоростью более восьмисот километров в час. Поднимаясь к оси, воздух будет стремиться сохранить эту скорость, что, разумеется, невозможно. В результате возникнут сильные ветры и завихрения — полагаю, что скорости воздушных потоков достигнут двухсот-трехсот километров в час.
Между прочим, нечто подобное происходит и на Земле. Нагретый воздух экватора движется со скоростью вращения Земли — тысяча шестьсот километров в час. И как только он поднимается и перемещается на север или на юг, возникает тот же эффект…
— А, пассаты! Как же, помню еще из школьной географии…
— Совершенно верно, сэр Роберт. На Раме будут свои пассаты, и притом сильнейшие. Думаю, что они продлятся лишь несколько часов, а затем восстановится какое-то равновесие. Но на это время я настоятельно рекомендую капитану Нортону эвакуировать людей, и сделать это следует как можно скорее. Вот текст радиограммы, которую я предлагаю послать.
«Капли воображения достаточно, — подумал Нортон, — чтобы представить, что мы просто разбили бивуак у подножия гор где-то в срединной Азии или Америке…» Куча спальных мешков, складные столы и стулья, переносная электростанция, осветительные кабели, электрические туалеты, разнообразная научная аппаратура — все это выглядело бы уместным и на Земле, тем более что вокруг суетились мужчины и женщины без кислородных приборов и масок на лицах.
Создать лагерь Альфа было делом отнюдь не простым: снаряжение пришлось тащить вручную сквозь цепь воздушных шлюзов, спускать на санях по склону, а затем подбирать и распаковывать внизу. Тормозные парашюты подчас отказывали, и груз выкатывался на добрый километр в глубь равнины. Несмотря на это, кое-кто из команды обращался к капитану за разрешением прокатиться вместе с грузом; Нортон решительно им отказывал. Впрочем, в случае острой нужды запрет можно было бы и снять.
Практически почти все снаряжение так и обречено остаться здесь навсегда: возвратить его на корабль — задача невыполнимая, об этом не приходилось и мечтать. Временами капитан Нортон вопреки всякой логике стыдился, что вынужден захламить этот необъяснимо чистый мир земным барахлом. Он даже решил, что, прежде чем окончательно покинуть Раму, пожертвует драгоценным часом, а то и двумя на то, чтобы привести лагерь в полный порядок. А вдруг — невероятная мысль, — вдруг спустя миллионы лет где-нибудь в иной звездной системе на Раме вновь объявятся нежданные гости? Он хотел, чтобы у них создалось хорошее впечатление о Земле.
Правда, сначала ему предстояло решить другую, гораздо более срочную проблему. За последние двадцать четыре часа он получил почти одинаковые послания с Марса и с Земли. Странное совпадение, а может, и не совпадение, может, они все-таки общались друг с другом, может, нынешняя ситуация послужила им поводом для контактов? Обе жены ни с того ни с сего многозначительно напоминали ему, что и герой дня не должен забывать о своих семейных обязательствах…
Взяв складной стул, капитан перешел из освещенного пространства в окружающую лагерь тьму. Только так и можно было добиться хотя бы видимости уединения. Повернувшись спиной к суетящимся в свете прожектора людям, Нортон стал говорить в висящий на шее диктофон.
— Оригинал в личное дело, копии на Марс и на Землю. Привет, дорогая. Знаю, сам знаю, что корреспондент из меня никудышный, но на борту корабля я не был уже целую неделю. Да там, кроме дежурных, никого теперь и нет, мы разбили лагерь внутри Рамы, у подножия лестницы, которая получила название Альфа.
На равнине сейчас работают три разведывательные группы, но продвигаемся мы вперед чудовищно медленно, поскольку рассчитывать можем лишь на собственные ноги. Если бы у нас был хоть какой-нибудь транспорт! Хотя бы парочка электрических велосипедов!..
Ты ведь встречалась с моим старшим корабельным врачом Лаурой Эрнст…
Он запнулся в нерешительности: Лаура действительно встречалась с одной из его жен, но с которой? Наверное, лучше не рисковать… Он стер незаконченную фразу и начал снова:
— Мой старший корабельный врач, доктор Эрнст, возглавила первую экспедицию к Цилиндрическому морю, в пятнадцати километрах отсюда. Как мы и думали, море заполнено замерзшей водой, однако пить такую воду не стоило бы. Доктор Эрнст говорит, что это жидкий органический суп со следами самых разных углеродных соединений, содержащий также фосфаты, нитраты и десятки металлических солей. И никаких намеков на жизнь, ни единого, пусть даже мертвого, микроба. Так что о биохимии раман мы по-прежнему ничего не знаем, хотя, вероятно, она не так уж безнадежно далека от нашей…
Что-то легко шевельнуло волосы — он был слишком занят, чтобы вовремя подстричься, и теперь придется как-то избавляться от них, иначе скоро и шлем не наденешь…
— Ты, конечно, смотрела видеопередачи из Парижа и других городов, которые мы обследовали по эту сторону моря, — из Лондона, Рима, Москвы. Невозможно и предположить, что их строили для жилья. Париж похож на гигантский склад. Лондон — это набор цилиндрических баков, связанных между собою трубопроводами, и еще какое-то подобие насосной станции. Все закрыто наглухо, и нет никакого способа установить без помощи взрывчатки или лазера, что находится внутри. Не хочется прибегать к таким средствам, пока не исчерпаны остальные.
Что касается Рима и Москвы…
— Извините, шкипер. «Молния» с Земли…
«Это еще что? — спросил себя Нортон. — Неужели человек не вправе хотя бы минуту спокойно побеседовать со своими семьями?..»
Он принял радиограмму от сержанта и пробежал ее глазами в надежде убедиться, что в ней нет ничего неотложного. Затем прочитал ее вновь, уже внимательнее.
Это еще что за новость — Комитет по проблемам Рамы? И почему он никогда о таком не слышал? Кто только ни старался войти с ним в контакт — ассоциации и общества всех мастей, от самых респектабельных до совершенно психопатических; центр управления всеми силами оберегал его от них и ни за что не переслал бы ему этой радиограммы, если бы не счел ее важной.
«Ветры — двести километров в час, возможен внезапный шквал» — да, тут было над чем задуматься. Но можно ли принять подобное предостережение всерьез, когда вокруг идеально тихая ночь? И не смешно ли удирать, когда они только-только начали серьезные исследования?..
Капитан Нортон поднял руку, хотел было отвести волосы, почему-то вновь упавшие на глаза, и замер. Ветерок-то здесь, кажется, есть, и он ощущает это уже не первый раз. Но ветерок настолько слабый, что капитан сразу не удостоил его вниманием: в конце концов он, Нортон, привык управлять космическим кораблем, а не парусником. До сих пор дуновения воздуха ни в малейшей степени не задевали его профессиональных интересов. Но любопытно, что предпринял бы в таких обстоятельствах капитан того, первого «Индевора»?
Вот уже на протяжении четырех-пяти лет Нортон в критические минуты задавал себе этот вопрос. Он никому не раскрывал своей тайны. А возникла она, как возникает все самое важное в жизни — по воле случая.
Он уже несколько месяцев носил капитанское звание, когда узнал, что его «Индевор» — тезка одного из самых прославленных в истории кораблей. Правда, в течение последующих четырех веков еще с десяток «Индеворов» выходило в море, а два «Индевора» — в космос, но прародителем их всех являлся тот трехсотсемидесятитонный барк, на котором капитан королевского флота Джеймс Кук совершил кругосветное плавание в 1768–1771 годах.
Умеренный интерес к предшественнику быстро перерос во всепоглощающую страсть, почти одержимость; Нортон перечитал все, что хоть как-то касалось капитана Кука. Сейчас он был, пожалуй, крупнейшим в мире знатоком жизни и деятельности этого великого исследователя и помнил целые страницы путевых дневников капитана наизусть.
И тем не менее даже Нортону казалось подчас невероятным, как один человек, да еще с таким примитивным снаряжением, мог столько совершить. Джеймс Кук был не только превосходным мореходом, но и пытливым ученым и — в свой жестокий век — убежденным гуманистом. Со своей командой он обращался с необычной тогда добротой, и что было уже и вовсе неслыханно — так же обходился на новооткрытых землях и с туземцами.
Заветной, но, он сам понимал, неосуществимой мечтой Нортона было повторить хотя бы один из кругосветных маршрутов капитана Кука. Пока ему удалось лишь пролететь по полярной орбите прямо над Большим Барьерным рифом (надо думать, подобный способ передвижения поверг бы в изумление легендарного капитана). Случилось это в погожий день на заре, и с высоты четырехсот километров ему открылся впечатляющий вид на грозную коралловую стену, отмеченную полоской белой пены вдоль всего побережья Квинсленда.
На то, чтобы оставить позади риф протяженностью две тысячи километров, Нортону не потребовалось и пяти минут. Одним взглядом он мог окинуть недели исполненного опасностей пути того, стародавнего «Индевора». А в телескоп он разглядел даже крохотное пятнышко Куктауна и устье реки, где вытащенный на берег барк чинили после встречи с рифом, едва не оказавшейся роковой.
Годом позже Нортон побывал на космической станции дальнего слежения, расположенной на Гаваях, и не упустил случая посетить другое незабываемое место. Катер на подводных крыльях переправил его в бухту Кеалакекуа; шагая там среди черных вулканических скал, он почувствовал вдруг такое волнение, что сам был озадачен и даже смущен. Гцц повел группу ученых, инженеров и космонавтов мимо сверкающего металлом обелиска, который заменил более ранний памятник, разрушенный Великим цунами 2068 года. Они прошли еще с десяток шагов по черной скользкой лаве и замерли подле небольшой дощечки у самой воды. Дощечку захлестывали соленые брызги, но Нортон уже не замечал их; наклонившись, он вчитывался в слова:
НЕПОДАЛЕКУ ОТСЮДА 14 ФЕВРАЛЯ 1779 ГОДА БЫЛ УБИТ КАПИТАН ДЖЕЙМС КУК
Мемориальная доска установлена 28 августа 1928 года комиссией по проведению 150-летия со дня гибели капитана Кука
Восстановлена в связи с 300-летием со дня гибели Кука 14 февраля 2079 года
Это было много лет назад и за сто миллионов километров отсюда. Но в тяжелые минуты Нортону неизменно казалось, что Кук незримо присутствует рядом. Втайне от всех, глубоко про себя он спрашивал: «Ну, капитан, что посоветуешь?..» Он играл в эту игру в случаях, когда не хватало фактов для трезвого суждения, когда оставалось лишь полагаться на интуицию. Ведь интуиция составляла неотъемлемую часть гения капитана Кука; тот никогда не ошибался в своем выборе — вплоть до трагического конца в бухте Кеалакекуа.
Сержант терпеливо ждал, пока командир насмотрится на раманскую ночь. Ночь уже не была непроглядной: километрах в четырех от лагеря ясно светились два бледных пятнышка — там работали разведывательные партии.
«Если понадобится, я смогу отозвать их 8 течение часа, — утешил себя Нортон, — А уж час-то у меня останется наверняка».
— Запишите ответ, — повернулся он к сержанту. — Адрес: Планетком, для Комитета по проблемам Рамы. Благодарю за совет, приму меры предосторожности. Прошу уточнить, что значит «внезапный шквал». С уважением — Нортон, капитан «Индевора».
Он помедлил, дав сержанту скрыться в слепящем свете лагеря, и опять включил диктофон. Но нарушенный ход мыслей не восстанавливался. С письмом придется повременить…
В этом случае аналогии с Куком ему явно не помогали. Нортон помнил, какими редкими и кратковременными были встречи Элизабет Кук с мужем. За шестнадцать лет брака они виделись считанные разы — и тем не менее она родила ему шестерых детей, а потом пережила их всех.
Право, женам самого Нортона, расстояние до которых радиолуч всегда покрывал самое большее за десять минут, жаловаться было просто не на что.
17 ВЕСНА
Заснуть в первые «ночи» на Раме оказалось очень нелегко. Угнетала тьма, угнетали тайны, которые она скрывала, но сильнее всего угнетала тишина. Полное отсутствие звука — состояние отнюдь не естественное: всем человеческим чувствам нужен хоть какой-то раздражитель. И если они лишены его, мозг пытается создать ему замену.
Неудивительно, что многие жаловались на странный шум и даже голоса, которые слышали во сне; очевидно, шумы были иллюзорными, поскольку все, кто в те же часы бодрствовал, не слышали ровным счетом ничего. Старший врач Эрнст прописала команде простое и эффективное средство: в отведенные для сна часы людей убаюкивала тихая, неназойливая музыка.
Но в эту ночь капитану Нортону ничто не помогало. Он до боли вслушивался в темноту, отчетливо сознавая, чего ждет. И правда, периодически его липа касался ласковый ветерок, однако на грозный гул — предвестник надвигающегося шторма — не было даже и намека. Да и разведывательные партии не замечали вокруг ничего необычного.
Наконец, примерно в полночь по корабельному времени, он задремал. У пульта связи на случай, если с «Индевора» передадут еще какие-нибудь срочные сообщения, оставался дежурный. Необходимости принимать иные меры предосторожности вроде бы не возникало…
Никакой ураган не вызвал бы такого грохота, какой в мгновение ока разбудил его и весь лагерь. Казалось, обрушилось небо или корпус Рамы лопнул и стал разваливаться на части. Вслед за раздирающим уши треском наступила череда звенящих ударов, словно кто-то крушил миллионы стеклянных замков. Так продолжалось две-три минуты, а людям казалось, что прошли часы; хруст еще не прекратился, когда Нортон сумел наконец добраться до микрофона.
— Группа наблюдения! Что происходит?!
— Минуточку, шкипер. Это в районе моря. Сейчас мы туда посветим…
В восьми километрах над их головами, у центральной оси, прожектор взмахнул лучом, и тот послушно побежал по равнине. Достигнув берега моря, луч двинулся вдоль него, высвечивая замкнутый мир по окружности. Пройдя примерно четверть возможного кругового пути, луч остановился.
Там, высоко в небе — поскольку разум настаивал на том, чтобы считать это направление небом, — творилось что-то из ряда вон выходящее. Сначала Нортону почудилось, что море кипит. Оно больше не было неподвижным, застывшим в объятиях вечной зимы; огромный его участок, измеряемый километрами, пришел в бурное движение. И еще — оно меняло цвет: по льду ползла широкая лента яркой белизны.
Исполинская льдина — наверное, четверть на четверть километра — неожиданно накренилась и вздыбилась, как распахнутая дверь. Край ее неспешно и величественно возносился в небо, сверкая и искрясь в луче прожектора. Затем льдина скользнула вниз и исчезла под поверхностью моря, и вал вспененной воды устремился от этого места к берегам.
Лишь теперь капитан Нортон понял, что случилось. Вскрывалось море. Долгие дни и недели, начиная с глубин, шло таяние, и вот… Сосредоточиться было трудно: громовой треск не прекращался, заполняя мир и перекатываясь эхом, однако Нортон уже искал объяснения происходящим катаклизмам. Ведь на Земле, когда вскрываются замерзшие реки и озера, ничего похожего не бывает…
Ну конечно же! Теперь, перед лицом фактов, все стало более чем очевидно. Солнечное тепло просачивалось сквозь корпус Рамы, и море начало таять со дна. Донный лед превращался в воду, а вода, как известно, занимает меньший объем…
Море ушло из-под верхнего слоя льда, оставив его без поддержки. День за днем таяние ускорялось и ширилось, пока полоса льда, охватывающая экватор Рамы, не начала рушиться, словно лишенный опор мост. Сейчас она раскалывалась на сотни плавучих островов, которые, в свою очередь, будут сталкиваться и крошиться, пока не растают. У Нортона кровь застыла в жилах, когда он вспомнил, что они совсем было решили добираться до Нью-Йорка на санях…
Бунт стихий постепенно угасал — в битве между льдом и водой наступало временное перемирие. Через два-три часа с повышением температуры вода одержит победу, растопив последние остатки льда. Но в конечном счете победителем выйдет лед: обогнув Солнце, Рама снова канет во мраке межзвездного пространства.
Едва опомнившись и переведя дух, Нортон вызвал по радио ближайшую к берегу моря группу. К большому его облегчению, лейтенант Родриго откликнулся без задержки. Нет, вода до них не дошла. Ни один из валов не выплеснулся за край обрыва. «Теперь мы по крайней мере знаем, — добавил хладнокровный Борис, — зачем вообще нужен этот обрыв…» Нортон внутренне согласился с ним и так же про себя добавил: «Но это еще не объясняет, почему утес на южном берегу ровно в десять раз выше…»
Прожектор продолжал вычерчивать круги по экватору. Разбуженное море понемногу успокаивалось, ледовые поля больше не опрокидывались, и кипящей белой пены тоже не было видно. Четверть часа — и светопреставление в основном закончилось.
Но и тишине на Раме пришел конец: мир очнулся от сна, и по нему вновь и вновь раскатывались волны скрежета — это сталкивались друг с другом айсберги.
«Весна слегка запоздала, — сказал себе Нортон, — но зима, несомненно, уже сдалась». И откуда-то опять налетел ветерок, заметно более сильный, чем прежде. Рама сделал им достаточно серьезное предупреждение — пора было объявлять отход.
На половине пути они поставили специальную отметку; приближаясь к ней, капитан Нортон снова почувствовал, что признателен темноте, скрывающей как путь наверх, так и путь вниз. Разумеется, он помнил, что впереди еще более десяти тысяч ступеней, и без труда мог представить себе их крутой изгиб — и все-таки то обстоятельство, что реально он видит лишь малую их долю, делало перспективу менее удручающей.
Для него самого это восхождение было вторым, и он хорошо усвоил урок, полученный в первый раз. При такой низкой гравитации поневоле возникало искушение взбираться быстро, слишком быстро: каждый шаг давался так легко, что подчинять его нудному медленному ритму казалось просто ни к чему. Но если не сделать этого, то через две-три тысячи ступеней ноги начнут странным образом ныть. Мускулы, о существовании которых человек до тех пор и не догадывался, заявят решительный протест и будут требовать все более и более длительного отдыха. В прошлый раз Нортон под конец пути дольше отдыхал, чем двигался, и все же ничего не добился. Следующие два дня ноги сводило болезненными судорогами, и, не находись он вновь в невесомости у самого своего корабля, Нортон, наверное, утратил бы работоспособность.
Поэтому сейчас он двинулся в путь с тягостной медлительностью, как древний старик. Он покинул равнину последним, остальные поднимались цепочкой, растянувшейся на полкилометра над ним, и он различал огоньки их фонариков, ползущие вверх по невидимому откосу.
В душе он жестоко досадовал, что не успел завершить свою миссию, и надеялся, что отступление носит временный характер. Добравшись до шлюза, они переждут, пока не прекратятся возмущения в атмосфере. Можно предполагать, что там, у оси, будет штиль, как в центре циклона; они пересидят шторм в безопасности и вернутся…
Впрочем, он опять спешил с выводами — трудно было избавиться от привычки проводить рискованные аналогии с Землей. Метеорология целого мира даже при совершенном равновесии атмосферы — дело невероятной сложности. Ведь и на Земле прогнозы погоды, несмотря на трехсотлетнюю практику, так и не стали абсолютно надежными. А атмосфера Рамы, мало того что оставалась системой со многими неизвестными, еще и претерпевала стремительные перемены: лишь за последние два-три часа температура поднялась на несколько градусов. Однако обещанного урагана пока не было и в помине, хотя порывы ветра налетали неоднократно и с разных сторон.
Так они поднялись на пять километров — при низкой и к тому же непрестанно уменьшающейся силе тяжести это соответствовало, наверное, километрам двум на Земле. На третьем уровне, в трех километрах от оси, они устроили часовой привал, слегка перекусили и растерли мышцы ног. Здесь лежал конечный рубеж, на котором они еще могли дышать без натуги; подобно тому как прежде это делали альпинисты в Гималаях, они, спускаясь, оставили здесь свои кислородные приборы, а теперь надели их снова, чтобы уже не снимать до самого конца пути.
Часом позже они добрались до верха лестницы и начала трапа. Оставался последний вертикальный километр, к счастью, в слабом гравитационном поле, составлявшем лишь несколько процентов земного. Еще один тридцатиминутный привал, тщательная проверка запасов кислорода — и они приготовились к финальному броску.
Нортон вновь удостоверился, что его подчиненные благополучно следуют друг за другом с интервалом в двадцать метров. Теперь и ему предстояло медленно и до отвращения нудно тянуть себя вверх и вверх. Лучше всего было ни о чем не думать, а просто считать перекладины, проплывающие мимо: сто, двести, триста, четыреста…
Он достиг тысяча двести пятидесятой, когда внезапно осознал, что вокруг что-то не так. Свет, отражающийся от вертикальной стены перед самыми его глазами, приобрел какой-то новый оттенок, более того, стал слишком ярок.
Капитану не хватило времени ни на то, чтобы притормозить, ни на то, чтобы как-то предостеречь остальных. Все произошло менее чем за секунду.
Беззвучным мгновенным взрывом на Раме занялся рассвет.
18 РАССВЕТ
Свет был таким ослепительным, что Нортон поневоле зажмурился на добрую минуту. Затем он рискнул приоткрыть глаза и из-под чуть приподнятых век взглянул на стену в каких-то пяти сантиметрах от собственного шлема. Несколько раз моргнул, выждал, когда высохнут невольные слезы, и не спеша повернул голову…
Зрелище, раскрывшееся перед ним, оказалось немыслимо вынести дольше двух-трех секунд — и веки опять смежились сами собой. Нет, виной тому был не яркий блеск — к нему в конце концов можно было привыкнуть, — а внушающая благоговение перспектива Рамы, впервые представшая перед ними во всей своей полноте.
Кто-кто, а Нортон заведомо знал, чего можно ожидать, и тем не менее открывшийся вид ошеломил его. Тело охватила волна неудержимого трепета, руки судорожно вцепились в перекладины трапа — так утопающий цепляется за спасательный пояс. Мышцы предплечий сразу начали каменеть, а ноги, уже обессиленные многочасовым восхождением, напротив, сделались совершенно ватными. Если бы не малое притяжение, он мог сорваться и упасть.
Потом годы тренировок все же взяли свое, и он прибег к испытанному средству. Не раскрывая глаз и стараясь выбросить из памяти только что виденную невероятную картину, он принялся делать затяжные, глубокие вдохи, чтобы кислород, заполнивший легкие, вынес из организма яд усталости.
Постепенно он почувствовал себя лучше, но не разомкнул век, пока не совершил еще одного необходимого действия. Потребовалось немалое усилие воли, чтобы разжать правую руку, — пришлось уговаривать ее, как непослушное дитя, — но он все-таки отвел руку к животу и, высвободив страховочный пояс, накинул пряжку на ближайшую скобу. Теперь, что бы ни случилось, он уже не сорвется.
Нортон еще раз глубоко вздохнул и, по-прежнему не раскрывая глаз, включил передатчик. Хотелось надеяться, что голос у него звучит спокойно и решительно:
— Говорит капитан. Все ли целы?
По мере того как он называл имена и выслушивал ответы — подчас нетвердо, но ответили все, — к нему возвращалась уверенность в себе, возвращалось самообладание. Люди уцелели, люди рассчитывали, он укажет им, что делать. Он вновь почувствовал себя командиром.
— Закройте глаза и не открывайте их до тех пор, пока не убедитесь, что сумели преодолеть головокружение, — распоряжался он, — Вид безусловно ошеломляющий. И если для кого-то из вас он окажется непереносимым, тогда придется продолжать восхождение не оглядываясь. Напоминаю, что скоро мы попадем в невесомость, следовательно, упасть будет просто невозможно…
Казалось бы, тыкать опытных космонавтов носом в столь элементарную истину нет нужды, но ведь и сам Нортон вынужден был поминутно повторять ее про себя. Мысль о невесомости превратилась в своего рода талисман, охраняющий от бед. Вопреки любым зрительным ощущениям, увлечь их вниз и расплющить о равнину Рама был уже не властен.
Самолюбие, чувство собственною достоинства настоятельно требовали от него вновь открыть глаза и вглядеться в окружающий мир. Но сначала, конечно, следовало обрести контроль над своим телом.
Он заставил себя отпустить трап, а затем локтем левой руки захватил ближайшую скобу. Сжимая и разжимая кисти рук, он дал мышцам расслабиться и наконец, когда новое положение стало для него по-настоящему удобным, неторопливо повернувшись, встретился с Рамой лицом к лицу.
И первое впечатление — синева. Сияние, заполнившее небо, даже по ошибке нельзя было принять за солнечный свет, скорее оно походило на вольтову дугу. «Значит, — сделал вывод Нортон, — собственное солнце Рамы горячее нашего. Астрономов это, несомненно, заинтересует…»
Теперь по крайней мере стало понятным назначение таинственных траншей — Прямой долины и пяти ее близнецов: это были просто-напросто гигантские фонари. Рама располагал шестью линейными солнцами, симметрично размешенными по всей его внутренней поверхности. Каждое из солнц посылало широкий веер лучей на противоположную сторону мира. «Любопытно, — подумал Нортон, — предусмотрена ли здесь возможность попеременного их выключения, чередования света и тьмы, или на Раме отныне воцарился вечный день?..»
Он слишком пристально вглядывался в полосы слепящего света, глаза опять начали слезиться и появился повод, не упрекая себя, прикрыть их снова. И только тогда, почти оправившись от первоначального зрительного шока, он задал себе самый серьезный вопрос.
Кто включил — что включило — эти огни?
Все проверки, даже самые тонкие, доказывали, что этот мир стерилен. Но вот произошло нечто, никак не объяснимое действием естественных сил. Допустим, жизни здесь действительно нет — значит ли это, что нет и сознания? Роботы могли проспать миллионы лет — и проснуться. А может, взрыв света — незапрограммированная, случайная конвульсия, последний предсмертный вздох машин, ответивших наобум на близость новой звезды, и вскоре Рама вновь впадет в спячку, на этот раз навсегда?
Однако Нортон и сам не верил, что объяснение стать примитивно просто. Какие-то кусочки мозаичной головоломки начали вставать на свои места, но многих, слишком многих еще недоставало. Как понять, к примеру, отсутствие всяких признаков старения, печать новизны на всем вокруг, словно Рама только вчера сошел со стапелей?..
Подобные мысли могли бы вызвать испуг, даже ужас, но почему-то ничего похожего не случилось. Напротив, Нортона охватило радостное возбуждение, почти восторг. Этот мир таил в себе открытий куда больше, чем они смели надеяться. «Воображаю, — сказал он себе, — как взовьется Комитет по проблемам Рамы, когда узнает про рассвет!»
Затем он спокойно и решительно вновь открыл глаза и принялся инвентаризировать все, что видел.
Прежде всего следовало выработать какую-то систему координат. Перед ним лежало величайшее замкнутое пространство, какое когда-либо видел человек, и, чтобы не затеряться в нем, нужен был хотя бы умозрительный план.
Рассчитывать на помощь едва ощутимого притяжения не приходилось: Нортон мог представить себе «верх» и «низ» почти в любом желаемом направлении. Однако иные из представлений оказывались психологически опасными, и, едва они приходили на ум, он должен был стремительно гнать их прочь.
Всего безопаснее было бы вообразить себе, что они находятся в лонной чаше исполинского колодца шестнадцати километров в ширину и пятидесяти в глубину. Такой угол зрения имел то преимущество, что начисто устранял страх падения, но в то же время не был лишен серьезных недостатков.
Удавалось как-то уговорить себя, что разбросанные там и сям «города» и «поселки», по-разному окрашенные и устроенные, надежно прикреплены к нависающим со всех сторон стенам. Сложные сооружения, едва различимые на куполе над головой, смущали Нортона, в сущности, не больше, чем какая-нибудь подвесная люстра в одном из гигантских концертных залов Земли. По-настоящему неприемлемым оставалось лишь Цилиндрическое море.
Вот оно — лента воды, опоясывающая шахту колодца и сцепленная с ней непонятно как… И ведь нет даже тени сомнения, что это вода, именно вода, ярко-синяя, с искристыми блестками недотаявших льдин. Однако вертикальное море, образующее полный круг на двадцатикилометровой высоте, — зрелище настолько поразительное, что спустя какой-то миг пришлось искать ему иное объяснение.
Нортон решил мысленно повернуть картину на девяносто градусов. В мгновение ока глубокий колодец превратился в длинный, перекрытый с обоих концов тоннель. «Вниз» — это теперь означало, разумеется, вниз по трапу и лестнице, по которым он только что поднялся; теперь, под таким углом зрения, Нортон, пожалуй, мог по достоинству оценить замысел архитекторов — создателей этого мира.
Он приник к поверхности изогнутого шестнадцатикилометрового утеса, верхняя половина которого нависла над головой, постепенно смыкаясь с арочным сводом, перевоплотившимся ныне в небо. Из-под ног уходил трап, через полкилометра с лишним обрывавшийся на первом уступе-террасе. Затем начиналась лестница, вначале тоже почти вертикальная, но по мере нарастания гравитации все менее и менее крутая; пять разрывов дуги — пять площадок, и наконец где-то вдали она достигала равнины. На протяжении двух-трех километров различались отдельные ступени, потом они сливались в сплошную полосу.
Устремленная вниз лестница была столь грандиозна, что оценить истинную ее протяженность оказывалось выше сил человеческих. Нортону случилось однажды облететь вокруг Эвереста, и его поразили тогда размеры горы. Сейчас он напомнил себе, что по высоте лестница соперничает с Гималаями, но сравнение оказалось лишенным смысла.
И уж вовсе ни в какое сравнение с чем-либо земным не шли две другие лестницы, Бета и Гамма, уходящие вкось в небо и изгибающиеся над головой. Нортон уже вполне набрался храбрости для того, чтобы, слегка откинувшись, бросить взгляд в ту сторону — ровно на миг. И тут же постарался стереть увиденное из памяти.
Стереть, потому что раздумья на эту тему не могли не вызвать к жизни третье возможное представление о Раме, то, какого он хотел избежать любой ценой. Представление о вертикальном цилиндре или шахте, но с той разницей, что сам он находится не на дне ее, а наверху и ползет как муха под куполом, а внизу разверзается пятидесятикилометровая бездна. Едва в сознание закрадывался подобный образ, как от Нортона требовалась вся сила его воли, чтобы в безотчетной панике не вцепиться в трап.
Со временем, разумеется, эти страхи поблекнут. Чудеса Рамы с лихвой искупят несколько кошмарных минут, по крайней мере для людей, встречавшихся лицом к лицу с космосом. Может, те, кто никогда не покидал Земли, не оставался наедине со звездами, и не сумели бы вынести такого зрелища. «Но если хоть одна живая душа способна приноровиться к нему, — заметил себе Нортон с мрачной решимостью, — то пусть это будут капитан и команда «Индевора»…»
Он посмотрел на свой хронометр. Пауза длилась максимум две минуты, а показалось — полжизни. С трудом собрав достаточно сил, чтобы преодолеть инерцию и мизерное гравитационное поле, он принялся медленно подтягиваться по последним прогонам трапа. Перед тем как войти в воздушный шлюз, он окинул перспективу еще одним беглым взглядом.
За какие-то пять истекших минут она снова изменилась — с моря поднимался туман. Прозрачные белые столбы резко кренились в направлении вращения Рамы, чтобы через несколько сот метров расплыться, закрутившись в смерчи: устремившийся вверх воздух пытался погасить избыточную скорость. Пассаты Цилиндрического моря принялись рисовать свои автографы в его небе; надвигался первый за неисчислимые столетия тропический шторм.
19 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ С МЕРКУРИЯ
Впервые за несколько недель Комитет по проблемам Рамы прибыл на заседание — очно и заочно — в полном составе. Профессора Соломонса извлекли со дна Тихого океана, где он изучал добычу руды в глубоководных шахтах. И вновь объявился — в стереоварианте — доктор Тейлор. Удивляться этому не приходилось: ведь события развивались так, что возродили надежды найти на Раме что-нибудь посенсационнее мертвых технических безделушек.
Председатель, в сущности, не сомневался, что Карлайл Перера сегодня будет еще более непререкаем и напорист, чем обычно, — еще бы, его прогнозы раманских ураганов подтвердились! Но, к великому удивлению собравшихся, Перера вел себя исключительно тихо и принимал поздравления коллег с видом настолько близким к смущению, насколько это вообще было для него возможно.
По правде сказать, экзобиолог чувствовал себя глубоко униженным. Тот факт, что Цилиндрическое море вскроется, и весьма эффектно, представлялся теперь еще более непреложным, чем ураганные ветры, — а он это начисто проморгал. Сообразить, что нагретый воздух поднимется вверх, и забыть, что лед, превратившись в воду, уменьшится в объеме, — подобным подвигом вряд ли стоило гордиться.
Впрочем, доктору Перере не требовалось много времени, чтобы обрести свою привычную самоуверенность. Но когда председатель предоставил ему слово и спросил, какие еще климатические перемены ожидаются в ближайшем будущем, Перера заговорил, взвешивая каждое слово.
— Следует помнить, — заявил он, — что метеорология мира столь необычного, как Рама, способна преподнести нам немало новых сюрпризов. Однако, если мои вычисления верны, штормов больше не будет и условия стабилизируются. Температура будет повышаться вплоть до перигелия, а возможно, и дольше, но это не должно беспокоить нас, поскольку «Индевору» задолго до того придется уйти…
— Значит, люди вскоре смогут вернуться внутрь?
— Мм… вероятно. Через двое суток узнаем наверняка.
— Возвращение совершенно необходимо, — вмешался представитель Меркурия. — Мы должны выведать о Раме все, что только возможно. Ситуация кардинальным образом изменилась…
— Кажется, Мы догадываемся, что именно вы имеете в виду, и тем не менее соблаговолите пояснить…
— С удовольствием. До сих пор мы полагали, что Рама необитаем или, точнее, никем не контролируется. Но теперь мы не вправе более себя обманывать. Даже если на борту нет живых существ как таковых, кораблем могут управлять роботы, запрограммированные для выполнения определенной миссии, и, не исключено, весьма неблагоприятной для нас. Как ни прискорбно, мы должны принять во внимание требования самозащиты.
Поднялся хор протестующих голосов, и председателю пришлось поднять руку, чтобы восстановить порядок.
— Позвольте его превосходительству закончить! — провозгласил он. — Нравится нам эта идея или нет, но отнестись к ней следует серьезно…
— При всем моем уважении к делегату Меркурия, — произнес Конрад Тейлор тоном крайнего пренебрежения, — мы можем смело отмести все и всяческие домыслы о злокозненной интервенции. Существа, столь цивилизованные, как рамане, должны иметь соответственно развитую мораль. В противном случае они давно уничтожили бы сами себя, как мы едва не уничтожили себя в XX веке. Я с полной ясностью доказал это положение в своей недавно вышедшей книге «Характеры и космос». Надеюсь, вы получили дарственный экземпляр?..
— Получил, благодарю вас, хотя, к сожалению, перегруженность другими делами не позволила мне пока продвинуться дальше предисловия. Тем не менее я вполне знаком с общей концепцией. У нас, к примеру, может вовсе не быть злокозненных намерений по отношению к муравейнику. Ну, а если мы хотим построить дом как раз на том же месте?..
— Но это ничуть не лучше ящика Пандоры! Это уж, простите, какая-то межзвездная ксенофобия!..
— Господа, господа! Так мы с вами ничего не добьемся. Ваше превосходительство, вы можете продолжать…
И председатель сквозь триста восемьдесят тысяч километров пустоты устремил гневный взгляд на Тейлора; тот неохотно стих, подобно вулкану, выжидающему своего часа.
— Спасибо, — поблагодарил меркурианин. — Угроза, быть может, и маловероятна, но там, где на карту поставлено будущее человечества, мы не вправе допускать никакого риска. И, да будет мне позволено сказать, нас, меркуриан, это касается в особенности. У нас оснований для тревоги, пожалуй, больше, чем у кого-либо другого.
Доктор Тейлор отчетливо фыркнул, за что опять удостоился гневного взгляда с Луны.
— Почему же больше? — спросил председатель. — А остальные планеты разве не в счет?
— Рассмотрим ситуацию в динамическом развитии. Рама уже пересек нашу орбиту. Предполагается, что он обогнет Солнце и вновь устремится в пространство. Но это только предполагается, а что, если он решит притормозить? Если тормозной маневр намечен, то произойдет он в перигелии, примерно через тридцать дней. Ученые моей планеты сообщили мне, что при соответствующем изменении скорости Рама выйдет на круговую орбиту в двадцати пяти миллионах километров от Солнца. Заняв такую позицию, он будет господствовать над всей Солнечной системой.
Довольно долго никто, даже Конрад Тейлор, не проронил ни слова. Члены комитета предались тяжким думам об этом несносном племени меркуриан, достойно представленном здесь их полномочным послом.
Большинству людей Меркурий мыслился довольно точной копией ада — до сих пор, во всяком случае, никто не встречал чего-нибудь похлеще. Однако сами меркуриане гордились своей причудливой планетой с ее днями, более долгими, чем годы, с ее двойными восходами и закатами и реками расплавленного металла. В сравнении с Меркурием, Луна и Марс казались совершенной обыденщиной. Разве только на Венере (если высадка там вообще когда-нибудь произойдет) встретит человек окружение более враждебное, чем природа Меркурия.
И тем не менее эта планета во многих отношениях была ключом к Солнечной системе. Ретроспективно такая оценка представлялась вполне очевидной, хотя прошло почти сто лет космической эры, прежде чем люди уяснили себе это. Зато впоследствии меркуриане никому не позволяли забыть о своем могуществе.
Задолго до того, как человек добрался до Меркурия, поразительная плотность этой планеты наводила на мысль о присутствии там тяжелых элементов, но реально разведанные богатства повергли человечество в изумление и на тысячу лет отогнали призрак истощения залежей металлов, жизненно важных для цивилизации. И подумать только, что эти сокровища облюбовали себе место, наилучшее из всех возможных, там, куда Солнце посылает энергию вдесятеро щедрее, чем на стылую Землю!
Неограниченное потребление энергии — неограниченное производство металла. Таков был Меркурий. Его гигантские магнитные катапульты могли перебросить добытую руду в любую точку Солнечной системы. Предметом меркурианского экспорта являлась и энергия в форме искусственных трансурановых изотопов или просто в виде излучения. Предлагалось, например, установить на Меркурии лазеры, чтобы в един прекрасный день растопить льды Юпитера, но эту идею не очень-то приветствовали на других мирах. Технику, способную подогреть Юпитер, слишком легко было бы использовать для прямого межпланетного шантажа.
То, что люди не постеснялись высказать подобные опасения, красноречиво свидетельствовало об истинном отношении человечества к меркурианам. Их уважали за выносливость и инженерное искусство, восхищались упорством, с каким они завоевывали свой грозный мир. Но их не любили и тем более им не слишком доверяли.
И в то же время понять точку зрения меркуриан было, в общем, не сложно. Жители других планет шутили, что меркуриане подчас ведут себя так, словно Солнце — их личная собственность. Они связали себя с Солнцем своеобразными отношениями любви-ненависти: так викинги были некогда связаны с морем, непальцы с Гималаями, эскимосы с тундрой. Они испытали бы истинное горе, если бы что-то встало между ними и могущественной силой, которая повелевала их жизнью и направляла ее.
В конце концов молчание нарушил не кто иной, как сам председатель. Он все еще не забыл горячего солнца Индии, так что о солнце Меркурия не мог и подумать без дрожи. Правда, он считал меркуриан неотесанными техническими варварами, но к их заявлениям всегда относился всерьез.
— На мой взгляд, господин посол, ваши доводы достаточно вески, — вдумчиво сказал он. — Есть у вас какие-нибудь конкретные предложения?
— Да, сэр. Прежде чем мы решим, что следует предпринять, мы должны собрать факты. Мы знаем географию Рамы — если применять этот спорный термин, — но не имеем ни малейшего представления о конструктивных возможностях корабля. И главным из всех вопросов представляется один: есть ли на Раме двигатель? Может ли он изменить орбиту? Хотелось бы слышать, что думает по этому поводу доктор Перера.
— Я немало размышлял на этот счет, — ответил экзобиолог. — Конечно, начальное ускорение Раме придало какое-то двигательное устройство, но ведь оно могло действовать и извне. Что касается бортовых двигателей, то мы не обнаружили ничего похожего на них. С уверенностью можно сказать, что там нет и следа ракетных дюз или чего-нибудь хотя бы отдаленно их напоминающего…
— Дюзы нетрудно замаскировать…
— Верно, только зачем? И потом, где баки с горючим, где энергетические установки? Корпус сплошной — мы обследовали его сейсмически. Пустоты, обнаруженные в северном торце, полностью совпадают с системой воздушных шлюзов.
Значит, остается южный торец, куда капитан Нортон не сумел пока добраться из-за десятикилометровой водной преграды. Вы видели фотографии — там, на юге, расположено множество странных механизмов и сооружений. Что это такое, можно только гадать.
Но я довольно твердо уверен в одном. Если на Раме есть двигатель, то основан он на принципе, нам пока совершенно неизвестном. Может, раманам удалось сконструировать мифический гипердвигатель, о котором люди мечтают вот уже двести лет…
— Следовательно, это не исключается?
— Ну, разумеется, нет! Если бы нам удалось доказать, что на Раме установлен гипердвигатель — даже если бы мы совсем не разобрались в способе его действия, — это было бы открытием величайшего значения. По крайней мере мы установили бы, что гипердвигатель принципиально возможен…
— Но что это за штука — гипердвигатель? — уныло спросил представитель Земли.
— Любой двигатель, сэр Роберт, любой космический двигатель, созданный не на принципе реактивной тяги. Антигравитационный, например, если таковой существует. В настоящее время мы даже не представляем себе, в какой области науки искать такое устройство, и большинство ученых считают, что его вообще не найти…
— Разумеется, не найти, — вмешался профессор Дэвидсон. — Это установлено еще Ньютоном. Каждому действию равно противодействие. Гипердвигатель — чепуха. Поверьте моему слову…
— Не исключено, что вы правы, — откликнулся Перера с необычной для себя вежливостью, — Но если на Раме нет гипердвигателя, то и никакого другого двигателя тоже нет. Там просто не хватит места для традиционных силовых установок с их необъятными топливными баками.
— Трудно себе представить, что целый мир можно разгонять и тормозить, — заявил Деннис Соломоне — А что при этом произойдет со всем его содержимым? Каждый предмет придется привинчивать к полу. Слишком неудобно…
— Видите ли, ускорение может быть совсем небольшим. Непонятно одно — что станет с Цилиндрическим морем. Как прикажете удержать на месте массу воды?..
Перера неожиданно запнулся на полуслове, глаза его остекленели. Казалось, его вот-вот хватит апоплексический удар. Коллеги встревоженно уставились на него, но ученый так же внезапно оправился, грохнул кулаком по столу и воскликнул:
— Ну конечно! Вот вам и объяснение! Южный утес — теперь все понятно!
— Только не мне, — проворчал представитель Луны, выражая, по-видимому, мнение всех присутствующих дипломатов.
— Взгляните на Раму в продольном сечении, — возбужденно продолжал Перера, развертывая чертеж. — Есть у вас такие схемы? Цилиндрическое море замкнуто между двумя утесами, опоясывающими его поверхность вкруговую. Утес на северном берегу поднимается в высоту всего на пятьдесят метров. А на противоположном, южном, берегу — без малого на полкилометра. Во имя чего такая огромная разница? До сих пор по этому поводу никто не высказал никакой разумной гипотезы.
Но допустим, что Рама действительно способен набирать скорость, двигаясь северным концом вперед. Вода устремится назад, уровень ее у южного берега поднимется, быть может, на сотни метров. Отсюда и утес. Ну-ка, прикинем…
Перера принялся яростно царапать карандашом по бумаге. Пауза была удивительно короткой — спустя какие-то двадцать секунд он поднял глаза с победной улыбкой.
— Зная высоту обоих утесов, можно вычислить максимальное ускорение, на какое рассчитан Рама. Если оно будет больше двух процентов, море выплеснется на южный континент.
— Одна пятидесятая g? Не слишком много…
— Напротив, очень много, если принять во внимание массу в десять миллионов мегатонн. И в то же время вполне достаточно для маневрирования в космосе…
— Большое спасибо, доктор Перера, — заявил представитель Меркурия, — Вы дали нам немалую пищу для размышлений. Господин председатель, нельзя ли внушить капитану Нортону, что нам представляется совершенно необходимым обследовать район Южного полюса?
— Он делает все, что может. Бесспорно, море — серьезное препятствие. Они пытаются соорудить какое-то подобие плота, чтобы побывать по крайней мере в Нью-Йорке…
— Южный полюс, видимо, еще важнее. Ставлю вас в известность, что я намерен вынести данный вопрос на рассмотрение Генеральной ассамблеи. Одобряете ли вы такой шаг?..
Возражений не последовало даже со стороны доктора Тейлора. Члены комитета, присутствующие заочно, собирались уже прервать связь, но тут руку поднял сэр Льюис.
Старый историк выступал очень редко, и уж если выступал, то его следовало послушать.
— Предположим, мы выясним, что Рама… мм… продолжает жить и способен маневрировать. Даже военные — и те давным-давно поняли, что способность напасть и намерение напасть — вещи совершенно разные…
— И сколько мы, по-вашему, должны ждать, чтобы убедиться в намерениях раман? — спросил меркурианин. — Когда мы точно узнаем, каковы их намерения, будет слишком поздно.
— Уже слишком поздно. Можем мы как-нибудь повлиять на Раму? Нет, не можем. Да, наверное, и никогда не могли.
— Я не согласен с вашим утверждением, сэр Льюис. Мы можем сделать многое, если понадобится. Хотя времени у нас осталось отчаянно мало. Рама — словно яйцо, где сидит космический птенец неизвестной породы. Солнечные лучи отогрели его, и теперь птенец готов вылупиться в любой момент.
Председатель комитета вперил в посланца Меркурия взгляд, исполненный чистосердечного изумления. Он никак не предполагал, что меркурианин способен подняться до столь поэтических сравнений.
20 ОТКРОВЕНИЕ
Когда кто-нибудь из экипажа обращался к нему «командир» или, того хуже, «мистер Нортон» — это всегда означало, что затевается нечто нешуточное. А чтобы Борис Родриго титуловал его подобным образом — такого Нортон вообще не мот припомнить; значит, дело было серьезным вдвойне. Даже в самые тяжелые минуты лейтенант Родриго неизменно отличался выдержкой и рассудительностью.
— Что стряслось, Борис? — спросил капитан, едва за ними закрылась дверь каюты.
— Прошу вашего разрешения, командир, на внеочередную передачу непосредственно на Землю.
Это было несколько необычно, но не беспрецедентно. Повседневная связь шла через ретрансляторы ближайшей планеты — в настоящее время через Меркурий, — и хотя радиоволны находились в пути лишь несколько минут, иной раз требовалось пять, а то и шесть часов, чтобы сообщение достигло адресата. Как правило, такая скорость всех вполне устраивала, но в случае острой необходимости ценою значительно больших затрат под ответственность капитана можно было использовать и каналы прямой связи.
— Вы, конечно, понимаете, что подобную просьбу следует обосновать. Все доступные полосы частот забиты отчетами наших исследовательских групп. Что у вас, какое-то личное несчастье?
— Нет, командир. Мое дело гораздо важнее. Я хотел бы направить послание братьям по вере.
«Ну и ну! — воскликнул про себя Нортон. — Вот это казус!..»
— Пожалуйста, объясните подробнее.
Просьба Нортона была продиктована не только любопытством, хотя и это, разумеется, имело место. Если бы он пошел Борису навстречу, ему пришлось бы оправдывать свое решение перед начальством.
На капитана смотрели спокойные голубые глаза. Он не помнил случая, чтобы Борис хоть когда-нибудь потерял контроль над собой, хоть на секунду изменил незыблемой убежденности в собственной правоте. И все единоверцы Бориса были в этом смысле одинаковы — именно полный самоконтроль и делал из них образцовых тружеников космоса. Но их не ведающая сомнений самоуверенность, признаться, подчас раздражала остальных нечестивцев, не удостоенных божественного откровения.
— Речь идет о назначении Рамы. Мне кажется, командир, что я разгадал его.
— Продолжайте.
— Вдумайтесь в ситуацию. Перед нами мир, совершенно пустой и безжизненный и тем не менее приспособленный для человеческих существ. Здесь есть вода и атмосфера, пригодная для дыхания. Прибыл Рама из отдаленнейших глубин пространства, но был совершенно точно нацелен на Солнечную систему, настолько точно, что всякие случайности тут исключены. И он не просто выглядит новым — похоже, что им вообще никогда не пользовались…
«Но мы же толковали об этом десятки раз, — подумал Нортон. — Что особенного он может мне сказать?..»
— Наша вера учила нас, что надо ждать подобного посещения, хоть мы и не знали, какой именно цели оно послужит. Библия содержит лишь намеки. Но если это не второе пришествие, тогда предвестие второй — после потопа — великой кары. И я полагаю, что Рама — космический ковчег, ниспосланный, дабы спасти тех, кто достоин спасения.
На мгновение в капитанской каюте воцарилась тишина. Не то чтобы Нортон утратил дар речи, скорее всего у него одновременно возникло слишком много вопросов и он не знал, с которого начать. Наконец со всей возможной мягкостью и дипломатичностью он произнес:
— Весьма интересная концепция. И, хоть я и не разделяю вашей веры, соблазнительно логичная…
Нортон не лицемерил и не преувеличивал: теория Родриго, если освободить ее от религиозной окраски, была не менее убедительной, чем полдюжины выслушанных им прежде. Допустим, в Солнечной системе должна в ближайшем будущем разразиться катастрофа, и некая разумная раса, далеко обогнавшая в своем развитии человечество, предугадала ее. Это объяснило бы все самым прекрасным образом. Впрочем, нет, кое-какие неясности все равно остались бы…
— Разрешите, однако, спросить вас вот о чем. Через три недели Рама достигнет перигелия и, обогнув Солнце, покинет Солнечную систему так же стремительно, как и появился в ней. Не кажется ли вам, что для страшного суда, а тем более для того, чтобы транспортировать на ковчег… гм… избранных — опускаю технические трудности — уже не остается времени?
— Совершенно справедливо. Достигнув перигелия, Рама сбавит скорость и перейдет на стационарную орбиту с афелием примерно в районе Земли. Еще один тормозной маневр — ~ и корабль подойдет к нашей планете вплотную.
Все это звучало настолько веско, что Нортону стало не по себе. Если Рама действительно пожелает остаться в Солнечной системе, Борис Родриго описал самый рациональный путь к цели: подойти к Солнцу на минимальное расстояние и выполнить тормозной маневр именно там. Если в теории космохристианина и во всевозможных ее вариантах есть хоть капля истины, это станет известно скоро, очень скоро…
— Еще один вопрос. Какая сила управляет Рамой?
— На этот счет у меня еще не сложилось окончательного мнения. Может быть, просто робот. А может быть — дух. Оба толкования вполне объясняют отсутствие следов биологической жизни…
«Призраки на астероиде» — почему из глубин памяти вдруг всплыла эта фраза? Потом капитану вспомнился дурацкий рассказ, читанный многие годы назад; не стоило, наверное, и спрашивать, попадался ли он когда-нибудь Борису. Сомнительно, чтобы вкусы Родриго позволяли ему снисходить до литературы такого сорта.
— Вот что сделаем, Борис, — сказал Нортон, круто меняя тон разговора. Он решил прекратить аудиенцию, пока Бориса не занесло слишком далеко, и, кажется, нашел приличный компромисс. — Сумеете вы изложить идею в пределах тысячи битов?
— Думаю, что да.
— Тогда оформите ее в виде научной гипотезы, и я пошлю внеочередную радиограмму в адрес Комитета по проблемам Рамы. Копию можете направить своим единоверцам, и да будут они счастливы.
— Спасибо, командир. Поверьте, я ценю вашу доброту.
— Только не воображайте, что я сделал это, дабы спасти свою душу. Просто мне интересно подразнить мудрецов из комитета. Я отнюдь не согласен с вашей логикой, но вдруг им удастся выудить из нее что-нибудь действительно важное?
— Доживем до перигелия — увидим.
— Вот именно. Доживем до перигелия…
Как только Борис Родриго ушел, Нортон позвонил в рубку и отдал необходимые распоряжения. Надо полагать, из положения он выпутался неплохо — и потом, что, если Борис хоть чуточку прав?
Недурно было бы затесаться в число избранных.
21 ПОСЛЕ ШТОРМА
Пробираясь по знакомому коридору шлюзового комплекса Альфа, Нортон думал: «Не поторопились ли мы? Проявили ли должную осторожность?..» Готовые при первой опасности к немедленному старту, они выждали на борту «Индевора» сорок восемь часов — драгоценные двое суток. Но за это время ровным счетом ничего не случилось, приборы, оставленные внутри Рамы, не обнаруживали никаких необычных явлений. А телекамера, к величайшему их сожалению, ослепла из-за тумана, который снизил видимость буквально до пяти метров и лишь недавно начал рассеиваться.
Когда они справились с последним поворотным шлюзом и выплыли в паутину канатов, Нортона поразила прежде всего перемена в освещении. Оно утратило резкую голубизну, стало мягче, приятнее и напоминало теперь марево над земными просторами в ясный день.
Бросив взгляд вдоль оси, он увидел лишь сверкающий белый тоннель с размытыми сводами, простирающийся вплоть до диковинных гор Южного полюса. Внутренняя поверхность Рамы была сплошь затянута облаками — нигде ни малейшей прогалинки. Верхняя их граница, обозначенная очень четко, и формировала этот тоннель, цилиндр внутри цилиндра, много более узкий — пять-шесть километров в поперечнике — и совершенно чистый, исключение составляли лишь отдельные заблудившиеся перистые облачка.
Исполинскую облачную трубу подсвечивали со всех сторон шесть искусственных солнц Рамы. Местоположение тех трех, которые горели на ближнем, Северном континенте, угадывалось по расплывчатым светлым полосам, но по ту сторону Цилиндрического моря полосы сливались в беспрерывное круговое сияние.
«Что там, под облаками? — спросил себя Нортон, — Надо думать, шторм, раскрутивший облачные покровы до полной симметрии по отношению к оси, теперь угас. Может, Рама заготовил и другие сюрпризы, но, не спустившись вниз, о них и не узнаешь…»
Казалось целесообразным послать сейчас в разведывательный поход ту же группу, которая первой дерзнула проникнуть в тайны Рамы. Тем паче что сержант Майрон, как и все другие члены экипажа, теперь полностью удовлетворял требованиям корабельного врача; он даже с подкупающим простодушием утверждал, что того и гляди вывалится из старого обмундирования.
Наблюдая за Мерсером, Колвертом и Майроном, быстро и умело «плывущими» вниз по трапу, Нортон отмечал про себя происшедшие здесь, на Раме, перемены. Тогда они спускались среди тьмы и стужи, теперь двигались навстречу свету и теплу. И еще: во всех прежних экспедициях они пребывали в уверенности, что Рама мертв. В биологическом смысле это, видимо, оставалось справедливым и сейчас. Но что-то здесь неуловимо изменилось, и идея Бориса Родриго объясняла суть перемен не хуже, чем любая другая. Дух Рамы ожил.
Когда они достигли площадки у основания трапа и уже собирались начать спуск, Мерсер провел стандартную проверку атмосферы. Состав воздуха принадлежал к числу данных, которые он никогда не принимал на веру: люди вокруг могли ничтоже сумняшеся дышать без кислородных масок, а Мерсер все равно не снял бы шлема, не сделав соответствующих измерений. Если его спрашивали, не мнительность ли это, он отвечал:
— Наши ощущения — ненадежная штука. Вам кажется, что все в порядке, а может статься, еще один вдох — и протянете ноги…
На сей раз он взглянул на шкалу и буркнул:
— Черт!..
— В чем дело? — осведомился Колверт.
— Анализатор вышел из строя и показывает несусветно много. Странно — я и не слышал, чтобы он когда-нибудь портился. Ну-ка, проверим его на наших кислородных баллонах…
Он подключил миниатюрный анализатор к вентилю трубки, подающей кислород в скафандр, и застыл в недоуменном молчании. Товарищи следили за ним озабоченно и даже тревожно: если Карлу что-то не нравилось, к этому следовало отнестись со всей серьезностью. Затем Мерсер отключил анализатор от своего скафандра, вновь опробовал им воздух Рамы и, наконец, вызвал капитана:
— Шкипер! Посмотрите, пожалуйста, на свой прибор. Каков у вас процент молекулярного кислорода?
Последовала пауза — слишком долгая для ответа на такую просьбу. Затем Нортон радировал:
— Кажется, анализатор приказал долго жить.
Лицо Мерсера медленно расплылось в улыбке.
— Показывает пятьдесят с таком?
— Точно, но что это значит?
— Это значит, что можно обойтись совсем без масок. Замечательно, не правда ли?
— Н-не знаю, — откликнулся Нортон, уловив сарказм в голосе помощника. — Слишком уж замечательно, чтобы спешить с выводами…
Говорить дальше не было нужды. Как все космонавты, капитан Нортон не испытывал особого доверия к явлениям, внешне слишком заманчивым.
Мерсер отстегнул защелку лицевой маски, приподнял ее и принюхался. Впервые на такой высоте воздух казался бесспорно годным для дыхания. Затхлый, мертвенный привкус исчез, исчезла и излишняя сухость, от которой першило в горле. Влажность достигла поразительной цифры — восьмидесяти процентов; это несомненно явилось следствием таяния моря. Пожалуй, теперь даже слегка парило, но духоты не ощущалось. «Словно к вечеру на побережье в тропиках», — подумал Мерсер. Климат Рамы за последние несколько дней решительно изменился к лучшему…
Но почему, почему? Возросшая влажность тайны не составляла, а вот объяснить резкий кислородный взлет было значительно труднее. Возобновив спуск, Мерсер проделал в уме целую серию вычислений, но удовлетворительного решения так и не нашел.
Когда они добрались до облачного слоя, переход совершился почти мгновенно. Только что они скользили в полной прозрачности, придерживаясь за гладкий металл поручня, чтобы не разогнаться, — тяготение достигло в этом районе четверти g — как вдруг окунулись в вязкий белый туман; видимость упала до нескольких метров. Мерсер затормозил так резко, что Колверт едва не налетел на него, а Майрон налетел-таки на Колверта, чуть не сбив того с перил.
— Спокойнее, — сказал Мерсер. — Подтянитесь поближе, чтобы не терять друг друга из виду. И не увлекайтесь скоростью на случай, если мне придется притормозить снова…
Спуск в облаках продолжался в жутковатом безмолвии. Колверт едва различал Мерсера, маячившего смутной тенью в десяти метрах под ним, на таком же расстоянии сзади виднелся Майрон. Пожалуй, это было даже каверзнее, чем спуск в абсолютной тьме рамановской ночи: тогда по крайней мере лучи фонариков высвечивали хоть что-то вокруг. А теперь они словно ныряли в открытом океане да еще при нулевом обзоре.
Нельзя было даже угадать, далеко ли они продвинулись, — Колверт полагал, что почти до четвертого уровня, как вдруг Мерсер опять остановился. Они сгрудились вместе, и Мерсер прошептал:
— Прислушайтесь! Вы ничего не улавливаете?
— Что-то есть, — отозвался Майрон после долгой паузы, — Вроде ветер шумит…
Колверту это отнюдь не представлялось очевидным. Он покрутил головой, пытаясь определить, в какой стороне находится источник слабого шороха, долетавшего до них сквозь туман, однако все попытки пришлось оставить из-за полной их безнадежности.
Они скользили дальше и дальше, достигли четвертой площадки и снова тронулись в путь. Звук непрестанно усиливался, становясь назойливо знакомым. Они уже одолели почти половину четвертой лестницы, когда Майрон воскликнул:
— Ну, а теперь-то вы узнаете?..
Они опознали бы этот шум давным-давно, но он принадлежал к числу тех звуков, которые не отождествлялись ни с каким другим миром, кроме Земли. Откуда-то из тумана — то ли издалека, то ли с близкого расстояния, не угадаешь, до них доносился устойчивый шум падающей воды.
Через две-три минуты облачный покров оборвался так же неожиданно, как и начался. Они вновь очутились среди слепящего блеска раманского дня, еще более яркого благодаря нависшим над головами облакам. Под ними привычно изгибалась равнина, однако сейчас ее изгиб принять было много легче — ведь полная окружность теперь не просматривалась. Не составляло труда притвориться, что видишь широкую долину, а берег моря изгибается отнюдь ие вверх, а вдаль.
На пятой, предпоследней площадке они задержались, чтобы доложить по радио, что облачный слой пройден, а заодно провести тщательный осмотр местности. Насколько они могли судить, на равнине ничто не изменилось, зато здесь, под Северным куполом. Рама породила новое чудо.
Так вот где таился источник звука! Километрах в четырех от них из какого-то скрытого за облаками источника низвергался водопад; несколько долгих минут они молча взирали на него, не в силах поверить собственным глазам. Логика подсказывала им, что в этом вращающемся мире ни одно свободно падающее тело не движется по прямой, но слишком уж неестественное, чудовищно неестественное впечатление производил водопад, который, выгнувшись по параболе, уходил на много километров в сторону от места, где должен был закончиться по земным представлениям.
— Родись Галилей здесь, на Раме, — заявил Мерсер наконец, — он неминуемо сошел бы с ума, пытаясь сформулировать законы динамики…
— Уж я-то думал, что знаю их, — перебил Колверт, — и то, кажется, вот-вот рехнусь. А вас, профессор, это зрелище не смущает?
— Нисколько, — ответил сержант Майрон. — Превосходная демонстрация эффекта Кориолиса. Жаль, что я не могу показать этот водопад своим студентам…
Мерсер в задумчивости перевел взгляд на опоясавшую мир ленту Цилиндрического моря.
— Обратили вы внимание, как оно изменилось?
— Как не обратить — море больше не синее, а скорее травянисто-зеленое. Что бы это значило?
— Вероятно, то же, что и на Земле. Лаура говорила, что море — органический суп, перемешайте его — и он пробудится к жизни. Именно это, видимо, и произошло.
— За какие-то два дня? На Земле это заняло миллионы лет.
— Триста семьдесят пять миллионов, согласно новейшим данным. Вот откуда, значит, берется кислород… Рама стремглав промчался сквозь анаэробную стадию к фотосинтезу — и все за сорок восемь часов. Что-то он готовит нам завтра?..
22 ЧТОБЫ МОРЕ ПЕРЕПЛЫТЬ
Добравшись до подножия лестницы, они пережили новое потрясение. В первый момент им показалось, что в их отсутствие кто-то обыскал лагерь, переворошив все снаряжение, а предметы помельче подобрал и унес. Но стоило присмотреться, как на смену тревоге пришла досада на самих себя.
Виновником беспорядка оказался просто-напросто ветер; хотя они перед уходом и привязали все, что не было упаковано, часть веревок, по-видимому, не выдержала напора урагана. Еще несколько дней им попадались собственные пожитки, разбросанные по равнине.
Других серьезных перемен они не обнаружили. После скоротечных весенних штормов на Раме вновь воцарилась тишина. А у края равнины спокойное море готовилось принять первый за миллионы лет корабль.
— Полагалось бы разбить о борт нового судна бутылку шампанского…
— Даже если на «Индеворе» и нашлось бы шампанское, я ни за что не допустил бы подобного мотовства. Да, пожалуй, и поздновато; на воду-то мы его уже спустили…
— На плаву оно, во всяком случае, держится. Ты выиграл пари, Джимми. Расплачусь, когда вернемся на Землю…
— Надо дать нашей посудине какое-то имя. У кого есть предложения?..
Объект всех этих не слишком лестных комментариев покачивался у лесенки, исчезающей под водой. Это был небольшой плот, который составили из шести пустых складских ящиков, связанных легким металлическим каркасом. Экипажу потребовалось несколько дней, чтобы построить плот, собрать его в лагере Альфа, а затем транспортировать волоком по равнине. И вот настал час решающего испытания.
Игра стоила свеч. Загадочные башни Нью-Йорка, блистающие в лучах незакатных солнц в каких-то пяти километрах, дразнили людей с тех самых пор, как те впервые проникли в пределы Рамы. Никто не сомневался, что город — чем бы он ни оказался вблизи — представляет собой сердце этого мира. Может, им и не удастся ничего добиться, но достигнуть Нью-Йорка они обязаны.
— А корыто наше до сих пор без имени. Ваше мнение, шкипер?
Нортон рассмеялся — и вдруг стал очень серьезным.
— Имя есть. Назовем его «Резолюшн».
— С какой стати?
— Так назывался один из кораблей Кука. Это славное имя — да будет наш плот достоин его[14].
Воцарилось молчание; потом сержант Барнс, давно уже назначенная ответственной за это предприятие, вызвала трех добровольцев. Подняли руку все, кто был рядом на берегу.
— К сожалению, у нас лишь четыре спасательных жилета. Борис, Джимми, Питер, вам троим доводилось плавать и раньше. Назначаю вас испытателями.
Никто из присутствующих ни в малой мере не удивился тому, что Руби Барнс сейчас взяла командование на себя. Руби, единственная из всего экипажа, была дипломированным моряком дальнего плавания — это и решило дело. Она проводила гоночные тримараны через Тихий океан, и маловероятно, чтобы считанные километры воды при мертвом штиле стали для нее непреодолимым препятствием.
А что до нее — она задумала предпринять такую экспедицию с той самой секунды, как только увидела Цилиндрическое море. За тысячи лет, что человек ведет спор с водными просторами Земли, ни одному моряку не случалось столкнуться с чем-либо, хотя бы отдаленно похожим на это. Последние два-три дня в голове у Руби неотвязно звучал глупый детский стишок, от которого она никак не могла избавиться; «Чтобы море переплыть, надо очень храбрым быть…» Ну что ж, она как раз и собирается переплыть море.
Пассажиры заняли свои места на импровизированных сиденьях — опрокинутых ведрах, и Руби потянула за дроссель. Взревел мощный двадцатикиловаттный мотор, звенья цепной передачи слились в туманную полосу, и «Резолюшн» под восторженные крики зрителей отдал швартовы.
Втайне Руби надеялась развить скорость до пятнадцати километров в час, но вполне удовольствовалась бы и любой цифрой выше десяти. Вдоль обрыва была отмерена дистанция ровно в полкилометра — плот прошел туда и обратно за пять с половиной минут. С учетом времени на разворот скорость оказалась равной двадцати километрам, и Руби была совершенно счастлива.
Если даже мотор откажет, то с тремя мускулистыми гребцами и таким умелым рулевым, как она, плот наберет примерно четверть предельной скорости и они доплывут обратно до берега часа за два, не больше. Емкость одного аккумулятора была достаточной, чтобы совершить здесь, на Раме, кругосветное путешествие, а Руби для полной уверенности взяла на борт еще два. При всей осмотрительности она не боялась выйти в море без компаса — туман рассеялся окончательно.
Поднявшись на берег, она отдала щегольский салют.
— Пробное плавание корабля прошло успешно, сэр. Жду ваших приказаний.
— Превосходно, адмирал. Готовы ли вы к отплытию?
— Как только припасы будут погружены на борт и начальник гавани даст добро.
— Тогда выходим на рассвете.
— Есть, сэр!..
Пятикилометровая водная преграда на карте выглядит не слишком значительной, но воспринимается совсем по-другому, когда вы сами находитесь посреди нее. Они плыли только десять минут, а обрыв — форпост Северного континента — уже казался удивительно далеким. Однако — необъяснимая вещь — Нью-Йорк тоже вроде бы ни на йоту не приблизился…
Но, по правде говоря, они не обращали особого внимания на берега, вновь захваченные чудом Цилиндрического моря. Даже нервные шуточки, которыми они обменивались в начале плавания, и те скоро кончились: все вокруг было чересчур необыкновенным.
«И так всегда, — внушал себе Нортон, — едва померещится, что привыкаешь, у Рамы уже наготове новое диво…» По мере того как «Резолюшн» с рокотом продвигался вперед и вперед, все чаще возникало ощущение, что они попали во впадину между исполинскими волнами и гребни этих волн с обеих сторон нависают над головой, нависают, пока не сомкнутся жидкой аркой на шестнадцатикилометровой высоте. Вопреки доводам рассудка, вопреки всякой логике никто из путешественников не сумел избавиться от ощущения, что с минуты на минуту миллионы тонн воды могут обрушиться на них с небес.
И все же чувство опасности отступало перед чувством радостного возбуждения. Ведь непосредственной опасности не было — если, разумеется, море не припасло для них неприятных сюрпризов. А такая возможность не исключалась: Мерсер не ошибся — в море теперь кишела жизнь. В каждой пригоршне воды обитали тысячи шариков — одноклеточных организмов, сходных с теми древнейшими видами планктона, какие некогда населяли океаны Земли.
Но сходство сходством, а под микроскопом обнаруживались и непонятные отличия: у раманских микроорганизмов не было ядра, не было и многого другого, что присуще даже самым примитивным формам земной жизни. И хотя Лаура Эрнст, совмещавшая обязанности врача с научными исследованиями, со всей определенностью доказала, что эти организмы выделяют кислород, их было все-таки слишком мало, чтобы объяснить столь быстрое обогащение атмосферы.
Впоследствии Лаура установила, что число микроорганизмов быстро сокращается и что в первые послерассветные часы оно, вероятно, было много выше. Жизнь на Раме, по-видимому, сверкнула кратковременной вспышкой, повторив древнейшую историю Земли, но в триллионы раз скорее. А теперь она, похожа, исчерпала себя, и плавучие микроорганизмы постепенно растворялись в воде, возвращая накопленные химические вещества своему прародителю — морю.
— Если вдруг придется добираться до берега вплавь, — предупреждала доктор Эрнст мореплавателей, — плотно сожмите губы. Капелька-другая, возможно, и не сыграет роли, если сразу же ее выплюнуть. Но все эти странные соли металлоорганических соединений, да еще в ядовитой оболочке, — не хотелось бы мне искать для них противоядие…
К счастью, угроза такого рода представлялась почл и неправдоподобной. «Резолюшн» мог держаться на поверхности даже в том случае, если бы два из шести ящиков-поплавков оказались пробиты. (Когда об этом сообщили Джо Колверту, тот ответил невразумительной фразой: «Вспомните «Титаник»…») И даже окажись мореплаватели в воде, головы их останутся над поверхностью: на то и были предусмотрены грубые, но вполне эффективные спасательные жилеты. Как ни уклонялась Лаура от прямого ответа, но все же должна была признать, что простое погружение в море, даже на несколько часов, вряд ли окажется смертельным, однако злоупотреблять такими ваннами она не рекомендовала…
Двадцать минут равномерного движения — и город-мираж начал обретать реальность; детали, различимые прежде лишь в телескопы или на крупномасштабных снимках, вырастали до размеров массивных, прочных сооружений. И становилось до крайности очевидным, что «город», как и многое другое на Раме, трижды повторяет сам себя: над вытянутым овальной формы основанием поднимались три одинаковых круглых комплекса циклопических зданий или конструкций. А на фотографиях, сделанных группой наблюдения сверху, было заметно, что каждый комплекс, в свою очередь, делится на три сектора, как пирог, разрезанный на три равные части. Это безмерно облегчало задачу исследователей: достаточно было осмотреть одну девятую часть Нью-Йорка, чтобы представить его себе целиком. Впрочем, одна девятая тоже требовала немалого напряжения сил: попробуйте облазить более квадратного километра зданий и машин, иные из которых возносятся в высоту на сотни метров!
Искусство страховать себя трижды рамане, судя по всему, довели до полного совершенства. Они продемонстрировали его в системе воздушных шлюзов, в конструкции лестниц, в расположении искусственных солнц. А там, где это было жизненно важно, они предприняли и следующий логический шаг. Нью-Йорк являл собой образец трижды тройной надежности.
Руби направила «Резолюшн» к центральному комплексу, где от воды к вершине стены, а точнее дамбы, окружающей остров, поднималась лесенка. Вблизи лесенки удобно располагалось и некое подобие причальной тумбы; заметив ее, Руби пришла в неистовое возбуждение. Теперь-то уж она ни за что не успокоится, пока не сыщет хоть какое-нибудь суденышко, на котором рамане плавали по своему необыкновенному морю.
Нортон ступил на берег первым и, оглянувшись на товарищей, сказал:
— Пока я не поднимусь на стену, оставайтесь на плоту. По моему сигналу Питер и Борис догонят меня. Вы, Руби, будете ждать нас у штурвала, чтобы можно было отчалить в любой момент. Если со мной что-нибудь случится, доложите Карлу и следуйте его распоряжениям. Надеюсь на ваш здравый смысл — и, пожалуйста, без бравады. Понятно?
— Так точно, шкипер. Желаем удачи.
Ни в какую удачу капитан Нортон, в сущности, не верил: он попросту не ввязывался ни в одно предприятие, не взвесив предварительно все возможные факторы и не обеспечив себе путь к отступлению. И вот — в который раз! — Рама вынуждал его нарушать установленное им самим правило. Здесь все или почти все факторы оставались неизвестными — он был в положении своего любимого героя, когда тот исследовал Тихий океан и Большой Барьерный риф три с половиной века назад… Да, удача, любая удача — и в главном, и в мелочах — ему сейчас отнюдь не помешала бы…
Лесенка была точным повторением той, по которой они спускались к морю. Друзья Нортона, несомненно, смотрят сейчас на него в телескоп прямо через пролив. Вот когда слово «прямо» стало наконец безупречно точным: в этом направлении, строго параллельно оси Рамы, море было в самом деле идеально плоским. Наверное, во всей Вселенной не нашлось бы другого водного бассейна, отвечающего такой характеристике, — ведь на всех иных мирах любое море или озеро лежит на сферической поверхности, а следовательно, имеет выпуклую форму.
— Я уже почти наверху, — говорил Нортон, адресуясь в равной мере к записывающему устройству и к ближайшему своему помощнику, жадно слушающему этот репортаж по радио, — все по-прежнему спокойно, радиация в норме. Поднимаю счетчик как можно выше над головой на случай, если стена служит шитом от какого-то излучения. А если по другую сторону прячутся враждебные аборигены, пусть счетчик явится для них первой мишенью…
Он, конечно, шутил. И все же — зачем рисковать, если можно без труда избежать риска?
Последний шаг — и он очутился на гладком гребне дамбы. Гребень достигал метров десяти в ширину, а с внутренней его стороны уклоны и лестницы, чередуясь, вели на улицы города, протянувшиеся в двадцати метрах ниже. Он стоял как бы на крепостной стене, кольцом охватывающей Нью-Йорк, а может, смотрел на него с высокой трибуны…
Картина, которая открылась ему, была столь головокружительно сложной, что он первым делом схватился за камеру и передал панорамное ее изображение. Затем помахал своим компаньонам и сообщил по радио:
— Никаких признаков жизни, все спокойно. Поднимайтесь ко мне, начинаем осмотр.
23 НЬЮ-ЙОРК
Это был не город — это была машина. Нортон пришел к такому выводу за десять минут и не изменил своего мнения и после того, как пересек остров из конца в конец. Любой город, какова бы ни была природа его обитателей, должен предоставлять им хоть какие-то удобства — здесь не удавалось найти ничего подобного, разве что все это пряталось где-то в глубине. И даже если так — где же входы, лестницы, подъемники? Он не в силах был обнаружить ничего, хоть отдаленно напоминающего обыкновенную дверь…
Если уж искать аналогию, исходя из земных представлений, то Нью-Йорк отчасти смахивал на гигантский химический комбинат. Но в таком случае где запасы исходного сырья, где хоть намек на транспортные средства для его перевозки? Не легче понять, куда подается готовый продукт и тем паче — что это за продукт. Они чувствовали себя совершенно сбитыми с толку и не на шутку разочарованными.
— Есть у кого-нибудь какие-нибудь догадки? — спросил наконец Нортон, обращаясь сразу ко всем своим слушателям. — Если это завод, то что он производит? И откуда он берет сырье?
— У меня есть гипотеза, шкипер, — откликнулся Карл Мерсер с противоположного берега. — Предположим, что он использует морскую воду. Наш эскулап утверждает, что в ней содержатся почти все известные нам элементы…
Ответ звучал вполне правдоподобно — Нортон уже и сам взвешивал в уме такую возможность. Скрытые где-то под ногами трубы могут соединять производство с морем, да что там могут — должны соединять: любой мыслимый химический процесс требует очень много воды. Но капитан не доверял правдоподобным ответам — слишком часто они оказывались неверными.
— Идея недурна. Но что делает Нью-Йорк из морской воды?
Довольно долго никто — ни на корабле, ни у шлюзов, ни на Северной равнине — не произносил ни слова. Потом раздался голос, который Нортон ожидал услышать меньше всего:
— Но это же просто, шкипер. Только, боюсь, вы поднимете меня на смех…
— И не подумаем, Рэви. Говори смело.
Кто-кто, а сержант Рэви Макэндрюс, старший стюард и попечитель супершимпанзе, в нормальных условиях никогда не позволил бы себе ввязаться в научный спор. Собственный его КИ был скромным, а знания весьма умеренными, однако он был отнюдь не дурак и обладал прирожденной смекалкой, достойной всяческого уважения.
— Ну что ж, это и в самом деле завод, и вполне возможно, что море поставляет ему сырье… В конце концов, именно так было и у нас на Земле, хотя и в несколько другом смысле… По-моему, Нью-Йорк — завод, изготовляющий раман.
Кто-то хихикнул, но тут же прикусил язык и предпочел не называть себя.
— Знаешь, Рэви, — сказал капитан, помолчав, — твоя теория достаточно безумна, чтобы оказаться правильной. И я, пожалуй, не хотел бы, чтобы она подтвердилась… по крайней мере до тех пор, пока мы не переберемся обратно на «большую землю».
В ширину небесный Нью-Йорк был почти таким же, как остров Манхэттен, но по планировке не имел с ним ничего общего. Прямолинейные артерии встречались редко, их заменяла путаница коротких концентрических дуг, соединенных между собой радиальными спицами. К счастью, заблудиться внутри Рамы было практически нельзя: один взгляд на небо — и направление оси север — юг определялось с полной непреложностью.
Чуть ли не на каждом перекрестке они останавливались, чтобы выполнить очередную панорамную съемку. Разложи эти сотни панорам по порядку — и будет несложно, хотя, пожалуй, и скучновато, воссоздать точную модель города в любом масштабе. И что получится? Нортон сильно подозревал, что над этой головоломкой ученые будут корпеть столетиями.
Над Нью-Йорком висела тишина, и вынести ее здесь, казалось, еще труднее, чем на равнине. Город-машина обязан был издавать хоть какие-то шумы, и тем не менее — ни намека на гудение электрических проводов, ни шороха, сопровождающего механическое движение. Несколько раз Нортон приникал ухом к мостовой или к стене здания и сосредоточенно вслушивался. Но не мог различить ничего, кроме стука собственного сердца.
Машины спали — не работали на холостом ходу, а именно спали. Проснутся ли они когда-нибудь — и если да, то зачем? Как и везде, все здесь содержалось в полном порядке. И верилось, что достаточно замкнуть одну-единственную цепь в каком-нибудь потаенном многотераеливом компьютере, как весь этот лабиринт заново пробудится к жизни.
Когда они наконец вышли к дальней границе города, то опять поднялись на верх круговой дамбы и увидели южный пролив. Нортон долго не мог отвести взгляд от пятисотметрового утеса, который отсекал от них почти половину Рамы — и, судя по данным телескопической разведки, более вычурную и разнородную его половину. Под таким углом утес выглядел зловеще, угрожающе черным — напрашивалось сравнение с тюремной стеной, оцепившей целый континент. И нигде по всей ее окружности не видно было ни лестницы, ни какого-либо иного пути наверх.
«Ну, а как же сами рамане, — подумал он, — как они добирались из Нью-Йорка до своего Южного материка?» Допустим, по системе тоннелей под дном моря, но у них наверняка существовали и воздушные суда — в городе немало открытых пространств, которые можно использовать как посадочные площадки. Найти бы хоть один раманский экипаж — это стало бы огромным достижением, особенно если удалось бы научиться управлять им. (Однако мыслимо ли, чтобы мотор заработал после простоя, длившегося сотни тысяч лет?) Многие сооружения вокруг выглядят как ангары или как гаражи, но все они гладкостенные, без окон, будто облитые непрозрачным пластиком. «Рано или поздно, — добавил Нортон про себя в мрачной решимости, — Рама вынудит нас применить взрывчатку или лазеры…» Но он давно уже знал, что не отдаст такого приказа, пока не исчерпает все другие возможности.
Упорное нежелание прибегнуть к грубой силе было продиктовано отчасти его самолюбием, а отчасти страхом. Нортону никак не хотелось прослыть техническим варваром, который попросту сокрушил то, чего не понял. В конце концов, он пришел в это!' мир незваным гостем и должен вести себя соответственно.
Что же касается страха — выражение, пожалуй, было слишком крепким, слово «осторожность» нравилось капитану гораздо больше. Ведь рамане, кажется, предусмотрели все, и он отнюдь не жаждал выяснить, какие меры они приняли, чтобы оградить свою собственность от посягательств. Но на «большую землю» сегодня придется вернуться с пустыми руками.
24 «СТРЕКОЗА»
Лейтенант Джеймс Пэк был самым младшим из всех офицеров «Индевора» и вышел в дальний космический рейс лишь в четвертый раз в жизни. Он был честолюбив и ожидал повышения и в то же время допустил серьезное нарушение устава. Неудивительно, что ему понадобилось определенное время на то, чтобы собраться с духом.
Обстоятельства вынуждали Пэка сыграть ва-банк — проигрыш означал для него большие неприятности. Он рисковал не только карьерой, но, быть может, и головой. Правда, в случае выигрыша он стал бы героем. Однако ни один из приведенных доводов в конечном счете не повлиял бы на лейтенанта, если бы не уверенность, что, упусти он свой шанс, и потом ему до самой смерти не избавиться от душевных мук. В конце концов он обратился к капитану с просьбой принять его для личной беседы, однако от колебаний это его не избавило.
«Что-то уготовано мне на сей раз?» — спросил себя Нортон, уловив нерешительность на лице юного офицера. Он еще не забыл своего щекотливого разговора с Борисом Родриго; ну нет, с Джимми ничего подобного не произойдет. Джимми никак не может оказаться религиозным — помимо служебных обязанностей его обычно интересовали лишь два предмета: спорт и любовь, желательно в сочетании друг с другом.
«Едва ли речь у нас пойдет о спорте, — решил Нортон, — но не дай бог о женщине…» В своей капитанской практике он уже встречался с любыми каверзными ситуациями, кроме единственной, — ни одна из женщин «Индевора» еще не рожала в полете. Острили на эту тему без счета, но не рожали никогда, возможно, впрочем, что исправить свою промашку для них — лишь дело времени…
— Ну. Джимми, выкладывай, что у тебя?
— У меня идея, командир. Я придумал, как добраться до Южного континента, даже до Южного полюса.
— Слушаю. Так как же?
— Мм… по воздуху.
— Джимми, я уже выслушал по крайней мере пять предложений на этот счет — больше, если считать сумасбродные проекты, переданные с Земли. Мы пытались реконструировать наши ранцевые реактивные двигатели, но сопротивление воздуха делает всю затею безнадежной. Топлива не хватает даже на десяток километров.
— Знаю. Но у меня возникла другая мысль…
Поведение лейтенанта Пэка являло собой забавную смесь совершенной уверенности в себе и плохо скрытой нервозности. Нортона это окончательно сбивало с толку: что же такое, черт побери, так разволновало мальчишку? Без сомнения, Джимми уже достаточно знал своего командира, чтобы понимать, что ни одно разумное предложение не будет поднято на смех.
— Ну продолжай, продолжай. Если из твоей идеи выйдет толк, я позабочусь, чтобы твое повышение стало свершившимся фактом…
Но и это полушутливое обещание не подействовало в той мере, в какой ожидал Нортон. Джимми вяло улыбнулся, несколько раз раскрывал рот и тут же смолкал и наконец решил подойти к вопросу окольным путем.
— Вам известно, командир, что в прошлом году я выступал на Лунных Олимпийских играх?
— Разумеется. Жаль, что не одержал победы.
— Аппарат подвел, но я понял, в чем загвоздка. И мои друзья на Марсе втайне сконструировали для меня новый аэро-пед. Мы хотели преподнести болельщикам сюрприз…
— На Марсе? Вот уж не думал…
— Немногие это знают — спорт там еще внове, летают только на спортодроме Ксанте. Но лучшие спецы по аэродинамике живут именно там — если аппарат способен летать в марсианской атмосфере, то в любой другой он полетит и подавно. Короче, если марсиане при их сноровке сделали бы мне новую машину, то уж на Луне она не подкачала бы — ведь сила тяжести на Луне еще вдвое ниже…
— Пока все вполне ясно, но какое это имеет отношение к нам?
Нортон и сам начал догадываться, какое, но хотел помочь Джимми выпутаться из сложного положения.
— Я вошел в долю с несколькими друзьями из Лоуэлл-сиги, и они построили аэропед для высшего пилотажа, внеся в конструкцию ряд усовершенствований, до каких пока никто не додумывался. При лунном тяготении, под Олимпийским куполом, это произвело бы сенсацию…
— И ты завоевал бы золотую медаль.
— Надеюсь.
— Давай проверим, правильно ли я тебя понял. Аэропед, предназначенный для Лунных Олимпийских, то есть для одной шестой g, еще лучше показал бы себя в условиях Рамы, где тяготения нет вообще. И ты мог бы пролететь вдоль оси от Северного до Южного полюса и обратно.
— Вот именно. Полет в одну сторону занял бы часа три, если без остановки. Но, разумеется, можно и отдыхать, если захочется, — достаточно держаться вблизи оси…
— Идея великолепная, поздравляю. Жаль, что аэропеды не входят в состав стандартного космического снаряжения.
Казалось, у Джимми начисто вылетели из головы все слова. Он опять несколько раз подряд открывал рот, но безрезультатно.
— Ладно уж, Джимми. Прости мое нездоровое любопытство, и не для протокола — как ты ухитрился протащить эту штуку на борт?
— Мм… по статье «Грузы для отдыха экипажа».
— Ну что ж, хоть не соврал. А как насчет веса?
— Всего двадцать килограммов.
— Всего? Хотя, честно сказать, не так плохо, как я опасался. Даже удивительно, как тебе удалось уложиться в двадцать килограммов.
— Иные аэропеды весили по пятнадцать, но оказывались слишком хрупкими и при разворотах складывались пополам. Со «Стрекозой» такого случиться не может. Я уже говорил — она создана для высшего пилотажа.
— «Стрекоза». Хорошее название. Теперь рассказывай, как применить ее здесь. Тогда мне легче будет решить, представить ли тебя на повышение или отдать под суд. А может, и то и другое.
25 ПРОБНЫЙ ПОЛЕТ
«Стрекоза» — название было действительно подходящее. Длинные, суживающиеся к концам крылья оставались почти невидимыми, пока свет не падал на них под строго определенным углом и они не загорались всеми цветами радуги. Словно мыльный пузырь обернули вокруг изящного узора несущих поверхностей — маленький летательный аппарат окружала органическая пленка толщиной лишь в четыре-пять молекул, но достаточно прочная для того, чтобы контролировать и направлять воздушные потоки на скоростях до пятидесяти километров в час.
Пилот — он же одновременно силовая установка и навигационное устройство — сидел слегка откинувшись, чтобы уменьшить сопротивление воздуха, на крохотном сиденьице, установленном в центре тяжести аппарата. Управление осуществлялось при помощи одной-единственной ручки, которую можно было двигать вперед и назад, вправо и влево, а единственным «прибором» в распоряжении летчика была тесемка с гирькой, закрепленная на передней кромке крыла и указывающая примерное направление ветра.
Как только аэропед доставили внутрь Рамы и собрали, Джимми Пэк стал на страже, не позволяя никому прикоснуться к своему детищу. Неуклюжее движение могло бы оборвать любую из тоненьких тяг, связывающих конструкцию воедино, а блистающие крылышки притягивали к себе любопытные пальцы точно магнитом. Слишком трудно было поверить, что они и в самом деле вещественны…
Наблюдая за Джимми, влезающим на сиденьице своей машины, капитан Нортон поневоле усомнился в успехе всего предприятия. Достаточно хотя бы одной проволочной тяге лопнуть, когда «Стрекоза» окажется по ту сторону Цилиндрического моря, и Джимми никогда не вернется назад, даже если сумеет благополучно совершить посадку. Они нарушают едва ли не самый священный завет исследователей космоса: человек отправляется в неизведанный мир в полном одиночестве, и, случись что-нибудь, никто не сможет ему помочь. Оставалось лишь искать утешения в том, что Джимми все время будет у них на виду и на двусторонней связи, и, если он попадет в беду, они точно узнают, когда и в какую.
И тем не менее шанс был слишком драгоценным, чтобы его упустить: верь капитан в Бога или в судьбу, он мог бы сказать, что не хочет прогневить их, отказавшись от уникальной возможности достичь дальней стороны Рамы, присмотреться вблизи к тайнам Южного полюса. А Джимми — Джимми знал, на что идет, лучше, чем кто бы то ни было из экипажа. Да, риск существовал, но встречаются обстоятельства, когда не рисковать просто нельзя, таковы уж правила игры. Никому еще не удавалось никогда не проигрывать…
— Слушайте меня внимательно, Джимми, — обратилась к пилоту Лаура Эрнст. — Важнее всего для вас не допустить переутомления. Помните, кислорода вблизи оси все еще маловато. Если собьетесь с дыхания, немедленно стоп. И сразу несколько глубоких вдохов — и так полминуты, но не дольше…
Джимми рассеянно кивал, проверяя рули. Смонтированные в едином блоке на конце пятиметровой стрелы позади кабины-недомерка, они послушно шевельнулись на шарнирах; щитки элеронов, врезанных в середину крыльев, задвигались попеременно вверх и вниз.
— От винта! — воскликнул Джо Колверт, неспособный отрешиться от воспоминаний о военных фильмах двухсотлетней давности. — Зажигание! Контакт!..
Вероятно, никто, кроме Джимми, даже отдаленно не представлял себе, о чем идет речь, но разрядить напряжение Колверту все же удалось.
Медленно, очень медленно Джимми принялся жать на педали. Широкие и тонкие, словно папиросная бумага, лопасти винта — как и крылья, блестящая пленка на хрупком каркасе, — приподнялись и повернулись. Сделав несколько оборотов, лопасти совершенно исчезли — и «Стрекоза» взлетела.
Сначала она шла строго по прямой, постепенно перемещаясь вдоль оси Рамы. Отдалившись на двести-триста метров, Джимми бросил педали; странно было видеть аппарат явно аэродинамических форм недвижно висящим в воздухе. Такое случалось, пожалуй, впервые за всю историю авиации, разве что в ограниченных масштабах тот же эффект наблюдался на самых крупных космических станциях.
— Ну и как, слушается? — осведомился Нортон.
— Маневренность неплохая, устойчивость так себе. Но я догадался, в чем дело, — здесь «Стрекоза» ничего не весит. Лучше спуститься километром ниже…
— Постой, постой, а не опасно ли это?
Потеряв высоту, Джимми утратил главное свое преимущество. Пока он держался точно на оси, он и «Стрекоза» вместе с ним остаются полностью невесомыми. Он может зависнуть на месте, не затрачивая усилий, может при желании даже поспать. Но едва он сдвинется с оси вращения Рамы, вновь неизбежно проявится действие центробежной силы. И потому, если он не сумеет держаться на заданной высоте, он будет падать — и в то же время набирать вес. Процесс пойдет с нарастающей скоростью и закончится, скорее всего, катастрофой. Сила тяжести внизу на равнине вдвое выше той, на какую рассчитана. «Стрекоза». Можно еще надеяться, что Джимми сумеет благополучно посадить машину, но взлететь он уже не сможет наверняка.
Однако сам пилот взвесил обстоятельства и ответил довольно уверенно:
— С одной десятой g я справлюсь без хлопот. Да и вести машину в более плотном воздухе отнюдь не трудней, а легче.
«Стрекоза» описала в небе пологую неторопливую спирать и поплыла вниз к равнине, примерно следуя изгибу лестницы Альфа. Если смотреть под углом, крохотный аэропед был почти невидимым, казалось, что Джимми уселся прямо в воздухе и знай себе яростно крутит педали. Время от времени он двигался рывками до тридцати километров в час, потом сбрасывал скорость до полной остановки, проверяя чувство руля, прежде чем разогнаться снова. И внимательно следил за тем, чтобы сохранять безопасную дистанцию от вогнутого торца Рамы.
Вскоре стало очевидным, что на меньших высотах «Стрекоза» слушается куда лучше: она теперь не крутилась как попало, а шла вполне устойчиво, неся крылья параллельно равнине, что лежала в семи километрах внизу. Джимми заложил несколько широких виражей и начал взбираться обратно. В конце концов он завис метрах в тридцати над поджидающими его товарищами — и тут слегка поздновато осознал, что не вполне понимает, как посадить свое сотканное из паутины суденышко.
— Бросить тебе веревку? — спросил Нортон полушутя, полусерьезно.
— Не надо, шкипер, я должен как-то выкарабкаться сам. На той стороне мне никто не поможет.
Минуту он сидел, соображая, затем принялся пододвигать «Стрекозу» к цели короткими сильными рывками. В промежутках между ними аэропед послушно тормозил — сопротивление воздуха тут же гасило инерцию. Когда расстояние сократилось до пяти метров и «Стрекоза» снова двинулась вперед, Джимми неожиданно покинул свой корабль. Он в прыжке дотянулся до ближайшего из страховочных канатов, опоясывающих площадку у оси, ухватился за него и повернулся как раз вовремя, чтобы принять подплывающий аэропед руками. Маневр был выполнен столь безупречно ловко, что вызвал аплодисменты.
— Следующим номером… — начал Джо Колверт.
Джимми поспешил отречься от всякой славы.
— Это была нечистая работа, — оповестил он. — Зато теперь я знаю, как поступить. Возьму с собой присоску на двадцатиметровом шнуре — тогда смогу пристать в любой точке, где заблагорассудится.
— Дайте-ка мне руку, Джимми, — вмешалась Лаура Эрнст, — и подуйте в этот мешок. Придется также сделать анализ крови. Не было ли вам трудно дышать?
— Только на высоте оси. Слушайте, а зачем вам понадобилась моя кровь?
— Содержание сахара — по нему я смогу определить, сколько энергии вы потратили. Нужно проверить, хватит ли у вас сил на задуманное путешествие. Между прочим, каков мировой рекорд продолжительности полета на аэропеде?
— Два часа двадцать пять минут три и шесть десятых секунды. Установлен, разумеется, на Луне — по двухкилометровому кругу под Олимпийским куполом.
— И вы полагаете, что продержитесь шесть часов?
— Запросто — ведь я смогу отдыхать, когда захочу. На Луне летать по меньшей мере вдвое труднее, чем здесь.
— Ладно. Джимми, идем в лабораторию. Один анализ — и сразу же станет ясно, разрешу я вам вылет или нет. Не люблю давать преждевременных обещаний, но, по-моему, вы справитесь.
Довольная улыбка расплылась по лицу Джимми, вытесняя наигранное спокойствие. Следуя за старшим корабельным врачом к воздушному шлюзу, он бросил через плечо:
— Пожалуйста, держите руки подальше. Мне вовсе не хочется, чтобы кто-нибудь проткнул крыло кулаком.
26 ГОЛОС РАМЫ
Подлинный размах предстоящего приключения как-то не доходил до самого Джимми Пэка, пока он не достиг берега Цилиндрического моря. Вплоть до этой минуты он летел над знакомой территорией; в случае любой поломки, кроме по-настоящему катастрофической, он всегда мог совершить посадку и пешком вернуться на базу за несколько часов.
— Я лично пригляжу за этим, Джимми, — пообещал капитан, — «Стрекоза» объявляется неприкосновенной для всех, включая меня самого.
Теперь такая возможность отпала. Окажись он в море, он, вполне очевидно, утонет в его ядовитых водах — не самая приятная смерть. И даже приземлись он благополучно, но на Южном континенте, товарищи, пожалуй, не успеют спасти его, прежде чем «Илдевору» придется расстаться с Рамой, выходящим на околосолнечную орбиту.
В то же время он отчетливо сознавал, что предвидимые несчастья — отнюдь не самые вероятные. Абсолютно неисследованный район, над которым ему предстояло пройти, мог преподнести сколько угодно сюрпризов: вдруг, допустим, там обитают летающие создания, которым его вторжение придется не по нутру? Он ничуть не жаждал схватиться врукопашную с какой бы то ни было тварью крупнее голубя. Два-три удачных удара клювом — и «Стрекоза» с ее аэродинамикой развалится ко всем чертям.
Однако кто не рискует, тот не выигрывает, и какое же это приключение, если оно не сопряжено с риском? Миллионы мужчин были бы счастливы поменяться с ним сейчас местами. Он ведь держит путь не просто туда, куда никто не попадал, а гуда, куда никто и не попадет. Он останется первым и единственным в истории человеком, посетившим южные области Рамы. И если из глубин сознания вдруг начнет подниматься страх, нелишне будет напомнить себе об этом.
Он уже привык восседать в центре мира, охватывающего его со всех сторон. Поскольку он отклонился на два километра от центральной оси, у него выработались четкие понятия «верха» и «низа». «Земля» была в шести километрах под ногами, арка «неба» — в десяти километрах над головой. «Город» Лондон висел где-то вблизи зенита, зато Нью-Йорк оставался на своем «законном месте» — впереди прямо по курсу.
— «Стрекоза», — забеспокоилась группа наблюдения, — вы теряете эшелон. Две тысячи двести от оси.
— Спасибо, — ответил Джимми. — Набираю высоту. Дайте мне знать, когда вновь будет ровно две тысячи.
За этим надлежало следить не переставая. Аэропед имел вполне естественную тенденцию терять высоту, а у пилота не было приборов, чтобы определить потерю. Слишком удалившись от оси, он уже не сможет вернуться обратно в невесомость. К счастью, пределы, в которых отклонение не сказалось бы роковым образом, были довольно широки, и за продвижением «Стрекозы» непрерывно наблюдали в телескоп.
Нал открытым морем он крутил педали с тем расчетом, чтобы выдержать постоянную скорость двадцать километров в час. Через пять минут он окажется над Нью-Йорком — остров уже стал похож на корабль, без устали бороздящий воды Цилиндрического моря.
Долетев до Нью-Йорка, он описал над ним круг, то и дело притормаживая, чтобы с помощью миниатюрной телекамеры передать на «Индевор» четкое и устойчивое изображение острова сверху. Панорама зданий, башен, заводских цехов, электростанций — или как там их называть — была завораживающей, но начисто лишенной смысла. Камера уловит куда больше деталей, чем глаза, и в один прекрасный день — быть может, годы спустя — какой-нибудь студентик возьмет да и отыщет в них ключ к секретам Рамы.
Дальнюю половину моря, за Нью-Йорком, он пересек всего за четверть часа. Не отдавая себе в том отчета, он летел над водой быстрее, а достигнув южного берега, помимо воли расслабился, и скорость тут же заметно упала. Может, он и вторгся на враждебную территорию, но по крайней мере находился над сушей.
Едва перелетев исполинский утес, замыкающий море с юга, он обвел телекамерой побережье по всей его окружности.
— Великолепно! — отозвалась группа наблюдения. — Картографы умрут от счастья. Как чувствуете себя?
— Хорошо, чуть-чуть устал, но не более того. Далеко ли еще до полюса?
— Пятнадцать и шесть десятых километра.
— Сообщите мне, когда останется десять, тогда я немного отдохну. И проследите, чтобы я не терял высоту. Километрах в пяти от цели мне предстоит опять подняться к оси…
Через двадцать минут мир начал смыкаться вокруг него: он прошел основную часть пути и попал в пределы южной полусферы. Джимми, бывало, часами разглядывал этот дальний конец Рамы в телескоп и знал его топографию наизусть. И тем не менее оказалось, что к подобному зрелищу подготовиться загодя невозможно.
Почти во всех отношениях Северный и Южный полюсы Рамы были разительно не похожи друг на друга. Здесь, на юге, не было ни величественной триады лестниц, ни узких концентрических площадок, ни вогнутого, устремленного к равнине склона. Их заменял расположенный по оси чудовищный пик протяженностью более пяти километров. Вокруг него равномерно размещались шесть вполовину меньших пиков, и вся конструкция напоминала компанию сталактитов замечательно правильной формы, свисающих со свода пещеры. Или, если предпочесть противоположную точку зрения, остроконечные пагоды камбоджийского храма.
Связывая эти стройные конусообразные пики между собой и плавно изгибаясь вниз к цилиндрической равнине, от них во все стороны отходили навесные опоры, с виду достаточно прочные, чтобы выдержать тяжесть целого мира. И не исключено, что именно таково и было их назначение — если правы те, кто видел в конструкциях Южного полюса контуры какого-то необыкновенного двигательного устройства.
Лейтенант Пэк осторожно приблизился к центральному пику, метров за сто до него отпустил педали и дал «Стрекозе» плыть по инерции до полной остановки. Проверил, нет ли излучений, но обнаружил лишь обычный для Рамы слабый радиационный фон. Возможно, здесь действовали силы, неуловимые для созданных человеком приборов, но подобный риск также был совершенно неизбежен.
— Что видите? — встревоженно спросила группа наблюдения.
— Просто-напросто рог, большой и абсолютно гладкий, никаких отметин, а кончик острый, как игла. Чуть не в дрожь бросает, когда подумаешь о том, чтобы подойти поближе…
Шутил ли он? Он и сам не знал. Никак не укладывалось в сознании, что столь массивный объект может заканчиваться таким идеальным острием. Джимми вспомнил, как коллекционеры нанизывают на булавки насекомых, и ему стало не по себе от мысли, что его дорогую «Стрекозу» может постичь та же участь.
Он опять слегка нажал на педали, продвигаясь вдоль пика, и притормозил только тогда, когда гигантский рог утолщился до четырех-пяти метров в диаметре. Открыв небольшой контейнер, Джимми бережно извлек оттуда шарик размером с бейсбольный мяч и метнул этот шарик в сторону пика. Удаляясь, шарик потянул за собой чуть заметную леску.
Присоска шлепнулась о мягко выгнутую поверхность и не отскочила. Опыта ради Джимми подергал за леску, а потом рванул ее посильнее. Словно рыбак, подтаскивающий свою добычу к лодке, он сматывал леску, подводя «Стрекозу» к верхушке Большого рога, как он удачно окрестил центральный пик. Сматывал до тех лор, пока не сумел коснуться рога рукой.
— Наверное, при желании это можно назвать посадкой, — доложил он группе наблюдения. — На ощупь вещество напоминает стекло, трения почти нет, но чувствую слабое тепло. Присоска сработала отлично. Попробуем с микрофоном… посмотрим, удержится ли он… так, включаю… слышно вам что-нибудь?
Последовала долгая пауза, и наконец кто-то из группы наблюдения ответил недовольным тоном:
— Ни черта не слышно, кроме обычных термальных шумов. Стукните по нему какой-нибудь железкой. По крайней мере узнаем, полый ли пик внутри.
— Сделано. Что дальше?
— Мы просили бы вас пролететь вдоль конуса, передавая обзорные панорамы через каждые полкилометра. Обращайте внимание на все необычное. Затем, если сочтете неопасным, можете перелететь к одному из малых рогов. Но только в том случае, если будете уверены, что вернуться в невесомость не составит труда.
— Три километра от оси — сила тяжести чуть выше лунной. «Стрекоза» на это и рассчитана. Просто надо будет приналечь посильнее.
— Джимми, говорит капитан. Я передумал. Судя по переданным тобою кадрам, малые пики ничем не отличаются от большого. Отсними их как можешь детальнее длиннофокусным объективом. Покидать район низкой гравитации не разрешаю — разве что увидишь что-то из ряда вон выходящее. Тогда свяжись со мной снова.
— Слушаюсь, шкипер, — отвечал Джимми, пожалуй, с некоторым облегчением в голосе. — Остаюсь вблизи Большого рога. Продолжаю движение.
Чувство было такое, будто он падает почти отвесно в узкую долину, зажатую меж невероятно высоких островерхих гор. Большой рог возносился уже на километр над ним, а шесть малых рогов угрожающе топорщились справа и слева. Лабиринт опор и висячих арок, окружающий склоны у основания, приближался все быстрее, и он поневоле усомнился в том, сумеет ли «Стрекоза» найти место для посадки среди этих циклопических сооружений. Садиться непосредственно на Большой рог теперь не представлялось возможным: сила его притяжения в этой расширенной части была слишком велика.
Чем ближе подлетал он к Южному полюсу, тем больше напоминал себе воробышка, затерявшегося под сводами огромного собора, но ведь ни один из всех когда-либо построенных соборов не достигал и сотой доли таких размеров. Джимми мимоходом подумал даже, не занесло ли его действительно в храм или в некое подобие храма, но туг же отогнал эту мысль. Нигде на Раме они не встретили никаких намеков на художественное самовыражение, все было почти предельно функциональным. Может, рамане, познав глубочайшие тайны Вселенной, не вдохновлялись более мечтами и стремлениями, движущими человечеством?
Мысль была жутковатой и отнюдь не свойственной Джимми. который не отличался философским складом ума. Он понял, что должен срочно выйти на связь и доложить обстановку своим далеким друзьям.
— Повторите, «Стрекоза», — ответила группа наблюдения. — Вас не поняли, повторите. Сильные помехи…
— Повторяю: нахожусь у подножия Малого рога номер шесть, собираюсь выбросить присоску и подтянуться поближе.
— Поняли лишь частично. Вы меня слышите?
— Прекрасно слышу. Повторяю: слышу вас хорошо.
— Прошу провести отсчет.
— Раз, два, три, четыре…
— Поняли плохо. На пятнадцать секунд дайте маяк, потом возобновляйте голосовую связь.
— Пожалуйста…
Джимми включил индивидуальный радиомаяк, способный указать местонахождение своего владельца где бы то ни было в пределах Рамы, и сосчитал про себя до пятнадцати, Когда пришло время вновь подать голос, он жалобно спросил:
— Что происходит? Теперь-то вы меня слышите?
Очевидно, у противоположного полюса не слышали, поскольку оператор вместо ответа попросил на пятнадцать секунд включить телекамеру. Понадобилось повторить вопрос еще дважды, чтобы из наушников наконец донеслось:
— Рады, что хоть вы слышите нас, Джимми. Но у вас там творится что-то очень странное. Судите сами.
Он услышал по радио знакомый писк собственного маяка, повторенный в записи. Секунду-другую писк был совершенно нормальным — и вдруг начал претерпевать дикие искажения.
Свист с частотой во много тысяч герц прервался густым пульсирующим гулом, таким низким, что он оставался почти за порогом слышимости, каким-то сверхбасом, в пении которого различалась каждая отдельная вибрация. И это искажение, в свою очередь, подвергалось искажениям: бас нарастал н стихал, нарастал и стихал примерно каждые пять секунд.
Джимми даже в голову не пришло усомниться в исправности своего передатчика. Гул проникал извне, но откуда и почему, он не мог себе и представить.
Группа наблюдения знала не больше, но по крайней мере предложила хоть какое-то объяснение.
— Мы думаем, что вы попали в очень сильное поле неизвестного происхождения, скорее всего магнитное, с частотой порядка десяти герц. Поле настолько интенсивно, что может представлять опасность. Предлагаем немедленно возвращаться — не исключено, что действие поля имеет лишь местный характер. Включите снова свой маяк, а мы будем ретранслировать его вам. Тогда вы сами услышите, когда удастся выйти из зоны помех.
Джимми поспешно оторвал присоску, отказавшись от мысли о новой посадке. Он повел «Стрекозу» обратно по широкой спирали, прислушиваясь к звуку, трепещущему в наушниках. И буквально через несколько метров интенсивность помех начала быстро падать, группа наблюдения угадала — звук был четко локализован.
Он задержался на миг на последнем рубеже, где еще различал слабое биение, отдававшееся глубоко под черепом. Так невежественный дикарь мог бы вслушиваться в басовитое гудение могучего трансформатора. Но даже дикарь, наверное, догадался бы, что звук, который он слышит, — лишь побочное следствие работы титанических сил, полностью контролируемых, но выжидающих своего часа…
Что бы ни означал этот звук, Джимми был рад от него избавиться. Ошеломляющие конструкции Южного полюса — не самое подходящее окружение для того, чтобы в одиночестве внимать голосу Рамы.
27 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЕТЕР
Повернуть-то он повернул, но северный конец Рамы казался таким чудовищно далеким… Даже исполинские лестницы различались как тусклый трилистник, едва нацарапанный на замыкающем мир куполе. А лента Цилиндрического моря представлялась широким грозным барьером, готовым проглотить «Стрекозу», если ее хрупкие крылья, словно крылья Икара, не оправдают надежд.
Однако Джимми один раз уже покрыл без затруднений это расстояние и хотя ощущал теперь легкое утомление, он полагал, что беспокоиться больше не о чем. Он даже не притрагивался пока ни к пище, ни к воде и был слишком возбужден, чтобы отдыхать. На обратном пути он сможет расслабиться и не торопиться. Ободряла и мысль о том, что дорога домой будет для него на двадцать километров короче, чем дорога от дома: надо лишь перетянуть через море — и можно идти на вынужденную посадку в любой точке Северного континента. Как ни досадно было бы добираться пешком, как ни жаль бросить «Стрекозу» на произвол судьбы, но получить дополнительную гарантию безопасности все равно приятно.
Он набирал высоту, поднимаясь вдоль склона центрального пика; остроконечная вершина Большого рога все еще торчала в километре впереди, и подчас лейтенант почти физически ощущал ее как ось, вокруг которой вращается целый мир.
Он почти поравнялся с вершиной, когда его пронзило другое странное чувство, вернее предчувствие, но с явным оттенком физического, а не просто психологического дискомфорта. Ни с того ни с сего припомнилась — отнюдь не прибавив бодрости — вычитанная где-то фраза; «Некто бродит над вашей могилой…»
Джимми попытался стряхнуть с себя подавленность и продолжал равномерно крутить педали. Само собой разумеется, он не собирался докладывать группе наблюдения о таких пустяках, как смутное недомогание, но оно упорно усиливалось, побуждая его выйти на связь. Невероятно, чтобы недомогание такой силы было чисто психологическим: если да, то мозг лейтенанта Пэка обладал способностями, о которых его хозяин и не подозревал. По коже ползли мурашки — буквально по каждой ее клеточке…
Обеспокоенный всерьез, он остановился в воздухе и принялся обдумывать ситуацию. Самое странное заключалось в том, что тяжкое давящее ощущение не воспринималось как абсолютно новое: где-то когда-то он уже испытывал нечто подобное, только где и когда?
Он осмотрелся. Ничто не изменилось. От верхушки Большого рога его отделяли все те же двести-триста метров, дальняя сторона Рамы все так же перекрывала небо. В восьми километрах под ногами все тем же лоскутным одеялом стелился Южный континент, полный чудес, каких никогда более не увидят глаза человека. И во всей этой беспредельно чуждой, но уже знакомой картине он не улавливал никаких причин для беспокойства.
Что-то пощекотало тыльную сторону ладони, сначала он решил, что это насекомое, и попытался не глядя смахнуть его. Но, не завершив движения, спохватился и замер, слегка сконфуженный. В самом деле, откуда взяться насекомым на Раме?
Потом он поднял руку и начал ее разглядывать: как ни удивительно, а щекотка не проходила. Тут-то он и заметил, что каждый отдельный волосок на запястье стоит дыбом. И не только на запястье, но и выше, до самого предплечья, и точно так же на голове — стоило коснуться висков, чтобы убедиться в этом.
Так вот в чем дело! Он находится в электрическом поле огромной напряженности; тяжкое чувство подавленности, которое он испытывал, сродни тому, какое бывает подчас на Земле перед грозой…
В тот миг когда Джимми внезапно осознал всю сложность своего положения, он едва не поддался панике. Никогда прежде он не встречался лицом к лицу со столь непосредственной угрозой для жизни. Как и любому космонавту, ему случалось переживать неприятные минуты, когда подводило оборудование, когда вследствие ошибки или по неопытности та или иная ситуация оценивалась — чаще всего необоснованно — как смертельно опасная. Но ни один из таких эпизодов не продолжался дольше трех-пяти минут, а обычно страхи иссякали почти мгновенно и оставалось лишь посмеяться над ними.
На этот раз мгновенного выхода не было. Джимми чувствовал себя слишком одиноким и беззащитным в этом вдруг оскалившемся враждой небе, в царстве титанических сил, готовых разрядить свой гнев с секунды на секунду. «Стрекоза», и без того достаточно хрупкая, теперь казалась эфемерной, как осенняя паутинка. Первый же удар надвигающегося шторма разнесет ее в клочья…
— Группа наблюдения, — позвал он испуганно. — Вокруг меня накапливаются статические заряды. По-моему, вот-вот разразится гроза…
Не успел он докончить фразу, как позади что-то сверкнуло: он сосчитал до десяти — и его нагнал сухой грохот. Три километра — значит, вспышка произошла в районе малых рогов. Он оглянулся и увидел, что каждая из шести игл-верхушек охвачена пламенем. Разряды по двести-триста метров длиной танцевали на остриях вершин, словно рога были гигантскими громоотводами.
То, что происходило позади, могло в любой момент с большим размахом начаться и в районе большою пика. Лучшим решением в таких обстоятельствах было убраться подальше от опасного соседства на вольный простор. Он принялся крутить педали еще сильнее, с предельной скоростью, какую только могла выдержать «Стрекоза». Одновременно он стал терять высоту — пусть это означало, что он вступает в область более высокой гравитации, он соглашался идти на риск. Восемь километров от земли — цифра слишком суровая для того состояния духа, в каком он сейчас находился.
Зловещая черная вершина Большого рога была пока еще свободной от видимых разрядов, но Джимми не сомневался, что она в свою очередь накапливает чудовищный электрический потенциал. Позади то и дело слышались новые удары грома, перекатывающиеся, казалось, по всему континенту. Джимми пришло на ум, что это до крайности странно — шторм посреди ясного неба; потом он понял, что к метеорологии это явление никакого отношения не имеет. Скорее всего, просто утечка энергии из источника, скрытого где-то в глубине южного торца Рамы. Но почему такая утечка началась именно сейчас? И другой вопрос, еще серьезнее: что дальше?
Наконец он оставил вершину позади и уже надеялся, что скоро будет вне досягаемости для любых разрядов. Однако теперь он столкнулся с другой проблемой; в воздухе возникли завихрения, управлять «Стрекозой» стало намного труднее. Откуда-то — вернее, ниоткуда — налетел ветер, и если ветер еще усилится, хрупкому каркасу аэропеда придется плохо. Джимми мрачно налегал на педали и пытался компенсировать толчки, меняя силу тяги и наклон туловища. Отчасти ему удавалось справиться с задачей — ведь «Стрекоза» была как бы продолжением его самого, — но ему вовсе не нравился протестующий скрип лонжеронов, не нравилось и то, как вздрагивают концы крыльев при каждом порыве ветра.
Беспокоил его и слабый, неровный, но постепенно нарастающий звук, который шел, пожалуй, со стороны Большого рога. Словно газ под большим давлением сочился из вентиля — интересно, не с этим ли звуком связаны завихрения, с которыми боролась «Стрекоза»? Так или иначе, а оснований для тревоги было более чем достаточно.
Время от времени Джимми, торопясь и задыхаясь, докладывал группе наблюдения о том, что творится вокруг. Никто не мог ничего ему посоветовать, никто не догадывался, что происходит, но он находил утешение хотя бы в том, что слышал голоса друзей, которых ему, возможно, никогда уже не придется увидеть.
Воздушные потоки текли все стремительнее. Он будто попал в реактивную струю — однажды на Земле он изведал это острое ощущение в погоне за рекордом на высотном планере. Но откуда взялась реактивная струя здесь, на Раме?
Стоило Джимми точно сформулировать вопрос — и сразу пришел ответ.
Звук, наполняющий все вокруг, — это электрический ветер, уносящий прочь чудовищную ионизацию, которая скапливается вблизи Большого рога. Заряженные частицы воздуха выбрасываются в пространство вдоль оси, а сюда, в область низкого давления, снизу поступают новые. Он опять оглянулся на исполинскую и теперь вдвойне опасную иглу: не удастся ли определить границы бури на глаз? Вероятно, лучшей тактикой здесь будет полет «на слух» — уходить как можно дальше от зловещего свиста.
Но принять еще одно решение он не успел — Рама опередил его. За спиной Джимми, заслонив небо, встала стена пламени. Времени у пего осталось ровно столько, чтобы увидеть, как стена разделилась на шесть огненных лент — от вершины Большого рога к каждому из малых. А затем последовал страшный удар.
28 ИКАР
Едва Джимми Пэк успел радировать: «Крыло переламывается… я падаю… я падаю!», как «Стрекоза» начала грациозно складываться вдвое. Левое крыло с треском лопнуло точнехонько пополам, и внешняя половина не спеша поплыла прочь, словно опавший лист. С правым крылом случилось нечто еще более невообразимое. Оно надломилось и вывернулось у самого основания под таким острым углом, что запуталось концом в хвостовом оперении. Джимми теперь сидел верхом на раненом мотыльке; неотвратимо падающем с небес.
И все-таки он не был совершенно беспомощен: винт все еще вращался, и, пока у пилота не иссякли силы, он отчасти сохранял контроль над положением. Но в его распоряжении оставалось не больше пяти минут.
Была ли у него хоть малейшая надежда добраться до моря? Нет, оно лежало слишком далеко. Потом он сообразил, что до сих пор не отрешился от земных представлений: пловец он хороший, но, прежде чем его спасут, пройдут часы, а тем временем ядовитые воды преспокойно убьют его. Единственный для него шанс заключался как раз в том, чтобы сесть на сушу; о проблеме отвесного южного утеса он подумает позже — если понятие «позже» не утратит для него всякий смысл.
Падал он медленно — в этой зоне сила тяжести равнялась лишь одной десятой g, но по мере удаления от оси падение неизбежно ускорится. Сопротивление воздуха еще более усложнит картину, однако, может статься, спасет его от слишком опасных ускорений. «Стрекоза», даже неуправляемая, сработает как грубый парашют. А те десять килограммов тяги, которые он добавит к ее собственным усилиям, возможно, как раз и окажутся решающими в схватке между жизнью и смертью. Решающими, как он надеялся, в пользу жизни.
Группа наблюдения хранила молчание: друзья видели, что произошло с Джимми, и понимали, что словами здесь не поможешь. Ему предстоял летный маневр, самый хитроумный во всей его практике. «Жаль, — подумал он с мрачным юмором, — что мало зрителей и некому оценить мое искусство по достоинству…»
Он шел вниз по широкой кривой, и, пока удавалось удерживать аэропед от резкого крена, шансы на выживание оставались довольно высокими. Педалями он помогал «Стрекозе» сохранять определенные летные качества, хотя и боялся нажимать в полную силу, чтобы сломанные крылья не оторвались окончательно. И каждый раз, когда его поворачивало лицом на юг, он мог воздать должное фантастическому представлению, которое Рама устроил в его честь.
Струи молний по-прежнему били с вершины Большого рога в более низкие пики, но теперь — теперь они еще и вращались! Шестизубая огненная корона раскручивалась против хода вращения Рамы — один оборот за те же несколько секунд. Джимми почудилось, что он наблюдает в действии исполинский электромотор, и, пожалуй, он был недалек от истины.
Он прошел уже полпути к равнине, продолжая спуск по плоской спирали, когда фейерверк неожиданно иссяк. Джимми физически ощутил, как спало напряжение, висевшее в воздухе, и знал, не глядя, что волосы уже не стоят торчком. Хоть в эти последние минуты ничто не отвлекало его, не мешало ему бороться за жизнь.
Как только ему стало ясно, в какой примерно зоне он упадет, Джимми принялся внимательно ее изучать. Большая часть района представляла собой как бы шахматную доску с клетками, решительно непохожими одна на другую, словно какому-то сумасшедшему садовнику дали полную свободу действий, нет, приказали воплотить в натуре все, что может быть подсказано больным воображением. Квадраты размером приблизительно километр на километр всевозможных цветов и структур были, как правило, гладкими, но твердыми ли? Джимми решил повременить с выбором до последней минуты — если, конечно, у него останется хоть какой-нибудь выбор.
На высоте порядка трехсот метров он послал друзьям прощальный привет.
— Все еще сохраняю минимальную устойчивость… сяду через полминуты, потом вызову вас снова.
Оптимизм его был наигранным, и все это знали. Но он категорически не мог произнести; «Прощайте», он хотел, чтобы товарищи слышали; Джимми не поддался страху, он борется до конца.
И действительно, он почти не чувствовал страха, чему немало удивлялся сам — он никогда не считал себя особенным храбрецом. Словно он со стороны наблюдал за поступками совершенно незнакомого человека и лично в них никак не участвовал. Вернее, словно ему предложили хитрую задачу из области аэродинамики, и он решал ее, подставляя различные параметры и экспериментально проверяя, что получается. Единственным сохранившимся чувством было смутное сожаление об утраченных надеждах, и о главной из них — о предстоящих Лунных Олимпийских играх. При любом исходе борьбы одно было несомненным: никогда уже «Стрекозе» не показать свою прыть на Луне.
Осталось сто метров, посадочная скорость казалась приемлемой, но не слишком ли быстро он снижается? Ему повезло — участок попался абсолютно ровный. Теперь вложить все силы в финальный рывок… внимание… пошел!..
Правое крыло, исполнив свой долг, наконец отлетело у самого основания. «Стрекоза» начала опрокидываться, и он попытался удержать ее в равновесии, бросив тело в противоположную сторону. Его глаза были устремлены на вогнутый свод ландшафта в шестнадцати километрах нал головой, когда путешествие окончилось.
Невероятно и несправедливо, но небесный свод оказался на поверку твердым как камень.
29 ПЕРВЫЙ КОНТАКТ
Первое, что он ощутил, приходя в себя, — жестокую головную боль. Он почти обрадовался ей: но крайней мере она доказывала, что он еще жив.
Затем он попробовал шевельнуться и убедился, что болит буквально все — болевые ощущения поражали своим разнообразием. Но, насколько он мог судить, явных переломов не было.
Наконец он рискнул открыть глаза — и тут же зажмурился снова: выяснилось, что он уставился прямехонько на полосу света, перечеркивающую потолок. Вряд ли подобное зрелище можно было рекомендовать как лекарство от головной боли.
Он вес еще лежал, восстанавливая силы и размышляя, не пора ли вновь взглянуть на окружающий мир, когда услышал где-то совсем неподалеку громкий хруст. Он мед ленно-медленно повернул голову к источнику звука, посмотрел — и едва снова не впал в беспамятство.
В каких-то пяти метрах от него огромный зверь, похожий на краба, с аппетитом пожирал останки бедной «Стрекозы». Когда Джимми слегка оправился or шока, он неторопливо и бесшумно откатился подальше от чудовища, поневоле ожидая, что оно вот-вот унюхает более лакомую пищу и запустит в него свои когти. Однако краб почему-то не удостоил человека вниманием, и, увеличив дистанцию до десяти метров, Джимми осторожно приподнялся и сел.
С такого расстояния зверь уже не казался порождением кошмара. Длинное плоское тело двухметровой длины и метровой ширины покоилось на шести суставчатых лапах, по три сочленения в каждой. Джимми ошибся, сочтя, что чудовище решило пообедать «Стрекозой», — пристальный осмотр не обнаруживал даже подобия пасти. В действительности оно старательно разрезало аэропед на части, используя когти как ножницы. А манипуляторы, мучительно похожие на крохотные человеческие руки, непрерывно собирали обрезки и складывали у зверя на спине — там их уже накопилось целая куча.
Но полноте, зверь ли это? Первое впечатление было именно таково, а теперь Джимми стал теряться в догадках. В движении краба чувствовалась целеустремленность, свидетельствующая о довольно высоком уровне интеллекта, да и зачем животное, руководимое слепым инстинктом, стало бы собирать измельченные части аэропеда — разве что для своего логовища?
Не в силах отвести взгляд от краба, который по-прежнему совершенно его игнорировал, Джимми с трудом поднялся на ноги. Сделав несколько неуверенных шагов, он убедился, что может ходить, но отнюдь не был уверен, что обгонит шестиногое диво. Затем он включил рацию, даже не задав себе вопроса, будет ли она работать. Если катастрофа не расплющила его самого, то электронные печатные схемы такой катастрофы вообще не заметили.
— Группа наблюдения, — тихо позвал он. — Слышите меня?
— Слава богу! Ты жив?
— Жив, хотя меня и тряхнуло. Взгляните-ка на эту картинку…
Он направил телекамеру на краба — как раз вовремя, чтобы снять тою за уничтожением последнего лонжерона «Стрекозы».
— Это что за дьявольщина? И почему оно решило закусить твоим аэропедом?
— Хотелось бы знать! Со «Стрекозой» оно уже покончило. Я, пожалуй, отойду — а вдруг оно захочет взяться за меня…
Джимми постепенно отступал, ни на секунду не спуская с краба глаз. Тот двигался теперь вкруговую, по все расширяющейся спирали, видимо, разыскивая случайно пропущенные обломки, и впервые предоставил Джимми возможность осмотреть себя со всех сторон.
Оправившись от первоначального потрясения, лейтенант пришел к выводу, что столкнулся со зверюгой прямо-таки красивым. Название «краб», которое он дал ему не думая, было, пожалуй, не вполне точным: не будь эта тварь столь непомерно велика, се лучше бы, наверное, именовать жуком. Панцирь у нее отливал чудесным металлическим блеском — Джимми, в сущности, готов был поклясться, что это именно металл и ничто другое.
Любопытная идея: а что, если краб — вовсе не зверь, а робот? Он пристально взглянул на шестиногое с этой новой точки зрения, анализируя в деталях его строение. На месте рта был набор манипуляторов, живо напоминавший Джимми большой многоцелевой перочинный нож — мечту всякого уважающего себя мальчишки: клещи, щупы, напильники и даже нечто, похожее на сверло. Но все это еще ничего не доказывало. Земные насекомые тоже владеют подобными инструментами — и множеством других. Зверь или робот? Оба предположения оставались по-прежнему равновероятными.
Глаза, которые могли бы, кажется, разом решить проблему, тем не менее лишь осложняли ее. Они были так глубоко утоплены под защитными выростами, что никак не позволяли судить о свойствах их линз — кристаллических либо студенистых. К тому же они были лишены всякого выражения, хотя светились поразительно ясной голубизной. Несколько раз они устремлялись прямо на Джимми, но и тогда в них не мелькало ни искорки интереса. По мнению самого Джимми, пожалуй, слегка предвзятому, такое поведение отнюдь не свидетельствовало о могучем уме. Любое создание — животное или робот, — способное не заметить человека вблизи, нельзя считать чересчур смышленым.
Краб наконец перестал описывать круги и на секунду-другую замер на месте, будто прислушиваясь к некоему безмолвному голосу. Затем он пустился прочь, смешной походкой враскачку, примерно в направлении моря. Двигался он по идеальной прямой с постоянной скоростью 4–5 километров в час и прошел уже метров двести, прежде чем Джимми, еще не совсем оправившийся от контузии, сообразил, что негодная тварь уносит с собой все, что остаюсь от его возлюбленной «Стрекозы». Сообразил, вознегодовал и бросился в погоню.
Поступок этот не был совершенно бессмысленным. Краб двигался к морю — спасение, если оно вообще возможно, придет именно с этой стороны. И отнюдь небезынтересно попутно узнать, как намерено чудовище распорядиться своим трофеем, — это прольет определенный свет на мотивы его действий и уровень развития.
Тело все еще болело, ноги не слушались, и понадобилось целых пять минут, чтобы нагнать целеустремленно вышагивающего краба. Некоторое время Джимми держался на почтительном расстоянии, пока не удостоверился, что тот не возражает против преследования. Собственно, именно тогда лейтенант приметил в куче обломков «Стрекозы» свой пищевой рацион и фляжку с водой — и сразу почувствовал острый голод и жажду.
Подумать только — от него со скоростью пешехода уносили всю пишу и все питье, какие имелись налицо в этой половине мира! Не считаясь с риском, он должен был снова завладеть ими.
Он осмотрительно приблизился к крабу сзади справа. Держась наравне с «противником», пригляделся к сложному ритму ног, пока не получил точного представления, где окажется любая из них в каждый следующий момент. Проведя такую подготовку, Джимми сдавленно пробормотал: «Извините», и молниеносным броском выхватил свою собственность из кучи. Ему и во сне не снилось, что в один прекрасный день придется обучаться искусству кражи, и успешное ее завершение привело его в восторг. Вся операция не заняла и секунды, а краб даже не замедлил шага.
Джимми отскочил на десяток метров, смочил губы из фляжки и принялся жевать ломтик мясного концентрата. Одержанная им пусть маленькая, но победа резко подняла его настроение; теперь он мог позволить себе даже призадуматься о невеселом будущем.
Пока живу — надеюсь; и тем не менее он не видел путей к собственному спасению, совсем не видел. Допустим, его товарищи переплывут море, но он-то как доберется до них, как преодолеет полукилометровый утес? «Мы что-нибудь придумаем, — обещала группа наблюдения. — Утес не может тянуться вокруг всего мира, хоть где-нибудь да есть разрыв…» «Почему же не может?» — едва не ответил он, но вовремя прикусил язык.
Одна из самых примечательных особенностей Рамы заключалась в том, что, куда бы вы ни держали путь, вы всегда ясно видели цель своего назначения. Изгиб поверхности здесь ничего не прятал, а, напротив, выявлял. И Джимми довольно скоро понял, куда направляется краб: впереди на склоне — изогнутая поверхность казалась склоном — виднелась яма поперечником в полкилометра. На Южном континенте таких ям насчитывалось три, судить об их глубине на расстоянии было невозможно. Их назвали по именам самых известных лунных кратеров, и теперь он приближался к «Копернику». Название выбрали не совсем удачно: здесь не было ни кольцевых возвышенностей, ни центрального пика. «Коперник» представлял собой просто-напросто глубокую шахту и, может быть, колодец с вертикальными стенками.
Подойдя поближе и заглянув через край, Джимми различил на глубине что-нибудь около пятисот метров лужицу неприветливой серо-зеленой воды. Полкилометра — значит, вода стоит приблизительно на уровне моря; интересно, сообщаются ли колодец и море между собой?
Завиваясь в спираль, к воде вел наклонный спуск, утопленный в стенке колодца; у Джимми мелькнула мысль, что он заглянул в нарезной ствол исполинского ружья. Нарезка делала немалое число витков, Джимми попытался проследить их, отсчитал с десяток оборотов, сбился — и только тут понял, что видит не один, а три независимых спуска, развернутых по отношению друг к другу на сто двадцать градусов. В любом другом мире это показалось бы редкостным архитектурным излишеством — в любом, только не на Раме.
Все три спуска косо вонзались в воду и исчезали под ее мутноватым зеркалом. Впрочем, чуть ниже поверхности Джимми приметил выходы каких-то темных тоннелей или пещер, выглядели эти темные норы довольно мрачно, и он еще задал себе вопрос: обитаемы ли они. Что, если рамане — земноводные?..
Когда краб приковылял к краю колодца, Джимми решил, что тот намерен спуститься по виткам и, может статься, предъявить обломки «Стрекозы» некоему высшему существу, способному оценить их. Вместо этого зверь просто подошел к обрыву, не колеблясь свесил почти половину панциря над бездной, хотя ошибка буквально в несколько сантиметров могла оказаться для него роковой, и резко встряхнулся всем телом. Обломки «Стрекозы» посыпались, подрагивая, вниз, а у Джимми на глазах выступили невольные слезы. «Вот тебе и разумная тварь…» — горько подумал он.
Избавившись от ноши, краб внезапно повернулся и двинулся прямо на Джимми, который стоял всего-то в десятке метров. «Неужто и меня туда же?» — изумился он. Оставалось надеяться, что камера не слишком дрожала в его руках, когда он наводил ее на приближающееся чудовище.
— Что посоветуете? — нерешительно спросил он у группы наблюдения, по правде говоря, не надеясь на толковый ответ.
Утешением, хотя и небольшим, служило сознание, что он входит в историю, и он спешно перебрал в памяти рецепты, выработанные на случай подобной встречи. Все они до этого самого дня были чисто теоретическими. Ему первому выпало проверить их на практике.
— Не беги, пока не удостоверишься, что он настроен враждебно, — шепнули далекие друзья.
«А куда бежать?» — спросил себя Джимми. Разумеется, он обставил бы эту тварь на стометровке, но на дальней дистанции она наверняка загонит его.
Не торопясь Джимми вытянул навстречу крабу обе руки. Вот уже добрые два века люди спорили: целесообразен ли такой жест, повсюду ли во Вселенной его истолкуют как «Смотрите, я безоружен»? Но. увы, лучшего никто так и не предложил.
А краб — краб вообще не реагировал на дружеский жест, даже не замедлил шага. Не удостоив Джимми вниманием, он прошествовал мимо и с деловым видом направился на юг. Понимая, что остался в дураках, полномочный представитель homo sapiens провожал его взглядом, а герой несостоявшегося первого контакта удалялся по раманской равнине, безразличный к человеку и к сю разочарованию.
За всю свою жизнь Джимми не испытывал такого унижения. Потом на помощь ему пришло врожденное чувство юмора.
В конце концов, невелика беда не удостоиться приветствия со стороны одушевленной мусоросборочной машины. Было бы куда хуже, если бы она вознамерилась обнять его как долгожданного брата…
Он вернулся к кромке «Коперника» и уставился в мутные воды. На этот раз он заметил, что там в глубине лениво снуют какие-то зыбкие тени, иные из них весьма солидных размеров. Вот одна из теней переместилась к ближайшему спиральному спуску, и наверх поползло нечто, похожее на многослойный танк. По скорости движения Джимми вычислил, что на подъем танку потребуется около часа; если танк и являл собой угрозу, то надвигалась она крайне медленно.
Чуть позже у выходов из темных нор, что прятались под самой поверхностью, мелькнула другая тень, более быстрая. Что-то стремительно метнулось вдоль нарезки, но он не сумел ни разглядеть это «что-то», ни хотя бы понять, какие оно имеет очертания. Словно зам внизу пронесся небольшой смерч, пылевой столб величиной с человека.
Джимми зажмурился и потряс головой, не раскрывая глаз в течение нескольких секунд. Когда он открыл их снова, видение исчезло.
Вероятно, падение потрясло его сильнее, чем он предполагал, — до сих пор он не страдал галлюцинациями. Группе наблюдения он на всякий случай не сказал ни слова. Но и исследовать спиральные спуски, на что уже почти отважился, тоже не стал. Решил не расходовать понапрасну энергию.
Вращающийся фантом, который ему привиделся, отношения к этому не имел. Ни малейшего отношения — во что, во что, а в призраки Джимми не верил.
30 ЦВЕТОК
Напряжение вызвало жажду, и Джимми остро осознал, что вокруг нет пригодной для питья воды. На том, что оставалось во фляжке, он продержится, быть может, неделю, но, собственно, зачем? Лучшие умы Земли вскоре станут биться над «проблемой Джимми»; капитана Нортона, вне всякого сомнения, забросают проектами. Но сам он, как ни тщился, не мог найти способа спуститься по срезу полукилометрового утеса Даже будь у него веревка такой длины, к чему ее привязать?
И все-таки глупо — и не по-мужски — сдаваться без борьбы. Всякая возможная помощь может прийти только со стороны моря, и он будет двигаться в ту сторону, а попутно делать свое дело, словно ничего не случилось. Ведь никто и никогда больше не увидит и не сфотографирует территорию, по которой ему предстоит пройти, и одно это уже гарантирует ему память в веках. Он, конечно, предпочел бы иные, прижизненные блага, но уж лучше посмертная слава, чем вообще ничего.
Если бы он мог летать, как погибшая «Стрекоза», от моря его сейчас отделяло бы всего три километра, но подойти к морю по прямой — задача вряд ли выполнимая; некоторые участки впереди представляют собой слишком серьезное препятствие. Однако маршрутов в его распоряжении сколько угодно. И Джимми мог в любой момент окинуть их взглядом: вот они, расчерчены перед ним, как на гигантской карте, с обеих сторон уходящей ввысь и вдаль.
Времени ему не занимать, и начнет он с самого интересного, даже если это уведет его от кратчайшего пути. Примерно в километре вправо простирался квадрат, сверкающий так, будто его усыпали осколками стекла или драгоценными камнями. Мысль о последних, пожалуй, и подстегнула Джимми. Даже приговоренный к смерти не может не проявить интереса к тысячам квадратных метров драгоценностей.
Впрочем, он не слишком огорчился, выяснив, что заманчивый блеск создают всего-навсего кристаллы кварца. Зато квадрат рядом оказался намного примечательнее: его сплошь покрывали пустотелые металлические колонны, расположенные без всякого видимого порядка, но очень близко друг к другу. Высоты они были самой различной — одни не достигали и метра, другие вытянулись с трехэтажный дом. Пройти между ними нечего было и надеяться — не всякий танк смог бы продраться сквозь эти заросли труб.
Двигаясь между квадратом, покрытым кристаллами, и квадратом с колоннами, Джимми вышел на перекресток. Теперь квадрат по правую руку напоминал ковер или гобелен из крученой пряжи — Джимми попытался оторвать хотя бы ниточку, но не сумел. По левую руку располагалась мозаика из шестигранных плиток, плотно пригнанных друг к другу. Она казалась бы монолитной, не окрась рамане плитки во все цвета радуги. Джимми потратил немало времени в поисках двух сопредельных плиток одного цвета — хотел узнать, различима ли граница между ними, — но не нашел ни одного случая подобной небрежности.
Передавая панораму перекрестка, он пожаловался группе наблюдения:
— Ну, а вы-то хоть что-нибудь понимаете? У меня чувство, словно я заперт в гигантском лабиринте. Или это раманская картинная галерея?
— Мы озадачены не меньше твоего, Джимми. Пока что мы не замечали, чтобы рамане интересовались искусством. Но не будем спешить с выводами — подождем, понаблюдаем еще…
Квадраты, лежащие за следующим перекрестком, ничего не прояснили. Один был совершенно пуст — жесткая гладкая поверхность безликого серого цвета. Второй — заполнен мягким губчатым веществом, усеянным миллионами и миллионами крошечных пор. Джимми попробовал его ногой, и вещество тут же омерзительно колыхнулось.
На очередном перекрестке его поджидало нечто, поразительно похожее на вспаханное поле с бороздами одинаковой метровой глубины, а материал, по которому они шли, имел насечки наподобие напильника или рашпиля. Но он не обратил особого внимания на этот квадрат, потому что квадрат рядом дразнил воображение, как ни один из предыдущих.
Наконец-то он встретил нечто доступное пониманию — и вместе с тем вызывающее нешуточное беспокойство.
Этот квадрат был обнесен забором, настолько заурядным, что на Земле Джимми не удостоил бы его повторным взглядом. Метрах в пяти друг от друга стояли столбики — очевидно, металлические, — а между ними тянулись шесть рядов туго натянутой проволоки.
За первым забором следовал второй — двойник первого, а дальше третий. Новый типичный образчик надежности по-ра-мански: что бы ни содержали в этом загоне, оно ни при каких обстоятельствах не вырвалось бы на свободу. Входа вообще не было — никаких ворот, которые можно распахнуть, чтобы ввести животное или животных — предполагаемых узников. Зато в центре квадрата темнела дыра, копия «Коперника», только сильно уменьшенная.
Даже при других обстоятельствах Джимми, вероятно, не колебался бы, а сейчас ему просто нечего было терять. Он быстро перемахнул через все три забора, подошел к дыре и заглянул в нее.
Не в пример «Копернику», этот колодец достигал в глубину лишь пятидесяти метров. На дне виднелись жерла трех тоннелей, достаточно широких, чтобы пропустить слона. И все.
Присмотревшись, Джимми решил, что вся конструкция может означать только одно: дно колодца представляет собой подъемник. Но для кого предназначен этот подъемник, он наверняка не узнает никогда, хотя нетрудно догадаться, что «кто-то» очень велик и, похоже, очень опасен.
За последующие три-четыре часа он прошагал параллельно берегу моря более десяти километров, и клетки шахматной доски начали сливаться в его сознании. Были квадраты, от края до края накрытые ячеистым проволочным тентом, словно гигантские вольеры для птиц. Попадались и другие, напоминавшие застывшие озера со вмерзшими в лед водоворотами; осторожно потрогав «лед», Джимми убедился, что он чрезвычайно прочен. А один квадрат был совершенно черным, черным настолько, что цвет уже не воспринимался глазом и только осязание доказывало, что пространство заполнено веществом.
И наконец вновь встретился вариант, доступный разумению, Вытянувшись одно за другим, к югу простирались — другого слова не подобрать — поля. Будто Джимми очутился на какой-то экспериментальной земной ферме: перед ним, квадрат за квадратом, лежала ровная, хорошо взрыхленная почва, первая, какую ему довелось увидеть среди металлических пейзажей Рамы.
Огромные поля были девственными, безжизненными, истомившимися по зерну, которого никогда не питали. Джимми искренне удивился: зачем они, ведь не может же быть, чтобы рамане, достигшие таких высот развития, всерьез интересовались агротехникой; даже на Земле сельское хозяйство являлось теперь не более чем хобби да еще служило поставщиком некоторых дорогих экзотических продуктов. Но он мог поклясться, что это именно фермы, и притом старательно подготовленные к севу. Никогда и нигде не встречал Джимми почвы столь чистой на вид; каждый квадрат был накрыт упругой пленкой прозрачного пластика. Он попытался прорезать пленку и добыть образец почвы, но его нож лишь оставил на пленке чуть заметный след.
Дальше вглубь еще и еще тянулись поля, и на многих из них красовались сложные конструкции из прутьев и проволоки, предназначенные, видимо, для поддержки вьющихся растений. Выглядели эги конструкции унылыми и заброшенными, как деревья без листьев в середине зимы. И правда, поля познали действительно долгую и жестокую зиму, и выпавшие им сейчас немногие недели света и тепла были только краткой передышкой перед новым ее приходом…
Джимми и сам не понял, что заставило его вдруг остановиться и пристально вглядеться в уходящие на юг металлические дебри. Наверное, его мозг продолжал бессознательно отмечать все, что происходит вокруг; именно мозг скомандовал «стоп», когда в фантастически враждебном окружении появилось нечто окончательно невозможное.
За четверть километра от Джимми, в глубине проволочных шпалер, сверкала цветная одинокая искорка. Она была так мала и неприметна, так неразличимо далека, что на Земле никто не обратил бы на нее внимания. И тем не менее одной из причин, по которым он вообще заметил эту искорку, было, без сомнения, то, что она напоминала о Земле…
Он не сообщал пока ни слова группе наблюдения до тех пор, пока не убедился, что не ошибается и не принимает желаемое за действительное. Только когда до цели остались буквально считанные метры, он наконец поверил, что жизнь — настоящая, неоспоримая жизнь — все-таки сумела прорваться в бесплодный асептический мир Рамы. Здесь, на задворках Южного континента, в гордом одиночестве рос прекрасный цветок.
Приблизившись, Джимми понял со всей очевидностью, что в расчеты раман вкралась нечаянная ошибка. В оболочке, защищавшей квадрат от проникновения непрошеных форм жизни, образовалась дыра. И сквозь нее пробивался зеленый стебель толщиной с мизинец, обвивший одну из шпалерных стоек. На метровой высоте стебель взрывался букетом синеватых листьев, очень похожих на перья, — Джимми не видел таких ни у одного из знакомых растений. А на уровне глаз стебель венчало то, что лейтенант поначалу принял за один цветок. Теперь он рассмотрел без особого удивления, что на самом деле это три цветка, плотно прильнувшие друг к другу.
И лепестки были совсем не лепестки, а ярко окрашенные трубки сантиметров по пять длиной; в каждом соцветии их насчитывалось не меньше пятидесяти, и они переливались такой металлической синевой, амарантом и зеленью, что напоминали скорее уж крылья бабочки, чем подданных растительного царства. Познания Джимми в ботанике равнялись практически нулю, но и он был озадачен полным отсутствием чего-либо похожего на тычинки и пестики. Ему даже пришло в голову, что сходство с земными цветами — не более чем совпадение: может статься, перед ним дальний родственник колонии полипов. Так или иначе, строение цветка вроде бы подразумевало существование мелких летающих насекомых, хотя оставалось неясным, зачем они нужны растению — то ли для опыления, то ли в качестве пищи.
Но какое это, в сущности, имело значение! Каким бы ни оказалось строго научное определение, для Джимми это был просто цветок. Неизъяснимое чудо, распустившееся вопреки всем ухищрениям раман, цветок напомнил юному пилоту о том, чего он, вероятно, никогда уже не увидит, и Джимми твердо решил завладеть им.
Легко решить — труднее выполнить. До цветка оставалось более десяти метров, и на этих метрах располагалась решетчатая конструкция из тонких прутьев. Получалась как бы череда полых кубиков со стороной около сорока сантиметров, а то и меньше. Не будь Джимми худым и гибким, он не летал бы на аэропедах, и проползти сквозь перекрестья решетки ему удастся. А вот выбраться назад — другое дело: развернуться в ее тенетах немыслимо, так что возвращаться придется задним ходом.
Группа наблюдения пришла в восхищение, когда он описал цветок и заснял его во всех возможных ракурсах. Никто не возразил и когда он сообщил: «Полезу, сорву». Он и не ожидал возражений: жизнь его теперь всецело принадлежала ему самому, он был вправе распорядиться ею, как заблагорассудится.
Он снял с себя всю одежду, ухватился за гладкие металлические прутья и принялся ужом ввинчиваться между ними. Со всех сторон его сжали тугие тиски, он чувствовал себя словно арестант, протискивающийся сквозь решетку в оконце камеры. Забравшись в частокол с ногами, он сделал попытку сдвинуться назад, просто ради того, чтобы проверить, реально ли это. Да, движение назад было намного сложнее — приходилось не подтягиваться на вытянутых руках, а отталкиваться ими, — сложнее, однако отнюдь не невозможно.
Джимми был человеком порыва, человеком действия, никак не склонным к самоанализу. Извиваясь в тесном строе прутьев, он не тратил времени на раздумья о том, что толкнуло его на столь донкихотский поступок. До сих пор он совершенно не интересовался цветами, а сейчас тратил остатки сил в погоне за одним-единственным цветком.
Разумеется, этот цветок был уникальным, представлял собой неизмеримую научную ценность. Но если разобраться, Джимми рвался к нему только потому, что цветок напоминал о живой природе, о родной планете. Тем не менее, когда осталось лишь протянуть руку, чтобы коснуться его, Джимми внезапно испытал чувство неуверенности. Ведь цветок был наверняка единственным во всем исполинском пространстве Рамы — вправе ли он, Джимми, сорвать его?
Если бы лейтенант стал искать оправданий, он утешил бы себя мыслью, что сами рамане в своих планах не предусматривали этого цветка. Чистейшая игра случая, которая совершилась к тому же на тысячелетия позже или на тысячелетия раньше, чем нужно. Но Джимми не искал оправданий, колебания его оказались мимолетными. Он протянул руку, сжал стебель и рванул на себя.
Цветок подался довольно легко: Джимми сорвал еще парочку листьев, а затем медленно пополз сквозь решетку назад. Одна рука у него теперь была занята, это еще более осложняло задачу, двигаться стало не только трудно, но и больно, и он вскоре приостановился, чтобы передохнуть. Именно тогда он и заметил, что листья-перья начали съеживаться, а обезглавленный стебель медленно раскручивался со шпалер. Не то зачарованный, не то испуганный, Джимми понял, что растение постепенно уходит в почву, как смертельно раненная змея, заползающая обратно в нору.
«Я убил красоту», — упрекнул себя Джимми. Но в конце концов Рама посягнул на его собственную жизнь! И сейчас он лишь взял то, что принадлежало ему по праву.
31 КОНЕЧНАЯ СКОРОСТЬ РАВНЯЕТСЯ…
Капитан Нортон никогда не терял людей и не имел намерения открывать счет потерям. Еще до того, как Джимми вылетел к Южному полюсу, капитан уже изыскивал пути его спасения в случае аварии, однако задача оказалась столь трудной, что к ней так и не нашлось ответа. Все, чего удалось добиться, — это безжалостно забраковать предлагаемые решения.
Как вскарабкаться по полукилометровому отвесному утесу, пусть даже при пониженной гравитации? С соответствующим снаряжением и сноровкой это, видимо, довольно легко. Но на борту «Индевора» не было альпинистских скальных пистолетов и никто не додумался, каким другим способом вогнать в твердую, зеркально гладкую поверхность сотни стальных клиньев — а меньшим числом было не обойтись.
Нортон рассматривал и другие фантастические проекты, иные из них граничили с безумием. Допустим, обезьяна, снабженная присосками на лапах, сумела бы забраться наверх. Но даже если это в принципе осуществимо, сколько дней уйдет на то, чтобы изготовить и испытать нужное снаряжение, а главное научить обезьяну пользоваться им? У человека же на подобное восхождение просто не хватит сил.
Привлечь на помощь технику? Напрашивалась мысль использовать ранцевые реактивные двигатели, но они предназначались для условий невесомости и давали слишком слабую тягу. Справиться с притяжением, даже с таким умеренным, как на Раме, да еще и поднять человека они не могли.
Однако нельзя ли запустить ранцевый двигатель в автоматическом режиме с грузом — бухтой спасательного каната? Нортон высказал такую идею сержанту Майрону, и тот не замедлил разнести ее вдребезги. Возникнут, сразу же указал Майрон, серьезные трудности со стабилизацией; их, конечно, можно преодолеть, но на это потребуется время — гораздо больше времени, чем у них осталось.
Ну, а воздушный шар? Здесь проглядывалась какая-то зыбкая возможность — если бы они придумали, из чего соорудить оболочку и как создать не слишком громоздкий источник тепла. Во всяком случае, воздушный шар был единственной надеждой, которую Нортон еще не успел отбросить к моменту, когда проблема из чисто теоретической превратилась в вопрос жизни и смерти и заняла главенствующее место в сводках новостей во всех населенных мирах.
Пока Джимми путешествовал вдоль берега моря, добрая половина всех безумцев Солнечной системы лихорадочно изобретала, как его спасти. Шгаб космического флота принимал и рассматривал любые предложения и примерно одно из тысячи передавал на «Индевор». Предложение, с которым выступил Карлайл Перера, было передано дважды — через сеть Службы Солнца и непосредственно через Планетком от имени Комитета по проблемам Рамы. Ученому это предложение стоило пяти минут раздумий и одной миллисекунды компьютерного времени.
Капитан Нортон решил было, что это шутка весьма дурного толка. Затем прочитал имя отправителя, увидел приложенные расчеты и поспешно их проверил, после чего вручил послание Карлу Мерсеру.
— Что ты об этом думаешь? — спросил он самым обыденным тоном.
Карл быстро пробежал радиограмму глазами.
— Будь я проклят! Он прав, разумеется.
— Ты уверен?
— Он оказался прав насчет шторма, не так ли? Ей-ей, мы и сами могли бы догадаться об этом. Теперь я поневоле чувствую себя дураком.
— Могу составить тебе компанию. Следующий вопрос — как сообщить эту новость Джимми?
— По-моему, не надо ничего сообщать до самой последней минуты. Будь я на его месте, я определенно предпочел бы молчание. Скажи ему просто, что мы плывем.
Хотя Джимми без труда охватывал взглядом всю ширину Цилиндрического моря и представлял себе примерно направление, откуда ждать «Резолюшн», он не мог различить крохотное суденышко до тех пор, пока оно не миновало Нью-Йорк. Не верилось, что оно способно выдержать шесть человек да еще какое-то снаряжение для спасательных работ.
Когда до плота остался километр, Джимми узнал капитана Нортона и принялся махать ему. Чуть позже шкипер в свою очередь заметил Джимми и помахал в ответ.
— Рад видеть тебя в добром здравии, Джимми, — добавил он по радио. — Я же обещал, что мы не оставим тебя в беде. Теперь-то ты мне веришь?
«Ну, положим, не совсем», — подумал Джимми. Вплоть до последней секунды он задавал себе вопрос: не дружеский ли это заговор с целью поддержать его настроение? Но командир не стал бы пересекать море лишь за тем, чтобы проститься; наверное, они действительно что-то придумали.
— Поверю, шкипер, — ответил Джимми, — когда буду у вас на палубе. Ну а вы — вы хоть теперь-то скажете мне, как именно я до вас доберусь?
«Резолюшн» замедлил ход в сотне метров от подошвы утеса; насколько Джимми мог судить, на плоту не было никакого необычного снаряжения, а впрочем, он не очень-то твердо знал, чего ожидать.
— Извини, Джимми, но заранее мы не хотели тебя слишком волновать…
Слова капитана звучали зловеще; черт побери, что он имеет в виду?
«Резолюшн» остановился в пятидесяти метрах от утеса и в пятистах от Джимми — по вертикали, и лейтенант видел, как командир обращается к нему, видел с высоты птичьего полета.
— Значит, так, Джимми. Ты останешься цел и невредим, но от тебя потребуется изрядное мужество. Мы уверены, что мужества тебе не занимать. Тебе придется прыгнуть.
— Что-о? С высоты пятисот метров?!
— Не забудь — при половине g.
— Ну и что? Вам случалось на Земле падать с высоты двухсот пятидесяти?
— Замолчи, или я отменю тебе очередной отпуск. Можешь проверить вычисления сам… весь вопрос в величине конечной скорости. В атмосфере Рамы нельзя разогнаться до скорости, большей чем девяносто километров в час, безразлично, падаешь ли ты с высоты двести или две тысячи метров, Девяносто километров в час — это. пожалуй, многовато для полного спокойствия, но эту скорость можно еще чуть-чуть уменьшить. Вот что тебе надо сделать, слушай внимательно…
— Слушаю, — ответил Джимми. — Внимательнее некуда…
Больше он капитана не перебивал и не проронил ни слова, пока тот не договорил. Да, это было не лишено смысла и в то же время до смешного просто, настолько просто, что додуматься до такого решения мог только гений. И конечно, при условии, что означенному гению не придется проверять свой рецепт на себе…
Джимми никогда не доводилось ни нырять с большой высоты, ни выполнять затяжные прыжки с парашютом — эти виды спорта могли бы дать определенную психологическую подготовку к тому, что ему сейчас предстояло сделать. Можно битый час уверять человека в том, что перейти по досочке через пропасть — плевое дело, можно предъявить ему безупречные расчеты, а он все равно не способен будет и шагу ступить. Джимми наконец понял, почему капитан так долго избегал обсуждения плана спасения. Нортон хотел, чтобы у него не осталось времени на раздумья, а тем более на возражения.
— Не буду тебя торопить, — убеждал капитан. — Но чем скорее, тем лучше…
Джимми бросил взгляд на свой бесценный сувенир — единственный цветок Рамы. Аккуратно завернул его в грязный носовой платок, завязал платок узелком и швырнул с края утеса. Узелок планировал вниз с успокоительной медлительностью, но это продолжалось так долго — пятнышко становилось меньше, и меньше, и меньше, пока не исчезло совсем. Потом «Резолюшн» рванулся вперед, и Джимми понял, что узелок подобрали.
— Великолепно! — воскликнул Нортон с преувеличенным восторгом. — Уверен, что этот цветок назовут в твою честь. Ну давай, мы ждем…
Джимми снял с себя рубашку — другой верхней одежды в этом климате, ныне тропическом, они не носили — и задумчиво ее расправил. Несколько раз за время своих странствий он едва не бросил ее; теперь она, неровен час, спасет ему жизнь.
В последний раз он оглянулся на пустынный мир, который ему привелось исследовать в одиночку, на дальние грозные острия Большого рога и его малых собратьев. Крепко сжав рубашку правой рукой, он разбежался и прыгнул с утеса — так далеко, как только сумел.
Теперь спешить было некуда; в его распоряжении оставалось добрых секунд двадцать, чтобы проанализировать свои ощущения. Но он не тратил времени зря — вокруг крепчал ветер, «Резолюшн» постепенно вырастал в размерах. Захватив рубашку обеими руками, он вытянул их над головой, чтобы мчащийся навстречу воздух наполнил ткань и превратил ее в удлиненный купол.
Едва ли это стоило рассматривать как парашют: снижение скорости на четыре-пять километров в час приносило, конечно, определенную пользу, но ничего не решало. Рубашка играла другую и притом более важную роль — удерживала его тело в вертикальном положении, чтобы оно врезалось в воду под прямым углом.
Впечатление было по-прежнему такое, что сам он вовсе не движется, зато вода стремительно несется ему навстречу. Как только он отважился на прыжок, чувство страха исчезло без следа; он даже испытывал известное раздражение — какого черта шкипер так долго держал его в неведении? Неужели Нортон и вправду опасался, что он, Джимми, побоится прыгнуть, если будет слишком долго раздумывать?
В самую последнюю секунду он выпустил рубашку, сделал глубокий вдох и зажал нос и рот руками. Как ему и советовали, он напрягся всем телом и плотно сомкнул ноги. В воду он должен войти чисто, как падающее копье…
— Это не труднее, — поучал его капитан, — чем на Земле прыгнуть с вышки. Ничего особенного — если сумеешь правильно войти в воду…
— А если нет? — осведомился Джимми.
— Тогда придется вернуться и попробовать снова…
Что-то ударило его по ногам — сильно, но не чересчур. Миллион скользких рук вцепились ему в тело, в ушах заревело, их стиснуло давлением — и даже сквозь плотно сомкнутые веки он ощутил, как на него по мере погружения в глубины моря наваливается темнота.
Тогда он принялся изо всех сил грести вверх, по направлению к гаснущему свету. Попытался открыть глаза, но мгновенно закрыл их снова: ядовитая вода жгла, как кислота. Подъем, казалось, тянулся столетия, и его не однажды посещало кошмарное подозрение, что он потерял ориентировку и плывет в действительности не вверх, а вниз. В таких случаях он шел на риск и вновь приоткрывал глаза — и с каждым разом вокруг становилось светлее.
Но когда голова наконец вырвалась на поверхность, веки как на грех были плотно сжаты. Он вдохнул всей грудью драгоценный воздух, перевернулся на спину и огляделся, «Резолюшн» шел к нему полным ходом; десять секунд спустя энергичные руки подхватили его и втащили на борт.
— Не наглотался воды? — был первый вопрос командира.
— Не думаю.
— Все равно прополощи рот вот этим. Достаточно. Как ты себя чувствуешь?
— Еще не знаю. Потерпите минутку — разберусь и скажу. Пока что спасибо вам всем… — Минута отнюдь не кончилась, когда Джимми внезапно понял, как именно он себя чувствует, и грустно признался: — Меня тошнит…
Участники спасательной экспедиции просто не поверили своим ушам.
— Это при мертвом штиле, на море, плоском, как доска? — воскликнула Руби Барнс, расценившая, по-видимому, состояние Джимми как прямую жалобу на свое искусство.
— Ну, плоским я бы это морс не назвал, — откликнулся капитан, указав рукой на полосу воды, опоясавшую небо, — Тебе нечего стыдиться, Джимми, ты, должно быть, все-таки глотнул этой дряни. Так избавься от нее, если можешь…
Джимми еще не кончил корчиться, отнюдь не героически и совершенно безуспешно, когда небо позади них внезапно озарила яркая вспышка. Все повернули головы к Южному полюсу, а Джимми мгновенно забыл про тошноту. Начиналось новое действие огненного спектакля.
Километровые потоки пламени устремились, танцуя, с Большого рога к малым. Затем они вновь пришли в размеренное вращение, словно танцоры-невидимки взмахивали своими лентами вокруг электрического майского дерева[15]. Но на этот раз танцоры кружились все быстрее и быстрее, пока ленты не слились в искрящийся конус огня.
Зрелище рождало благоговейный страх, как ни одно из величественных зрелищ, которых здесь было немало; к тому же оно сопровождалось отдаленным грохочущим громом, еще усугублявшим впечатление неукротимой силы. Спектакль продолжался около пяти минут — и оборвался так резко, будто кто-то где-то повернул выключатель.
— Хотел бы я знать, как истолкуют это в Комитете по проблемам, — проговорил Нортон, не обращаясь ни к кому в отдельности. — Кто рискнет выдвинуть какую-нибудь теорию?
Ответить никто не успел — в разговор ворвались возбужденные голоса группы наблюдения.
— «Резолюшн»! У вас все в порядке? Вы заметили?..
— Что мы должны были заметить?
— Мы решили, что это землетрясение. В ту самую минуту, как прекратился фейерверк.
— Причинен ли ущерб?
— Вряд ли. Оно не отличалось особой силой, просто нас слегка тряхнуло…
— Мы ничего не почувствовали. Да и не могли почувствовать — мы же в открытом море.
— Ну конечно, это был глупый вопрос. Теперь у нас вроде все спокойно… до следующего происшествия.
— Вот именно, до следующею происшествия, — откликнулся Нортон.
Тайны Рамы множились час от часу; чем больше люди открывали здесь нового, тем меньше понимали.
Внезапно с кормы донесся крик:
— Шкипер, взгляните! Вон туда, на небо!..
Нортон поднял глаза и поспешно обвел взглядом окружность моря. Но ничего особенного не заметил, пока не запрокинул голову и не увидел ту часть моря, что висела над ними в зените.
— Мой бог, — только и прошептал он, поняв, что «следующего происшествия» долго ждать не придется.
По дуге Цилиндрического моря мчалась приливная волна.
32 ВОЛНА
Даже в эту минуту величайшего потрясения первой мыслью Нортона было убедиться в безопасности своего корабля.
— «Индевор»! — вызвал он. — Доложите обстановку!
— Все в порядке, шкипер, — последовал спокойный ответ старшего помощника. — Был легкий толчок, но он не мог причинить вреда. Наблюдается небольшое изменение ориентации — по докладу штурмана, примерно ноль целых две десятых градуса. Он предполагает также, что несколько изменилась скорость вращения — точные данные будут через две-три минуты.
«Итак, началось, — сказал себе Нортон, — и гораздо раньше, чем мы ожидали: до перигелия, до наиболее логичной точки перемены орбиты, еще далеко… Тем не менее начался какой- то маневр — это несомненно, и не исключено, что последуют новые толчки…»
Результат первого толчка был с определенной очередностью запечатлен на изогнутой водной глади, которая, казалось, неустанно падает с неба. До волны оставалось около десяти километров, и она шла на них, развернувшись во всю ширину моря от северного до южного берега. Вблизи суши волна поднималась стеной белой пены, а в открытом море снижалась до еле видимой синей линии, движущейся куда быстрее, чем буруны на флангах. Тормозящее действие прибрежных отмелей изгибало волну дугой, и центральная ее часть убегала все дальше и дальше вперед.
— Сержант, — властно произнес Нортон, — это по вашей части, Что можно предпринять?
Руби Барнс замедлила ход до полной остановки и впилась в волну оценивающим взглядом. Нортон порадовался, заметив, что лицо отражает не тревогу, а заинтересованность, своего рода предвкушение, как у опытного борца перед схваткой.
— Жаль, что у нас нет эхолота, — отозвалась она. — Если мы в глубокой воде, то и беспокоиться не о чем.
— Значит, мы в безопасности? До берега четыре километра…
— Надеюсь, что да, но еще присмотрюсь…
Руби вновь дала суденышку ход, развернула «Резолюшн» и направила его навстречу приближающейся волне. По оценке Нортона, от центральной, самой стремительной ее части их отделяло теперь меньше пяти минут, но и он уже понял, что как раз эта часть не представляет опасности. Просто-напросто рябь, не достигающая и метровой высоты, — плот разве что покачнется. Подлинная угроза заключается вовсе не в ней, а в горах пены, что остались далеко позади.
И тут — тут буруны внезапно появились и в центре моря. Волна, по-видимому, уперлась в подводную стену протяженностью в несколько километров, верхний край которой почти достигал поверхности. А буруны на флангах как по команде опали — там теперь была, очевидно, глубокая вода.
«Волноломы, — догадался Нортон. — В точности такие же, как в топливных баках «Индевора», только в тысячу раз крупнее. Наверное, их здесь множество по всему морю, чтобы как можно быстрее гасить любую возникшую на нем волну. Существенный вопрос: не находимся ли мы точно над таким же волноломом?..»
Руби Барнс опередила его ровно на одно мгновение. Она опять остановила «Резолюшн» и выбросила якорь. Якорь нащупал дно в каких-то пяти метрах.
— Вытягивайте! — крикнула она товарищам. — Надо убираться отсюда!..
Нортон охотно согласился с ней, однако если уходить, то в каком направлении? Руби двинулась полным ходом навстречу волне, до которой оставалось всего пять километров. Теперь капитан не только видел, но и слышал ее приближение — этот отдаленный рокот он не спутал бы ни с чем, хотя никак не ожидал услышать столь земной звук в пределах Рамы. Но вот звук изменился, стих — в центре волна опала снова, зато поднялась по сторонам.
Он попытался определить интервал между волнами, исходя из догадки, что они размешены равномерно. Получалось, что впереди есть еще один; если удалось бы удержать плот в глубокой воде, вдали от искусственных мелей, они были бы в безопасности.
Руби застопорила винт и опять вытравила якорь. Цепь ушла под воду на тридцать метров, а дна так и не коснулась.
— Порядок, — заявила морячка со вздохом облегчения, — Но мотор глушить я все-таки не буду…
И вновь пена вздымалась лишь вдали у побережий, а посредине море совсем успокоилось, если не считать бегущей навстречу плоту невинной синенькой полоски ряби. Осторожный кормчий Руби Барнс удерживала «Резолюшн» на поперечном курсе, готовая в любую секунду дать полный ход.
Затем в каких-то двух километрах от них море начало пениться с новой силой. Оно горбатилось яростными белыми гривами, и рев его, казалось, заполнил весь мир. Во всю ширину Цилиндрического моря, словно лавина, грохочущая по горному склону, неслись валы, самого малого из которых было достаточно, чтобы прикончить их утлое суденышко.
Руби, похоже, уловила на лицах своих спутников невольный страх и, перекрывая грохот, прокричала:
— Ну, чего испугались? Я каталась на волнах повыше этих… — Ее заявление не вполне соответствовало действительности; кроме того, она не упомянула, что в ее распоряжении была тогда добротная лодка для спортивного серфинга, а отнюдь не импровизированный плот — Но если придется прыгать за борт, ждите моей команды. Проверьте свои спасательные жилеты…
«Она восхитительна, — подумал Нортон, — упивается каждым мгновением, как древний воин каждой минутой боя. И не исключено, что она права — если только мы не ошиблись в расчетах…»
Волна продолжала расти, выгибая и закручивая свой гребень. Вогнутая поверхность моря, вероятно, преувеличивала ее высоту, но выглядела она чудовищной, неодолимой силой, способной смести на своем пути все и вся.
И спустя секунды волна опала, будто из-под нее выдернули опору. Она прошла очередной барьер и вновь покатилась по глубокой воде. Когда она минутой позже достигла их, «Резолюшн» лишь качнулся вверх и вниз, и Руби тут же развернула плот и погнала его полным ходом на север.
— Спасибо, Руби, прекрасная работа. Но успеем ли мы добраться до берега, прежде чем волна догонит нас во второй раз?
— Может, и не успеем, она вернется минут через двадцать. Но к тому времени потеряет всю свою мощь — мы ее, пожалуй, и не заметим…
Одолев волну, они, казалось, должны были бы вздохнуть посвободнее и воздать должное красотам моря, но теперь иикто не чувствовал себя в безопасности, пока не ступит на сушу. На поверхности моря вода крутилась множеством крошечных воронок, а над водой стоял странный кислый запах — «будто муравейник раздавили», как удачно определил Джимми. Запах был неприятным, но вопреки ожиданию не вызывал даже намека на морскую болезнь — видно, есть явления настолько чуждые, что человеческая натура не способна на них реагировать.
Еще минутой позже волна, удаляясь от плота и карабкаясь в небо, ударилась о следующий подводный барьер. С тыла зрелище казалось совсем не впечатляющим, и путешественники устыдились пережитых страхов. Они уже почти возомнили себя хозяевами Цилиндрического моря.
Тем сильнее было потрясение, когда в какой-то сотне метров от илота из воды высунулось нечто вроде лениво вращающегося колеса. Отливающие металлом спицы, по пяти метров каждая, взмывали в воздух, роняя капли, неспешно поворачивались в слепящем сиянии раманского дня и с плеском падали в море. Словно на поверхность поднялась исполинская морская звезда с трубчатыми лучами.
Животное или машина? Ответить на этот вопрос по первому впечатлению не представлялось возможным. Но тут «звезда» завалилась на бок и осталась лежать в полупогруженном состоянии, мягко покачиваясь на зыби — наследнице прошумевшей волны.
Теперь люди разглядели, что у «звезды» девять щупалец, вероятно суставчатых, которые радиально расходятся от центрального диска. Два щупальца были сломаны, крайние суставы отсутствовали. Семь здоровых заканчивались сложными наборами манипуляторов, живо напомнившими Джимми встреченного им краба. Оба существа принадлежали, видимо, к одной эволюционной ветви — или вышли из одного конструкторского бюро.
В середине диска возвышался вырост с тремя большими глазами. Два из них были закрыты, третий открыт, но казался мутным и незрячим. Несомненно, им выпал случай наблюдать смертные муки диковинного чудовища, вытолкнутого на поверхность подводным штормом, который только что миновал.
Потом они заметили, что чудовище не одиноко. Около него кружила, то и дело подплывая вплотную к еле шевелящимся щупальцам, пара тварей помельче, похожих на раков-переростков. Эти твари весьма целеустремленно уничтожали большое чудовище, а оно и не думало сопротивляться, хотя по всем признакам могло бы справиться с десятком таких разбойников.
И снова Джимми поневоле вспомнил краба — могильщика «Стрекозы». Он присмотрелся внимательнее и понял, что не заблуждается.
— Взгляните, шкипер, — прошептал лейтенант. — Видите, они и не думают пожирать его. У них и ртов-то нет. Они просто режут его на части. В точности то же произошло и со «Стрекозой».
— Ты прав. Они демонтируют его, как… как сломанную машину. Но, — добавил Нортон, поморщившись, — до сих пор я никогда не сталкивался с металлоломом, который испускал бы такой смрад. Туг его внезапно осенила новая мысль. — Мой бог, а если они вздумают так же разделаться и с нашим плотом! Руби, давайте как можно скорее к берегу!..
«Резолюшн» устремился вперед, нимало не заботясь о сохранности своих батарей. А за его кормой девять спиц исполинской «морской звезды» — лучшего названия никто так и не предложил — все укорачивались и укорачивались, пока остатки «звезды» и оба рака не исчезли вновь в морской пучине.
За плотом никто не гнался, однако люди вздохнули лишь тогда, когда «Резолюшн» подошел к причалу и они, возблагодарив судьбу, взобрались наверх. Бросив прощальный взгляд на водное кольцо, исполненное тайн и — как теперь казалось — скрытого зла, капитан Нортон мрачно решил, что больше никто из экипажа не пересечет его. Слишком много неизвестного, слишком много опасностей…
Он оглянулся на башни и валы Нью-Йорка, на темный утес континента на том берегу. Впредь они застрахованы от назойливого человеческого любопытства.
Он не станет вновь гневить раманских богов.
33 ПАУК
Отныне, согласно приказу Нортона, в лагере Альфа должно было всегда находиться не менее трех человек и один из них — постоянно стоять на часах. Такой же порядок был введен и в других поисковых группах. На Раме завелись потенциально опасные существа, и, хотя они не обнаруживали пока враждебных намерений, благоразумный командир не собирался искушать судьбу.
Еще один часовой наблюдатель, вооруженный мощным телескопом, круглосуточно дежурил у шлюза. С этой выгодной позиции он мог обследовать любой уголок Рамы — даже Южный полюс казался удаленным лишь на какие-нибудь триста-четыреста метров. А территории, примыкающие к районам, где действовали группы, надлежало держать под неустанным контролем: так и только так капитан надеялся избежать любых неожиданностей. План был хорош, но, увы, с треском провалился.
В промежутке между ужином и отбоем в 22.00 Нортон, Родриго, Колверт и Лаура Эрнст сидели и смотрели вечерний выпуск последних известий, специально переданный через ретранслятор Инферно на Меркурии. Особенный интерес у них вызвал фильм о Южном континенте, отснятый Джимми, и возвращение через Цилиндрическое море — эпизод, взбудораживший всех телезрителей. Ученые, комментаторы, члены Комитета по проблемам Рамы выступали с пояснениями, в большинстве своем противоречивыми. Они никак не могли договориться, считать ли крабообразную тварь, которую встретил Джимми, животным, машиной, разумным раманином или чем-то еще, не подпадающим ни под одну из перечисленных категорий.
Только что с чувством, весьма похожим на тошноту, они наблюдали, как хищники раздирают на части «морскую звезду», и вдруг обнаружили, что не одни. В лагерь проник непрошеный гость.
Первой его заметила Лаура Эрнст. Она на секунду оцепенела, потом шепнула:
— Не двигайся, Билл. Теперь осторожно посмотри направо.
Нортон повернул голову. В десяти метрах от них стоял тонконогий треножник, увенчанный сферическим тельцем размером с футбольный мяч. По окружности мяча располагались три больших, лишенных всякого выражения глаза — поле зрения существа составляло, очевидно, все триста шестьдесят градусов, а за телом волочились три хлыстообразных щупальца. Ростом треножник был ниже человека и выглядел слишком хрупким, чтобы относиться к нему с опаской, но это еще не оправдывало их беспечности: факт был налицо, ему позволили проникнуть в лагерь незамеченным. Нортону он напомнил не более чем безобидного паучка-сенокосца, хотя и о трех ногах, и еще капитан заинтересовался тем, как это создание решает проблему, неведомую живым существам Земли, — как оно передвигается, имея три точки опоры.
— Что скажешь, док? — прошептал Нортон, приглушая голос теледиктора.
— Обычная для Рамы тройственная симметрия. Не вижу, как оно может нам повредить, разве что хлысты могут быть неприятными на ощупь или даже ядовитыми, подобно бахроме у медузы. Давайте посидим тихо и посмотрим, что оно станет делать.
Понаблюдав за людьми с полным бесстрастием две-три минуты, трехногий паук внезапно тронулся с места — и теперь они поняли, почему прозевали его появление. Он двигался так быстро и, главное, таким необычным способом, что глаз и мозг человека воспринимали это движение с огромным трудом.
Насколько Нортон мог судить, — а окончательную ясность могла бы внести лишь замедленная киносъемка, — каждая их трех ног поочередно служила осью, вокруг которой поворачивалось все тело. И он не был вполне уверен, что ему почудилось, что через каждые несколько «шагов» направление вращения меняется на противоположное; три хлыста мелькали буквально с быстротой молнии. «На всем скаку» существо развивало скорость — точно подсчитать опять-таки не представлялось возможным — не менее тридцати километров в час.
Паук вихрем обежал вокруг лагеря, обследуя каждый предмет снаряжения, осторожно прикасаясь к наскоро устроенным постелям, столам и стульям, аппаратуре связи, контейнерам с пищей, электрическим туалетам, камерам, бачкам с водой, инструментам — не было, пожалуй, ни одной мелочи, которую он не удостоил бы внимания, не считая лишь самих четырех наблюдателей. Напрашивался вывод, что паук достаточно разумен, чтобы провести грань между людьми и их неодушевленной собственностью; все его действия оставляли несомненное впечатление осмысленного любопытства и даже любознательности.
— До смерти хочется посмотреть, что у него внутри, — воскликнула Лаура, с сожалением провожая глазами существо, продолжающее выделывать свои стремительные пируэты. — Не попытаться ли его поймать?
— Как? — резонно осведомился Колверт.
— Да так же, как первобытные охотники ловили самых быстрых зверей — накидывая им на лапы веревку с грузилами на концах. Зверю это не причиняло никакого вреда.
— Сомневаюсь, — ответил Нортон. — Даже если бы подобный фокус и удался, мы не вправе идти на риск. Нам неизвестно, насколько этот треножник разумен, а веревка с грузилом вполне способна перебить ему ноги. Тогда нам не избежать действительно серьезных неприятностей — здесь на Раме, на Земле и где угодно еще…
— Но мне необходим такой экземпляр!
— Придется тебе довольствоваться цветком, который сорвал Джимми, разве что одно из этих созданий изъявит готовность к сотрудничеству. Насилие исключается. Как бы тебе понравилось, если бы кто-то высадился на Земле и решил, что ты — прекрасный экземпляр для анатомирования?
— Но я вовсе не собираюсь его анатомировать, — возразила Лаура не слишком убежденно. — Я хотела бы только посмотреть его…
— Ну что ж, у пришельцев по отношению к тебе могли бы быть именно такие намерения, но, уверяю тебя, ты провела бы немало неприятных минут, прежде чем им поверить. Нельзя допускать никаких действий, которые можно истолковать как угрожающие…
Нортон просто цитировал предписания, полученные перед посадкой на Раме, и Лаура знала об этом. Требования науки, как всегда, приносились в жертву требованиям космической дипломатии. Да в общем-то привлекать столь возвышенные соображения, наверное, и не было нужды вопрос легко сводился к хорошим манерам. Все они были здесь посетителями, проникшими в помещение без спроса…
Паук как будто закончил свой осмотр. Он сделал, не снижая темпа, еще один круг по лагерю, а затем по касательной устремился в сторону лестницы.
— Интересно, как он будет взбираться по ступенькам? — подумала вслух Лаура.
Ответа на ее вопрос долго ждать не пришлось: паук не обратил на лестницу никакого внимания и пустился вверх прямо по вогнутому склону, даже не снизив скорости.
— Группа наблюдения, — вызвал Нортон, — к вам вскоре, видимо, пожалует гость. Следите за лестницей Альфа, шестой пролет. И кстати, большое спасибо за то внимание, с каким вы нас охраняете…
Потребовалась целая минута, чтобы дежурный уловил сарказм и начал сбивчиво оправдываться:
— Мм… вот теперь, шкипер, когда вы мне сказали, я действительно что-то такое вижу. Но что это?
— Знаю не больше вашего, — ответил Нортон, нажимая кнопку обшей тревоги, — Лагерь Альфа вызывает все группы. Нас только что навестило существо, похожее на трехногого паука. Небольшое сферическое тело на очень тонких ногах передвигается вращаясь, притом очень быстро. Внешне безобидное, но крайне любопытное существо. Может подкрасться к вам, прежде чем вы его заметите. Подтвердите прием…
Первым отозвался Лондон:
— У нас без происшествий, шкипер…
Затем откликнулся Рим — подозрительно сонным голосом:
— У нас тоже. Хотя, погодите-ка…
— Что там еще?
— Я отложил ручку всего минуту назад — ее нет! Что за… о-о!..
— Говорите связно!
— Вы не поверите, шкипер. Я делал тут кое-какие заметки… вы ведь знаете, я люблю писать, от этого никому никакого вреда… писал я своей замечательной шариковой ручкой, ей без малого двести лег… ну, в общем, теперь она валяется в пяти метрах отсюда… Я ее поднял — славу Богу, она не повреждена.
— А как она, по-вашему, туда попала?
— М-м… я, должно быть, задремал на минутку. День выдался тяжелый…
Нортон вздохнул, но от комментариев воздержался: их было так немного, и у них оставалось так мало времени на то, чтобы обследовать целый мир! Энтузиазм помогал побороть переутомление, но, к сожалению, не всегда, и капитану уже приходило в голову, что он рискует сверх меры. Не следовало бы, пожалуй, разбивать людей на такие мелкие группы, пытаясь охватить столь необъятную территорию. Но его не покидала мысль о быстротечных днях и неразгаданных тайнах, которые обступали со всех сторон. В то же время он исподволь проникался уверенностью иного рода: готовится нечто чрезвычайное, и им придется покинуть Раму задолго до перигелия, задолго до момента, якобы предназначенного для перемены орбиты.
— Вызываю группу наблюдения, Рим, Лондон — слушайте все, — произнес он. — В течение ночи прошу докладывать мне обстановку каждые полчаса. Будем исходить из того, что гости могут пожаловать к нам в любой момент. Иные из них могут оказаться опасными, но инцидентов следует избегать любой ценой. Вам известны указания на этот счет…
Что правда, то. правда: это составляло неотъемлемую часть их профессиональной подготовки. Но вряд ли кто-нибудь из них всерьез верил, что давняя страсть теоретиков — «контакт с инопланетными разумными существами» — может обрести реальный смысл при их жизни. Еще менее вероятным казалось, что честь стать участником такого контакта выпадет на долю их самих.
Теория и практика — вещи разные: кто поручится, что в критических обстоятельствах не возобладает древнейший человеческий инстинкт самосохранения? И тем не менее задача первостепенной важности — считать любое существо, встреченное здесь на Раме, вполне лояльным.
Капитану Нортону вовсе не улыбалась перспектива прославиться в веках в качестве безумца, развязавшего первую межпланетную войну.
Через два-три часа сотни пауков наводнили всю равнину. В телескоп было видно, что Южный континент также кишит ими — континент, но только не остров Нью-Йорк.
На людей они больше не обращали внимания, да и люди спустя недолгое время почти перестали замечать их, хотя капитан Нортон порой улавливал в глазах своего старшего врача плотоядный блеск. Ничто, наверное, не доставило бы ей большего удовольствия, чем несчастный случай с каким-то из пауков; однако капитан отнюдь не жаждал потворствовать возникновению такого инцидента даже в интересах науки.
В сущности, не вызывало сомнения, что разумными пауков считать нельзя: их тело просто не могло вместить достаточно крупного мозга, трудно было даже понять, где они накапливают энергию, необходимую для движения. И в то же время их действия представлялись до странного осмысленными и согласованными: они побывали всюду и везде, но никогда не посещали одного и того же места дважды. У Нортона нередко возникало впечатление, что они ищут что-то вполне определенное. Но каков бы ни был предмет поисков, его, по-видимому, не нашли.
Они поднимались и на самый верх к Северному полюсу, все так же словно не видя гигантских лестниц. Как они умудрялись преодолевать вертикальный участок, даже при условии почти полной невесомости, оставалось неясным; Лаура предположила, что они пользуются присосками.
И тут, к совершенному ее восхищению, она наконец обрела свой желанный подопытный экземпляр. Группа наблюдения доложила, что один из пауков свалился с вертикальной стены и лежит, то ли мертвый, то ли выведенный из строя, на первой площадке. Лаура буквально взлетела по лестнице, установив рекорд, какого никому никогда не победить.
Добравшись до площадки, она увидела, что существо, о котором шла речь, несмотря на небольшую скорость падения, сломало себе все три ноги. Глаза его оставались открытыми, но оно не реагировало ни на какие внешние раздражители. «Даже свежий труп — и тот проявлял бы больше признаков жизни», — решила Лаура и, едва доставив свой трофей на «Индевор», приступила к анатомированию.
Паук оказался так хрупок, что распадался на части почти без ее вмешательства. Она отделила ноги от туловища, потом взялась за тонкий панцирь; три круговых разреза — и он снялся, как кожура с апельсина.
Секунд пять — десять она провела в тупом оцепенении — у паука не нашлось ни единого органа, который можно было бы опознать. Затем она сделала серию крупномасштабных снимков и, наконец, подняла скальпель.
С чего начать? Ей захотелось зажмуриться и полоснуть ножом наугад, однако такое решение вряд ли украсило бы ее как ученого.
Лезвие рассекло ткань практически без сопротивления. Спустя мгновение старший корабельный врач Лаура Эрнст издала не по-женски звучный вопль, эхом раскатившийся по «Индевору».
Сержанту Макэндрюсу понадобилось добрых двадцать минут, чтобы хоть немного успокоить перепуганных обезьян.
34 ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО КРАЙНЕ СОЖАЛЕЕТ…
— Как вам известно, господа, — заявил председатель, — со времени нашей последней встречи произошло множество событий. Нам предстоит сегодня многое обсудить и вынести соответствующее решение. Поэтому я в особенности огорчен отсутствием нашего уважаемого коллеги — представителя Меркурия…
Заявление доктора Боуза не совсем соответствовало истине. Отсутствие меркурианина его ни капельки не огорчало. Гораздо правильнее было признать, что оно его тревожило. Дипломатический инстинкт подсказывал ему, что назревают какие-то катаклизмы, но, несмотря на превосходные источники информации, он даже отдаленно не подозревал какие.
Послание меркурианина было вежливым и совершенно невразумительным. Его превосходительство выражал глубокое сожаление по поводу того, что крайне срочное и неотложное дело не позволяет ему присутствовать на данном заседании ни лично, ни по видеоканалам. Доктор Боуз при всем желании не представлял себе, что же такое может оказаться более срочным и более важным, чем Рама.
— Двое из членов комитета выразили желание выступить с сообщениями. Первое слово я предоставляю профессору Дэвидсону…
По рядам ученых, кооптированных в Комитет, пронесся возбужденный шорох. Большинство из них полагали, что астроном с его широко известными космогоническими воззрениями — не самая подходящая фигура для того, чтобы возглавлять Космический консультативный совет. Подчас возникало впечатление, что проявления разумной жизни профессор расценивает лишь как печальное недоразумение на фоне величественных звезд и галактик и считает дурным тоном уделять этому недоразумению чрезмерное внимание. Это вовсе не прибавляло ему любви экзобиологов, в том числе Карлайла Переры, которые придерживались, естественно, противоположной точки зрения. По их убеждению, главный смысл существования Вселенной заключался именно в том, чтобы стать колыбелью разума; о чисто астрономических явлениях они если и говорили, то с насмешкой. «Просто мертвая материя» — такова была излюбленная их фраза на этот счет.
— Господин председатель, — начал ученый, — я проанализировал курьезные события, имевшие место на Раме за последние дни, и хотел бы поделиться с вами своими выводами. Некоторые из этих выводов довольно неприятны…
Карлайл Перера удивленно поднял глаза, потом издал довольный смешок. Он от души приветствовал вес, что было неприятно профессору Дэвидсону.
— Прежде всего я имею в виду примечательные события, сопровождавшие полег юного лейтенанта в Южное полушарие. Электрические разряды сами по себе хотя и представляют собой впечатляющее зрелище, но не столь важны; нетрудно убедиться, что они содержат относительно небольшой энергетический потенциал. Они совпали с изменением скорости вращения Рамы и его ориентации, то есть положения в пространстве. Вот это требовало колоссальных затрат энергии, а разряды, едва не стоившие жизни мистеру… мм… Пэку, в сущности, не более чем побочное и, возможно, нежелательное явление, каковое конструкторы и свели к минимуму с помощью гигантских громоотводов Южного полюса.
Из сказанного можно сделать два вывода. Когда космический корабль меняет ориентацию, — а мы должны впредь считать Раму космическим кораблем, невзирая на его фантастические размеры, — то это обычно означает, что он намерен перейти на другую орбиту. Поэтому следует всерьез прислушаться к мнению тех, кто верит, что Рама отнюдь не собирается возвращаться к звездам, а готовится стать новой планетой нашего Солнца.
Если так, то «Индевор» тоже должен быть готов отдать швартовы — подходит здесь такое выражение? — в любой момент. Оставаясь с Рамой единым целым, наш корабль подвергается серьезной опасности. Думаю, что капитан Нортон уже принял это обстоятельство в расчет, но, по-моему, наш долг — послать ему дополнительное предостережение.
— Благодарю вас, профессор Дэвидсон. А что скажет доктор Соломоне?
— А вот что, — произнес историк. — Рама, по-видимому, изменил скорость своего вращения без использования каких бы то ни было реактивных двигателей. Это означает, на мой взгляд, одно из двух.
Во-первых, можно предположить наличие встроенных гироскопов. Гироскопы должны быть колоссальными — где же они?
Во-вторых, хоть это и перевернет всю нашу физику вверх тормашками, на Раме может использоваться система нереактивных двигателей. Так называемый гипердвигатель, в возможность которого не верит профессор Дэвидсон. Но в этом случае от Рамы можно ожидать чего угодно. Мы просто не в состоянии предсказать режим работы гипердвигателя даже в самом грубом приближении…
Дипломаты были откровенно сбиты с толку, однако астроном и не думал сдаваться. Для одного дня он уже сделал уступок более чем достаточно.
— С вашего разрешения, я предпочитаю придерживаться общепризнанных законов физики, пока не получу доказательств, что они неверны. Мы не нашли гироскопов на Раме, но мы их специально и не искали, а если и искали, то не там, где надо…
Боуз ясно видел, что Карлайл Персра теряет терпение. До сих пор экзобиолог ввязывался в отвлеченные споры с не меньшим пылом, чем все остальные, но теперь наконец-то в его распоряжении оказались точные факты. Его наука, влачившая доселе жалкое существование, за последние дни сказочно разбогатела.
— Ну что ж, если у присутствующих нет возражений, то доктор Перера располагает важной информацией…
— Благодарю вас, господин председатель. Все вы знаете, что мы наконец добыли экземпляр одной из форм раманской жизни, а другие формы наблюдали с близкого расстояния. Старший врач «Индевора» Лаура Эрнст представила нам подробный доклад о паукообразном существе, которое анатомировала.
Должен сразу сказать, что полученные ею данные настолько необыкновенны, что в любых других обстоятельствах я сам, наверное, им бы не поверил.
Паук состоит из тканей, которые определенно следует назвать живыми, хотя их биохимия отличается от нашей во многих отношениях — они содержат в значительных количествах легкие металлы. Тем не менее я не могу причислить паука к животным, не могу по нескольким серьезным причинам.
Прежде всего у паука нет ни рта, ни желудка, ни кишечника и вообще никакого пищеварительного тракта. Нет также и дыхательных путей, нет легких, нет крови, нет органов размножения…
Вы спросите — что же у него есть? Есть простая мускулатура, управляющая тремя ногами и тремя хлыстообразными щупальцами или усиками. Есть мозг, и довольно развитый, что обеспечивает способность к триокулярному зрению. Однако четыре пятых тела состоит из крупных ячеистых клеток — именно они и преподнесли доктору Эрнст столь болезненный сюрприз, когда она приступила к вскрытию. Ей просто не повезло, что она не догадалась о назначении этих клеток вовремя — ведь они оказались едва ли не единственным на Раме приспособлением, существующим и на Земле, правда, лишь у горсточки морских животных.
Большая часть тела паука — это высокоразрядная батарея, в сущности такая же, как у электрических угрей и скатов. Но предназначена она в данном случае, видимо, не для самообороны. Это непосредственный источник энергии для движения. Вот почему у паука нет органов пищеварения и дыхания — он не нуждается в таких примитивных устройствах. Между прочим, это значит также, что паук будет превосходно чувствовать себя даже в глубоком вакууме…
Итак, перед нами существо, представляющее собой фактически просто подвижный глаз. Трудиться оно не может, щупальца его слишком слабы. Учитывая всю совокупность признаков, я назвал бы это существо пауком-разведчиком.
Поведение его, безусловно, отвечает подобному определению. Единственное, что пауки делают, это носятся с места на место, рассматривая все, что встретится на пути. Ничего другого они и не могут…
Зато другие животные могут. Краб, морская звезда, акулы — лучших названий никто не предложил — могут активно воздействовать на окружающую среду и, видимо, специализированы для выполнения различных операций. Думаю, что питание они также получают от батарей, поскольку ртов у них, как и у паука, нет и в помине.
Уверен, что вы отдаете себе отчет в том, какие биологические проблемы возникают в этой связи. Могли ли подобные существа развиваться естественным путем? Честно говоря, сомневаюсь. Мне кажется, что они сконструированы как машины для определенных работ. Заканчивая характеристику, я бы сказал, что это роботы, биологические роботы — нечто, не имеющее аналогии на Земле.
Если Рама — космический корабль, то они, может статься, часть его экипажа. Как они рождаются — или создаются, — об этом я судить не берусь. Но догадываюсь, что ответ таится где-то в хитросплетениях труб Нью-Йорка. Будь у капитана Нортона и его людей достаточно времени, они, вероятно, сталкивались бы со все большим числом все более сложных существ, чье поведение предсказать просто невозможно. И в один прекрасный день встретились бы с самими раманами, с подлинными создателями этого мира.
Заверяю вас, господа, что в этом случае никому и в голову не придет усомниться, разумные ли они существа.
35 СРОЧНАЯ ДЕПЕША
Капитан Нортон крепко спал, когда личный коммутатор безжалостно оторвал его от счастливых снов. Ему привиделось, что он отправился в отпуск на Марс и как раз пролетал мимо величественного, увенчанного снежной шапкой пика Никс Олимпика — самого мощного из всех вулканов Солнечной системы. Маленький Билли обратился к отцу с каким-то вопросом: теперь он никогда не узнает, с каким.
Сон потускнел. Действительность олицетворял собой старший помощник, оставшийся на «Индеворе».
— Извините, что разбудил вас, шкипер, — сказал капитан-лейтенант Кирчофф. — «Молния» из штаба. Тройное А…
— Передавайте, — нехотя ответил Нортон.
— Не могу. Зашифровано вашим личным шифром.
Сна как не бывало. Такие депеши Нортон получал всего три раза за всю свою карьеру, и каждый раз за ними следовали серьезные неприятности.
— Проклятье! — произнес он. — Что же делать?
Старший помощник даже не потрудился ответить. Оба слишком хорошо понимали суть возникшей проблемы — одной из тех, что не предусматриваются уставом. Ведь обычно командиру нужно не более двух минут, чтобы добраться до своей каюты и до книги шифров в персональном сейфе. Если даже отправиться без промедления, он будет на корабле через четыре-пять часов. Но вряд ли такой срок подходит для депеш класса ААА…
— Джерри, — позвал он наконец. — Кто дежурит в радиорубке?
— Здесь никого нет, я один.
— Запись отключена?
— По странному стечению обстоятельств, да.
Нортон улыбнулся. Джерри был лучшим старшим помощником из всех, с кем ему доводилось работать. Джерри позаботился обо всем…
— Хорошо. Ты знаешь, где ключ от сейфа. Потом вызовешь меня снова.
Минут десять он ждал, призвав на помощь все свое терпение и стараясь — увы, безуспешно — думать о вещах посторонних. Он терпеть не мог без толку тратить умственную энергию — угадать, о чем идет речь в послании, все равно не удастся, и так или иначе он скоро узнает это наверняка. Вот тогда можно начинать волноваться, но с пользой для дела.
Когда старший помощник снова вышел на связь, голос его звучал очень напряженно.
— Дело не слишком спешное, шкипер, час, во всяком случае, разницы не составит. Но предпочитаю обойтись без радио. Высылаю депешу с нарочным.
— Какого черта… Ну хорошо, хорошо, верю тебе. Кто доставит ее сквозь шлюзы?
— Я сам. Вызову тебя, когда пройду их.
— За старшего, значит, остается Лаура?
— На час — самое большее. Я сразу же вернусь на корабль.
Врачей, разумеется, не готовили к тому, чтобы исполнять обязанности капитанов, как и капитанов — к тому, чтобы оперировать больных. В обстоятельствах чрезвычайных кому только не приходилось меняться ролями, однако устав этого не рекомендовал. Ну что ж, одно из требований устава сегодня уже нарушено…
— Согласно вахтенному журналу, ты не оставлял «Индевор» ни на секунду. Лауру ты разбудил?
— Да. Она в восхищении.
— Счастье, что доктора приучены хранить тайны. Да, а расписку в получении ты послал?
— Конечно, от твоего имени.
— Тогда жду…
Теперь-то уж отрешиться от тревожных ожиданий стало и вовсе немыслимо. «Дело не слишком спешное, но предпочитаю обойтись без радио…»
Одно было совершенно ясно: спать капитану в эту ночь больше не придется.
36 НАБЛЮДАТЕЛЬ
Сержант Питер Руссо и сам понимал, отчего вызвался на эту работу: во многих отношениях она была воплощением его детской мечты. Телескопы заворожили его еще в детстве, когда ему было шесть или семь лет от роду; большую часть юности он провел, собирая линзы всех форм и размеров. Он монтировал эти линзы в картонных трубках и делал все более и более сильные инструменты, пока не познакомился с Луной и планетами, с ближайшими космическими станциями и с окрестностями собственного дома и пределах добрых тридцати километров.
Ему посчастливилось родиться в горах Колорадо — почти во все стороны перед мим открывались неистощимые в своей красоте виды. Он проводил часы, обследуя из безопасною далека грозные вершины, что ни год взимавшие тяжкую дань с беспечных восходителей. Видел он немало, но воображение уносило его еще дальше, ему казалось, что за гребнями гор скрыты волшебные страны, полные удивительнейших существ, И многие годы спустя он избегал тех мест, сознавая, что мечта не выдержит столкновения с действительностью.
Сегодня отсюда, от центральной оси Рамы, он мог лицезреть чудеса, далеко превосходящие самые необузданные фантазии юности. Перед ним расстилался целый мир, пусть небольшой — четыре тысячи квадратных километров, — но его изучению, даже если он мертв и неизменен, стоило отдать себя.
А теперь на Раму пришла жизнь, жизнь в своем бесконечном многообразии. Если биологические роботы и не были живыми существами, то очень неплохо их имитировали.
Неизвестно, кто первым изобрел словечко «биот», но его как по наитию принял весь экипаж. Окопавшись в своей обсерватории, Питер присвоил себе титул главного наблюдателя за биотами и понемногу начал — по крайней мере так ему казалось — разбираться в особенностях их поведения.
Пауки были подвижными органами чувств, предназначенными осматривать — и, вероятно, ощупывать — внутреннюю поверхность Рамы. Одно время их насчитывалось несколько сотен, и они сломя голову носились везде и всюду, но не прошло и двух дней — и пауки как по команде исчезли; не стало даже одиночек.
На смену паукам пришел целый зверинец более внушительных существ — непросто было придумать каждому из них подходящее название. Появились чистильщики с широкими плоскими лапами, методично полирующие по всей длине шесть искусственных солнц Рамы. Гигантские тени чистильщиков, отбрасываемые на противоположную сторону цилиндра, подчас вызывали там своеобразные затмения.
Краб, прикончивший «Стрекозу», был, видимо, мусорщиком. Компания таких же существ подобралась к лагерю Альфа и утащила весь сор, вынесенный за черту палаток; они утащили бы и все остальное, если бы Нортон и Мерсер, твердо встав на их пути, не отогнали непрошеных помощников. Столкновение было напряженным, но непродолжительным; после этого мусорщики, кажется, поняли, что им разрешается трогать, а что нет, и появлялись через определенные промежутки времени, как бы осведомляясь, не нужны ли людям их услуги. Такое безмолвное и очень удобное соглашение указывало на высокий уровень интеллекта то ли самих мусорщиков, то ли существ, направляющих их деятельность откуда-то извне.
Проблема уничтожения отходов решалась на Раме до крайности просто; мусорщики сбрасывали свои трофеи в море, где их, по-видимому, измельчали до состояния, пригодного для химического использования. Процесс шел быстро — «Резолюшн», к величайшему огорчению Руби Барнс, исчез за одну ночь. Нортон утешил ее, напомнив, что плот блистательно выполнил свою миссию и что он как капитан все равно не разрешил бы воспользоваться им снова. Ведь не исключено, что акулы не столь разборчивы, как мусорщики.
Ни один астроном, обнаруживший новую планету, не упивался бы своим открытием так, как Питер, когда ему удавалось засечь новый тип биота и к тому же сделать его хороший телескопический снимок. Как на грех, самые интересные разновидности биотов концентрировались у Южного полюса — они выполняли там какую-то таинственную работу вокруг рогов. Что-то напоминающее гусеницу на присосках время от времени взбиралось по склонам Большого рога, а подле более низких вершин Питер заметил как-то массивное создание — помесь бегемота с бульдозером. Был там также и жираф с двумя шеями, вероятно, игравший роль передвижного крана.
Безусловно, Рама, как и любой корабль после долгого плавания, требовал проверки, наладки и ремонта. Команда заняла места и трудилась вовсю, но когда же явятся пассажиры?
Классификация биотов отнюдь не являлась для Питера главной задачей: ему было приказано не сводить глаз с разведывательных групп, вышедших на задания, следить, все ли у них в порядке, и предупреждать о приближении незваных гостей. Каждые шесть часов Питера сменял кто-нибудь из тех, без кого можно было обойтись, но не однажды он оставался на посту по двенадцать часов. В результате он изучил топографию Рамы, как никто другой. Она была знакома ему не хуже, чем горные кряжи Колорадо в годы юности.
Когда из воздушного шлюза Альфа выплыл Джерри Кирчофф, Питер мгновенно понял, что произошло событие из ряда вон выходящее. Люди никогда не покидали «Индевор» в часы, отведенные для сна, а по корабельному времени было уже далеко за полночь. Тут Питер сообразил, что каждому отводится строго определенная роль, и был потрясен вопиющим нарушением устава.
— Джерри! Кто же командует на корабле?
— Я, — холодно ответил старший помощник, отстегивая шлем. — Не думаете же вы, что я мог оставить рубку во время вахты?
Он раскрыл сумку, притороченную к скафандру, и достал оттуда маленькую жестянку с этикеткой «Апельсиновый сок. Концентрат. Развести в пяти литрах воды».
— Вы в этом деле мастак, Питер. Шкипер ждет ее.
Питер взвесил жестянку в руке и сказал:
— Надеюсь, масса достаточно велика. Иной раз они застревают на первой площадке…
— Вам виднее…
Это была совершенная правда: наблюдатели натренировались перебрасывать вниз всякие мелочи, иногда забытые, а иногда понадобившиеся в спешном порядке. Фокус заключался в том, чтобы они благополучно миновали зону низкой гравитации, а затем на восьмикилометровом пути вниз не слишком отклонились от цели под действием эффекта Кориолиса.
Питер одной рукой ухватился покрепче за канат, а другой швырнул жестянку вниз по вертикальной плоскости. Целился он не в направлении лагеря Альфа, а почти на тридцать градусов в сторону.
Сопротивление воздуха почти тотчас лишило жестянку начальной скорости, но псевдопритяжение Рамы уже подхватило ее и покатило вниз. У основания трапа она ударилась об уступ и, совершив замедленный прыжок, благополучно преодолела первую площадку.
— Теперь все в порядке, — заявил Питер. — Хотите пари?
— Нет, — последовал быстрый ответ. — У вас все козыри на руках.
— Вы не спортсмен. Но я все равно скажу — она остановится от лагеря не далее чем в трехстах метрах.
— Не слишком-то близко.
— Попробовали бы сами. Я видел, как Джо однажды промазал на пару километров…
Жестянка уже пс подпрыгивала, притяжение стало достаточным для того, чтобы припечатать ее к изгибу Северного купола. К моменту, когда она докатилась до второй площадки, скорость ее достигла двадцати — тридцати километров в час, то есть почти максимального значения.
— Теперь остается только ждать, — сказал Питер, усаживаясь у телескопа, чтобы не терять посланца из виду. — Будет на месте через десять минут. А, вот и шкипер идет… я научился узнавать людей прямо отсюда… поднял голову, смотрит на нас…
— Телескоп, наверное, дает вам своеобразное ощущение власти?
— Да, конечно. Все-таки я единственный, кто знает обо всем, что творится на Раме. По крайней мере я считал так до той ночи, — добавил Питер уныло, бросив на Кирчоффа укоризненный взгляд.
— Если это доставит вам удовольствие, могу сказать, что у шкипера кончилась зубная паста.
После этой реплики разговор, естественно, увял, но вот Питер произнес:
— Жаль, что вы не приняли пари… ему придется пройти всего пятьдесят метров… вот он увидел жестянку… задание выполнено.
— Спасибо, Питер, классная работа. Можете снова отправляться спать.
— Спать? Я на вахте до четырех ноль-ноль.
— Извините, но вы, должно быть, все-таки спали. Иначе как бы я вам привиделся?..
ШТАБ КОСМОФЛОТА — КОМАНДИРУ КОРАБЛЯ «ИНДЕВОР». КЛАСС СРОЧНОСТИ ААА. ЛИЧНО В СОБСТВЕННЫЕ РУКИ. РЕГИСТРАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖИТ.
ПО ДАННЫМ «КОСМИЧЕСКОГО ПАТРУЛЯ», НА ПЕРЕХВАТ РАМЫ ДВИЖЕТСЯ СВЕРХСКОРОСТНОЕ ТЕЛО, ЗАПУЩЕННОЕ, ВИДИМО, С МЕРКУРИЯ ДЕСЯТЬ-ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ НАЗАД. ПРИ СОХРАНЕНИИ ПРЕЖНЕЙ ОРБИТЫ СБЛИЖЕНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ 322-Й ДЕНЬ ГОДА 15 ЧАСОВ. ВОЗМОЖНО, ВАМ ПРЕДСТОИТ ЭВАКУАЦИЯ ДО ЭТОГО СРОКА. ЖДИТЕ ДАЛЬНЕЙШИХ УКАЗАНИЙ.
ГЛАВКОМ
Нортон перечитал депешу несколько раз, чтобы твердо запомнить дату. Следить за бегом времени, сидя безвыходно внутри Рамы, — дело нелегкое; пришлось обратиться к календарику на наручных часах, чтобы установить, что сегодня день 315-й. В их распоряжении оставалась ровно одна неделя…
От слов депеши бросало в дрожь — и не только от самих слов, сколько от того, что крылось за ними. Значит, меркуриане пошли на нелегальный запуск, что само по себе являлось грубым нарушением космического кодекса. Вывод был очевиден: запущенное ими «тело» — ракета, боевая ракета.
Но зачем им это? Невероятно — скажем, почти невероятно, — что они рискнут поставить под удар «Индевор» и его экипаж; следовательно, надо ждать еще и предупреждения от самих меркуриан. В случае необходимости он сумеет подготовиться к старту за несколько часов, но на экстренный старт он пойдет только по прямому приказу главнокомандующего.
Не спеша капитан подошел к развернутому на скорую руку комплексу жизнеобеспечения и спустил депешу в электрический туалет. Ослепительная вспышка лазерного аннигилятора, прорвавшаяся сквозь щель под сиденьем, засвидетельствовала, что требования безопасности соблюдены. «Как жаль, — сказал себе Нортон, — что со всеми другими проблемами нельзя разделаться так же быстро и гигиенично…»
37 РАКЕТА
До ракеты было еще пять миллионов километров, когда блеск ее плазменных тормозных двигателей стал ясно различим в главный телескоп «Индевора». К этому времени тайна сделалась общим достоянием, и Нортон скрепя сердце приказал начать вторую и, вполне возможно, окончательную эвакуацию из пределов Рамы; однако поднимать «Индевор» он не собирался до тех пор, пока не останется другого выхода.
Завершив тормозной маневр, непрошеный гость с Меркурия повис в каких-то пятидесяти километрах от Рамы и, по-видимому, повел осмотр места действия с помощью телекамер. Камеры были видны совершенно ясно — одна на носу, вторая на корме, — как видны были и антенны, несколько малых многоцелевых и одна большая остронаправленная: блюдце ее смотрело неизменно на далекую звездочку Меркурия. Нортон мог только предполагать, какие инструкции она принимает и какую информацию посылает взамен. Ведь меркуриане при всем желании не могли выдать ничего такого, чего бы уже не знали: все, что обнаружил экипаж «Индевор», открыто передавалось по всей Солнечной системе…
Ракета, побившая все рекорды скорости, чтобы прибыть сюда, выполняла волю своих создателей, служила инструментом для выполнения определенной цели. Но какой? Впрочем, это скоро станет общеизвестно: через три часа посол Меркурия должен выступить перед Генеральной Ассамблеей.
Официально ракеты все еще как бы не существовало. На ней не было опознавательных знаков, она не излучала радиоволны ни на одной из стандартных радиочастот. Все это является серьезным нарушением закона, однако даже Космический патруль до сих пор не заявил официального протеста. Все выжидали, беспокойно и нетерпеливо, следующего шага со стороны меркуриан.
Три дня назад о ракете — и о ее происхождении — было объявлено в сводке новостей; тем не менее меркуриане продолжали хранить упорное молчание. Они великолепно умели держать язык за зубами — если и когда им это было выгодно.
Иные психологи утверждали, что по-настоящему понять ход мыслей тех, кто родился и воспитывался на Меркурии, — дело почти немыслимое. Навечно отторгнутые от Земли ее тройным по сравнению с их родной планетой притяжением, меркуриане могли прилететь на Луну и оттуда любоваться колыбелью своих далеких предков, а то и отцов, но, как ни невелико было отделяющее их от Земли расстояние, преодолеть его они не могли. А раз так, неизбежно стали заявлять, что не очень-то и хочется.
Они делали вид, что презирают ласковые дожди, колышущиеся под ветром поля, озера и моря, голубое небо — все то, что знали только по видеозаписям. Их родная планета купалась в солнечной энергии, дневная температура там нередко переваливала за шестьсот, и посему они чванливо славили собственную стойкость, которая, в общем-то, не выдерживала серьезной критики. В действительности меркуриане были предрасположены к физической слабости, поскольку выжить могли лишь в условиях полной изоляции от внешней среды. И даже если бы они оказались в состоянии выдержать силу земного притяжения, их вывел бы из строя первый же жаркий день в любой экваториальной стране.
И тем не менее по большому счету они, несомненно, были стойкими. Психологический гнет ненасытного Солнца, до которого буквально рукой подать, повседневная необходимость вгрызаться в неподатливую планету и вырывать у нее все жизненные блага — эти тяготы породили спартанскую культуру, во многих отношениях достойную уважения. На меркуриан можно было положиться — если они обещали, то держали слово, невзирая на любые затраты. Сами они шутили, что, если Солнце когда-нибудь обнаружит симптомы превращения в сверхновую планету, они подпишут контракт с обязательством призвать его к порядку — лишь бы договориться насчет гонорара. А вне Меркурия уверяли, что всякого ребенка, проявившего наклонности к искусству, философии или абстрактной математике, на этой планете незамедлительно пустят в расход. Что касается душевнобольных и преступников, то они и в самом деле признавались на Меркурии роскошью, которой эта планета просто не могла себе позволить.
Капитан Нортон побывал на Меркурии всего однажды, искренно — как и большинство новичков — поразился тому, что увидел, и завел немало друзей. Он даже влюбился в одну девицу, уроженку города Порт-Люцифер, и стал подумывать о женитьбе, но родители невесты отнеслись к его планам более чем неодобрительно. Ну что ж, что ни делается — все к лучшему…
— Тройное А с Земли, шкипер, — сообщили из рубки. — От главнокомандующего. Микрофонный текст дублирован радиограммой. Передавать?
— Радиограмму выверьте и подшейте. Дайте мне запись.
— Пожалуйста.
Голос адмирала Гендрикса звучал спокойно и сухо, словно он диктовал зауряднейший приказ по флоту, а не обсуждал ситуацию, беспрецедентную в истории космических исследований. Но, в конце концов, в соседстве с бомбой находился не он…
— Главнокомандующий вызывает капитана корабля «Индевор». Разрешите кратко охарактеризовать обстановку, сложившуюся на текущий момент. Вам известно, что пленарное заседание Ассамблеи начнется в 14.00 и будет вам транслироваться. Не исключено, что от вас потребуются немедленные действия без дополнительных консультаций. Отсюда необходимость провести предварительный инструктаж.
Мы изучили присланные вами снимки. Меркурианский аппарат представляет собой обычный космический зонд, модифицированный для повышенных скоростей, вероятно, с лазерным ускорителем на начальной ступени. Размеры и масса достаточны, чтобы нести водородную бомбу мощностью от 500 до 1000 мегатонн. В своей повседневной практике на горных работах меркуриане применяют заряды до 100 мегатонн, следовательно, они без труда могли собрать боеголовку любой мощности.
Наши эксперты вычислили, что 500 мегатонн — минимальный заряд, гарантирующий разрушение Рамы. Если бомба взорвется в наиболее тонкой части корпуса — под Цилиндрическим морем, — цилиндр расколется, и центробежная сила довершит его уничтожение.
Мы полагаем, что меркуриане, если они действительно планируют подобный акт, дадут вам время отойти на безопасное расстояние. Для вашего сведения сообщаю, что гамма-излучение при взрыве такой силы может представлять для вас угрозу в радиусе тысячи километров.
Но это еще не самая большая опасность. Обломки Рамы весом в десятки и сотни тонн, выброшенные в пространство со скоростью до тысячи километров в час, могут исковеркать «Индевор» на неограниченном расстоянии. Поэтому мы рекомендуем вам взлетать в направлении оси вращения, единственном, где осколков быть не может. Удаление в десять тысяч километров даст вам возможность должную гарантию безопасности.
Это сообщение застраховано от перехвата, оно передается с использованием многократного сдвига частот, и я могу говорить открытым текстом. Ваш ответ, напротив, могут подслушать, так что выбирайте выражения осмотрительнее, при необходимости применяйте код. Вызову вас снова сразу после пленарного заседания. Сообщение окончено. Главнокомандующий. Конец связи.
38 ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ
По утверждению историков — хотя кто им верит, — было время, когда в прежнюю Организацию Объединенных Наций входили 172 государства. В Организации Объединенных Планет насчитывалось всего семь членов, но и этого подчас было более чем достаточно. В порядке удаленности небесных тел от Солнца семерка выглядела так: Меркурий, Земля, Луна, Марс, Ганимед, Титан и Тритон.
В списке было немало пропусков и неясностей, оставленных, очевидно, по принципу: «Будущее рассудит». Критики не уставали подчеркивать, что большинство в Организации Объединенных Планет составляют отнюдь не планеты, а спутники. И не смехотворно ли, что в список вовсе не попали четыре гиганта: Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун?
Но на газовых гигантах никто не жил и, похоже, никогда жить не будет. То же самое относилось и к пятой обойденной вниманием планете — к Венере. Даже самые отпетые энтузиасты реконструкции планет сошлись на том, это на обуздание Венеры уйдут столетия; разумеется, меркуриане не сводили с нее глаз и, несомненно, вынашивали далеко идущие планы.
Раздельное представительство Земли и Луны также служило яблоком раздора: остальные члены ООП считали, что в одном уголочке Солнечной системы сосредоточивается чересчур большая власть. Однако на Луне население было больше, чем на всех других мирах, не считая самой Земли; кроме того, Луну избрали местом встреч членов организации. И, по правде говоря, Земля и Луна не соглашались друг с другом никогда и ни в чем, так что возможность возникновения блока между ними казалась более чем сомнительной.
Марс осуществлял опеку над малыми планетами, за исключением астероидов типа Икара, подведомственных Меркурию, и горсточки дальних астероидов с афелием за орбитой Сатурна, — их интересы защищал Титан. В один прекрасный день крупнейшие из астероидов, к примеру Паллада, Веста, Юнона и Церера, быть может, станут настолько значимыми, что удостоятся права иметь собственных представителей в ООП, и число членов организации достигнет двузначной цифры.
Ганимед представлял не только Юпитер, — а следовательно, большую массу, чем все другие планеты, вместе взятые, — но также и остальные пятьдесят с чем-то юпитерианских спутников (с учетом временно захваченных из пояса астероидов, что, впрочем, служило поводом для бесконечных юридических споров). В свою очередь Титан взял на себя опеку над Сатурном, его кольцами и спутниками, число которых превышало три десятка.
Положение Тритона оказывалось запутанным еще более. Самая крупная из лун Нептуна была в то же время самым дальним телом Солнечной системы, имеющим постоянное население; вследствие этого обязанностей у посла Тритона было просто не перечесть. Он представлял Уран и восемь его необитаемых лун, Нептун с тремя его спутниками, Плутон с его единственной луной и сиротливую, лишенную спутников Персефону. Отыщись за Персифоной и другие планеты, они тоже подпали бы под юрисдикцию Тритона. И, словно всего этого не хватало, «посол внешнего мрака», как его подчас называли, случалось, плаксиво спрашивал: «А как насчет комет?..» С общего согласия ответ на его вопрос откладывался на неопределенное будущее.
И вдруг оно, это будущее, стало весомым и зримым. По формальным признакам Раму следовало отнести к кометам — ведь иные из них также были гостьями из межзвездных глубин, и многие, двигаясь по гиперболическим орбитам, подходили к Солнцу даже ближе, чем Рама. Любой знаток космического права состряпал бы из приведенных доводов хорошенькое дельце, а посол Меркурия в Организации Объединенных Планет был, вне сомнения, одним из лучших знатоков…
— Разрешите предоставить слово его превосходительству послу Меркурия…
Поскольку делегаты располагались против часовой стрелки в порядке возрастания удаленности планет от Солнца, меркурианин сидел непосредственно справа от председателя. До самой последней минуты он неотрывно вглядывался в экран своего компьютера; теперь он снял синхронизирующие очки, с помощью которых читал неведомые никому сообщения, собрал в стопку листки с записями и проворно поднялся на ноги.
— Господин председатель, уважаемые коллеги, я позволю себе начать с краткой характеристики обстановки, сложившейся на настоящий момент…
Услышь они такое из уст иного оратора, слушатели как один отозвались бы на «краткую характеристику» единодушным стоном, однако меркуриане всегда говорили именно то, что хотели сказать.
— Гигантский космический корабль, или искусственный астероид, получивший название Рама, был впервые обнаружен более года назад еще за орбитой Юпитера. Первое время считалось, что это естественное тело, движущееся по гиперболической орбите, и что оно, обогнув Солнце, вновь уйдет в межзвездное пространство.
Когда была выяснена истинная его природа, разведывательному кораблю «Индевор», приписанному к Службе Солнца, было приказано встретиться с пришельцем. Уверен, что мы от души поздравим капитана Нортона и его экипаж с мастерским выполнением поставленных перед ними уникальных задач…
В свое время многие верили, что Рама мертв, заморожен сотни тысяч лет назад и не способен ожить ни при каких обстоятельствах. Это, быть может, действительно так, но только в строго биологическом смысле. Все, кто изучат этот вопрос, в принципе согласны, что ни один живой организм сколько-нибудь значительной сложности не в состоянии перенести гипотермический сон больше двух-трех веков. Даже при температуре абсолютного нуля остаточные квантовые эффекты сотрут столь значительную часть внутриклеточной информации, что о воскрешении не может быть и речи. Поэтому казалось, что Рама представляет собой лишь громадную археологическую ценность и не вызывает никаких политических проблем.
Сейчас для нас очевидно, что подобная позиция была более чем наивной, хотя нельзя не вспомнить тех, кто с самого начала утверждал, что Рама вышел к Солнцу слишком точно для чисто случайного совпадения.
Однако и при таком условии можно было считать — собственно, так и считали, — что мы наблюдаем результат грандиозного, но неудачного эксперимента. Рама, мол, достиг намеченной цели, а разумные существа, направившие его в полет, погибли. Но и подобная точка зрения, как выяснилось, — простодушное заблуждение, заведомая недооценка интеллекта тех, с кем мы имеем дело.
Мы не приняли во внимание одного — возможности небиологической жизни. Если согласиться с весьма убедительной теорией доктора Переры, которая, безусловно, удовлетворяет всем наблюдаемым фактам, создания, населяющие сегодня Раму, до недавнего времени просто не существовали. Их чертежи или схемы были заложены в какое-то центральное хранилище, а когда пробил час, они были изготовлены из подручных материалов, по-видимому, из металлоорганической взвеси Цилиндрического моря. Подобный замысел, конечно, далеко превосходит наш нынешний уровень технологии, однако не представляет теоретических трудностей. Ведь печатные схемы, не в пример живой материи, способны хранить информацию без потерь в течение практически неограниченного времени.
Таким образом, Рама сейчас переведен в рабочий режим и выполняет волю своих создателей, кто бы они ни были. С нашей точки зрения, безразлично, погибли ли сами рамане миллионы лет назад или они, в свою очередь, будут воссозданы и присоединятся к своим слугам в определенный момент. С участием или без участия раман, их юля будет выполнена, более того, она уже выполняется.
Доказано со всей очевидностью, что на Раме есть работоспособный двигатель. Через несколько дней корабль достигнет перигелия, где по логике вещей перейдет на другую орбиту. Возможно, мы вскоре приобретем новую планету, обращающуюся в околосолнечном пространстве, которое находится под юрисдикцией моего правительства. Или, что тоже не исключается, после дополнительных маневров Рама выйдет на иную орбиту на любом расстоянии от Солнца. Быть может, даже станет спутником одной из крупных планет, например Земли…
Следовательно, коллеги-делегаты, мы сталкиваемся с богатым ассортиментом возможностей, и некоторые из них весьма неблагоприятны. Непростительной глупостью было бы считать, что рамане непременно окажутся доброжелательными и неспособными повредить нам. Если они явились к нам в Солнечную систему, значит, им здесь что-то нужно. Даже если им нужны знания и только знания, то кто поручится, что эти знания не будут использованы нам во вред?..
Нам противостоит техника, обогнавшая нашу на сотни, если не на тысячи лет, и культура, с которой у нас, возможно, вообще не найдется точек соприкосновения. Мы тщательно изучили поведение раманских биологических роботов — биотов — по пленкам, отснятым капитаном Нортоном, и пришли к определенным выводам, которыми мне и хотелось бы с вами поделиться.
Нам, меркурианам, в известном смысле не повезло — у нас нет местных форм жизни. Но мы, разумеется, располагаем самыми полными представлениями о земной зоологии, и мы нашли в этих представлениях одну пугающую параллель.
Я говорю о колонии термитов. Как и Рама, такая колония есть искусственный мир, контролирующий внешнюю среду. Как и на Раме, жизнеспособность этого мира зависит от множества специализированных биологических инструментов: от рабочих, строителей, крестьян и воинов. Нам неизвестно, существует ли в колонии раман королева, но разрешите высказать догадку, что остров, названный Нью-Йорком, играет аналогичную роль.
Очевидным абсурдом было бы продолжать эту аналогию слишком далеко, она не выдерживает критики во многих отношениях. Но я все же решил провести ее, и вот почему.
Возможно ли сотрудничество и взаимопонимание между людьми и термитами? Пока наши интересы не сталкиваются, мы относимся друг к другу терпимо. Но если нам или им понадобится территория или ресурсы другой стороны, пощады не жди.
Спасибо нашему разуму и нашей технике, мы, когда серьезно хотим, способны одержать победу. Однако подчас она дается нам нелегко, и находятся люди, верящие, что в конечном счете победа будет принадлежать термитам…
Имея это в виду, взвесьте страшную угрозу, которую Рама может — я не сказал должен — представлять для человеческой цивилизации.
Какие шаги мы предприняли, чтобы парировать эту угрозу в случае, если дело повернется к худшему? Ровным счетом никаких — мы только говорили, строили умозаключения да писали ученые статьи.
Итак, разрешите сообщить вам, коллеги-делегаты, что Меркурий сделал нечто большее. Исходя из положений статьи 34 космического соглашения 2057 года, уполномочивающей нас на любые шаги для защиты неприкосновенности околосолнечного пространства, мы доставили в район Рамы сверхмощное ядерное устройство. Мы будем очень рады, если нам не придется к нему прибегнуть. Но теперь мы по крайней мере не беспомощны, как раньше.
Нас могут упрекнуть, что мы приняли решение в одностороннем порядке, без проведения предварительных консультаций. Мы принимаем этот упрек. Но не воображаете ли вы — при всем моем уважении к организации, господин председатель, — что такого решения можно было достичь в согласованном порядке в приемлемый срок? Мы считаем, что действовали не только в собственных интересах, айв интересах всего человечества. Настанет день, когда грядущие поколения выразят нам признательность за нашу дальновидность.
Мы отдавали и отдаем себе отчет в том, какой трагедией — чтобы не сказать преступлением — будет уничтожить столь удивительное творение разума, каким является Рама. Если существует хоть какой-то путь избежать этого, не подвергая риску все человечество, мы будем счастливы узнать о нем. Мы такого пути не нашли, а время, отпущенное нам, истекает.
До момента, когда Рама достигнет перигелия, осталось несколько дней — за эти дни надо сделать выбор. Мы, разумеется, пошлем дополнительное предупреждение на «Индевор», но советуем капитану Нортону немедля подготовиться к тому, чтобы стартовать в течение часа. Кто поручится, что решающие события не начнутся на Раме с секунды на секунду?..
Я заканчиваю. Господин председатель, коллеги-делегаты, благодарю вас за внимание. Надеюсь на дальнейшее продуктивное сотрудничество.
39 ОТВЕТСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ
— Что скажете, Борис? Укладываются ли меркуриане в вашу теологическую концепцию?
— Вполне укладываются, командир, — отвечал Родриго со сдержанной улыбкой. — Существует вечный как мир спор между силами добра и силами зла. И бывают времена, когда человек обязан определить свою позицию в этом споре.
«Ну вот, чего-то в этом роде и следовало ожидать, — сказал себе Нортон. — Для Бориса вся эта история с бомбой должна была оказаться тяжким ударом, но он и не подумал замкнуться в тупой покорности». В критических обстоятельствах космохристиане проявляли себя как люди знающие и решительные — в этом смысле они напоминали меркуриан.
— У вас сложился какой-то план?
— Да, командир. План, по существу, очень прост. Надо обезвредить бомбу.
— Неужели? И как же вы думаете это сделать?
— С помощью самых обыкновенных кусачек.
Будь это кто угодно другой, Нортон решил бы, что собеседник шутит. Но Борис Родриго шутить не умел.
— Постойте! Ракета вся ощетинилась телекамерами. Уж не рассчитываете ли вы, что меркуриане будут сидеть сложа руки и ждать, когда вы совладаете с ними?
— Вот именно. Больше им ничего не останется. Когда радиосигнал дойдет до Меркурия, будет уже слишком поздно. Я спокойно управлюсь за десять минут.
— Понимаю. И они будут грызть себе локти от гнева. А вы не боитесь, что бомба оснащена автоподрывом и ваше вмешательство попросту спустит курок?
— Это крайне маловероятно. Зачем ей такое устройство? Бомба была изготовлена специально для посылки в глубокий космос. Напротив, ракета, вероятно, битком набита предохранителями, гарантирующими, что она не взорвется без прямой команды из центра. А если риск и существует, то я иду на него — можно устроиться так, чтобы «Индевор» был вне опасности. Я все обдумал.
— Не сомневаюсь, что вы действительно все обдумали, — только и ответил Нортон.
Идея была завораживающей, почти неотразимо соблазнительной; особенно прельщала капитана мысль о том, как взбесятся меркуриане, и он дорого дал бы, чтобы увидеть их лица в момент, когда они осознают, но поздно, что случилось с их смертельной игрушкой.
Однако у медали была и оборотная сторона, и она, казалось, все разрасталась по мере того, как Нортон углублялся в раздумья. Он был поставлен перед необходимостью принять самое трудное — и самое ответственное — решение во всей своей жизни. И, собственно, сказать так — значило преуменьшить до смешного. Решение, которое предстояло принять, было самым трудным из всех, с какими когда-либо доводилось сталкиваться любому командиру: от этого решения, возможно, зависело будущее человечества. Что, если меркуриане — допустим на мгновение — хоть отчасти правы?..
Когда Родриго ушел, он включил на двери надпись: «Не беспокоить»; он даже не мог припомнить, когда пользовался ею в последний раз, и был слегка удивлен, что она зажглась. Теперь он остался один, совсем один в самом сердце полного людей корабля — один, если не считать портрета капитана Джеймса Кука, взиравшего на Нортона сквозь бездны времени.
Посоветоваться с Землей не представлялось возможным: его уже предупреждали, что любое сообщение будет непременно перехвачено, хотя бы при помощи радиоаппаратуры, обслуживающей бомбу. Вся полнота ответственности ложилась всецело на его плечи.
Где-то он читал об одном из президентов Соединенных Штатов Америки — не то Рузвельте, не то Пересе, — который поместил у себя на столе табличку: «Верховная инстанция, апеллировать не к кому». Нортон не слишком ясно понимал, что имел в виду президент, но прекрасно сознавал, что ему-то самому и впрямь переадресовать ответственность некуда.
Он мог бы ничего не предпринимать, просто ждать, пока меркуриане не предложат уносить ноги. Однако как бы это выглядело в глазах потомков? Нортона не столь уж заботила проблема посмертной славы или бесчестья, но тем не менее ему не улыбалось прослыть в веках соучастником космического преступления, которое он был в силах предотвратить.
А Борис подготовил безупречный план. Как и предполагал капитан, Родриго обдумал все детали, предусмотрел любые возможности вплоть до той, весьма сомнительной, что бомба взорвется при первом прикосновении. Даже в этом случае «Индевор» не пострадает, прикрытый Рамой, словно шитом. Что касается самого лейтенанта Родриго, перспектива мгновенного причисления к лику святых не смущала его, видимо, ни в малейшей степени.
Но и в этом случае, если бомбу удастся благополучно обезвредить, это, пожалуй, еще далеко не конец. Меркуриане могут сделать новую попытку, если никто не изыщет способа остановить их. И все же будет выиграно две-три недели, и Рама давным-давно минует перигелий, прежде чем его настигнет новая ракета. К тому времени, надо надеяться, опасения паникеров окажутся несостоятельными. Или наоборот…
Быть или не быть… Никогда ранее капитану Нортону и в голову не приходило состязаться с Гамлетом. Что бы он сейчас ни предпринял, потенциальное добро и потенциальное зло уравновешивали друг друга. К какому бы решению ни пришел, этически оно остается труднейшим из трудных. Если он ошибается, ошибка выяснится очень быстро. Если окажется прав, то, может статься, никогда не докажет своей правоты…
Что толку уповать на логику, бесконечно перебирать взаимоисключающие варианты будущего? Так можно ходить по кругу до скончания веков. Пришло время прислушаться к внутреннему голосу.
— Ты прав, капитан, — прошептал он, — Человечество должно сберечь чистую совесть. Что бы ни говорили меркуриане, выжить — это еще не все…
Нажав клавишу селектора, он неторопливо произнес:
— Лейтенант Родриго, прошу ко мне.
Потом прикрыл глаза и, зацепившись большими пальцами за противоперегрузочные ремни кресла, приготовился вкусить хоть пять секунд полного покоя.
Кто знает, сколько времени пройдет, прежде чем ему представится случай побездельничать снова…
40 «ДИВЕРСАНТ»
Со скутера сняли все, без чего можно было обойтись, осталась голая рама, связывающая двигатели, рули и систему жизнеобеспечения. Выбросили даже сиденье второго пилота — ведь за каждый килограмм лишнего веса пришлось бы расплачиваться драгоценными секундами полетного времени.
Это была одна из причин, хотя и не главная, почему Родриго настаивал на том, чтобы шли в одиночку. Дело, говорил он, такое несложное, что помощники просто не нужны, а полет с пассажиром займет на две-три минуты больше. Облегченный скутер мог теперь развить ускорение свыше одной трети & следовательно, расстояние от «Индевора» до бомбы можно покрыть за четыре минуты. В распоряжении «диверсанта» останется шесть — их хватит с избытком.
Отчалив от корабля, он оглянулся всего только раз, чтобы удостовериться, что «Индевор», как и планировалось, снялся с центральной оси и тихо перемещается к краю северного торца цилиндра. К моменту, когда он доберется до бомбы, между нею и кораблем встанет вся толща Рамы.
Над полярным диском Родриго летел не торопясь. Спешить пока не было нужды: телекамеры, установленные на бомбе, не могли засечь его здесь, и следовало поберечь горючее. Затем он перевалил за изогнутую кромку цилиндра и увидел ракету, сверкающую нестерпимым блеском — солнечные лучи были здесь яростнее, чем даже на ее родной планете.
Программу автоматическому штурману он рассчитал заранее. Теперь осталось лишь ввести ее в действие; скутер стремительно развернулся и через несколько секунд уже шел полным ходом. На миг померещилось, что обретенный заново вес раздробит все кости тела, но не прошло и минуты, как Родриго привык к нему. В конце концов он не испытывал никаких неудобств внутри Рамы, где весил вдвое больше, а родился на Земле, где сила тяжести была в три раза выше, чем сейчас.
Скутер мчался к цели стрелой, и огромный контур пятидесятикилометрового цилиндра постепенно отодвигался все дальше и дальше. Со стороны нельзя было судить о его истинных размерах — даже трудно было сказать, вращается ли он.
Сто секунд с начала полета; пройдено почти полпути. До бомбы оставалось еще слишком далеко, чтобы различить детали, просто она все ярче горела на фоне черного как смоль неба. Небо было непривычным — ни одной звезды, ни блестящей Земли, ни ослепительной Венеры: их гасили темные светофильтры, защищавшие глаза от убийственного солнечного сияния. Родриго сильно подозревал, что ставит рекорд: еще ни один человек не отважился работать в открытом космосе так близко к Солнцу. Счастье, что солнечная активность невысока…
Через две минуты десять секунд на контрольной панели зарделся мигающий огонек, тяга упала до нуля, и скутер перевернулся на сто восемьдесят градусов. Спустя мгновение двигатели вновь включились на полную мощность, но уже не разгоняя, а тормозя суденышко в том же сумасшедшем темпе — три метра в секунду и даже, пожалуй, скорее, поскольку баки с горючим стали легче наполовину. До бомбы двадцать пять километров — это еще две минуты. Он развил скорость до полутора тысяч километров в час — цифра для космического скутера совершенно безумная, может статься, рекордная. Но и выпавшая на долю Родриго миссия — не какая-нибудь заурядная рекогносцировка; в чем, в чем, а в этом сомневаться не приходилось.
Бомба росла на глазах; он уже видел главную антенну, неотрывно следящую за неразличимой звездочкой Меркурия. Три минуты назад эта антенна со скоростью света послала своим хозяевам изображение приближающегося скутера. Но пройдет еще две минуты, прежде чем изображение достигнет цели.
Что же, спрашивается, предпримут меркуриане, завидя скутер? Разумеется, оцепенеют от ужаса, поняв, что он приблизился к бомбе на несколько минут раньше, чем они узнали о его существовании. Наблюдатель у экрана, вероятно, прежде всего свяжется с властями — на это уйдет еще какое-то время. Но даже в худшем случае, если дежурный офицер уполномочен дать команду на взрыв и нажмет на кнопку тотчас же — понадобится еще пять минут, чтобы сигнал вернулся сюда.
Родриго не стал бы заключать пари, но внутренне он был совершенно уверен, что такой незамедлительной реакции не последует. Меркуриане трижды подумают, прежде чем решиться уничтожить разведчика, посланного «Индевором», даже если догадаются о его намерениях. Вначале они обязательно попытаются вступить в переговоры — и это означает новую отсрочку.
Для колебаний есть и другая, еще более веская причина: вряд ли меркуриане захотят извести гигатонную бомбу на какой-то скутер. Взорванная так далеко от Рамы, она не причинит ему ни малейшего вреда. Значит, меркуриане обязательно попытаются пододвинуть ее поближе. Но рассчитывать все равно следует на самое худшее. Он должен действовать так, словно сигнал к взрыву придет в кратчайший возможный срок — ровно через пять минут.
На протяжении последнего километра пути Родриго торопливо сопоставлял то, что видел воочию, со снимками, сделанными с дальнего расстояния. Картинки теперь воплощались в твердый металл и гладкий пластик, умозрительные выводы становились беспощадной реальностью.
Бомба представляла собой цилиндр длиной метров десять и диаметром примерно три метра — пропорции, по странному совпадению, почти повторяли цилиндр Рамы. С ракетой-носителем бомбу связывало переплетение коротких двутавровых балок. По каким-то причинам, вероятно связанным с положением центра массы, все балки отходили от носителя точно под прямым углом, и бомба зловеще напоминала молот, поднятый для удара. Это и был молот, молот достаточно мощный, чтобы сокрушить целый мир.
С обоих концов бомбы свисали связки экранированных кабелей; они убегали под цилиндрический ее корпус и исчезали где-то в недрах носителя. Значит, все управление и контроль осуществлялись оттуда — на самой бомбе не было никаких антенн. Оставалось лишь перерезать эти две связки — и она превратится в безобидную груду мертвого металла.
В общем-то именно этого он и ожидал, и все-таки задача выглядела слишком уж простой. Бросил взгляд на часы — пройдет еще тридцать секунд, прежде чем меркуриане узнают о его существовании, даже если они не отрывают глаз от экрана и заметят его в тот самый момент, когда он обогнул торец Рамы. В течение целых пяти минут никто в целом мире не в силах ему помешать — и на девяносто девять процентов можно ручаться, что времени в запасе гораздо больше…
Как только скутер окончательно остановился, Родриго прикрепил его к ближайшей балке, чтобы оба аппарата составили нерасторжимое целое. На это ушло всего несколько секунд, инструменты давно были наготове, и он выбросился из кресла пилота, почти не обращая внимания на жесткий противорадиационный костюм.
Первым, на что он наткнулся взглядом, оказалась небольшая металлическая пластинка с надписью:
ОТДЕЛ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ Секция Д Западный бульвар, 47 Вуяканополис, 17464 За справками обращаться к м-ру Генри К. Джонсу.
Следовало предполагать, что через несколько минут мистер Джонс будет очень-очень занят.
Тяжелые кусачки рассекали кабель без труда. Отделяя первые проволочные пряди, Родриго даже на минуту не задумывался о геене огненной, запертой в считанных сантиметрах от его рук: если ему суждено выпустить силы ада на волю, он не успеет и узнать об этом…
Он опять взглянул на часы — вся операция заняла меньше минуты, он вполне укладывался в график. Теперь хвостовой кабель — и можно отправляться домой на виду у обескураженных и разгневанных меркуриан.
Но едва он притронулся ко второму пучку кабелей, как ощутил пальцами слабую вибрацию металла. Озадаченный, он оглянулся и ощупал глазами тело ракеты. Один из вспомогательных двигателей, ведающих ее ориентацией в пространстве, был окружен характерным сине-фиолетовым ореолом раскаленной плазмы. Бомба собралась двинуться в путь.
Радиограмма с Меркурия была лаконичной и непререкаемой. Пришла она ровно через две минуты после того, как Родриго скрылся за кромкой цилиндра Рамы.
КОМАНДИРУ КОРАБЛЯ «ИНДЕВОР». КОНТРОЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЕРКУРИЙ-ИНФЕРНОУЭСТ ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ С ПОЛУЧЕНИЕМ НАСТОЯЩЕЙ РАДИОГРАММЫ ПОКИНУТЬ ОКРЕСТНОСТИ РАМЫ. В ВАШЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ ОДИН ЧАС. РЕКОМЕНДУЕМ ВЗЛЕТ С МАКСИМАЛЬНЫМ УСКОРЕНИЕМ В НАПРАВЛЕНИИ ОСИ ВРАЩЕНИЯ. ПОДТВЕРДИТЕ ПРИЕМ. КОНЕЦ.
Вначале Нортон просто не поверил своим глазам, потом рассердился. Он поймал себя на ребяческом побуждении радировать в ответ, что весь экипаж работает внутри Рамы и что на эвакуацию потребуются часы и часы. Но этим он, конечно, ничего бы не добился, разве что проверил бы, сильна ли воля и крепки ли нервы у меркуриан.
Но почему, почему они решили перейти рубикон за несколько дней до перигелия? Быть может, давление общественного мнения возросло настолько, что они предпочли поставить остальную часть человечества перед свершившимся фактом? Маловероятно: подобная чувствительность, прямо скажем, не в их натуре…
Отозвать Родриго он не мог, даже если захотел бы: скутер находится в радиотени Рамы, и связи с ним не будет до тех пор, пока не восстановится прямая видимость. А этого не случится до самого завершения «диверсии» — или до ее провала.
Придется набраться терпения; времени в распоряжении Нортона еще много, целых пятьдесят минут. И главное, что ему сейчас предстоит, — дать на ультиматум меркуриан наиболее достойный ответ.
Наиболее достойный ответ — ничего не отвечать, а просто ждать дальнейшего развития событий.
Первым чувством Родриго, когда бомба пришла в движение, был не физический страх, а нечто большее. До сих пор он верил, что Вселенная повинуется строгим законам, перед которыми склоняется все и вся, даже Бог, а тем паче какие-то меркуриане. Ни один приказ нельзя передать быстрее скорости света; скутер заведомо обогнал на целых пять минут любую встречную акцию, любое решение.
Значит, это все-таки совпадение — фантастическое, быть может, смертельно опасное, но только совпадение. По чистой случайности радиоимпульс, включивший двигатели, был послан примерно в то же время, когда скутер отходил от «Индевора»; пока Родриго преодолевал пятьдесят, сигнал покрывал расстояние в восемьдесят миллионов километров.
А может, это просто автоматическая коррекция с целью устранить какой-нибудь местный перегрев? Температура поверхностных слоев металла местами приближалась к полутора тысячам градусов, и Родриго неспроста старался по возможности держаться в тени…
Но вслед за первым двигателем заработал и второй, уравновешивая возникшее было вращение. Нет, дело не ограничивалось температурной коррекцией. Бомба изменяла ориентацию, нацеливаясь точно на Раму.
Бессмысленно вопрошать, отчего да почему это случилось именно в данный момент. Одно обстоятельство играло ему на руку: бомба, вне сомнения, разгонялась с невысоким ускорением. Одна десятая g — самое большее. Он не сорвется.
Родриго проверил захваты, крепящие скутер к опорным балкам, и — вдвойне тщательно — собственный страховочный пояс. В сознании вскипал холодный гнев, подкрепляя и без того твердую решимость. Означает ли этот маневр, что меркуриане намерены взорвать бомбу без предупреждения, не дав «Индевору» времени на спасение? Это казалось невероятным — не просто жестокость, а совершеннейшее безумие, сознательный вызов всей Солнечной системе. Что же заставило их преступить клятву, торжественно данную их полномочным послом?
Каков бы ни был их план, ему не исполниться.
Вторая радиограмма с Меркурия походила на первую как две капли воды, но появилась на десять минут позднее. Итак, они продлили срок ультиматума — в распоряжении Нортона по-прежнему оставался один час. И очевидно, что они, прежде чем повторить свой приказ, все-таки дали «Индевору» время на ответ.
Однако теперь в их расчеты вмешался новый фактор: теперь они уже заметили Родриго и, вероятно, предприняли какие-то решительные действия. Надо думать, их директивы уже в пути. С секунды на секунду радиоволны достигнут ракеты…
Придется готовиться к старту. В любую секунду заполняющая небо громада Рамы может раскалиться по краям и вспыхнуть недолгим яростным сиянием, затмевающим самое Солнце.
Когда заговорил главный двигатель, Родриго был привязан вполне надежно. Двигатель проработал всего двадцать секунд — и смолк. Родриго проделал в уме быстрый подсчет: приращение скорости не могло оказаться больше пятнадцати километров в час. Понадобится час с лишним, чтобы бомба подошла к Раме вплотную; пожалуй, меркуриане просто решили пододвинуть ее поближе, чтобы при необходимости быстрее поразить цель. Если так, то это разумная предосторожность. Разумная, но слишком запоздалая.
Родриго вновь взглянул на часы, хотя за последние минуты чувство времени обострилось у него настолько, что почти не нуждалось в проверке. На Меркурии уже видели, что он целеустремленно подбирается к бомбе, что их разделяют какие-то полтора-два километра. Насчет его намерений у них наверняка не возникло и тени сомнения; скорее всего, там сейчас гадают, осуществил он их или еще не успел…
Второй пучок кабелей подался так же легко, как и первый; руки у Родриго были сноровистые, а инструмент действовал без осечки. Он обезвредил бомбу — или, вернее, добился того, чтобы ее нельзя было взорвать дистанционным приказом.
Но оставалась иная возможность, которой тоже не следовало пренебрегать. Отсутствие на бомбе внешних взрывателей еще не означало, что нет и взрывателей внутренних, способных на детонацию при ударе. Меркуриане все еще сохраняли контроль над движением самой ракеты и могли, если бы захотели, направить ее на столкновение с Рамой. Родриго еще не мог считать свою миссию полностью завершенной.
Пройдет пять минут — и в центре управления, скрытом где-то на Меркурии, увидят, как он сползает по балкам обратно к ракете, сжимая в руке скромных размеров кусачки, обезвредившие самое мощное оружие, которое когда-либо создавал человек. Родриго с трудом преодолел искушение помахать ими перед телекамерой, но все же решил, что это ниже его достоинства; в конце концов, он делает историю, и в грядущие годы эту сцену будут наблюдать миллионы и миллионы людей. Если, конечно, меркуриане не уничтожат запись в припадке бессильной злобы, однако он лично вряд ли вправе осуждать их.
Добравшись до большой антенны дальнего действия, он перебирал руками по стойкам, пока не подплыл к самой ее чаше. Его верные кусачки шутя справлялись со сложной подводкой, с равной легкостью перерезая кабели и волноводы. Едва он рассек последнюю из стальных нитей, антенна принялась медленно вращаться на оси; вращение испугало его своей неожиданностью, но потом он понял, что нарушил систему автоматической ориентации на Меркурий. Еще пять минут — и меркуриане потеряют всякую связь с бывшей своей служанкой. Та теперь не просто обессилела, а стала глуха и слепа…
Не торопясь, Родриго вернулся на скутер, отпустил причальные захваты и, развернув суденышко, уперся передним бампером в корпус ракеты, как можно ближе к предполагаемому центру массы. Затем дал полную тягу и поддерживал ее добрых двадцать секунд.
Вес ракеты вместе с бомбой превышал собственную массу скутера во много раз, и разгон был еле заметен. Но вот Родриго сбросил тягу до нуля и тщательно замерил новые параметры движения бомбы.
Она, бесспорно, разминется с Рамой и разминется далеко, вместе с тем ее положение в пространстве можно вычислить с идеальной точностью в любом отдаленном будущем. В конце концов, бомба — это целый комплекс оборудования, сложного и очень дорогого.
Лейтенант Родриго был человек почти патологической честности. Он вовсе не хотел, чтобы меркуриане предъявляли ему обвинение в утере принадлежащего им имущества.
41 ГЕРОЙ
— Дорогая, — начал диктовать Нортон, — вся эта чепуха задержала нас на сутки с лишним, зато наконец-то дала мне возможность потолковать с тобой…
Я все еще на корабле, но он уже возвращается к своей стоянке у полярной оси. Час назад мы подобрали Бориса, вид у него был такой, словно он просто вернулся с дежурства после спокойной вахты. Думаю, что на Меркурии ни мне, ни ему теперь никогда не бывать, и могу только гадать, как нас встретит Земля — как героев или как негодяев. Но совесть моя чиста: внутренне я уверен, что мы поступили правильно. Интересно, дождемся ли мы хоть какой-нибудь благодарности от самих раман?..
Задерживаться здесь мы можем теперь не дольше чем на два дня: «Индевор» — не Рама, у нас нет километровой брони, оберегающей нас от Солнца. Корпус корабля местами уже раскален до опасных пределов, и нам пришлось выставить защитные экраны. Извини, не хочу докучать тебе своими капитанскими заботами…
Времени осталось как раз на один последний поход в глубь Рамы, и я намерен выжать из этого похода максимум. Однако не волнуйся — я, в сущности, ничем не рискую…
Он остановил запись. По правде сказать, такое заявление можно было принять разве что с натяжкой. В пределах Рамы опасность и неуверенность неизбежно сопровождали каждый шаг, перед лицом недоступных пониманию сил ни один человек не смел чувствовать себя как дома. А в этом последнем походе он решил рискнуть чуть больше, чем прежде.
— Через сорок восемь часов наша миссия будет завершена. Что потом, до сих пор неясно: как тебе известно, на пути сюда мы сожгли фактически все свое топливо. Я пока не знаю, успеет ли танкер встретиться с нами вовремя, чтобы мы сумели вернуться на Землю, или нам придется садиться на Марс. Так или иначе, к Новому году буду с вами. Передай малышу, что не могу, к сожалению, привезти ему детеныша биота — таких, увы, в природе не существует…
Чувствуем себя хорошо, только очень устали. Я, бесспорно, заслужил продолжительный отпуск, и мы с тобой постараемся наверстать потерянное время. Что бы тебе ни говорили про меня, можешь смело считать, что вышла замуж за героя. Многие ли жены вправе утверждать, что их мужьям довелось спасти целый мир?..
Как всегда, прежде чем снимать с пленки копию, он внимательно прослушал ее и удостоверился, что текст приемлем для обеих семей. Он даже приблизительно не знал, какую из них увидит первой: обычно его личное расписание составлялось по крайней мере на год вперед в соответствии с неумолимым движением самих планет.
Но то было в прежние, «дораманские» времена, теперь ничто и никогда не будет таким же, как встарь.
42 ХРУСТАЛЬНЫЙ ЗАМОК
— А ты не боишься, — спросил Карл Мерсер, — что биоты попробуют остановить нас?
— Не исключено. Собственно, это один из вопросов, на которые я хотел бы найти ответ. Слушай, что ты на меня так уставился?..
Мерсер смотрел на Нортона с затаенной усмешкой; такая усмешка появлялась у Карла на лице всякий раз, когда ему на ум приходило какое-то острое словцо, иногда он изрекал это словцо, а иногда нет…
— Уж не вообразил ли ты, шкипер, что стал на Раме владыкой? До сих пор ты категорически пресекал все попытки проникнуть в здания. Чему мы обязаны переменой в твоем настроении? Меркуриане подсказали новую тактику?
Нортон расхохотался, но тут же сдержал себя. Вопрос с подвохом, и он не был уверен, что самый очевидный из ответов окажется самым правильным.
— Пожалуй, я был осторожен сверх меры, стараясь во что бы то ни стало избежать осложнений. А теперь это наш последний шанс — если нас даже вынудят к отступлению, мы ничего не теряем…
— При условии, что отступление пройдет организованно.
— Разумеется. Но биоты никогда не проявляли к нам вражды. Если уж придется драпать, кроме пауков, нас никто и не догонит.
— Ты можешь драпать, если хочешь, а я намерен удалиться с достоинством. Между прочим, я понял, почему биоты ведут себя с нами так вежливо.
— Тебе не кажется, что для новой теории у нас уже нет времени?
— Тем не менее выслушай. Они считают нас раманами. Просто-напросто не видят разницы между одним существом, поглощающим кислород, и другим.
— Ни за что не поверю, что они настолько глупы…
— Дело тут отнюдь не в глупости. Их запрограммировали строго определенным образом, а мы никак не укладываемся в систему их представлений.
— Может, ты и прав. Но без набега на Лондон этого тоже не выяснить…
Старые фильмы про гангстеров и грабителей всегда приводили Джо Колверта в восторг, но он и в мыслях не держал, что однажды сам станет участником грабежа. Ведь по существу нынешняя его роль ничем не отличается от гангстерской.
Пустынные улицы Лондона казались полными угроз, хотя он прекрасно осознавал, что страхи порождены его собственной нечистой совестью. Конечно же, он не думал, что в строениях без окон, окруживших группу со всех сторон, прячутся настороженные обитатели, которые хлынут наружу свирепыми ордами, едва пришельцы поднимут руку на их священную собственность. В общем-то, всем было ясно, что Лондон — как и остальные «города» — представляет собой лишь своеобразный склад.
Но возникали и страхи иного рода, также навеянные древними детективными лентами, однако более обоснованные. Здесь не приходилось ждать ни пронзительных сигнальных звонков, ни истошных сирен, но какая-то предупредительная система на Раме, по всей видимости, была. Иначе как бы биоты узнавали, где и когда требуются их услуги?
— Кто без очков, отвернитесь, — распорядился сержант Майрон.
Резкий запах окиси азота — в луче лазерного ножа горело все, даже самый воздух, — затем пронзительное шипение, как только огненное лезвие коснулось металла. Никакое материальное тело не могло противостоять этому сгустку энергии, и разрез, открывающий путь к раманским секретам, увеличивался буквально на глазах. За считанные минуты нож вырезал плиту в рост человека.
Майрон повременил, но плита не шелохнулась; постучал по ней сначала легонько, потом сильнее, наконец ударил изо всех сил. Плита рухнула внутрь с гулким раскатистым звоном.
И вновь, как и в первые дни знакомства с Рамой, Нортон представил себя археологом, вскрывающим древнеегипетскую гробницу. Нет, он не ждал увидеть мерцание золота и вообще не питал никаких определенных надежд, но ему не терпелось шагнуть в отверстие с фонарем в руке.
Хрустальный замок — таково было первое его впечатление. Строение заполняли ряды прозрачных вертикальных колонн. Сотни колонн, толщиной около метра каждая, а высотой от пола до потолка, убегали от него в темноту, куда не мог проникнуть луч фонаря.
Нортон подошел к ближайшей колонне и посветил в ее глубину. Преломившись, словно в цилиндрической линзе, свет прошел насквозь, развернулся веером, достиг следующей колонны, вновь собрался в пучок и вновь раздробился, и так еще и еще, пока не погас вдали. Капитану почудилось, что он находится в помещении, где проводятся какие-то сложные оптические эксперименты.
— Очень красиво, — заявил практичный Мерсер, — но кому нужен лес стеклянных столбов?
Нортон осторожно постучал по колонне пальцами. Судя по звуку, она была прочной, но это был скорее металл, а не стекло. Озадаченный, он последовал услышанному когда-то совету: «Не понял — не подавай виду и иди дальше».
Добравшись до соседней колонны, которая выглядела точно так же, как и предыдущая, он услышал удивленное восклицание Мерсера:
— Я мог бы поклясться, что колонна была пуста, а теперь там что-то есть…
Нортон стремительно обернулся.
— Где? Ничего не вижу…
Он смотрел в направлении, куда указывал Мерсер, но по-прежнему видел только совершенно прозрачную колонну.
— Не видишь? — недоверчиво спросил Мерсер. — Обойди с этой стороны. Дьявол, теперь и я потерял его из виду…
— Что здесь происходит? — осведомился Колверт.
Прошло несколько минут, прежде чем что-то для них прояснилось.
Колонны казались прозрачными не при любом освещении и не под всяким углом. Стоило не торопясь обойти любую из них, и перед вашим взором возникали странные предметы, утопленные, словно насекомые в янтаре, — они появлялись и тут же исчезали опять. Там было множество разных предметов. Выглядели они вполне реальными и вещественными, но порой занимали, казалось, одно и то же место в пространстве.
— Голограммы, — догадался Колверт, — В точности, как в земных музеях.
Объяснение представлялось вполне приемлемым, и потому Нортон отнесся к нему с подозрением. Сомнения крепли по мере того, как капитан осматривал колонны за колонной и сопоставлял образы, замурованные в их недрах.
Инструменты (для рук огромной величины и диковинной формы), сосуды, какие-то маленькие машинки с клавиатурой, требующей не пяти, а гораздо большего количества пальцев, научные приборы и предметы домашнего обихода до неправдоподобия заурядные, например ножи и тарелки, вполне уместные, если бы не их размеры, в любой земной квартире, — там было все и еще сотни вещей менее понятного назначения, чаще всего сваленные вместе, в одной куче. Музей, любой музей, строится по определенной логической схеме: связанные друг с другом экспонаты группируются определенным образом. А здесь в лучшем случае была коллекция всевозможной утвари, сложенной как попало.
Они принялись ряд за рядом фотографировать ускользающие образы в хрустальных колоннах, и тогда полнейшая разнородность предметов наконец навела Нортона на догадку. Что, если это не коллекция, а каталог, составленный в соответствии с внешне произвольной, но по-своему логичной системой? Он подумал о том, какие дикие сочетания рядом стоящих понятий встречаются в словаре или в алфавитном инвентаризационном списке, и поделился своей идеей с товарищами.
— Мысль понятна, — ответил Мерсер, — Рамане пришли бы в не меньшее удивление, обнаружив, что мы ставим рядом, ну, скажем, кинжал с кинокамерой.
— Или книгу — с кнопкой и кнутом, — добавил Колверт после некоторой паузы. «В эту игру можно играть до бесконечности», — подумал он.
— Именно, — подтвердил Нортон — Перед нами что-то вроде каталога стереоизображений, вернее, пространственных лекал или трехмерных схем, если вам так больше нравится.
— Итак, — произнес Мерсер задумчиво, — если раманину понадобилась какая-нибудь редкостная безделушка, он набирает определенный кодовый номер, и она изготавливается по припасенному здесь шаблону?
— Что-то в этом роде. Только, сделайте милость, не требуйте от меня подробностей…
Колонны, среди которых они шли, все увеличивались в размерах, и теперь диаметр их превышал два метра. Изображения стали соответственно крупнее — не составляло труда догадаться, что по каким-то, несомненно, серьезным причинам рамане неукоснительно придерживались масштаба один к одному. «Но если так, — заинтересовался Нортон, — как же они хранят что-то по-настоящему громоздкое?..»
Чтобы охватить как можно большую площадь, четверо людей рассыпались среди хрустальных колонн и снимали, снимали, едва успевая наводить свои камеры на образы-привидения. «Нам удивительно повезло, — твердил себе Нортон, хотя и чувствовал, что заслужил удачу, — даже имея выбор, мы не могли бы представить себе ничего лучшего, чем этот иллюстрированный каталог раманских изделий». И в то же время трудно было вообразить себе что-нибудь более досадное. Ведь там, в толще колонн, не было ничего, кроме неосязаемой игры света и тени: предметы, такие реальные на вид, в действительности не существовали…
Но даже отдавая себе в этом полный отчет, Нортон не раз ловил себя на странном желании полоснуть по колонне лазером, чтобы привезти с собой на Землю хоть что-то материальное. В конце концов он сказал себе сурово, что подобное желание достойно мартышки, хватающей банан в зеркале.
Он был поглощен съемкой какого-то, no-видимому, оптического устройства, когда внезапный крик Колверта заставил его опрометью броситься сквозь строй хрустальных колонн.
— Шкипер! Карл! Уилл! Взгляните-ка вот на это…
Джо грешил подчас беспричинными взрывами энтузиазма, однако эта его находка оправдывала самый буйный восторг.
Внутри одной из двухметровых колонн прятались замысловатые доспехи — или мундир, — созданные, вне всякого сомнения, для прямоходящего существа ростом значительно выше человека. От узкого металлического пояса, предназначенного для талии, торса или чего-то вовсе неведомого земной анатомии, кверху отходили три легких стержня, на которых держался внушительный обруч метрового диаметра и идеально круглой формы. Вдоль обруча равномерно размешались петли, предназначенные явно для верхних конечностей — для рук. Для трех рук…
И еще на обруче были бесчисленные кармашки, хомутики, подсумки с торчащими из них инструментами (или оружием?), патрубки, контакты и даже маленькие черные коробочки, которые вполне пришлись бы ко двору в любой электронной лаборатории на Земле. В целом доспехи по сложности конструкции напоминали космический скафандр, хотя и защищали своего хозяина только частично.
«Каков же этот хозяин? — спросил себя Нортон, — Этого мы, вероятно, никогда не узнаем. Но кто бы он ни был, он наделен разумом — иначе не справиться с такой сложной аппаратурой…»
— Метра два с половиной, — произнес вслух Мерсер, — это без головы. Интересно, на что она похожа?
— Рук три, ног, должно быть, тоже три. Вроде пауков, только много массивнее. Ты думаешь, совпадение?
— Может, и нет. Мы конструируем роботов по собственному образу и подобию. Почему не допустить, что рамане поступают так же?
Джо Колверт, на редкость присмиревший, взирал на доспехи с почти благоговейным выражением.
— Знают ли они, что мы здесь? Как вы считаете? — прошептал он.
— Сомневаюсь, — ответил Мерсер. — Мы не проникли даже на порог их сознания. Правда, меркуриане на этот счет другого мнения.
Они все еще толпились у колонны, не в силах отойти от нее, когда рация донесла встревоженный голос Питера:
— Шкипер, выбирайтесь скорее наружу!..
— Что стряслось? Биоты пошли в атаку?
— Нет, гораздо хуже. Рама гасит огни.
43 ОТСТУПЛЕНИЕ
Когда Нортон в спешке выбрался из вырезанной лазером дыры, ему сначала показалось, что шесть солнц Рамы светят как прежде. «Ну конечно, — подумал он, — Питер ошибся… Хотя это на него вовсе не похоже…»
Но сам Питер предвидел именно такую реакцию.
— Свет ослабевает так постепенно, — объяснял он извиняющимся тоном, — что я сам не сразу заметил разницу. Но ослабевает несомненно — я замерил. Уровень освещенности упал на сорок процентов…
Нортон и сам заметил это, как только глаза после полумрака хрустального замка заново привыкли к свету. Долгий раманский день близился к концу.
Снаружи было по-прежнему тепло, но тело охватывала невольная дрожь. Нортону однажды уже довелось испытать такое ощущение в погожий летний день на Земле. На небе ни облачка, а свет необъяснимо гаснет, словно тьма зарождается прямо в воздухе или солнце утратило силу. Тогда он сообразил, что наблюдает частичное солнечное затмение.
— Ну вот, — сказал он хмуро — Возвращаемся домой. Оставьте все снаряжение здесь, больше оно нам не понадобится…
Наконец-то хоть одна из мер предосторожности, кажется, оправдалась. Он выбрал Лондон как объект набега потому, что ни один другой «город» не располагался так близко к лестнице: от подножия Беты их отделяли всего четыре километра.
Они пустились в путь быстрыми размеренными прыжками. Нортон предложил темп, который, по его расчету, выведет их на край равнины без переутомления, но в минимальный срок. Капитан без особой радости представил себе восьмикилометровый подъем, который ждет их на Бете, но ему, решил он, станет много спокойнее, когда они начнут восхождение.
Первый толчок нагнал их почти у самого основания лестницы. Толчок был очень легким, и Нортон инстинктивно повернулся к югу, думая увидеть новый огненный спектакль в районе рогов. Но Рама никогда не повторялся — если над вершинами острых как иглы гор и скапливались электрические заряды, то на сей раз они были слабы и незаметны.
— На корабле, — вызвал он по радио, — вы что-нибудь заметили?
— А как же, шкипер, небольшое сотрясение. Возможно, новое изменение ориентации. Следим за гирокомпасом — пока ничего. Нет, погодите-ка! Стрелка движется! Еле заметно, меньше микрорадиана в секунду, но определенно движется!..
Итак, Рама начал разворот — почти неуловимо медленно, но начал. Более ранние удары были, может статься, ложной тревогой, но этот — этот имел последствия.
— Угловая скорость нарастает — пять микрорад. Алло, алло, а новый толчок вы заметили?
— Конечно. Переведите все системы корабля на рабочий режим. Не исключена возможность экстренного старта.
— Вы думаете, Рама сменит орбиту? Но до перигелия еще далеко…
— Я прежде всего думаю, что рамане учились не по нашим учебникам. Мы у подножия Беты. Пять минут остановки на отдых…
Пять минут — это было намного меньше, чем требовалось, но и они показались вечностью. Потому что ни у кого не оставалось сомнений, что свет слабеет — и слабеет быстро.
Правда, каждый был вооружен фонарем, однако сама мысль о темноте стала невыносимой: они настолько привыкли к бесконечному дню, что с трудом припоминали обстановку, когда впервые проникли в этот мир. Помимо воли, людьми овладевало непреодолимое желание спастись, выбраться к лучезарному солнцу, от которого их отделяла километровая цилиндрическая стена.
— Группа наблюдения! — вызвал Нортон. — Прожектор действует? Он может нам срочно понадобиться…
— Так точно, шкипер. Включаем.
Высоко над головами вспыхнула успокоительно светлая искорка. По сравнению с блекнущим раманским днем она выглядела на удивление немощной, но уже сослужила им хорошую службу раньше и, если возникнет нужда, сослужит опять.
Нортон был мрачен; он отдавал себе отчет в том, что восхождение покажется самым долгим, самым невыносимо напряженным из всех, какие выпадали на их долю. Что бы ни случилось, они не вправе спешить, перенапряжение кончится попросту обмороком где-нибудь на середине головокружительного склона и все равно придется ждать, прежде чем восставшие мускулы позволят двигаться дальше. Да, конечно, за это время они стали одним из самых закаленных экипажей, когда-либо работавших в космосе, и все-таки есть пределы, перешагнуть которые людям из крови и плоти не дано.
Через час тяжкого подъема они добрались до четвертого пролета лестницы, примерно в трех километрах над равниной. Дальше дела, надо надеяться, пойдут лучше — притяжение уже составляло менее трети земного. Изредка повторялись слабые толчки, но других необычных явлений не наблюдалось и света по-прежнему было достаточно. В сердцах вновь затеплился оптимизм, даже шевельнулось сомнение: не слишком ли рано они отступили. Но так или иначе, одно оставалось ясным: пути назад уже нет. По равнине Рамы все они прошли в самый последний раз.
На четвертой площадке они сделали десятиминутную передышку — и тут Джо Колверт внезапно воскликнул:
— Что это за звук, шкипер?
— Какой звук? Я ничего не слышу.
— Очень тонкий свист с перепадами по частоте — его просто нельзя не слышать.
— Ваши уши моложе моих, и… Да, теперь слышу.
Свист, казалось, исходил отовсюду. Он стал громким, затем пронзительным, затем быстро ослаб. И вдруг прекратился вовсе.
Через несколько секунд все повторилось снова в той же последовательности. Словно сирена маяка, печальная и требовательная, слала свои сигналы в туманную ночь. Свист нес в себе какое-то сообщение — и притом срочное. Оно не было предназначено для их ушей, но они его поняли. И, удваивая силу призыва, его подхватили огни.
Огни померкли, почти погасли — и начали мигать. По узким долинам, некогда освещавшим этот мир, понеслись ослепительные, как шаровые молнии, нити огненных четок. Они бежали от обоих полюсов к морю в синхронном, гипнотическом ритме, который мог иметь одно-единственное значение: «В море!.. — звали огни. — В море!..» Призыву было трудно противиться: среди космонавтов не нашлось человека, который не испытал бы побуждения вернуться и искать спасения в водах Рамы.
— Группа наблюдения! — повелительно произнес Нортон. — Вам видно, что происходит?
Голос Питера, донесшийся в ответ, звучал прямо-таки испуганно:
— Так точно, шкипер. Я как раз смотрю на Южный континент. Там до сих пор полным-полно биотов, включая самых больших. Краны, бульдозеры, много мусорщиков. И все они несутся к морю с такой скоростью, какой я у них никогда не видывал. Вон кран подкатился к краю утеса и — бух через край! Прямо как Джимми, только летит быстрее… ударился о воду — сноп брызг… и откуда ни возьмись акулы, вцепились в него и рвут на куски… хм, зрелище не из приятных…
Смотрю дальше, на равнину. Один из бульдозеров, кажется, сломался, движется все время по кругу… К нему подскочила парочка крабов, режут его на части… Шкипер, по-моему, вам лучше бы вернуться немедля…
— Честное слово, — ответил Нортон проникновенно, — мы делаем все, что в наших силах.
Рама, как корабль перед штормом, задраивал люки. Таково было ощущение, владевшее Нортоном, хотя он и не сумел бы его логически обосновать. Он уже не мог бы поручиться за свой рассудок — душу раздирали два противоположных стремления: необходимость спастись и острое желание подчиниться зову молний, вспыхивающих в небе и приказывающих присоединиться к биотам в их движении к морю.
Еще один пролет лестницы — еще одна десятиминутная передышка, чтобы мышцы освободились от яда усталости. Потом снова в путь — осталось еще два километра, но лучше о них не думать…
От свиста, беспрерывно меняющего частоту, можно было сойти с ума — и вдруг его не стало. В то же мгновение огненные четки, пылавшие в прорезях прямых долин, прекратили свой бег к морю, шесть линейных солнц Рамы вновь превратились в сплошные полосы света.
Однако эти полосы быстро меркли, временами мигая, словно энергетические источники, питающие исполинские лампы, почти истощились. Изредка под ногами ощущалась легкая дрожь, с «Индевора» докладывали, что Рама по-прежнему разворачивается с неуловимой медлительностью, как игла компаса в слабом магнитном поле. Это, пожалуй, был обнадеживающий признак — вот если бы Рама уже закончил разворот, Нортон всполошился бы не на шутку'.
Как доложил Питер, биоты исчезли все до одного. Во всем пространстве Рамы не осталось ничего живого, за исключением людей, с мучительной нерасторопностью карабкающихся по вогнутой чаше северного купола.
Нортон давным-давно забыл о головокружении, испытанном тогда, во время первого восхождения, зато теперь в сознание начали закрадываться страхи другого рода. Здесь, на бесконечном подъеме от равнины к шлюзам, они были так уязвимы! Что, если Рама, завершив маневр, без промедления начнет разгон?
Усилие, очевидно, будет направлено вдоль оси. Если на юг, то это не составит проблемы: их просто прижмет к склону, по которому они поднимаются, немного сильнее. А если на север? Тогда их, чего доброго, выбросит в пространство, и рано или поздно они свалятся на равнину далеко внизу…
Он старался успокоить себя тем, что вероятное ускорение очень и очень невелико. Вычисления доктора Переры крайне убедительны: Рама не может разгоняться с ускорением, большим чем одна пятидесятая g, иначе Цилиндрическое море выплеснется через южный утес и затопит целый континент. Но Перера сидел у себя на Земле в уютном кабинете и не знал, что такое километры металла, угрожающе нависшего над головой. И кто сказал, что Рама не приспособлен для периодических наводнений?..
Да нет, это просто смешно. Нелепо и думать, что триллионы тонн способны вдруг ринуться вперед с таким ускорением. И тем не менее на протяжении всего остатка пути Нортон ни на миг не отводил руку от гарантирующих безопасность перил.
Казалось, прошли годы, прежде чем лестница кончилась. Впереди остались лишь считанные сотни метров вертикального, врезанного в плоскость трапа. Трапа, по которому на сей раз даже карабкаться не придется: наблюдатель, перебирая канат, с легкостью вытянет их одного за другим. Притяжение уже не помеха — даже у основания трапа человек весит менее пяти килограммов, а наверху и вовсе ничего не весит.
Так что Нортон мог отдохнуть, устроившись в канатной петле и от случая к случаю хватаясь за перекладину, чтобы совладать с силой Кориолиса, слабеющей, но все еще стремящейся оттащить его тело от трапа. Он почти забыл о судорогах, сводящих каждый мускул, — он смотрел на Раму в последний раз.
Видимость сохранялась примерно такой, как на Земле в полнолуние: общая картина вполне отчетлива, хотя деталей не разглядеть. Южный полюс был частично затянут каким-то светящимся туманом, сквозь который виднелся только Большой рог, но он со стороны вершины казался маленькой черной точкой.
Тщательно нанесенный на карты, но по-прежнему неведомый континент за морем выглядел таким же хаосом лоскутков, как и всегда. Перспектива была слишком искажена, а картина слишком сложна для исследования невооруженным глазом, и Нортон почти не удостоил ее вниманием.
Он обвел взглядом кольцо Цилиндрического моря и заметил впервые, что барашки пены складываются в геометрически правильный рисунок, будто волны натыкаются на рифы через равные интервалы. Он не сомневался, что сержант Барнс благополучно преодолела бы эти волны, попроси он ее переплыть море и верни ей погибший «Резолюшн».
Нью-Йорк, Лондон, Париж, Москва, Рим… он говорил последнее «прости» городам северного полушария, в душе надеясь, что рамане простят ему причиненный им ущерб. Быть может, они поймут, что все делалось в интересах науки.
Затем неожиданно для себя он очутился в нетерпеливых руках друзей, которые подхватили его и подтолкнули к воздушному шлюзу. Собственные его руки и ноги от перенапряжения неудержимо дрожали, и он был искренне рад, что с ним обращаются, как с немощным инвалидом.
Когда поворотная дверь воздушного шлюза навсегда отрезала его от величественного пейзажа, он успел подумать:
«Странно, что ночь наступила здесь именно тогда, когда Рама вплотную приблизился к Солнцу…»
44 ГИПЕРДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧЕН
Нортон решил, что дистанция в сто километров дает достаточную гарантию безопасности. Рама, обращенный к «Индевору» бортом, превратился в большой черный прямоугольник, заслоняющий Солнце. Капитан воспользовался благоприятной возможностью, чтобы завести свой корабль в тень, снять перегрузку с систем охлаждения и — лучше поздно, чем никогда, — провести кое-какой текущий ремонт. Отбрасываемый Рамой теневой конус мог исчезнуть в любой момент, и Нортон стремился использовать его до последней минуты.
Рама продолжал разворачиваться, направление его оси изменилось уже почти на пятнадцать градусов, и с каждым градусом, по логике вещей, близился переход на новую орбиту. В Организации Объединенных Планет возбуждение достигло степени истерии, однако до «Индевора» доходили лишь слабые его отзвуки. Экипаж был измотан и физически, и эмоционально и, не считая вахтенных, число которых было сокращено до минимума, проспал после взлета с Северной базы полных двенадцать часов. Нортон по совету врача включил аппарат электросна, и все равно ему мерещилось, что он взбирается по бесконечной лестнице.
На второй день после возвращения на корабль все или почти все вошло в нормальную колею, исследования внутри Рамы уже представлялись частью какой-то другой жизни. Нортон принялся разгребать накопившиеся бумаги и строить планы на будущее, но на просьбы об интервью, которые непонятно как просачивались на частоты Службы Солнца и даже Космического патруля, отвечал категорическим отказом. Меркурий хранил молчание, и Генеральная Ассамблея прервала свою сессию, хотя делегаты и условились, что при необходимости соберутся в течение часа.
Через тринадцать часов после старта с Рамы, едва Нортон впервые заснул здоровым сном, его жестоко встряхнули за плечо. Он невнятно выругался, приоткрыл глаза, узнал Карла Мерсера и, как любой хороший капитан, мгновенно полностью очнулся.
— Больше не крутится?
— Точно. Застыл на месте, как скала.
— Пошли в рубку…
Весь «Индевор» был уже на ногах, даже шимпанзе поняли, что происходит нечто необычное, и тревожно пищали, пока сержант Макэндрюс не успокоил их двумя-тремя быстрыми взмахами руки. И все же Нортон, устраиваясь в кресле и затягивая привязные ремни, поймал себя на мысли, не очередная ли это ложная тревога.
Цилиндр Рамы как бы укоротился, из-за края его выглядывал палящий солнечный ободок. Нортон мягко передвинул «Индевор» в густую тень искусственного затмения и вновь увидел на фоне нескольких наиболее ярких звезд жемчужное сияние короны. Огромный протуберанец, высотой по крайней мере полмиллиона километров, выбросился так далеко в пространство, что верхние его языки казались ветвями темно-красного огненного дерева.
«Теперь остается только ждать, — сказал себе капитан. — Сколько бы ни длилось ожидание, главное — не потерять готовности мгновенно перейти к действию, включить все приборы, не забыв ни одного…»
Странное явление: звездное небо тронулось с места, как если бы он запустил маневровые двигатели. Но ведь он не притрагивался к рычагам управления, и, если бы корабль действительно пришел в движение, он ощутил бы это в тот же миг…
— Шкипер! — вызвал его взволнованный Колверт из штурманской. — Мы вращаемся, взгляните на звезды! Но ни один прибор не показывает ровным счетом ничего…
— Гироскопы в порядке?
— В полном порядке, и стрелки все на нулях. Но мы вращаемся со скоростью три-четыре градуса в секунду…
— Это немыслимо!
— Разумеется, немыслимо, но взгляните сами…
Когда отказывает все остальное, приходится полагаться на собственные глаза. Звездное небо, несомненно, смещалось — вон по экрану левого борта медленно проплыл Сириус. Одно из двух: или Вселенная решила вернуться к докоперниковой космологии и вдруг принялась вращаться вокруг «Индевора», или звезды пребывали на своих местах, а вращался корабль.
Второе объяснение представлялось значительно более вероятным, зато приводило к другим, казалось бы, неразрешимым парадоксам. Если бы корабль в самом деле вращался, да еще с такой скоростью, он, Нортон, не мог бы не почувствовать этого — в полном соответствии со старой поговоркой — буквально на собственной шкуре. Да и гироскопы никак не могли отказать одновременно и независимо друг от друга.
Значит, остается один ответ. Каждый атом «Индевора» захвачен некой могущественной силой — породить такой эффект могло лишь мощное гравитационное поле. Или, точнее, не способно ни одно другое из известных земной науке…
И тут звезды исчезли совсем. Пылающий диск Солнца поднялся из-за щита Рамы, и его ослепительный блеск будто стер их с небосклона.
— Локатор что-нибудь показывает? Какова скорость удаления?..
Нортон был вполне готов к тому, что и локатор выйдет из повиновения, но он заблуждался.
Рама наконец-то уходил с прежней орбиты, уходил со скромным ускорением, равным 0,015g. Нортон не преминул отметить про себя, что доктор Перера, вероятно, счастлив — ведь он предсказывал предельное ускорение порядка 0,02g. А «Индевор» держался в кильватере удаляющегося исполина, и его закрутило позади, как обломок кораблекрушения…
Час за часом ускорение оставалось постоянным; Рама улетал от «Индевора» с непрерывно возрастающей скоростью. По мере удаления цилиндра противоестественное поведение самого «Индевора» мало-помалу прекратилось, нормальные законы инерции вновь вступили в свои права. Можно было лишь гадать о чудовищных силах, приведших Раму в движение, если даже дальние их завихрения вызвали такой эффект, и Нортон возблагодарил судьбу, что успел отвести «Индевор» на безопасное расстояние, прежде чем Рама включил свой гипердвигатель.
Что касается природы этого двигателя, несомненным было одно: Рама перешел на новую орбиту без помощи газовых струй, ионных лучей или потоков плазмы. Никто не сумел выразить свои чувства лучше, чем сержант — он же профессор — Майрон, который произнес потрясенно:
— Прости-прощай третий закон Ньютона!..
Однако сам «Индевор» находился в прямой зависимости именно от третьего закона Ньютона, когда на следующий день сжигал последние остатки топлива, пытаясь отклонить собственную свою орбиту как можно дальше от Солнца. Большого отклонения достигнуть не удаюсь, и все же расстояние от Солнца в перигелии увеличилось на десять миллионов километров. Такова была дистанция между необходимостью выжать из систем охлаждения 95 процентов мощности и стопроцентной уверенностью в огненной смерти.
Когда корабль завершил свой маневр, Рама уже ушел от «Индевора» на двести тысяч километров и на фоне пылающего Солнца стал почти невидимым. Однако локаторы по-прежнему вели тщательные измерения новой орбиты цилиндра — и чем больше данных получали люди, тем сильнее недоумевали.
Они проверяли и перепроверяли цифры до тех пор, пока вывод, казалось бы немыслимый, не превратился в единственно возможный. Страхи меркуриан, героизм Родриго, полемические бои Генеральной Ассамблеи — все было, видимо, напрасным.
«Что за вселенская ирония, — сказал себе Нортон, разглядывая листок с расчетами, — миллионы лет компьютеры Рамы благополучно вели его к цели и вдруг совершили единственную пустяковую ошибку, скорее всего заменили в каком-нибудь уравнении знак плюс на минус…»
Все были так уверены, что Рама затормозит и, пойманный притяжением Солнца, станет новой планетой Солнечной системы. На деле произошло нечто диаметрально противоположное.
Рама набирал скорость — в худшем из всех возможных направлений. Рама падал на Солнце, и с каждым мгновением все быстрее.
45 ПТИЦА ФЕНИКС
Когда параметры новой орбиты звездного гостя определились с окончательной четкостью, никто не взялся бы утверждать, что корабль избежит катастрофы. Лишь ничтожная горсточка комет подходила когда-либо так близко к Солнцу: в перигелии Раму от пылающего водородного ада будут отделять едва ли полмиллиона километров. Никакое твердое вещество не способно противостоять царящим здесь температурам; сверхпрочный сплав, из которого изготовлен корпус Рамы, начнет плавиться на расстоянии, раз в десять большем…
К общему облегчению, «Индевор» успешно миновал свой перигелий — теперь дистанция, отделяющая корабль от Солнца, начала понемногу возрастать. Рама далеко обогнал людей на своей более низкой, а значит, более быстрой орбите и давно углубился во внешние слои короны. «Индевору» выпала честь наблюдать последний акт трагедии из почетной ложи.
Но вот примерно в пяти миллионах километров от Солнца Рама, все ускоряя свой бег, принялся свивать себе кокон. До сих пор в телескопы «Индевора» он был виден при максимальном увеличении как крохотная яркая полоска — и вдруг полоска начала мерцать, как звезда над самым горизонтом. Прежде всего подумалось, что Рама разрушается, и Нортон, уловивший необычную прерывистость изображения, испытал острую внутреннюю боль при мысли о безвозвратной утрате такого чуда. Потом он понял, что Рама цел, но окружен мерцающим ореолом.
И тут цилиндр исчез. На его месте возникла ослепительная точка — звездочка без какого бы то ни было видимого диска, словно Рама внезапно сжался в крохотный комок.
Прошло немало времени, прежде чем они догадались, что случилось. Рама действительно исчез — он был теперь окружен идеально отражающей сферой диаметром примерно в сто километров. И видели они не всю сферу, а лишь отражение Солнца на ее изгибе, ближайшем к «Индевору». Этот защитный кокон надежно укрыл Раму от жара солнечной преисподней.
Прошло еще несколько часов — и кокон изменил свою форму. Отражение Солнца стало вытянутым, искаженным. Сфера превращалась в эллипсоид, большая ось которого была развернута в направлении полета Рамы. Именно тогда автоматические обсерватории, без малого двести лет несущие бессменную вахту на подступах к Солнцу, передали первые удивительные сообщения.
В примыкающей к Раме зоне с солнечным магнитным полем происходило что-то странное. Силовые линии в миллионы километров длиной, пронизывающие корону, отбрасывающие жгуты ионизированного газа с такой скоростью, что его подчас не могло удержать даже сокрушительное притяжение, — эти силовые линии закручивались вокруг блестящего эллипсоида. Глаз еще ничего не улавливал, но приборы, вынесенные на околосолнечную орбиту, фиксировали изменение магнитных потоков и ультрафиолетовой радиации.
А затем перемены в области короны стали заметны и невооруженным глазом. Во внешней атмосфере Солнца появилась слабо светящаяся труба или тоннель протяженностью в сотни тысяч километров. Тоннель слегка изгибался, словно предваряя орбиту Рамы, и сам Рама — а быть может, защитный кокон вокруг него — казался яркой бусиной, летящей но призрачной трубе сквозь корону.
Ведь пришелец по-прежнему набирал скорость; теперь он делал более двухсот тысяч километров в секунду, и никто уже не рискнул бы пророчить, что он останется пленником Солнца. Наконец-то люди поняли стратегию раман: они подошли так близко к светилу просто ради того, чтобы почерпнуть энергию прямо из первоисточника и с еще большей скоростью двинуться дальше, к неведомой конечной цели…
И отнюдь не исключалось, что рамане черпают от Солнца не только энергию. Никто не мог бы поручиться за это — ближайшие наблюдательные приборы были отдалены от Рамы на тридцать миллионов километров, — но по некоторым признакам цилиндр засасывал в себя саму материю Солнца, словно компенсируя те нехватки и потери, которые неизбежно возникли за десять тысяч веков, проведенных в космосе.
Все стремительнее и стремительнее обращался Рама вокруг Солнца, двигаясь теперь быстрее, чем любое тело, когда-нибудь попадавшее в Солнечную систему. Менее чем за два часа направление его движения изменилось более чем на девяносто градусов. И тут Рама окончательно и высокомерно доказал, что начисто не интересуется мирами, чье спокойствие он недавно столь грубо нарушил.
Корабль выскользнул из эклиптики в глубины южного неба, намного ниже плоскости движения планет. Разумеется, и это не было его конечной целью, но курс он взял точно на Большое Магелланово облако, на пустынные бездны вне Млечного пути.
46 ПРОЛОГ
— Войдите, — рассеянно произнес капитан Нортон, услышав тихий стук в дверь.
— У меня есть для тебя новости, Билл. Я хотела успеть к тебе первой, пока не вмешалась вся команда. И кроме того, это по моему ведомству…
Мысли Нортона, казалось, витали где-то очень далеко. Он лежал с полузакрытыми глазами, заложив руки за голову и притушив свет, — не то чтобы в самом деле дремал, но отдался во власть раздумий. Произнесенные слова вернули его к действительности.
— Прости, Лаура, я отвлекся. О чем речь?
— Не уверяй меня, что ты забыл!..
— Перестань, задира. В последние дни мне, право же, было над чем подумать…
Старший корабельный врач Эрнст взялась за передвижной стул и, подтолкнув его по направляющим, села рядом с капитаном.
— Межпланетные кризисы приходят и уходят, а бюрократические колеса скрежещут с неизменным постоянством. Но, наверное, Рама все-таки подтолкнул их. Хорошо еще, что тебе не пришлось испрашивать разрешения у меркуриан…
Ситуация понемногу прояснялась.
— Значит, Порт-Лоуэлл наконец дал добро?..
— Более того, разрешение уже вступило в силу. — Лаура взглянула на полоску бумаги, которую принесла с собой. — Можешь убедиться, внеочередное. Не исключено, что приговор уже приведен в исполнение. Поздравляю.
— Спасибо. Надеюсь, мой наследник не рассердится на меня за эту волокиту…
Как и всем космонавтам, Нортону перед поступлением на флот сделали операцию: годы и годы, проведенные в пространстве, были чреваты даже не опасностью, а стопроцентной уверенностью в возникновении мутаций, вызванных радиацией. Набор генов, только что доставленный за двести миллионов километров на Марс, ждал своей судьбы в замороженном состоянии в течение тридцати лет.
Оставалось лишь гадать, успеет ли он домой к рождению сына. Он заслужил отдых, заслужил покой в лоне семьи — в той мере, в какой это вообще доступно космонавтам. Теперь, когда его миссия была в основном завершена, он начинал понемногу расслабляться, начинал вновь задумываться над своим будущим — и над будущим обеих своих семей. Да, это будет очень славно — погостить дома…
— Слушай, — запротестовала Лаура, — я пришла к тебе сугубо по долгу службы…
— За столько-то лет знакомства, — отвечал Нортон, — можно бы изобрести что-нибудь поостроумнее. Ты же сейчас не на вахте…
— О чем ты думаешь? — осведомилась Лаура Эрнст немалое время спустя. — Уж не становишься ли ты сентиментальным?
— Да я вовсе не о нас с тобой. Я о Раме. Знаешь, мне его, пожалуй, недостает…
— Премного признательна за комплимент.
Нортон сжал ее в объятиях. Ему и раньше приходило в голову, что у невесомости есть свои преимущества, и одно из них — вот оно: можно не разнимать рук хоть всю ночь, не рискуя затруднить кровообращение. Недаром кое-кто утверждал, что любовь при силе тяжести, равной одному g, настолько утомительна, что уже не доставляет радости.
— Это же общеизвестный факт, Лаура, что мужчины, не в пример женщинам, способны думать о двух вещах сразу. Но если серьезно, если чуть-чуть серьезнее — мною владеет чувство потери.
— Могу понять.
— Да не держись ты так сухо — тут не одна причина, а много. Впрочем, какая разница…
Он сложил оружие. Объяснить, что он чувствует, было нелегко даже самому себе.
Он добился успеха превыше всех, конечно трезвых, ожиданий: открытий, сделанных людьми «Индевора» на Раме, ученым хватит на десятилетия. И более того, он сумел совершить все это без единого несчастного случая.
Но если разобраться, то он также и потерпел поражение. Можно строить бесконечные догадки, но природа раман и цель их путешествия так и останутся неизвестными. Они использовали Солнечную систему как заправочную станцию или как трамплин — выбирайте что нравится, а затем презрительно отвернулись от нее, продолжая свой путь к иной, более важной цели. Вероятно, они никогда и не узнают о существовании человечества; такое величавое безразличие было хуже намеренного оскорбления.
Когда Нортон увидел Раму в последний раз, тот казался крохотной звездочкой рядом с Венерой, и капитан понял, что с этой звездочкой улетает часть его жизни. Ему было только пятьдесят пять, однако он сознавал с грустью, что молодость его осталась там, на вогнутой равнине, среди тайн и чудес, отныне и навсегда недостижимых для человечества. Какие бы победы и почести ни готовило ему будущее, на протяжении многих и многих лет ему не избавиться от чувства, что главное позади, не избавиться от сожалений об утраченных возможностях…
Так он говорил себе. Но даже тогда, на борту «Индевора», он мог бы быть прозорливее.
На далекой Земле доктор Карлайл Перера просто не успел еще никому рассказать, как он очнулся от беспокойного сна, пораженный внезапной мыслью. Однажды возникнув, эта мысль уже не давала покоя, стучала в голове как набат:
Все, что бы они ни делали, рамане повторяют трижды…
Конец детства Перевод Норы Галь
Гипотезы, положенные в основу этой книги, принадлежат не автору,
I Земля и Сверхправители
1
Вулкан, вознесший из глубин Тихого океана остров Таратуа, спал уже полмиллиона лет. Но очень скоро, подумал Рейнгольд, остров будет омыт пламенем куда более яростным, чем то, которое помогло ему родиться. Рейнгольд посмотрел в сторону стартовой площадки, запрокинув голову, — иначе не оглядеть до самого верха пирамиду лесов, все еще окружающих «Колумб». Нос корабля возвышался на двести футов над землей, и на нем играли прощальные лучи закатного солнца. Настает одна из последних ночей, какие суждено видеть кораблю, скоро он уже выплывет в непреходящий солнечный свет космоса.
Здесь, под пальмами, высоко на скалистом хребте острова, тишина. Лишь изредка от строительства донесется вой компрессора или чуть слышный издали возглас рабочего. Рейнгольд успел полюбить эту пальмовую рощицу; почти каждый вечер он приходил сюда и сверху оглядывал свое маленькое царство. Но когда «Колумб» в бушующем пламени ринется к звездам, от рощи не останется даже пепла, и это грустно.
В миле за рифом на палубе «Джеймса Форрестода» вспыхнули прожекторы и пошли кружить, обшаривая темный океан. Солнце уже скрылось, с востока стремительно надвигалась тропическая ночь. Рейнгольд усмехнулся — неужели на авианосце всерьез думают обнаружить у самого берега русские подводные лодки!
Мысль о России, как всегда, вернула его к Конраду и к памятному утру переломной весны 1945-го. Больше тридцати лёт прошло, но не тускнело воспоминание о тех последних днях, когда Третья империя рушилась под грозным прибоем наступления с Востока и с Запада. Будто и сейчас перед ним усталые голубые глаза Конрада и рыжеватая щетина на подбородке — минута, когда они пожимали друг другу руки и расставались в той разрушенной прусской деревушке, а мимо нескончаемым потоком брели беженцы. Их прощание — символ всего, что с тех пор случилось с миром, символ раскола между Востоком и Западом. Потому что Конрад выбрал путь, ведущий в Москву. Тогда Рейнгольд счел его выбор глупостью, но теперь он в этом не столь уверен.
Тридцать лет он думал, что Конрада уже нет в живых. И только неделю назад полковник Технической разведки Сэндмайер сообщил ему новость. Не нравится ему Сэндмайер, и уж наверно это взаимно. Однако ни тот ни другой не допускают, чтобы взаимная неприязнь мешала делу.
— Мистер Хофман, — начал полковник самым официальным своим тоном, — я только что получил весьма тревожное сообщение из Вашингтона. Разумеется, это совершенно секретно, однако мы решили поставить технический персонал в известность, люди должны понять, что необходимо ускорить работу.
Он многозначительно помолчал, но на Рейнгольда это не произвело особого впечатления. Он уже знал, что сейчас услышит.
— Русские почти догнали нас. Они разработали какую-то систему атомной тяги, которая, возможно, даже превосходит нашу, и строят на берегу озера Байкал космический корабль. Мы не знаем, насколько они продвинулись, но Разведка полагает, что запуск может состояться уже в этом году. Сами понимаете, что это значит.
Да, подумал Рейнгольд, понимаю. Идет гонка, и, возможно, ее выиграем не мы.
— А вы не знаете, кто там руководит работой? — спросил он, не слишком надеясь на ответ.
К его удивлению, полковник Сэндмайер подвинул ему через стол лист бумаги — первым в списке, отпечатанном на машинке. стояло имя: Конрад Шнайдер.
— Вы ведь знали многих ученых в Пеенемюнде, так? — сказал полковник. — Может быть, это даст нам какое-то представление об их методах. Я бы хотел услышать от вас характеристики всех, кого вы помните, — их специальность, блестящие идеи и прочее. Конечно, прошло много времени, а все-таки прошу вас припомнить.
— Важен один Конрад Шнайдер, остальные не в счет, — ответил Рейнгольд, — Это был настоящий талант, остальные просто дельные инженеры. Бог весть чего он достиг за тридцать лет. Притом ему, вероятно, известны все результаты нашей работы, а мы о его работе ничего не знаем. Так что у него серьезное преимущество.
Он сказал это вовсе не в укор Разведке, однако полковник Сэндмайер, видно, готов был оскорбиться. Но только пожал плечами.
— Это, как вы сами говорили, палка о двух концах. Мы щедрее на информацию, потому продвигаемся быстрее, хотя и выдаем кое-какие секреты. В ведомстве русских, наверно, они и сами не всегда знают, как у них идут исследования. Мы им докажем, что Демократия первой достигнет Луны.
«Демократия… Экая чушь!» — подумал Рейнгольд, но не так он был глуп, чтобы сказать это вслух. Одному Конраду Шнайдеру цена больше, чем миллиону ваших избирателей. А чего достиг за это время Конрад, когда за ним стоит вся производственная мощь Советского Союза? Быть может, в эту самую минуту его корабль уже взлетел с Земли…
Солнце, что покинуло остров Таратуа, было еще высоко над Байкалом, когда Конрад Шнайдер и помощник комиссара по ядерным исследованиям медленно пошли прочь от испытательного стенда. В ушах еще отдавался оглушительный рев двигателя, хотя громовые отголоски его за озером смолкли десять минут назад.
— Отчего такое уныние на лице? — спросил вдруг Григоревич. — Вам бы радоваться. Через месяц мы полетим, и янки лопнут от злости.
— Вы, как всегда, оптимист, — сказал Шнайдер, — Двигатель, конечно, работает, но не так все просто. Правда, теперь я не вижу серьезных препятствий, но меня беспокоят известия с Таратуа. Я вам уже говорил, Хофман — умница, и за ним стоят миллиарды долларов. Фотоснимки его корабля не очень отчетливы, но, похоже, он почти закончен. А двигатель, как нам известно, он испытал еще пять недель назад.
— Не беспокойтесь, — засмеялся Григоревич. — Сюрприз поднесем мы им, а не они нам. Не забывайте, они о нас ничего не знают.
Шнайдер совсем не был в этом уверен, но предпочел умолчать о своих сомнениях. Не то, пожалуй, мысль Григоревича пойдет разными сложными путями, а если какие-нибудь секретные сведения просочились наружу, нелегко будет доказать, что ты ни при чем.
Он вернулся в здание администрации, часовой при входе отдал ему честь. Военных тут не меньше, чем техников, хмуро подумал Шнайдер. Но жаловаться нечего, так у русских принято, зато работать они ему не мешают — это главное. В целом, за немногими досадными исключениями, надежды его сбылись, и все идет хорошо. И только будущее покажет, чей выбор лучше — его или Рейнгольда.
Он уже составлял свой окончательный доклад, как вдруг послышались крики. Минуту-другую он еще сидел за столом, недоумевая, что могло нарушить строгую дисциплину космического центра. Потом подошел к окну — и впервые в жизни изведал настоящее отчаяние.
* * *
Рейнгольд спустился с холма, небо вокруг было уже усыпано звездами. Авианосец по-прежнему шарил по глади океана пальцами прожекторов, а подальше на берегу строительные леса вокруг «Колумба» засверкали огнями, будто рождественская елка. Лишь высоко взнесенный нос ракеты темнел, заслоняя звезды.
В жилом доме гремела по радио танцевальная музыка, и Рейнгольд невольно зашагал быстрее, в лад ей. Он почти уже дошел до узкой дорожки, проложенной вдоль пляжа, и вдруг то ли странное предчувствие, то ли едва уловимое краем глаза движение заставило его замереть на месте. Озадаченный, он обвел взглядом берег, море, снова берег; не сразу он догадался посмотреть на небо.
И тогда Рейнгольд Хофман понял, как понял в тот же миг и Конрад Шнайдер, что гонку он проиграл. Понял, что отстал не на недели и не на месяцы, как боялся, а на тысячелетия. Громадные тени неслышно скользили среди звезд, в такой вышине, что он не смел даже представить, сколько до них миль, и его маленький «Колумб» был перед ними все равно что перед самим «Колумбом» — долбленые лодки времен палеолита. Нескончаемо долгую минуту Рейнгольд смотрел, и смотрели все люди на Земле, как величественно и грозно спускаются исполинские корабли, пока его слуха не достиг свист, с каким они рассекали разреженный воздух стратосферы.
Нет, он не пожалел о том, что труд всей его жизни пошел прахом. Он работал ради того, чтобы поднять людей к звездам, и в час, когда добился успеха, звезды — чуждые, равнодушные звезды — сами пришли к нему. В этот час история затаила дыхание и настоящее отломилось от прошлого, как отламывается айсберг от родных ледяных гор и одиноко, гордо выплывает в океан. Все, чего достигли минувшие века, отныне не в счет, лишь одна мысль опять и опять отдавалась в мозгу Рейнгольда:
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО БОЛЬШЕ НЕ ОДИНОКО.
2
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, застыв у широкого, во всю стену окна, смотрел вниз, на медлительный поток машин, заполняющих 43-ю улицу. Порой он задумывался, хорошо ли человеку работать на такой высоте над собратьями. Конечно, отстраненность помогает быть беспристрастным, но она легко может перейти в равнодушие. Или он просто пытается как-то объяснить свою нелюбовь к небоскребам, которую так и не одолел за двадцать лет жизни в Нью-Йорке?
Позади отворилась дверь, он услышал шаги Питера ван Риберга, но не обернулся. Как всегда, короткое молчание, конечно же, Питер неодобрительно посмотрел на термостат, ведь это ходячая острота — генеральному секретарю нравится жить в холодильнике. Стормгрен подождал, пока его заместитель подойдет к окну, и тогда только отвел взгляд от такой знакомой и все же завораживающей картины, что открывалась с высоты.
— Они опаздывают, — сказал он. — Уэйнрайт должен был явиться пять минут назад.
— Мне только что сообщили из полиции, он ведет за собой изрядную толпу, из-за этого шествия на улицах пробки. Он явится с минуты на минуту. — Ван Риберг чуть помолчал, потом спросил почти резко: — Вы все еще полагаете, что это разумно — встретиться с ним?
— Боюсь, отменять встречу поздновато. Как-никак я на нее согласился, хотя, вспомните, это не моя затея.
Стормгрен уже отошел к письменному столу и вертел в руках свое знаменитое урановое пресс-папье. Не то чтобы он волновался, но был в нерешительности. Хорошо, что Уэйнрайт запаздывает, от этого в начале переговоров чувствуешь некоторое превосходство. Такие вот мелочи значат в наших делах куда больше, чем хотелось бы тем, кто слишком полагается на логику и рассудок.
— Вот они! — Ван Риберг чуть не ткнулся носом в стекло. — Подходят… пожалуй, добрых три тысячи.
Стормгрен, прихватив записную книжку, подошел к заместителю. Примерно в полумиле от здания секретариата ООН видна была небольшая, но решительная процессия, она медленно приближалась. Над головами развевались полотнища, надписи издали нельзя было прочесть, но Стормгрен и так знал, чего они требуют. А вскоре, перекрывая шум уличного движения, до него донеслись и размеренные выкрики зловещего многоголосого хора. Стормгрена захлестнуло внезапное отвращение. Право, человечество могло бы уже и отказаться от марширующих толп и яростных лозунгов!
Шествие поравнялось со зданием секретариата; наверно, участники понимали, что он стоит у окна: там и сям поднимались кулаки — впрочем, не очень уверенно. Вызов относился не к Стормгрену, хотя, конечно, кулак показывали ему. Словно угроза пигмеев великану, гневные взмахи кулака обращались к небу, где на высоте полусотни километров сияло серебристое облако — флагманский корабль флота Сверхправителей.
И вполне возможно, что Кареллен смотрит на все это и безмерно забавляется, подумал Стормгрен, ведь этой встрече вовек не бывать бы, если б не наущение Попечителя.
Сегодня впервые Стормгрен встречается с главой Лиги освобождения. Он перестал спрашивать себя, разумный ли это шаг, — планы Кареллена зачастую чересчур сложны, человеку их не понять. Во всяком случае, серьезного вреда от этого не будет. А откажись он принять Уэйнрайта, Лига использовала бы отказ как оружие против него, Стормгрена.
Александр Уэйнрайт оказался рослым красивым мужчиной лет под пятьдесят. Стормгрен знал, что это человек безусловно честный, а потому вдвойне опасный. Но он явно искренен, вот почему трудно отнестись к нему неприязненно, как бы ни оценивать его убеждения, — а кстати, и некоторых его последователей.
Ван Риберг коротко, довольно натянуто представил их друг другу, и Стормгрен, не теряя времени, приступил к делу.
— Я полагаю, — начал он, — главная цель вашего визита — заявить официальный протест против плана создания Всемирной федерации. Я не ошибаюсь?
Уэйнрайт серьезно кивнул.
— Это — главное, господин секретарь. Как вам известно, в последние пять лет мы пытались открыть человечеству глаза на стоящую перед ним опасность. Задача наша оказалась нелегкой, потому что в большинстве своем люди, похоже, охотно предоставляют Сверхправителям вертеть нашим миром, как тем заблагорассудится. И все же в разных странах нашу петицию подписало свыше пяти миллионов патриотов.
— Не так-то много — пять миллионов, а нас миллиарды.
— Пять миллионов со счета не сбросишь. Притом за каждым, кто подписался, стоит немало таких, которые отнюдь не уверены, будто замысел создать федерацию разумен, а тем более — будто он справедлив. Даже Попечитель Кареллен, при всем своем могуществе, не может одним росчерком пера отменить тысячелетнюю историю человечества.
— Что знает кто-либо из нас о могуществе Кареллена? — возразил Стормгрен. — Когда я был мальчишкой, Объединенная Европа была всего лишь мечтой, а когда я стал взрослым, мечта сбылась. И ведь это свершилось еще до прибытия Сверхправителей. Кареллен только завершает работу, которую начали мы сами.
— Европа была и в культурном, и в географическом смысле едина. А весь наш мир не един — разница существенная.
— В глазах Сверхправителей, надо полагать, вся Земля несравненно меньше, чем нашим родителям казалась Европа, и я не могу не признать их взгляды более зрелыми, чем наши.
— Я не отвергаю наотрез федерацию как конечную цель, хотя многие мои сторонники, пожалуй, с этим не согласятся… Но объединение должно возникнуть внутри человечества, его не должны нам навязать извне. Мы должны сами строить свою судьбу. Никто не должен больше вмешиваться в дела людей.
Стормгрен вздохнул. Все это он слышал уже тысячи раз — и может дать лишь все тот же ответ, с которым Лига освобождения не желает мириться. Он верит Кареллену, а Лига не верит. Тут они в корне расходятся, и ничего с этим не поделаешь. По счастью, Лига тоже не в силах что-либо сделать.
— Позвольте задать вам несколько вопросов, — сказал он Уэйнрайту. — Станете ли вы отрицать, что Сверхправители принесли человечеству безопасность, мир и процветание?
— Не спорю. Но они отняли у нас свободу. Человек жив…
— …не хлебом единым. Да, знаю, — но сейчас впервые настало время, когда каждый человек уверен хотя бы в хлебе насущном. Да и какая свобода, утраченная нами, сравнится с тем, что впервые за всю историю человечества дали нам Сверхправители?
— Свобода распоряжаться нашей собственной жизнью, как велит нам Господь.
Наконец-то мы добрались до сути, подумал Стормгрен. Корень разногласий — в религии, как бы это ни прикрывали. Уэйнрайт ни в коем случае не даст забыть, что он — священник. Хоть он теперь одет, как мирянин, все равно кажется, будто на нем облачение пастыря.
— Месяц тому назад сто епископов, кардиналов и раввинов в совместной декларации заявили, что они поддерживают политику Попечителя. Верующие в нашем мире не с вами.
Уэйнрайт гневно затряс головой — конечно, не согласен.
— Многие духовные власти слепы, Сверхправители их совратили. Когда же они осознают опасность, будет слишком поздно. Человечество утратит волю к действию и впадет в рабство.
Короткое молчание. Потом Стормгрен сказал:
— Через три дня я опять буду у Попечителя. Я разъясню ему ваши возражения, поскольку мой долг — представлять все взгляды человечества. Но поверьте, это ничего не изменит.
— Еще одно, — медленно сказал Уэйнрайт, — Для нас многое неприемлемо в Сверхправителях, но всего отвратительней их скрытность. Вы единственный человек, который хотя бы говорил с Карелленом, но даже и вы ни разу его не видели! Так разве удивительно, что мы ему не доверяем?
— Несмотря на все, что он сделал для человечества?
— Да, несмотря на это. Даже не знаю, что оскорбительнее — всемогущество Кареллена или его секреты. Если ему нечего скрывать, почему он нам не покажется? В следующий раз, когда будете говорить с Попечителем, господин Стормгрен, спросите его об этом!
Стормгрен промолчал. На это ему нечего было ответить — во всяком случае ничего такого, что убедило бы собеседника. Порой он сомневался в том, что убедил самого себя.
* * *
Для Сверхправителей, конечно, то была пустячная операция, для Земли же — величайшее событие за всю ее историю. Исполинские корабли вынырнули из непостижимых глубин Вселенной безо всякого предупреждения. В фантастике это описывали тысячи раз, но ни одна душа не верила, что такой день и вправду настанет. И вот свершилось: безмолвные громадины, которые поблескивают в небесах над всеми странами, — символ знания, какого человеку не достичь и через века. Шесть дней они недвижно парили над городами людей, никак не показывая, что им известно о самом существовании человека. Но никаких знаков и не требовалось, ясно же. что не случайно могучие корабли повисли с такой точностью как раз над Нью-Йорком, Лондоном и Парижем, над Москвой, Римом, Кейптауном, Токио и Канберрой…
Еще прежде чем истекли те леденящие душу шесть дней, некоторые люди угадали истину. Эти пришельцы явились не впервые, они уже когда-то пытались свести знакомство с человеком. И теперь в безмолвных, неподвижных кораблях мудрые психологи присматриваются — как поведут себя люди. Когда напряжение достигнет предела, пришельцы начнут действовать.
И на шестой день Кареллен, Попечитель Земли, объявил о себе человечеству, перекрыв все передачи на любых радиоволнах. Он безупречно говорил по-английски, уже одно это вызвало распрю, которая бушевала над Атлантическим океаном, пока не сменилось целое поколение. Но суть его речи потрясла слушателей куда больше, чем форма. По любым меркам такое под силу было только высочайшему гению, сумевшему глубоко и всесторонне разобраться во всех человеческих делах. Несомненно, мудрость и гибкость, колдовские мгновения, по которым догадываешься о еще неведомых областях знания, — все это, искусно сплетенное воедино, должно было внушить человечеству, что перед ним разум неизмеримо более высокий. Когда Кареллен кончил, народы Земли поняли, что дни их зыбкой независимости миновали. В пределах государственных границ каждое правительство еще сохраняет свою власть, но в делах международных решающее слово отныне принадлежит не людям. Спорить, протестовать, доказывать — бесполезно.
Трудно было бы ожидать, что все государства мира безропотно подчинятся такому ограничению своей власти. Но как сопротивляться? Задача головоломная, ведь если даже удастся уничтожить корабли Сверхправителей, нависшие над крупнейшими городами, заодно погибнут и сами города. И все же одна крупная держава совершила такую попытку: Быть может, там кое-кто надеялся одним атомным ударом убить сразу двух зайцев, ибо метили в корабль, что парил нал соседней и притом недружественной державой.
Должно быть, в минуту, когда на телеэкране тайного контрольного поста возникло изображение исполинского корабля, кучку военных и специалистов раздирали самые противоречивые чувства. Если попытка увенчается успехом, чем ответят остальные корабли? Быть может, и их удастся уничтожить, и человечество вновь пойдет своей дорогой? Или Кареллен отплатит нападающим какой-нибудь страшной карой?
Ракета взорвалась, и экран померк, но тотчас же изображение корабля появилось снова: заработала камера, запушенная в воздух за многие мили отсюда. Пронеслась лишь доля секунды, однако уже пора бы вспыхнуть огненному шару и заполнить небеса пламенем, подобным солнцу.
Но ничего не произошло. Громадный корабль остался невредим и парил в недосягаемой вышине, в ослепительных солнечных лучах. Атомная бомба его не коснулась, и никто даже не понял, что с ней сталось. Более того, Кареллен никак не покарал виновников, ничем не показал хотя бы, что знает о нападении. Он презрительно промолчал, предоставил им в страхе ждать мести, однако же ее так и не последовало. И это подействовало куда сильнее, вызвало больший разброд и упадок духа, чем любое наказание. В считанные недели, после яростных взаимных обвинений, незадачливое правительство пало.
Случались и попытки пассивного сопротивления политике Сверхправителей. Обычно Кареллен просто давал несогласным поступать как хотят, покуда они сами не убеждались, что, действуя по-своему, только вредят себе же. И лишь однажды он дал некоему упорствующему правительству почувствовать свое недовольство.
Больше ста лет Южно-Африканскую Республику раздирали внутренние распри. В обоих лагерях люди доброй воли пытались перекинуть мост через пропасть, но тщетно — страх и предрассудки укоренились слишком глубоко и отрезали путь к соглашению. Опять и опять сменялись правительства, но отличались они друг от друга только степенью нетерпимости; вся страна отравлена была ненавистью и последствиями гражданской войны.
Когда стало ясно, что тут даже не попытаются покончить с дискриминацией, Кареллен предостерег неугомонных. Всего лишь назвал день и час. В стране возникли смутные опасения, но не страх и, уж конечно, не паника — никто не верил, что Сверхправители допустят насилие и разрушения, от которых одинаково пострадали бы и виновные и невиновные.
Так оно и вышло. Просто, достигнув меридиана Кейптауна, погасло солнце. Остался лишь еле различимый глазом бледный лиловатый призрак, не дающий ни тепла, ни света. Неведомо как, высоко в космосе скрестились два силовых поля и преградили путь солнечным лучам. Безукоризненно круглая тень покрыла пространство диаметром в пятьсот километров.
Наглядный урок длился полчаса. Этого хватило: назавтра южноафриканские власти объявили, что белое меньшинство полностью восстановлено в гражданских правах.
Если не считать вот таких отдельных случаев, человечество приняло Сверхправителей как неотъемлемую часть естественного порядка вещей. Удивительно быстро следы первого потрясения сгладились, и жизнь пошла своим чередом. Проснись внезапно новый Рип ван Винкль, самой большой переменой, какую он бы заметил, оказалось бы затаенное ожидание, словно люди мысленно оглядывались, подстерегая миг, когда, наконец, Сверхправители выйдут из своих сверкающих кораблей и покажутся жителям Земли.
Пять лет спустя они все еще ждали. В этом и кроется причина всякой смуты, думал Стормгрен.
* * *
Когда машина Стормгрена подъехала к стартовой площадке, там уже, как обычно, собрались зеваки с фото- и киноаппаратами наготове. Генеральный секретарь обменялся напоследок несколькими словами со своим заместителем и прошел через кольцо любопытных.
Кареллен никогда не заставлял его долго ждать. Внезапно толпа ахнула — в вышине сверкнул и с потрясающей быстротой вырос серебряный шар. Стормгрена обдало порывом ветра, и кораблик замер в полусотне шагов от него, осторожно держась в нескольких сантиметрах над площадкой, будто боялся осквернить себя прикосновением к Земле. Стормгрен медленно пошел к нему, и прямо на глазах сплошной, без единого шва, металлический корпус знакомо зарябил, открывая вход, — все специалисты мира безуспешно пытались понять, как это происходит. Стормгрен шагнул внутрь, в заполненную мягким светом единственную кабину. Входное отверстие замкнулось бесследно, звуки и краски внешнего мира исчезли.
Пять минут спустя отверстие появилось вновь. Стормгрен не ощутил движения, но знал, что его подняло на пятьдесят километров нал Землей и теперь он находится в недрах Каредленова корабля. Он в мире Сверхправителей, повсюду вокруг они заняты своими таинственными делами. Он к ним ближе, чем кто-либо из людей, — и однако знает об их природе и облике не больше, чем миллионы людей там, внизу.
В небольшом кабинете, куда вел короткий переход, вся обстановка — единственный стул да стол перед экраном телевизора. По ней никак не представишь облик тех, кто все это устроил, — так оно и задумано. Экран телевизора, как всегда, пуст. Порой Стормгрен мечтал: вдруг однажды экран вспыхнет, оживет и раскроет наконец секрет, не дающий человечеству покоя. Но мечта не сбывалась, за темным прямоугольником по-прежнему таилось Неведомое. И еще за ним таились мощь и мудрость, глубочайшее, снисходительное понимание рода людского и, что всего удивительней, какая-то насмешливая нежность к букашкам, что кишат на планете далеко внизу.
Из решетки, должно быть скрывающей динамик, зазвучал спокойный, неизменно неторопливый, хорошо знакомый голос — все люди, кроме Стормгрена, доныне слышали его лишь однажды. Глубина и звучность его — единственный ключ, позволяющий как-то представить себе Кареллена: за ними ощущаешь что-то громадное. Кареллен очень большой, наверно, много больше человека. Правда, кое-кто из ученых, исследовав запись той памятной речи, предположил, что говорило не живое существо, а какая-то машина. Но Стормгрену в это не верилось.
— Да, Рикки, я слышал вашу беседу. Итак, что вы думаете о мистере Уэйнрайте?
— Он честный человек, хотя о многих его последователях этого не скажешь. Как с ним поступить? Сама по себе Лига не опасна… но там есть экстремисты, они открыто призывают к Насилию. Я даже подумывал, не поставить ли у своего дома охрану. Надеюсь, в этом все же нет нужды.
Кареллен словно и не слышал и, к досаде Стормгрена, — так случалось не впервые, — заговорил о другом:
— Подробный план создания Всемирной федерации объявлен уже месяц назад. Много ли прибавилось к семи процентам несогласных со мною и к двенадцати процентам не имеющих определенного мнения?
— Пока немного. Но это неважно, меня беспокоит другое: даже ваши сторонники убеждены, что пора уже покончить с таинственностью.
Вздох Кареллена прозвучал совсем как настоящий, только вот искренности в нем не чувствовалось.
— И вы тоже так полагаете, а?
Вопрос чисто риторический, отвечать не стоит. И Стормгрен продолжал горячо:
— Неужели вы не понимаете, до чего нынешнее положение вещей мешает мне исполнять мои обязанности?
— Мне оно тоже не помогает, — пожалуй, даже с чувством отозвался Кареллен. — Хотел бы я, чтобы люди перестали считать меня диктатором и помнили: я всего лишь администратор и пытаюсь проводить что-то вроде колониальной политики, которая разработана без моего участия.
Весьма приятное определение, подумал Стормгрен. Любопытно, насколько оно правдиво.
— Но может быть, вы по крайней мере хоть как-то объясните эту скрытность? Нам непонятно, в чем ее причина, отсюда и недовольство, и всевозможные слухи.
Кареллен рассмеялся — как всегда, громко, раскатисто, слишком гулко, чтобы смех этот звучал совсем как человеческий.
— Ну, а за кого меня сейчас принимают? Все еще преобладает теория робота? Пожалуй, мне приятнее выглядеть системой электронных ламп, чем какой-нибудь сороконожкой, — да-да, я видел-карикатуру во вчерашнем номере «Чикаго тайме»! Мне даже захотелось попросить подлинник.
Стормгрен чопорно поджал губы. Право, иногда Кареллен относится к своим обязанностям слишком легкомысленно.
— Это вопрос серьезный, — сказал он с укоризной.
— Дорогой мой Рикки, — возразил Кареллен, — я не принимаю человечество всерьез, только это и позволяет мне сохранить остатки в прошлом незаурядных умственных способностей!
Стормгрен невольно улыбнулся.
— Но мне, согласитесь, от этого не легче. Я должен вернуться на Землю и убедить моих собратьев, что, хоть вы и не показываетесь им на глаза, скрывать вам нечего. Задача не простая. Любопытство — одно из основных свойств человеческой природы. Не можете вы до бесконечности им пренебрегать.
— Да, это самое сложное препятствие, с которым мы столкнулись на Земле, — признался Кареллен. — Но ведь вы поверили, что в остальном мы действуем разумно, так могли бы уж поверить и в этом!
— Я-то вам верю, — сказал Стормгрен. — Но ни Уэйнрайт, ни его сторонники не верят. И можно ли их осуждать, если ваше нежелание показаться людям они толкуют в дурную сторону?
Короткое молчание. Потом до Стормгрена донесся слабый звук (может быть, скрип?), словно бы Кареллен шевельнулся на стуле.
— Вы ведь понимаете, почему Уэйнрайт и ему подобные меня боятся, так? — спросил он. Голос его звучал теперь мрачно, будто раскатились пол сводами собора звуки исполинского органа. — Такие люди есть в вашем мире среди поборников любой религии. Они понимают, что мы носители разума и знания, и как они там ни преданы своим верованиям, а все-таки боятся, что мы свергнем их богов. Не обязательно е умыслом, нет, способом более тонким. Знание может погубить религию и не опровергая ее догматы, а попросту не придавая им значения. Как я понимаю, никто никогда не доказывал, что Зевс или Тор не существуют, однако им теперь почти никто и не поклоняется. Вот и разные уэйнрайты боятся, что нам известна правда о происхождении их веры. Они спрашивают себя, давно ли мы наблюдаем человечество? Видели ли мы, как Магомет бежал из Мекки и как Моисей провозгласил иудеям их законы? Быть может, мы знаем, сколько лжи в их священных историях?
— А вы и в самом деле это знаете? — чуть слышно, скорее себя, чем Кареллена, спросил Стормгрен.
— Вот чего они страшатся, Рикки, хоть ни за что в этом не признаются. Право же, нам не доставляет удовольствия разрушать верования людей, но ведь не могут быть истинными все религии, все до единой, — уэйнрайты это понимают. Рано или поздно человек неминуемо узнает правду; но время еще не пришло. А что мы не показываемся вам на глаза— да, согласен, это сильно осложняет нашу работу, но раскрыть секрет мы не вправе. Не меньше вашего я жалею о необходимости что-то скрывать, но на это есть веские причины. Все же я попытаюсь обратиться, к… к тем, кто стоит выше меня, пожалуй, их ответ удовлетворит вас, а может быть, и успокоит Лигу. А теперь давайте вернемся к нашим текущим делам и возобновим запись.
* * *
— Ну как? — жадно спросил ван Риберг. — Удалось вам чего-нибудь добиться?
— Сам не пойму, — устало сказал Стормгрен, швырнул на стол пачку бумаг и почти упал в кресло. — Теперь Кареллен совещается со своим начальством… уж не знаю, кому и чему он там подчиняется. Мне он ничего не обещал.
— Послушайте, — вдруг сказал ван Риберг. — Я сейчас подумал… Почему, собственно, мы должны верить, что над Карелленом кто-то стоит? Может, этих Сверхправителей, как мы их называем, больше нигде и нет, кроме тех, что тут над Землей, в кораблях? Может, им больше некуда деться, а они это от нас скрывают.
— Остроумно, — усмехнулся Стормгрен. — Только ваша теория отнюдь не согласуется с тем немногим, что я знаю — как будто все-таки знаю — о Кареллене.
— А что же вы о нем знаете?
— Ну, он не раз упоминал, что его обязанности здесь временные и мешают вернуться к его главной работе, она, по-моему, как-то связана с математикой. Однажды я привел ему слова историка Актона о том, что власть развращает, а власть безграничная и развращает безгранично. Хотел посмотреть, как он к этому отнесется. Он засмеялся — смех у него оглушительный — и сказал, ему эта опасность не грозит. Во-первых, мол, чем раньше я закончу тут работу, тем скорее смогу вернуться домой — это за много световых лет отсюда. А во-вторых, моя власть отнюдь не безгранична. Я всего лишь… попечитель. Разумеется, — докончил Стормгрен, — он мог и нарочно сбивать меня с толку. Не знаю, можно ли ему верить.
— Он ведь, кажется, бессмертен?
— Да, по нашим меркам, хотя, похоже, что-то в будущем его пугает… Не представляю, чего он может опасаться. А больше я, в сущности, ничего не знаю.
— Все это не слишком убедительно. Я так думаю, их небольшая эскадра заблудилась в космосе и подыскивает себе пристанище. Этот Кареллен скрывает от нас, как мала его команда. Может быть, остальные корабли — автоматы и на них нет ни души. Просто нам пускают пыль в глаза.
— Вы начитались научной фантастики, — сказал Стормгрен.
Ван Риберг не без смущения улыбнулся.
— «Вторжение из космоса» обернулось не совсем так, как мы ждали, правда? Но моя теория прекрасно объясняет, почему Кареллен не показывается нам на глаза. Просто он скрывает, что никаких других Сверхправителей нет.
Стормгрен покачал головой — забавно, но все не то.
— Ваше толкование, как всегда, чересчур хитроумно, а потому неверно. За Попечителем несомненно стоит какая-то могучая цивилизация, хотя мы можем о ней только догадываться, и наверняка она давно знает о нас, людях. Сам Кареллен, несомненно, изучал человечество на протяжении столетий. Посмотрите, к примеру, как он владеет нашим языком, пословицами, поговорками. Не я его, а он меня учит образной речи!
— А замечали вы, что он хоть чего-нибудь не знает?
— Да, и нередко — но это всегда мелочи, пустяки. Думаю, у него необычайная, безотказная память, но он не все считает нужным узнавать. Вот, скажем, английский — единственный язык, которым он владеет в совершенстве, но за последние два года недурно изучил финский, просто чтобы меня подразнить. А финский труден, ему наскоро не выучишься! Кареллен читает наизусть большие отрывки из «Калевалы», а я, стыдно сказать, помню всего несколько строк. И потом, он знает наперечет биографии всех нынешних государственных деятелей, а я далеко не всегда могу определить, на кого именно он ссылается. В истории и науке его познания всеобъемлющи — сами знаете, мы очень многому у него научились. И однако, если взять каждую область в отдельности, мне кажется, он не превосходит того, чего может достигнуть человеческий ум. Но ни одному человеку не под силу объять все, что знает Кареллен.
— Я и сам пришел примерно к тем же выводам, — согласился ван Риберг. — Мы можем рассуждать о Кареллене хоть до скончания века, но неизменно возвращаемся к тому же: какого дьявола он нам не показывается? Покуда он прячется, я не перестану гадать да сочинять теории, а Лига освобождения не перестанет бушевать.
Он сердито покосился на потолок.
— Надеюсь, господин Попечитель, в одну прекрасную темную ночь какой-нибудь репортер возьмет ракету и с черного хода проберется с фотокамерой в ваш корабль. Вот будет шуму в газетах!
Если Кареллен и слышал этот дерзкий вызов, то никак на него не отозвался. Впрочем, он никогда ни на что не отзывался.
* * *
За первый год появление Сверхправителей внесло в жизнь человечества меньше перемен, чем можно было ожидать. Тень их ложилась на все, но то была совсем не навязчивая тень. Почти во всех крупнейших городах Земли, запрокинув голову, можно было увидеть сверкающие в вышине серебряные корабли, — но они скоро стали такими же привычными, как солнце, луна и облака. Наверно, в большинстве люди лишь смутно сознавали, что уровень их жизни неуклонно возрастает благодаря Сверхправителям. А если об этом изредка и задумывались, — что ж, безмолвные корабли впервые в истории принесли всему человечеству мир, и за это им, конечно, спасибо.
Нет нищеты, нет войн, но это блага, состоящие именно в отсутствии чего-то, не бьющие на эффект, — их приняли как должное и вскоре о них забыли. А Сверхправители по-прежнему держались отчужденно и не показывались человечеству. Покуда Кареллен вел подобную политику, он мог ждать уважения и восхищения, но никак не более теплых чувств. Трудно не досадовать на небожителей, которые изволят разговаривать с человеком только по телетайпу в штаб-квартире ООН. О чем беседуют Кареллен со Стормгреном, знали только они двое, и Стормгрен порой сам недоумевал, для чего Попечителю эти встречи. Возможно, ему все-таки нужно непосредственно общаться хотя бы с одним землянином? Или он понимает, что Стормгрен нуждается в такой прямой поддержке? Если так, генеральный секретарь за это очень признателен — и, пожалуйста, пусть Лига освобождения и дальше презрительно именует его «мальчиком на побегушках у Кареллена».
Сверхправители никогда не вступали в переговоры с отдельными государствами и правительствами: они приняли Организацию Объединенных Наций в том виде, как ее застали, объяснили, как установить необходимую радиосвязь, — и все распоряжения передавали через генерального секретаря. Советский делегат не раз пространно и совершенно справедливо доказывал, что такой порядок идет вразрез с уставом ООН. Кареллена это, видно, ничуть не заботило.
Можно только изумляться тому, какое множество зол, безумий и несчастий уничтожили эти послания с неба. При Сверхправителях народы поняли, что им больше незачем опасаться друг друга, — и еще до неудачной попытки догадались, что все их созданное доныне оружие бессильно против тех, кто умеет странствовать среди звезд. Так рушилась главная преграда, которая мешала человечеству быть счастливым.
Сверхправителей, видно, мало трогало, какой где существует государственный строй, лишь бы не было угнетения и продажности. На Земле по-прежнему были демократические страны и монархии, безобидные диктатуры, коммунизм и капитализм. Этому не переставали изумляться многие простаки, твердо убежденные, что их образ жизни — единственно возможный. Другие полагали, что Кареллен только выжидает часа, чтобы ввести свою систему, которая разом уничтожит все нынешние формы общественного устройства, потому и не занимается пока мелкими политическими преобразованиями. Но все это, как и прочие рассуждения о Сверхправителях, было попросту гаданием на кофейной гуще. Никто не знал их замыслов и целей, никто не знал, какое грядущее уготовили они человечеству.
3
В последние ночи Стормгрену не спалось, а почему — непонятно, ведь скоро он навсегда освободится от груза своих обязанностей. Уже сорок лет служит он человечеству, из них пять — его правителям, и редкий человек, оглядываясь назад, мог бы похвастать, что столь многого добился на своем веку. А может быть, в этом вся беда: когда он уйдет на покой, на короткие ли, на долгие ли годы у него не останется цели, жизнь потеряет вкус. С тех пор как умерла Март, а дети выросли и сами обзавелись семьями, мало что привязывает его к миру. Быть может, в мыслях он почти уже не отделяет себя от Сверхправителей, а потому как-то отстранился от людей.
Вот и опять беспокойная ночь, мысль бесконечно колесит все по тому же кругу, будто механизм, у которого отказало управление. Стормгрен понимал — сколько себя ни уговаривай, не уснешь, — и нехотя поднялся с постели. Накинул халат и вышел на крышу своего скромного жилища, где разбит был садик. Любой из его подчиненных жил куда роскошнее, но Стормгрену вполне хватало и такого дома. Он достиг положения, когда ни имущество, ни почести уже не прибавляют человеку веса.
Ночь была теплая, почти душная, но небо ясное, низко на юго-западе сияла полная луна. В десяти километрах от Стормгрена стояло на горизонте зарево — отраженные огни Нью-Йорка, словно там начался было рассвет и замер, не разгораясь.
Стормгрен поднял глаза — выше спящего города, еще выше, к тем высям, где не раз бывал он, единственный из людей. Там, далеко-далеко, поблескивал в лунном свете корабль Кареллена. Любопытно, чем занят сейчас Попечитель, ведь Сверхправители, наверно, никогда не спят.
В вышине огненным копьем пронзил купол неба метеорит. Мгновение за ним еще виднелся слабо светящийся след — и померк, и опять в небе остались одни только звезды. Жестокое напоминание: через сотню лет Кареллен по-прежнему будет вести человечество к цели, известной только ему, но уже через четыре месяца генеральным секретарем ООН будет другой человек. Само по себе это Стормгрена ничуть не огорчает — но, значит, если он надеется все-таки узнать, что же скрыто за тем непроницаемым экраном, у него осталось совсем мало времени.
Только в самые последние дни он посмел себе признаться, что жаждет проникнуть в тайну Сверхправителей. До сих пор сомнения его не мучили, он верил Кареллену, а вот теперь (ехидная мысль!), видно, и сам заразился мятежным духом Лиги освобождения. Правда, все разговоры, будто человечество порабощено, пустая болтовня. Мало кто всерьез в это верит и хотел бы повернуть историю вспять. Люди привыкли к ненавязчивому правлению Кареллена, но им не терпится узнать наконец, кто же ими правит. И можно ли осуждать их за это?
Лига освобождения — самая крупная, но не единственная организация, восстающая против Кареллена, а значит, и против людей, которые помогают Сверхправителям. Причины недовольства и образ действий тут самые разные: одни группы руководствуются религиозными соображениями, в других просто говорит комплекс неполноценности. Они чувствуют себя — и вполне обоснованно — примерно как образованный индиец в девятнадцатом веке при владычестве Британии. Пришельцы из космоса принесли Земле мир и процветание, — но кто знает, какой ценой придется за это расплачиваться? История человечества не обнадеживает: даже самые мирные контакты между народами, стоящими на слишком разных уровнях развития, нередко несли гибель более отсталому обществу. Целая страна, как и отдельный человек, может пасть духом перед лицом неизмеримого превосходства, ибо не в силах ответить на вызов. А превосходство цивилизации Сверхправителей, хоть и окутанных тайной, — величайший вызов человечеству с начала времен.
За стеной слабо щелкнул телетайп, выбросил очередную ежечасную сводку Центрального агентства печати. Стормгрен побрел в комнату, равнодушно перелистал пачку листов. В другом полушарии Лига освобождения подсказала агентству не слишком оригинальный заголовок, «ЧЕЛОВЕКОМ ПРАВЯТ ЧУДОВИЩА?» — вопрошала газета и затем цитировала: «Сегодня на митинге в Мадрасе доктор С. В. Кришнан, президент Восточного отдела Лиги освобождения, сказал: «Поведение Сверхправителей объясняется очень просто — их облик настолько чужд и отвратителен людям, что они не смеют нам показаться. Предлагаю Попечителю доказать, что это не так»».
Стормгрен брезгливо отшвырнул листок. Даже если обвинение и справедливо, что за важность? Мысль эта, далеко не новая, никогда его не тревожила. В каком бы причудливом обличье ни явилась жизнь, едва ли он, Стормгрен, не мог бы постепенно с ним примириться, а пожалуй, даже найти в странном существе красоту. Важно не тело, важен разум. Если б только убедить в этом Кареллена, Сверхправители, возможно, перестали бы скрываться. Уж конечно, они и вполовину не так безобразны, как измышления карикатуристов, которыми почти сразу после их прибытия запестрели газеты!
И однако Стормгрен знал — не только ради своего преемника он жаждет покончить с нынешним положением. Надо честно себе признаться, в конечном счете его мучит самое обыкновенное любопытство. Он давно уже знает Кареллена как личность — и не успокоится, пока не откроет также, что это за существо.
* * *
Когда на другое утро Стормгрена в обычный час не оказалось на месте, Питер ван Риберг удивился и даже подосадовал. Генеральный секретарь нередко, прежде чем появиться у себя в кабинете, заезжал куда-нибудь по делам, но неизменно об этом предупреждал. Да еще, на беду, в это утро его ждало несколько спешных и важных сообщений. Ван Риберг обзвонил полдюжины учреждений, пытаясь разыскать его, — и со злостью махнул рукой.
К полудню он встревожился всерьез и послал машину к Стормгрену домой. А через десять минут подскочил, испуганный воем сирены: по проспекту Рузвельта на бешеной скорости примчался полицейский патруль. Должно быть, в патруле у газетчиков нашлись приятели, потому что не успела еще машина остановиться, как радио возвестило ван Рибергу и всему миру, что он более не заместитель, а облеченный всеми полномочиями генеральный секретарь Организации Объединенных Наций.
* * *
Свались на ван Риберга меньше забот, ему любопытно было бы изучить отклики печати на исчезновение Стормгрена. За прошедший месяц все газеты мира разделились на два лагеря. Западная пресса в целом одобряла план Кареллена сделать всех людей на свете гражданами единого всемирного государства. А в странах Востока вспыхивали бурные, хотя зачастую искусственно подогретые, приступы национализма. Некоторые государства там обрели независимость лишь поколением раньше и теперь чувствовали, что у них обманом отнимают завоеванные права. Посыпались яростные нападки на Сверхправителей: сперва газеты были крайне осторожны, но быстро убедились, что самые резкие выпады против Кареллена проходят безнаказанно. И пресса изощрялась, как никогда.
Почти все газетные атаки, весьма громогласные, вовсе не выражали мнения подавляющего большинства. На страже государственных границ, которые вскоре сотрутся навсегда, охрану удвоили, но солдаты, хотя еще и помалкивали, глядели друг на друга вполне дружелюбно. Политики и генералы могут рвать и метать сколько угодно, а безмолвные миллионы чувствуют: долгая кровавая глава в истории человечества кончается — и давно пора.
И тут-то неведомо куда исчез Стормгрен. Страсти разом утихли: мир понял, что потерян единственный человек, через которого Сверхправители по каким-то своим загадочным соображениям говорили с Землей. Газеты и радиокомментаторы словно лишились дара речи, в тишине раздавался только голос Лиги освобождения, она горячо заверяла, что ни в чем не повинна.
Стормгрен проснулся в непроглядной тьме. Спросонок он даже не сразу этому удивился. А потом мысли прояснились, он порывисто сел и протянул руку к выключателю.
В темноте рука наткнулась на голую, холодную каменную стену. И Стормгрен замер, душа и тело оцепенели, ошеломленные неизвестностью. Потом, почти не веря своим ощущениям, он стал на колени на постели и начал осторожно, кончиками пальцев ощупывать до ужаса незнакомую стену.
Не прошло и минуты за этим занятием, как вдруг что-то щелкнуло и темнота в одном месте раздвинулась. В слабо освещенном прямоугольнике мелькнул чей-то силуэт, и тотчас дверь затворилась, опять стало темно. Все случилось мгновенно, и Стормгрен не успел разглядеть, где же он находится.
Еще миг — и его ослепил яркий луч электрического фонаря. Ненадолго остановился на его лице, потом скользнул ниже, на постель, и Стормгрен увидел, что это просто матрас, брошенный на неструганые доски. В темноте раздался негромкий голос, по-английски говорили безукоризненно, но с акцентом, который Стормгрену сперва не удалось определить.
— Рад видеть, что вы проснулись, господин генеральный секретарь. Надеюсь, вы чувствуете себя вполне хорошо.
Что-то было в последних словах, отчего Стормгрен насторожился и гневные вопросы замерли у него на губах. Он вгляделся в темноту, сказал спокойно:
— Сколько же времени я был без сознания?
Собеседник усмехнулся:
— Несколько дней. Нам обещали, что вредных последствий не будет. Рад видеть, что это правда.
Чтобы выиграть время, а заодно проверить собственные ощущения, Стормгрен спустил ноги на пол. Он по-прежнему был в пижаме, но она оказалась измятой и, похоже, изрядно запачкалась. От порывистого движения закружилась голова — не слишком сильно, но достаточно, чтобы понять: тут и впрямь не обошлось без наркотика.
Стормгрен повернулся к свету. Спросил резко:
— Где я? Это все с ведома Уэйнрайта?
— Да вы не волнуйтесь, — ответил человек, неразличимый в темноте. — Не будем пока об этом говорить. Думаю, вы порядком проголодались. Одевайтесь-ка и пойдем обедать.
Кружок света от фонаря пробежал по комнате и впервые дал Стормгрену понятие о ее размерах. В сущности, это даже не комната, голые стены — кое-как обтесанный камень. Очевидно, просто пещера, и наверно, очень глубоко под землей. И если он пробыл без памяти несколько дней, за это время его могли переправить в любую часть света.
Луч фонаря выхватил стопку одежды на чемодане.
— Придется вам обойтись этим, — сказал голос из темноты. — Со стиркой здесь довольно сложно, так что мы прихватили два ваших костюма и полдюжины рубашек.
— Очень любезно с вашей стороны, — вполне серьезно сказал Стормгрен.
— Мебели и электричества нет, уж не взыщите. В некоторых отношениях здесь очень удобно, но комфорта маловато.
— А для чего удобно? — спросил Стормгрен, натягивая рубашку, прикосновение привычной ткани странно успокаивало.
— Ну… просто удобно, — был ответ. — Кстати, мы, наверно, довольно долго будем вместе, так уж зовите меня Джо.
— Несмотря на ваше происхождение? Вы ведь поляк, правда? — заметил Стормфен. — Думаю, я сумел бы назвать вас и настоящим именем. Едва ли его трудней выговорить, чем многие финские имена.
Короткое молчание, фонарь мигнул.
— Что ж, этого надо было ожидать, — покорно сказал Джо. — Наверно, у вас солидный опыт по этой части.
— При моей должности очень полезно для развлечения изучать языки. Мне кажется, воспитывались вы в Соединенных Штатах, по из Польши уехали не раньше…
— Ладно, хватит, — прервал Джо. — Вы, видно, кончили одеваться, так что прошу.
Дверь отворилась, и Стормгрен вышел, в душе очень довольный своей маленькой победой. Страж посторонился, пропуская его, — любопытно, вооружен ли он, подумал Стормфен. Наверно, вооружен, и уж конечно, его друзья недалеко.
Коридор тускло освещали развешенные там и сям керосиновые лампы, и Стормфену впервые удалось разглядеть Джо. Это был человек лет пятидесяти, и весил он, должно быть, фунтов двести с изрядным хвостиком. Все в нем и на нем было огромно, начиная с покрытой пятнами военной формы бог весть какой именно армии и кончая неслыханных размеров перстнем на левой руке. Детине такого роста и сложения оружие, надо думать, без надобности. Зато и разыскать ею будет нетрудно, лишь бы отсюда выйти, подумал Стормгрен. Но ведь и сам Джо, конечно, прекрасно это понимает — мысль не слишком утешительная.
Стены по сторонам — просто камень, лишь кое-где укрепленный бетоном. Должно быть, это какая-то заброшенная шахта, — пожалуй, более надежной тюрьмы не придумаешь. До сих пор сознание, что его похитили, как-то не очень волновало Стормгрена. Ему казалось, что бы ни произошло, уж наверно Сверхправители, при своем безмерном могуществе, сумеют разыскать его и вызволить. Теперь уверенности у него поубавилось. Ведь он здесь уже несколько дней, и никто его не выручает. Должно быть, даже всемогуществу Кареллена есть предел: если пленника и впрямь держат в недрах какого-нибудь далекого материка, быть может, Сверхправители при всех своих познаниях бессильны найти его след.
В пустом полутемном помещении за столом сидели двое. Когда Стормгрен вошел, они вскинули головы и поглядели на него с любопытством и с явным почтением. Один подвинул через стол горку сандвичей, и Стормгрен тотчас за них принялся. Хоть он и голоден как волк, не худо бы получить обед поаппетитнее, но, вероятно, его стражи и сами едят не лучше.
Он ел, а сам поглядывал на этих троих. Несомненно, Джо среди них самая примечательная личность, и выделяется он не только ростом и сложением. Другие двое — явно его помощники, с виду вполне заурядные, а откуда они родом, можно будет определить, когда они заговорят.
В стакане сомнительной чистоты появилось немного вина, и Стормгрен запил последний кусок хлеба. Теперь он чувствовал себя уверенней.
— Итак, — ровным голосом произнес он, обращаясь к вели-кану-поляку, — может быть, вы объясните мне, что все это значит и чего, собственно, вы надеетесь таким образом достичь.
Джо откашлялся:
— Одно хочу вам растолковать. Уэйнрайт туг ни при чем. Он тоже ничего такого не ждал.
Стормгрен был почти готов к подобному ответу, хотя и удивился, чего ради Джо так легко подтвердил его догадку. Он давно уже подозревал, что внутри Лиги — или рядом с нею — существует некое крайнее течение.
— А каким образом вы меня похитили? Спрашиваю из чистого любопытства.
Он не рассчитывал на ответ, но, к его изумлению, ответили охотно, будто только того и ждали.
— А мы это разыграли прямо как в голливудском детективе, — весело сказал Джо. — Мы ж не знали, вдруг Кареллен с вас глаз не спускает, ну и приняли кой-какие нужные меры. Пустили усыпляющий газ в кондиционер, это не хитро. Потом перенесли вас в машину — и того проще. И все это, прямо скажу, проделали не наши люди. Для такой работенки мы наняли… э-э… специалистов. Кареллен может их поймать, наверно и поймает, только ничего он от них не узнает. Машина ушла от вашего дома и скоро нырнула в длинный туннель, есть такой меньше чем за тысячу километров от Нью-Йорка. А через положенное время вынырнула с другого конца, и в ней был без памяти человек — вылитый генеральный секретарь ООН. А недолго спустя из другого конца выехал большущий грузовик с металлическими ящиками, покатил к одному аэропорту, и там ящики перегрузили в самолет, рейс был самый что ни на есть законный. Уж не сомневайтесь, владельцы померли бы со страху, знай они, для чего нам пригодились эти ящики… Ну, а та, настоящая, машина пошла кружить да петлять до самой канадской границы. Может, Кареллен ее уже и захватил — не знаю, да не велика важность. Как видите — надеюсь, вы оцените мою откровенность, — весь наш план построен на одном расчете. Мы уверены, Кареллен может видеть и слышать все. что происходит на поверхности Земли, но уж никак не под землей, разве что ему служит не только наука, но и колдовство. А стало быть, он не узнает о подмене в туннеле либо узнает слишком поздно. Понятно, мы рискуем, но приняты и еще кой-какие меры предосторожности. в это я сейчас вдаваться не стану. Лучше про них покуда помолчать — может, еще понадобятся.
Джо так явно упивался своим рассказом, что Стормгрен с трудом сдерживал улыбку. Но при этом он по-настоящему встревожился. Похитители весьма изобретательны, очень возможно, что Попечителя удалось провести. И ведь никак нельзя ручаться, что Кареллен хоть сколько-нибудь печется о безопасности генерального секретаря. Джо тоже явно в этом не уверен. Может быть, потому он и разоткровенничался — проверяет, как Стормгрен ко всему этому отнесется. Что ж, как ему ни тревожно, а надо прикинуться невозмутимым, И Стормгрен сказал презрительно:
— Вы все, видно, сущие остолопы. Неужели, по-вашему, Сверхправителей так легко обмануть? Да и чего вы надеетесь этим добиться?
Джо предложил ему сигарету, Стормгрен отказался, тогда он сам закурил и уселся было на край стола. Послышался зловещий треск, и великан поспешно спрыгнул на пол.
— Очень понятно, почему мы так действуем, — начал он. — Мы увидели, что уговаривать да убеждать толку нет, вот и пришлось действовать иначе. Подпольщики бывали на свете и до иле. и пускай у Кареллена сила большая, а все равно не так-то легко ему с нами справиться. Мы начинаем борьбу за независимость. Поймите меня правильно. Никакого насилия не будет — во всяком случае, поначалу, — но Сверхправителям, хочешь не хочешь, нужны помощники из людей, а этим помощникам мы можем доставить кучу неприятностей.
И начинаете, видно, с меня, подумал Стормгрен. Пожалуй, Джо рассказал далеко не все. Неужели подпольщики всерьез вообразили, будто на Кареллена можно хоть как-то повлиять гангстерскими приемами? Да, но ведь хорошо организованное движение сопротивления и вправду может сильно осложнить жизнь. Этот Джо нащупал единственное уязвимое место во власти Сверхправителей. В конечном счете все их распоряжения исполняются помощниками-людьми. Если этих людей запугать так, что они перестанут повиноваться, вся система рухнет. Впрочем, едва ли… нет, Кареллен наверняка быстро найдет какой-нибудь выход.
— Как же вы намерены со мной поступить? — спросил наконец Стормгрен — Я что, заложник?
— Не беспокойтесь, мы о вас позаботимся. На днях ждем кой-кого в гости, а покуда постараемся, чтоб вы не скучали.
Он прибавил несколько слов на своем языке, и один из его сотоварищей выложил на стол нераспечатанную колоду карт.
— Нарочно для вас достали, — пояснил Джо. — Читал я в «Таймсе», что вы здорово играете в покер, — Он вдруг заговорил очень серьезно, даже озабоченно: — Надеюсь, у вас полон бумажник наличными. Мы не сообразили поглядеть. Чеки нам, знаете ли, брать неудобно.
Ошарашенный Стормгрен круглыми глазами уставился на своих тюремщиков. И наконец до него дошло — да это же все презабавно, и теперь он избавлен от своих обязанностей, хлопот и тревог. Отныне все это — забота ван Риберга. Что бы ни случилось, он, Стормгрен, ровно ничего не может поделать, — и вот, не угодно ли, эти невообразимые похитители жаждут поиграть с ним в покер!
Стормгрен откинулся на стуле и захохотал, — так он не смеялся уже многие годы.
* * *
Без сомнения, Уэйнрайт не лжет, — угрюмо размышлял ван Риберг. Возможно, он и подозревает, что за люди похитили Стормгрена, но точно ему это не известно. И выходки их он не одобряет. Очень похоже, что в последнее время экстремисты из Лиги всячески давили на Уэйнрайта, чтобы действовал решительней. А теперь вот начали действовать сами.
Спору нет, похищение организовано на славу. Стормгрена могли упрятать в любом уголке земного шара, и едва ли удастся напасть на его след. Однако же надо что-то предпринять, да поскорее, решил ван Риберг. Хоть он нередко отпускал шуточки по адресу Кареллена, но в душе перед ним трепетал. Страшно даже подумать, что надо прямо обратиться к Попечителю, но иного выхода нет.
Отдел связи занимал весь верхний этаж огромного здания. Вдоль зала тянулись ряды телетайпов — одни молчали, другие деловито пощелкивали. Через них нескончаемым потоком поступали статистические данные — объем производства, численность населения, исчерпывающие сведения обо всей мировой экономике. Должно быть, где-то в вышине, на корабле Кареллена есть нечто подобное этому залу, и ван Риберга мороз подирал по коже, когда он гадал, какие неведомые чудища бродят там от аппарата к аппарату, собирая отчеты, которые посылает Сверхправителям Земля.
Но сегодня его не интересовали ни эти аппараты, ни обыденные дела, которыми они были заняты. Он прошел в кабинетик, куда полагалось входить одному только Стормгрену. По его распоряжению замок уже взломали, и в кабинете ждал начальник связи.
— Вот это обычный телетайп, — сказал он ван Рибергу, — клавиатура, как у стандартной пишущей машинки. И есть фотопередатчик, на случай, если надо послать какие-нибудь изображения или таблицы, но вы говорили, вам это сейчас не нужно.
Ван Риберг рассеянно кивнул.
— Да, спасибо. Вы свободны. Наверно, я не очень задержусь. Тогда опять запрете комнату и все ключи отдадите мне.
Он подождал, пока тот вышел, и подсел к аппарату. Он знал, этим видом связи пользовались редко, почти все вопросы Кареллен и Стормгрен обсуждали каждую неделю при встрече. Но этот аппарат явно предназначен для экстренных случаев, и можно надеяться, что ответят немедля.
Мгновение ван Риберг поколебался, потом начал неумело нажимать клавиши. Машина тихонько заурчала, на потемневшем экране коротко вспыхивали слово за словом. Он выпрямился в ожидании ответа.
Не прошло и минуты, как аппарат снова замурлыкал. Ван Риберг не впервые подумал — может быть, Кареллен никогда не спит?
Ответ был весьма краток и столь же нерешителен:
НИКАКИХ УКАЗАНИИ. ДЕЙСТВУЙТЕ ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ. К.
С горечью, без малейшего удовольствия ван Риберг понял всю огромность взваленной на него ответственности.
* * *
За три дня Стормгрен успел основательно изучить своих стражей. Что-то значит один Джо, другие двое не в счет — ничтожества, сброд, какой неизбежно прилипает к любому нелегальному движению. Идеалы Лиги освобождения для них пустой звук, у них одна забота — добыть кусок хлеба насущного без особых трудов.
Джо — тот куда сложнее, хотя порою кажется великовозрастным младенцем. Нескончаемые партии в покер то и дело прерывались бурными политическими спорами, и скоро Стормгрену стаю ясно, что великан никогда всерьез не задумывался — за что же он сражается. Им владели чувства и крайний консерватизм, где уж тут рассуждать трезво. Родина Джо слишком долго добивалась независимости, и это наложило на него неизгладимую печать: он все еще жил прошлым. Своего рода живописное ископаемое, один из тех, кто вовсе не нуждается в каком-либо упорядоченном образе жизни. Когда люди такого склада исчезнут, — если только это когда-либо случится, — наш мир станет безопаснее, но и скучнее.
Стормгрен теперь почти не сомневался, что Кареллену не удалось напасть на его след. Он еще пытался убедить троих стражей в противном, но безуспешно. Ясное дело, его держали в плену, выжидая, вмешается ли Кареллен, а раз ничего не произошло, они могут действовать дальше.
И Стормгрен ничуть не удивился, когда на четвертый день после похищения Джо его предупредил, чтобы ждал гостей. Пленник еще до того заметил, как час от часу стражи становятся беспокойнее, и догадался: руководители движения убедились, что путь свободен, и наконец-то явятся за ним.
Они уже ждали за шатким дощатым столом, когда Джо привел Стормгрена и учтиво посторонился, давая пройти. Стормгрена позабавило, что на боку у тюремщика впервые красовался, ко всеобщему сведению, большущий пистолет. Его подручные не показывались, да и сам Джо держался куда скромнее обычного. Стормгрен сразу понял, что очутился перед людьми куда более значительными. Те, кто сидел сейчас перед ним, напоминали виденную когда-то фотографию — Ленин и его сподвижники в первые дни русской революции. В этих — их было шестеро — чувствовалась та же сила ума, железная воля и непреклонность. Джо и ему подобные не опасны, а вот здесь — те, чья мысль управляет подпольем.
Стормгрен коротко кивнул, прошел к единственному свободному стулу и сел, стараясь держаться хладнокровно и непринужденно. За каждым его движением следил немолодой коренастый человек, сидевший в дальнем конце стола, — он подался навстречу Стормгрену и впился в него колючими серыми глазами. Под этим пронизывающим взглядом Стормгрену стало не по себе, и он, сам того не желая, заговорил первым.
— Полагаю, вы пришли обсудить условия. Какой за меня назначен выкуп?
Тут он заметил, что поодаль кто-то стенографирует его слова. Обстановка самая деловая.
Отозвался главный, он говорил певуче, как уроженец Уэльса.
— Можете назвать это и так, господин генеральный секретарь. Но нам нужны не деньги, а сведения.
Вот оно что, подумалось Стормгрену. Его допрашивают как военнопленного.
— Вы и сами знаете, чего мы добиваемся, — певуче продолжал уэльсец. — Если угодно, зовите нас движением сопротивления. Мы убеждены, что рано или поздно Земле не миновать борьбы за независимость, и мы понимаем — открытая война невозможна, остаются неповиновение, саботаж и тому подобное. Вас мы похитили отчасти затем, чтобы показать Кареллену, что мы хорошо организованы и действовать будем решительно, но главное, вы — единственный, от кого можно хоть что-то узнать о Сверхправителях. Вы разумный человек, мистер Стормгрен. Помогите нам, и мы вернем вам свободу.
— А что, собственно, вы хотите узнать? — осторожно спросил Стормгрен.
Казалось, удивительные глаза собеседника проникают в самые потаенные глубины сознания, никогда в жизни не встречал он такого взгляда. Не вдруг певучий голос ответил:
— Знаете ли вы, кто — или что такое — на самом деле эти Сверхправители?
Стормфен едва удержался от улыбки.
— Поверьте, — сказал он, — я не меньше вашего желал бы раскрыть эту тайну.
— Значит, вы согласны отвечать на наши вопросы?
— Обещать не обещаю. Но, возможно, и отвечу.
Он услышал, как с облегчением вздохнул Джо, и все в комнате шелохнулись и замерли в ожидании.
— Мы примерно представляем себе, при каких обстоятельствах вы встречаетесь с Карелленом. Но, может быть, вы опишете это подробно, не упуская ничего сколько-нибудь существенного?
Что ж, просьба довольно безобидная, решил Стормгрен. Десятки раз он отвечал на подобные вопросы, и выглядеть это будет как готовность помочь. Перед ним люди умные, проницательные, быть может, им тут что-то и откроется. Если они способны извлечь из его рассказа какие-то новые сведения — тем лучше, лишь бы и с ним поделились. Во всяком случае, Карел-лену это никак не повредит.
Стормгрен пошарил по карманам, достал карандаш и старый конверт. Наскоро набрасывая чертеж, стал объяснять:
— Вы, конечно, знаете, за мной раз в неделю прилетает такой аппаратик, ни мотора, ни какого-либо иного движителя у него не видно, и он переносит меня к кораблю Кареллена. И проникает внутрь — вы, конечно, видели, как это происходит, телескопических фильмов снято немало. Дверь — если это можно назвать дверью — опять открывается, и я вхожу в небольшую комнату, там только и есть, что стол, стул и телеэкран. Расстановка примерно такая.
Он подвинул конверт к старому уэльсцу, но тот не взглянул на чертеж. Странные глаза все так же неотрывно смотрят на Стормгрена, и ему чудится — что-то переменилось в их глубине. Настала мертвая тишина, и Стормгрен услышал — позади него у Джо вдруг перехватило дыхание.
Озадаченный, раздосадованный, Стормгрен отвечал взглядом в упор — и наконец-то понял. Смутился, смял конверт в тугой комок и швырнул на пол.
Так вот отчего ему было так не по себе под взглядом этих серых глаз. Человек, что сидит напротив, слеп.
А о Стормгрене по-прежнему никаких известий.
Ван Риберг говорил в диктофон, как вдруг зазвонил телефон срочной связи. Он схватил трубку и слушал, все больше недоумевая, потом швырнул ее на рычаг, бросился к окну, распахнул. Далеко внизу на улицах нарастает вопль изумления, замирают на месте машины.
Да, правда — небо пусто, корабль Кареллена, неизменный символ власти Сверхправителей, исчез. Ван Риберг шарил взглядом в вышине, сколько хватало глаз, — никакого следа. И вдруг будто средь бела дня надвинулась ночь. С севера низко, над самыми крышами нью-йоркских небоскребов, налетел исполинский корабль, в полумраке он чернел снизу, точно грозовая туча. Ван Риберг невольно отшатнулся. Он всегда знал, что корабли Сверхправителей громадны, но когда громадина недвижно парит в недосягаемой вышине, это одно, и совсем другое — когда такое чудовище проносится у тебя над головой, словно туча, гонимая самим дьяволом.
В сумерках, будто при солнечном затмении, ван Риберг следил за кораблем, пока тот вместе со своей чудовищной тенью не скрылся на юге. И не слышал ни звука, ни хотя бы шелеста в воздухе, значит, только показалось, что корабль так низко, — высота была не меньше километра. А потом все здание содрогнулось от удара воздушной волны и где-то со звоном посыпались на пол выбитые стекла.
За спиной разом заголосили все телефоны, но ван Риберг не шевельнулся. Так и стоял, опершись на подоконник, и все смотрел туда, на юг, ошеломленный этой безмерной мощью.
* * *
Стормгрен говорил, а мысль словно работала на двух уровнях сразу. Он пленник этих людей и старается дать им отпор, а в то же время брезжит надежда — вдруг они помогут раскрыть секрет Кареллена? Опасная игра, но, как ни странно, она доставляет истинное наслаждение.
Больше всего вопросов задавал слепой. Просто поразительно, с какой быстротой этот живой ум перебирает все возможности, исследует и отбрасывает все теории, от которых Стормгрен давно уже отказался. И вот уэльсец со вздохом откинулся на спинку стула.
— Это все впустую, — покорно сказал он. — Нам нужно больше узнать, значит, нужно не рассуждать, а действовать.
Казалось, незрячие глаза в раздумье смотрят прямо на Стормгрена. Слепой беспокойно забарабанил пальцами по столу — признак нерешительности, это Стормгрен подметил у него впервые. Потом продолжал:
— Мне немного странно, господин генеральный секретарь, что вы никогда не пробовали разузнать о Сверхправителях побольше.
— А что я, по-вашему, мог сделать? — холодно спросил Стормгрен, стараясь казаться равнодушным. — Я же вам сказал, из комнаты, где я разговариваю с Карелленом, есть только один выход — и оттуда я прямиком попадаю на Землю.
— Вот если изобрести какие-то приборы, может, они нам что-нибудь да откроют, — вслух раздумывал тот. — Сам я не ученый, но, пожалуй, мы над этим поразмыслим. Если мы вас освободим, согласны вы помочь нам в этом деле?
— Поймите меня правильно раз и навсегда, — вспылил Стормгрен, — Кареллен стремится объединить человечество, и я палец о палец не ударю, чтобы помогать его врагам. Конечных его целей я не знаю, но верю, что ничего плохого не будет.
— Какие у вас доказательства?
— Да все его действия с тех самых пор, как впервые появились корабли. Назовите мне хоть что-нибудь, что, если вдуматься поглубже, не пошло бы нам на благо? — Стормгрен помолчал, перебирая в памяти минувшие годы. Улыбнулся. — Если вам нужно ясное доказательство присущей Сверхправителям — как бы это назвать? — доброжелательности, вспомните ту историю, когда они запретили жестокое обращение с животными, еще месяца не прошло с их прилета. Если сначала я сомневался насчет Кареллена, тот запрет разогнал все сомнения, хоть и доставил мне больше хлопот, чем все другие его приказы.
«Пожалуй, я не преувеличиваю, — подумал Стормгрен, — Случай был из ряду вон, впервые обнаружилось, что Сверхправители не терпят жестокости. Эта их нетерпимость и еще страсть к справедливости и порядку — вот, кажется, преобладающие у них чувства, насколько можно судить по их действиям».
То был единственный случай, когда Кареллен дал знать, что разгневан, по крайней мере это походило на гнев. «Можете, если угодно, убивать друг друга, — заявил он, — это дело ваше и ваших законов. Но если, кроме как ради пиши или самозащиты, вы станете убивать животных, которые вместе с вами населяют ваш мир, вы мне за это ответите».
Сперва никто толком не понял, насколько широко надо понимать этот запрет и каким образом Кареллен заставит ему подчиниться. Долго ждать не пришлось.
Трибуны стадиона Плаза дель Торо были набиты битком, начинался парад матадоров и их помощников. Казалось, все идет как всегда — под ярким солнцем ослепительно сверкают освященные обычаем костюмы, толпа зрителей приветствует своих любимцев, так бывало прежде тысячи раз. Но кое-где поднимались головы, зрители тревожно поглядывали на небо, на равнодушное чудище, серебрящееся в пятидесяти километрах над Мадридом.
Потом пикадоры разъехались по местам, и на арену с громким фырканьем вырвался бык. Высвеченные ярким солнцем тощие лошади, храпя от ужаса, завертелись под седоками, а те пришпоривали их, гнали навстречу врагу. Мелькнуло первое копье… впилось в цель… и тут раздался звук, какого не слышали доныне на Земле.
Вопль боли вырвался у десяти тысяч раненых — но когда эти десять тысяч человек опомнились от потрясения, они не нашли на себе ни царапинки. Однако с боем быков было покончено — и не только в тот раз, но навсегда, ибо весть о случившемся распространилась быстро. Стоит упомянуть и о том, сколь потрясены были aficionados[16] — едва ли один из десяти потребовал деньги обратно; и еще лондонская «Дейли миррор» подсыпала соли на раны — предложила испанцам взамен исконного национального спорта заняться крикетом.
— Может быть, вы и правы, — сказал старый уэльсец, — Допустим, побуждения у Сверхправителей наилучшие… по их меркам, и эти мерки могут иногда совпадать с нашими. И все-таки они самовольно вмешались в нашу жизнь, мы их не звали и не просили перевернуть в нашем мире все вверх дном и порушить наши идеалы… да, идеалы, и государства, за чью независимость боролись и отстаивали ее многие поколения.
— Я родом из маленькой страны, которой тоже пришлось бороться за свою свободу, и однако я стою за Кареллена, — возразил Стормгрен. — Вы можете досадить ему, возможно даже, из-за вас он не так быстро достигнет своей цели, но в конечном счете ничего вы этим не измените. Не сомневаюсь, вы искренни в своих убеждениях; вы боитесь, что в будущем Всемирном государстве не сохранятся традиции и культура малых стран, — я и это могу понять. Но в одном вы не правы — бесполезно цепляться за прошлое. Суверенное государство у нас на Земле отмирало еще до того, как явились Сверхправители. Они только ускорили его гибель; никому уже не спасти эту суверенность, — да и пытаться не следует.
Ответа не было, человек напротив Стормгрена не шелохнулся, не вымолвил ни слова. Сидит недвижимо, губы приоткрыты, глаза теперь не просто незрячие, но безжизненные. И все остальные тоже застыли, окоченели в напряженных, неестественных позах. Стормгрен задохнулся от ужаса, встал, попятился к двери.
И тут в тишину ворвался голос:
— Очень мило сказано, Рикки, благодарю. Теперь, пожалуй, мы можем уйти.
Стормгрен круто обернулся, уставился в полутьму коридора. Здесь вровень с его лицом плавал в воздухе маленький, совсем гладкий, без единой отметинки шар — несомненно, источник пущенной в ход Сверхправителями таинственной силы. И Стормгрен услышал, а может, ему просто почудилось тихое гуденье, точно от улья в полный ленивой истомы летний день.
— Кареллен! Слава богу! Но что вы с ними сделали?
— Успокойтесь, они живы и здоровы. Можете назвать это своего рода параличом, но тут все много сложнее. Их жизнь сейчас течет в тысячи раз медленней обычного. Когда мы уйдем, они так и не поймут, что же случилось.
— Вы их так оставите до прихода полиции?
— Нет. У меня план получше. Я их отпущу.
Стормфен даже изумился, настолько легче стало на душе.
Обвел прощальным взглядом подземную комнатку и всех, кто в ней застыл. Джо стоит на одной ноге, смотрит бессмысленно куда-то в пространство. Стормгрен вдруг рассмеялся, пошарил у себя в карманах.
— Спасибо за гостеприимство, Джо, — сказал он, — Пожалуй, я оставлю тебе кое-что на память.
Он порылся в клочках бумаги и, наконец, подсчитал свои проигрыши. И на сравнительно чистом листке аккуратно написал:
В МАНХЭТТЕНСКИЙ БАНК
Прошу выплатить Джо сто тридцать пять долларов и пятьдесят центов (135.50).
Р. СтормгренОн положил записку возле поляка и услышал голос Кареллена:
— Что вы, собственно, делаете?
— В роду Стормгренов всегда платят долги. Те двое плутовали, но Джо играл честно. По крайней мере я ни разу не заметил, чтобы он смошенничал.
И пошел к двери, веселый, беззаботный, помолодевший на добрых сорок лет. Металлический шарик отплыл в сторону, пропуская его. Должно быть, это какой-то робот, теперь понятно, как удалось Кареллену добраться до пленника, скрытого под пластами камня бог весть какой толщины.
— Сто метров пройдете прямо, — сказал шар голосом Кареллена. — Потом повернете налево, а тогда я дам дальнейшие указания.
И Стормгрен в нетерпении зашагал прямо, хотя и понимал, что торопиться нет нужды. Шар остался висеть позади, в коридоре, — надо думать, прикрывал отступление.
Через минуту Стормгрен подошел к другому такому же шару, тот ждал его на развилке коридора.
— Надо пройти еще полкилометра, — сказал шар. — Держите влево, пока не встретимся опять.
Шесть раз Стормгрен встречался с шарами на пути к выходу. Сперва он недоумевал — может быть, робот как-то ухитряется его обгонять; потом догадался — наверно, эти приборы расположились цепочкой и через нее-то шла связь до самого дна шахты. У выхода на поверхность застыли неправдоподобной скульптурной группой несколько часовых под надзором еще одного из вездесущих шаров. А чуть поодаль на косогоре лежал тот летательный аппаратик, что всегда доставлял генерального секретаря ООН к Кареллену.
Стормгрен постоял немного, щурясь от солнца. Потом увидел вокруг ржавые, изломанные шахтные механизмы, за ними тянулась вниз по откосу заброшенная железнодорожная ветка. В нескольких километрах отсюда к подножию горы подступал густой лес, а совсем уже в дальней дали поблескивало большое озеро. Пожалуй, он очутился где-то в Южной Америке, хотя трудно определить, откуда такое впечатление.
Забираясь в летательный аппарат, Стормгрен окинул последним беглым взглядом зев шахты и застывших возле нее людей. И вот отверстие в серебристой стене затянулось за ним, и со вздохом облегчения он откинулся на знакомом сиденье.
Не сразу он отдышался настолько, что из глубины души вырвалось короткое:
— Итак?
— Сожалею, что не мог вас вызволить раньше. Но вы ведь понимаете, очень важно было дождаться, чтобы здесь собрались все руководители.
— Так вы… — захлебнулся Стормгрен. — Вы что же, все время знали, где я? Если б я думал…
— Не торопитесь, — сказал Кареллен, — дайте мне хотя бы договорить.
— Прекрасно, я слушаю, — мрачно процедил Стормгрен.
Он начал подозревать, что послужил всего-навсего приманкой в хитроумной западне.
— Некоторое время назад я пустил за вами… пожалуй, можно назвать это устройство «следопытом», — стал объяснять Кареллен. — Ваши недавние друзья справедливо полагали, что я не мог следовать за вами под землей, однако я сумел идти по следу до самой шахты. Подмена в туннеле — остроумная проделка, но, когда первая машина перестала отвечать на сигналы, подлог обнаружился, и я вскоре опять вас отыскал. А потом просто надо было выждать. Я знал, как только они решат, что я потерял вас из виду, они явятся сюда, и я смогу изловить всех сразу.
— Но вы же их отпускаете!
— До сих пор я не мог выяснить, кто именно из двух с половиной миллиардов людей на вашей планете — подлинные главари подполья. Теперь, когда они известны, я могу проследить каждый их шаг на Земле и, если понадобится, наблюдать за всеми их действиями до мелочей. Это куда лучше, чем посадить их под замок. Что бы они ни предприняли, они тем самым выдадут остальных. Они связаны по рукам и ногам и сами это понимают. Ваше исчезновение останется для них непостижимым, точно у них на глазах вы растаяли в воздухе.
И по крохотной кабине раскатился звучный смех.
— В каком-то смысле презабавная вышла история, но цель ее очень серьезна. Меня заботят не просто несколько десятков человек этой организации, мне надо еще думать о том, как все это скажется на настроении других подпольных групп, которые действуют в других местах.
Стормгрен помолчал. Услышанное не слишком утешает, но мысль Кареллена понятна, и гнев недавнего пленника поостыл.
— Печально, что надо на это пойти, когда мне остаются считанные недели до отставки, — сказал он не вдруг, — но теперь я вынужден буду завести у моего дома охрану. В следующий раз могут похитить Питера. Кстати, как он без меня справлялся?
— В последнюю неделю я внимательно следил за ним и нарочно ничем не помогал. В общем, он держался очень недурно, но такой человек не может вас заменить.
— Его счастье, — заметил Стормгрен все еще не без обиды, — А кстати, вы не получили хоть какого-то ответа? Вам все еще не разрешают нам показаться? Теперь я убежден, это — сильнейшее оружие ваших врагов. Мне опять и опять твердят: мы не станем доверять Сверхправителям, пока их не увидим.
Кареллен вздохнул.
— Нет. Я пока не получал никаких известий. Но знаю, что мне ответят.
И Стормгрен оставил этот разговор. Прежде он продолжал бы настаивать, но теперь в мыслях у него впервые забрезжил некий план. Вспомнились слова человека, который его допрашивал. Пожалуй, и правда можно изобрести какие-то приборы…
То, что он отказался выполнить под чьим-либо нажимом, он, возможно, попытается сделать по собственной воле.
4
Еще несколько дней назад Стормгрен просто не поверил бы, что способен всерьез обдумывать такое. Вероятно, мысли его приняли новый оборот главным образом из-за нелепой мелодрамы с похищением — теперь оно казалось чуть ли не плохоньким телевизионным спектаклем. Впервые за всю свою жизнь Стормгрен подвергся прямому насилию, это было слишком непохоже на словесные битвы в залах заседаний. Должно быть, жажда действия, точно вирус, проникла в кровь… или он попросту слишком быстро впадает в детство?
Им двигало еще и жгучее любопытство, да и за шутку', что с ним разыграли, он не прочь бы отплатить. Ведь теперь уже совершенно ясно: Кареллен воспользовался им как приманкой, пускай с наилучшими намерениями, — все равно Стормгрен не склонен был так легко его простить.
Пьер Дюваль ничуть не удивился, когда Стормфен, не предупредив заранее, явился к нему в кабинет. Они старые друзья, и генеральный секретарь ООН нередко навещает главу Бюро научных исследований. Уж конечно, Кареллену и этот визит не покажется странным, если ему или его подчиненным случится как раз сюда обратить недреманное око своих приборов.
Сначала друзья потолковали о делах и обменялись политическими сплетнями; потом, не слишком уверенно, Стормгрен заговорил о том, ради чего пришел. Старый француз слушал, откинувшись на спинку кресла, и с каждой минутой брови его всползали все выше, так что под конец чуть не смешались с прядью волос, падающей на лоб. Раза два он, казалось, хотел было что-то сказать, но сдержался.
Когда Стормгрен умолк, ученый тревожно огляделся.
— А вы не думаете, что он нас слушает? — спросил он.
— Едва ли это возможно. У него есть, как он выражается, следопыт для моей охраны. Но это устройство под землей не действует, потому-то я и пришел сюда, в ваше подземелье. Предполагается, что это — убежище от всех видов радиации, так? Кареллен не кудесник. Он знает, где я сейчас, но не более того.
— Надеюсь, вы правы. И еще одно — если он узнает, что вы хотите проделать, разве это не опасно? А он наверняка узнает.
— Я рискну. Притом мы с ним неплохо понимаем друг друга.
Несколько минут физик, поигрывая карандашом, молча смотрел в одну точку.
— Задачка не из легких. Мне это по душе, — сказал он просто. Нагнулся к какому-то ящику, извлек оттуда большой блокнот, Стормгрен таких громадин и не видывал.
— Вот так… — Дюваль принялся стремительно, одержимо чиркать по бумаге, покрывая ее какими-то стенографическими значками, видимо, собственного изобретения. — Мне надо знать все в точности. Расскажите все, что знаете, про комнату, где вы с ним разговариваете. Не упускайте ни единой мелочи, даже если это по-вашему пустяк.
— Тут почти нечего описывать. Стены металлические, комната около восьми квадратных метров, высота — метра четыре. Телеэкран размером примерно метр на метр, как раз под ним стол — давайте-ка я вам нарисую.
Стормгрен наскоро набросал чертеж хорошо знакомой комнаты и подвинул через стол Дювалю. И чуть вздрогнул — вспомнилось, как совсем недавно он проделал то же самое. Что-то сталось со слепым уэльсцем и его союзниками? Как отнеслись они к его внезапному исчезновению?
Француз, наморщив лоб, изучал чертеж.
— И это все, что вы можете мне сказать?
— Да.
Дюваль сердито фыркнул.
— А освещение? Вы что же, сидите в полной темноте? А какая там вентиляция, отопление…
Стормгрен улыбнулся: Дюваль верен себе, чуть что — и вспылит.
— Весь потолок — светящийся, а воздух, насколько я понимаю, идет из той же решетки, что и звук. Куда он уходит, не знаю, может быть, время от времени направление тяти меняется, но я этого не замечал, Батарей нет, никаких признаков отопления, но в комнате всегда нормальная температура.
— Иными словами, очевидно, замерзают только водяные пары, но не углекислый газ.
Стормгрен счел долгом улыбнуться старой общеизвестной шуточке.
— По-моему, я вам все сказал. Что до машинки, которая переносит меня на корабль Кареллена, она не примечательней кабины лифта. Только и разницы, что есть диван и стол.
Несколько минут оба молчали, физик старательно разрисовывал свой блокнот крохотными закорючками. Стормгрен следил за его карандашом и спрашивал себя, почему этот человек — блестящий ум, до которого ему, Стормгрену, очень и очень далеко, — так и не стал подлинно выдающейся величиной в научном мире. Вспомнились злые и едва ли справедливые слова одного приятеля из американского Государственного департамента: «Французы поставляют лучших в мире работников второго сорта». Дюваль — один из примеров, что в словах этих есть доля правды.
Физик удовлетворенно покивал сам себе, наклонился к Стормгрену, нацелился в него карандашом.
— Рикки, а почему вы думаете, что этот Карелленов телевизор, как вы его называете, и вправду телевизор, а не одна видимость?
— Никогда в этом не сомневался: экран выглядит точно так же. А что еще это может быть?
— Вы говорите — выглядит? То есть это он с виду такой же, как у наших телевизоров?
— Ну конечно.
— Вот это мне и подозрительно. Вряд ли Сверхправители пользуются такой грубой техникой, у них, скорей всего, картинка образуется прямо в воздухе. Да и чего ради Кареллену прибегать к помощи телевизора? Простота — всегда наилучшее решение. Разве не правдоподобнее, что этот ваш телеэкран — всего-навсего поляризованное стекло?
Стормфен так озлился на себя, что минуту-другую не отвечал и только рылся в памяти. С самого начала он ни разу не усомнился в словах Кареллена — но, если вспомнить, разве Попечитель когда-либо говорил, будто пользуется телевизором? Стормгрен сам ничего другого и не думал, его с легкостью провели, сыграли на естественном ходе человеческой мысли. Да, так, — если, разумеется, догадка Дюваля верна. Однако опять он спешит с выводами, ведь никто пока ничего не доказал.
— Если вы правы, — сказал он, — мне просто надо разбить стекло…
Дюваль вздохнул.
— Уж эти мне профаны в науке. Вы что же, воображаете, что такое стекло можно расколотить без взрывчатки? И даже если бы это удалось, по-вашему, Кареллен непременно дышит таким же воздухом, как мы? А если он благоденствует в хлорной атмосфере? То-то славно обернется дело для вас обоих.
Стормгрен почувствовал себя дураком. Мог бы и сам сообразить.
— Хорошо, ну а вы что предлагаете? — спросил он с досадой.
— Мне надо все обдумать. Первым делом надо выяснить, верна ли моя теория и нельзя ли как-то определить, что там за стекло. Поручу кое-кому из моих этим заняться. Кстати, вы, когда навещаете Сверхправителя, наверно, берете с собой портфель? Не тот, что при вас сейчас?
— Он самый.
— Пожалуй, он достаточно большой. Незачем менять, это будет заметно, особенно если к этому Кареллен привык.
— А что я должен сделать? Пронести потайной рентгеновский аппарат?
Физик усмехнулся:
— Пока не знаю, но что-нибудь да придумаем. Недели через две дам вам знать.
Он коротко засмеялся:
— Знаете, о чем мне все это напоминает?
— Еще бы, — мигом отозвался Стормгрен, — Времена нацистской оккупации, когда вы мастерили для подполья радиоприемники.
Дюваль не сумел скрыть разочарование.
— Правда, мне уже случалось об этом упоминать. Но вот что я вам еще скажу.
— Да?
— Если вы попадетесь, я знать не знал, зачем вам понадобилась такая машинка.
— Как! Не вы ли когда-то подняли такой шум насчет того, что ученый в ответе перед обществом за свои изобретения? Право слово, Пьер, мне за вас стыдно!
* * *
Стормгрен положил на стол толстую папку с отстуканными на машинке листами и облегченно вздохнул:
— Наконец-то все улажено. Странно думать, что в этих нескольких сотнях страниц заключено будущее человечества. Всемирное государство! Не надеялся я дожить и увидеть это своими глазами!
Он сунул бумаги в портфель — портфель стоял в каких-нибудь десяти сантиметрах от темного экрана, обращенный к нему тыльной стороной. Порою Стормгрен, сам того не замечая, беспокойно проводил пальцами по застежкам портфеля, но потайную кнопку он нажмет только в последнюю секунду, когда разговор закончится. Дюваль головой ручался, что Кареллен ничего не заметит, но мало ли — вдруг что-нибудь выйдет не так…
— Да, вы ведь сказали, что у вас есть для меня новости, — продолжал он, с трудом скрывая нетерпение. — Это насчет?..
— Да, — сказал Кареллен. — Несколько часов назад мне сообщили решение.
«Что бы это значило?» — подивился Стормгрен. Не может же Попечитель переговариваться с далекой своей планетой, когда бог весть сколько световых лет их разделяет. Разве что, по теории ван Риберга, он просто советуется с какой-то гигантской ЭВМ, способной предсказать, к чему приведет любой политический шаг.
— Лига освобождения и компания будут, пожалуй, не совсем довольны, — продолжал Кареллен, — но обстановка несколько разрядится. Это, кстати, записывать не надо.
Вы часто говорили мне, Рикки, что, как бы мы ни выглядели, человечество быстро привыкнет к любому нашему облику. Это лишь доказывает, как мало у вас воображения. Вы-то сами, вероятно, и правда быстро бы освоились, но не забывайте, в большинстве люди еще недостаточно образованны, — чтобы искоренить их суеверия и предрассудки, понадобятся десятилетия.
Не сомневайтесь, нам кое-что известно о человеческой психологии. Мы отлично знаем, что будет, если мы покажемся вашему миру на нынешнем уровне его развития. Не стану вдаваться в подробности, даже с вами, так что уж поверьте мне на слово. Однако вот что мы твердо обещаем, и пусть вас это хоть в какой-то мере удовлетворит: через пятьдесят лет — когда у вас сменятся два поколения — мы выйдем из наших кораблей и люди наконец увидят нас такими, какие мы есть.
Стормгрен немного помолчал, надо было освоиться с услышанным. Слова Попечителя не принесли удовлетворения, какое он ощутил бы раньше. Правда, частичный успех застал его немного врасплох и на миг пошатнул недавнюю решимость. Со временем истина выйдет наружу, исполнить задуманное нет нужды и вряд ли благоразумно. Разве только из чистого этоизма, ведь ему-то, Стормгрену, еще полвека не прожить.
Должно быть, заметив его растерянность, Кареллен прибавил:
— Сожалею, если вас разочаровал, но по крайней мере за политику ближайшего будущего вам уже не придется отвечать.
Может быть, вам кажется, будто наши страхи напрасны, но поверьте, мы давно убедились, что всякий иной путь опасен.
Стормгрен задохнулся, весь подался вперед:
— Так, значит, люди вас когда-то уже видели!
— Этого я не говорил, — мгновенно возразил Кареллен. — Ваша планета — не единственная, за которую мы отвечаем.
Но от Стормгрена не так просто было отмахнуться.
— У нас есть немало преданий о том, что некогда на Землю спускались пришельцы с небес.
— Знаю, читал отчет Института древней истории. Судя по этому отчету, ваша Земля — перекресток всех дорог Вселенной.
— А может быть, о каких-то пришельцах вы не знаете, — упорствовал Стормгрен. — Могло же так быть, даже если вы следите за нами уже тысячи лет, а это, по-моему, маловероятно.
— По-моему, тоже, — уронил Кареллен.
Небрежный этот ответ ровно ничего не значил, и тут Стормгрен решился.
— Кареллен, — сказал он резковато, — я набросаю текст сообщения и передам вам, чтобы вы одобрили. Но оставляю за собой право и дальше к вам приставать, а если найду какую-то возможность, всеми силами постараюсь выведать ваш секрет.
— В этом я не сомневаюсь, — в ответе послышалась усмешка.
— И вы не против?
— Ничуть — до известного предела: не стоит прибегать к ядерному оружию, отравляющим газам и прочему, что может подпортить наши дружеские отношения.
Догадался ли Кареллен, спросил себя Стормгрен, и много ли угадал? Он поддразнивает, но за шуткой слышится понимание, а быть может — как знать? — даже поощрение.
— Рад это слышать, — сказал он, очень стараясь, чтобы не дрогнул голос. Поднялся и, поднимаясь, закрыл портфель. Пальцем легко провел по замку.
— Сейчас же составлю сообщение, — повторил он, — и еще сегодня передам вам по телетайпу.
Говоря это, он нажал потайную кнопку — и понял, что боялся напрасно. Восприятие Кареллена не тоньше, чем у человека. Конечно же, Попечитель ничего не заметил, ведь когда он попрощался и произнес те слова-шифр, которыми открывалась дверь, голос его прозвучал в точности как всегда.
Однако Стормгрен почувствовал себя воришкой, выходящим из магазина под зорким взглядом детектива, и когда стена сомкнулась за ним, не оставив никакого следа двери, у него вырвался вздох облегчения.
* * *
— Иные мои теории были не слишком удачны, согласен, — сказал ван Риберг. — А все-таки, что вы скажете теперь?
— Вам непременно надо знать? — вздохнул Стормгрен.
Питер словно не заметил вздоха.
— В сущности, это не моя мысль, — сказал он скромно. — Я наткнулся на нее в одном рассказе Честертона. Допустим, Сверхправители скрывают, что им вовсе нечего скрывать?
— Что-то очень сложно, не понял, — сказал Стормфен, но в нем шевельнулось любопытство.
— Я вот что имею в виду, — с жаром продолжал ван Риберг. — По-моему, физически они такие же люди, как мы. Они понимают, что мы еще терпим, если нами правят какие-то воображаемые существа… ну, то есть совсем иные, намного превосходящие нас разумом. Но человечество, такое как оно есть, не станет подчиняться себе подобным.
— Весьма изобретательно, как все ваши теории, — сказал Стормфен, — Хорошо бы вам нумеровать свои опусы, как сочинения композитора, мне было бы легче уследить, На сей раз возразить можно…
Но тут доложили о посетителе, и в кабинет вошел Александр Уэйнрайт.
Стормфен спросил себя, что у того на уме. И еще — связан ли как-нибудь Уэйнрайт с теми похитителями. Нет, вряд ли: думается, Уэйнрайт совершенно искренне отвергает насилие. Крайнее крыло Лиги освобождения безнадежно опозорилось и не скоро посмеет вновь заявить о себе.
Главе Лиги прочитали текст сообщения, он внимательно выслушал. Стормгрен надеялся, что Уэйнрайт оценит такой знак внимания — мысль эту подсказал Кареллен. Только через двенадцать часов все остальные люди на Земле узнают, какое обещание дано их внукам.
— Пятьдесят лет, — задумчиво произнес Уэйнрайт. — Долго ждать.
— Для людей это, пожалуй, долгий срок, но не для Кареллена, — возразил Стормфен. Только сейчас он начал понимать, как тонко рассчитали Сверхправители. Нынешнее решение дает им передышку, необходимую, по их мнению, отсрочку, и притом выбивает почву из-под ног Лиги освобождения. Конечно же, Лига не сложит оружие, но отныне ее позиция куда слабее. Разумеется, это понял и Уэйнрайт.
— За пятьдесят лет все будет загублено, — сказал он с горечью. — Никого из тех, кто еще помнит нашу независимость, не останется в живых; человечество утратит наследие предков.
Слова, пустые слова, подумал Стормгрен. Слова, за которые прежде люди дрались и умирали, но никогда больше не станут за них ни умирать, ни драться. И от этого мир станет лучше.
«Сколько хлопот еще доставит Лига в ближайшие десятилетия?» — спросил себя Стормгрен, глядя вслед уходящему Уэйнрайту. И порадовался мысли, что это уже забота его преемника.
Есть недуги, которые может излечить только время. Злодеев можно уничтожить, но ничего не поделаешь с хорошими людьми, упорными в своих заблуждениях.
* * *
— Вот он, ваш портфель, как новенький, — сказал Дюваль.
— Спасибо, — Стормгрен все же придирчиво осмотрел портфель. — Теперь, может быть, вы мне объясните, что туг к чему и как мы будем поступать дальше.
Физик, видно, больше занят был своими мыслями.
— Одного не пойму, — сказал он, — почему нам так легко это сошло с рук. Будь я на месте Карел…
— Но вы не на его месте. Не отвлекайтесь, друг. Что мы все-таки открыли?
— Ох, уж эти мне пылкие, нетерпеливые северяне! — вздохнул Дюваль. — Мы смастерили нечто вроде радара малой мощности. Помимо радиоволн очень высокой частоты, он работает еще и на крайних инфракрасных, и на всех волнах, которых наверняка не увидит ни одно живое существо, как бы причудливо ни были устроены его глаза.
— А почему вы это знаете наверняка? — спросил Стормгрен, он и сам не ждал, что ему станет любопытна эта чисто техническая задача.
— Н-ну, совсем уж наверняка мы сказать не можем, — нехотя признался Дюваль. — Но ведь Кареллен видит вас при обычном освещении, так? Стало быть, его глаза схожи с нашими и воспринимают световые волны примерно в тех же пределах. Так или иначе, аппарат сработал. Мы убедились, что за этим вашим телеэкраном и впрямь находится большая комната. Толщина экрана около трех сантиметров, а помещение за ним не меньше десяти метров в глубину. Нам не удалось различить эхо от дальней стены, но этого и трудно было ждать при такой малой мощности, а на большую мы не решились. И однако вот что мы все же получили.
Он перебросил Стормгрену листок фотобумаги, по которому проходила единственная волнистая линия. В одном месте она подскочила зубцом, будто оставило отметину небольшое землетрясение.
— Видите этот зубчик?
— Вижу, а что это?
— Всего лишь Кареллен.
— Боже правый! Вы уверены?
— Нетрудно догадаться. Он сидит, или стоит, или кто его знает, как он там располагается, по ту сторону экрана, примерно в двух метрах. Будь разрешающая способность аппарата чуть больше, мы бы даже высчитали его рост.
В смятении разглядывал Стормгрен слабый изгиб следа, прочерченного на бумаге. До сих пор еще ничто не доказывало, что Кареллен — существо материальное. Доказательство и сейчас лишь косвенное, но Стормгрен ни на миг не усомнился.
— Нам надо было еще и рассчитать, насколько этот экран пропускает обычный свет. Думаю, мы представили себе это довольно точно, хотя если и ошиблись на десятую долю, тоже неважно. Вы, конечно, понимаете, что нет такого поляризованного стекла, которое в одном направлении совсем не пропускало бы лучей. Вся суть в том, как размещены источники света. Кареллен сидит в затемненной комнате, а вы освещены, только и всего. — Дюваль усмехнулся. — Что ж, мы это переменим.
С видом фокусника, извлекающего невесть откуда целый выводок белых кроликов, он сунул руку в ящик стола и вынул что-то вроде электрического фонарика-переростка. На конце эта штука резко раздавалась вширь, будто большой револьвер или короткостволка с широким раструбом.
Дюваль ухмыльнулся.
— Не так страшно, как кажется. Вам только надо прижать дуло к экрану и нажать спусковой крючок. Ровно на десять секунд вспыхнет сильный прожектор, вы успеете обвести им ту комнату и хорошо ее разглядите. Весь пучок лучей пройдет сквозь экран и высветит вашего приятеля как миленького.
— А Кареллену это не повредит?
— Нет, если вы поведете луч снизу вверх. Тогда глаза его успеют освоиться — думаю, рефлексы у него сходны с нашими, и нам вовсе не нужно, чтобы он ослеп.
Стормгрен нерешительно оглядел оружие, взвесил на ладони. В последние недели его мучила совесть. Безусловно, несмотря на обидную подчас прямоту, Кареллен всегда обращался с ним по-дружески, и теперь, когда их встречам приходит конец, совсем не хочется чем-либо испортить эти добрые отношения. Но он ведь честно предупредил Попечителя — и уж наверно, будь сам Кареллен волен в выборе, он давно показался бы людям. Теперь решение принято за него: когда закончится их последняя беседа, Стормгрен посмотрит Кареллену в лицо. Если только у Кареллена есть лицо.
* * *
Сперва Стормгрену было тревожно, но он быстро успокоился. Говорил почти все время Кареллен, сплетая свою речь, точно кружево, из мудреных и цветистых выражений, так с ним порой бывало. Когда-то Стормгрену это казалось самым поразительным и, уж конечно, самым неожиданным дарованием Кареллена. Теперь такое красноречие уже не казалось чудом, потому что он знал: как почти все способности Попечителя, это не какой-то редкостный талант, а всего лишь плод могучего ума.
Когда Кареллен замедлял ход своей мысли под стать человеческой речи, у него хватало времени на любые стилистические изыски.
— Ни вам, ни вашему преемнику нет нужды чрезмерно волноваться из-за Лиги освобождения, даже когда она опомнится от объявшего ее сейчас уныния. Уже месяц, как она тише воды, ниже травы, — и хотя еще воспрянет духом, в ближайшие годы не будет представлять опасности. Право же, поскольку всегда следует ценить сведения о том, что делает противник, Лига — чрезвычайно полезная организация. Если у нее когда-нибудь возникнут финансовые затруднения, мне, пожалуй, надо будет ссудить ее деньгами.
Зачастую нелегко понять, говорит Кареллен всерьез или шутит. И Стормгрен слушал, старательно сохраняя вид самый невозмутимый.
— Очень скоро Лига утратит еще один повод для нападок. До сих пор раздавалось много протестов, довольно ребяческих, против особой роли, какую вы играли в последние годы. В раннюю пору моего попечительства такое положение представляло для меня большую ценность, но теперь, когда ваш мир идет по пути, который я наметил, можно от этого посредничества отказаться. Впредь я не стану поддерживать столь прямую связь с Землей, и обязанности генерального секретаря ООН в известной мере вновь обретут первоначальную форму.
В ближайшие пятьдесят лет разразится еще немало кризисов, но и это пройдет. Черты вашего будущего достаточно ясны, и настанет день, когда все нынешние сложности забудутся — даже при том, какая у земного человечества долгая память.
Последние слова прозвучали так странно, так значительно, что Стормгрен весь похолодел. Несомненно, Кареллен не допустит оплошности, оговорки, каждое даже, казалось бы, неосторожное слово его всегда взвешено, рассчитано с микроскопической точностью. Но задавать вопросы, которые наверняка остались бы без ответа, было некогда. Попечитель еще раз переменил тему.
— Вы часто спрашивали меня о наших дальнейших планах. Разумеется, создание Всемирного государства — лишь первый шаг. Вы еще увидите, как оно возникнет, но перемена совершится так неуловимо, что мало кто ее заметит. Потом будет пора постепенного упрочения, а тем временем человечество станет готово нас принять. И тогда настанет день, и мы исполним то, что обещали. Мне жаль, что вас при этом уже не будет.
Стормгрен смотрел не мигая, взгляд его устремился далеко за темную преграду экрана. Он загляделся в будущее и представлял себе день, которого ему уже не увидеть, — долгожданный день, когда громадные корабли Сверхправителей опустятся наконец на Землю и распахнутся перед взором человечества.
— В этот день, — продолжал Кареллен, — люди испытают то, что иначе как шоком не назовешь. Но они быстро оправятся от потрясения: их психика станет к тому времени устойчивее, чем у их дедов. Мы станем привычной, неотъемлемой частью их существования, и когда они нас встретят, мы не покажемся им такими… странными… как показались бы вам.
Никогда еще Кареллен не предавался вот таким раздумьям вслух, но Стормгрен не удивился. Он всегда был уверен, что ему знакомы лишь немногие грани личности Попечителя; подлинный Кареллен человеку неведом, а быть может, и недоступен человеческому пониманию. И уже не впервые возникло чувство, что по-настоящему Кареллена занимает что-то совсем другое, а управлению Землей он отдает лишь малую долю своих мыслей — с такой легкостью шахматист, чемпион игры в трех измерениях, играл бы в шашки.
— А что будет дальше? — тихо спросил Стормгрен.
— Тогда для нас начнется настоящая работа.
— Я часто гадал, в чем же она состоит. Навести в нашем мире порядок, сделать людей культурнее и воспитаннее — только средство, а у вас, конечно, есть какая-то цель. Может быть, когда-нибудь мы выйдем в космос и даже сумеем помогать вам в ваших трудах?
— В каком-то смысле, пожалуй, да, — сказал Кареллен, и так явственно прозвучала в этом ответе необъяснимая печаль, что у Стормгрена странно сжалось сердце.
— Ну, а если ваш опыт с человечеством не удастся? Такое случалось у нас в отношениях с отсталыми народами. Наверно, и вам не все удается?
— Да, — сказал Кареллен совсем тихо, Стормгрен едва расслышал, — Не все удается и нам.
— Как же вы тогда поступаете?
— Ждем… а потом пробуем еще раз.
Короткое молчание, какие-нибудь пять секунд. И когда Кареллен вновь заговорил, слова его застигли Стормгрена врасплох.
— Прощайте, Рикки!
Кареллен его провел… может, уже поздно! Стормгрен оцепенел, но лишь на миг. И тотчас быстро, ловко — недаром тренировался — он выхватил заветный фонарь и прижал к экрану.
* * *
Сосны подходили почти к самой воде, вдоль озера оставалась только неширокая, в несколько метров, полоска берега, поросшая травой. В теплую погоду Стормгрен, несмотря на свои девяносто лет, каждый вечер отправлялся на прогулку по берегу, до пристани, смотрел, как угасает на воде отражение заката, и возвращался домой прежде, чем дохнет из лесу холодный ночной ветер. Этот нехитрый обряд доставлял ему истинное удовольствие — пока есть силы, он от этого не откажется.
Издалека, с запада, что-то летело быстро и низко, над самым озером. Самолеты в этих краях появляются не часто, кроме рейсовых пассажирских на линиях, пересекающих полюс, — эти, должно быть, проходят на большой высоте каждый час, и днем и ночью. Но их не замечаешь, разве что изредка протянется след в синеве стратосферы — белая полоска пара. А тут откуда-то взялся маленький вертолет — и явно направляется сюда, к нему. Стормгрен окинул взглядом полоску берега и понял, что ему не сбежать и не спрятаться. Пожал плечами и опустился на деревянную скамью в конце причала.
Репортер был необыкновенно почтителен, Стормгрен даже удивился. Он почти забыл, что он не только старейший из государственных мужей, но, вне пределов своей родины, личность почти легендарная.
— Мистер Стормгрен, — начал непрошеный гость, — мне очень неловко вас беспокоить, но, может быть, вы согласитесь прокомментировать некое только что полученное сообщение о Сверхправителях?
Стормгрен чуть сдвинул брови. После стольких лет он все еще разделял нелюбовь Кареллена к этому слову.
— Вряд ли я могу много прибавить к тому, что было уже написано прежде.
Репортер впился в него до странности испытующим взглядом.
— А мне казалось, можете. Сейчас неожиданно всплыла престранная история. Вроде бы почти тридцать лет назад один работник Бюро научных исследований смастерил для вас какой-то замечательный прибор. Надеюсь, вы нам что-нибудь об этом расскажете.
Стормгрен помолчал, унесся мыслями в прошлое. Его не удивило, что тайну раскрыли. Напротив, удивительно, что так долго она оставалась тайной.
Он поднялся и пошел по пристани к берегу, репортер, приотстав на несколько шагов, — за ним.
— В этом слухе есть доля истины, — сказал Стормгрен. — Когда я в последний раз поднимался на корабль Кареллена, я прихватил с собой некий аппаратик, надеялся, что сумею увидеть Попечителя. Не очень-то умный был поступок, но… что ж, мне тогда было всего лишь шестьдесят. — Он тихонько усмехнулся, потом докончил: — Не стоило вам ради этой пустячной истории лететь в такую даль. Фокус, знаете ли, не удался.
— Вы ничего не увидели?
— Ровным счетом ничего. Боюсь, вам придется ждать… но, в конце концов, осталось только двадцать лет!
Двадцать лет. Да, Кареллен был прав. Тогда мир будет готов принять новость, как отнюдь не был готов тридцать лет назад, когда он, Стормгрен, вот так же солгал Дювалю.
Кареллен верил ему, и Стормгрен не обманул доверия. Никаких сомнений. Попечитель с самого начала знал, что он замышляет, предвидел и рассчитал все до последней секунды.
Иначе почему громадное кресло было уже пусто, когда на нем вспыхнул круг света! В страхе, что опоздал, Стормгрен вмиг повел лучом. Когда он заметил металлическую дверь, вдвое выше человеческого роста, она уже затворялась — быстро, очень быстро, и все же недостаточно быстро.
Да, Кареллен доверял ему, не хотел, чтобы на склоне лет он еще долго терзался неразрешимой загадкой. Кареллен не решился открыто нарушить запрет неведомых сил, которые стоят над ним (принадлежат ли и они к тому же племени?), — но он сделал все, что мог. Им не доказать, что то было прямое неповиновение. И Стормгрен знал: тем самым Кареллен доказал, что и вправду к нему привязан. Быть может, это всего лишь привязанность человека к преданной и умной собаке, но чувство это искреннее, и за всю жизнь Стормгрену не часто случалось испытать большее удовлетворение.
«Не все удается и нам».
Да, Кареллен, это верно — и уж не ты ли сам потерпел неудачу на заре истории рода людского? И какая жестокая была неудача, думал Стормфен, если громовое эхо ее прокатилось через века и страхом перед ним одержимы были все народы Земли, пока не вышли из детства. В силах ли вы даже за полстолетия одолеть власть всех мифов и преданий нашего мира?
И однако, Стормгрен знал, второй неудачи не будет. Когда Сверхправители снова встретятся с людьми, они уже завоюют доверие и дружбу человечества, и этого не разрушит даже потрясение от встречи со знакомым обликом. Дальше они пойдут бок о бок, и неведомая трагедия, которая, должно быть, омрачила прошлое, навсегда затеряется в сумраке доисторических времен.
И отрадно надеяться, что, когда Кареллен волен будет снова ступить на Землю, он побывает когда-нибудь здесь, в северных лесах, и постоит у могилы первого из людей, кто стал ему другом.
II Золотой век
5
«Час настал!» — нашептывало радио на сотне языков. «Час настал!» — твердили тысячи газетных заголовков. «Час настал!» — опять и опять проверяя свои камеры, думали кинооператоры, они кольцом окружили просторное поле, где скоро опустится корабль Кареллена.
В небе оставался только один корабль, над Нью-Йорком. Только теперь мир узнал, что над другими городами никаких кораблей и не было. Накануне громадный флот Сверхправителей обратился в ничто, растаял, как туман, когда выпадает утренняя роса.
Рейсовые корабли, которые сновали взад и вперед, доставляя на землю грузы из космических далей, были самые настоящие; а вот серебряные облака, что долгий срок — целую человеческую жизнь — недвижно парили почти над всеми столицами, оказались обманом зрения. Никто не мог понять, как это делалось, но, похоже, они все до единого были только отражением корабля Кареллена. Но не просто миражем, игрой света, ведь и радары тоже обманывались, и еще оставались живые свидетели, которые клялись, что своими ушами слышали, с каким шумом и свистом прорвал небеса этот воздушный флот.
Все это не имеет значения, важно одно: Кареллен больше не считает нужным выставлять напоказ свою силу. Он отбросил психологическое оружие.
— Корабль двинулся! — Весть мгновенно облетела планету. — Он идет на запад!
Медленно, не быстрее тысячи километров в час, опускался корабль из разреженных высот стратосферы на просторную равнину для второй встречи с историей Земли. И послушно замер перед нетерпеливыми кинокамерами и тысячами зрителей — в тесной толпе лишь немногим видно было все, что разглядели многие миллионы дома, у телевизора.
Казалось, земля содрогнется, треснет под неимоверной тяжестью, но корабль все еще удерживали неведомые силы, что направляли его полет среди звезд. И он опустился наземь легко, невесомо, как снежинка.
Выпуклая стена в двадцати метрах над полем замерцала, пошла зыбью, точно гладь озера; в ровной блестящей поверхности открылся большой проем. В нем ничего не различить даже пытливому глазу кинокамеры. Внутри тень, тьма, словно в пещере.
Из отверстия появился широкий блестящий трап и уверенно пошел вниз. Похоже, это цельная металлическая лента с перилами по бокам. Никаких ступенек, крутой гладкий спуск, будто горка для спортивных саней, и кажется, обычным способом по ней невозможно ни спуститься, ни подняться.
Весь мир не сводил глаз с темного портала, в котором все еще не заметно было ни малейшего движения. А потом из какого-то скрытого источника негромко зазвучал хоть и редко слышанный, но незабываемый голос Кареллена. И произнес он слова самые неожиданные:
— Внизу у трапа есть дети. Я хотел бы, чтобы двое из них поднялись сюда и познакомились со мной.
Мгновение тишины. Потом из толпы выбежали мальчик и девочка и, ничуть не смущаясь, направились к трапу, готовые войти в корабль — и в историю. Следом выбежали было другие, но остановились, когда Кареллен сказал со смешком:
— Довольно двоих.
Жадно предвкушая удивительное приключение, те двое — лет шести, не старше — прыгнули на металлический скат. И тут случилось первое чудо.
Весело махая руками толпе и встревоженным родителям, которые, пожалуй, поздновато вспомнили легенду о Крысолове, дети быстро поднимались по крутому склону. Но они не сделали ни шагу, и скоро стало видно, что они стоят не вертикально, а под прямым углом к странному трапу. Он обладал собственной силой тяготения, независимой от притяжения Земли. Радуясь чуду и не понимая, что же это поднимает их, дети скрылись в глубине корабля.
На двадцать секунд весь мир затих, замер, — после никому не верилось, что тишина была столь недолгой. А потом огромное отверстие словно бы приблизилось, и на солнечный свет выступил Кареллен. На левой руке у него сидел мальчик, на правой — девчурка. Оба поглощены были игрой, их так занимали крылья Кареллена, что они и не поглядели вниз, на толпу.
Да, Сверхправители — тонкие психологи — за долгие года умело подготовили человечество к этому дню, и только очень немногие лишились чувств. Однако в мире еще меньше, наверно, было таких, у кого в душе на страшный миг не всколыхнулся извечный ужас, прежде чем разум изгнал его навсегда.
Все так, в точности. Кожистые крылья, короткие рожки, хвосте острым концом, будто наконечник стрелы — все на месте. Ожило, вышло из неведомого прошлого самое страшное предание. Но вот оно улыбается, полное величия, в солнечных лучах сверкает огромное тело, будто выточенное из черного дерева, и к плечам его доверчиво прильнули два человеческих детеныша.
6
Пятьдесят лет — срок немалый, за эти годы можно изменить планету и ее жителей до неузнаваемости. Тут только и нужны знание законов общества, ясность цели — и могущество.
Всем этим обладали Сверхправители. Хотя конечная цель их и оставалась тайной, но очевидны были и знания — и могущество.
Могущество принимало различные формы, и лишь немногие явственны были для людей, чьими судьбами ныне распоряжались Сверхправители. Каждый видел, какая мощь сокрыта в исполинских кораблях. Но за этой очевидной для всех дремлющей силой таилось иное, гораздо более утонченное оружие.
— Нет неразрешимых задач, — сказал когда-то Кареллен Стормгрену, — надо только правильно применить власть.
— Звучит довольно цинично, — усомнился Стормгрен. — Слишком напоминает известное изречение «Кто силен, тот и прав». У нас в прошлом те, кто пускал в ход силу, ровно ничего не сумели решить.
— Суть в том, чтобы применить ее правильно. У вас тут никогда не было ни настоящей силы, ни знаний, необходимых, чтобы ею пользоваться. Притом за любую задачу можно взяться с толком, а можно без толку. Допустим, к примеру, одно из ваших государств, во главе с каким-нибудь фанатиком, попробует восстать против меня. Весьма бестолково было бы ответить на подобную угрозу несколькими миллиардами лошадиных сил в виде атомной бомбы. Пусти я в ход достаточно бомб — и задача решена раз и навсегда. Но, как я уже сказал, решена без толку, не будь даже у этого решения других недостатков.
— А как решить ее с толком?
— Энергии для этого понадобится примерно как для небольшого радиопередатчика, и примерно такое же уменье, чтобы ею управлять. Ибо важно не сколько энергии пустить в ход. важно — как ее применить. Долго ли, по-вашему, Гитлер оставался бы диктатором в Германии, если бы его на каждом шагу преследовал что-то неумолчно шепчущий голос? Или день и ночь звучала бы в ушах одна и та же нота, заглушала все другие звуки и не давала уснуть? Согласитесь, способ отнюдь не жестокий. И однако, в конечном счете, столь же неодолимый, как тритиевая бомба.
— Понимаю, — сказал Стормгрен, — И негде было бы укрыться?
— Нет такого места, куда я не мог бы, если очень захочу, послать мои… э-э… аппараты. Потому-то мне и незачем принимать крутые меры, чтобы поддерживать порядок.
Итак, исполинские корабли Сверхправителей оказались только символами, и теперь весь мир узнал, что лишь один из них был не призрак. Однако самим своим присутствием призраки эти изменили историю Земли. А теперь задача их выполнена, и память о том, что они совершили, останется в веках.
Кареллен рассчитал точно. Внезапный ужас и отвращение забылись быстро, хотя многие, кто с гордостью считал себя ничуть не суеверным, так никогда и не решились встретиться с кем-нибудь из Сверхправителей лицом к лицу. Что-то здесь было странное, чего не объяснишь разумом и логикой. В эпоху средневековья люди верили в дьявола и страшились его. Но теперь уже двадцать первый век — так неужели все же существует какая-то наследственная, родовая память?
Разумеется, все так и понимали, что между Сверхправителями или родственными им существами и человечеством некогда, в глубокой древности, разыгралась жестокая битва. Должно быть, столкнулись они в бесконечно далеком прошлом, ибо в исторических источниках не сохранилось никаких следов той встречи. Вот еще одна загадка, и Кареллен не дает к ней ключа.
Хотя Сверхправители и показались людям, они редко покидали свой единственный корабль. Возможно, на Земле им было неудобно. Должно быть, там, откуда родом эти крылатые великаны, сила тяжести гораздо меньше. И всегда на них какие-то пояса, снабженные сложными механизмами, предполагается, что с их помощью Сверхправители управляют своим весом и общаются между собой. Яркое солнце они переносят с трудом и остаются на свету считанные секунды. А когда можно пробыть под открытым небом подольше, надевают темные очки и выглядят в них престранно. Очевидно, они могут дышать земным воздухом, однако иногда носят с собой что-то вроде фляжки и норой освежаются глотком какого-то газа.
Возможно, их необщительность объясняется чисто физическими причинами. Мало кому доводилось встретить Сверхправителя во плоти, и можно только гадать, сколько их на борту у Кареллена. Никогда люди не видели сразу больше пятерых, но в исполинском корабле их, возможно, сотни и даже тысячи.
Во многих отношениях с выходом Сверхправителей на люди возникло больше новых загадок, чем разрешилось прежних. Все еще неизвестно, откуда они, счету нет теориям о том, что они собой представляют как биологический вид. На многие вопросы они отвечают охотно, а в некоторых случаях до крайности скрытны. Но все это беспокоит только ученых. А рядовой землянин если и не жаждет общаться со Сверхправителями, благодарен им за все, что они сделали для людей.
По меркам прошлого на Земле воцарилась Утопия. Не стало невежества, болезней, нищеты и страха. Память о войне растворилась в прошлом, как рассеивается на заре страшный сон: скоро среди живых людей не останется ни одного, кто испытал все это на себе.
Вся человеческая энергия обратилась на творчество — и облик Земли преобразился. Теперь это поистине новый мир. Большие города, которыми довольствовались прежние поколения, стали бесполезны — и их либо перестроили, либо покинули и превратили в музеи. Многие города уже давно заброшены, потому что вся система промышленности и торговли совершенно изменилась. Производство стало почти полностью автоматическим: заводы-роботы нескончаемым потоком дают все необходимое для повседневной жизни — и все это даром. Люди работают, только если им хочется каких-то предметов роскоши, — или не работают совсем.
Мир стал един. Былые названия старых стран сохранялись лишь для удобства почты. Не осталось на свете человека, который не говорил бы по-английски, не умел читать, не мог в любую минуту воспользоваться телевизионной связью или не больше чем за сутки перенестись в другое полушарие.
Исчезла преступность. Преступление стало и ненужным и невозможным. Когда никто ни в чем не нуждается, незачем воровать. Притом все, кто способен был бы на преступление, знали, что им не ускользнуть от бдительного ока Сверхправителей. Поначалу те весьма убедительно вмешивались в земные дела, поддерживая закон и порядок, — урок усвоен был прочно.
Еще совершаются преступления в порыве страсти, но и они большая редкость. Очень многие противоречия, что были мучительно неразрешимы, теперь устранены, а потому человечество стало душевно здоровее и не столь безрассудно. И то, что в былые времена именовалось пороком, теперь сочтут всего лишь чудачеством, в худшем случае — невоспитанностью.
И еще одна разительная перемена; не стало сумасшедшей спешки, которой отличался двадцатый век. Жизнь течет медлительней, появился досуг, какого не знали несколько поколений людей. А потому немногие находят ее довольно пресной, зато большинству живется куда спокойнее. На Западе люди заново узнали то, о чем никогда не забывали все остальные — что в досуге нет греха, лишь бы он не выродился в праздность и лень.
Быть может, будущее и принесет новые заботы, но пока избыток свободного времени людям не в тягость. Они дольше учатся, и познания их основательней, глубже. Мало кто кончает колледж раньше двадцати — и это лишь первая ступень образования, обычно человек по крайней мере года на три возвращается к ученью в двадцать пять, когда путешествия и жизненный опыт уже расширили его кругозор. И даже после, пока жив, время от времени освежает свои познания в наиболее интересных для него областях.
От того что ученичество продлилось далеко за рубеж, когда юнец становится взрослым, многое изменилось в жизни общества. Иные перемены стали необходимы еще несколько поколений назад, но в былые времена их не осмеливались ввести либо притворялись, что и нужды в них нет. Так, изменились — изменились в корне — отношения между полами, если считать, что в этой области mores[17] когда-нибудь строились по единому образцу. Все устои рассыпались в прах под ударами двух изобретений чисто человеческих — Сверхправители тут были ни при чем.
Первое изобретение — совершенно надежное противозачаточное средство, довольно проглотить таблетку; второе — столь же верный, как отпечатки пальцев, способ определить, кто отец ребенка, по очень подробному анализу крови. Действие этих двух новинок иначе как разрушительным не назовешь — последние остатки пуританской ограниченности сметены были с лица Земли.
И еще одна громадная перемена в образе жизни — необычайная подвижность. Воздушный транспорт достиг совершенства, и всякий в любую минуту волен лететь куда вздумается. Небеса много просторнее, чем какие-либо дороги прошлого, и двадцать первый век с гораздо более широким размахом повторил знаменитое достижение Америки, когда целый народ оказался на колесах. Теперь все человечество получило крылья.
Впрочем, не буквально. У обычного флайера или аэромобиля, каким располагал каждый, не было ни крыльев, ни видимых глазу приборов. Исчезли и неуклюжие винты старинных вертолетов. Но человек не открыл способа преодолеть земное притяжение — этим величайшим секретом владели только Сверхправители. В аэромобилях людей действовали силы попроще, их могли бы понять и братья Райт. Реактивный двигатель, работающий и непосредственно, и в более сложном режиме, с ограничением высоты, вел флайер вперед и поддерживал в воздухе, и эти вездесущие воздухолетики стерли последние границы между различными человеческими племенами так быстро и так безвозвратно, как не стерли бы Сверхправители никакими законами и приказами.
Совершались и перемены более глубокие. Настал век безбожия. Из всех видов веры, какие существовали до прилета Сверхправителей, выжил лишь своего рода облагороженный буддизм — пожалуй, самая суровая из религий. Верования, основанные на чудесах и откровениях, рухнули раз и навсегда. Они и прежде постепенно развеивались, по мере того как люди становились образованнее, но поначалу Сверхправители в эти вопросы не вмешивались. Кареллена нередко спрашивали, как он относится к религии, но он только и отвечал, что вера — личное дело каждого человека, лишь бы он не посягал на свободу других.
Быть может, древние верования продержались бы еще у нескольких поколений, если б не вечное человеческое любопытство. Все знали, что Сверхправителям доступно прошлое, и не раз историки просили Кареллена разрешить какой-нибудь давний спор. Возможно, такие вопросы ему надоели, а скорее он прекрасно понимал, к чему поведет его великодушие…
Аппарат, который он передал Институту всемирной истории, представлял собою просто приемник, телевизор с обширной клавиатурой настройки на время и пространство. Должно быть, он был так или иначе связан с несравнимо более сложной машиной на борту Карелленова корабля, а уж как она действует, никто и вообразить не мог. На Земле ученый просто нажимал нужные клавиши — и распахивалось окно в прошлое. Взгляду мгновенно открывалось едва ли не любое событие в истории человечества за последние пять тысяч лет. Глубже в прошлое аппарат не погружался, настроенный на более ранние века экран зиял непонятной пустотой. Возможно, на то была какая-то естественная причина, а возможно, Сверхправители умышленно не позволяли узнать больше.
Конечно, всякому мыслящему человеку и прежде ясно было, что все вероучения не могут быть истинными, но удар оказался роковым. Вот оно, разоблачение, в котором не усомнишься, с которым не поспоришь: неведомое волшебство науки Сверхправителей открыло взорам людей, как на самом деле возникли в мире все великие религии. Почти все они начинались благородно и вдохновенно — но не более того. В несколько дней несчетные мессии рода людского перестали быть богами. Верования, которые долгих два тысячелетия служили опорой миллионам людей, растаяли, точно утренняя роса, в жестоком, бесстрастном свете истины. Все доброе и все злое, что они создали, разом отошло в прошлое и уже не могло тронуть ничью душу.
Человечество лишилось древних богов — и уже настолько повзрослело, что не нуждалось в новых.
Пока мало кто понимал, что наряду с крушением веры приходила в упадок наука. Процветали техника и технология, но наперечет были своеобычные умы, которые пытались раздвинуть границы человеческого знания. Оставалось любопытство, хватало досуга, чтобы его утолить, но пыл серьезного научного исследования угас. Что толку всю жизнь доискиваться тайн, наверняка открытых Сверхправителями много веков назад.
Этот упадок был не столь заметен, оттого что пышно расцвели науки описательные — зоология, ботаника, астрономические наблюдения. Никогда не бывало на свете стольких любителей, собирающих научные данные для собственного удовольствия, но почти не осталось теоретиков, которые свели бы эти данные в единую систему.
А при том, что исчезла борьба, угасли раздоры и противоречия, пришел конец и творчеству, подлинному искусству. Исполнителей тьма — и любителей, и профессионалов, но за целое поколение не создано ничего нового, по-настоящему талантливого ни в литературе, ни в музыке, ни в живописи и скульптуре. Мир все еще жил былой славой, блистательными свершениями невозвратного прошлого.
И никого это не тревожило, если не считать немногих философов. Человечество слишком упивалось новообретенной свободой, радовалось сиюминутными радостями и дальше не заглядывало. Наконец-то вот она, Утопия, Золотой век; его новизну еще не омрачил злейший враг всякой утопии — скука.
Быть может, у Сверхлравителей было в запасе решение и этой задачи, решили же они столько других. Со дня их прилета минул долгий срок — целая человеческая жизнь, — но и сейчас, как тогда, никто не знал, зачем они явились. Человечество привыкло им верить и уже не задавалось вопросом, что за сверхчеловеческая самоотверженность так долго удерживает Кареллена и его спутников вдали от родины.
Если это и впрямь самоотверженность. Все-таки еще находились люди, которые спрашивали себя, вправду ли конечная цель Сверхправителей — благоденствие человечества.
7
Если подсчитать, какое расстояние предстояло одолеть всем вместе взятым, кого пригласил в тот день Руперт Бойс, цифра получилась бы внушительная. Только в первой дюжине гостей были Фостеры из Аделаиды, Шенбергеры с Гаити, Фарраны из Сталинграда, чета Моравия из Цинциннати, чета Иванко из Парижа и еще Садливены, живущие в общем-то по соседству с островом Пасхи, но на дне океана, на глубине четырех километров. И немало чести делает Руперту, что, хотя разослал он тридцать приглашений, гостей прибыло больше сорока, — примерно так он и рассчитывал. Подвели только Краусы — просто потому, что забыли, с какого меридиана идет международный отсчет времени, и опоздали ровно на двадцать четыре часа.
К полудню в парке собралась изрядная коллекция флайеров, и тем, кто явится последним, когда они найдут наконец, где приземлиться, придется еще немало пройти пешком. Во всяком случае, под безоблачным небом, когда по Фаренгейту сто десять, путь покажется долгим. Вокруг замерли аэромобили всевозможных марок, от одноместных «букашек» до семейных «кадиллаков», похожих уже не просто на средство передвижения по воздуху, а на летучие дворцы. Впрочем, теперь по марке машины никак нельзя судить о положении ее владельца в обществе.
— До чего уродливый дом, — сказала Джин Моррел, когда «метеор» по спирали начал снижаться. — Точно коробка, на которую кто-то наступил.
Джорджу Грегсону свойственна была старомодная неприязнь к автоматической посадке, и, прежде чем ответить, он подрегулировал скорость спуска.
— Под таким углом зрения едва ли можно судить о доме, — справедливо заметил он. — С земли он, наверно, выглядит совсем по-другому. О господи!
— Что случилось?
— Фостеры тоже тут. Это сочетание цветов я где угодно узнаю.
— Ну, так не разговаривай с ними, если не хочется. Вот чем хороши сборища у Руперта — всегда можно скрыться в толпе.
Джордж высмотрел свободное местечко и уверенно повел флайер вниз. Они плавно опустились между другим «метеором» и какой-то машиной совсем неизвестной обоим марки. На вид штука очень быстроходная и очень неудобная, подумала Джин. Наверно, кто-нибудь из Рупертовых приятелей, помешанных на технике, сам ее смастерил. А ведь это как будто по закону не полагается. Они вышли из «метеора», и жара опалила их, точно пламя электросварки. Словно разом из тела испарилась вся влага, и Джорджу почудилось, что у него трескается пересохшая кожа. Конечно, отчасти сами виноваты. Три часа назад они вылетели с Аляски и не сообразили поменять температуру в кабине, чтоб переход был не такой резкий.
— Да разве можно тут жить! — Джин еле перевела дух. — Я думала, здешним климатом как-то управляют.
— Конечно, управляют, — сказал Джордж. — Когда-то здесь была пустыня, а теперь — сама видишь. Ну, идем, в доме все будет как надо.
Тут их окликнул Руперт — весело, но как-то непривычно гулко. Хозяин дома стоял возле их «метеора», протягивал гостям по бокалу и с озорной улыбкой смотрел на них сверху вниз.
Свысока он смотрел по той простой причине, что был примерно трех с половиной метров ростом; к тому же он оказался почти прозрачным. Сквозь него нетрудно было смотреть.
— Ну и шуточки ты шутишь со своими гостями! — воскликнул Джордж и попробовал ухватить бокалы, до которых только-только сумел дотянуться. Рука, разумеется, прошла насквозь. — Надеюсь, когда мы доберемся до твоего дома, для нас найдется что-нибудь более осязаемое.
— Не беспокойтесь! — засмеялся Руперт, — Давай заказывай, когда придете, все будет наготове.
— Две солидные порции пива, охлажденные в жидком воздухе, — мигом распорядился Джордж, — Мы сейчас же явимся.
Руперт кивнул, поставил один бокал на невидимый стол, нажал какую-то невидимую кнопку и исчез.
— Ну и ну! — сказала Джин. — Первый раз вижу, как действует такая машинка. Откуда Руперт ее раздобыл? Я думала, они есть только у Сверхправителей.
— А ты знаешь хоть один случай, когда Руперт не раздобыл бы, чего захотел? — возразил Джордж. — Для него это самая подходящая игрушка. Сиди уютно у себя в кабинете и при этом обойдешь пол-Африки. Ни жары, ни кусачих насекомых, ни усталости, и еще холодильник с пивом под рукой. Любопытно, что бы подумали Стенли и Ливингстон?
Под палящим солнцем больше говорить не хотелось. Когда они подошли к парадной двери, почти неразличимой в сплошном стекле фасада, она под пение фанфар автоматически распахнулась. «Наверно, к вечеру меня уже начнет тошнить от фанфар», — подумала Джин, и не ошиблась.
В чудесной прохладе прихожей их приветливо встретила очередная миссис Бойс. По правде сказать, из-за нее-то и собралось такое множество гостей. Половина явилась бы все равно поглядеть на новое жилище Руперта; тех, кто сперва колебался, привлекли рассказы о его новой жене.
Потрясающая женщина! Поистине другого слова не подобрать. Даже теперь, в мире, где красотой никого не удивишь, мужчины оборачивались, едва она входила в комнату. Должно быть, у нее одна бабка или дед были негры, догадался Джордж; безукоризненно правильные античные черты; длинные волосы отливают вороненой сталью. Только смуглая кожа сочного оттенка, определяемого одним лишь затрепанным словом «шоколадный», выдает ее смешанное происхождение.
— Вы — Джин и Джордж, правда? — она протянула руку. — Очень рада с вами познакомиться. Руперт там что-то мудрит с коктейлями. Идемте, познакомьтесь со всеми.
От ее глубокого контральто по спине Джорджа пробежала дрожь, словно кто-то перебирал по ней пальцами, как на флейте. Он беспокойно покосился на Джин — та натянуто, через силу улыбнулась — и не сразу сумел ответить.
— Очень… очень приятно, — пролепетал он. — Мы так предвкушали нынешний прием.
— Руперт всегда устраивает очень милые приемы, — вставила Джин.
«Всегда» прозвучало весьма недвусмысленно, это значило — каждый раз, когда он женится. Джордж немного покраснел, бросил на Джин укоризненный взгляд, но хозяйка словно и не заметила шпильки. Воплощенное дружелюбие, она приветливо ввела их в главную гостиную, где уже собралось пестрое общество многочисленных друзей-приятелей Руперта. Сам хозяин сидел у аппарата, похожего на пульт управления, — очевидно, через этот аппарат он и посылает свое изображение встречать гостей, понял Джордж. Руперт как раз и старался поразить этим еще двоих, чья машина только что совершила посадку, но на секунду отвлекся, поздоровался с Джин и Джорджем и попросил прошения: приготовленные для них коктейли он уже кому-то отдал.
— Вон там всякого питья полно, — договорил он и махнул рукой куда-то назад, не переставая другой нажимать клавиши аппарата. — Будьте как дома. Вы тут почти всех знаете, Майя вас познакомит с остальными. Спасибо, что приехали.
— Спасибо, что вы нас пригласили, — сказала Джин не очень уверенно.
Джордж уже шагал к стойке. Джин пошла следом, на ходу здоровалась, замечая знакомое лицо. На три четверти, как всегда у Руперта, тут собрались люди, которые никогда прежде друг друга не встречали.
— Давай пойдем на разведку, — сказала она Джорджу, когда они промочили горло и хотя бы помахали рукой всем знакомым. — Я хочу осмотреть дом.
Джордж, почти не скрываясь, оглянулся на Майю Бойс и пошел за Джин. Взгляд у него стал отрешенный, и это ей совсем не понравилось. Беца, что мужчины по природе своей многоженцы. Впрочем, будь по-другому… Нет, пожалуй, так оно лучше.
Они принялись исследовать полную чудес новую обитель Руперта, и Джордж скоро опять стал самим собой. Дом казался чересчур велик для двоих, но иначе нельзя, ведь тут часто, как сегодня, будет полно посторонних.
— Он двухэтажный, верхний этаж много больше, так что выступает над нижним и дает ему тень. На каждом шагу автоматы, и кухня — не кухня, а рубка воздушного лайнера.
— Бедняжка Руби, ей бы здесь понравилось, — сказала Джин.
— Насколько я слышал, она вполне счастлива со своим дружком в Австралии, — возразил Джордж, он вовсе не питал нежных чувств к предыдущей миссис Бойс.
Спорить не приходилось — про Руби и австралийца было известно всем, и Джин переменила разговор:
— Она ужасно хороша, правда?
У Джорджа хватило ума не попасться на удочку.
— Да, пожалуй, — равнодушно сказал он. — Конечно, если кому нравятся брюнетки.
— Тебе, как я понимаю, они не нравятся, — премило заметила Джин.
— Не надо ревновать, дорогая, — усмехнулся Джордж и погладил ее по очень светлым золотистым волосам. — Пойдем посмотрим библиотеку. По-твоему, где она может быть?
— Наверно, тут, наверху: внизу больше нет места. И вообще, похоже, так задумано: жить, есть, спать и прочее на первом этаже. А второй — для игр и развлечений… хотя, по-моему, нелепая затея — устроить плавательный бассейн на втором этаже.
— Ну, какая-нибудь причина да есть. — Джордж наугад отворил еще одну дверь. — У Руперта наверняка были опытные советчики. Уж конечно, он сам не додумался бы до такой планировки.
— Это верно. Он бы построил дом с комнатами без дверей, а лестницы вели бы в пустоту. Да мне просто страшно было бы войти в дом, построенный по плану Руперта.
— Ну, вот и пришли, — объявил Джордж, гордый, как штурман после образцовой посадки. — Прославленная коллекция Бойса на новом месте. Хотел бы я знать, много ли он тут прочел.
Библиотека тянулась во всю ширину дома, но длиннейшие ряды книжных полок рассекали ее поперек на полдюжины комнат. Тут было, насколько помнил Джордж, около пятнадцати тысяч томов — едва ли не все существенное, что когда-либо печаталось по туманным вопросам магии, психологических исследований, ясновидения, телепатии и прочих неуловимых явлений, которых не объясняет обыкновенная физика. Престранное увлечение в век здравого смысла. Должно быть, для Руперта это просто особый способ бегства от действительности.
Еще с порога Джордж ощутил странный запах. Не сильный, но острый, не то чтобы неприятный, но какой-то ни на что не похожий. Джин тоже его заметила, попыталась разобраться, на лбу обозначилась морщинка. Вроде уксуса, подумал Джордж. Но примешивается что-то еще…
В дальнем конце библиотеки оказалось свободное от полок место, его только и хватало для стола, двух стульев и нескольких подушек. Вероятно, в этом-то уголке Руперт обычно и проводил время за чтением. И сейчас при странно тусклом свете туг тоже кто-то читал.
Джин тихонько ахнула и уцепилась за руку Джорджа. Пожалуй, ей простительно. Видеть изображение на экране телевизора — это одно, повстречаться в жизни — совсем другое. Джордж — тот опомнился мигом, его мало что могло застигнуть врасплох.
— Надеюсь, мы вас не обеспокоили, сэр, — вежливо сказал он. — Мы понятия не имели, что тут кто-то есть. Руперт нам не говорил…
Сверхправитель опустил книгу, внимательно оглядел обоих и снова принялся за чтение. Это нельзя счесть неучтивым, если так ведет себя существо, способное одновременно читать, разговаривать и, наверно, заниматься еще несколькими делами сразу. Однако с человеческой точки зрения это выглядело дико и страшновато.
— Меня зовут Рашаверак, — любезно сказал Сверхправитель. — Боюсь, я не слишком общителен, но из библиотеки Руперта трудно выбраться незамеченным.
Джин не без труда сдержала нервический смешок. Неожиданный собеседник читает с невероятной быстротой, заметила она: по странице за две секунды. И уж конечно впитывает каждое слово, а может быть, сумел бы читать одним глазом одну книгу, а другим — другую. И еще он, наверно, может пользоваться азбукой Брайля — читать пальцами книги для слепых… Воображение нарисовало ей до того забавную картинку, что стало не по себе, и Джин поспешила спокойствия ради вступить в разговор. В конце концов, не каждый день выпадает случай поговорить с одним из повелителей Земли.
Джордж познакомил их и предоставил ей болтать, в надежде, что у нее не вырвется какая-нибудь бестактность. Как и Джин, он никогда еще не видел Сверхправителя во плоти. С государственными деятелями, с учеными, с людьми самыми разными Сверхправители постоянно встречались на деловой почве, но никогда Джордж не слыхал, чтобы хоть один появился вот так, просто-напросто гостем на обыкновенной вечеринке. Но, пожалуй, в этом доме и сегодняшнем сборище все не так просто.
Недаром же в распоряжении Руперта оказался и аппарат Сверхправителей, и Джорджа теперь уже не на шутку озадачило — да что же, в сущности, происходит? Надо будет поймать Руперта один на один и все из него выудить.
Стулья для Рашаверака малы, он сидит прямо на полу, — видно, ему и без подушек удобно, они валяются рядом. Итак, голова его оказалась всего в двух метрах над полом, единственный в своем роде случай для Джорджа изучить внеземную биологию. На беду, он и в земной-то слабо разбирался, а потому не много узнал нового. Внове только этот особенный, но даже по-своему приятный острый запах. Еще вопрос, как, по мнению Сверхправителей, пахнут люди, подумалось Джорджу, — остается надеяться на лучшее.
На вид в Рашавераке нет ничего человеческого. Можно понять, что издали невежественным перепуганным дикарям Сверхправители казались крылатыми людьми, отсюда и возник привычный портрет Дьявола. Однако вблизи ясно, что сходства куда меньше. Рожки (любопытно, для чего они служат?) в точности такие, как на картинках, но в теле ничего общего с человеком или с любым земным существом. Порождение совсем иной эволюции, Сверхправители не принадлежат ни к млекопитающим, ни к насекомым, ни к рептилиям. Неясно даже, относятся ли они к позвоночным: возможно, этот жесткий панцирь и есть их костяк, единственная опора туловища.
Крылья Рашаверака сложены, их толком не разглядеть, но хвост — точь-в-точь бронированный пожарный шланг — аккуратно свернут под ним. Знаменитое острие на конце напоминает не столько наконечник стрелы, как большой плоский алмаз. Сейчас уже никто не сомневается, что его назначение, подобно хвостовым перьям птицы, поддерживать равновесие при полете. Опираясь на немногие точные данные и на такие вот догадки, ученые полагают, что родина Сверхправителей — планета с малой силой тяжести и очень плотной атмосферой.
Внезапно из скрытого где-то динамика загремел голос Руперта:
— Джин! Джордж! Куда вы исчезли, черт возьми? Идите вниз и присоединяйтесь к компании. Люди уже сплетничают.
— Пожалуй, пойду и я, — сказал Рашаверак и положил книгу на полку.
Он легко проделал это, не вставая с пола, и Джордж впервые заметил, что на руке у него два больших пальца и еще пять пальцев между ними. Джордж от души порадовался, что не вынужден пользоваться арифметикой, основанной на числе четырнадцать.
Рашаверак поднялся на нош — внушительное зрелище! Чтобы не удариться о потолок, ему пришлось сутулиться; ясное дело, даже если бы Сверхправители жаждали побольше общаться с людьми, это было бы не так-то легко.
За последние полчаса прилетело еще немало народу, и теперь гостиная была полна. С появлением Рашаверака стало совсем тесно: из смежных комнат все поспешили сюда посмотреть на него. Руперт явно наслаждался общим изумлением. Джин и Джорджу было не так уж приятно, что их никто не заметил. По правде сказать, за спиной великана их почти никто и не увидел.
— Идите сюда, Раши, я вас кое с кем познакомлю, — крикнул Руперт. — Садитесь на диван, тогда вам не придется царапать потолок.
Рашаверак, перекинув хвост через плечо, перешел комнату, будто ледокол, прокладывающий себе путь во льдах. Когда он сел возле Руперта, комната словно опять стала просторнее, и Джордж вздохнул с облегчением.
— Пока он стоял, меня мучила клаустрофобия. Любопытно, каким образом Руперт его заполучил… Похоже, вечерок будет занятный.
— Надо же, как Руперт с ним разговаривает, да еще на людях. А ему, видно, все равно. Очень все это странно.
— Спорим, ему совсем не все равно! Беда, что Руперт такой хвастун и ужасно бестактный. Кстати, ты тоже милые вопросы задавала!
— То есть?
— Ну, к примеру, — а вы давно здесь? А как вы ладите с Попечителем Карелленом? А вам нравится на Земле? Знаешь ли, детка, со Сверхправителями так не разговаривают!
— А почему бы и нет. Пора уж кому-нибудь начать.
Поссориться они не успели — подошли Шенбергеры, и почти сразу пары распались. Женщины отошли в сторону и принялись обсуждать миссис Бойс; мужчины направились в противоположную сторону и стали разбирать тот же предмет, но под иным углом зрения. Оказалось, Бенни Шенбергер, старинный друг Джорджа, может многое сообщить по этому поводу.
— Ради Бога, никому не проболтайся, — сказал он. — Рут об этом не подозревает, но это я познакомил Руперта с Майей.
— По-моему, Руперт ее не стоит, — с завистью сказал Джордж. — Но это, конечно, ненадолго. Он ей очень быстро надоест.
Эта мысль его заметно подбодрила.
— И не надейся! Она не только красавица, она чудесный человек. Давно пора кому-нибудь позаботиться о Руперте, и она для этого самая подходящая женщина.
Руперт и Майя теперь сидели подле Рашаверака и торжественно вели прием. На сборищах у Руперта гости редко стягивались к единому центру — обычно они распадались на полдюжины кружков, поглощенных самыми разными интересами. Но сегодня всех как магнитом тянуло к одной точке. Джорджу стало жаль Майю. Ведь это должен был быть ее праздник, а Рашаверак ее почти затмил.
— Слушай, — сказал Джордж, куснув сандвич, — как это Руперт ухитрился залучить к себе Сверхправителя? Я никогда еще о таком не слыхал, а он держится как ни в чем не бывало. Ни словечком про это не упомянул, когда нас приглашал.
Бенни усмехнулся.
— Ну, это же его страсть — чем-нибудь да удивить. Ты его сам спроси. Но в конце концов, это ведь не первый случай. Кареллен бывал на приемах в Белом доме и в Букингемском дворце, и…
— Это совсем другое, черт подери! Руперт самый обыкновенный человек, ни чинов, ни постов.
— А может быть, Рашаверак — мелкота среди Сверхправителей. Ты лучше их сам спроси.
— И спрошу, — сказал Джордж. — Дай только поймаю Руперта без свидетелей.
— Ну, тебе придется долго ждать.
Бенни был прав, но прием становился все оживленнее и потерпеть было ничуть не скучно. Появление Рашаверака сперва сковало собравшихся, но они быстро опомнились. Немногие еще держались около Сверхправителя, остальные по обыкновению разбились на кружки, и все вели себя вполне естественно. Так, Салливен описывал увлеченным слушателям свои последний исследовательский поход на подводной лодке.
— Мы еще не знаем точно, каких размеров они достигают, — говорил он, — Неподалеку от нашей базы есть каньон, там гнездится один — настоящий гигант. Я раз мельком его видел, так вот, размах щупалец у него добрых тридцать метров. На той неделе за ним поохочусь. Кто желает завести в доме по-настоящему редкого ручного зверя?
Какая-то женщина даже взвизгнула от ужаса.
— Брр! От одной мысли мороз по коже! Вы, наверно, ужасно храбрый.
На лице Салливена отразилось искреннее удивление.
— Никогда об этом не думал, — сказал он. — Конечно, я действую осторожно, но серьезная опасность мне ни разу не грозила. Спруты понимают, что им меня не съесть, и не обращают на меня внимания, только не надо подходить к ним слишком близко. В большинстве морские твари вас не тронут, если вы их не заденете.
— Но рано или поздно вы уж наверняка столкнетесь с кем-нибудь, кто сочтет, что вы съедобны.
— Ну, изредка случается и такое, — беспечно отозвался Салливен, — Я стараюсь не повредить им, ведь больше всего мне хочется завязать с ними дружбу. Ну, а если что, включаю двигатели на полную мощность и через минуту уже свободен. Если есть другие дела и мне играть недосуг, можно пощекотать спрута разрядом вольт на двести. Этого достаточно, больше уж он к вам не пристанет.
Да, занятных людей встречаешь у Руперта, подумал Джордж, переходя к другой компании. Литературные вкусы Руперта широтой не отличаются, зато друзья у него весьма разнообразные. Незачем даже озираться по сторонам — в поле зрения одновременно оказываются знаменитый кинорежиссер, второстепенный поэт, математик, два актера, инженер-атомщик, смотритель заповедника, издатель еженедельника, статистик из Всемирного банка, скрипач-виртуоз, профессор археологии и астрофизик. Коллег Джорджа — сценаристов телевидения — не видно ни одного, и слава богу, ему вовсе не хочется разговаривать на профессиональные темы. Работу свою он любит — так ведь сейчас, впервые в истории человечества, никто не занимается нелюбимым делом. Но после рабочего дня он предпочитает и в мыслях захлопнуть за собой двери телестудии.
Наконец ему удалось поймать Руперта на кухне, где тот колдовал с напитками. И такой у него был при этом отрешенный взор — просто жаль возвращать человека на грешную землю… но Джордж, если надо, умел быть безжалостным.
— Послушай, Руперт, — начат он, усаживаясь на край ближайшего стола, — По-моему, ты обязан нам всем кое-что объяснить.
— М-м, — Руперт задумчиво просмаковал глоток. — Боюсь, чуточку перелил шотландского.
— Не увиливай и не прикидывайся пьяненьким, я же вижу, ты трезвый, как стеклышко. С каких пор ты завел дружбу со Сверхлравителем и чем он тут занимается?
— А разве я тебе не говорил? Мне казалось, я уже всем объяснил. Наверно, тебя при этом не было — ну да, вы же сбежали в библиотеку. — Он довольно обидно усмехнулся. — Понимаешь, Рашаверак у меня именно из-за библиотеки.
— Вот так раз!
— Что тебя удивляет?
Джордж спохватился: надо поделикатнее, Руперт безмерно горд своим необыкновенным собранием книг.
— Н-ну… Сверхправители такие знатоки всех наук, с чего бы им интересоваться парапсихологией и всяким таким вздором.
— Вздор это или не вздор, но их интересует человеческая психология, и они многое могут почерпнуть из моих книг. Как раз перед моим переездом сюда со мной связался то ли помощник младшего Сверхправителя, то ли Сверхпомощник младшего правителя и попросил одолжить ему с полсотни самых редкостных экземпляров. Похоже, его направил ко мне кто-то из библиотекарей Британского музея. Ну, ты догадываешься, что я на это сказал.
— Понятия не имею.
— Так вот, я очень вежливо разъяснил, что собирал свою библиотеку двадцать лет. Если им угодно изучать мои книги, милости просим, но, черт возьми, пускай читают здесь, на месте. И тогда явился Раши и заглатывает по двадцать томов в день. Хотел бы я знать, что он из них извлекает.
Джордж подумал немного, презрительно пожал плечами.
— По правде сказать, я был о Сверхправителях лучшего мнения. По-моему, они могли бы тратить время на что-нибудь более путное.
— Так ведь ты неисправимый материалист, верно? Вряд ли Джин с тобой согласится. Но, даже если рассуждать по-твоему, сверхпрактическая ты личность, этот их интерес не лишен смысла. Ведь когда имеешь дело с дикарями, надо знать их суеверия!
— Да, пожалуй, — не слишком уверенно согласился Джордж.
Сидеть на жестком столе надоело, и он встал. Руперт наконец смешат коктейль по своему вкусу и направился в гостиную. Слышно было, что там уже возмущаются — куда пропал хозяин?
— Эй, погоди! — запротестовал Джордж. — Пока ты не сбежал, еще один вопрос. Как ты заполучил этот телевизор с передатчиком, которым хотел нас напугать?
— Маленькая сделка. Я объяснил, как полезна такая штука при моей работе, а Раши передал намек по начальству.
— Извини мою тупость, но что она такое, твоя новая работа? Очевидно, это как-то связано со зверьем?
— Правильно. Я сверхветеринар. В моем ведении примерно десять тысяч квадратных километров джунглей, мои пациенты сами ко мне не придут, вот и надо их выискивать.
— Наверно, вздохнуть некогда?
— Ну, о мелюзге хлопотать незачем. Моя забота — львы, слоны, носороги и прочее. Каждое утро настраиваю эту машинку на высоту сто метров, сажусь перед экраном и обозреваю окрестности. Когда увижу зверя в беде, влезаю в свой флайер и надеюсь, что больной оценит мой врачебный такт. Бывают довольно заковыристые задачки. Со львом или тигром управиться несложно, а вот попробуй проткни носорогу шкуру с воздуха анестезирующей иглой — намучаешься.
— Ру-перт! — заорал кто-то за дверью.
— Что ты наделал! Я из-за тебя забыл про гостей. На вот, бери поднос. Эти — с вермутом, смотри не перепутай.
* * *
Перед самым заходом солнца Джордж поднялся на крышу. По многим веским причинам у него побаливала голова и захотелось улизнуть от шума и толчеи. Джин, танцующая гораздо лучше, еще наслаждалась всем этим и не пожелала уйти с ним наверх. А в Джордже спиртное подогрело нежные чувства — и, разочарованный ее отказом, он пошел втихомолку лелеять свою обиду под звездным небом.
Чтобы попасть на крышу, надо было подняться сперва эскалатором на второй этаж, потом по винтовой лесенке, огибающей трубу кондиционера. Лесенка выводила через люк на просторную плоскую крышу. В одном ее конце стоял флайер Руперта, посередине разбит был сад, уже заметно запущенный, а с другого конца, с открытой площадки, где стояли шезлонги, видно было далеко окрест. Джордж плюхнулся в шезлонг и величественно осмотрелся. Он чувствовал себя поистине владыкой всего окружающего.
Да, что и говорить, зрелище великолепное. Дом Руперта построен на краю громадной котловины, пологий склон спускается на восток, где, за пять километров отсюда, лежат болота и озера. А на западе все ровно, плоско, и джунгли подступают чуть ли не вплотную к заднему крыльцу. Но за джунглями, пожалуй не меньше чем в полусотне километров, на север и на юг, сколько хватает глаз, стеной высится горная цепь. Кое-где на вершинах сверкает снег, над вершинами пламенеют облака, через считанные минуты солнце, закончит свой дневной путь.
При виде этих далеких грозных бастионов Джордж разом протрезвел.
Звезды, что высыпали с какой-то прямо неприличной поспешностью, едва зашло солнце, оказались совсем незнакомыми. Джордж поискал глазами Южный Крест, но не нашел. Он мало смыслил в астрономии, узнавал лишь немногие созвездия, но без старых друзей стало неуютно и не по себе. Тревожно и от звуков, доносящихся из джунглей, уж чересчур они близко. «Хватит с меня свежего воздуха, — подумал Джордж. — Пойду-ка в гостиную, покуда вампир или еще какая-нибудь дрянь не прилетела отведать моей кровушки».
Он шагнул к лестнице, и тут из люка появился еще один гость. Уже слишком темно, не разглядеть, кто это.
— А, привет! Тоже захотели отдохнуть от кутерьмы? — окликнул Джордж.
Тот, неразличимый в темноте, засмеялся:
— Руперт показывает свои фильмы. Я их все уже видел.
— Возьмите сигарету, — предложил Джордж.
— Спасибо.
Джордж, большой любитель старинных игрушек, щелкнул зажигалкой — и при свете ее огонька узнал пришедшего: этого поразительно красивого нефа ему назвали, но он тут же забыл имя, вместе с именами еще двух десятков гостей, которых сегодня увидел у Руперта впервые. Но в этом лице есть что-то знакомое… и вдруг Джорджа осенило:
— Мы как будто незнакомы, но вы ведь новый шурин Руперта?
— Правильно. Меня зовут Ян Родрикс. Все говорят, что мы с Майей очень похожи.
С благоприобретенным родичем Яна не поздравишь, можно скорее посочувствовать, подумал Джордж, но смолчал. Бедняга и сам разберется; а впрочем, мало ли — вдруг Руперт, наконец, остепенится.
— А я Джордж Грегсон. Вы еще не бывали на знаменитых Рупертовых сборищах?
— Нет, сегодня первый раз. Масса новых лиц.
— И не только человеческих, — заметил Джордж. — Я никогда еще не встречался вот так на вечеринке со Сверхправителями.
Собеседник чуть помедлил, и Джордж подумал — уж не задел ли ненароком какое-то больное место. Но в ответе Яна ничего такого не просквозило.
— Я тоже их не видал — кроме как по телевизору, конечно.
Разговор иссяк, немного погодя Джордж сообразил: Яну хочется побыть одному. Да и прохладно уже. Он простился и пошел вниз, к остальным.
В джунглях все стихло; Ян прислонился к округлой стенке воздуховода, теперь он только и слышал приглушенное дыхание дома, неустанную работу его механических легких. Одиночество, полное одиночество — этого Яну и хотелось. Но и горечь разочарования, — а вот этого он совсем не жаждал.
8
Нет такого царства Утопии, где довольны и счастливы были бы все и всегда. Чем благополучнее условия жизни, тем выше становятся духовные запросы, и тебе уже мало всего, чем обладаешь и что можешь, хотя прежде о таком не смел бы и мечтать. Пусть окружающий мир дал все, что только мог, — не находят покоя пытливая мысль и тоскующее сердце.
Ян Родрикс — хотя он вовсе не считал, что ему повезло, — был бы еще меньше доволен жизнью, родись он веком раньше. Сто лет назад цвет его кожи стал бы для него тяжкой, пожалуй, просто безнадежной помехой. Теперь это не имело значения. Неизбежная реакция, которая в начале XXI века породила у негров некоторое чувство собственного превосходства, миновала. Обиходное словечко «черный» уже не было под запретом в приличном обществе, но никого не смущало. В нем заключалось теперь не больше обидного, чем в ярлычках вроде «республиканец» или «методист», «консерватор» или «либерал».
Отец Яна, обаятельный, но беспечный шотландец, приобрел известность как профессиональный фокусник. Его раннюю смерть — в возрасте всего сорока пяти лет — ускорило злоупотребление напитком, которым больше других своих плодов прославилась его родина. Правда, Ян никогда не видел отца пьяным, но едва ли хоть раз видел его вполне трезвым.
Миссис Родрикс еще жила и здравствовала вовсю и даже читала в Эдинбургском университете лекции по усовершенствованной теории вероятности. Вполне в духе XXI века, столь чуждого оседлости, миссис Родрикс, чья кожа была черна как уголь, родилась в Шотландии, а ее светловолосый белокожий супруг рано покинул родину и почти всю жизнь провел на Гаити. У Майи и Яна никогда не было постоянного крова, они вечно сновали между семействами отца и матери, точно два маленьких челнока. Занятный образ жизни, но он отнюдь не помогал излечить неуравновешенность, которую оба унаследовали от папаши.
Яну минуло двадцать семь, и предстояло еще несколько лет учения, прежде чем надо будет всерьез подумать о выборе профессии. Он без труда получил степень бакалавра, пройдя программу, которая столетием раньше показалась бы престранной. Занимался он в основном математикой и физикой, а дополнительно философией и музыкой. Даже по высоким меркам своего времени он стал первоклассным пианистом-любителем.
Через три года он защитит диссертацию и станет доктором физических наук, вторая его специальность — астрономия. Поработать придется изрядно, но работа его не пугает. Притом он — студент Кейптаунского университета, что приютился у подножия Столовой горы, — больше нигде во всем мире не получишь высшее образование в уголке такой красоты.
Нет у него и забот материальных, и однако он недоволен жизнью и не находит покоя. И ко всему, хоть он ничуть не завидует сестре, от счастья Майи еще ясней стало, в чем беда его, Яна.
Ибо его все еще мучит романтическая иллюзия, что породила столько страданий и столько поэзии, — будто каждому человеку дается в жизни только одна истинная любовь. В необычно позднем возрасте он впервые влюбился без памяти в особу, куда больше известную красотой, нежели постоянством. Розита Цзен гордилась — и не без оснований, — что в жилах ее течет кровь маньчжурских императоров. У нее и сейчас немало подданных, в том числе профессора и преподаватели Кейптаунского университета чуть ли не в полном составе. Утонченная красота этого нежного цветка давно пленила Яна, отношения зашли достаточно далеко — тем острей боль оттого, что все оборвалось. А почему оборвалось — не понять…
Ну, конечно, он это одолеет. Переживали же другие такой вот крах — и раны затягивались, и потом человек даже способен был сказать: «Право, не мог же я любить эту женщину по-настоящему!» Но до такой отрешенности еще очень и очень далеко, а сейчас Ян в жестоком разладе с жизнью.
Другая его обида еще глубже и неизлечимей, ибо Сверхправители разрушили его честолюбивые мечты. Ян — романтик не только сердцем, но и умом. Подобно многим молодым ученым, с тех пор как покорен был воздух, он мечтами и воображением носился по неизведанному океану космоса.
Столетие назад человек поднялся на первую ступеньку лестницы, ведущей к звездам. И в тот же миг — неужели простое совпадение? — дверь, открывающую выход к планетам, захлопнули у него перед носом. Сверхправители почти не налагали запретов на какие-либо виды человеческой деятельности (пожалуй, важнейшее исключение — война), но исследованиям в области межпланетных полетов пришел конец. Слишком огромным оказалось научное превосходство Сверхправителей. У человечества — по крайней мере на время — опустились руки, и оно занялось другими делами. Что толку строить ракеты, когда у Сверхправителей есть двигатели несравнимо более совершенные, а в чем тут секрет — они не обмолвились ни словом.
Несколько сотен человек побывали на Луне и построили там обсерваторию, переправлялись они пассажирами на кораблике Сверхправителей, и кораблик был ракетный. Никаких сомнений — сколько ни изучай такое примитивное суденышко, мало что узнаешь, хотя Сверхправители и предоставили его в полное распоряжение любознательных земных ученых.
Итак, человек — все еще пленник своей планеты. И планета его теперь гораздо лучше, но и гораздо меньше, чем была сто лет назад. Уничтожив на ней войну, голод, болезни, Сверхправители заодно уничтожили отвагу и приключения.
Всходила луна, небо на востоке понемногу наливалось слабым молочно-белым сиянием. Ян знал — главная база Сверхправителей находится в бастионе кратера Плутон. Должно быть, грузовые корабли садились на Луне и взлетали с нее уже лет семьдесят с лишком, но только на памяти Яна Сверхправители перестали это скрывать, и теперь старт хорошо виден с Земли. В двухсотдюймовый телескоп нетрудно различить тени исполинских кораблей, под лучами восходящего или заходящего солнца они на мили протягиваются по лунным равнинам. Каждый шаг Сверхправителей вызывает у людей огромный интерес, а потому за прибытием и отправлением их кораблей тщательно наблюдают, и постепенно проясняется какой-то порядок, хотя чем он обусловлен, остается непонятно. Одна из этих исполинских теней исчезла несколько часов назад. Ян знает, это значит, что сейчас где-то по ту сторону Луны корабль Сверхправителей привычным, но загадочным для людей образом готовится в путь к своей далекой, неведомой родине.
Ян еще ни разу не видел, как уходит к звездам такой корабль. При ясном небе это видно на полмира, но Яну всегда не везло. Ведь не предугадаешь в точности, когда взлет, а Сверхправители об этом не сообщают. Ян решил подождать еще десять минут, потом он вернется в гостиную.
А это что? Всего лишь метеор скользнул по созвездию Эридана. Ян перевел дух, заметил, что сигарета погасла, закурил другую.
Он наполовину выкурил ее, и тогда-то в полумиллионе километров от него взлетел межзвездный корабль. Среди ширящегося бледного зарева восходящей луны вспыхнула крохотная искорка и стала подниматься в зенит. Сперва медленно, еле заметно, но с каждым мигом быстрей. Чем выше она поднималась, тем ярче сверкала — и вдруг померкла, скрылась из глаз. А через мгновение возникла вновь — еще ярче, еще стремительней. Так, то вспыхивая, то угасая в причудливом ритме, все ускоряя бег, она вздымалась в небо и оставляла среди звезд светящийся прерывистый след. Даже если не знать, как она далеко, дух захватит от такой скорости, но когда знаешь, что уносящийся прочь корабль — где-то там, за Луной, голова идет кругом при мысли об этой невообразимой мощи и энергии.
Ян знал, сейчас он видит всего лишь незначительный побочный продукт этой мощи. Сам корабль невидим, он далеко опередил устремленную ввысь световую черту. Корабль Сверхправителей оставляет за собой этот светящийся след, как остается в стратосфере струя пара позади реактивного самолета. Общепринятая теория — судя по всему, справедливая — утверждает, что громадные ускорения звездолетов местами искажают пространство. И Ян знал: то, что он сейчас видит, — ни много ни мало свет далеких звезд, собранный в пучок там, где проносящийся корабль создал для этого благоприятные условия. Вот оно, наглядное доказательство теории относительности — изгиб светового луча вблизи мощною ноля тяготения.
Теперь кончик этой огромной, заостренной, точно карандаш, линзы словно бы движется медленней, но лишь потому, что изменилась перспектива. На самом деле корабль все еще набирает скорость; просто его след, устремленный вовне Солнечной системы, к звездам, укорочен углом зрения. Ян знал: сейчас на эту светящуюся черту направлено множество телескопов — ученые Земли силятся раскрыть тайну межзвездных полетов. Тайне этой уже посвящены десятки научных трудов; несомненно, Сверхправители читают их с величайшим интересом.
Призрачный свет понемногу бледнеет. Теперь это всего лишь тонкая ниточка, она тянется к сердцу созвездия Карина, — это Ян предвидел. Всем известно, что родная планета Сверхправителей где-то в той стороне, но — которая, возле какого из тысячи светил, что находятся в этом секторе Пространства? И невозможно определить, как далека она от Солнечной системы.
Кончено. Хотя путь корабля еще только начат, человеческий глаз больше ничего не улавливает. Но в мыслях и в памяти Яна еще горит его след — и этот маяк не погаснет, пока сам он способен к чему-то стремиться.
Прием закончился. За немногими исключениями гости уже уносились по воздуху на все четыре стороны света. Но кое-кто остался.
Не улетел поэт Норман Додсворт, давно уже до безобразия пьяный, — у него хватило ума свалиться без памяти, прежде чем пришлось бы применить к нему силу. Его не слишком бережно вытащили на лужайку в надежде, что какая-нибудь гиена без церемоний его разбудит. Итак, он не в счет.
Остались Джордж и Джин, Отнюдь не по воле Джорджа — он хотел вернуться домой. Ему совсем не нравилась дружба между Джин и Рупертом, и не просто из обыкновенной ревности. Джордж гордился тем, что он человек здравомыслящий и уравновешенный, и общее увлечение Джин и Руперта теперь, в век науки, на его взгляд, было не просто ребячеством, но какой-то болезненной манией. Непостижимо, как кто-то все еще может хоть на волос верить в сверхъестественное, и уважение Джорджа к Сверхправителям изрядно пошатнулось оттого, что остался и Рашаверак.
Теперь ясно, Руперт хочет поразить оставшихся какой-то новой затеей, возможно, — в заговоре с Джин. Джордж угрюмо покорился — ладно, он стерпит какие угодно их дурацкие выходки.
— Чего я только не перепробовал, пока остановился вот на этом, — гордо заявил Руперт. — Самое главное — свести на нет трение, движению ничто не должно мешать. Старомодный полированный стол и вертящееся блюдце тоже недурны, но ими пользовались много веков, при современном уровне науки можно придумать что-нибудь получше. Ну и вот, сейчас увидите. Придвигайте стулья, подсаживайтесь… Раши, вы и правда не хотите присоединиться?
Долю секунды Сверхправитель, казалось, колебался. Потом покачал головой. (Уж не на Земле ли они этому выучились? — подумал Джордж.)
— Нет, спасибо, — сказал он, — Предпочитаю смотреть со стороны. Может быть, как-нибудь в другой раз.
— Ну что ж… если передумаете, времени у нас вдоволь.
«Ой ли?» — усомнился про себя Джордж, мрачно глянув на часы.
Руперт подвел друзей к маленькому, но массивному, безупречно круглому столу. Снял гладкую пластмассовую крышку, под ней оказалось блестящее озерцо тесно уложенных металлических шариков. Скатиться им не давал чуть приподнятый бортик, Джордж понять не мог, для чего они. Свет отражался в них сотнями слепящих точек, этот яркий узор притягивал, завораживал, у Джорджа слегка закружилась голова.
Все уселись вокруг стола, откуда-то снизу Ру перт достал диск сантиметров десяти в поперечнике и положил на блестящие шарики.
— Ну вот, — сказал он, — Довольно тронуть диск пальцем, и он движется без малейшего трения.
Джордж подозрительно оглядел всю эту механику. По окружности стола на равных расстояниях одна от другой, но не по порядку, нанесены буквы алфавита. Между ними, уж совсем безо всякого порядка, разбросаны цифры от единицы до девяти и с двух сторон, точно друг против друга, начерчены две карточки со словами «да» и «нет».
— По-моему, все это просто шаманство, — пробормотал Джордж. — Только диву даешься, как в наше время кто-то может принимать такое всерьез.
Этим не слишком бурным протестом он метил в Джин не меньше, чем в Руперта, и немного отвел душу. Впрочем, Руперт не скрывает, что все сверхъестественное занимает его лишь отвлеченно, с научной точки зрения. Он человек непредубежденный, но не легковерный. А вот Джин… она порой Джорджа беспокоит. Похоже, она и впрямь воображает, будто в ясновидении, телепатии и прочей чепухе что-то кроется.
Только уже съязвив насчет шаманства, Джордж сообразил, что его слова относятся и к Рашавераку. Он беспокойно оглянулся, но Сверхправитель ничем не показал, что уязвлен. Разумеется, это ровно ничего не доказывало.
Итак, они разместились вокруг стола. За Рупертом по часовой стрелке сидели Майя, Ян, Джин, Джордж и Бенни Шенбергер. Вне этого круга, с блокнотом в руках, села Рут Шенбергер. Она, видно, почему-то сочла для себя непозволительным участвовать в этой затее, и муж туманно сострил, что иные люди все еще свято чтут Талмуд. Однако она охотно вызвалась вести запись.
— Значит, так, — начал Руперт. — Ради скептиков вроде Джорджа вношу ясность. Есть ли тут что-то сверхъестественное, нет ли, но эта штука действует. Лично я думаю, что причины тут чисто механические. Мы касаемся диска — и пусть даже искренне не хотим как-либо повлиять на его движение, но в игру вступает наше подсознание. Я продумал множество таких сеансов — и ни разу не обнаружил ответов, которые кто-либо из участников не мог знать или угадать, хотя сами они иногда об этом не подозревали. Однако мне хочется провести сегодня опыт при несколько э-э… особых обстоятельствах.
Особое обстоятельство сидело и смотрело на всех молча, но, без сомнения, неравнодушно. «Что-то Рашаверак на самом деле думает об этих фокусах?» — спросил себя Джордж. Может быть, он сейчас — вроде антрополога, который наблюдает религиозные обряды дикарей? Право, все это выглядит просто невероятно, никогда в жизни он, Джордж, не чувствовал себя таким дураком.
Если и другие чувствуют себя так же глупо, по ним этого не видно. Одна Джин раскраснелась и явно взвинчена, но, может быть, это от выпитых коктейлей.
— Можно начинать? — спросил Руперт. — Отлично. — Он внушительно помедлил, потом, ни к кому не обращаясь, окликнул: — Есть тут кто-нибудь?
Плоский кружок под пальцами Джорджа чуть дрогнул. Ничего удивительного, ведь на него давят руки шестерых за столом. Кружок скользнул в сторону маленькой цифры восемь и опять вернулся на середину.
— Есть тут кто-нибудь? — повторил Руперт. И прибавил более обычным тоном: — Часто до начала проходит минут десять — пятнадцать, но иногда…
— Тс-с! — выдохнула Джин.
Диск двигался. Он описывал широкую дугу между карточками «да» и «нет». Джордж с трудом подавил смешок. Допустим, ответ будет «нет» — что это докажет? Вспомнился старый анекдот про негра, залезшего в курятник: «Тут никого нет, хозяин, одни мы, куры»…
Но ответ оказался «да». И тотчас диск вернулся на середину стола. Теперь он будто ожил и ждет нового вопроса. Джордж невольно стал внимательнее.
— Кто вы? — спросил Руперт.
На сей раз ответ последовал без запинки.
Диск носился по столу от буквы к букве, как разумное существо, да так быстро, что порой едва не ускользал у Джорджа из-под пальцев. И Джордж готов был поклясться, что никак не помогает этим движениям. Он быстро оглядел друзей — ни в одном лице ничего подозрительного. Похоже, все так же напряженно, жадно чего-то ждут, как и он сам.
ЯЭТОВСЕ, — вывел диск и опять успокоился посреди стола.
— Я — это все, — повторил Руперт. — Характерный ответ. Уклончиво, но поощряет к дальнейшему. Вероятно, это значит, что здесь только и присутствует совокупность наших сознаний.
Руперт минуту помолчал, видимо, обдумывая следующий вопрос. Потом снова обратился в пространство:
— Вы должны передать весть кому-то из нас?
— Нет, — сейчас же ответил диск.
Руперт обвел взглядом сидящих вокруг стола.
— Дело за нами; иногда он сам что-нибудь сообщает, но сейчас нам надо задавать какие-то прямые вопросы. Кто хочет начать?
— Будет завтра дождь? — с усмешкой спросил Джордж.
Диск забегал взад-вперед между «да» и «нет».
— Глупый вопрос, — упрекнул Руперт. — Понятно же, что где-то пройдут дожди, а в других местах будет ясная погода. Не задавайте вопросов, которые требуют неоднозначных ответов.
Джордж сник: попало — и поделом. Пускай попробует кто-нибудь другой.
— Какой мой любимый цвет? — спросила Майя.
— Голубой, — был мгновенный ответ.
— Правильно.
— Это ничего не доказывает, — заметил Джордж. — По крайней мере троим из нас это известно.
— Какой любимый цвет Рут? — спросил Бенни.
— Красный.
— Правильно, Рут?
Добровольная секретарша подняла голову от блокнота.
— Да. Но это знает Бенни, а он с вами за столом.
— Ничего я не знал, — возразил Бенни.
— Еще как должен знать, я тебе сто раз говорила.
— Подсознательная память, — пробормотал Руперт. — Так бывает часто. Но, может быть, кто-нибудь задаст вопрос поумнее, а? Началось так хорошо, не хотел бы я, чтобы вечер прошел впустую.
Странно, как раз оттого, что все это ничуть не походило на серьезный научный опыт, Джордж призадумался. Конечно же, объясняется это никакими не сверхъестественными причинами; как сказал Руперт, диск просто отзывается на бессознательные движения их же мышц. Но уже и это удивительно и заставляет задуматься: никогда бы не поверил, что можно получить такие мгновенные и точные ответы! И он попытался сам повлиять на диск — пусть напишет его имя. Он добился заглавного «Д» — но и только, дальше пошла бессмыслица. Нет, совершенно ясно, что один человек не может управлять диском — остальные в круге это сразу поймут.
За полчаса Рут записала больше дюжины ответов, иные оказались довольно длинными. Попадались грамматические ошибки и причудливые обороты, но очень редко. Чем бы все это ни объяснялось, Джордж убедился: сознательно он в ответах диска никак не участвует. Несколько раз, увидав начало слова, он, казалось, угадывал следующую букву и тем самым смысл ответа. И всякий раз диск переносился в совершенно неожиданном направлении и писал что-то совсем другое. Порой даже весь ответ выглядел невнятицей — ведь слова не разделялись промежутками, конец одного сливался с началом другого, и только когда Рут перечитывала все заново, прояснялся смысл.
От всего этого у Джорджа возникло жутковатое чувство, словно он столкнулся с неким чужим, властным разумом. И все же он не видел решающего, окончательного доказательства ни за, ни против. Ответы так обыденны, так двусмысленны. Как, например, прикажете понимать следующее:
ВЕРЬТЕВЧЕЛОВЕКАПРИРОДАСВАМИ.
Но порой угадывалась какая-то глубокая, даже пугающая правда:
ПОМНИТЕЧЕЛОВЕКНЕОДИНРЯДОМСЧЕЛОВЕКОМОБИТАЮТДРУГИЕ.
Впрочем, это же всем известно… Хотя, почем знать, может быть, тут подразумеваются не только Сверхправители?
Джорджа теперь отчаянно клонило ко сну. Давно уже пора по домам, сонно подумал он. Все это очень любопытно, но ничего определенного не достигли, и вообще, хорошенького понемножку. Он быстро оглядел всех за столом. Бенни, видно, тоже сыт по горло и хочет спать, Майя и Руперт сидят как в тумане, а Джин… да Джин с самого начала отнеслась к этой истории чересчур серьезно. Даже не по себе становится, такое у нее лицо: будто ей и покончить с этим страшно — и страшно, что будет дальше.
Остается один Ян. Любопытно, как-то он относится к причудам шурина, подумалось Джорджу. Молодой инженер еще не задал ни одного вопроса, ничем не показал, что удивлен хоть одним ответом. Похоже, он изучает движения диска так, словно наблюдает заурядный научный опыт.
Руперт очнулся от оцепенения.
— Давайте еще один вопрос, и на этом кончим, — сказал он. — Ну-ка, Ян? Ты еще ничего не спрашивал.
Странно, Ян ни секунды не колебался. Казалось, он давно уже обдумал вопрос и только ждал удобного случая. Мельком глянул на бесстрастного, неподвижного Рашаверака и спросил звонко, отчетливо:
— Возле какой звезды находится планета Сверхправителей?
Руперт чуть не свистнул от изумления. Бенни и Майя остались безучастны. Джин сидит с закрытыми глазами, похоже, уснула. Рашаверак наклонился, поверх Рупертова плеча заглядывает в круг.
И диск тронулся.
Когда он опять замер на месте, настало короткое молчание. Потом Рут спросила озадаченно:
— НГС 549672 — что же это значит?
Ей не ответили, помешал тревожный возглас Джорджа:
— Помогите мне кто-нибудь. Джин, кажется, в обмороке.
9
— Расскажи мне подробнее про этого Бойса, — сказал Кареллен.
Понятно, Сверхправитель не изъяснялся именно этими словами, и мысли, им высказанные, были гораздо тоньше. Человеческое ухо уловило бы короткий взрыв вибрирующих звуков, что-то вроде стремительной морзянки. У людей накопилось уже немало записей такой речи, но расшифровать язык Сверхправителей никто еще не сумел, он был безмерно сложен, да еще эта невероятная быстрота, при которой ни один переводчик, даже овладей он основами языка, не в силах был бы уследить за обычным разговором Сверхправителей.
Попечитель Земли стоял спиной к Рашавераку и пристально смотрел на многоцветную пропасть Большого каньона. В десяти километрах отсюда, но почти не затуманенные далью, уступчатые склоны сейчас так и горели в солнечных лучах. Далеко-далеко внизу под тем местом, где над краем затененного откоса стоял Кареллен, тащился по извилистой дороге караван мулов. Странно, думал Кареллен, очень многие люди при каждом удобном случае все еще ведут себя как дикари. Стоит только пожелать, и они могли бы спуститься на дно ущелья несравненно быстрей и с куда большим удобством. Но нет, они предпочитают трястись по ухабистой дороге, наверняка ненадежной не только с виду.
Неуловимое движение руки — и великолепная картина померкла, только еще мгновение взгляду Кареллена чудилась бесконечная глубь. И снова его теснит действительность, привычный кабинет, обязанности Попечителя.
— Руперт Бойс — личность своеобразная, — отвечал ему Рашаверак. — По профессии он смотритель значительной части Африканского заповедника, заботится о здоровье зверей. Дело свое знает и любит. Поскольку ему надо держать под наблюдением несколько тысяч квадратных километров, он получил один из тех пятнадцати панорамных обзорников, что мы пока передали людям, — разумеется, как всегда, с ограничителями. Его экземпляр, кстати, единственный с передатчиком объемного изображения. Он вполне убедительно доказал, что это ему необходимо, и мы согласились.
— Какие у него доводы?
— Он сказал, что хочет показываться диким зверям, чтобы привыкали к его виду и не набросились, когда он сам к ним явится. Эта теория вполне оправдалась — со зверями, у которых важнее не нюх, а зрение… хотя в конце концов его, вероятно, растерзают. Ну и, понятно, мы предоставили ему аппарат еще по одной причине.
— Он стал сговорчивей?
— Вот именно. Сперва я обратился к нему потому, что у него едва ли не лучшее в мире собрание книг по парапсихологии и смежным вопросам. Он вежливо, но решительно отказался выпускать их из рук, пришлось читать у него дома. Я уже перечитал примерно половину его библиотеки. Довольно тяжкое испытание.
— Могу себе представить, — сухо сказал Кареллен. — Нашлось среди этого хлама что-нибудь стоящее?
— Да. Одиннадцать бесспорных случаев частичного прорыва и двадцать семь вполне вероятных. Но материал отобран односторонне, так что выводов на нем не построишь. И все свидетельства безнадежно запутаны мистикой — вот, пожалуй, главная болезнь человеческого разума.
— А как сам Бойс ко всему этому относится?
— Выдает себя за человека непредубежденного и настроенного скептически, но ясно, что он не тратил бы на это столько времени и сил, если бы подсознательно в это не верил. Я так ему и сказал, и он признался, что я, пожалуй, прав. Ему хотелось бы найти какое-то веское доказательство. Потому он и ставит без конца свои опыты, хотя притворяется, будто это просто забава.
— Ты уверен, он не подозревает, что ты интересуешься всем этим не из чистого любопытства?
— Вполне уверен. В некоторых отношениях Бойс на редкость туп и ограничен. Так что его попытки исследовать именно эту область довольно жалки. К нему незачем применять какие-то особые меры.
— Понимаю. А девушка, которая упала в обморок?
— Вот это самое интересное. Почти наверняка сообщение пришло именно через Джин Моррел. Но ей двадцать шесть лет — судя по всему нашему прежнему опыту, слишком много, не может она сама стать первым звеном. Значит, тут есть кто-то, с нею тесно связанный. Вывод ясен. Нам осталось ждать всего несколько лет. Надо внести ее в Пурпурный разряд: возможно, она сейчас — самый значительный человек на Земле.
— Так и сделаю. А тот молодой человек, который задал вопрос? Наобум спросил, просто из любопытства, или у него была какая-то задняя мысль?
— Он попал туда случайно — его сестра только что вышла замуж за Руперта Бойса. Ни с кем из других гостей он прежде не встречался. Я уверен, вопрос не обдуман заранее, а вызван необычной обстановкой, да еще моим присутствием. При этих условиях неудивительно, что он задал такой вопрос. Его больше всего привлекает астронавтика, он — секретарь научной группы в Кейптаунском университете и явно намерен посвятить свою жизнь теории космических полетов.
— Любопытно, чего он достигнет. По-твоему, как он сейчас станет поступать и надо ли нам принять какие-то меры?
— Несомненно, при первой возможности он постарается хоть что-то проверить. Но у него нет способа доказать, что его сведения точны, и получены они столь необычным путем, что едва ли он предаст их гласности. А если они и станут известны, разве это хоть чему-то помешает?
— Надо будет взвесить обе возможности. Правда, нам не разрешено обнаруживать нашу базу, но люди никак не могут использовать эти сведения против нас.
— Согласен. Получится, что у Родрикса есть какие-то сведения, не слишком достоверные и практически бесполезные.
— Похоже на то, — сказал Кареллен, — Но полной уверенности нет. Люди на удивление изобретательны и зачастую крайне упорны. Недооценивать их опасно, и в дальнейшем за мистером Родриксом стоит последить. Я это еще обдумаю.
* * *
Руперт Бойс так и не понял, что же, в конце концов, произошло. Когда гости разошлись — менее шумно и оживленно, чем всегда, — он задумчиво откатил столик на место, в угол. Винные пары мешали серьезно вникнуть в случившееся, да и сами события уже немного расплылись в памяти. Смутно представлялось, будто произошло что-то важное, хотя и непонятное, — может быть, потолковать с Рашавераком? Нет, пожалуй, это будет бестактно. В конце концов, неловкость вышла из-за новоявленного зятя… Руперта даже взяла досада на Яна. Но разве так получилось по вине этого юнца? Или еще по чьей-то вине? Руперт виновато подумал, что ведь опыт затеял он сам. Он тут же решил забыть эту историю — и вполне в этом преуспел.
Пожалуй, Руперт все-таки что-то предпринял бы, найдись последний листок из блокнота Рут — но в суматохе он пропал. Ян делал вид, что он ни при чем, ну, а Рашаверака в пропаже не упрекнешь… И никто не помнил точно, что же там было написано, только и помнили — какая-то бессмыслица…
* * *
Больше всех случай этот повлиял на судьбу Джорджа Грегсона. Навсегда запомнил он ужас, испытанный в минуту, когда Джин рухнула ему на руки. От внезапной беспомощности она вдруг преобразилась, это уже не просто забавная спутница, его мгновенно захлестнула любовь и нежность. Женщины падали в обморок с незапамятных времен (и не всегда нечаянно) — и мужчины неизменно отзывались на это как надо. Джин лишилась чувств отнюдь не умышленно, но при самом тонком расчете нельзя было бы подгадать удачнее. После Джордж понял, что именно в эту минуту решился едва ли не на самый важный шаг в своей жизни. Пускай у Джин странные причуды, а приятели и того чуднее, ему нужна только она. Не обязательно совсем отказываться от Наоми, от Джой, Эльзы или — как бишь ее? — от Дениз, но пора завести отношения более прочные. Джин наверняка согласится, она своих чувств никогда не скрывала.
Он сам не подозревал, что его заставила решиться еще одна причина. После нынешнего опыта странное увлечение чудачки Джин уже не вызывает такого насмешливого презрения. Джордж в этом никогда не признается, но так уж оно вышло — и это разбило последнюю разделявшую их преграду.
Он смотрел па Джин — бледная, но спокойная, она откинулась на низко опущенную спинку кресла. Под флайером тьма, над головой — звезды. Джордж понятия не имел, где они сейчас, определился бы разве что с точностью до тысячи километров, но не все ли равно. Это уж дело автопилота, он доставит их домой и совершит посадку — об этом сообщили приборы — ровно через пятьдесят семь минут.
Джин улыбнулась ему в ответ и мягко высвободила руку, которую он сжимал в своих.
— Совсем онемели, — пожаловалась она и стала растирать пальцы. — Я уже вполне хорошо себя чувствую, можешь мне поверить.
— А все-таки, по-твоему, что случилось? Неужели ты совсем ничего не помнишь?
— Ничего… какой-то провал. Я слышала, Ян задал вопрос, и сразу вы все вокруг меня суетитесь. Наверно, впала в какой-то транс. В конце концов…
Она помедлила — и решила, не стоит говорить Джорджу, что с ней и раньше так бывало. Он ничего такого не любит, пожалуй, расстроишь его еще сильней, а то и вовсе отпугнешь.
— Что «в конце концов»? — спросил Джордж.
— Да так, ничего. Интересно, что об этом сеансе подумал Сверхправитель. Наверно, он и не ждал, что столько всего услышит.
Джин вздрогнула, оживленный взгляд затуманился.
— Боюсь я Сверхправителей, Джордж. Не оттого, что они несут зло, никаких таких глупостей я не воображаю. Конечно же, у них добрые намерения, и они все делают, как считают лучше для нас. А только чего им на самом деле надо?
Джордж неуверенно пожал плечами.
— Люди об этом гадают с первого дня, — сказал он, — Когда мы будем готовы знать, Сверхправители нам сами скажут — по совести говоря, меня любопытство не разбирает. И у меня сейчас, знаешь ли, другое на уме. — Он наклонился к Джин, стиснул ее руки. — Слушай, слетаем-ка завтра в Архив и заключим брачный договор… ну, скажем, на пять лет, а?
Джин посмотрела на него в упор — да, то, что написано у него на лице, очень приятно.
— Давай на десять, — сказала она.
* * *
Ян не торопился. Спешки никакой нет, надо основательно подумать. Он чуть ли не побаивался начать проверку — вдруг возникшая у него фантастическая надежда сразу рухнет. Пока ничего определенного нет, можно хотя бы мечтать.
Да и нельзя ничего предпринять, пока не повидал библиотекаря Обсерватории. Эта женщина его знает, знает, что он изучает и чем увлекается, и наверняка сочтет его просьбу странной. Может, это и не страшно, но лучше не рисковать. Выждем неделю, тогда представится более удобный случай. Да, он уж очень осторожничает, но от этого вся затея захватывает еще сильней, прямо как мальчишку. Притом самое страшное — оказаться смешным, страшней, чем любые помехи и кары Сверхправителей. Нет, если его затея дурацкая, про нее никто никогда не узнает.
Для поездки в Лондон у него вполне уважительная причина, об этом договорено с месяц назад. Правда, для делегата он еще слишком молод и неопытен, но он — один из трех студентов, которым удалось пристроиться к делегации на съезд Международного астрономического общества. Могли поехать трое — не упускать же такой случай, да и в Лондоне он не был с детства. Ян знал, на этом съезде очень немногие из десятков докладов будут ему сколько-нибудь интересны, даже если он и сумеет их понять. Как всякий делегат любого ученого конгресса, он станет слушать только то, что может ему пригодиться, а остальное время потолкует с собратьями по увлечению или просто побродит по городу.
За последние пятьдесят лет Лондон изменился до неузнаваемости. Теперь в нем не наберется и двух миллионов жителей — и в сто раз больше машин.
Он перестал быть важным портом — теперь каждая страна производит почти все необходимое, и самая система международной торговли стала иная. В некоторых странах еще делают какие-то вещи лучше, чем в других, но переправляют их по воздуху. Торговые пути, которые некогда вели от одной громадной гавани к другой, а позже от аэропорта к аэропорту, под конец превратились в хитроумную тонкую сеть, она охватила весь мир, но нет в ней каких-то особо важных узлов.
Однако переменилось не все. Лондон по-прежнему административный центр, средоточие искусства и науки. В этих областях с ним не может соперничать ни одна столица континента — даже Париж, как он ни силится доказать обратное. Лондонский житель, попади он сюда из прошлого века, и сейчас бы не заблудился, по крайней мере в центре. Через Темзу перекинуты несколько новых мостов — но на прежних местах. Не видно громадных прокопченных вокзалов железной дороги — их выдворили за город. Но здание парламента такое же, как было; Нельсон все так же свысока взирает единственным глазом на Уайт-холл; и купол собора Св. Павла все еще высится на Ладгейтском холме, хотя с ним теперь могут потягаться и здания повыше. И как прежде маршируют гвардейцы перед Букингемским дворцом.
Все это подождет, думал Ян. Была пора каникул, и он с двумя своими товарищами-студентами остановился в одном из университетских общежитий. Район Блумсбери за последнее столетие тоже не переменился: здесь и теперь полно гостиниц и меблированных комнат, хотя они уже не стоят впритык друг к другу и не тянутся, как прежде, нескончаемыми однообразными вереницами покрытых копотью кирпичных стен.
Только на второй день съезда Яну выпал желанный случай. Основные доклады читались в огромном зале заседаний Научного центра, неподалеку от Концертного зала, который больше всего помог Лондону стать музыкальной столицей мира. Ян хотел послушать первый из сегодняшних докладов — говорили, что докладчик камня на камне не оставит от общепринятой теории образования планет.
Быть может, он в этом и преуспел, но когда Ян после доклада ушел, познаний у него не прибавилось. Он поспешил в справочную узнать, как найти нужные комнаты.
Какой-то остроумец-администратор отвел Британскому астрономическому обществу верхний этаж громадного здания — члены ученого совета вполне это оценили: сверху перед ними открывался великолепный вид на Темзу и на всю северную часть города. Ян сжимал в руке членский билет Астрономического общества, точно пропуск, на случай, если его остановят, но, хоть не встретил ни души, без труда нашел библиотеку.
Почти час он потратил, пока отыскал то, что требовалось, и разобрался, как пользоваться толстенными звездными каталогами с миллионами данных. Под конец его бросило в дрожь — хорошо, что поблизости никого нет, некому заметить его волнение.
Он поставил каталог на место, к остальным, и долго сидел не шевелясь, невидящим взглядом смотрел на сплошную стену книг. Потом медленно пошел прочь, по безлюдным коридорам, мимо кабинета секретаря (теперь там были люди, деловито развязывали пачки книг) и дальше, вниз но лестнице. Лифтом спускаться не стал, избегая встреч и тесноты. Прежде он собирался послушать еще один доклад, теперь это уже не важно.
Он подошел к парапету набережной и машинально следил, как неспешно течет к морю Темза, а в мыслях по-прежнему неразбериха. Непросто примириться с таким вот внезапным открытием, если ты воспитан на общепризнанных научных истинах. Никогда не узнать наверняка, правда ли то, что открылось, но уж слишком это убедительно. Ян медленно шел по набережной и перебирал по порядку все, что ему известно.
Факт первый: никто из гостей Руперта не мог знать, что он, Ян, задаст такой вопрос. Он и сам этого не знал, слова сорвались с языка, оттого что уж очень необычны были обстоятельства. А значит, никто не мог подготовить ответ, не мог заранее об этом думать.
Факт второй: НГС 549672 — это уж наверно ничего не говорит непосвященным и смысл имеет только для астронома. Хотя Полный всеобщий атлас составлен столетие назад, о нем знают лишь несколько тысяч специалистов. И если наобум назвать какой-то номер, никто не сумеет сказать точно, где находится эта звезда.
Однако — и этот, третий, факт стал ему ясен только сейчас — маленькая, незаметная звезда, обозначенная как НГС 549672, находится как раз там, где надо. В самом сердце созвездия Карина, в конце светящегося следа, который возник перед Яном всего несколько вечеров назад и ушел от Солнечной системы в бездну космоса.
Простое совпадение невозможно. Конечно же, НГС 549672 и есть родная планета Сверхправителей. Но если так, рушатся все милые сердцу Яна понятия о научных методах исследования. Ну и пускай рушатся. Надо примириться с фактом: так или иначе, нелепый Рупертов опыт оказался ключом к неведомому доныне источнику знания.
Рашаверак? Пожалуй, вот оно, самое правдоподобное объяснение. Сверхправитель не сидел со всеми за столом, но это неважно. Да и не любопытна Яну механика сверхфизических явлений, важно одно — как воспользоваться их плодами.
Насчет звезды НГС 549672 известно очень мало, она ничем не выделяется среди миллионов других. Но в каталоге указаны ее размеры, координаты и тип спектра. Надо будет еще кое до чего доискаться — и тогда он хотя бы примерно узнает, насколько далека планета Сверхправителей от Земли.
Ян повернулся и пошел прочь от Темзы, назад, к сверкающему белому зданию Научного центра, понемногу лицо его осветилось улыбкой. Знание — сила, а он, единственный человек на Земле, знает, откуда явились Сверхправители. Сейчас не угадаешь, как воспользоваться этим знанием. Оно будет надежно храниться в памяти и ждать своего часа.
10
Человечество все еще нежилось, согретое летним безоблачным полднем мира и процветания. Неужели когда-нибудь снова придет зима? Немыслимо. Вот когда подлинно наступил век разума, который слишком рано, два с половиной столетия назад, приветствовали вожди Французской революции. На сей раз так оно и есть.
Конечно, и процветание не обходится без изъянов, но с ними охотно примирились. Только глубокие старики понимают, что телегазеты, которые каждый принимает у себя дома, в сущности, изрядно скучны. Не стало потрясений, о каких когда-то возвещали кричащие заголовки. Нет больше таинственных убийств, что ставят в тупик полицию и вызывают в миллионах сердец бурю благородного негодования, под которым зачастую прячется зависть. Если уж и случится убийство, тайны не будет: поверни некий диск — и перед глазами заново разыграется все преступление с начала до конца. Поначалу существование столь прозорливых приборов изрядно перепугало вполне законопослушных граждан. Сверхправители успели изучить очень многие, но не все завихрения человеческой психологии, и этого испуга они не предвидели. Пришлось разъяснить людям, что никто из них не сможет подглядывать и подслушивать секреты соседа, а над считанными аппаратами, переданными в человеческие руки, установлен строгий контроль. К примеру, телепередатчик Руперта Бойса работает только в пределах заповедника, и действие его касается только Руперта и Майи.
Серьезные преступления изредка бывают, но газеты мало ими занимаются. В конце концов, воспитанному человеку вовсе не хочется читать про чужие грехи.
Люди работают теперь в среднем всего часов двадцать в неделю, но уж в полную силу. Труда однообразного, чисто механического больше почти не существует. Слишком ценен человеческий разум, нелепо тратить его на то, что могут выполнить две-три тысячи транзисторов, несколько фотоэлементов да печатные схемы общим объемом в кубический метр. Иные заводы неделями работают самостоятельно, и ни одна живая душа туда не заглядывает. Дело людей — обнаружить неисправность, принять решение и составить план новых предприятий. Все остальное выполняют роботы.
Появись столько досуга в прошлом веке, перед человечеством встали бы головоломные задачи. Теперь почти все их решило образование, ведь богатому и разностороннему уму не грозит скука. Нынешний уровень культуры когда-то показался бы невероятным. Не то чтобы человек как таковой стал разумнее, но впервые каждый может развить все способности, какие дала ему природа.
Почти у каждого есть не один дом, а два, в разных концах света. Обжиты прежде недоступные приполярные области, и немало народу каждые полгода кочует из Арктики в Антарктиду и обратно, всему предпочитая долгий день полярного лета. Другие переселились в пустыни, в горы и даже на дно морское. На всей Земле нет такого места, где наука и технология не могли бы создать самое удобное жилище тому, кого уж очень туда потянет.
Иные особенно экзотические уголки дают пищу немногим волнующим сообщениям в газетах. Даже в самом упорядоченном обществе не миновать изредка несчастных случаев. Быть может, это добрый знак — что иные смельчаки готовы рискнуть, а то и погибнуть, лишь бы устроить себе уютную виллу под самой макушкой Эвереста или полюбоваться видом сквозь струи водопада Виктория. А потому каждый раз кого-нибудь откуда-нибудь вызволяют. Это стало своего рода игрой, чуть ли не спортом для всей планеты.
Всякий может потакать своим прихотям, ведь на это хватает и времени, и денег. Когда упразднены были армии, человечество разом стало почти вдвое богаче, а возросшая производительность довершила дело. И просто смешно сравнивать жизненный уровень человека XXI века с тем, как жилось кому-либо из его предков. Все необходимое стоит ничтожно мало и дается людям даром, как прежде государство предоставляло им бесплатно дороги, воду, уличное освещение и канализацию. Можно поехать куда вздумается, лакомиться самыми изысканными яствами и не платить за это ни гроша. Право на это ты заслужил, потому что и сам работаешь для общего блага.
Находятся, конечно, и трутни, но людей, у которых хватало бы силы воли на жизнь совершенно праздную, куда меньше, чем думают. А обществу несравненно легче прокормить таких паразитов, чем содержать армию контролеров на транспорте, продавцов, кассиров и всех прочих, кто только тем бы и занимался, что переписывал бы всякую всячину из одного гроссбуха в другой.
Подсчитано, что почти четверть своих сил человечество отдает разным видам спорта — от такого сидячего, как шахматы, до смертельно опасного, вроде планирующих перелетов на лыжах через горные долины. Это привело к разным непредвиденным последствиям, так, исчез профессиональный спорт: слишком много оказалось блистательных спортсменов-любителей.
После спорта важнейшей областью приложения сил стали всевозможные виды развлечений. В прошлом больше ста лет очень многие верили, что главное место на Земле — Голливуд. Теперь они могли бы утверждать это с гораздо большим основанием, но, безусловно, львиную долю фильмов 2050 года в 1950-м сочли бы чересчур мудреной и попросту не поняли. Как-никак, прогресс: не всем теперь командует касса.
Но среди несчетных забав и развлечений на планете, которая, похоже, готова превратиться в одну огромную площадку для игр, иные люди все еще опять и опять задаются извечным вопросом, на который нет ответа:
ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?
11
Ян прислонился к зверю, уперся ладонями в шершавую, точно древесная кора, кожу. Оглядел громадные бивни, круто изогнутый хобот — искусный таксидермист увековечил слона в позе то ли воинственной, то ли радостной. Любопытно, какие не менее странные существа с каких неведомых планет станут однажды разглядывать этого выходца с Земли?
— Много еще зверья ты послал Сверхправителям? — спросил он Руперта.
— По крайней мере пятьдесят штук, но этот, конечно, самый крупный. Великолепен, правда? То была в основном мелкота — бабочки, змеи, мартышки и прочее в том же роде. Хотя нет, в прошлом году я им отправил бегемота.
Ян невесело усмехнулся:
— Страшноватая мысль, но я подозреваю, что в их коллекции уже имеется живописная компания чучел homo sapiens. Интересно, кто удостоился сей чести?
— Наверно, ты прав, — преспокойно отозвался Руперт. — Это несложно устроить через больницы.
— А вдруг бы нашелся желающий на роль живого экспоната? — задумчиво продолжал Ян, — Разумеется, при условии, что потом его вернут домой.
Руперт засмеялся, но не без сочувствия.
— Ты что же, вызываешься добровольцем? Передать Рашавераку?
Минуту-другую Ян обдумывал это почти всерьез. Потом покачал головой.
— М-м… нет, не надо. Я просто думал вслух. Они наверняка мне откажут. Кстати, ты часто видишь Рашаверака?
— Он у меня был месяца полтора назад. Ему как раз попалась книга, за которой я давно охотился. Очень мило с его стороны.
Ян медленно обошел кругом чучело великана, поражаясь мастерству, с каким навсегда остановлен этот миг могучего порыва.
— Понял ты наконец, чего он ищет? — спросил Ян — Право же, это плохо сочетается — в науке Сверхправигели достигли таких высот, а интересуются сверхъестественным.
Руперт подозрительно покосился на зятя — уж не насмехается ли тот над его увлечением?
— По-моему, Рашаверак это объясняет вполне правдоподобно. Его как антрополога занимают любые стороны нашей культуры. Не забудь, им спешить незачем. Они могут вникать в любую мелочь, нашим ученым целой жизни не хватит на такие исследования. Вот Рашаверак перечитал всю мою библиотеку, и едва ли ему это стоило особого труда.
Может быть, это и есть объяснение, но Яна оно не убедило. Порой он подумывал доверить Руперту свою тайну, но мешала прирожденная осторожность. При новой встрече с другом Рашавераком Руперт, пожалуй, проболтается — чересчур велик будет соблазн.
— Между прочим, ты сильно ошибаешься, если думаешь, что это такой уж большой экспонат, — неожиданно сказал Руперт. — Посмотрел бы, над чем работает Салливен. Он взялся изготовить двух самых больших тварей — спермацетового кита и гигантского спрута. И в схватке не на жизнь, а на смерть. Вот это да!
Ян молчал. В мозгу вспыхнула дикая, невероятная мысль, нельзя же думать о таком серьезно. И однако… как раз потому, что это так дерзко, вдруг да получится…
— Что с тобой? — встревожился Руперт. — Стало дурно от жары?
Ян опомнился.
— Нет, ничего, — сказал он. — Я только хотел понять, как же Сверхправители подберут такую игрушку.
— Ну, просто какой-нибудь их грузовой корабль спустится, откроет люк и втянет эту махину внутрь.
— Так я и думал, — сказал Ян.
* * *
Это было похоже на рубку космического корабля. По стенам сплошь измерительные приборы и какие-то инструменты; и ни одного окна, только большой экран перед креслом пилота. Судно могло взять шестерых пассажиров, но сейчас Ян был единственный.
Он неотрывно смотрел на экран, ловил каждую подробность проходящего перед глазами удивительного, неведомого мира. Да, столь же неведомого, как все, что он, быть может, повстречает за россыпью звезд, если удастся его сумасшедшая затея. Сейчас он вступает во владения чудовищ, что пожирают друг друга во мраке, не потревоженном с начала времен. Тысячи лет люди плавают над этим царством тьмы, оно лежит не глубже чем в километре под килем корабля, а меж тем до нынешнего столетия человек знал о нем меньше, чем о видимой стороне Луны.
С поверхности океана пилот опускался к еще не изведанным глубинам Южной впадины Тихого океана. Ян знал, он ориентируется по незримым координатам, прочерченным звуковыми волнами расставленных на дне океана маяков. Но пока дно еще так далеко от них, как земные равнины от плывущих в небе облаков…
Видно было очень мало, локаторы подводной лодки понапрасну шарили вокруг. Наверно, волнение, поднятое двигателями, распутало рыбу помельче; из любопытства подойдет близко разве что какая-нибудь громадина, вовсе не ведающая страха.
Маленькая кабина содрогалась от скрытой в ней мощи — от мощи, способной выдержать безмерную тяжесть водной толщи над головой Яна, создать и хранить пузырек света и воздуха, в котором могут существовать люди. Если эта мощь откажет, подумал Ян, они станут пленниками металлического гроба, зарытого глубоко в ил на дне океана.
— Пора определиться, — сказал пилот. Он пробежал пальцами по переключателям, двигатели умолкли, подводная лодка мягко замедлила ход и наконец замерла. Она парила в равновесии, словно воздушный шар в небе.
Гидролокатор мигом установил, где они находятся.
— Сейчас опять включим моторы, только сперва послушаем, нет ли чего интересного, — заметил пилот.
Из динамика в тишину маленькой кабины хлынул низкий ровный гул. Ян не мог различить отдельных звуков. Все они сливались в сплошной однообразный шум. Ян знал, это разом подают голос мириады морских тварей. Будто он оказался в сердце лесной чаши, где кишмя кишит жизнь, — только в лесном хоре он распознал бы хоть чьи-то голоса. А здесь в сложной звуковой ткани не ухватишь ни единой ниточки. Все чуждо, незнакомо, никогда ничего похожего не слышал… прямо волосы дыбом становятся. А ведь это все тут же, на его, Яна, родной планете…
Дикий вопль прорезал зыблющуюся толщу шума, как молния — грозовую тучу. Быстро перешел в надрывающее душу рыдание, в отчаянный, понемногу затихающий вой, и замер, а через минуту где-то дальше отозвался еще один. И следом пронзительная визгливая разноголосица, будто сорвался с цепи сам ад… пилот поспешил приглушить звук.
— Господи, это еще что? — выдохнул Ян.
— Жуть, а? Это киты, идут косяком километрах в десяти от нас. Я знал, что они где-то недалеко, подумал, может, захочешь послушать.
Яна пробрала дрожь.
— А я-то думал, в море тишина! Отчего они так орут?
— Наверно, беседуют друг с дружкой. Салливен тебе все объяснит, мне плохо верится, но, говорят, у него есть вроде как знакомые киты, он их узнает по голосу. Э, да у нас гость!
На экране появилась какая-то рыбина с громадной, немыслимой пастью. Видно, и сама большущая, впрочем, Ян уже знает, о размерах по изображению судить трудно. Откуда-то из-под жабр у рыбины свисает длинный ус, на конце его — расширение, подобие колокола.
— Сейчас мы видим в инфракрасном свете, — сказал пилот, — Попробуем обычную картинку.
Рыбина исчезла бесследно. Осталась одна лишь яркая, фосфорически светящаяся висюлька. Затем вдоль туловища вспыхнули огненные точки, и странное создание мелькнуло перед глазами все целиком.
— Это морской черт, а светится у него приманка — завлекает всякую рыбешку. Фантастика, верно? Одного не пойму — отчего на эту удочку не идет большая рыба и сама его не слопает? Только не до вечера же нам ждать. Сейчас я включу двигатели, и он удерет.
Кабина опять задрожала, лодка скользнула вперед. Большая светящаяся рыбина разом вспыхнула всеми огнями, неистовым сигналом тревоги, — и, точно метеор, умчалась в непроглядную бездну.
Еще двадцать минут медленного погружения — и невидимые пальцы локатора нащупали первые приметы океанского дна. Далеко внизу под лодкой проходила гряда невысоких, на удивление мягко очерченных округлых холмов. Если когда-то были у них выступы и неровности, их давно сгладил непрестанный дождь, падающий с водных высей. Даже здесь, посреди Тихого океана, вдали от огромных устьев рек, что постепенно смывают почву материков, никогда не прекращается этот дождь.
Его рождают иссеченные бурями склоны Анд, и тела миллиардов погибших существ, и пыль метеоритов, что веками скитались в космосе и наконец обрели покой. Здесь, во мраке вечной ночи, слой за слоем закладывается основа будущих материков.
Холмы остались позади. По карте Ян видел, это — пограничная стража просторной равнины, которая раскинулась на такой глубине, что ее не достигал луч локатора.
Лодка продолжала плавно спускаться. На экране понемногу вырисовывалась новая картина; глядя под непривычным углом зрения, Ян не сразу разобрал, что это такое. Потом понял — они приближаются к подводной горе, встающей со скрытой далеко внизу равнины.
Изображение стало отчетливей: на близком расстоянии локаторы работали лучше и стало видно ясно, почти как при обычном свете. Ян различал мелкие подробности, видел, как среди скал преследуют друг друга странные рыбы. Вот из почти незаметной расщелины медленно выплыла зловещего вида тварь с разинутой пастью. Молниеносно, неуловимо для глаза метнулось длинное щупальце и увлекло отчаянно бьющуюся рыбу навстречу гибели.
— Почти пришли, — сказал пилот, — Через минуту увидишь лабораторию.
Лодка медленно шла над скалистым отрогом, выступающим у подножья горы. Взгляду уже открывалась равнина; до океанского дна осталось каких-нибудь несколько сот метров, прикинул Ян. И увидел примерно в километре впереди скопище шаров, поставленных на треножники и соединенных между собой трубчатыми переходами. Все это с виду очень напоминало резервуары химического завода и в самом деле построено было по тому же принципу. Разница лишь та, что здесь надо было выдержать давление не изнутри, но извне.
— А это что? — ахнул Ян.
Дрожащим пальцем он показал на ближайший шар. Причудливые разводы, покрывающие шар, оказались сплетением гигантских щупалец. Лодка подошла ближе, и стало видно, что щупальца ведут к большому мясистому мешку, с него смотрят в упор громадные глаза.
— Это, наверно, Люцифер, — невозмутимо сказал пилот. — Опять его кто-то подкармливает.
Он щелкнул переключателем и склонился над приборной доской.
— Эс-два вызывает лабораторию. Я подхожу. Может, отгоните своего любимчика?
Ему тотчас ответили:
— Лаборатория — к Эс-два. Ладно, швартуйтесь. Люци сам уступит дорогу.
На экране ширилась округлая металлическая стена. Перед Яном в последний раз мелькнуло громадное, усеянное присосками щупальце и дернулось прочь от лодки. Раздался глухой удар металла о металл, потом негромкий скрежет, царапанье — это рычаги захвата нащупывали контакты на гладком яйцеобразном корпусе лодки. Через несколько минут ее притянуло вплотную к стене станции, металлические руки сомкнулись, прошли вдоль корпуса лодки и повернули огромный полый винт. Вспыхнул сигнал «давление уравнено», люки отворились — доступ в глубоководную лабораторию номер один наконец открыт.
Профессора Салливена Ян застал в тесном, не ведающем порядка помещении — оно, видимо, было сразу и кабинетом, и мастерской, и лабораторией. Салливен заглядывал через микроскоп внутрь чего-то вроде маленькой бомбы. Вероятно, в этой капсуле, под привычным для себя давлением во многие тонны на квадратный сантиметр, беззаботно плавал какой-нибудь житель океанских глубин.
— Ну-с, — промолвил Салливен, с трудом отрываясь от микроскопа, — как поживает Руперт? И чем мы можем вам служить?
— Руперт процветает, — ответил Ян. — Шлет вам привет и наилучшие пожелания и передает, что рад бы вас навестить, да только у него клаустрофобия.
— Ну, тогда, конечно, ему тут было бы неуютно, ведь над нами пять километров воды. Кстати, а вас это не беспокоит?
Ян пожал плечами.
— Это же все равно как лететь на стратолайнере. Если что-то пойдет наперекос, конец и там, и тут один.
— Здравая мысль, но странно, только очень немногие так рассуждают.
Салливен подкрутил что-то в микроскопе, потом испытующе глянул на Яна.
— Рад буду показать вам лабораторию, — сказал он, — но, признаться, я удивился, когда Руперт передал вашу просьбу. Человек, думаю, в мечтах витает среди звезд, откуда у него вдруг интерес к нашим делам? Может, вы ошиблись дверью? — Он необидно усмехнулся. — Признаться, никогда не понимал, чего ради всех вас тянет в небеса. Пройдут столетия, пока мы разберемся тут, в океанах, все нанесем на карты и разложим по полочкам.
Ян перевел дух. Хорошо, что Салливен начал первый, это облегчает задачу. Хоть ихтиолог и сострил насчет не той двери, между ними много общего. Не так уж трудно будет перекинуть мостик, заручиться сочувствием и помощью Салливена. Это человек с воображением, иначе он не дерзнул бы вторгнуться в подводное царство. Однако Ян знал, надо быть осторожнее, ведь просьба его прозвучит по меньшей мере необычно.
Одно придавало ему уверенности: даже если Салливен откажется помочь, он безусловно не выдаст тайну Яна. А здесь, в мирном кабинетике на дне Тихого океана, едва ли есть опасность, что Сверхправители, сколь ни велики их неведомые силы и возможности, сумеют подслушать этот разговор.
— Профессор Салливен, — начал Ян, — вот вы стремитесь изучать океан, а допустим, Сверхправители не дают вам даже подходить к нему, — что бы вы почувствовали?
— Уж конечно, был бы зол, как черт.
— Не сомневаюсь. Но предположим, в один прекрасный день вам подвернулась возможность без их ведома добиться своего — как вы поступите? Воспользуетесь случаем?
— Конечно! — без запинки ответил Салливен, — А рассуждать буду потом.
«Клюет!» — подумал Ян. Теперь ему обратного хода нет, разве что побоится Сверхправителей. Только вряд ли этот Салливен чего-нибудь боится. Ян наклонился к нему над заваленным всякой всячиной столом и приготовился изложить свою просьбу.
Профессор Салливен был отнюдь не дурак. Ян еще и рот не успел раскрыть, а на губах Салливена заиграла насмешливая улыбка.
— Так вот что вы затеяли? — медленно произнес он. — Очень, очень любопытно! Ну-с, теперь объясните, с чего вы взяли, что я вам помогу…
12
В былые времена профессор Салливен считался бы слишком дорогой роскошью. Его исследования обходились не дешевле небольшой войны; в сущности, он был словно генерал, ведущий нескончаемую войну с не ведающим усталости врагом. Враг профессора — океан — воевал оружием холода, мрака, а главное — давления. Профессор отвечал противнику силой разума и искусством инженера. Он одержал немало побед, но океан терпелив, он может ждать своего часа. Салливен знал, рано или поздно он допустит ошибку. Что ж, есть хотя бы одно утешение: тонуть не придется. Конец будет мгновенный.
Выслушав просьбу Яна, он не сказал сразу ни да, ни нет, но прекрасно знал, как в конце концов ответит. Вот случай провести интереснейший опыт. Жаль, он так и не узнает результата; но так нередко бывает в науке, он и сам начал кое-какие исследования, которые завершены будут лишь через десятки лет.
Профессор Салливен был человек мужественный и умный, но, оглядываясь на пройденный путь, понимал, что не достиг той славы, какая делает имя ученого бессмертным. И вот — совершенно неожиданный и оттого вдвойне соблазнительный случай по-настоящему войти в историю. В этой честолюбивой мечте он бы никому не признался — и, надо отдать ему справедливость, все равно помог бы Яну, даже если б его участие в дерзком замысле навсегда осталось тайной.
А Ян все обдумывал и передумывал заново. До сих пор его словно подхватило и несло на гребне того первого открытия. Он узнавал, проверял, но ничего не делал для того, чтобы мечта его сбылась. Однако еще несколько дней — и надо будет выбирать. Если профессор Салливен согласится, отступить невозможно. Надо идти навстречу будущему, которое сам выбрал, и всему, чем оно чревато.
Окончательно решиться его заставила мысль, что, если упустить этот единственный, сказочный случай, он потом себе вовек не простит. А до самой смерти терзаться напрасными сожалениями — что может быть хуже?
Ответ Салливена он получил через несколько часов и понял, что жребий брошен. Не торопясь — времени в запасе достаточно, — он начал приводить свои дела в порядок.
* * *
«Милая Майя, это письмо тебя, как бы сказать помягче, несколько удивит. Когда ты его получишь, меня уже не будет на Земле. Это не значит, что я, как многие, отправляюсь на Луну. Нет, я буду на пути к планете Сверхправителей. Первым из людей я покину нашу Солнечную систему.
Письмо я отдаю другу, который мне помогает; он не вручит его тебе, пока не убедится, что план мой — по крайней мере поначалу — удался и Сверхправителям уже поздно мне помешать. Я в это время буду лететь уже так далеко и с такой скоростью, что вряд ли эта весть меня догонит. А если и догонит, маловероятно, чтобы корабль из-за меня повернул обратно к Земле. И вообще, на их взгляд, едва ли я того стою.
Первым делом дай объясню, откуда все пошло. Ты знаешь, меня всегда интересовали космические перелеты и всегда обидно было, что нам нельзя ни побывать на других планетах, ни узнать хоть что-то о цивилизации Сверхправителей. Не заявись они к нам, теперь мы бы уже, пожалуй, достигли Марса и Венеры. Правда, столь же возможно, что мы бы уже сами себя истребили кобальтовыми бомбами и прочими смертоносными изобретениями двадцатого века. А все-таки порой я жалею, что нам не дали самим попытать счастья.
Наверно, у Сверхправителей есть причины быть при нас няньками, и, наверно, очень веские причины. Но даже знай я их, едва ли я чувствовал бы — и поступал — иначе.
Все началось с того вечера у Руперта. (Кстати, он этого не знает, хотя он-то и навел меня на след.) Помнишь, он тогда устроил дурацкий спиритический сеанс и под конец та девушка, забыл, как ее звали, упала в обморок? Я спросил, от какой звезды явились Сверхправители, и ответ был «НГС 549672». Никакого ответа я не ждал и до той минуты считал, что все это пустая забава. А тут понял, что это номер из звездного каталога, и решил в него заглянуть. И оказалось, это звезда в созвездии Карина, а как ни мало мы знаем о Сверхправителях, известно, что прилетели они именно с той стороны.
Не стану притворяться, будто понимаю, каким образом до нас дошло это сообщение и откуда оно взялось. Может, кто-нибудь прочел мысли Рашаверака? Если бы и так, едва ли он знает, как обозначено их солнце в нашем земном каталоге. Все это загадочно и непонятно, пускай секрет раскроют люди вроде Руперта — если сумеют! С меня хватит и того, что я получил такие сведения — и действую.
Мы наблюдали, как уходят в полет корабли Сверхправителей, и уже многое знаем об их скорости. Они покидают Солнечную систему с громадным ускорением и меньше чем через час достигают почти скорости света. А это значит, что они располагают такой системой движителей, которая действует равномерно на любой атом в корабле, иначе все живое на борту мигом расплющило бы в лепешку. Любопытно, чего ради они прибегают к таким чудовищным ускорениям, ведь в космосе они как рыба в воде и времени у них вдоволь, могли бы набирать скорость безо всякой спешки. У меня есть на этот счет своя теория: думаю, они каким-то способом черпают энергию из полей, окружающих звезды, а потому должны стартовать и останавливаться очень близко от какого-нибудь солнца. Но это так, между прочим.
Важно то, что теперь я знаю, какое им надо пройти расстояние, а значит — сколько на это нужно времени. От Земли до звезды НГС 549672 сорок световых лет. Корабли Сверхправителей летят со скоростью больше девяноста девяти процентов световой, значит, перелет должен длиться сорок наших лет. Сорок наших земных лет, вот в чем вся соль.
Может быть, ты слышала — когда приближаешься к скорости света, начинаются разные странности. Само время течет по-иному, оно замедляет ход, и если на Земле пройдет месяц, то на корабле Сверхправителей только день. Отсюда важнейшее следствие, оно открыто великим Эйнштейном больше ста лет тому назад.
Пользуясь твердо установленными выводами теории относительности, я проделал кое-какие расчеты, основанные на том, что нам известно о звездных перелетах. Для пассажиров корабля Сверхправителей полет до их звезды длится не больше двух месяцев, хотя на Земле за это время пройдет сорок лет. Я знаю, в такое трудно поверить, разве только утешаться мыслью, что с тех пор как Эйнштейн объявил об этом парадоксе, над его загадкой бьются лучшие умы человечества.
Вот пример, на котором, думаю, ты легче поймешь, что из этого получается, и ясней себе это представишь. Если Сверхправители тотчас же отошлют меня обратно на Землю, я вернусь, став старше только на четыре месяца. А на Земле пройдет уже восемьдесят лет. Так что, Майя, как бы дальше все ни сложилось, я с тобой прощаюсь навсегда…
Ты ведь знаешь, меня мало что привязывает к Земле, и я ее оставляю с чистой совестью. Маме я ничего не говорил, она бы закатила истерику, перед этим я, признаться, струсил. Так будет лучше. Хотя с тех пор как умер отец, я пытался многое оправдать… ох, что толку опять ворошить прошлое!
Я покончил с ученьем и сказал университетскому начальству, что по семейным обстоятельствам уезжаю в Европу. Все мои дела улажены, тебе совсем ни о чем не придется беспокоиться.
Ты, пожалуй, уже вообразила, что я рехнулся, ведь, казалось бы, никому вовек не забраться в корабль Сверхправителей. Но я нашел способ. Такое не часто случается, и другого случая не будет: уж наверно, если Кареллен в кои веки ошибается, так не повторит ошибки. Помнишь легенду о деревянном коне, который провез греческих воинов в Трою? В Ветхом Завете есть одна история, там сходства еще больше…»
* * *
— Вам будет гораздо удобнее, чем Ионе, — сказал Салливен. — Нигде не сказано, что к его услугам были электрическое освещение, водопровод и канализация. Но вам понадобится много еды, и, я вижу, вы запаслись кислородом. Можете вы взять столько, чтобы хватило на два месяца в таком тесном помещении?
И он ткнул пальцем в аккуратные чертежи, разложенные Яном на столе. С одного конца бумагу вместо пресс-папье придавил микроскоп, с другого — череп какой-то невероятной рыбины.
— Надеюсь, кислород не так уж необходим, — сказал Ян. — Мы знаем, они способны дышать нашим воздухом, хотя, похоже, он им не очень приятен, а их атмосфера для меня, может быть, и совсем не годится. А задача насчет запасов решается при помощи наркосамина. Средство верное и совершенно безопасное. Сразу после старта делаю себе укол и проваливаюсь в сон на полтора месяца плюс-минус несколько дней. К тому времени мы почти уже на месте. Право, меня больше тревожит не еда и не кислород, а скука.
Профессор Салливен задумчиво кивнул.
— Да, наркосамин надежен, и можно точно рассчитать дозу. Но смотрите, у вас под рукой должно быть вдоволь еды — вы проснетесь голодный как волк и слабый, как новорожденный котенок. Вдруг вы помрете с голоду, оттого что у вас не хватит силенок открыть консервы?
— Это я обдумал, — немного обиделся Ян. — Налягу на сахар и шоколад, так всегда делается.
— Отлично. Рад видеть, что вы все предусмотрели и не воображаете, будто, если игра окажется вам не по вкусу, можно будет бросить ее посередине. Вы ставите на карту не чью-нибудь, а свою жизнь, но не хотел бы я думать, что помогаю вам покончить самоубийством.
Он взял со стола рыбий череп, рассеянно взвесил в ладонях. Ян схватился за край плана, не давая бумаге свернуться в трубку.
— По счастью, — продолжал Салливен, — все детали нужного вам снаряжения стандартные, собрать и оборудовать что надо в нашей мастерской можно за считанные недели. А если вы передумаете…
— Не передумаю, — сказал Ян.
* * *
«…Я тщательно рассчитал, какие могу встретить опасности, и, пожалуй, в плане моем нет изъянов. Через полтора месяца я объявлюсь, как обыкновенный безбилетник — пускай наказывают за то, что ехал зайцем. Тогда — по корабельному времени, не забудь, — путешествие почти уже закончится. Останется сесть на планету Сверхправителей.
Конечно, что будет дальше, зависит от них. Вероятно, на следующем же корабле меня отошлют домой… но, надо полагать, я хоть что-нибудь да увижу! Беру с собой четырехмиллиметровую камеру и тысячи метров пленки; если уж я ее не использую, так не по своей вине. Ну, а в самом худшем случае все-таки докажу, что нельзя вечно держать людей взаперти. Подам пример, который вынудит Кареллена что-то предпринять.
Вот и все, что я хотел сказать, милая Майя. Знаю, ты не станешь слишком обо мне скучать: будем честны и откровенны, нас никогда не соединяли прочные узы, а теперь ты замужем за Рупертом и вполне счастлива будешь в своем отдельном мире. По крайней мере, я на это надеюсь.
Итак, прощай, всего наилучшего. Предвкушаю встречу с твоими внуками — пожалуйста, позаботься, чтобы они обо мне знали, ладно?
Твой любящий брат Ян».
13
Сперва у Яна просто не укладывалось в сознании, что здесь собирают не фюзеляж небольшого воздушного лайнера: перед ним был металлический скелет двадцати метров в длину, идеально обтекаемой формы, окруженный легкими фермами лесов, по которым карабкались рабочие с инструментами.
— Да, — сказал Салливен на вопрос Яна, — мы пользуемся стандартной авиационной техникой, и люди эти в большинстве авиастроители. Такая громадина — и вдруг живая, трудно поверить, правда? И даже способна выскочить из воды, я не раз видел такие прыжки.
Все это прелестно, но Яна занимало другое. Он внимательно оглядел громадный скелет, отыскивая подходящее укрытие для своей кельи, — Салливен ее окрестил «гроб с кондиционированным воздухом». Сразу же ясно: об одном можно не беспокоиться, места хватит. Тут разместилась бы добрая дюжина «зайцев».
— Похоже, каркас почти закончен, — сказал Ян. — А когда вы будете обтягивать его шкурой? Кита уже, наверно, изловили, раз вам известны размеры скелета?
Салливена это замечание явно позабавило.
— Мы вовсе не собирались ловить кита. Да у них и нет шкуры в обычном смысле слова. Едва ли удалось бы обернуть этот каркас пленкой вроде рыбьего пузыря, но толщиной в двадцать сантиметров. Нет, мы эту штуку заменим пластмассой и аккуратненько раскрасим. Когда закончим, никто не сможет распознать подделку.
В таком случае, подумал Ян, куда разумней было бы Сверхправителям сделать фотоснимки, а экспонаты в натуральную величину мастерить самим на своей планете. Но, может быть, их грузовые корабли возвращаются домой порожняком и пустячок вроде двадцатиметрового спермацетового кита для них все равно что ничего. Когда располагаешь такими силами и возможностями, стоит ли экономить по мелочам…
* * *
Профессор Салливен стоял подле одной из огромных статуй, которые оставались головоломной загадкой для археологов с тех самых пор, как открыли остров Пасхи. Каменный король, бог или кто он там был, словно следил незрячими глазами за взглядом Салливена, когда тот осматривал свое творение. Салливен по праву гордился плодом своего труда; какая жалость, что его детище вскоре станет навсегда недоступно человеческому взору.
Могло показаться, будто некий безумный скульптор воплотил видение, которое примерещилось ему в пьяном бреду. И однако это было точное отражение жизни, а скульптор — сама природа. Пока не появились усовершенствованные подводные телевизоры, редким людям случалось видеть подобное, да и то лишь в краткие миги, когда великаны в пылу схватки вырывались на поверхность. Борьба разыгрывалась в нескончаемой ночи океанских глубин, где спермацетовые киты охотились за кормом. А корм решительно не желал быть съеденным заживо…
Громадная пасть кита с нижней челюстью, зубастой, как пила, широко распахнулась, готовая сомкнуться на теле жертвы. Голову почти не различить под сетью белых мясистых извивающихся щупалец — исполинский спрут отчаянно борется за свою жизнь. Там, где щупальца попадали на шкуру, ее пятнают мертвенно-бледные следы присосков двадцати сантиметров в поперечнике, если не больше. От одного щупальца уже остался только обрубок — и нетрудно предвидеть исход боя. В битве между двумя самыми большими тварями на Земле победитель всегда — кит. Сколь ни мощен лес щупалец, у спрута одна надежда — спастись бегством, прежде чем неутомимо работающая челюсть распилит его на куски. Огромные, полметра в поперечнике, ничего не выражающие глаза спрута в упор уставились на палача, хотя, скорее всего, во тьме океанской пучины противники и не могут видеть друг друга.
Композицию эту, длиной больше тридцати метров, окружает клетка из легких алюминиевых ферм, оплетенная канатами, остается лишь подхватить ее подъемным краном. Все готово, все к услугам Сверхправителей. Салливен надеялся, что они не замешкаются, ожидание становилось томительным.
Кто-то вышел из кабинета под яркое солнце, видно, ищет его. Салливен издали узнал своего старшего помощника и пошел ему навстречу.
— Я здесь, Билл. Что случилось?
Тог, явно довольный, протянул листок радиограммы.
— Приятная новость, профессор. Нам оказывают высокую честь! Прибывает Попечитель, хочет самолично осмотреть наш экспонат перед отправкой. Представляете, какая о нас пойдет слава! Это нам очень пригодится, когда будем просить о новых ассигнованиях. Признаюсь, я давно надеялся на что-нибудь в этом духе.
Профессор Салливен проглотил застрявший в горле ком. Он всегда был не против славы, но на сей раз она может оказаться излишней.
* * *
Кареллен остановился у головы кита, посмотрел вверх, на громадное тупое рыло, на усеянную желтоватыми зубами челюсть. «Что-то он сейчас думает?» — стараясь казаться спокойным, спрашивал себя Салливен. Держится естественно, ни признака подозрительности, и приезд его можно объяснить очень просто. Но хоть бы он поскорей убрался восвояси!
— На нашей планете нет таких больших животных, — сказал Кареллен. — Это одна из причин, почему мы просили вас сделать такую композицию. Моим… э-э… соотечественникам она очень понравится.
— Я полагал, при том что сила тяжести у вас невелика, там могут водиться очень большие звери. Ведь сами вы гораздо больше нас!
— Да, но у нас нет океанов. А когда речь о размерах, суше с морем не сравниться.
«Совершенно верно, — подумал Салливен, — И по-моему, это новость, никто не знал, что на их планете нет морей. Яну, черт его дери, будет очень интересно».
А Ян в эти минуты сидел в хижине за километр отсюда и в бинокль с тревогой следил за инспекторским обходом. И твердил себе, что бояться нечего. Даже при самом тщательном осмотре кит свой секрет не выдаст. Но вдруг Кареллен все-таки что-то заподозрил и теперь играет с ними, как кошка с мышкой?
И Салливена одолевало то же подозрение, потому что Кареллен как раз заглянул в разинутую пасть.
— В вашей Библии, — сказал он, — есть замечательный рассказ об иудейском пророке, некоем Ионе: его сбросили с корабля, но в море его проглотил кит и целым и невредимым вынес на берег. Как, по-вашему, не могло быть источником этой легенды подлинное происшествие?
— Я полагаю, — осторожно отвечал Салливен, — это единственный письменно удостоверенный случай, когда китолов был проглочен и вновь извергнут без дурных для него последствий. Разумеется, если бы он пробыл внутри кита больше нескольких секунд, он бы задохнулся. И ему необычайно повезло, что он не угодил под зубы. История почти невероятная, но не скажу, что уж совсем невозможная.
— Очень любопытно, — заметил Кареллен.
Еще минуту он смотрел на громадную челюсть, потом пошел дальше и начал разглядывать спрута. Салливен невольно вздохнул с облегчением — оставалось надеяться, что Кареллен не услышал.
* * *
Знай я, какое это будет испытание, — сказал профессор Салливен, — я вышвырнул бы вас за дверь, как только вы попробовали заразить меня своим помешательством.
— Прошу извинить, — отозвался Ян. — Но все обошлось.
— Надеюсь. Что ж, счастливо. Если захотите на попятный, у вас есть еще по крайней мере шесть часов на размышление.
— Мне они ни к чему. Теперь один Кареллен может меня остановить. Большое вам спасибо за все. Если я когда-нибудь вернусь и напишу книгу о Сверхправителях, я посвящу ее вам.
— Много мне от этого будет радости, — пробурчал Салливен. — Я давно уже стану покойником.
Он был удивлен и даже немного испуган: никогда не отличался чувствительностью, а тут оказалось — ему это прощание отнюдь не безразлично. За те недели, пока они вдвоем готовили заговор, он привязался к Яну. А теперь страшно — быть может, он стал пособником усложненного самоубийства.
Он придерживал лестницу, Ян взобрался по ней и, осторожно минуя рады зубов, перелез на громадную челюсть. При свете электрического фонарика видно было — он обернулся, помахал рукой и скрылся в пасти, как в глубокой пещере. Щелчок, потом другой: открылся и снова закрылся воздушный шлюз — и наступила тишина.
Под луной, чей свет обратил навек застывшую битву в обрывок страшного сна, профессор Салливен медленно побрел к себе. «Что же я сделал, — думал он, — и к чему это приведет?» Ему-то, разумеется, этого не узнать. Быть может, Ян опять пройдет здесь, потратив на дорогу к планете Сверхправителей и возвращение на Землю всего лишь несколько месяцев жизни. Но если он и вернется, их разделит неодолимая преграда — Время, ибо это будет через восемьдесят лет.
Как только Ян закрыл внутреннюю дверь воздушного шлюза, в маленьком металлическом цилиндре вспыхнул свет. Не мешкая ни секунды, чтобы не напали сомнения, Ян тотчас принялся за обычную, продуманную заранее проверку. Еда и прочие припасы погружены еще несколько дней назад. Но проверить лишний раз полезно для душевного равновесия, убеждаешься: все как надо, ничего не упущено.
Час спустя он в этом удостоверился. Откинулся на поролоновом матрасе и заново перебрал в памяти свой план. Слышалось только слабое жужжанье электронных часов-календаря — они предупредят его, когда путешествие подойдет к концу.
Он знал, что в этой келье он ничего не ощутит — какими чудовищными силами ни движим корабль Сверхправителей, они наверняка безукоризненно уравновешиваются. Салливен это проверил, указав, что изготовленный им экспонат рухнет, если сила тяжести превысит два-три g. И «заказчики» заверили его, что на этот счет опасаться нечего.
Однако предстоит значительный перепад атмосферного давления.
Это неважно, ведь полые чучела могут «дышать» несколькими отверстиями. Перед выходом из кабины Яну придется выровнять давление, и, скорее всего, дышать атмосферой внутри корабля он не сможет. Не беда, достаточно обычного противогаза да баллона с кислородом, ничего более сложного не потребуется. А если воздух окажется пригодным для дыхания, тем лучше.
Медлить больше незачем, только лишняя трепка нервов. Ян достал небольшой шприц, уже наполненный тщательно приготовленным раствором. Наркосамин открыли когда-то, изучая зимнюю спячку животных; оказалось неверным, как думали прежде, что в эту пору жизнедеятельность приостанавливается. Просто все процессы в организме неизмеримо замедленны, но обмен веществ, крайне ослабленный, все равно продолжается. Как будто костер жизни спрятан в глубокой яме, укрыт валежником, и жар только тлеет, запасенный впрок. А через какие-то недели или месяцы действие лекарства кончается, огонь вспыхивает сызнова и спящий оживает. Наркосамин вполне надежен. Природа им пользовалась миллионы лет, оберегая многих своих детей от голодной зимы.
И Ян уснул. Он не почувствовал, как натянулись канаты и огромную металлическую клетку подняли в трюм грузовика Сверхправителей. Не слыхал, как закрылись люки, чтобы открыться вновь только через триста триллионов километров. Не услыхал, как вдалеке, приглушенный толщею мощных стен, раздался протестующий вопль земной атмосферы, когда корабль прорывался сквозь нее, возвращаясь в родную стихию. И не почувствовал межзвездного полета.
14
На еженедельных пресс-конференциях зал всегда бывал полон, но сегодня народу набилось битком, в такой тесноте репортеры насилу ухитрялись записывать. В сотый раз они ворчали и жаловались друг другу на Кареллена — у него отсталые вкусы и никакого уважения к прессе! В любое другое место на свете они явились бы с телекамерами, магнитофонами и прочими орудиями своего отлично механизированного ремесла. А тут изволь полагаться на такую древность, как бумага, карандаш — и, подумать только, на стенографию!
Конечно, раньше кое-кто пытался контрабандой протащить в зал магнитофон. Этим немногим смельчакам удалось вынести запретное орудие обратно, но, заглянув в дымящееся нутро аппарата, они тотчас поняли: попытки тщетны. И всем тогда стало ясно, почему им всегда предлагали в их же собственных интересах оставлять часы и прочие металлические предметы за пределами зала…
И, что еще несправедливей и обидней, сам-то Кареллен записывал пресс-конференцию с начала и до конца. Журналистов, виновных в небрежности или в прямом извращении сказанного (такое, правда, случалось очень редко), вызывали для краткой малоприятной встречи с подчиненными Кареллена и предлагали им внимательно прослушать запись того, что на самом деле сказал Попечитель. Урок был не из тех, какие приходится повторять.
Поразительно, как быстро разносятся слухи. Заранее ничего не объявляется, но каждый раз, когда Кареллен хочет сообщить что-то важное, — а это бывает раза два-три в год, — в заде яблоку упасть некуда.
Высокие двери распахнулись, и приглушенный ропот мгновенно утих: на эстраду вышел Кареллен. Освещение здесь было тусклое — несомненно, так слабо светило неведомое далекое солнце Сверхправителей — и Попечитель Земли сейчас был без темных очков, в которых обычно появлялся под открытым небом.
Он отозвался на нестройный хор приветствий официальным «Доброе утро всем» и повернулся к высокой, почтенною вида особе, стоявшей впереди. Мистер Голд, старейшина газетного цеха, своим видом вполне мог бы вдохновить знаменитого дворецкого, героя знаменитых старинных романов, доложить хозяину: «Три газетчика, милорд, и джентльмен из «Таймс»». Одеждой и всеми повадками он напоминал дипломата старой школы: всякий без колебаний доверялся ему — и никому потом не приходилось об этом жалеть.
— Сегодня полно народу, мистер Голд. Должно быть, вам не хватает материала.
Джентльмен из «Таймс» улыбнулся, откашлялся:
— Надеюсь, вы восполните этот пробел, господин Попечитель.
И замер, не сводя глаз с Кареллена, пока тот обдумывал ответ. До чего обидно, что лица Сверхправителей — застывшие маски и не выдают никаких чувств. Большие, широко раскрытые глаза (зрачки даже при этом слабом свете сузились и едва заметны) непроницаемым взглядом в упор встречают откровенно любопытный взгляд человека. На щеках — если эти точно из гранита высеченные рифленые изгибы можно назвать щеками — по дыхательной щели, из щелей с еле слышным свистом выходит воздух: это предполагаемые легкие Кареллена трудно работают в непривычно разреженной земной атмосфере. Голд разглядел бахрому белых волосков, колеблющихся то внутрь, то наружу в перемежающемся ритме двухтактного быстрого Карелленова дыхания. Предполагалось, что они, как фильтры, предохраняют от пыли, и на этой шаткой основе строились сложные теории об атмосфере планеты Сверхправителей.
— Да, у меня есть для вас кое-какие новости. Как вам, без сомнения, известно, один из Моих грузовых кораблей недавно отправился отсюда на базу. Сейчас мы обнаружили, что на борту имеется «заяц».
Сотня карандашей замерла в воздухе; сто пар глаз вперились в Кареллена.
— Вы сказали «заяц», господин Попечитель? — переспросил Голд. — Нельзя ли узнать, кто он такой? И как попал на корабль?
— Его зовут Ян Родрикс, он учился в Кейптаунском университете, студент механико-математического факультета. Прочие подробности вы, несомненно, узнаете сами из ваших надежных источников.
Кареллен улыбнулся. Странная это была улыбка. Она выражалась больше в глазах, жесткий безгубый рот почти не дрогнул. Может быть, Попечитель с неизменным своим искусством и этот обычай перенял у людей? — подумалось Голду. Ибо впечатление такое, что Кареллен и вправду улыбается, и воспринимаешь это именно как улыбку.
— Ну, а каким образом он улетел с Земли, не столь важно, — продолжал Попечитель, — Могу заверить вас и любого охотника до космических полетов, что повторить это никому не удастся.
— Но что будет с этим молодым человеком? — настаивал Голд. — Вернут ли его на Землю?
— Это зависит не от меня, но, думаю, он вернется со следующим рейсом. Там, куда он отправился, ему будет неуютно, слишком… э-э… чуждая обстановка. И с этим связано главное, из-за чего я сегодня устроил нашу встречу.
Кареллен чуть помолчал, и в зале затаили дыхание.
— Кое-кто из более молодых и романтически настроенных жителей вашей планеты иногда высказывал недовольство тем, что вам не разрешено выходить в космос. У нас были на то причины, мы ничего не запрещаем ради собственного удовольствия. Но задумались ли вы хоть раз — извините за не совсем лестное сравнение, — как бы почувствовал себя человек из вашего каменного века, если бы вдруг очутился в современном большом городе?
— Но это ведь совершенно разные вещи! — запротестовал корреспондент «Гералд трибюн». — Мы привыкли к Науке, Науке с большой буквы. Без сомнения, в вашем мире нам многого не понять, но мы не вообразим, будто это колдовство.
— Вы уверены? — очень тихо, чуть слышно спросил Кареллен. — Только столетие лежит между веком пара и веком электричества, но что понял бы инженер викторианской эпохи в телевизоре или в электронной вычислительной машине? Долго бы он прожил, если бы попробовал разобраться в этой механике? Пропасть, разделяющая два вида технологии, может стать чересчур огромной… и смертельной.
— Эге, — шепнул корреспондент агентства Рейтер представителю Би-би-си, — нам повезло. Сейчас он сделает важное политическое заявление. Узнаю приметы.
— Есть и еще причины, по которым мы удерживаем человечество на Земле. Смотрите.
Свет медленно померк. И посреди зала возникло бледное сияние. И сгустилось в звездный водоворот — спиральную туманность, видимую откуда-то со стороны, словно наблюдатель находился очень далеко от самого крайнего из составляющих ее солнц.
— Ни один человек никогда еще этого не видел, — раздался в темноте голос Кареллена. — Вы смотрите на свою Вселенную, галактический островок, куда входит и ваше Солнце, с расстояния в полмиллиона световых лет.
Долгое молчание. Опять заговорил Кареллен, и теперь в голосе его звучало нечто новое — не то чтобы настоящая жалость и не совсем презрение.
— Ваше племя проявило редкую неспособность справляться с задачами, возникающими на собственной небольшой планете. Когда мы прибыли сюда, вы готовы были истребить сами себя при помощи сил, которые опрометчиво вручила вам наука. Не вмешайся мы, сегодня Земля была бы радиоактивной пустыней.
Теперь у вас тут мир, человечество едино. Вскоре вы достигнете такого уровня развития, что сумеете управлять своей планетой без нашей помощи. Быть может, в конце концов станете даже справляться со всей Солнечной системой — примерно на пятидесяти лунах и планетах. Но неужели вы воображаете, что вам будет когда-нибудь под силу вот это?
Звездная туманность ширилась. Звезды неслись мимо, вспыхивали и пропадали из глаз мгновенно, точно искры в кузнице. И каждая мимолетная искра была солнцем, вокруг которого обращаюсь бог весть сколько миров…
— В одной только нашей Галактике восемьдесят тысяч миллионов звезд, — негромко продолжал Кареллен. — И эта цифра дает лишь слабое понятие о необъятности космоса. Выйдя в космос, вы были бы как муравьи, которые пытаются перебрать и обозначить ярлыком каждую песчинку во всех пустынях вашей планеты.
Вы, человечество, на нынешнем уровне вашего развития просто не выдержите такого столкновения. Одной из моих обязанностей с самого начала было оберегать вас от могучих сил, властвующих среди звезд, — от сил, недоступных самому пылкому вашему воображению.
Взвихренные огневые туманы Галактики померкли; в просторном зале снова зажегся свет, настала гробовая тишина.
Кареллен повернулся, готовый уйти, — пресс-конференция кончилась. У дверей он помедлил, оглянулся на безмолвную толпу журналистов.
— Это горькая мысль, но вы должны с ней примириться. Планетами вы, возможно, когда-нибудь овладеете. Но звезды — не для человека.
* * *
«ЗВЕЗДЫ НЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА». Да, конечно же, им обидно, что небесные врата захлопнулись у них перед носом. Но пусть научатся смотреть правде в глаза — хотя бы той доле правды, которую, щадя их, можно им открыть.
Из пустынных высей стратосферы Кареллен смотрел на планету и ее жителей, вверенных его попечению, — обязанность нерадостная. Он думал о том, что еще предстоит, о том, чем станет этот мир всего лишь через двенадцать лет.
Никогда они не узнают, как им повезло. Немалый срок, отпущенный людям от колыбели до могилы, человечество было счастливей, чем любое другое разумное племя. То был Золотой век. Но ведь золото еще и цвет заката, цвет осени… и слух одного лишь Кареллена улавливал первые стенания надвигающихся зимних вьюг.
И один лишь Кареллен знал, с какой страшной быстротой Золотой век близится к неотвратимому концу.
III Последнее поколение
15
— Нет, ты только посмотри! — взорвался Джордж Грегсон и швырнул газету через стол. Джин не успела ее перехватить, и газетный лист распластался на завтраке. Джин терпеливо счистила с бумаги варенье и прочитала столь возмутительный абзац, силясь изобразить на лице неодобрение. Ей это плохо удавалось, слишком часто ока бывала согласна с критиками. Обычно она умалчивала о своих еретических взглядах — и не только ради мира и спокойствия в доме. Джордж охотно принимает от нее (и от кого угодно) похвалы, но осмелься она хоть в чем-то упрекнуть его работу, и придется выслушать убийственный разнос: она полнейшая невежда и ничего не смыслит в искусстве!
Джин дважды перечитала рецензию и сдалась. Рецензент как будто вполне доброжелателен, так она и сказала Джорджу:
— Видно, спектакль ему понравился. Чем ты, собственно, недоволен?
— Вот чем, — огрызнулся Джордж и ткнул пальцем в середину столбца. — Перечитай-ка еще раз.
— «Особенно радовали глаз нежно-зеленые пастельные тона задника в балетной сцене». Ну и что?
— Никакой он не зеленый! Я сколько времени потратил, пока добился этого голубого оттенка! А что получилось? То ли какой-то болван-осветитель перепутал цветовую настройку, то ли у этого осла-рецензента телевизор-дальтоник. Слушай, а у нас на экране какого цвета был фон?
— Э-э… не помню, — призналась Джин. — Тогда как раз запищала Пупса, и мне пришлось пойти посмотреть, что с ней.
— А, — только и уронил Джордж. Ясно было, втихомолку он все еще кипит, того и гляди опять взорвется. Так оно и случилось, но взрыв оказался довольно безобидным. — Я нашел новое определение для телевизора, — пробормотал Джордж. — Это аппарат, который мешает взаимопониманию художника и зрителя.
— Ну, и что ты будешь с этим делать? — спросила Джин. — Вернешься к обычному театру?
— А почему бы и нет? Именно об этом я и думаю. Помнишь, какое письмо я получил из Новых Афин? Так вот, они опять мне написали. И на этот раз я хочу ответить.
— Вот как? — Джин немножко встревожилась. — По-моему, они там все чокнутые.
— Ну, выяснить это можно только одним способом. В ближайшие две недели съезжу и посмотрю, что там за народ. Имей в виду, то, что они печатают в стихах и в прозе, никаким помешательством не пахнет. И там есть несколько человек по-настоящему талантливых.
— Если ты воображаешь, что я стану стряпать на костре и одеваться в звериные шкуры, ты сильно…
— Не говори глупостей! Все это басни. В Колонии есть все необходимое, чтобы жить по-человечески. Просто они отказались от излишней роскоши. И потом, я уже года два не бывал на Тихом океане. Чем плохо съездить туда вдвоем?
— Это пожалуйста, — сказала Джин. — Но я не согласна, чтобы наш сын и Пупса росли дикими полинезийцами.
— Дикими они не вырастут, — сказал Джордж. — Это я тебе обещаю.
И он был прав, хотя и не в том смысле, как думал.
* * *
— Как вы видели при подлете, наша Колония расположена на двух островах, их соединяет дамба, — сказал малорослый человечек с другого конца веранды. — Этот — Афины, а второй остров мы окрестили Спартой. Он довольно дикий, скалистый, отличное место для спорта и тренировки. — Он мельком глянул на брюшко гостя, и Джордж смущенно поежился в плетеном кресле. — Кстати, Спарта — это потухший вулкан. По крайней мере геологи уверяют, что он потух, ха-ха!
Но вернемся к Афинам. Как вы догадываетесь, Колония была задумана, чтобы создать независимый прочный очаг культуры, сохраняющий традиции искусства. Надо сказать, прежде чем взяться за это дело, мы провели серьезнейшие исследования. По сути, у нас тут образчик построения общества, основанного на весьма сложных математических расчетах, не стану притворяться, будто я в них разбираюсь. Знаю только, что математики-социологи в точности вычислили, как велико должно быть население Колонии, сколько в ней должно быть людей разного склада, а главное, на каких законах она должна строиться, чтобы оставаться долговременной и устойчивой.
Нами управляет Совет из восьми директоров, они представляют Производство, Энергетику, Общественное устройство. Искусство, Экономику, Науку, Спорт и Философию. Постоянного президента или председателя у нас нет. Эти обязанности несет по очереди каждый из директоров в течение года.
Сейчас в Колонии чуть больше пятидесяти тысяч человек, совсем немного недостает до идеальной численности. Вот почему мы присматриваем новых добровольцев. И, понятно, есть кое-какие пробелы: нам не хватает некоторых талантливых специалистов.
Здесь, на острове, мы пытаемся сохранить независимость человечества хотя бы в искусстве. Мы не питаем вражды к Сверхправителям, мы просто хотим, чтобы нас предоставили самим себе. Когда Сверхправители уничтожили старые государства и тот образ жизни, к которому люди привыкли за всю свою историю, вместе с плохим уничтожено было и немало хорошего. Наша жизнь стала безмятежной, но притом безликой, пресной, наша культура мертва: за все время при Сверхправителях не создано ничего нового. И очень ясно почему. Не к чему больше стремиться, нечего добиваться, и слишком много стало всяческих развлечений. Ведь каждый день радио и телевидение по разным каналам выдают программы общей сложностью на пятьсот часов — вы об этом задумывались? Если вовсе не спать и ничем другим не заниматься, все равно уследишь едва ли за двадцатой долей всего, чем можно развлечься, стоит только щелкнуть переключателем! Вот человек и становится какой-то губкой — все поглощает, но ничего не создает. Известно ли вам, что сейчас в среднем каждый просиживает перед экраном по три часа в день? Скоро люди вовсе перестанут жить своей жизнью. Будут тратить полный рабочий день, лишь бы не прозевать многосерийную историю какого-нибудь выдуманного семейства!
Здесь, в Афинах, на развлечения тратится не больше времени, чем следует. Больше того, это не записи и не пленки, выступают живые артисты. В общине таких размеров спектакли и концерты всегда проходят при почти полном зале, а это так важно для исполнителей и художников. Кстати, у нас превосходный симфонический оркестр, вероятно, один из шести лучших во всем мире.
Но я совсем не хочу, чтобы вы верили мне на слово. Обычно те, кто хочет вступить в Колонию, сначала гостят у нас несколько дней, присматриваются. И если почувствуют, что хотели бы к нам присоединиться, мы им предлагаем ряд психологических тестов, это, в сущности, главная линия нашей обороны. Примерно треть желающих мы отвергаем, обычно по причинам, которые не бросают на них ни малейшей тени и не имеют никакого значения вне Колонии. Те же, кто выдержал испытание, уезжают домой, чтобы уладить все свои дела, а потом возвращаются к нам. Бывает, и не возвращаются, передумывают, но это большая редкость, и почти всегда их удерживают какие-нибудь личные обстоятельства, от них не зависящие. Наши тесты сейчас безошибочны: их неизменно выдерживают люди, которые по-настояшему хотят быть с нами.
— А если кто-нибудь у вас поселится, а потом вдруг передумает? — с тревогой спросила Джин.
— Тогда можно уехать. Никто не помешает. Так бывало раза два.
Наступило долгое молчание. Джин посмотрела на Джорджа, он задумчиво поглаживал бакенбарды — новейшая мода среди людей искусства. Что ж, пока отступление не отрезано, ей незачем чересчур беспокоиться. Похоже, эта Колония — занятное место, и уж конечно, не такая это сумасбродная затея, как она опасалась. А детям тут наверняка понравится. В конце концов, только это и важно.
* * *
Через полтора месяца они переехали в Колонию. Одноэтажный дом невелик, но для семьи из четырех человек, где пятого заводить не собираются, места вполне достаточно. А вот и все приборы, облегчающие стряпню, уборку и прочее, — по крайней мере, как признала Джин, возврат к средневековому рабству домашней хозяйки ей не грозит. Впрочем, ее несколько обеспокоило открытие, что тут есть кухня. Обычно в местах, где живет столько народу, работает Линия доставки — набираешь номер Центральной и через пять минут получаешь какое угодно блюдо. Независимость — это прекрасно, со страхом подумала Джин, но тут, кажется, хватили через край. Уж не предстоит ли ей самой не только стряпать, но и одевать всю семью? Однако до этого все-таки не дошло: между автоматической мойкой и радарной плитой прялки не оказалось…
Всюду, кроме кухни, в доме, понятно, было очень голо и пусто. Они здесь поселились первыми, и не сразу эта аптечной чистоты новизна обратится в теплое человеческое жилье. Дети наверняка, словно закваска, ускорят это превращение. Уже сейчас (Джин пока об этом не подозревает) в ванне гибнет злосчастная жертва Джеффри, ибо сей молодой человек не ведает коренной разницы между пресной водой и соленой.
Джин подошла к еще не завешенному окну и поглядела на Колонию. Что и говорить, красивые места. Дом стоит на западном склоне невысокого холма — единственного, что поднимается над островом Афины. За два километра к северу видна узкая дамба, она, точно лезвие ножа, рассекает воды океана, по ней можно перейти на Спарту. Этот скалистый остров, увенчанный хмурым конусом вулкана, подчас пугает Джин, слишком он непохож на мирные Афины. Разве могут ученые знать наверняка, что вулкан никогда больше не проснется и не погубит все вокруг?
Но вот вдали замаячил явно неумелый велосипедист, устало поднимается в гору, едет не по дороге, как положено, а в тени пальм. Это Джордж возвращается с первого своего совещания. Хватит предаваться мечтам, в доме работы по горло.
Металлический звон и лязг возвестил о прибытии мужнина велосипеда. Скоро ли они оба научатся ездить как следует, подумала Джин. Вот еще неожиданная особенность островной жизни. Колонистам не разрешено обзаводиться автомобилями, да, строго говоря, и нужды нет — самый длинный путь по прямой здесь меньше пятнадцати километров. Есть разный общественный транспорт — грузовики, санитарные и пожарные машины, их скорость, кроме случаев крайней необходимости, ограничена: не больше пятидесяти километров в час. А потому жители Афин не страдают от сидячего образа жизни, от заторов на улицах — и от аварий и смерти под колесами.
Джордж наскоро чмокнул жену в щеку и со вздохом облегчения рухнул в ближайшее кресло.
— Уф! — выдохнул он, утирая пот со лба. — На подъеме меня все обгоняли, так что, видно, привыкнуть все-таки можно. Пожалуй, я уже похудел килограммов на десять.
— А день был удачный? — спросила Джин, как подобает внимательной жене. Она надеялась, что Джордж не слишком вымотался и поможет распаковать вещи.
— Все идет отлично. Познакомился с кучей народу, конечно, и половины не запомнил, но, похоже, все очень славные. И театр хорош, лучше нечего и желать. На той неделе начинаем работать над пьесой Шоу «Назад к Мафусаилу». На мне декорации и все оформление. Буду сам себе хозяин, не то что прежде, когда десять человек командуют — не делай того, не делай этого. Да, я думаю, нам тут будет хорошо.
— Несмотря на велосипеды?
У Джорджа хватило сил улыбнуться.
— Да, — сказал он, — недели через две мне этот холмик будет нипочем.
Он не совсем в это верил, но оказался прав. Однако прошел еще целый месяц, прежде чем Джин перестала горевать о машине и ей открылось, какие чудеса можно творить у себя на кухне.
* * *
Новые Афины возникли и развивались не так естественно, сами собой, как античный город, чье имя они переняли. Устройство Колонии, продуманное и рассчитанное до мелочей, стало плодом многолетних исследований, тут поработали в содружестве поистине замечательные люди. Поначалу это был прямой заговор против Сверхправителей, в котором крылся вызов если не их могуществу, то их политике. И на первых порах зачинатели Колонии почти не сомневались, что Кареллен сокрушит их планы, однако Попечитель пальцем не шевельнул, будто ничего и не заметил. Но это и не так уж успокаивало, как можно бы предполагать. Кареллену спешить некуда, быть может, он только еще готовит ответный удар. А может быть, он убежден, что их затея все равно обречена на провал и ему незачем вмешиваться.
Что Колонию ждет провал, предсказывали почти все. Но ведь и в далеком прошлом, когда люди еще понятия не имели о закономерностях общественного развития, немало зарождалось общин, вдохновляемых религиозными или философскими целями. Правда, в большинстве они оказывались недолговечными, но были и жизнеспособные. А Новые Афины опираются на самые прочные устои, какие только способна выработать современная наука.
На острове Колонию основали по многим причинам. Немаловажны были соображения чисто психологические. Конечно, в век общедоступных воздушных сообщений перемахнуть через океан ничего не стоит, а все же чувствуешь себя отгороженным. Притом, поскольку размеры острова ограничены, Колония не станет чересчур многолюдной. Население не должно превышать ста тысяч человек, иначе утрачены будут преимущества небольшой сплоченной общины. Среди прочего основатели ее стремились к тому, чтобы в Новых Афинах каждый мог познакомиться со всеми, кто разделяет его склонности и интересы, — и еще с двумя-тремя процентами остальных колонистов.
Начало Колонии положил некий новый Моисей. И, подобно Моисею, он не дожил до вступления в землю обетованную — Колония основана была через три года после его смерти.
Он родился в стране, которая одной из последних обрела самостоятельность, а потому и век этого государства оказался самым коротким. Быть может, потому-то конец национальной независимости здесь переживали тяжелей, чем где-либо еще: горько утратить мечту, едва она сбылась, когда стремились к ней столетиями.
Бен Соломон не был фанатиком, но, должно быть, воспоминания детства в значительной мере определили философию, которую ему суждено было претворить в действие. Он еще помнил, каков был мир до прибытия Сверхправителей, и вовсе не желал вернуть его. Как многие разумные люди доброй воли, он вполне способен был оценить все, что сделал Кареллен для человечества, однако с тревогой гадал, какова же конечная цель Попечителя. Быть может, думалось ему порой, при всем своем всеобъемлющем уме. при всех познаниях Сверхправители по сути не понимают людей и из лучших побуждений совершают жестокую ошибку? А вдруг, самоотверженно преданные порядку и справедливости, решив преобразить наш мир, они не поняли, что при этом разрушают человеческую душу?
Упадок едва наметился, однако нетрудно было уловить первые признаки вырождения. Соломон, сам не художник, но тонкий знаток и ценитель искусства, понимал, что его современники ни в одной области не могут тягаться с великими мастерами прошлого. Быть может, в дальнейшем, когда забудется потрясение от встречи с цивилизацией Сверхправителей, все уладится само собой. А может быть, и нет — и человеку предусмотрительному на всякий случай следует застраховаться.
Такой страховкой и стали Новые Афины. На их создание потребовались двадцать лет и несколько миллиардов фунтов — не так уж много при том, как богат стал мир. За первые пятнадцать лет ничего не изменилось; за последние пять произошло очень многое.
Соломон ровным счетом ничего не достиг бы, не сумей он убедить горсточку всемирно знаменитых людей искусства, что замысел его разумен и осуществим. Они откликнулись не потому, что задуманное важно для всего человечества, откликалось скорее некоторое честолюбие, творческое «я» каждого. Но, когда они прониклись этой мыслью, к ним прислушался весь мир и поддержал их сочувствием и деньгами. Так возведен был блистательный фасад таланта и страсти, а за ним осуществляли свой план подлинные строители Колонии.
Всякое общество состоит из отдельных людей, и поведение каждого в отдельности непредсказуемо. Но, если взять достаточно человек из основных категорий, начинают проявляться какие-то общие законы — это давным-давно открыли общества по страхованию жизни. Нет никакой возможности предсказать, кто именно умрет за такой-то срок, но общее число смертей можно предвидеть довольно точно.
Есть и другие, менее очевидные закономерности, впервые их уловили в начале XX века математики — Винер, Рашавески. Они утверждали, что такие явления, как экономические кризисы, последствия гонки вооружений, устойчивость общественных групп, результаты парламентских выборов и прочее поддаются чисто математическому анализу. Серьезную трудность тут представляет огромное количество переменных величин, причем многие из них весьма сложно выразить в числовых понятиях.
Нельзя просто начертить серию кривых и заявить безоговорочно: «Когда будет достигнута эта линия, начнется война». И нельзя начисто сбрасывать со счетов полнейшие неожиданности — к примеру, убийство важнейшего политического деятеля или следствия какого-нибудь научного открытия, а тем более — стихийных бедствий вроде землетрясений или наводнений, а между тем такие события могут решающим образом повлиять на большие массы людей и целые пласты общества.
И все же знания, терпеливо собранные за последнее столетие, позволяют достичь многого. Задача была бы невыполнимой, если бы не помощь громадных вычислительных машин, способных за несколько секунд сделать расчеты, на которые иначе пришлось бы затратить труд тысяч людей. Их-то помощью всемерно и пользовались те, кто создавал план Колонии.
Но при этом основатели Новых Афин только подготовили почву и климат для растения, которое они жаждали взлелеять, — быть может, оно расцветет, а может быть, и нет. Как сказал однажды сам Соломон: «Мы можем быть уверены в таланте, но о гении остается только молиться». Были, однако, все основания надеяться, что в столь насыщенном растворе начнутся любопытные химические реакции. Мало кто из художников процветает в одиночестве, зато какие живые искры высекает столкновение умов, объединенных сходными интересами.
Такие столкновения уже породили кое-что достойное внимания в области скульптуры, музыки, литературной критики и кино. Еще рано было судить, оправдают ли историки надежды своих вдохновителей, которые откровенно стремились вновь пробудить в человечестве гордость за былые свои свершения. Живопись пока что прозябала, подтверждая этим взгляды теоретиков, которые полагали, что у статичных, плоскостных форм искусства нет будущего.
Стали замечать, хотя убедительного объяснения пока не находилось, что в самых выдающихся произведениях искусства, созданных колонистами, важнейшую роль шрает время. Даже скульптура редко оставалась неподвижной. Загадочные изгибы и извивы творений Эндрю Карсона медленно изменялись на глазах зрителя, согласно сложному замыслу, быть может, не совсем понятному и все же увлекающему. А сам Карсон утверждал, и в этом есть доля истины, что довел до логического завершения абстрактные композиции прошлого века и тем самым сочетал скульптуру с балетом.
В музыкальной жизни Колонии велись тщательные исследования того, что можно назвать «протяженностью времени».
Каков самый краткий звук, доступный нашему восприятию, — и каков самый долгий, который не успевает наскучить? Можно ли менять эти величины, варьируя силу звука или преобразуя оркестровку? Подобные вопросы обсуждались бесконечно, и доводы тут были не просто теоретические. Из этих споров родилось несколько на редкость интересных произведений.
Но всего удачней оказались опыты Новых Афин по части мультфильма с его поистине неограниченными возможностями. Сто лет минуло со времен Диснея, а чудеса этого самого гибкого и выразительного из искусств все еще не исчерпаны. Оно может оставаться и чисто реалистическим, и тогда плоды его неотличимы от обыкновенной фотографии, к величайшему презрению поборников абстрактной мультипликации.
Больше всего привлекала, но и пугала группа художников и ученых, которая пока что создала меньше всего. Эти люди добивались «полного слияния». Ключ к их работе дала история кино. Сначала звук, затем цвет, затем стереоскопия и наконец синерама шаг за шагом приближали старинные «движущиеся картинки» к подлинной жизни. Чем же это кончится? Без сомнения, можно достичь большего: зрители забудут, что они только зрители, и сами станут участниками фильма. Для этого пришлось бы воздействовать решительно на все чувства, а пожалуй, подключить и гипноз, но многие считали, что это вполне осуществимо. Если цель эта будет достигнута, невообразимо богаче станет жизненный опыт человека. Каждый сможет стать хотя бы на время кем угодно другим и пережить все мыслимые и немыслимые события и приключения, подлинные или воображаемые. Можно даже превратиться в растение или животное, лишь бы удалось уловить и записать чувственные восприятия не только человека, но любого живого существа. И когда «программа» кончится, у зрителей останется воспоминание столь же яркое, как о любом событии, пережитом на самом деле, — попросту неотличимое от действительности.
Ослепительное будущее. Многих оно страшило, и они надеялись, что затея не удастся. Но в глубине души и они понимали: раз наука считает что-то осуществимым, в конце концов это неизбежно сбудется…
Таковы были Новые Афины и таковы иные их мечты. Они надеялись стать тем, чем были бы Афины античных времен, обладай они вместо рабов машинами и вместо суеверий наукой. Но еще слишком рано было судить, увенчается ли опыт успехом.
16
Джеффри Грегсон был единственным островитянином, кого пока ничуть не интересовали ни эстетика, ни наука — два главных предмета, которые поглощали его родителей. Но по сугубо личным причинам он всей душой одобрял Колонию. Его околдовало море, до которого, в какую сторону ни пойдешь, всего-то считанные километры. Почти всю свою короткую жизнь Джеффри провел далеко от любых берегов и еще не освоился с новым, удивительным ощущением, когда вокруг — вода. Он хорошо плавал и нередко, захватив ласты и маску, в компании сверстников отправлялся на велосипеде исследовать ближнюю мелководную лагуну. Сперва Джин беспокоилась, а потом несколько раз ныряла и сама, после чего перестала бояться моря и его странных обитателей и позволила сыну развлекаться как угодно при одном условии: никогда не плавать в одиночку.
Весьма одобрял новое место жительства другой домочадец Грегсонов — золотистая красавица собака породы ретривер по кличке Фэй; хозяином ее считался Джордж, но ее редко удавалось отозвать от Джеффри. Эти двое не разлучались целыми днями, не разлучались бы и ночью, но тут Джин была непреклонна. Лишь когда Джеффри уезжал из дому на велосипеде, Фэй оставалась дома — лежала у порога, ко всему равнодушная, уронив морду на передние лапы, и неотрывно смотрела на дорогу влажными скорбными глазами. Джордж бывал этим несколько уязвлен, Фэй и ее родословная обошлись ему в кругленькую сумму. Видно, надо дождаться следующего поколения — оно ожидается через три месяца, и лишь тогда у него появится своя собственная собака. У Джин на этот счет были другие взгляды. Фэй очень мила, но, право же, в доме можно обойтись и без второй собаки.
Одна только Дженнифер Энн пока не решила, нравится ли ей в Колонии. Да и неудивительно: до сих пор она во всем мире только и видела пластиковые стенки своей кроватки и еще даже не подозревала, что за этими стенками существует какая-то Колония.
* * *
Джордж Грегсон не часто задумывался о прошлом, он слишком поглощен был планами на будущее, слишком занят своей работой и детьми. Очень редко возвращался он мыслями к тому вечеру в Африке, много лет назад, и никогда не говорил о нем с Джшн. Они словно согласились обходить тот случай молчанием и ни разу больше не навещали Бойсов, которые опять и опять их приглашали. По нескольку раз в год они звонили Руперту и под разными предлогами уклонялись от визитов, и под конец он оставил их в покое. Брак его с Майей, ко всеобщему немалому удивлению, все еще оставался прочным и счастливым.
После того вечера у Джин пропала всякая охота соваться в загадки, таящиеся за пределами науки. От простодушного, доверчивого удивления, что влекло ее к Руперту и его опытам, не остаюсь и следа. Быть может, тот случай ее убедил, и она не нуждалась в дальнейших доказательствах — об этом Джордж предпочитал не спрашивать. Столь же вероятно, что забота о детях вытеснила из ее мыслей прежние увлечения.
Джордж понимал, нет никакого толку биться над загадкой, которую все равно не решить, и все же иногда в ночной тишине просыпался и снова спрашивал себя о том же. Он вспоминал встречу с Яном Родриксом на крыше Рупертова дома и немногие слова, которыми обменялся он с единственным человеком, кому удаюсь преступить запрет Сверхправителей. В царстве сверхъестественного, думалось Джорджу, не сыщешь ничего настолько до жути поразительного, как вот эта простая научно установленная истина: почти десять лет прошло после того разговора с Яном, а меж тем этот ныне невообразимо далекий странник с тех пор стал старше всего на несколько дней.
Вселенная необъятна, но это не так страшит, как ее таинственность. Джордж не из тех, кто глубоко задумывается над подобными вопросами, а все же ему порой кажется, что люди Земли — всего лишь дети, резвящиеся на какой-то площадке для игр, надежно отгороженной от грозного внешнего мира. Ян Родрикс взбунтовался против этой защищенности и ускользнул — бежал в неведомое. Но в этих делах он, Джордж, на стороне Сверхправителей. У него нет ни малейшего желания столкнуться с тем, что скрывается там, во тьме неизведанного, вне тесного кружка света, отброшенного светильником Науки.
* * *
— Как так получается, — пожаловался Джордж, — когда уж я попадаю домой, Джеф непременно где-то гоняет. Куда он сегодня девался?
Джин подняла глаза от вязанья — это старинное занятие недавно возродилось с большим успехом. Подобные моды сменялись на острове довольно быстро. Благодаря упомянутому новому увлечению всех мужчин одарили многоцветными свитерами — в дневную жару надевать их было невозможно, а после захода солнца в самый раз.
— Джеф отправился с приятелями на Спарту, — ответила Джин мужу, — Обещал вернуться к обеду.
— Вообще-то я пришел домой поработать, — в раздумье сказал Джордж, — но уж очень славный денек, пожалуй, пойду и сам искупаюсь. Какую рыбу тебе принести?
Джордж еще ни разу не вернулся домой с уловом, да и не ловилась рыба в лагуне, чересчур была хитра. Джин уже собралась было ему об этом напомнить, но внезапно послеполуденную тишину потряс звук, который даже в нынешние мирные времена леденил кровь и сжимал сердце тисками недоброго предчувствия. То взвыла сирена, — нарастая, замирая и вновь нарастая, кругами разлеталась все шире над морем весть об опасности.
* * *
Почти столетие медленно накапливалось давление в раскаленной тьме глубоко под дном океана. С тех пор как здесь образовался подводный каньон, минули геологические эпохи, но истерзанные скалы так к не примирились с новым своим положением. Множество раз несчетные глубинные пласты трескались и колебались под невообразимой тяжестью вод, нарушающей их непрочное равновесие. И сейчас они вновь готовы были сместиться.
Джеф обследовал каменистые ложбинки вдоль узкого берега Спарты — что может быть увлекательней? Никогда не угадать заранее, какие чудо-существа укрылись тут от могучих валов, которые неустанно накатывают с Тихого океана и разбиваются о рифы. Это волшебная страна для каждого мальчишки, и сейчас Джеф владеет ею один: друзья ушли в горы.
День тихий, спокойный, ни ветерка, и даже вечный ропот волн за рифами сегодня как-то задумчиво приглушен. Палящее солнце еще только на полпути к закату, но Джефу, высмугленному загаром до цвета красного дерева, уже не страшны самые жгучие лучи.
Берег здесь — узкая песчаная полоска, он круто спускается к лагуне. Вода прозрачна, как стекло, в ней ясно видны камни, знакомые Джефу не хуже любого валуна и пригорка на суше. На глубине около десяти метров покрытый водорослями остов старой-престарой шхуны выгнулся навстречу миру, откуда он канул на дно добрых двести лет назад. Джеф с друзьями не раз обследовали эти древние останки, но надежда найти неведомые сокровища так и не сбылась. Только и добыли сплошь обросший ракушками компас.
И вдруг нечто взялось за берег уверенной хваткой и встряхнуло — один только раз. Дрожь мигом прошла, и Джеф подумал, может, ему просто почудилось. Пожалуй, просто на миг закружилась голова, ведь кругом ничего не изменилось. Воды лагуны по-прежнему как зеркало, в небесах ни облачка, ничего угрожающего. А потом начало твориться что-то очень странное.
Вода отступала от берега, да так быстро, как никогда еще не бывало при отливе. Очень удивленный, но ничуть не испуганный, Джеф смотрел, как обнажается и сверкает на солнце мокрый песок. И пошел вслед за откатывающимся океаном — нельзя ничего упустить, мало ли какие чудеса подводного мира могут сейчас открыться. А лагуна стала совсем мелкой, мачта затонувшей шхуны уже торчала над водой и поднималась все выше, и водоросли на ней, лишенные привычной опоры, бессильно поникли. Джеф заторопился — скорей, скорей, впереди ждут неведомые открытия.
И тут до его сознания дошел странный звук, доносящийся от рифа. Джеф никогда еще такого не слышал и приостановился, пытаясь понять, что это; босые ноги медленно погружались в мокрый песок. За несколько шагов от него билась в предсмертных судорогах большая рыбина, но Джеф лишь мельком глянул на нее. Он застыл, настороженно прислушиваясь, а шум, идущий от рифа, все нарастал.
То были странные звуки — и журчащие, и сосущие, словно река устремилась в узкое ущелье. То был гневный голос океана, что нехотя отступал, теряя, пусть ненадолго, пространства, которыми владел по праву. Сквозь прихотливо изогнутые ветви кораллов, сквозь потаенные подводные пещеры ускользали из лагуны в необъятность Тихого океана миллионы тонн воды.
Очень скоро и очень быстро они возвратятся.
* * *
Несколько часов спустя одна из спасательных партий нашла Джефа на громадной глыбе коралла, заброшенной на высоту двадцати метров над обычным уровнем воды. Казалось, он не так уж испуган, только огорчен тем, что пропал его велосипед. Да еще порядком проголодался, ведь часть дамбы рухнула и он оказался отрезан от дома. Когда его нашли, он уже подумывал добраться до Афин вплавь и доплыл бы, наверно, без особого труда, разве что обычные течения круто повернули бы прочь от берега.
С первой минуты, когда удар цунами обрушился на остров, и до самого конца все происходило на глазах у Джин и Джорджа. Те части Афин, что расположены были невысоко над уровнем моря, сильно пострадали, но ни один человек не погиб. Сейсмографы предупредили об опасности всего за пятнадцать минут до катастрофы, но этих считанных минут хватило — все успели уйти на высоту, где волна им уже не грозила. Теперь Колония зализывала раны и собирала воедино легенды, которые год от году станут внушать все больший трепет.
Когда спасатели вернули Джефа матери, Джин расплакалась, она успела уверить себя, что его унесло волной. Ведь она сама, застыв от ужаса, видела, как с грохотом надвигалась из дальней дали черная, увенчанная белым гребнем водяная стена и, рухнув, всей брызжущей вспененной громадой придавила подножье Спарты. Невозможно было представить, как успел бы Джеф достичь безопасного места.
Неудивительно, что он не сумел толком объяснить, как же это вышло. Когда он поел и улегся в постель, Джин с Джорджем уселись подле него.
— Спи, милый, и забудь, что было, — сказала Джин, — Все страшное позади.
— Но я не так уж испугался, — запротестовал Джеф. — Было очень занятно.
— Вот и хорошо, — сказал Джордж. — Ты храбрый паренек, и молодец, что сообразил вовремя убежать. Мне и раньше случалось слышать про такие вот цунами. Когда вода отступает, многие идут за ней по открытому дну поглядеть, что такое творится, и их захлестывает.
— Я тоже пошел, — признался Джеф. — Интересно, кто это меня выручил?
— Как выручил? Ты же там был один. Остальные ребята ушли в гору.
На лице у Джефа выразилось недоумение.
— Так ведь кто-то мне велел бежать.
Джин и Джордж озабоченно переглянулись.
— То есть… тебе что-то послышалось?
— Ах, оставь его сейчас в покое, — с тревогой и, пожалуй, чересчур поспешно перебила Джин.
Но Джордж упорствовал:
— Я хочу в этом разобраться. Объясни по порядку, Джеф, как было дело.
— Ну, я дошел по песку до той разбитой шхуны и тут услышал голос.
— Что же он сказал?
— Я не очень помню, вроде: «Джеффри, беги в гору. Здесь оставаться нельзя, ты утонешь». Но он меня назвал Джеффри, а не Джеф, это точно. Значит, кто-то незнакомый.
— А говорил мужчина? И откуда слышался голос?
— У меня за спиной, совсем близко. И вроде говорил мужчина…
Джеф запнулся, но отец требовал ответа:
— Ну же, продолжай. Представь, что ты опять там, на берегу, и расскажи нам подробно все как было.
— Ну, какой-то не такой был голос, я раньше такого не слыхал. Наверно, этот человек очень большой.
— А что еще он говорил?
— Ничего… пока я не полез в гору. А тогда опять получилось чудно. Знаешь, там на скале такая тропинка наверх?
— Знаю.
— Я побежал по ней, это самый быстрый путь. Тогда я уже понял, что делается, уже увидал, идет та высокая волна. И она ужасно шумела. И вдруг поперек дороги лежит большущий камень. Раньше его там не было, и смотрю, мне его никак не обойти.
— Наверно, он обрушился при землетрясении, — сказал Джордж.
— Тс-с! Рассказывай дальше, Джеф.
— Я не знал, как быть, и слышу, уже волна близко. И тут голос говорит: «Закрой глаза, Джеффри, и заслони лицо рукой». Мне показалось, чудно это, но я зажмурился и ладонью закрылся. И вдруг что-то вспыхнуло, я почувствовал — жарко, открываю глаза, а тот камень пропал.
— Пропал?
— Ну да… просто его уже не было. И я опять побежал и чуть не сжег себе подошвы, тропинка была ужасно горячая. Вода когда плеснула на нее, даже зашипела, но меня не достала, я уже высоко поднялся. Вот и все. Потом волны ушли, и я опять спустился. Смотрю, моего велика нету, и дорога домой обвалилась.
— Не огорчайся из-за велосипеда, милый, — сказала Джин, благодарно сжав сына в объятиях, — Мы тебе подарим другой. Главное, ты остался цел. Не будем гадать, как это получилось.
Это, конечно, была неправда, совещание началось, едва родители вышли из детской. Ни до чего они не додумались, однако предприняты были два шага. Назавтра же, ничего не сказав мужу, Джин повела сынишку к детскому психологу. Врач внимательно слушал Джефа, а тот, нимало не смущенный незнакомой обстановкой, снова рассказал о своем приключении. Затем, пока ничего не подозревающий пациент перебирал и отвергал одну задругой игрушки в соседней комнате, врач успокаивал Джин.
— Нет ни малейших признаков каких-либо психических отклонений. Не забывайте, он испытал жестокую встряску и перенес ее на редкость безболезненно. У мальчика богатое воображение, и он, надо полагать, сам верит в то, что рассказал. И вы тоже примите эту сказку и не волнуйтесь, разве что появятся какие-либо новые симптомы. Тогда сразу дайте мне знать.
Вечером Джин пересказала слова врача Джорджу. Похоже, он вовсе не воспрянул духом, как она надеялась, и Джин решила, что он озабочен ущербом, который потерпело его любимое детище — театр. Джордж только и пробурчал: «Вот и хорошо» и углубился в очередной номер журнала «Сцена и студия». Казалось, он утратил всякий интерес к происшествию с Джефом, и Джин ощутила даже смутную досаду.
Но три недели спустя, в первый же день, когда починили дамбу, Джордж со своим велосипедом помчался на Спарту. Берег все еще засыпан был обломками кораллов, а в одном месте, похоже, в самом рифе образовалась пробоина. Любопытно, сколько времени понадобится мириадам терпеливых полипов, чтобы заделать брешь, подумалось Джорджу.
По склону утеса, обращенному к морю, вела лишь одна тропинка; Джордж немного отдышался и начал взбираться по ней. Между камнями застряли высохшие обрывки водорослей, словно отметка уровня, до которого поднималась вода.
Долго стоял Джордж Грегсон на этой пустынной тропе и не сводил глаз с проплешины оплавленного камня пол ногами. Попробовал внушить себе, что это случайный каприз давно заглохшего вулкана, но быстро отказался от жалкой попытки себя обмануть. Мысль метнулась в прошлое, к тому вечеру, много лет назад, когда они с Джин участвовали в дурацком опыте у Руперта Бойса. Никто так и не понял толком, что же тогда произошло, но Джордж знал: каким-то непостижимым образом эти два странных случая связаны между собой. Сначала Джин, а вот теперь ее сынишка. Джордж не знал, радоваться ли ему или бояться, и в глубине души молча взмолился: «Спасибо, Кареллен, за то, что твои собратья помогли Джефу. Только хотел бы я знать, почему они ему помогли».
Он медленно спустился на берег, а большие белые чайки обиженно вились вокруг него, ведь он не принес им никакого лакомства, ни крошки не бросил, пока они кружили над ним в воздухе.
17
Хотя подобной просьбы можно было ждать от Кареллена в любую минуту со дня основания Колонии, она произвела впечатление разорвавшейся бомбы. Совершенно ясно, наступает какой-то поворот в судьбе Афин, но как знать, к добру это или к худу?
До сих пор Колония жила по-своему и Сверхправители никак не вмешивались в ее дела. Ее просто оставляли без внимания, как, впрочем, почти всякую деятельность людей, лишь бы она не подрывала порядок и не оскорбляла нравственные понятия Сверхправителей. Можно ли сказать, что Колония стремится подорвать существующий порядок? Колонисты — не политики, но они олицетворяют стремление разума и искусства к независимости. А кто знает, к чему приведет такая независимость? Сверхправители вполне способны предвидеть будущее Афин яснее, чем сами основатели Колонии, — и, возможно, это будущее им не по вкусу.
Разумеется, если Кареллен хочет прислать наблюдателя, инспектора, как бы там его ни назвать, ничего не поделаешь. Двадцать лет назад Сверхправители объявили, что перестают пользоваться следящими устройствами и человечеству больше незачем опасаться какого-либо подсматривания. Но ведь такие устройства существуют — и уж если Сверхправители пожелают за чем-то проследить, от них ничто не укроется.
Кое-кто на острове радовался предстоящему посещению, видя в нем случай разрешить одну из загадок психологии Сверхправителей, хоть и второстепенную: как они относятся к искусству? Не считают ли его ребячеством, заблуждением человечества? Есть ли у них самих какие-либо формы искусства? И если есть, вызван ли этот визит чисто эстетическим интересом или на уме у Кареллена что-то не столь безобидное?
Все это обсуждали без конца, покуда готовились к встрече. О Сверхправителе, который будет гостем Колонии, ничего не знали, но предполагалось, что его способность воспринимать явления культуры безгранична. По крайней мере, можно поставить опыт, и каждую ответную реакцию подопытного кролика будет с интересом наблюдать целый отряд весьма проницательных умов.
Очередным президентом Совета Колонии был в это время Чарлз Ян Сен, философ, человек, от природы склонный к иронии, но отнюдь не к унынию, притом в расцвете лет — ему еще не перевалило за шестьдесят. Платон одобрил бы в нем образцовое сочетание философа и государственного мужа. Сен же не во всем одобрял Платона, ибо подозревал, что тот совершенно неправильно истолковал Сократа. Сен принадлежал к числу островитян, исполненных решимости извлечь как можно больше пользы из предстоящего визига, хотя бы для того, чтобы показать Сверхправителям, что в людях еще жива жажда деятельности и их не удалось, как он выражался, «окончательно приручить».
Для любого дела в Афинах создавался какой-нибудь комитет, ведь это отличительный признак демократии. Кто-то даже когда-то определил саму Колонию как систему взаимосвязанных комитетов. Но система эта работала успешно, недаром подлинные основатели Афин терпеливо изучали законы общественной психологии. И поскольку общину создали не слишком большую, каждый так или иначе участвовал в управлении, а значит, был гражданином в самом истинном значении этого слова.
Джордж, один из театральных руководителей, почти неминуемо вошел бы в комитет по приему гостя. Но для большей надежности он еще и нажал кое-какие пружины. Сверхправители хотят изучать Колонию, ну а Джордж в той же мере хочет изучать их, Сверхправителей. Джин это его желание совсем не радовало. После памятного вечера у Бойсов она всегда ощущала смутную враждебность к Сверхправителям, хотя никак не умела это объяснить. Ей только хотелось возможно меньше с ними сталкиваться, и жизнь на острове, пожалуй, больше всего тем и привлекала ее, что здесь была желанная независимость. И теперь она боялась, что независимость эта под угрозой.
Гость прибыл безо всякой пышности, на обыкновенном флайере человеческого производства, к разочарованию тех, кто ожидал какого-нибудь необычайного зрелища. Возможно, это был Кареллен собственной персоной — люди так и не научились сколько-нибудь уверенно отличать одного Сверхправителя от другого. Казалось, все они — точная копия одного и того же образца. Быть может, вследствие какого-то неведомого биологического процесса так оно и было.
После первого дня колонисты уже почти не замечали негромко рокочущую парадную машину, в которой разъезжал гость, осматривая остров. Имя гостя — Танталереско — выговорить было нелегко, и его быстро окрестили Инспектором.
Имя вполне подходящее, так как он был очень любопытен и ненасытно жаден до статистических данных.
Чарлз Ян Сен совсем изнемог, когда далеко за полночь проводил Инспектора к флайеру — его временному жилищу на острове. Несомненно, здесь Инспектор будет работать и ночью, пока хозяева предаются человеческой слабости — сну.
Миссис Сен насилу дождалась возвращения мужа. Они были любящей парой, хотя, когда в доме собирались друзья, Чарлз шутливо именовал супругу Ксантиппой. Она давно уже пригрозила, как полагается, в отместку поднести ему чашу отвара цикуты, но, по счастью, сей напиток в Новых Афинах был не столь распространен, как в Афинах древности.
— Сошло удачно? — спросила она, когда муж уселся наконец за поздний ужин.
— Кажется, да… хотя невозможно разобрать, что творится в этих мудрых головах. Он, безусловно, многим заинтересовался, даже хвалил. Кстати, я извинился, что не приглашаю его к нам. Он сказал, что это вполне понятно и что у него нет охоты стукаться головой о наши потолки.
— Что ты ему сегодня показывал?
— Откуда в Колонии хлеб насущный, и ему, похоже, это показалось не такой скучной материей, как мне. Он без конца расспрашивал о производстве, о том, как мы поддерживаем наш бюджет в равновесии, какие у нас минеральные ресурсы, какая рождаемость, откуда берутся продукты питания и прочее. Спасибо, со мной был секретарь Харрисон, уж он-то подготовился, изучил ежегодные отчеты за все время, что существует Колония. Слышала бы ты, как они перебрасывались цифрами. Инспектор выпросил у Харрисона всю эту статистику — и голову даю на отсечение, завтра он сможет сам наизусть назвать нам любую цифру. Такие чудо-способности меня просто угнетают.
Он зевнул и нехотя принялся за еду.
— Завтра будет поинтереснее. Мы побываем в школах и в Академии. Тут уж для разнообразия я сам намерен кое о чем поспрашивать. Хотел бы я знать, как Сверхправители воспитывают своих детей… если у них вообще есть дети.
На этот вопрос Чарлзу Сену так и не довелось получить ответ, но в других отношениях Инспектор оказался на диво словоохотлив. Любо-дорого было смотреть, как искусно уклоняется он от нескромных попыток что-то выведать, а затем, когда и не ждешь, переходит на самый доверительный тон.
Первый подлинно задушевный разговор завязался, когда они ехали из школы, которая была в Колонии одним из главных предметов гордости.
— Готовить юные умы к будущему — огромная ответственность, — заметил доктор Сен. — По счастью, человек существо на редкость выносливое: непоправимый вред может нанести разве что уж очень скверное воспитание. Даже если мы ошибаемся в выборе цели, маловероятно, чтобы малыши стали жертвами наших ошибок, скорее всего они их преодолеют. А сейчас, как вы видели, они выглядят вполне счастливыми.
Сен чуть помолчал, лукаво глянул снизу вверх на своего огромного пассажира. Инспектора с головы до пят окутывала ткань с серебристым отливом, защищая все тело от жгучих солнечных лучей. Но доктор Сен знал: большие глаза, скрытые темными очками, следят за ним бесстрастным взглядом… а может быть, этот взгляд и выражает какие-то чувства, но их все равно не разгадать.
— Мне кажется, задача, которую мы решаем, воспитывая наших детей, очень сходна с той, которая встала перед вами при встрече с человечеством. Вы не согласны?
— В некоторых отношениях согласен, — серьезно сказал Сверхправитель. — А в других, пожалуй, больше сходства с историей ваших колониальных держав. Именно поэтому нас всегда интересовали Римская и Британская империи. Особенно поучителен случай с Индией. Главное различие между нами и англичанами — что у них не было серьезных оснований идти в Индию, то есть не было осознанных целей, кроме таких мелких и преходящих, как торговля или вражда с другими европейскими государствами. Они оказались владельцами империи, еще не понимая, что с ней делать, и тяготились ею, пока снова от нее не избавились.
Доктор Сен не устоял перед искушением, слишком удобный представился случай.
— А вы тоже избавитесь от своей империи, когда настанет срок? — спросил он.
— Без малейшего промедления, — ответил Инспектор.
Доктор Сен больше не расспрашивал. Ответ был недвусмысленный и не очень-то лестный; притом они как раз подъехали к Академии, где уже собрались педагоги и готовились испытать все силы ума на живом настоящем Сверхправителе.
* * *
— Как уже говорил вам наш уважаемый коллега, — сказал декан новоафинского университета профессор Чанс, — превыше всего мы стараемся поддержать в колонистах живость ума и помочь им развить и применить все их способности. Боюсь, что за пределами этого острова (взмахом руки он обвел и отстранил всю остальную планету) человечество утратило волю к действию. Есть мир, есть изобилие… но некуда стремиться…
— Тогда как здесь, разумеется?.. — учтиво вставил Сверхправитель.
Профессору Чансу не хватало чувства юмора, он и сам это смутно сознавал — и подозрительно глянул на гостя.
— Здесь мы не страдаем от древнего предрассудка, будто праздность — порок. Но мы думаем, что быть просто созерцателями, потребителями развлечений — этого мало. Здесь, на острове, каждый стремится к одной цели, определить ее очень просто. Каждый хочет делать хоть что-то, пусть самую малость, лучше всех. Конечно, это идеал, которого не всем нам удается достичь. Но по нынешним временам главное, чтобы идеал у человека был. Удастся ли его достичь — не столь важно.
Инспектор, видимо, не собирался высказаться по этому поводу. Он сбросил защитный плащ, но темные очки не снял, хотя свет в профессорской пригасили. И декан спрашивал себя, нужны ли очки из-за особенности зрения гостя или это просто маскировка. Из-за них, конечно, уж вовсе невозможно прочесть мысли Сверхправителя — задача и без того нелегкая. Однако гость как будто не против, что его забрасывают замечаниями, в которых звучит вызов и чувствуется — оратору совсем не нравится политика Сверхправителей по отношению к Земле.
Декан готов был продолжать атаку, но тут в борьбу вмешался директор Управления по делам науки профессор Сперлинг.
— Как вам, без сомнения, известно, сэр, одним из сложнейших противоречий нашей культуры была разобщенность искусства и науки. Я очень хотел бы узнать ваше мнение по этому вопросу. Согласны ли вы, что все люди искусства не вполне нормальны? Что их творчество — или, во всяком случае, сила, побуждающая их творить, — проистекает из какой-то глубоко скрытой психологической неудовлетворенности?
Профессор Чанс многозначительно откашлялся, но Инспектор его опередил:
— Мне когда-то говорили, что все люди в какой-то мере художники и каждый человек способен что-то создать, хотя бы и на примитивном уровне. Вот, например, вчера я заметил, что в ваших школах особое внимание уделяют тому, как ребенок выражает себя в рисунке, в красках, в лепке. Видимо, стремление к творчеству присуще всем без исключения, даже тем, кто наверняка посвятит себя науке. Стадо быть, если все художники не вполне нормальны, а все люди — художники, мы получаем любопытный логический вывод…
Все ждали завершения. Но Сверхправители, когда им это кстати, умеют быть безукоризненно тактичными.
* * *
Симфонический концерт Инспектор выдержал с достоинством, чего нельзя сказать о многих слушателях-людях. Единственной уступкой привычным вкусам была «Симфония псалмов» Стравинского, остальная программа — воинствующее сверхноваторство. Но как бы ни оценивать программу, исполнялась она блистательно, Новые Афины гордились тем, что в числе колонистов есть несколько лучших музыкантов мира, и это была не пустая похвальба. Между композиторами-соперниками разгорелся ожесточенный спор за честь участвовать в программе, хотя иные циники сомневались, честь ли это. Возможно, Сверхправители начисто лишены музыкального слуха, еще никто ни разу не убеждался в обратном.
Однако после концерта Танталереско отыскал среди присутствующих трех композиторов и похвалил, как он выразился, их «великую изобретательность». Услыхав такой комплимент, они удалились, судя по их лицам, польщенные, но и несколько растерянные.
Джорджу Грегсону удалось встретиться с Инспектором только на третий день. В театре посетителя решили угостить не единственным блюдом, но своего рода винегретом: две одноактные пьесы, выступление всемирно известного мастера «на роли с переодеванием», балетная сюита. Все это опять-таки исполнено было с блеском, и предсказание некоего критика: «Теперь мы по крайней мере узнаем, умеют ли Сверхправители зевать», — не оправдалось. Инспектор даже несколько раз засмеялся — и именно там, где надо.
И все же… почем знать? Вдруг он и сам превосходный актер и следил только за логикой представления, а неведомых его чувств оно никак не затронуло, ведь и антрополог, оставаясь равнодушным, мог бы участвовать в каком-нибудь обряде варварского племени. Да, он издавал подходящие звуки и откликался на все, как от него ждали, но это ровным счетом ничего не доказывает.
Джордж заранее твердо решил поговорить с Инспектором — и потерпел неудачу. После спектакля они только и успели познакомиться, и гостя сразу увлекли прочь. Невозможно было хоть на минуту отделаться от его entourage[18], и Джордж ушел домой жестоко разочарованный. Он сам толком не знал, что скажет Сверхправителю, если и сумеет остаться с ним наедине, но был уверен, что уж как-нибудь да сумеет завести речь о Джефе. И вот случай упущен.
Два дня Джордж хандрил и злился. Инспектор отбыл среди несчетных заверений во взаимном уважении, следствие визита обнаружилось позже. Никому и в голову не пришло спрашивать о чем-то Джефа, и мальчик, должно быть, долго все обдумывал, прежде чем обратиться к отцу. Вечером, уже перед сном, он спросил:
— Пап, а ты знаешь Сверхправителя, который к нам сюда приезжал?
— Знаю, — хмуро ответил Джордж.
— Ну вот, он приходил к нам в школу, и я слышал, он разговаривал с учителями. Я не понял по-настоящему, что он сказал, а только мне кажется, голос знакомый. Это он мне велел бежать от той большой волны.
— Ты уверен?
Джеф чуть замялся.
— Ну, не совсем… только если это был не он, значит, другой Сверхправитель. Я подумал, может, надо сказать ему спасибо. Но ведь он уже уехал, да?
— Да, — сказал Джордж. — Боюсь, уже поздно. Но, может быть, мы сумеем его поблагодарить в другой раз. А теперь больше не беспокойся об этом, будь умницей и ложись спать.
Наконец Джефа благополучно отравили в детскую. Джин уложила дочку, вернулась и села на ковер возле мужнина кресла, прислонилась к ногам Джорджа. Эта ее привычка Джорджу казалась нелепо сентиментальной. Но не поднимать же шум из-за пустяка. Он только старался, чтобы коленки его торчали как можно чтгловатей и неуютней.
— Ну, что ты теперь скажешь? — глухо, устало спросила Джин, — По-твоему, так было на самом деле?
— Было, — сказал Джордж, — но, пожалуй, зря мы беспокоимся. В конце концов, любые родители были бы только благодарны… ну и я, конечно, благодарен. Наверно, объясняется это проще простого. Мы знаем, что Сверхправители заинтересовались Колонией, так уж конечно они наблюдают за ней, хоть и обещали больше не пользоваться своими приборами. Допустим, кто-то из них как раз шарил по нашим местам своим глазастым аппаратиком и увидел, что идет цунами. Вполне естественно предупредить всякого, кому грозит опасность.
— Не забывай, он знал, как зовут Джефа. Нет, за нами следят. Чем-то мы выделяемся, почему-то мы им интересны. Я это давно чувствую, с той самой вечеринки у Руперта. Странно, как она все переменила и в твоей жизни, и в моей.
Джордж посмотрел на нее сверху вниз сочувственно, но не более того. Удивительно, как человек меняется за такой короткий срок. Он очень к ней привязан, она — мать ею детей и прочно вошла в его жизнь. Но много ли сохранилось от той любви, какую некто полузабытый, кого звали Джордж Грегсон, питал к выцветающей мечте по имени Джин Моррел? Теперь он делит свою любовь между Джефом и Дженнифер с одной стороны — и Кэрол с другой. Навряд ли Джин знает про Кэрол, и непременно надо ей сказать, пока не сказал кто-нибудь посторонний. Но почему-то все не удается об этом заговорить.
— Ну, ладно… за Джефом следят… в сущности, его охраняют. А не кажется тебе, что нам бы надо этим гордиться? Может быть, Сверхправители готовят ему большое будущее. Хотел бы я знать, какое?
Он понимал, что старается всего лишь успокоить Джин. Сам он не слишком встревожен, просто сбит с толку да любопытство задето. И вдруг новая мысль поразила его, об этом следовало подумать раньше. Джордж невольно посмотрел в сторону детской.
— А может быть, им нужен не только Джеф, — сказал он.
* * *
Как положено, Инспектор представил отчет о поездке на остров. Дорого бы дали колонисты, чтобы узнать, что там, в отчете. Все цифры и сведения поглотила ненасытная память мощных вычислительных машин, представляющих собою часть — но только часть — незримых сил, которыми распоряжался Кареллен. Но еще прежде чем сделали какие-то выводы бесстрастные электронные умы, Инспектор высказал свои соображения. В переводе на человеческую мысль и человеческий язык они прозвучали бы примерно так:
— В отношении Колонии нам незачем принимать какие-либо меры. Эксперимент любопытный, но он никак не может повлиять на будущее. Их увлечение искусством нас не касается, а никаких научных исследований в опасных направлениях там, видимо, не ведут.
В соответствии с нашим планом я сумел узнать, как учится и ведет себя Номер Один, не привлекая чьего-либо внимания. Соответствующие данные приложены, и по ним можно убедиться, что пока нет никаких признаков чего-то необычного. Но. как нам известно. Прорыв редко дает о себе знать заранее.
Я встретился также с отцом Номера Первого, и у меня создалось впечатление, что он хочет со мной поговорить. К. счастью, мне удалось этого избежать. Несомненно, он что-то подозревает, хотя, разумеется, не может ни угадать истину, ни как-либо повлиять на исход дела.
Чем дальше, тем больше я жалею этих людей.
* * *
Джордж Грегсон согласился бы с выводом Инспектора, что в Джефе нет ничего необычного. Был только тот непонятный случай, пугающий, как единственный удар грома среди долгого ясного дня. И потом — тишина.
Как всякий семилетний мальчишка, Джеф — сгусток энергии и пытливости. Он умен — когда дает себе груд быть умным, — но ему не грозит опасность обернуться гением. Иногда кажется, чуть устало думала Джин, будто ее сын в точности сделан по классическому рецепту: что такое маленький мальчик? — шум и крик в оболочке из грязи. Впрочем, насчет грязи не сразу скажешь с уверенностью — немало ее должно накопиться, пока она станет заметна на дочерна загорелой коже.
Джеф то ласков, то угрюм, то замкнут, то весь нараспашку. Незаметно, чтобы он больше любил мать, чем отца, или наоборот, и появление младшей сестренки не вызвало у него ни малейшей ревности. Он безупречно здоров, за всю жизнь ни дня не болел. Но по нынешним временам и при здешнем климате ничего необычного тут нет.
В отличие от некоторых мальчишек Джеф не скучает в обществе отца и не спешит удрать от него к сверстникам. Он явно унаследовал художнический талант Джорджа и чуть ли не сразу, как научился ходить без спутников, стал завсегдатаем кулис в театре Колонии. А театр сю признал словно бы живым талисманом, приносящим счастье, и он уже наловчился подносить букеты заезжим звездам сцены и экрана.
Да, Джеф самый обыкновенный мальчишка. В этом опять и опять уверял себя Джордж, когда они вдвоем бродили или катались на велосипедах по не слишком просторному в общем-то острову. Они разговаривали, как спокон веку разговаривают сыновья и отцы, только время иное, и теперь куда больше есть о чем поговорить. Хотя Джеф никогда не уезжал с острова, вездесущее око — экран телевизора — помогало ему всласть наглядеться на окружающий мир. Как и все в Колонии, он немножко презирал остальное человечество. Колонисты — избранники, передовой отряд прогресса. Они приведут род людской к высотам, которых достигли Сверхправители, а быть может, и выше. Конечно, еще не завтра, но настанет день…
Они и не подозревали, что день этот настанет слишком быстро…
18
Спустя полтора месяца начались сны.
Во тьме субтропической ночи Джордж Грегсон медленно всплыл из глубины сна. Он не понял, что его разбудило, и минуту-другую лежал в тупом недоумении. Потом сообразил — он один. Джин встала, неслышно ушла в детскую. И тихо разговаривает с Джефом, слишком тихо, слов не разобрать.
Джордж тяжело поднялся и пошел следом за женой. Из-за Пупсы такие ночные путешествия не редкость, но она-то поднимает такой шум и рев, поневоле проснешься. А туг ничего похожего, и непонятно, что разбудило Джин.
В детской полумрак, только слабо лучатся светящиеся узоры на стенах. И при этом приглушенном свете Джордж увидел — Джин сидит подле кровати Джефа.
Она обернулась, шепнула:
— Смотри, не разбуди Пупсу.
— Что случилось?
— Я поняла, что нужна Джефу, и проснулась.
Сказано так просто, будто все само собой разумеется… У Джорджа засосало под ложечкой от недоброго предчувствия. «Я поняла, что нужна Джефу». А как ты это поняла, спрашивается? Но вслух он спросил только:
— Разве прежде у него бывали кошмары?
— Не думаю, — сказала Джин. — Сейчас как будто все прошло. Но сперва я увидела, он испугался.
— И совсем я не испугался, мамочка, — с досадой перебил тихий голосок. — Просто там было очень странно.
— Где это «там»? — спросил Джордж. — Расскажи-ка толком.
— Стояли горы, — словно сквозь сон сказал Джеф. — Высокие-высокие, а снега на них нет, а раньше сколько я видел гор, на них всегда снег. И некоторые горели.
— Значит, это были вулканы?
— Не настоящие вулканы. Они все горели, сверху донизу, такие на них чудные синие огоньки. Я смотрел, и тут взошло солнце.
— А дальше что? Почему ты замолчал?
Джеф растерянно посмотрел на отца.
— Вот это тоже непонятное, папа. Солнце поднялось быстро-быстро, и оно было слишком большое. И… и какого-то не такого цвета. Голубое, очень красивое.
Настало долгое, леденящее душу молчание. Потом Джордж спросил негромко:
— Это все?
— Да. Как-то мне стало тоскливо, и тогда пришла мама и меня разбудила.
Джордж взъерошил растрепанные волосы сына, другой рукой поплотнее запахнул халат. Вдруг пробрало холодом, и он почувствовал себя маленьким и слабым. Но когда он опять заговорил с Джефом, голос его ничего такого не выдал.
— Просто тебе приснился глупый сон, надо поменьше есть за ужином. Выкинь все это из головы и спи, будь умницей.
— Хорошо, папа, — отозвался Джеф. Минуту помолчал и прибавил задумчиво: — Надо бы еще разок там побывать.
* * *
— Голубое солнце? — всего лишь несколько часов спустя переспросил Кареллен. — Тогда совсем несложно определить, где это.
— Да, — сказал Рашаверак. — Несомненно, Альфанидон-два. И Серные горы это подтверждают. Любопытно отметить, как исказились масштабы времени. Планета вращается довольно медленно, так что он, видимо, за считанные минуты наблюдал многие часы.
— Больше ты ничего не мог узнать?
— Нет, если не расспрашивать ребенка в открытую.
— Этого мы не смеем. Все должно идти своим чередом, нам нельзя вмешиваться. Вот когда к нам обратятся родители… тогда, пожалуй, можно будет его расспросить.
— Может быть, они к нам и не придут. Или придут слишком поздно.
— Боюсь, тут ничего не поделаешь. Надо всегда помнить: при этих событиях наше любопытство не имеет значения. Оно значит не больше, чем счастье человечества.
Кареллен протянул руку, готовясь отключить связь.
— Разумеется, продолжай наблюдать и обо всем докладывай мне. Но никакого вмешательства.
* * *
Между тем когда Джеф не спал, он как будто оставался прежним мальчишкой. И на том спасибо, думал Джордж. Но в душе его нарастал страх.
Для Джефа это была просто игра, он пока ничуть не боялся. Сон — это сон, только и всего, какой бы он ни был странный. Джефу больше не становилось тоскливо в мирах, которые открывались ему во сне. Только в ту первую ночь он мысленно позвал Джин через неведомые, разделившие их бездны. А теперь один бесстрашно странствовал во Вселенной, которая перед ним раскрывалась.
По утрам родители расспрашивали его, и он рассказывал, сколько мог припомнить. И порой сбивался, не хватаю слов описать увиденное — такое, чего не только сам не встречал наяву, но что бессильно было себе представить человеческое воображение. Отец и мать подсказывали ему новые слова, показывали картинки и краски, пытаясь подхлестнуть его память, и из его ответов составляли, как могли, связные образы. Зачастую получалось нечто совершенно непонятное, хотя, видимо, самому Джефу миры его снов представлялись ярко и отчетливо. Просто он не мог передать эти образы родителям. Впрочем, иные оказывались довольно ясными…
* * *
Пустое пространство — никакой планеты, ни юр, ни равнин вокруг, никакой почвы под ногами. Только звезды в бархатной тьме, и среди них громадное красное солнце, оно пульсирует, бьется, точно сердце. Вот оно огромное, но бледное, а лотом понемногу съеживается и в то же время разгорается ярче, словно внутреннему его пламени подбавилось горючего. И окраска его меняется, вот оно уже не красное, а оранжевое, потом почти желтое, медлит на грани желтизны — и все поворачивает вспять, звезда расширяется, остывает, сызнова становится косматым кроваво-красным облаком…
(— Классический образчик пульсирующей переменной, — обрадовался Рашаверак, — И к тому же увиденный при неимоверном ускорении времени. Не могу определить точно, но, судя по описанию, ближайшая такая звезда — Рамсандрон-девять. А может быть, это Фаранидон-двенадцать.
— Та ли, эта ли звезда, но он уходит все дальше, — заметил Кареллен.
— Много дальше, — сказал Рашаверак…)
* * *
Тут было совсем как на Земле. Ярко-белое солнце повисло на синем небе в крапинках несущихся по ветру облаков. У подножия некрутой горы пенился исхлестанный бешеным ветром океан. И при этом ничто не шелохнется: все застыло — недвижимо, будто высветилось на миг при вспышке молнии. А далеко-далеко на горизонте виднелось такое, чего на Земле не увидишь, — вереница туманных, чуть сужающихся кверху колонн, они вырастали из воды и тонули вершинами в облаках. Они шли на равном расстоянии друг от друга по краю всей планеты, такие громадные, что никто не мог бы их построить, — и все же такие одинаковые, что не могли появиться сами собой.
(— Сиденеус-четыре и Рассветные столпы, — голос Рашаверака дрогнул. — Он достиг центра Вселенной.
— А ведь его путешествие только начинается, — сказал Кареллен.)
* * *
Планета была совершенно плоская. Непомерное тяготение давным-давно придавило и сровняло с поверхностью былые горы ее огненной юности — горы, чьи самые могучие вершины и тогда не превышали нескольких метров. И однако здесь была жизнь: все покрывали мириады словно бы с помощью линейки и циркуля вычерченных узоров, они двигались, переползали с места на место, меняли окраску. Это был мир двух измерений, и населяли его существа толщиной в малую долю сантиметра.
А в небе этого мира пылало солнце, какое не привиделось бы и курильщику опиума в самых безумных грезах. Раскаленное уже не добела, а еще того больше, палящий, почти ультрафиолетовый призрак этот обдавал свои планеты смертоносным излучением, которое вмиг уничтожило бы все живое на Земле. На миллионы километров вокруг простирались завесы газа и пыли и, прорезаемые вспышками ультрафиолета, лучились неисчислимыми переливами красок. Рядом с этой звездой бледное светило Земли показалось бы слабеньким, точно светлячок в полдень.
(— Гексанеракс-два, такого больше нет нигде в изученной Вселенной, — сказал Рашаверак, — Очень немногие наши корабли там бывали, и никто не решился на высадку, ведь никому и в голову не приходило, что на таких планетах возможна жизнь.
— Видимо, вы, ученые, оказались не такими дотошными исследователями, какими себя считали, — заметил Кареллен, — Если эти… эти узоры… разумны, любопытно было бы установить с ними контакт. Хотел бы я знать, известно ли им что-нибудь о третьем измерении?)
* * *
Этот мир не ведал, что значат день и ночь, годы и времена года. Его небо делили между собою шесть разноцветных солнц, и темноты здесь не бывало, только менялось освещение. Спорили друг с другом, сталкивались или тянули каждое к себе различные поля тяготения, и планета странствовала по изгибам и петлям невообразимо сложной орбиты, никогда не возвращаясь на однажды пройденный путь. Каждый миг — единственный и неповторимый: рисунок, который образуют сейчас в небе шесть солнц, уже не возобновится до конца времен.
Но даже и здесь существует жизнь. Быть может, в какую-то эпоху планета обугливалась от близости к своим светилам, а в другую — леденела, удаляясь от них едва ли не за пределы досягаемости, и однако, наперекор всему, на ней обитает разум. Громадные многогранные кристаллы стоят группами, образуя сложные геометрические узоры, в эру холода они недвижимы, а когда планета снова прогревается, медленно растут вдоль минеральных жил, что их породили. Пусть на то, чтобы додумать мысль, они потратят тысячелетие, — что за важность. Вселенная еще молода, и впереди у них — Время, а ему нет конца…
* * *
(— Я пересмотрел все наши отчеты, — сказал Рашаверак. — Нам неизвестна ни такая планета, ни такое сочетание солнц. Если бы они существовали в пределах нашей вселенной, астрономы обнаружили бы такую систему, будь она даже недосягаема для наших кораблей.
— Значит, он уже вышел за пределы Галактики.
— Да. Конечно, теперь ждать уже недолго.
— Кто знает? Он только видит сны. А когда просыпается, он все еще такой, как был. Это лишь первая фаза. Когда начнется перемена, мы очень быстро об этом узнаем.)
* * *
— Мы уже знакомы, мистер Грегсон, — серьезно сказал Сверхправитель. — Меня зовут Рашаверак. Несомненно, вы помните нашу встречу.
— Да, — сказал Джордж. — На вечере у Руперта Бойса. Вряд ли я мог бы забыть. И я подумал, что надо бы увидеться еще раз.
— Скажите, а почему вы просили, чтобы я с вами встретился?
— Я думаю, вы уже сами знаете.
— Возможно. И все-таки нам обоим будет легче разобраться, если вы сами мне скажете. Пожалуй, вас это очень удивит, но я тоже стараюсь понять, что происходит, и в некоторых отношениях знаю так же мало, как и вы.
Изумленный Джордж во все глаза смотрел на Сверхправителя. Этого он никак не ожидал. В подсознании его жила уверенность: Сверхправители всеведущи и всемогущи, им совершенно ясно, что делается с Джефом, и скорее всего они сами же в этом повинны.
— Как я понимаю, — сказал он, — вы видели записи, которые я передал психологу Колонии, а стало быть, знаете, какие нашему сыну снятся сны.
— Да, о снах мы знаем.
— Я никогда не верил, что это просто детские фантазии. Они настолько неправдоподобны, что… конечно, звучит нелепо, но у них наверняка есть какая-то реальная основа, иначе им неоткуда взяться.
Он впился взглядом в Рашаверака, сам не зная, чего ждет — подтверждения или отрицания. Сверхправитель промолчал, большие глаза его спокойно смотрели на Джорджа. Собеседники сидели почти лицом к лицу, потому что в комнате, явно предназначенной для таких вот свиданий, пол был на двух разных уровнях, и массивный стул Сверхправителя стоял на добрый метр ниже, чем стул Джорджа. Этот знак дружелюбного внимания подбадривал, ведь у людей, которые просили о подобных встречах, чаше всего не очень-то легко на душе.
— Мы беспокоились, но сначала всерьез не испугались. Когда Джеф просыпался, в нем ничего необычного не было заметно, и эти сны его как будто не тревожили. А потом раз ночью… — Джордж запнулся, поглядел на Сверхправителя, словно оправдываясь. — Я никогда не верил в какие-то сверхъестественные силы. Я не ученый, но, думаю, всему на свете существует какое-то разумное объяснение.
— Правильно, — сказал Рашаверак. — Я знаю, что вы тогда видели, я наблюдал.
— Так я и думал. А ведь Кареллен обещал, что ваши аппараты больше не будут за нами шпионить. Почему вы нарушили обещание?
— Я его не нарушал. Попечитель сказал, что за людьми мы больше следить не будем. Мы сдержали слово. Я наблюдал не за вами, а за вашими детьми.
Не сразу до Джорджа дошел смысл услышанного. Потом он понял, и лицо его залила мертвенная бледность.
— То есть… — он задохнулся. Голос изменил ему, пришлось начать сызнова. — Тогда кто же они, мои дети?
— Вот это мы и стараемся узнать, — очень серьезно сказал Рашаверак.
* * *
Дженнифер Энн Грегсон, в последнее время известная под именем Пупсы, лежала на спине, крепко зажмурясь. Она давно уже не открывала глаз и никогда больше не откроет: зрение для нее теперь так же излишне, как для наделенных многими иными чувствами тварей, населяющих непроглядную пучину океана. Она и так разбиралась в окружающем мире и еще во многом сверх того.
По непостижимой прихоти развития у нее с мимолетной поры младенчества сохранилась лишь одна привычка. Погремушка, что приводила ее когда-то в восторг, теперь не умолкала, отбивая в кроватке сложный, поминутно меняющийся ритм. Эти странные синкопы разбудили Джин среди ночи, и она кинулась в детскую. Но не только необычные звуки заставили ее отчаянным криком звать Джорджа, а еще и то, что она увидела.
Самая обыкновенная ярко раскрашенная погремушка висела в воздухе, в полуметре от какой-либо опоры, и знай отстукивала свое, а Дженнифер Энн лежала в кроватке, туго сплетя пухлые пальчики, и мирно, счастливо улыбалась.
Она начала позже, но продвигалась быстро. Скоро она опередит брата, ведь ей гораздо меньше надо разучиваться.
— Вы очень разумно поступили, что не тронули игрушку, — сказал Рашаверак. — Едва ли вы сумели бы ее сдвинуть. Но если б вам это удалось, девочка, пожалуй, была бы недовольна. И право не знаю, что бы тогда случилось.
— Так что же, вы, значит, ничего не можете сделать? — тупо спросил Джордж.
— Не хочу вас обманывать. Мы можем изучать и наблюдать, этим мы и занимаемся. Но вмешаться мы не можем, потому что не можем понять.
— Да как же нам быть? И почему такое случилось именно с нами?
— С кем-то это должно было случиться. Вас ничто не отличает от других, как ничто не отличает первый нейтрон, с которого начинается цепная реакция в атомной бомбе. Просто он оказался первым. Ту же роль сыграл бы любой другой нейтрон… вот и на месте Джеффри мог оказаться кто угодно другой. Мы называем это Всеобъемлющим Прорывом. Больше ничего не надо скрывать, и меня это только радует. Мы ждали Прорыва с тех самых пор, как пришли на Землю. Невозможно было предсказать, когда и где он начнется… но потом, по чистой случайности, мы встретились на вечере у Руперта Бойса. Вот тогда я понял, что почти наверняка первыми станут дети вашей жены.
— Но… но мы тогда еще не поженились. Мы даже не…
— Да, знаю. Но мысль мисс Моррел оказалась каналом, по которому, пусть на один миг, проникло знание, никому на Земле в ту пору недоступное. Оно могло прийти только через другой ум, теснейшим образом с нею связанный. Что ум этот еще не родился, не имело значения, ибо Время — нечто гораздо более странное, чем вы думаете.
— Начинаю понимать. Джеф знает то, чего не знает никто… Он видит другие миры и может сказать, откуда вы. И Джин как-то уловила его мысли, хотя он еще даже не родился.
— Все много сложнее… но сильно сомневаюсь, чтобы вы сумели когда-нибудь ближе подойти к истине. История человечества во все времена знала людей, которым необъяснимые силы словно бы помогали преодолевать пространство и время. Что это за силы, никто не понимал, попытки их объяснить, за редчайшими исключениями, сущий вздор. Я-то знаю, я их вдоволь перечитал!
Но есть одно сравнение, которое… ну, как бы что-то подсказывает и помогает понять. Оно не раз возникает в вашей литературе. Представьте себе ум каждого человека островком среди океана. Кажется, будто эти островки разобщены, а на самом деле их связывает одна и та же основа — дно, с которого они поднимаются. Исчезни все океаны, не станет и островов. Все они составят единый континент, но перестанут существовать каждый в отдельности.
Примерно так и с тем, что у вас называется телепатией. При подходящих условиях отдельные умы сливаются, то, что знает один, становится достоянием другого, а потом, разъединяясь вновь, каждый сохраняет память об испытанном. Способность эту в высшем ее проявлении не стесняют обычные рамки места и времени. Вот почему Джин почерпнула кое-что из познаний своего еще не рожденного сына.
Наступило долгое молчание, Джордж силился совладать с этими ошеломляющими открытиями. В мыслях стали прорисовываться черты происходящего. Невероятно, поразительно, но в этом есть своя внутренняя логика. И это объясняет (если такое слово применимо к чему-то совершенно непонятному) все, что случилось после вечера в доме Руперта Бойса. И еще теперь ясно, почему Джин так увлекалась всем таинственным, сверхъестественным.
— А с чего все началось? — спросил Джордж. — И к чему это приведет?
— Вот на этот вопрос мы ответить не можем. Но во Вселенной много видов разумных существ, и некоторые открыли эти силы и способности задолго до того, как появилось ваше племя, да и мое тоже. Они давно ждали часа, когда вы к ним присоединитесь, и теперь час настал.
— А как же в этом участвуете вы?
— Вероятно, как большинство людей, вы всегда считали, что мы над вами хозяева. Это неверно. Мы всегда были только опекунами, исполняли долг, порученный нам… чем-то, что выше нас. Трудно определить, в чем заключается наш долг; пожалуй, самое правильное считать, что мы — акушеры при трудных родах. Мы помогаем появиться на свет чему-то новому, поразительному.
Рашаверак замялся; с минуту казалось, он не находит нужных слов.
— Да, мы акушеры. Но сами мы — бесплодны.
В этот миг Джордж понял: перед ним трагедия еще тяжелее той, что постигла его самого. Казалось бы, невероятно, и все же это так. Да, Сверхправители поражают могуществом, блистают умом, и однако эволюция загнала их в капкан, в какой-то cul-de-sac[19]. Этот великий, благородный народ едва ли не во всех отношениях выше земного человечества — но будущего у них нет, и они это знают. Рядом с такой судьбой заботы Джорджа ему и самому вдруг показались мелкими.
— Теперь я понимаю, почему вы все время следите за Джеффри, — сказал он. — Мой мальчик для вас — подопытный кролик.
— Вот именно… только над опытом мы не властны. Не мы его начали… Мы только пытались наблюдать. И вмешивались, только когда нельзя было не вмешаться.
Да, подумал Джордж, как тогда с цунами… Не дать же погибнуть ценному экземпляру. И тотчас устыдился этой неуместной, недостойной горечи.
— Еще только один вопрос, — сказал он, — как нам быть дальше с нашими детьми?
— Радуйтесь им, пока можете, — мягко ответил Рашаверак— Они ненадолго останутся вашими.
Такой совет можно было бы дать любым родителям в любую эпоху, но никогда еще он не таил в себе столь страшной угрозы.
19
Пришло время, когда мир снов Джефа стал мало отличаться от его существования наяву. В школу он больше не ходил, и привычный порядок жизни Джорджа и Джин разрушился, как вскоре должен был разрушиться во всем мире.
Они стали избегать друзей, будто уже сознавали, что вскоре ни у кого не хватит сил им сочувствовать. Изредка по ночам, когда остров затихал и почти все уже спали, они подолгу бродили где-нибудь вдвоем. Никогда еще не были они так близки, кроме разве первых дней супружества, — теперь их соединяла еще неведомая, но готовая вот-вот разразиться трагедия.
Поначалу обоим совестно было оставлять спящих детей в доме одних, но теперь они уже понимали, что Джеф и Дженни непостижимыми для родителей способами умеют и сами о себе позаботиться. Да и Сверхправители, конечно, за ними присмотрят. Эта мысль успокаивала: не вовсе уж они одиноки перед мучительной загадкой, заодно с ними настороже зоркий и сочувственный взгляд.
Дженнифер спала: никаким другим словом не определишь ее нынешнее состояние. С виду она оставалась младенцем, но чувствовалось — от нее исходит устрашающая тайная сила, и Джин уже не могла заставить себя войти в детскую.
Да и незачем было входить. То, что называлось когда-то Дженнифер Энн Грегсон, еще не вполне созрело, в куколке только еще зарождались крылья, но и у этой спящей куколки довольно было власти над окружающим, чтобы ни в чем не нуждаться. Джин лишь однажды попробовала накормить то, что было прежде ее дочкой, но безуспешно. Оно предпочитало кормиться когда пожелает и как пожелает.
Ибо всякая еда неспешным, но неутомимым ручейком ускользала из холодильника, а меж тем Дженнифер Энн ни разу не вылезла из кроватки.
Погремушка давно утихла и валялась в детской на полу, никто не смел ее коснуться: вдруг она опять понадобится хозяйке. Иногда Дженнифер Энн заставляла мебель прихотливо передвигаться по комнате, и Джорджу казалось, что светящиеся краски на стене горят ярче, чем когда-либо раньше.
Она не доставляла никаких хлопот; она была недосягаема ни для их помощи, ни для их любви. Конечно же, развязка близка, и в недолгое время, что им еще оставалось, Джин и Джордж в огчаянии льнули к сыну.
Джеф тоже менялся, но еще признавал родителей. Раньше они следили, как он вырастал из туманного младенчества и становился мальчиком, личностью, а теперь час от часу черты его стираются, будто истаивают у них на глазах. Изредка он все же заговаривает с ними как прежде, говорит об игрушках, о друзьях, словно не сознавая, что ждет впереди. Но гораздо чаще он просто не видит их, словно и не подозревает, что они тут, рядом. И никогда больше не спит, а они вынуждены тратить время на сон, как ни жаль упускать хоть малую долю этих последних еще оставшихся им часов.
В отличие от сестры, Джеф как будто не обладает сверхъестественной властью над неодушевленными предметами — возможно, потому, что уже не так мал и меньше в них нуждается. Странной и чуждой стала лишь его духовная жизнь, и сны теперь занимают в ней совсем немного места. Часами он застывает неподвижно, крепко зажмурясь, будто прислушивается к звукам, которых никто больше не может услышать. Ум его вбирает поток знаний, льющийся из неведомых далей или времен, и уже скоро поток этот окончательно затопит и разрушит лишь наполовину сложившееся создание, что было прежде Джеффри Энгусом Грегсоном.
А Фэй сидит и смотрит на него снизу вверх печально, озадаченно, и недоумевает — куда девался ее хозяин и когда он к ней вернется.
* * *
Джеф и Дженни оказались первыми во всем мире, но недолго они оставались в одиночестве. Словно эпидемия стремительно перекидывалась с материка на материк, превращением поражен был весь род людской. Никого старше десяти лет оно не коснулось, и ни один ребенок, не достигший десяти лет, его не избежал.
Это означало конец цивилизации, конец всему, к чему стремились люди испокон веков. В несколько дней человечество лишилось будущего, ибо сердце всякого народа разбито и воля к жизни погибла безвозвратно, если у народа отняли детей.
Столетием раньше разразилась бы паника, теперь этого не случилось. Мир оцепенел, большие города застыли в безмолвии. Продолж&зи работать только предприятия, без чьей продукции вовсе невозможно существовать. Было так, словно сама планета в трауре оплакивала все, чему уже не суждено сбыться.
И вот тут, как когда-то в давние, позабытые времена, Кареллен снова, в последний раз заговорил с человечеством.
20
— Моя работа почти закончена, — раздался голос Кареллена в миллионах радиоприемников. — Наконец, после целого столетия, я могу сказать вам, в чем она заключалась.
Мы вынуждены были многое скрывать от вас, как скрывались сами половину времени, которое пробыли на Земле. Я знаю, некоторые из вас считали эту скрытность излишней. Вы привыкли к нашему присутствию, вы уже и вообразить не можете, как отнеслись бы к нам ваши предки. Но теперь вы наконец поймете, чем вызывалась наша скрытность, и узнаете, что мы поступали так не без причины.
Главное, что мы хранили от вас в тайне, — это цель нашего прибытия на Землю, вот о чем вы без конца строили догадки. До сих пор мы ничего не могли вам объяснить, ибо тайна эта не наша и мы были не вправе ее раскрыть.
Сто лет назад мы пришли на вашу планету и помешали вам самим себя уничтожить. Это, думаю, никто отрицать не станет, но вы и не догадываетесь, что за самоубийство вам грозило.
Поскольку мы запретили ядерное оружие и все другие смертоносные игрушки, которые вы копили в своих арсеналах, опасность физического уничтожения отпала. В этом вы видели единственную опасность. Нам и нужно было, чтобы вы в это верили, но правда заключалась в другом. Вас ждала опасность более грозная, совсем иная по природе своей — и она касалась не вас одних.
Многие миры, чьи пути сходились на открытии ядерной мощи, сумели избежать катастрофы, шли дальше, создавали мирную, счастливую культуру — и затем разрушены были силами, о которых не имели ни малейшего понятия. В двадцатом веке вы впервые по-настоящему принялись играть этими силами. Вот почему пришлось вмешаться.
На протяжении всего двадцатого века человечество постепенно приближалось к пропасти, о которой даже и не подозревало. Лишь один-единственный мост перекинут через эту пропасть. Обитатели очень немногих планет находили его без посторонней помощи. Иные повернули вспять, пока было еще не поздно, и тем самым избегли опасности, но и не достигли вершины. Миры эти стали райскими островками легко обретенного довольства и уже не играют никакой роли в истории Вселенной. Но вам не суждена была такая участь — или такое счастье. Для этого ваше племя слишком деятельно. Оно ринулось бы навстречу гибели и увлекло за собой других, ибо вам никогда бы не найти моста через пропасть.
Боюсь, почти все, что я должен вам сказать, нужно передавать такими вот сравнениями. У вас нет ни слов, ни понятий для многого, что я хочу вам объяснить, да и ваши познания в этой области, увы, еще очень скудны.
Чтобы понять меня, вам надо вернуться к прошлому и вспомнить то, что вашим предкам показалось бы хорошо знакомым, но о чем вы забыли — и мы намеренно помогали вам забыть. Ибо весь смысл нашего пребывания здесь был в величайшем обмане, в том, чтобы скрыть от вас правду, к которой вы были не готовы.
В столетия, что предшествовали нашему появлению, ваши ученые раскрыли тайны физического мира и привели вас от энергии пара к энергии атома. Вы предоставили суеверия прошлому, истинной религией человечества сделалась Наука. Она была даром западного меньшинства остальным народам и разрушила все другие верования. Те, которые мы еще застали у вас, уже отмирали. Чувствовалось, что наука может объяснить все на свете — нет таких сил, которыми она не овладеет, нет явлений, которых она в конце концов не постигнет. Секрет возникновения Вселенной, быть может, так и останется нераскрытым, но все, что происходило позднее, подчинялось законам физики.
Однако ваши мистики, хоть и путались в заблуждениях, разглядели долю истины. Существуют силы разума — и существуют силы выше разума, силы, которые ваша наука не могла бы втиснуть в свои рамки, не сокрушив их. От всех веков сохранились бесчисленные рассказы о непонятных явлениях — о призраках, о передаче мыслей, о предсказании будущего, вы давали всему этому названия, но объяснить не умели. На первых порах Наука не замечала этих явлений, потом, наперекор свидетельствам, накопленным за пять тысячелетий, стала начисто их отрицать. Но они существуют, и любая теория Вселенной останется неполной, если не будет с ними считаться.
В первой половине двадцатого века некоторые ваши ученые начали исследовать эти явления. Сами того не зная, они легкомысленно пытались открыть ящик Пандоры. Они едва не выпустили на свободу силы, несравнимо более разрушительные, чем вся мощь атома. Ибо физики погубили бы только Землю, хаос же, развязанный парафизиками, захлестнул бы и звезды.
Этого нельзя было допустить. Я не могу объяснить до конца природу воплощенной в вас опасности. Она грозила не нам и потому нам непонятна. Скажем так: вы могли обратиться в некий телепатический рак, в злокачественную опухоль мысли, и она неизбежным разложением отравила бы другие, превосходящие вас величием виды разума.
И тогда мы пришли — мы посланы были — на Землю. Мы прервали ваше развитие во всех областях, но тщательней всего следили за любыми сколько-нибудь серьезными опытами в области сверхъестественного. Я прекрасно понимаю, что само сравнение наших цивилизаций, слишком разных по уровню, помешало развиваться и всем другим видам творчества. Но это просто побочный эффект и никакого значения не имеет.
А теперь я должен сказать вам то, что вас поразит и даже покажется невероятным. Самим нам все эти скрытые внутренние силы и возможности не даны, более того, непонятны. Разум наш гораздо могущественней, но вашему уму присуще нечто такое, чего мы не можем уловить. С тех пор как мы пришли на Землю, мы непрестанно вас изучали; мы очень многое узнали и еще узнаем, но сомневаюсь, чтобы нам когда-либо удалось постичь все до конца.
Между нашими племенами немало общего, потому-то нам и поручена эта работа. Но в других отношениях мы завершаем две разные ветви эволюции. Наш разум достиг предела своего развития. Ваш, в теперешнем его виде, — тоже. Однако вы можете рывком достичь новой ступени, этим вы и отличаетесь от нас. Наши внутренние возможности исчерпаны, ваши еще и не тронуты. Каким-то образом, для нас непонятным, они связаны с теми силами, о которых я упоминал, — силы эти сейчас пробуждаются на вашей планете.
Мы задержали ход времени, мы заставляли вас топтаться на месте, пока не разовьются скрытые силы и не хлынут по каналам, которые для них готовятся. Да, мы сделали вашу планету’ лучше, подняли благосостояние, принесли вам справедливость и мир — все это мы бы сделали при любых условиях, раз уж нам пришлось вмешаться в вашу жизнь. Но столь внушительные перемены заслоняли от вас правду и тем самым помогли нам выполнить свою задачу.
Мы — ваши опекуны, не больше. Должно быть, вы нередко спрашивали себя, насколько высокое место занимает мой народ во Вселенной. Так же как мы стоим выше вас, нечто иное стоит выше нас и пользуется нами в своих целях. Мы и до сих пор не открыли, что это такое, хотя уже многие века служим ему орудием и не смеем его ослушаться. Опять и опять мы получали приказ, отправлялись в какой-нибудь далекий мир, чья культура только еще расцветала, и вели его по пути, по которому сами пойти не можем, — по пути, на который вступили вы.
Опять и опять мы изучали ход развития, которое посланы были оберегать, в надежде узнать, как нам и самим вырваться из тесных пределов. Но лишь мельком уловили смутные очертания истины. Вы называли нас Сверхправителями, не ведая, какой насмешкой это звучит. Скажем так: над нами стоит Сверхразум, и он пользуется нами, как пользуется гончарным кругом гончар.
А вы, человечество, — глина, которая формуется на этом круге.
Мы думаем — это всего лишь теория, — что Сверхразум старается расти, расширять свою мощь и свои познания о Вселенной. Теперь он, должно быть, соединил в себе великое множество племен и давно освободился от тиранической власти материи. Где бы ни появилась разумная жизнь, он это ощущает. И когда он узнал, что вы почти уже готовы к этому, он послал нас сюда исполнить его волю, подготовить вас к преображению, которое теперь совсем близко.
Все перемены, какие раньше пережило человечество, совершались веками. Однако сейчас преображается не тело, но дух. По меркам эволюции перемена будет мгновенной, как взрыв.
Она уже началась. Придется вам понять и примириться с этим: вы — последнее поколение homo sapiens.
Мы почти ничего не можем сказать о том, какова природа наступающей перемены. Мы не знаем, как она возникает, каким образом Сверхразум вызывает ее, когда решит, что для нее настало время… Мы только выяснили: это начинается в какой-то одной личности — всегда в ребенке — и сразу охватывает все вокруг, подобно тому, как вокруг первого ядра образуются кристаллы в насыщенном растворе. Взрослых перемена не затрагивает, их ум уже утратил гибкость и прочно закрепился в определенной форме.
Через несколько лет все закончится, человечество разделится надвое. Возврата нет, и у того мира, который вам знаком, нет будущего. Со всеми надеждами и мечтами людей Земли покончено. Вы породили своих преемников, и трагедия ваша в том, что вам их не понять, их разум навсегда останется закрыт для вас. Да они и не обладают разумом в вашем понимании. Все они сольются в единое целое, как любой из вас — единый организм, состоящий из мириад клеток. Вы не станете считать их людьми — и не ошибетесь.
Я сказал вам все это, чтобы вы знали, чти вам предстоит. Считанные часы отделяют нас от крутого перелома. Моя задача и мой долг — защитить тех, кого меня прислали оберегать. Как ни велики пробуждающиеся в них силы, вокруг — людские толпы, способные их раздавить… Пожалуй, их захотят уничтожить даже отцы и матери, когда осознают истину. Я должен забрать детей, отделить от родителей — ради их безопасности и ради вашей тоже. Завтра за ними придут мои корабли. Не стану осуждать вас, если вы попробуете воспротивиться разлуке, по это будет бесполезно. Сейчас пробуждаются силы, намного превосходящие мою: я — всего лишь одно из их орудий.
А потом… что должен я делать с вами, кто еще жив, хотя роль свою вы уже сыграли?
Всего проще, а пожалуй, и всего милосердней было бы — уничтожить вас, как вы бы уничтожили любимого ручного зверька, если он смертельно ранен. Но этого я сделать не могу. Вы сами выберете, как провести оставшиеся вам годы. Я только надеюсь, что человечество кончит свой век мирно, в сознании, что жизнь его не была напрасной.
Ибо вы принесли в мир нечто, пусть вам совершенно чуждое, пусть оно не разделяет ни ваших желаний, ни ваших надежд, пусть величайшие ваши свершения в его глазах лишь детские игрушки, но само оно — великое чудо, и это вы его создали.
Настанет срок, и наше племя забудется, а частица вашего будет жить. Так не осуждайте же нас за то, как мы вынуждены были поступить. И помните — мы всегда будем вам завидовать.
21
Джин плакала раньше, теперь она уже не плачет. Жестокий, равнодушный солнечный свет позолотил Новые Афины, и над близнецами-вершинами Спарты снижается корабль. На том скалистом острове не так давно ее сын избежал смерти — избежал чудом, которое теперь ей слишком понятно. Порой она думала — пожалуй, было бы лучше, если бы Сверхправители не вмешались и оставили его на произвол судьбы. Со смертью она примирилась бы, как мирилась и прежде, смерть — естественна, она в природе вещей. А то, что сейчас, непостижимей смерти — и непоправимей. Доныне хоть люди и умирали, но человечество продолжало жить.
Среди детей ни звука, ни движения. Они стоят по несколько человек там и сям на песчаном берегу и, видно, не замечают друг друга, не помнят о доме, который покидают навсегда. Многие держат на руках малышей — таких, что еще и не ходят, а может быть, не хотят проявить способности, обладая которыми ходить незачем. Ведь если они могут передвигать неодушевленные предметы, думал Джордж, уж наверно они могли бы двигаться и сами. И зачем, в сущности, корабли Сверхлравителей их забирают?
Все это неважно. Они уходят — и решили уйти так, а не иначе. Будто какая-то заноза в памяти все не давала покоя Джорджу, и наконец он понял. Где-то когда-то он видел столетней давности фильм о таком вот великом исходе. Наверно, фильм относился к началу первой мировой войны… а может быть, и второй. Длинные поезда, переполненные детьми, медленно тянулись прочь от городов, которым угрожал враг, а родители оставались позади, и многим детям не суждено было снова их увидеть. Лишь редкие дети плакали; иные смотрели растерянно, боязливо сжимали в руках свои узелки или чемоданчики, а большинство, похоже, нетерпеливо предвкушало какие-то увлекательные приключения.
Но нет… сравнение неверно. История не повторяется. Те, что уходят теперь, кто бы они ни были, уже не дети. И на этот раз ни одна семья не соединится вновь.
Корабль опустился у самой воды, днищем глубоко погрузился в мягкий песок. Словно по взмаху дирижерской палочки, разом скользнули вверх громадные выгнутые пластины, и на берег металлическими языками протянулись трапы. Рассеянные по берегу невообразимо одинокие фигурки стали сближаться, сошлись в толпу, она двигалась совсем так же, как движутся людские толпы.
«Одинокие? Откуда взялась такая мысль?» — спросил себя Джордж. Что-что, а одинокими они уже никогда не будут. Одинока может быть только отдельная личность… только человек. Когда преграды между людьми наконец рушатся, исчезает индивидуальность, а с нею не станет и одиночества. Несчетные капли дождя растворятся в океане.
И тут Джин судорожно, крепче прежнего сжала его руку.
— Смотри, — прошептала она, — вон там Джеф. У второй двери.
Очень далеко, трудно сказать наверняка, да еще глаза Джорджу будто застлало туманом. И все же — конечно, это Джеф… Теперь он узнает сына, тот уже ступил одной ногой на металлический трап.
И Джеф оглянулся, посмотрел в их сторону. Лица не различить, просто бледное пятно; из такой дали не разобрать, есть ли в этом лице хоть намек на то, что он узнал их, хоть тень воспоминания обо всем, что он покидает. И уже не узнать Джорджу, обернулся ли Джеф случайно — или знал в те последние секунды, пока он был еще их сыном, что они стоят и смотрят, как он переходит в неведомую страну, куда им нет доступа.
Громадные люки начали закрываться. И тогда Фэй вскинула мохнатую мордочку и негромко, протяжно завыла. Потом подняла чудесные влажные глаза на Джорджа, и он понял — она потеряла хозяина. У него больше нет соперника.
* * *
Перед теми, кто остался, лежало много дорог, но в конце все придут к одному и тому же. Кое-кто говорил: мир все еще прекрасен; когда-нибудь придется его покинуть, но с какой стати торопиться?
Но другие, те, кто больше дорожил будущим, чем прошлым, и утратил все, ради чего стоило жить, не захотели ждать. Они уходили — иные в одиночку, иные вместе с друзьями, смотря кто к чему склонен от природы.
Так было и в Афинах. Некогда остров этот родился в пламени — и в пламени решил умереть. Кто захотел уехать, уехали, но большинство осталось и готовилось встретить конец среди обломков всего, о чем прежде мечтали.
Предполагалось, что часа никто заранее знать не будет. Но глубокой ночью Джин проснулась и минуту лежала, глядя в потолок, где мерцали призрачные отсветы. Потом потянулась, схватила Джорджа за руку. Всегда он спал как убитый, а тут сразу проснулся. Они не заговорили, не было на свете нужных слов.
Ей больше не страшно, даже не грустно. Она прошла через все это к некоей тихой заводи, и уже ничто ее не волнует. Только одно еще остается сделать, и Джин знает, времени в обрез.
Все так же молча Джордж пошел за нею по безмолвному дому. Они пересекли полосу лунного света, вливающегося через стеклянную крышу студии, прошли неслышно, как отброшенные луною тени, и вот они в опустелой детской.
Тут ничего не изменилось. По-прежнему лучатся на стенах светящиеся узоры, которые так усердно рисовал когда-то Джордж. И погремушка — давняя дочкина забава — еще лежит там, где уронила ее Дженнифер Энн, когда разумом унеслась в непостижимую даль, что стала ей домом.
«Она бросила свои игрушки, — подумал Джордж, — а наши уйдут отсюда вместе с нами». Вспомнились царственные дети фараонов — пять тысячелетий тому назад их бусы и куклы похоронены были вместе с хозяевами. Так будет снова. «Никому больше не полюбятся наши сокровища, — думал Джордж, — мы возьмем их с собой, мы с ними не расстанемся».
Джин медленно обернулась к нему, припала головой к его плечу. Он обнял ее, и давняя любовь вернулась, будто слабое, но явственное эхо, отраженное грядой далеких гор. Теперь поздно говорить все, что он должен бы сказать ей, и жалеет он не столько об изменах, сколько о прежнем своем равнодушии.
А потом Джин тихо сказала: «Прощай, милый», — и крепче обхватила его руками. Джордж не успел ответить, но даже в этот последний краткий миг изумился — откуда она знает, что пора?
В каменных недрах острова ринулись друг к другу пластины урана, стремясь к недостижимому для них единению.
И остров вознесся навстречу рассвету.
22
Корабль Сверхправителей скользил по светящемуся, точно от метеорита, следу из самого сердца созвездия Карины. Еще у внешних планет он начал неистово гасить скорость, но даже возле Марса она составляла значительную часть световой. Исполинские поля, окружающие земное Солнце, медленно поглощай и его инерцию, а позади, на миллионы километров, проводила в небесах огненную черту избыточная энергия звездолета.
Став старше на полгода, Ян Родрикс возвращался домой, в мир, покинутый им восемьдесят лет назад.
Теперь он уже не прятался зайцем в тайнике. Он стоял позади трех пилотов (недоумевая про себя, зачем нужны сразу трое) и смотрел, как вспыхивают и гаснут знаки на громадном экране, что главенствовал в рубке. На экране сменялись краски и очертания, ему непонятные, — надо думать, они означали данные, какие на корабле, построенном людьми, передавались бы циферблатами и стрелками. Но порой экран показывал расположение окрестных звезд, и, надо надеяться, уже скоро на нем появится Земля.
Хорошо вернуться домой, хоть он и положил немало усилий на бегство. За минувшие месяцы он стал взрослее. Так много он видел, в такой дали побывал — и стосковался по родному, привычному миру. Теперь он понимает, почему Сверхправители отгородили Землю от звезд. Немалый путь должно еще пройти человечество, прежде чем оно сумеет стать хотя бы малой частью цивилизации, которую он мимолетно увидел.
Быть может, хотя все в Яне восстает против этой мысли, человечество навсегда останется лишь какой-то низшей породой в подобии зоологического сада на далекой окраине, под надзором Сверхправителей. Не это ли крылось в двусмысленном предостережении Виндартена перед самым отлетом? «За то время, которое прошло на вашей планете, многое могло случиться, — сказал Сверхправитель. — Возможно, когда ты опять увидишь свой мир, ты его не узнаешь».
«Может, и не узнаю», — думал Ян: восемьдесят лет — большой срок, и хоть он молод и способен освоиться в новых условиях, пожалуй, нелегко будет понять все происшедшие за это время перемены. Но в одном сомнений нет, люди непременно захотят выслушать его и узнать, что успел он заметить в мире Сверхправителей. Как Ян и ожидал, с ним обошлись снисходительно. О полете от Земли он ничего не знал: когда действие снотворного кончилось и он очнулся, корабль уже входил в солнечную систему Сверхправителей. Он выбрался из своего фантастического тайника и с облегчением убедился, что кислородная маска не нужна. Душновато, воздух тяжелый, но дышать можно. Он оказался в тусклом красном сумраке громадного трюма, вокруг — многое множество других ящиков с грузом и еще всякой всячины, какую естественно встретить на океанском или воздушном лайнере. Почти час он плутал в этом лабиринте, прежде чем добрался до рубки и предстал перед командой.
К его недоумению, они ничуть не удивились; Ян знал, что Сверхправители редко обнаруживают какие-либо чувства, но ждал хоть чего-то, хоть искорки. А они просто продолжали делать свое дело, следили за экраном, перебирали несчетные клавиши пультов управления. Тут он понял, что корабль идет на посадку: на экране опять и опять, с каждым разом вырастая, вспыхивало изображение планеты. Но совсем не ощущалось ни движения, ни ускорения, и ничуть не колебалась сила тяжести, как определил Ян, примерно впятеро меньше земной. Очевидно, могучие силы, движущие кораблем, уравновешивались с поразительной точностью.
А потом пилоты встали со своих мест, все трое как один, и стало ясно — путешествие окончено. Они еще не заговорили ни с пассажиром, ни друг с другом, и когда один знаком поманил землянина за собой, Ян понял то, о чем следовало подумать раньше. Вполне возможно, что здесь, на другом конце бесконечно длинного пути, по которому доставляются Кареллену грузы, никто не поймет ни единого человеческого слова.
Трое серьезно следили за ним, когда перед его нетерпеливым взглядом распахнулись громадные створы люка. Вот она, великая минута его жизни, он — первый из людей, кому дано увидеть мир, освещенный иным солнцем. В корабль хлынул свет звезды НГС 549672, и Яну открылась планета Сверхправителей.
Чего он ждал? Он и сам толком не знает. Громадные здания, города с башнями, чьи вершины теряются в облаках, невообразимые машины — все это его бы не удивило. Но увидел он безликую плоскую равнину, уходящую к неестественно близкому горизонту, однообразие только и нарушали еще три корабля Сверхправителей, высящиеся в нескольких километрах отсюда.
На минуту в Яне поднялось горькое разочарование. Потом он пожал плечами — все очень просто, где же и находиться космическому порту, если не в таком вот пустынном, необжитом месте.
Было холодно, но не слишком. Большое красное солнце висело низко над горизонтом, света его вполне хватало человеческому глазу, но Ян подумал, что, пожалуй, быстро затоскует по зеленым и голубым краскам. А потом увидел: в небе выгнулся огромный тонкий полумесяц, как будто возле солнца натянули гигантский лук. Ян долго разглядывал его, потом сообразил, что путешествие не совсем еще закончилось. Этот полумесяц и есть планета Сверхправителей. А здесь, должно быть, ее спутник, всего лишь база, откуда уходят в плаванье звездолеты.
Его повели к другому кораблю, небольшому, не крупней земного пассажирского самолета. Чувствуя себя каким-то пигмеем, он вскарабкался на одно из высоких сидений и пытался в иллюминатор хоть что-то разглядеть на приближающейся планете.
Перелет был стремительный, не удалось различить отдельные черты ширящегося внизу небесного тела. Похоже, даже здесь, так близко от дома, Сверхправителям служила разновидность того же межзвездного двигателя; уже через несколько минут корабль погрузился в плотную, пестрящую облаками атмосферу. Двери открылись, и все вышли в подобие ангара, своды его, должно быть, тотчас сомкнулись — над головой Ян не заметил никаких следов входного отверстия.
Из этого здания он вышел только через два дня. Никто не ждал такого груза, и его некуда было пристроить. Да еще, на беду, ни один Сверхправитель не понимал его языка. Объясняться было невозможно, и Ян с горечью осознал, что войти в контакт с инопланетянами совсем не так просто, как это зачастую изображали в романах. Язык жестов оказался совершенно бесполезен, он основан главным образом на выразительности движений, позы, лица, а тут у людей нет ничего общего со Сверхправителями.
«Неужели язык людей знают лишь те Сверхправители, которые остались на Земле? — думая Ян, — Тогда все напрасно!» Оставалось ждать и надеяться. Уж наверно какой-нибудь здешний ученый, специалист по чужим обитаемым мирам, придет и займется им! Или он такое ничтожество, что никого не станут из-за него беспокоить?
Сам выбраться из здания он не мог, у огромных дверей не видно было ни ручек, ни кнопок. Когда к ним подходил Сверхправитель, они открывались сами собой. Ян тоже пытался на них подействовать, махал чем попало высоко над головой, рассчитывая прервать какой-нибудь следящий луч, перепробовал все способы, до каких мог додуматься, — но безуспешно. Наверно, вот таким беспомощным оказался бы пещерный житель доисторических времен, заброшенный в здание современного города. Ян как-то попытался выйти вместе с одним из Сверхправителей, но его мягко отогнали. И он отступился, он вовсе не желал рассердить хозяев.
Виндартен явился прежде, чем Ян успел прийти в отчаяние. Этот Сверхправитель говорил по-английски прескверно и притом чересчур быстро, но, что поразительно, чуть не с каждой минутой все лучше. Через несколько дней они уже довольно легко беседовали на любую тему, лишь бы она не требовала специальной терминологии.
Как только Ян очутился под опекой Виндартена, ему не о чем стало тревожиться. Но он отнюдь не волен был заняться, чем хочется, — почти все его время уходило на встречи с учеными. Сверхправители жаждали исследовать его непонятными способами, при помощи сложных приборов. Яна эти машины порядком пугали, а после опыта с каким-то гипнотическим устройством у него несколько часов кряду от боли раскалывалась голова. Он готов был всячески помогать исследователям, но сомневался, ясны ли им пределы его душевных и физических сил. Очень нескоро удалось убедить Сверхправителей, что через определенные промежутки времени ему необходим сон.
В короткие передышки между исследованиями Ян мельком видел город и понял, как трудно — да и опасно — было бы по нему передвигаться. В сущности, улиц вовсе нет, не видно и какого-либо транспорта. Ведь обитатели этого мира умеют летать, и им не страшна сила тяжести. А потому вдруг оказываешься на краю пропасти глубиной в сотни метров, и от одного взгляда кружится голова, либо выясняется, что единственный вход в комнату — отверстие высоко в стене. Самыми разными способами Ян поминутно убеждался, что психология крылатого племени не может не отличаться коренным образом от психологии тех, кто прикован к поверхности своей планеты.
Странно было видеть Сверхправителей, пролетающих среди городских башен, точно огромные птицы; поражали мощью неспешные взмахи крыльев. Тут таилась какая-то загадка для науки. Планета велика, больше Земли. Однако сила тяжести здесь ничтожная, и непонятно, откуда взялась такая плотная атмосфера. Ян стал расспрашивать Виндартена, и выяснилось, как он отчасти и ожидал, что это не родная планета Сверхправителей. Племя их возникло на другой, гораздо меньшей планете, а этот мир они освоили, изменив не только его атмосферу, но и тяготение.
Архитектура у них унылая, роль ее чисто подсобная. Ян не видал никаких украшений, каждая мелочь для чего-нибудь да предназначена, хотя ее назначение чаще всего непонятно. Если бы этот город в неярком красном свете и его крылатых обитателей увидал человек средневековья, он наверняка решил бы, что очутился в аду. Даже Ян, при всей своей пытливости и присущем ученому бесстрастии, порой ощущал: вот-вот нахлынет ужас, неподвластный рассудку. Ведь самый ясный и трезвый ум может утратить равновесие, когда нет кругом ни единой знакомой приметы и не на что опереться.
А тут было очень много непонятного, такого, чего Виндартен даже не пытался ему объяснить — то ли не мог, то ли не хотел. Что за мгновенные вспышки и переменчивые тени мелькают в воздухе, стремительные, неуловимые, можно даже подумать, будто они лишь мерещатся? Быть может, это что-то грозное, величественное, — а может быть, просто бьющая в глаза чепуха вроде неоновых реклам в старину на Бродвее.
И еще Ян чувствовал, что мир Сверхправителей полон звуков, его слуху недоступных. Порой какие-то сложные летучие ритмы уносятся выше, выше или, напротив, все ниже — и исчезают за пределами восприятия. Виндартен словно не понимает, что имеет в виду Ян, когда заговаривает о музыке, а потому никак нельзя разобраться в этой загадке.
Город не так уж велик, безусловно, гораздо меньше, чем были в пору своего расцвета Лондон или Нью-Йорк. По планете, объяснил Виндартен, разбросано несколько тысяч таких городов, и у каждого свое особое назначение. Это скорее всего можно сравнить с каким-нибудь университетским городом на Земле, только специализация здесь зашла много дальше. Ян быстро понял, что весь этот город занят изучением инопланетных цивилизаций.
Во время одного из первых выходов Яна за пределы четырех голых стен, где его поселили, Виндартен повел его в музей чужой культуры. Это дало Яну позарез необходимый заряд бодрости, наконец-то он попал в такое место, смысл и назначение которого вполне понятны! Если не думать о масштабах, этот музей можно бы принять за земной. Путь туда был долог, они размеренно опускались на громадной платформе, которая двигалась, точно поршень, в вертикальном цилиндре неведомо какой длины. Не видно никаких кнопок, рукояток или клавиш, но в начале и в конце спуска ясно чувствуется ускорение. Должно быть, у себя дома Сверхправители не тратят энергию поля, уравновешивающего тяготение. Ян спрашивал себя, не изрыта ли вся планета внутренними помещениями и переходами. И почему, ограничив размеры города, Сверхправители уводят его вглубь, а не растят в вышину? Еще одна загадка, он так ее и не решил.
Целой жизни не хватило бы на осмотр громадных залов музея. Здесь была собрана добыча, вывезенная со множества планет, достижения невесть скольких цивилизаций. Но Яну мало что удалось увидеть. Виндартен осторожно поставил его на полосу, которую Ян принял сперва за часть узора на полу. Потом вспомнил, что в городе нет никаких украшений, — и тотчас какая-то невидимая сила мягко охватила его и помчала вперед. Его несло мимо громадных витрин, мимо видений невообразимых миров со скоростью двадцати или, может быть, тридцати километров в час.
Посетитель музея всегда устает, а вот Сверхправители избавили его от усталости. У них тут незачем ходить пешком.
Потом провожатый опять подхватил Яна и взмахом могучих крыльев поднял над неведомой силой, которая пронесла их, наверно, несколько километров. Впереди открылся огромный, наполовину пустой зал, залитый знакомым светом, такого Ян не видел с тех пор, как покинул Землю. Смягченный, чтобы не пострадали чувствительные глаза Сверхправителей, то несомненно был свет земного Солнца. Никогда бы Ян не подумал, что от чего-то столь простого, столь обычного сердце его стиснет такая тоска.
Итак, здесь выставка экспонатов с Земли. Прошли несколько шагов, миновали прекрасную модель Парижа, потом нелепую смесь произведений искусства, представляющих добрый десяток разных столетий, потом новейшие вычислительные машины в соседстве с топорами каменного века, телевизоры — и рядом паровую турбину Герона Александрийского. Перед ними открылась высоченная дверь, и они вошли в кабинет главы Отдела Земли.
«Может быть, он видит человека впервые?» — подумал Ян. Побывал он хоть раз на Земле, или для него она — лишь одна из многих планет, которыми он ведает, даже не зная толком, где они находятся? На земном языке он, во всяком случае, не говорил и не понимал ни слова, пришлось Виндартену стать переводчиком.
Ян пробыл здесь несколько часов, хозяева показывали ему разные земные предметы, а он старался объяснить записывающему аппарату их назначение. Со стыдом он убедился, что многие вещи ему совершенно незнакомы. Каким же он оказался невеждой в делах и достижениях собственного племени! И сколь ни велики разум и способности Сверхправителей, сумеют ли они разобраться во всех сложностях человеческой культуры?
Из музея Виндартен повел его другой дорогой. Опять они без малейшего усилия плыли по огромным сводчатым коридорам, но теперь уже не мимо искусственных плодов разумной мысли, а мимо того, что создано природой. Салливен жизни не пожалел бы, лишь бы попасть сюда и увидеть, какие чудеса сотворила эволюция на сотне разных миров, подумалось Яну. Но ведь Салливен, скорее всего, уже умер…
Неожиданно они очутились на галерее, высоко над круглым помещением наверно около ста метров в поперечнике. По обыкновению, никаких перил; Ян чуть замешкался, прежде чем подойти к краю. Но Виндартен, стоя на самом обрезе галереи, спокойно смотрел вниз, и Ян осторожно придвинулся.
Дно этого вместилища оказалось всего лишь в двадцати метрах под ним… так близко, слишком близко! Позже, поразмыслив, Ян понял, что Виндартен вовсе не хотел его поразить, напротив, сам был ошеломлен. Потому что Ян с отчаянным воплем отскочил назад, безотчетно пытаясь укрыться от того, что лежало там, внизу. Лишь когда в плотном воздухе замерло приглушенное эхо его крика, он собрался с духом и опять подошел к краю.
Конечно, он был безжизненный, а не уставился на посетителя осмысленным взглядом, как сперва вообразил перепуганный Ян. Он занимал почти весь этот круглый бассейн, и в прозрачной глубине его мерцали, вздрагивали рубиновые отсветы.
Это был единственный исполинский глаз.
— Почему ты так шумел? — спросил Виндартен.
— Мне стало страшно, — смущенно признался Ян.
— Почему? Не думал же ты, что тут может быть какая-то опасность?
Можно ли ему объяснить, что такое рефлекс? Ян решил не пытаться.
— Всякая неожиданность пугает. Пока не разберешься в том, что совсем ново и незнакомо, безопасней предположить худшее.
Ян опять посмотрел вниз, на чудовищный глаз, сердце его все еще неистово колотилось. Впрочем, возможно, это лишь непомерно увеличенная модель, наподобие микробов и насекомых в земных музеях. Но, задавая себе этот вопрос, Ян уже холодел от уверенности, что глаз самый настоящий, в натуральную величину.
Виндартен мало что мог объяснить: он занимается другой областью науки, а в остальном не слишком любопытен. Из его слов в воображении Яна вырисовалась огромная одноглазая тварь, обитающая среди мелких астероидов подле какого-то далекого солнца; не стесненный силами тяготения, циклоп вырастает до неимоверных размеров, а его пропитание и самая жизнь зависят от того, как далеко и ясно видит его единственное око.
Похоже, для Природы, когда ей это понадобится, невозможного нет, и Ян бездумно обрадовался открытию, что и Сверхправителям не все на свете доступно. Они привезли с Земли целого кита, но за такой экспонат не взялись и они.
А в другой раз он поднимался все выше, выше, и стенки лифта стали матовыми, а потом прозрачными, как хрусталь. Он стоял, словно бы ни на что не опираясь, среди высочайших вершин города, и ничто не отгораживало его от бездны. Но голова не кружилась, как не кружится в самолете, потому что вовсе не ощущалась поверхность планеты далеко внизу.
Ян стоял над облаками, наравне с ним в небе только и виднелись несколько металлических или каменных шпилей. Ниже лениво плескалось алое море сплошных облаков. Невдалеке от тусклого солнца чуть светились две крохотные луны. Почти посредине этого расплывшегося красного диска темнел маленький аккуратный кружок. Быть может, солнечное пятно, а может, проходила мимо еще одна луна.
Ян медленно обводил взглядом горизонт. Облачный покров тянулся до самого края огромной планеты, но в одном месте, невесть в какой дали, проступали какие-то пятнышки, возможно — башни еще одного города.
Ян долго всматривался, потом перевел испытующий взгляд дальше.
Описав глазами полукруг, он увидел гору. Она поднималась не на горизонте, но позади него — одинокая зубчатая вершина вздымается над краем планеты, склоны уходят куда-то вниз, основания не разглядеть — так скрыта под водой почти вся громада айсберга. Тщетно Ян пытался угадать размеры этой громадины. Просто не верилось, что даже на планете, где сила тяжести совсем мала, могут существовать такие горы. Любопытно, может быть. Сверхправители поднимаются на эти откосы и парят, подобно орлам, среди исполинских зубцов этой крепости?
А потом, у него на глазах, гора стала медленно менять свой облик. Когда Ян впервые заметил ее, она была темно-багровая, почти зловещего оттенка, с немногими неясными отметинами у самой вершины. Он все старался рассмотреть их и вдруг понял, что они движутся…
Сперва Ян не поверил своим глазам. Потом старательно напомнил себе, что все привычные понятия здесь бесполезны — нельзя позволить рассудку отбросить хотя бы малость из того, что воспринимают чувства и передают в тайники мозга. Нельзя и пытаться понять, надо только наблюдать. Понимание придет после — или не придет совсем.
Гора — Ян все еще считал, что это гора, никакое другое слово тут не подходило — казалась живой. Ему вспомнился чудовищный глаз там, в склепе, в недрах планеты… но нет, немыслимо.
Сейчас перед ним не органическая жизнь, быть может, даже и не материя в знакомом, привычном понимании.
Тусклый багрянец разгорался, гневно пламенел. Его рассекли яркие желтые полосы, и Ян подумал было, что это вулкан извергает потоки лавы вниз, на равнину. Но приметил движение каких-то пятен и крапинок и понял — потоки эти устремляются вверх!
И вот что-то новое поднимается из алых облаков, опоясывающих основание горы. Громадное кольцо, безупречно ровное по горизонтали, безупречно круглое — и того цвета, что Ян оставил далеко позади: так ясно голубеет только небо над Землею. Еще ни разу в мире Сверхправителей он не видал такой лазурной синевы, и ему перехватило горло тоской и одиночеством.
А голубое кольцо поднималось, ширилось. Вот оно уже взмыло над вершиной горы, а ближний край его мчится сюда, к Яну. Конечно же, это какой-то вихрь, кольцо газа или дыма, разросшееся уже до нескольких километров в поперечнике. Однако никакого вращения не заметно, и, разрастаясь вширь, кольцо как будто не становится менее плотным.
Тень его пронеслась мимо задолго до того, как само кольцо, поднимаясь все выше, величаво проплыло над головой Яна. Ян следил за ним, пока оно не обратилось в тонкую голубую ниточку, которую он едва различал в багряном небе. Когда оно совсем скрылось из виду, ширина его, должно быть, измерялась уже тысячами километров. И оно продолжало расти.
Ян опять посмотрел на гору. Теперь она была вся золотая, без единого пятнышка. Может быть, Яну только почудилось — теперь он готов был поверить чему угодно, — но она словно бы сузилась, стала выше и вращалась вокруг своей оси, точно смерч. Только теперь, оцепенелый, ошеломленный чуть не до потери сознания, вспомнил Ян о своем фотоаппарате. Поднес его к глазам и начал наводить на эту невозможную, уму непостижимую загадку.
Виндартен поспешно шагнул к нему и все заслонил. Решительно, неумолимо огромные ладони закрыли объектив и пригнули аппарат книзу. Ян и не пробовал воспротивиться; конечно, это и не удалось бы, но он вдруг ощутил смертельный ужас перед тем, неведомым, на краю чужого мира… нет, с него довольно.
До этого, где он ни побывал, ему никто не мешал фотографировать, и сейчас Виндартен никак не объяснил запрета. Зато долго и подробно, до мелочей, расспрашивал Яна, как и что он видел.
Тогда-то Ян понял, что глазам Виндартена представилось нечто совсем другое, и тогда же впервые догадался, что Сверхправители тоже кому-то подчиняются.
* * *
И вот он возвращается домой, все чудеса, все страхи и тайны позади. Корабль, наверно, тот же самый, но команда наверняка другая. Как ни долог век Сверхправителей, трудно поверить, чтобы они охотно отрывались от дома на десятилетия, которые отнимает межзвездный перелет.
Конечно, относительность времени при околосветовой скорости — медаль о двух сторонах. Сверхправители в полете до Земли станут старше всего лишь на четыре месяца, но к их возвращению друзья их постареют на восемьдесят лет.
Если бы Ян захотел, он, несомненно, мог бы остаться здесь до конца жизни. Но Виндартен предупредил его, что следующий корабль отправится на Землю только через несколько лет, и посоветовал не упускать случая. Возможно, Сверхправители поняли, что рассудок человека, пожалуй, не выдержит наплыва впечатлений. А может быть, просто он стал помехой и уже недосуг было им заниматься.
Теперь все это неважно, впереди Земля. Сто раз он видел ее вот так, с высоты, но всегда — холодным, искусственным глазом телекамеры. А теперь наконец он и сам смотрит из космоса, разыгрывается заключительный акт его осуществленной мечты, и Земля кружит под ним на вечной своей орбите.
Огромный сине-зеленый серп виден в первой четверти, остальной диск еще скрывает ночная тьма. Облаков почти нет, лишь кое-где протянулись полосы вдоль направления пассатов. Сверкает ледяная шапка полюса, но еще ярче, ослепительней отражение солнечных лучей в водах Тихого океана.
В этом полушарии так мало суши. Можно подумать, будто вся планета покрыта водой. Из материков виднеется только Австралия — здесь чуть гуще дымка атмосферы, обволакивающая планету.
Корабль входил в огромный темный конус — тень Земли; блестящий серп сузился в тонкую огненную полоску, в пылающий изогнутый лук, прощально Мигнул и исчез. Внизу темнота и ночь. Мир, погруженный в сон.
И тогда Ян понял, что же тут неладно. Под ним суша, но где мерцающие ожерелья огней, блистательный фейерверк — примета возведенных людьми городов? Все полушарие во мраке, ни единая искорка не разгоняет ночную тьму. Ни следа миллионов киловатт, чей свет когда-то щедро изливался в небеса. Казалось, перед глазами Яна Земля, какою она была до человека.
Не таким представлял себе Ян возвращение домой. Оставалось только ждать, а в душе нарастал страх перед неведомым. Что-то случилось… что-то непостижимое. А меж тем корабль, уверенно снижаясь, описал широкую дугу и опять вышел на освещенную солнцем сторону планеты.
Ян не видел посадки — изображение Земли на экране внезапно сменилось непонятными узорами линий и огней. А когда экран опять прояснился, путешествие кончилось. Теперь вдали виднелись высокие здания, вокруг двигались какие-то машины, за ними следили несколько Сверхправителей.
Где-то приглушенно загудела воздушная струя — давление воздуха в корабле уравнивалось с наружным, потом Ян услыхал, как раскрываются огромные створы. Он не мог больше ждать; молчаливые великаны то ли снисходительно, то ли равнодушно смотрели, как он бегом кинулся вон из рубки.
Он дома, опять он видит сияние знакомого солнца, вдыхает тот же воздух, который впервые омыл его легкие, едва он родился на свет. Трап уже спустили, но Яну пришлось чуть помедлить, освоиться со слепящим сиянием дня.
Кареллен стоял поодаль от остальных, возле огромной платформы, груженной ящиками. Ян и не задумался, каким образом он узнал Попечителя, не удивился, что тот совсем такой же, как был. Кажется, лишь к этому он был готов — что не встретит в Кареллене перемены.
— Я тебя ждал, — сказал Кареллен.
23
— Поначалу нам не опасно было появляться среди них, — сказал Кареллен, — Но они в нас больше не нуждались: наша работа была закончена, когда мы собрали их всех вместе и поселили на отдельном материке. Смотри.
Стена перед Яном исчезла. Теперь с высоты в несколько сот метров он смотрел на приветливую лесистую местность. Казалось, между ним и землей нет никакой преграды, и на миг у Яна закружилась голова.
— Так было пять лет спустя, когда началась вторая фаза.
Внизу двигались какие-то фигуры, и кинокамера стремглав спускалась на них, словно хищная птица.
— Тебе горько будет на них смотреть, — сказал Кареллен, — Но помни, прежние мерки тут неприменимы. Эти дети — не люди.
Однако Ян в них увидел детей, и никакая логика не могла рассеять это впечатление. Казалось, это дикари, исполняющие какой-то сложный обрядовый танец. Все они голые, грязные, за всклокоченными волосами не видно глаз. Насколько мог разобрать Ян, они были разного возраста, от пяти до пятнадцати, однако все двигались одинаково быстро, уверенно, не обращая ни малейшего внимания на окружающее.
А потом Ян разглядел их лица. Он насилу проглотил ком в горле, немалого труда ему стоило не отвернуться. Совершенно пустые лица, хуже чем мертвые, потому что и черты мертвеца сохраняют какой-то отпечаток, наложенный Временем, говорящий даже тогда, когда уже немы уста. А в этих лицах волнения, чувства не больше, чем у змеи или у насекомого. Сверхправители — и те с виду человечнее.
— Ты ищешь того, чего здесь больше нет, — сказал Кареллен. — Запомни, в них нет ничего от личности, как не обладает личностью отдельная клетка человеческого тела. Но в единстве они составляют нечто несравнимо более великое, чем человек.
— Почему они все время так двигаются?
— Мы это называем Долгим танцем, — отвечал Кареллен. — Они никогда не спят, и это длится уже почти год. Их триста миллионов, и они образуют строго определенный движущийся рисунок от края до края материка. Мы без конца пытаемся найти в этом рисунке смысл — и не находим, быть может, потому, что нам видна только физическая сторона, только небольшая часть — то, что здесь, на Земле. Вероятно, то, что мы называем Сверхразумом, еще обучает их, лепит из них некое единство, а уже потом вберет его в себя без остатка.
— Но как же они обходятся без еды? И что, если они наткнутся на какое-нибудь препятствие — на дерево, скалу, реку?
— Река не имеет значения, утонуть они не могут. О препятствия иногда ушибаются, но даже не замечают ушибов. А что до еды… ну, тут вдоволь и плодов, и дичи. Но в еде они больше не нуждаются, как и во многом другом. Ведь пища — это прежде всего источник энергии, а они научились черпать из более мощных источников.
Перед глазами что-то мигнуло, будто все заволокло знойной дымкой. А когда картина прояснилась, внизу уже не было движения.
— Смотри, — сказал Кареллен. — Это три года спустя.
Маленькие фигурки, совсем беспомощные и жалкие, если не знать правды, недвижимо застыли в лесу, на прогалине, на равнине. Кинокамера неустанно переходила от одного к другому, и Яну показалось, будто все они теперь на одно лицо. Когда-то ему случилось видеть странные фотографии, их печатали, накладывая один на другой десятки негативов, и получали некие «средние» черты. Те лица были так же пусты, безжизненны, неразличимы.
Казалось, стоящие спят или оцепенели. Веки у всех сомкнуты, и, похоже, существа эти сознают окружающее не больше, чем деревья, под которыми они застыли. «Какие мысли отдаются в сложном переплетении, в котором разум каждого не больше — но и не меньше, — чем нить исполинской ткани?» — спросил себя Ян. И тут понял, что ткань эта окутывает множество миров и множество племен — и продолжает расти.
И вдруг… Ян не поверил глазам, ослепленный, ошарашенный. Секунду назад перед ним был приветливый, плодородный край, картина самая обыкновенная, только и странного, что разбросанные по нему из конца в конец (но не совсем беспорядочно) несчетные маленькие изваяния. И внезапно деревья и травы и все живые твари, которым они служили приютом, исчезли, сгинули без следа. Остались лишь тихие озера, извилистые реки, округлые холмы — бурые, разом утратившие свой зеленый покров, — и молчаливые равнодушные статуи, виновники этого внезапного разрушения.
— Зачем же они все уничтожили? — ахнул Ян.
— Возможно, им мешало присутствие чужого разума — даже самого примитивного, разума животных и растений. Нас не удивит, если настанет день, когда они сочтут помехой весь материальный мир. И как знать, что тогда произойдет? Теперь ты понимаешь, почему, исполнив свой долг, мы устранились. Мы все еще пробуем изучать их, но никогда больше не бываем там у них и не посылаем туда наши приборы. Мы только и решаемся наблюдать за ними сверху.
— Это случилось много лет назад, — сказал Ян. — А что было дальше?
— Почти ничего. За все это время они не шевельнулись, не обращали внимания — день ли в их краю или ночь, лето или зима. Они все еще пробуют свои силы. Некоторые реки изменили русло, а одна теперь течет в гору. Но до сих пор все, что они делают, кажется бесцельным.
— А вас они совсем не замечают?
— Да, но тут нет ничего удивительного. Тому… целому… частью которого они стали, о нас все известно. Наши попытки его изучить ему, видимо, безразличны. Когда оно захочет, чтобы мы ушли отсюда, или пожелает поручить нам работу в другом месте, оно вполне ясно выразит свою волю. А до тех пор мы останемся здесь, пусть наши ученые узнают как можно больше.
«Так вот он, коней человечества», — подумал Ян с покорностью, превосходящей самую горькую скорбь. Конец, какого не предвидел ни один пророк… Тут равно не остается места ни надежде, ни отчаянию.
И однако, есть в этом какая-то закономерность, высшая неизбежность, законченность, словно в великом произведении искусства. Хоть и мельком, но Ян видел Вселенную во всей ее грозной необъятности, и теперь он знал — человеку в ней не место. Теперь-то он понимал, какой напрасной в последнем счете была мечта, что заманила его к звездам.
Ибо дорога к звездам раздваивается — и в какую сторону ни пойдешь, в конце пути нет ничего, что хоть в малой мере отвечает надеждам или страхам человечества.
В конце одного пути — Сверхправители. Каждый сохранил свою личность, свое независимое «я»; они обладают самосознанием, и это местоимение «я» в их языке полно смысла. Они способны чувствовать, и хотя бы некоторые свойственные им чувства — те же, что и у людей. Но теперь ясно, они зашли в тупик, откуда нет и не будет выхода. Их разум в десять, а возможно, и в сто раз могущественней человеческого. Но в конечном счете это неважно. Они так же беспомощны, их так же подавляет невообразимая сложность Галактики, соединяющей в себе сто тысяч миллионов солнц, — и космоса, в котором сто тысяч миллионов галактик.
А в конце другого пути? Там — Сверхразум, что бы ни означало это понятие, и человек перед ним — то же, что амеба перед человеком. По сути своей бесконечный, беспредельный, бессмертный, сколько времени вбирал он в себя одно разумное племя за другим, ширясь и ширясь среди звезд? Есть ли и у него желания, есть ли цели, которые он смутно осознает, но которых, быть может, никогда не достигнет? Теперь он вобрал в себя и все то, чего достигло за время своего бытия земное человечество. Это не трагедия, но свершение. Миллиарды мыслящих искр, из которых состояло человечество, мелькнули светлячками в ночи и угасли навсегда. Но жизнь их была не совсем уж напрасной.
Ян понимал, развязка еще впереди. Возможно, она наступит завтра, а быть может, через столетия. Даже Сверхправители не знают наверняка.
Теперь ясно, чего они добиваются, что сделали для человечества и почему все еще не уходят от Земли. Перед ними чувствуешь себя ничтожеством, и нельзя не восхищаться их непоколебимым терпением. Ведь они ждут так долго…
Яну не удалось узнать, каким образом возникли странные узы, соединяющие Сверхразум с его слугами. По словам Рашаверака, Сверхразум присутствовал в истории его народа с самого начала, но распоряжаться Сверхправителями начал, лишь когда они создали высоконаучную цивилизацию и смогли странствовать в космосе, исполняя его поручения.
— Но зачем вы ему нужны? — недоумевал Ян, — При такой невообразимой мощи для него уж наверно нет невозможного.
— Есть, — сказал Рашаверак. — Для него тоже есть пределы. Мы знаем, в прошлом он пытался воздействовать непосредственно на сознание других разумных существ и влиять на развитие их культуры. И всякий раз терпел неудачу — возможно, для тех напряжение оказывалось непосильным. Мы — его переводчики… опекуны, или, если применить одно из ваших сравнений, мы возделываем почву и ждем, пока придет пора жатвы. Сверхразум собирает урожай, а мы переходим на новое поле. Вы — уже пятое разумное племя, на наших глазах достигшее вершины. И каждый раз к нашим знаниям что-то прибавляется.
— Неужели вас не возмущает, что Сверхразум пользуется вами как орудием?
— Это дает нам и некоторые преимущества; притом только тот, кто неразумен, возмущается неизбежным.
«Вот с чем никогда не могло по-настоящему примириться человечество», — хмуро подумал Ян. Есть вещи, которые не поддаются логике, и вот их-то Сверхправителям не понять.
— Странно, почему же Сверхразум выбрал именно вас своим орудием, если вы ни в малейшей мере не обладаете сверхчувственными силами, какие скрыты в людях. Как же он с вами общается, как дает вам знать, чего он хочет?
— На это я не могу ответить — и не могу объяснить, почему должен иные обстоятельства от тебя скрывать. Возможно, настанет день, когда ты узнаешь долю истины.
Озадаченный, Ян призадумался было, но понял — дальше об этом расспрашивать бесполезно. Придется переменить тему в надежде, что после все же отыщется ключ к загадке.
— Тогда скажите вот о чем, этого вы тоже никогда не объясняли. Что стряслось, когда ваше племя явилось на Землю впервые, в далеком прошлом? Почему вы стали для нас воплощением ужаса и зла?
Рашаверак улыбнулся. Это ему не так удавалось, как Кареллену, но все-таки выходило похоже на улыбку.
— Никто не мог догадаться, и теперь ты понимаешь, отчего мы не могли вам объяснить. Только одно событие способно было до такой степени потрясти человечество. Но это случилось не на заре вашей истории, а в самом ее конце.
— То есть как? — не понял Ян.
— Когда наши корабли полтораста лет назад появились на вашем небе, это была первая встреча наших народов, хотя, конечно, на расстоянии мы вас изучали. И все же вы боялись нас и узнали, и мы заранее знали, что так будет. Это, в сущности, не память. Ты сам убедился на опыте, время — нечто гораздо более сложное, чем представлялось вашей науке. То была память не о прошлом, но о будущем, об этих последних годах, когда — человечество знало — для него все кончится. Как мы ни старались, конец оказался нелегким. Но мы были при нем — и поэтому люди увидели в нас воплощение своей гибели. А ведь до конца оставалось еще десять тысячелетий! Это было словно искаженное эхо; отдаваясь в замкнутом кольце Времени, оно пронеслось из будущего в прошлое. Скорее — не память, но предчувствие.
Непросто было в этом разобраться, и Ян помолчал, пытаясь осмыслить нежданное открытие. А между тем не так уж это неожиданно — разве он не убедился на опыте, что причина и следствие подчас меняются местами?
Очевидно, существует некая племенная, родовая память, и память эта каким-то образом перестает зависеть от времени. Будущее и прошлое для нее — одно и то же. Вот почему тысячи лет назад затуманенные смертельным ужасом человеческие глаза уже уловили искаженный облик Сверхправителей.
— Теперь я понимаю, — сказал последний человек.
* * *
Последний человек на Земле! Нелегко это сознавать. Улетая в космос, Ян мирился с мыслью, что, быть может, навсегда отрывается от людей, но еще не чувствовал одиночества. Пожалуй, с годами появится и даже станет мучительным желание увидеть человеческое лицо, но до поры в обществе Сверхправителей ему не совсем уж одиноко.
Всего лишь за десять лет до его возвращения на Земле еще оставались люди, но то были последыши, выродки, и Яну не стоило жалеть, что он их не застал. Детей больше не было — Сверхправители не могли объяснить, почему осиротевшие отцы и матери не пытались восполнить утрату, но Ян подозревал, что причины тут прежде всего психологические. Homo sapiens вымер.
Возможно, где-то в одном из еще не тронутых разрушением городов сохранилась рукопись какого-нибудь запоздалого Гиббона, повествующая о последних днях рода людского. Но если и так, Ян не стремился ее прочесть; с него довольно было рассказа Рашаверака.
Кое-кто покончил с собой, другие в поисках забвения предавались лихорадочной деятельности или какому-нибудь безрассудному, самоубийственному спорту, подчас напоминающему небольшую войну. Численность населения быстро уменьшалась, остающиеся, старея, жались друг к другу — разбитая армия смыкала ряды в последнем своем отступлении.
Должно быть, перед тем как навеки опустился занавес, заключительный акт трагедии озаряли вспышки героизма и преданности, омрачали варварство и себялюбие. Кончилось ли все отчаянием или покорностью, Яну никогда уже не узнать.
Ему и без того было о чем подумать. Примерно в километре от базы Сверхправителей находилась заброшенная вилла, и Ян не один месяц потратил, приводя ее в порядок, перевез туда из ближнего города, километров за тридцать, всякие нужные в обиходе приборы и устройства. В город с ним летал Рашаверак, чья дружба, как подозревал Ян, была не совсем уж бескорыстной. Сверхправитель, специалист-психолог, все еще изучал последнего представителя homo sapiens.
Видимо, жители покинули этот город раньше, чем настал конец; дома и даже почти все необходимое, например, водопровод еще оставались в целости и сохранности. Совсем не трудно было бы пустить в ход электростанцию, вернуть блеск, видимость жизни широким улицам. Ян недолго тешился этой мыслью— нет, не стоит, что-го тут есть болезненное. Ясно одно: предаваться сожалениям о прошлом он не желает.
Под рукой все необходимое, до самого конца он ни в чем не будет нуждаться, но непременно надо отыскать электронный рояль и кое-какие переложения Баха. Ему всегда хотелось всерьез заниматься музыкой, и вечно не хватало времени, теперь он это наверстает. И вот, если он не играет сам, так включает записи великих симфоний и концертов, музыка в его жилище не умолкает. Музыка — ваг его талисман, защита от одиночества, которое рано или поздно неминуемо станет для него непосильным гнетом.
Часто он подолгу бродил по холмам и думал обо всем, что случилось за немногие месяцы, с тех пор как он в последний раз видел Землю. Не думал он, когда прощался с Салливеном восемьдесят земных лет назад, что уже готово родиться последнее поколение людей.
Каким же он был тогда безмозглым щенком! Но вряд ли стоит раскаиваться, ведь, останься он на Земле, пришлось бы воочию видеть те последние годы, скрытые теперь завесой времени. А он миновал их, перескочил в будущее и узнал ответы на вопросы, на которые никто больше из людей ответа не получит. Его любопытство почти утолено, лишь порой он спрашивает себя, чего ждут Сверхправители, почему еще медлят здесь и чем же в конце концов будет вознаграждено их терпение? Но чаще всего, со спокойной покорностью, какая обычно приходит к человеку лишь в конце долгой хлопотливой жизни, он проводил время за роялем, упиваясь музыкой Баха. Возможно, он обманывал себя, возможно, то была благотворная прихоть рассудка, но теперь Яну казалось — только об этом он всегда и мечтал. Жажда, что скрывалась в тайниках души, осмелилась наконец выйти на свет сознания.
Ян всегда был неплохим пианистом, а теперь он — лучший в мире.
24
Новость ему сообщил Рашаверак, но он уже догадывался и сам. Перед рассветом он очнулся от какого-то страшного сна и уснуть больше не мог. И не удалось вспомнить, что же привиделось, а это очень странно, ведь он издавна убежден: любое сновидение можно вспомнить сразу, едва проснешься, надо лишь как следует постараться. Он только и вспомнил, что во сне опять он — маленький мальчик, стоит на огромной пустой равнине и прислушивается, а неведомый властный голос зовет на незнакомом языке.
Сон все еще тревожил — может быть, это одиночество нанесло первый удар его рассудку? Яну не сиделось дома, и он вышел на заброшенную, заросшую лужайку.
Полная луна все заливала золотистым ярким светом, отчетливо видна была каждая мелочь. Исполинский цилиндр Карел-ленова корабля мерцал позади базы Сверхправителей, рядом с ним здания базы казались всего лишь делом рук человеческих. Ян смотрел на корабль, пытаясь вспомнить, какие чувства будил в нем когда-то вид этой громадины. Тогда казалось, это — недостижимая цель, символ всего, к чему стремишься понапрасну. А теперь вид его нисколько не волнует.
Как все здесь застыло в тишине! Конечно, Сверхправители, как всегда, чем-то заняты, но сейчас их не видно. Словно Ян совсем один на Земле… да в сущности, так оно и есть. Он посмотрел на Луну, хоть бы глаза и мысли отдохнули на чем-то знакомом, привычном.
Вот они, древние, издавна памятные лунные моря. Ян побывал в глубине космоса, на расстоянии сорока световых лет, но ему так и не довелось пройти по этим пыльным безмолвным равнинам, до которых всего лишь две световые секунды. С минуту он для развлечения старался найти взглядом кратер Тихо. А когда нашел, удивился: светящееся пятнышко оказалось дальше от середины лунного диска, чем он думал. И вдруг он понял, что темный овал Моря Кризисов куда-то исчез.
Спутник Земли обратил к ней совсем не то лицо, которое смотрело на нее с начала времен. Луна стала вращаться вокруг своей оси.
Это могло означать только одно. В другом полушарии Земли, на материке, с которого они так внезапно смели все живое, те очнулись от долгого оцепенения. Как ребенок, просыпаясь, тянется навстречу свету дня, они, разминая мышцы, играли своими вновь обретенными силами.
* * *
— Да, ты угадал, — сказал Рашаверак. — Нам небезопасно дальше здесь оставаться. Может быть, пока они еще не обращают на нас внимания, но рисковать нельзя. Мы улетим, как только все погрузим — часа через два, через три.
Он посмотрел на небо, словно боялся, что там вот-вот вспыхнет какое-нибудь новое чудо. Но нет, все спокойно; Луна зашла, лишь редкие облака плывут в вышине, подгоняемые западным ветром.
— Баловство с Луной еще не так опасно, — прибавил Рашаверак. — Ну, а если они вздумают повернуть и Солнце? Разумеется, мы оставим здесь приборы и от них узнаем, что будет дальше.
— Я остаюсь, — вдруг сказал Ян. — На Вселенную я насмотрелся. Теперь мне интересно только одно — судьба моей родной планеты.
Почва под ногами тихонько дрогнула.
— Я этого ждал, — продолжал Ян. — Раз они изменили вращение Луны, где-то должен измениться момент количества движения. И теперь замедляется вращение Земли. Даже не знаю, что меня больше поражает, — как они это делают или зачем.
— Они все еще играют, — сказал Рашаверак. — Много ли логики в поступках ребенка? А то целое, которое возникло из вашего племени, во многих отношениях еще ребенок. Оно еще не готово соединиться со Сверхразумом. Но очень скоро и это придет, и тогда вся Земля останется в твоем распоряжении.
Он не докончил мысль, Ян договорил за него:
— Если только сама Земля не перестанет существовать.
— Ты понимаешь, что есть и такая опасность, и все равно хочешь остаться?
— Да. Я провел дома пять лет… или уже шесть? Будь что будет, я ни о чем не пожалею.
— Мы и надеялись, что ты захочешь остаться, — медленно заговорил Рашаверак. — Если останешься, ты сможешь кое в чем нам помочь…
* * *
Огненный след звездолета истончился и угас где-то за орбитой Марса. Из миллиардов людей, что жили и умерли на Земле, только он, Ян, проделал однажды этот путь, думал он теперь. И уже никто никогда больше там не пройдет.
Вся Земля принадлежит ему. Ни в чем нет недостатка, доступны все материальные блага, каких только можно пожелать. Но его это больше не привлекает. И не страшат ни одиночество на безлюдной планете, ни присутствие того, что еще здесь, близко, но очень скоро пустится на поиски своей неведомой доли. И уж наверно, уносясь прочь, оставит за собой такой бурный, вспененный след, что Яну со всеми загадками, которые его еще занимают, не уцелеть.
Ну и пусть. Он добился всего, чего хотел, и после этого было бы нестерпимо скучно влачить бесцельное существование на опустелой планете. Можно бы улететь вместе со Сверхправителями, но какой смысл? Ведь он, как никто другой, знает, Кареллен сказал когда-то чистую правду: «Звезды — не для человека».
Ян оставил за собой ночную тьму и через широкие ворота вошел на базу Сверхправителей. Ее размеры ничуть не подавляют, огромность сама по себе для него давно уже ничего не значит. Тускло горят красноватые светильники — энергии, что их питает, хватило бы еще на века. По обе стороны дороги лежат брошенные Сверхправигелями машины, никогда Ян не узнает тайны их устройства и назначения. Он миновал их, неловко вскарабкался по громадным ступеням и наконец добрался до рубки.
Здесь еще живет дух Сверхправителей, еще работают их машины, выполняя волю теперь уже далеких своих владык. Что же может Ян прибавить к потоку сведений, который извергают они в пространство?
Он забрался на высоченное сиденье пилота, постарался устроиться поудобнее. Его ждет уже включенный микрофон; наверно, за каждым его шагом следит какое-нибудь подобие телекамеры, но обнаружить его не удалось.
За панелью управления со множеством непонятных приборов смотрят в звездную ночь широкие окна, видна долина, спящая под немного уже ущербной Луной, и далекий горный хребет. По долине вьется река, там и сям поблескивают в лунном свете то воронка, то плеснувшая волна. Везде такой покой. Быть может, и при рождении человечества было все вот так же, как в его последний час.
Где-то в пространстве, невесть за сколько миллионов километров, конечно, жнет Кареллен. Странно думать, что корабль Сверхправителей мчится от Земли почти с той же скоростью, как сигнал, который Ян пошлет вдогонку. Почти — и все же не так быстро. Долгая будет погоня, но слова его дойдут до Попечителя, и тем самым Ян отдаст ему свой долг.
Любопытно, многое ли из случившегося и раньше входило в планы Кареллена, и сколько — внезапное наитие, гениальная импровизация? Неужели почти сто лет назад Попечитель умышленно дал ему тайком бежать с Земли, чтобы, возвратясь, он мог сыграть нынешнюю свою роль? Нет, это уж слишком невероятно. Однако ясно одно: Кареллен заранее вынашивал какой-то грандиозный, сложный замысел. Он служил Сверхразуму — и в то же время изучал его всеми средствами. Ян подозревал, что Попечитель движим не одной лишь пытливостью ученого; быть может, Сверхправители мечтают когда-нибудь узнать достаточно о могучих силах, которым служат, и освободиться от этого странного порабощения.
Только трудно поверить, будто Ян сейчас может хоть что-то прибавить к их познаниям. «Говори нам, что ты видишь, — сказал ему Рашаверак. — Картину, которая будет у тебя перед глазами, передадут и наши камеры. Но поймешь и осмыслишь ты ее, вероятно, совсем иначе, и это, возможно, многое нам объяснит». Что ж, он будет стараться изо всех сил.
— Все еще ничего нового, — начал он. — Несколько минут назад я видел, как исчез в небе след вашего корабля. Луна как раз начинает убывать, и та ее сторона, которой она всегда была обращена к Земле, теперь почти наполовину не видна… впрочем, вы, наверно, это уже знаете.
Ян примолк, чувствовал он себя довольно глупо. Что-то есть в его поведении неуместное, даже немножко нелепое. Завершается история целого мира, а он — будто радиокомментатор на скачках или на состязаниях по боксу. Но тут же он пожал плечами и отмахнулся от этой мысли. В минуты величия поблизости во все времена ухмылялась пошлость… но здесь, кроме него самого, некому ее заметить.
— За последний час было три небольших землетрясения, — продолжал он, — Они замечательно управляют вращением Земли, но все-таки не в совершенстве… Право, Кареллен, я все больше убеждаюсь, как трудно сказать вам что-нибудь такое, чего вам уже не сообщили ваши приборы. Наверно, было бы легче, если б вы хоть намекнули, чего мне ждать, и предупредили, долго ли надо ждать. Если ничего не случится, выйду опять на связь через шесть часов, как мы условились…
Нет, слушайте! Наверно, они только и ждали вашего отлета. Что-то начинается. Звезды тускнеют. Похоже, все небо страшно быстро заволакивает огромное облако. Только на самом деле это не облако. В нем есть какая-то система… Трудно различить, но что-то вроде туманной сетки из лент и полос, и они все время перемещаются. Будто звезды запутались в огромной призрачной паутине.
Вся эта сеть засветилась… светится и пульсирует, совсем как живая. Наверно, и правда живая… или это что-то выше, чем жизнь, как все живое выше неорганического мира?
Кажется, свечение сдвигается в один край неба… подождите минуту, я перейду к другому окну.
Нуда… я мог бы и раньше догадаться. На западе над горизонтом огромный пылающий столб, какое-то огненное дерево. Оно очень далеко, на той стороне Земли. Я знаю, откуда оно растет, это они наконец пустились в путь, чтобы соединиться со Сверхразумом. Ученичество закончено, они отбрасывают последние остатки материи.
Огненный столб поднимается выше, а та сетка становится отчетливей, она теперь не такая туманная. Местами как будто совсем плотная… хотя звезды еще немножко просвечивают сквозь нее.
А, понял, Кареллен, я видел, над вашей планетой вырастало что-то очень похожее, хотя и не в точности такое же. Может, это была часть Сверхразума? Наверно, вы скрывали от меня правду, чтобы у меня не возникло предвзятых идей… чтоб я стал непредубежденным наблюдателем. Хотел бы я знать, что вы сейчас видите на своих экранах, и сравнить с тем, что мне сейчас представляется!
Наверно, вот так он с вами и говорит, Кареллен, — такими вот очертаниями и красками? Я помню, в рубке вашего корабля по экранам бежали какие-то узоры, это был зримый язык, внятный вашим глазам.
Теперь среди звезд мерцают и пляшут сполохи, точь-в-точь северное сияние. Ну, конечно, наверняка так оно и есть — сильнейшая магнитная буря. Долина, горы — все осветилось… ярче, чем днем… красные, золотые, зеленые полосы пробегают по небу… никакими словами не опишешь, просто несправедливо, что я один вижу такое… и не думал, что возможны такие цвета…
Буря утихает, но та огромная туманная сеть еще тут. Пожалуй, северное сияние только побочный продукт какой-то энергии, которая высвобождается там, в стратосфере…
Одну минуту, что-то новое. Какая-то легкость во всем теле. Что это значит? Роняю карандаш — он падает медленно, как перышко. Что-то происходит с силой тяжести… поднимается сильный ветер… на равнине ветви деревьев ходят ходуном.
Понятно… атмосфера улетучивается. Камни и палки несутся вверх, будто сама Земля хочет рвануться за теми, в небо. Вихрем подняло тучу пыли. Ничего не разглядеть… может, скоро прояснится.
Да… теперь лучше. С поверхности все сметено… пыль рассеялась. Любопытно, долго ли продержится это здание? И становится трудно дышать… попробую говорить медленней.
Вижу опять хорошо. Тот огненный столб еще на месте, но сжимается, суживается… будто смерч, уходящий в облака. И… как это передать? — меня захлестнуло таким волнением! Это не радость и не скорбь… было чувство полноты, свершения. Может, почудилось? Или это нахлынуло извне? Не знаю.
А теперь… нет, это не просто чудится… мир стал пустой. Совсем пустой. Все равно как слушаешь радио — и вдруг все выключилось. И небо опять ясное… туманная сетка пропала. Куда оно теперь пойдет, Кареллен? И на той планете вы опять будете ему служить?
Странно, вокруг меня все по-прежнему. Не знаю, почему-то я думал…
Ян умолк. Минуту мучился, не находя слов, закрыл глаза, силясь овладеть собой. Сейчас не до страха, не до паники, надо исполнить свой долг… долг перед Человечеством — и перед Карелленом.
Сперва медленно, будто просыпаясь, он снова заговорил:
— Здания вокруг… долина… горы… все прозрачное, как стек-до… я вижу сквозь них! Земля истаивает… я стал почти невесомым, Вы были правы… им больше не нужны игрушки.
Остались секунды. Горы взлетают клоками дыма. Прощайте, Кареллен, Рашаверак… мне вас жаль. Мне этого не понять, а все-таки я видел, чем стало мое племя. Все, чего мы достигли, поднялось к звездам. Может, это и хотели сказать все старые религии. Только они перепутали, они думали, человечество так много значит, а мы лишь одно племя из… знаете ли вы, сколько их? А теперь мы — уже другое, вам этого не дано.
Река исчезает. А небо пока прежнее. Трудно дышать. Странно, Луна еще светит. Я рад, что они ее оставили, но ей теперь будет одиноко…
Свет? Подо мной… в недрах Земли… поднимается сквозь скалы, сквозь все… ярче, ярче, слепит…
* * *
В беззвучном взрыве света ядро Земли выпустило на волю потаенные запасы энергии. Недолгое время гравитационные волны пересекали во всех направлениях Солнечную систему, чуть колебля орбиты планет. И опять оставшиеся дети Солнца двинулись извечными своими путями, как по безмятежному озеру выплывают пробки из чуть заметной ряби от брошенного камня.
От Земли не осталось ничего. Те высосали всю ее плоть до последнего атома. Она питала их в час непостижимого, неистового преображения, как плоть пшеничного зерна кормит малый росток, когда он тянется к Солнцу.
* * *
В шести тысячах километров за орбитой Плутона перед внезапно погасшим экраном сидит Кареллен. Наблюдения закончены, задача выполнена; он возвращается домой, на планету, которую так давно покинул. Его гнетет тяжесть столетий и печаль, которую не разогнать никакими рассуждениями. Не человечество он оплакивает, его скорбь — о собственном народе, чей путь к величию навек пресекли неодолимые силы.
Да, его собратья многого достигли, думал Кареллен, им подвластна осязаемая Вселенная, и все же они — только бродяги, обреченные скитаться по однообразной пыльной равнине. Недостижимо далеки горные выси, где обитают мощь и красота, где по ледникам прокатываются громы и воздух — сама чистота и свежесть. Там солнце на своем пути еще одаряет сиянием вершины гор, когда все внизу уже окутано тьмой. А они только и могут смотреть в изумлении, но никогда им не подняться на эти высоты.
Да, Кареллен знает, они будут держаться до конца; не поддаваясь отчаянию, станут ждать конца, что бы ни готовила им судьба. Будут служить Сверхразуму, ибо выбора у них нет, но и в этом служении не утратят душу свою.
Громадный контрольный экран на мгновение вспыхнул мрачным алым светом; сосредоточенно, напряженно Кареллен вчитывался в смысл меняющихся узоров. Корабль выхолил за пределы Солнечной системы; энергия, питающая межзвездный двигатель, на исходе, но свое дело она уже сделала.
Кареллен поднял руку, и картина перед ним опять изменилась. Посреди экрана пламенела одинокая яркая звезда; на таком расстоянии никто не мог бы сказать, что у этого солнца были когда-либо планеты и что одна из них потеряна безвозвратно. Долго смотрел Кареллен назад, через быстро ширящуюся пропасть, множество воспоминаний проносилось в его могучем, сложном мозгу. И он безмолвно склонил голову перед всеми, кого знал, — и теми, кто мешал ему, и теми, кто помогал выполнить его задачу.
Никто не смел потревожить его, прервать его раздумье; а потом он отвернулся, и Солнце, исчезающе малая точка, осталось позади.
Город и звезды
Перевод А. Кубичева
Сверкающей драгоценностью лежал этот город на груди пустыни. Когда-то он знавал перемены; снова и снова перестраивался, однако теперь Время обходило его стороной. Над пустыней ночь и день быстролетно сменяли друг друга, но улицы Диаспара не ведали тьмы — они постоянно были озарены полднем. И пусть долгие зимние ночи припорашивали пустыню инеем — это вымерзала последняя влага, еще остающаяся в разреженном воздухе Земли, — город не ведал ни жары, ни холода. Он не соприкасался с внешним миром: он сам был вселенная, замкнутая в себе самой.
Человек издавна строил города, но никогда прежде он не создавал такого, как этот. Множество из возведенных им людских муравейников просуществовали несколько столетий, а некоторые жили и целыми тысячелетиями, прежде чем Время унесло с собой их имена. И только Диаспар бросил вызов самой Вечности, обороняя себя и все, чему дал он приют, от медленного натиска веков, от разрушительности тления и распада.
С той поры, как был выстроен этот город, земные океаны высохли и пески пустыни замели планету. Ветром и дождями были размолоты в пыль последние горы, а Земля оказалась слишком утомлена, чтобы извергнуть из своих недр новые. Городу не было до этого ровно никакого дела; планета могла рассыпаться в прах, но Диаспар все так же защищал бы детей своих создателей, бережно унося их и все принадлежащие им сокровища по реке Времени.
Они многое позабыли, но не понимали этого. Ко всему, что было вокруг них, они приноровились столь же превосходно, сколь и окружающее — к ним, ибо их и проектировали как единое целое. То, что находилось за стенами города, ничуть их не интересовало: эта область бытия была вычеркнута из их сознания. Диаспар — вот все, что существовало для них, все, что им требовалось, все, что они могли себе вообразить. Для них ровным счетом ничего не значило, что когда-то Человеку были подвластны звезды.
И все же время от времени древние мифы оживали, чтобы преследовать воображение жителей этого города, и людей пробирал озноб, когда они припоминали легенды о временах Галактической Империи, — Диаспар был тогда юн и пополнял свои жизненные силы тесным общением с мирами множества солнц. Горожане вовсе не стремились возвратить минувшее — им было так славно в их вечной осени… Свершения Галактической Империи принадлежали прошлому и могли там и оставаться, поскольку всем памятно было, как именно встретила Империя свой конец, а при мысли о Пришельцах холод самого Космоса начинал сочиться в их кости.
И, стряхнув наваждение, они снова погружались в жизнь и теплоту родного города, в долгий золотой век, начало которого уже затерялось во времени, а конец отстоял на еще более невообразимый срок. Многие поколения мечтали об этом веке, но достигли его лишь они…
Так и существовали они в своем неменяющемся городе, ходили по его улицам, и улицы эти каким-то чудесным образом не знали перемен, хотя в небытие уже ушло более миллиарда лет.
1
…Им потребовалось несколько часов, чтобы с боем вырваться из Пещеры Белых Червей. Но и сейчас у них не было уверенности, что некоторые из этих мертвенно-бледных тварей не перестали их преследовать, а мощь оружия беглецов была уже почти исчерпана. Плывущая перед ними в воздухе светящаяся стрелка — таинственный их проводник в недрах Хрустальной горы — по-прежнему звала за собой. У них не было выбора — оставалось только следовать за ней, хотя, как это уже не раз происходило, она могла заманить их в ловушки еще более страшные.
Олвин оглянулся — убедиться, что никто из его товарищей не отстал. Алистра шагала вплотную за ним, держа в ладонях шар холодного, немеркнущего огня, который с самого начала их приключений в недрах Хрустальной горы вырывал из тьмы то немыслимые ужасы, то неподражаемую красоту. Мягкое белое излучение шара озаряло узкий коридор, блики света плясали на сверкающих стенах; пока этот источник огня не иссякнул, они, по крайней мере, могли видеть, куда направляются, и в случае опасности — сразу же обнаружить любую видимую угрозу. Олвину, однако, слишком хорошо было известно, что самые страшные опасности этих пещер вовсе не относятся к числу видимых.
За Алистрой, покряхтывая под тяжестью видеопроекторов, тащились Нарилльян и Флоранус. Олвин мимолетно подивился, почему это проекторы сделаны такими тяжелыми, — ведь снабдить их гравитационными нейтрализаторами было совсем несложно. Он постоянно задумывался о таких вот вещах — даже в разгар самых отчаянных приключений. И когда его посещали подобные мысли, ему чудилось, будто ткань действительности испытывает какой-то мгновенный трепет, и за пределами мира сиюминутных ощущений он схватывал вдруг проблеск другой, вовсе не похожей на эту, действительности…
Коридор оборвался стеной тупика. Неужели стрелка-поводырь снова их предала?.. Но нет — едва они приблизились к стене, как скала начала крошиться в пыль. Поверхность ее пронизало какое-то вращающееся металлическое копье, которое стремительно утолщилось и превратилось в гигантский бурав. Олвин и его друзья отпрянули и стали ждать, чтобы неведомая машина пробила себе путь в пещеру. С оглушительным скрежетом металла по камню — он наверняка был слышен во всех пустотах горы и разбудил всех ее кошмарных обитателей! — капсула подземного вездехода проломилась сквозь стену и стала. Откинулась массивная крышка люка, в его проеме показался Коллистрон и закричал им, чтобы они поторопились. «Почему вдруг Коллистрон? — поразился Олвин. — Он-то что туг делает?» Через несколько секунд они были уже в безопасности кабины, и машина, кренясь, двинулась вперед — в путь сквозь земные глубины.
Приключение завершилось. Скоро, как это случалось всегда, они окажутся дома, и все чудеса, ужасы и треволнения останутся позади. Они устали, но были довольны.
По наклону пола Олвин догадался, что вездеход направляется куда-то вниз, в глубь земли. Надо думать, Коллистрон знает, что делает, и таков именно и есть путь, ведущий к дому. И все же — какая жалость, что…
— Послушай-ка, Коллистрон, — неожиданно нарушил молчание Олвин, — а почему это мы движемся не кверху? Ведь никто никогда не видел Хрустальную гору снаружи. Вот чудесно было бы — выйти на одном из ее склонов, поглядеть на землю и небо… Мы ведь черт-те сколько пробыли под поверхностью…
Еще не докончив фразы, он каким-то образом уже понял, что говорит что-то неладное. Алистра придушенно вскрикнула, внутренность капсулы как-то странно заколыхалась — так колышется изображение, рассматриваемое сквозь толщу воды, — и через металл окружающих его стенок Олвин на краткий миг снова увидел тот, иной мир… Две реальности, похоже, боролись друг с другом — отчетливее становился то один мир, то другой… И затем, совсем внезапно, все кончилось. На долю секунды у Олвина возникло ощущение какого-то разрыва, и от подземного путешествия не осталось и следа. Олвин снова очутился в Диаспаре, в своей собственной, такой знакомой ему комнате, покоясь футах в двух над полом в невидимой колыбели гравитационного поля, оберегающего его от соприкосновения с грубой материей.
Он снова стал самим собой. Это и была реальность, — и он совершенно точно знал, что произойдет вслед за этим.
Алистра появилась первой. Поскольку она очень любила Олвина, то была не столько раздражена, сколько расстроена.
— Ах, Олвин, — жалобно протянула девушка, глядя на него сверху вниз с прозрачной стены, в толще которой она, как казалось, материализовалась во плоти. — У нас же было такое захватывающее приключение! Аты нарушил правила… Ну зачем тебе понадобилось все испортить!..
— Извини. Я совсем не хотел… Я просто подумал, что было бы неплохо…
Одновременное появление Коллистрона и Флорануса не позволило ему докончить мысль.
— Вот что, Олвин, — заговорил Коллистрон. — Ты прерываешь сагу уже в третий раз. Вчера все пришлось бросить, потому что тебе взбрело в голову выбраться за пределы долины Радуг. А перед этим ты все испортил этой своей попыткой дойти по Тропе Времени, которую мы исследовали, до самого Возникновения. Если ты не станешь соблюдать правила, то тебе придется путешествовать одному!
Он исчез — вне себя от возмущения — и увел с собой Флорануса. Нарилльян — тот вообще не появился; вполне возможно, что он уже был сыт всем этим по горло. Осталось только изображение Алистры — она печально смотрела на Олвина.
Олвин наклонил гравитационное поле, встал на пол и шагнул к материализованному им столу. На нем вдруг появилась ваза с какими-то фантастическими фруктами… — собственно, Олвин собирался позавтракать вовсе не фруктами, но замешательство, в котором он пребывал, спутало ему мысли. Не желая обнаружить перед Алистрой ошибку, он выбрал из вазы плод, который выглядел наименее подозрительно, и принялся осторожно высасывать мякоть.
— Ну, так что же ты собираешься предпринять? — вымолвила наконец Алистра.
— Ничего не могу с собой поделать, — насупившись, ответил он, — По-моему, все эти правила просто глупы. Да и потом — как же мне о них помнить, если я в данный момент живу в саге? Я просто веду себя таким образом, чтобы все было естественно… А разве тебе-то самой не хотелось взглянуть на гору со стороны?
Глаза Алистры расширились от ужаса.
— Но ведь для этого пришлось бы выйти наружу. — задыхаясь, произнесла она.
Олвин уже знал, что продолжать с ней разговор на эту тему нет никакого смысла. Здесь проходил барьер, который отъединял его от всех остальных граждан Диаспара и который мог обречь его на жизнь, полную отчаяния. Ему-то, сколько он себя помнил, всегда хотелось выйти наружу — и в реальной жизни, и в призрачном мире приключенческих саг. А в то же время для любого и каждого в Диаспаре «наружу» означало совершенно непереносимый кошмар… Если в разговоре можно было обойти эту тему, ее никогда даже не затрагивали: «наружу» — означало нечто нечистое и исполненное зла. И даже Джизирак, его наставник, не хотел объяснить ему, в чем здесь дело.
Алистра все еще молча смотрела на него — с изумлением и нежностью.
— Тебе плохо, Олвин, — прозвучал ее голос. — А в Диаспаре никому не должно быть плохо. Позволь мне прийти и поговорить с тобой…
Полагалось бы, конечно, проявить галантность, но Олвин отрицательно мотнул головой. Он знал, к чему приведет этот визит, а ему как раз сейчас хотелось побыть в одиночестве. Разочарованная вдвойне, Алистра растаяла.
В городе — десять миллионов человек, подумалось Олвину, и тем не менее не найдется ни одной живой души, с кем он мог бы поговорить по-настоящему. Эристон с Итанией на свой лад любят его, но теперь, когда период их опекунства подходит к концу, они, пожалуй, даже радуются, что отныне он сам, по своему разумению, станет выбирать себе развлечения и формировать свой собственный образ жизни. В последние годы, по мере того как его отклонение от существующих в городе стандартов становилось все более и более очевидным, он частенько ощущал холодок со стороны названых родителей. Холодок этот был вызван не его личностью — будь так, уж он смог бы все это правильно воспринять и преодолеть; нет, его породила обида на ничем не заслуженное невезенье, в силу которого из всех миллионов горожан именно им, Эристону с Итанией, по воле случая довелось первыми повстречать Олвина, когда в тот памятный день — двадцать лет назад — он вышел из Зала Творения.
Двадцать лет… Он помнил тот первый момент и самые первые услышанные им слова: «Добро пожаловать, Олвин. Я — Эристон, твой названый отец. А это — Итания — твоя мать». Тогда эти слова не означали для него ничего, но память запечатлела их с безупречной точностью. Он вспомнил, как оглядел тогда себя; теперь он уже подрос на пару дюймов, но, в сущности, тело его едва ли изменилось с момента рождения. Он пришел в этот мир почти совершенно взрослым, и когда — через тысячу лет — наступит пора покинуть его, он будет все таким же, разве только чуточку выше ростом.
А перед тем — первым — воспоминанием зияла пустота. Настанет день, и она, возможно, снова поглотит его сознание. Но день этот отстоял еще слишком далеко, чтобы пробудить в душе хоть какое-то чувство.
Олвин снова обратил мысли к тайне своего рождения. Ему вовсе не представлялось странным, что в некий неощутимо краткий миг он мог быть создан могуществом тех сил, что создавали и все предметы повседневности, окружающие его. Нет, в этом-то как раз не было ничего таинственного. Настоящей загадкой, до разрешения которой он до сих пор так и не смог добраться, которую никто не хотел ему объяснить, была эта его непохожесть на других.
Не такой, как другие… Слова были странные, окрашенные печалью. И ходить в непохожих — тоже было и странно и грустно. Когда о нем так говорили — а он частенько слышал, что о нем говорят именно так, когда полагают, что он не может услышать, — то в словах этих звучал некий оттенок многозначительности, и в нем содержалось нечто большее, нежели просто какая-то возможная угроза его личному счастью.
И названые родители, и его наставник Джизирак, и все, кого он знал, пытались уберечь его от тайной правды, словно бы хотели навсегда сохранить для него неведение долгого детства. Скоро все это должно кончиться: через несколько дней он станет полноправным гражданином Диаспара, и ничто из того, что ему вздумается узнать, не сможет быть от него скрыто.
Почему, например, он не подходит для участия в сагах? В городе увлекались тысячами видов отдыха и всевозможных развлечений, но популярней саг не было ничего. В сагах вы не просто пассивно наблюдали происходящее, как в тех примитивных развлечениях бесконечно далекого прошлого, которым изредка предавался Олвин. Вы становились активным участником действия и обладали — или это только казалось? — полной свободой воли. События и сцены, которые составляли основу приключений, могли быть придуманы давно забытыми мастерами иллюзий еще бог знает когда, но в эту основу было заложено достаточно гибкости, чтобы стали возможны самые неожиданные вариации. Отправиться в эти призрачные миры — в поисках тех острых ощущений, которые были недоступны в Диаспаре, — вы могли даже с друзьями, и, пока длилось выдуманное бытие, не существовало способа, который позволил бы отличить его от действительности. Строго говоря, кто мог быть уверен, что и сам Диаспар не был лишь сном?
Никому не удалось бы проиграть все саги, созданные и записанные с начала существования города. Они воздействовали на все человеческие чувства, а утонченность их не знала границ. Некоторые из них — эти были особенно популярны среди молодежи — являли собой драматургически несложные сюжеты, накрученные вокруг всякою рода приключений и открытий. Иные были чистой воды исследованиями психологических состояний человека. Но существовали и особые разновидности саг — экскурсы в область логики и математики, способные подарить изощреннейшее наслаждение наиболее утонченным умам.
И все же у Олвина эти саги — хотя они, похоже, вполне удовлетворяли его товарищей — порождали ощущение какой-то неполноты. Несмотря на всю их красочность и богатство предлагаемых переживаний, несмотря на калейдоскоп сюжетов и мест действия, ему в них постоянно чего-то недоставало.
Да ведь эти саги, подумалось ему, в сущности, всегда бесплодны. Всякий раз они ограничены такими узкими рамками… Саги никоим образом не могли предложить Олвину простора, открытых взору пейзажей, по которым так тосковала его душа. И наконец, ни в одной из них и намека не было на громадность пространств, в которых свершали свои подвиги люди древности, — не было ни малейшего следа мерцающей пустоты между звездами и планетами. Художники — создатели саг — были заражены той же самой удивительной фобией, что владела сознанием всех граждан Диаспара. Даже путешествия в сагах обязательно происходили лишь в тесных, замкнутых пространствах, в подземных пещерах или в ухоженных крохотных долинках в обрамлении гор, закрывающих от взора весь остальной мир.
Объяснение этому могло быть только одно. Давным-давно, быть может еще до основания Диаспара, произошло нечто такое, что не только лишило Человека любознательности, честолюбивого порыва к неизведанному, но и отвратило его от Звезд — назад, к дому, искать убежища в узеньком замкнутом мирке последнего города Земли. Он отказался от Вселенной и возвратился в искусственное чрево Диаспара. Пылающее, неостановимое стремление, что вело его когда-то через бездны Галактики, сквозь мрак к островам туманностей за ее пределами, бесследно угасло. На протяжении неисчислимых эпох ни один космический корабль не появлялся в пределах Солнечной системы! Там, среди звезд, потомки Человека, быть может, все еще возводили империи и разрушали светила… — Земля ничего об этом не знала и не хотела знать.
Земле все это было безразлично. Олвину — нет.
2
…Все в комнате было погружено в темноту — кроме одной, светящейся изнутри стены, на которой, по мере того как Олвин сражался со своими видениями, то отливали, то снова набирали силу разноцветные волны. Кое-что на этой рождающейся картине вполне его удовлетворяло — он, к примеру, прямо-таки влюбился в стремительные очертания гор, вздымающихся из моря. В этих изломанных силуэтах жили сила и горделивость. Олвин долго, изучающе смотрел на них, а затем ввел изображение в блок памяти визуализатора, где оно должно было храниться, пока он экспериментирует с остальной частью картины. И все же что-то ускользало, хотя он никак не мог уразуметь — что же именно. Снова и снова пытался он заполнить зияющие провалы пейзажа — хитроумная аппаратура считывала в его сознании теснящие друг друга образы и воплощала их на стене в цвете. Все впустую… Линии выходили расплывчатыми и робкими, оттенки получались грязноваты и скучны. Когда художнику неведома цель, отыскать ее для него не в состоянии даже самые чудесные инструменты…
Олвин оставил свое никуда не годное малеванье и угрюмо вперился в пустой на три четверти прямоугольник, который ему так хотелось заполнить Прекрасным. Прошла минута, потом еще одна… Повинуясь внезапному импульсу, он вдруг удвоил масштаб оставшейся части этюда и переместил ее в центр «полотна*… Нет, такой выход из положения был продиктован просто ленью. И равновесия совсем не получилось… И, что было еще хуже, — изменение масштаба обнажило все изъяны исполнения, полное отсутствие уверенности в этих линиях, которые сперва смотрелись такими твердыми… Надо было все начинать сначала.
«Полное стирание», — мысленно приказал он аппаратуре. Голубизна моря принялась выцветать, горы растаяли, словно туман, и в конце концов не осталось ничего, кроме чистой стены. Будто и не было этих красок и форм — и море, и горы словно бы ушли в то же небытие, в бездне которого исчезли все моря и горы Земли еще за многие столетия до рождения Олвина.
Поток света опять залил комнату, и фосфоресцирующий прямоугольник, на который Олвин проецировал свои видения, слился с окружающим, снова став просто одной из стен. Но стены ли это были? Человеку, никогда прежде не бывавшему в подобных помещениях, комната и в самом деле представилась бы удивительной. Она была совершенно лишена каких-либо примечательных черт, в ней не было абсолютно никакой мебели, и поэтому наблюдателю со стороны показалось бы, что Олвин стоит в центре какой-то сферы. Взгляд не встречал линий, которые отделяли бы стены от пола и потолка. Здесь не было ровно ничего, за что можно было бы зацепиться глазу: пространство, окружающее Олвина, могло быть и десяти футов, и десяти миль в поперечнике, — вот и все, что могло сказать зрение. Гостю-новичку было бы трудно не поддаться искушению двинуться вперед, вытянув руки, чтобы попытаться обнаружить физические границы этого столь необычного места.
Но именно такие вот комнаты и были домом для большей части человечества на протяжении гигантского периода его истории. Олвину стоило только пожелать, и стены превращались в окна, выходящие, по его выбору, на любую часть города. Еще одно пожелание — и какой-то механизм, которого он никогда в жизни и в глаза не видел, наполнял комнату спроецированными, но вполне материальными предметами меблировки — любыми, о каких бы только Олвин ни помыслил. «Настоящие» они или нет, эта проблема на протяжении последнего миллиарда лет мало кого волновала. Каждому было ясно, что все эти возникающие из ничего столы и кресла не менее реальны, чем то, что так успешно скрывается под личиной «твердого», а когда нужда в них проходила, их можно было просто вернуть в призрачный мир городских Хранилищ Памяти. Как и все остальное в Диаспаре, эта мебель не изнашивалась и никогда не изменялась, если только ее матрицы, находящиеся на хранении, не уничтожались преднамеренно.
Олвин уже почти трансформировал свою комнату, когда до его сознания дошел настойчивый сигнал, напоминающий позвякивание колокольчика. Сформировав мысленный импульс, Олвин позволил гостю появиться, и стена, на которой он только что занимался живописью, снова связала его с внешним миром. Как он и ожидал, в обрисовавшемся проеме стояли его родители, а чуть позади них — Джизирак. Присутствие наставника означало, что визит носит не просто семейный характер. Впрочем, даже и не будь здесь Джизирака, он бы все равно догадался об этом.
Иллюзия встречи с глазу на глаз была совершенна, и ничто не нарушило ее, когда Эристон заговорил. В действительности же, как хорошо было известно Олвину, Эристон с Итанией и Джизирак находились во многих милях друг от друга, только вот создатели города сумели подчинить себе пространство с той же безупречностью, с какой они покорили время. Олвин даже не больно-то ясно представлял себе, где именно среди всех этих многочисленных башен и головоломных лабиринтов Диаспара жили его родители, поскольку с того времени, когда он в последний раз видел их во плоти, они переехали.
— Олвин, исполнилось ровно двадцать лет, как твоя мать и я впервые повстречали тебя, — начал Эристон. — Тебе известно, что это означает. Нашему опекунству теперь пришел срок, и ты отныне волен жить, как тебе заблагорассудится.
В голосе Эристона едва уловимо звучала грусть. Значительно ярче слышалось в нем облегчение, и, похоже, Эристон был даже доволен, что ситуация, существовавшая уже так давно, теперь может быть признана на законном основании. В сущности, Олвин обрел свободу взрослого человека за много лет до наступления установленного срока.
— Я тебя понимаю, — ответил Олвин. — Спасибо вам за то, что вы опекали меня, и я буду помнить вас в течение всех моих жизней.
Такова была формула ответа. Ему приходилось слышать ее столь часто, что она совсем потеряла какой-либо смысл, — так, набор звуков, лишенных значения. И все же выражение «в течение всех моих жизней» было, если вдуматься, странным. Все эти годы он лишь туманно представлял себе, что именно оно означало; теперь наступило время узнать это точно. В Диаспаре было много такого, чего он пока не мог уразуметь и во что ему предстояло вникнуть за столетия, простирающиеся перед ним.
В какой-то миг ему показалось, что Итания тоже хочет что-то сказать. Она подняла было руку, приведя в волнение светящуюся паутинку своего платья, но тотчас снова уронила ее. Потом с выражением явной беспомощности на лице повернулась к Джизираку, и только тут Олвин осознал, что его родители еще и чем-то встревожены. Он быстро перебрал в памяти события последних недель. Нет, в его жизни за это время не произошло ничего такого, что могло бы породить этот вот налет неуверенности и эту атмосферу едва заметной тревоги, что, казалось, окутывала Эристона и Итанию.
Тем не менее Джизирак, похоже, чувствовал себя вполне в своей тарелке. Он бросил вопросительный взгляд на Эристона и Итанию, убедился, что им нечего больше сказать, и начал лекцию, к которой готовился так много лет.
— Олвин, — заговорил он, — ты был моим учеником в течение двух десятилетий, и я сделал все, чтобы научить тебя обычаям этого города, подвести тебя к принадлежащему тебе наследию. Ты задавал мне множество вопросов, и не на все из них я способен был дать ответ. К постижению некоторых вещей ты еще не был готов, а кое-чего я и сам не понимаю. Теперь период твоего младенчества закончился, но детство — оно едва только началось. Направлять тебя — все еще мой долг, если ты, конечно, нуждаешься в моей помощи. Пройдет два столетия, Олвин, и ты, возможно, начнешь разбираться кое в чем, касающемся этого города. Ну и, в какой-то степени, познакомишься с его историей. Даже я, хоть я уже и приближаюсь к окончанию своей нынешней жизни, видел менее четверти Диаспара и, вполне вероятно, — не более всего лишь одной тысячной доли его сокровищ…
Во всем этом для Олвина пока что не содержалось ничего нового, но как-то поторопить Джизирака — это было совершенно невозможным делом. Старик пристально смотрел на него через бездну столетий, и его слова падали, отягощенные непостижимой мудростью, накопленной за долгую жизнь среди людей и машин.
— Ответь мне, Олвин, — продолжал Джизирак, — спрашивал ли ты себя когда-нибудь — где был ты до своего рождения, до того момента, когда встретился лицом к лицу с Эристоном и Итанией?
— Я всегда полагал, что меня просто не было… нигде… что я существовал только в виде матрицы в электронном мозгу города и ждал своей очереди быть сотворенным — вот и все…
Тут возле Олвина появился, слабо замерцал и тотчас же стал непрозрачным и твердым низкий диванчик. Он уселся на него и стал ждать продолжения.
— Ты, разумеется, прав, — последовал отклик. — Но это только часть ответа, и, в сущности, очень незначительная часть. До сих пор тебя окружали дети твоего возраста, а они не осведомлены об истине. Все они вскоре вспомнят свое прошлое — они, но не ты. Поэтому мы должны подготовить тебя, чтобы ты смог посмотреть фактам в лицо…
Ибо вот уже более миллиарда лет, Олвин, человеческая раса живет в этом городе. С тех пор как пала Галактическая Империя, а Пришельцы возвратились на свои звезды, это — наш мир. За стенами Диаспара нет ничего, кроме пустыни, о которой повествуют наши легенды…
Мы мало знаем о своих примитивных предках — только то разве, что это были существа с очень коротким жизненным циклом и что они, как это ни странно, могли размножаться без помощи электронных блоков памяти и синтезаторов материи. В ходе сложного и, по всей видимости, неуправляемого процесса ключевые начала всякого человеческого существа сохранялись внутри микроскопических клеточных структур, воспроизводимых в теле человека. Если тебе интересно, то биологи смогут рассказать об этом более подробно. Сам метод, однако, не имеет для нас никакого значения — потому хотя бы, что от него отказались на самой заре Истории…
Человеческое существо, как и любой другой материальный объект, может быть описано матрично — в терминах его структуры. Матрица любого человека, и особенно та матрица, которая точнейшим образом соответствует строению человеческого мозга, является невероятно сложной. И тем не менее природа умудрилась вместить эту матрицу в крохотную клетку — настолько малую, что ее нельзя увидеть невооруженным глазом…
Все, что в состоянии совершить природа, может сделать и человек, хотя и на свой лад. Мы не знаем, сколько потребовалось времени, чтобы решить эту конкретную задачу. Быть может, на это ушло миллион лет — но что такое миллион лет? В конце концов наши предки научились анализировать и хранить информацию, которая в микроскопических деталях характеризует любое человеческое существо, и научились использовать эту информацию для того, чтобы воспроизводить оригинал… ну хотя бы так, как ты только что воспроизвел этот вот диванчик…
Я знаю, Олвин, что все это тебе интересно, но я не в состоянии рассказать в подробностях, как именно это все делается. Каким именно образом хранится эта информация, не имеет значения, важна лишь она сама по себе. Она может сохраняться в виде слов, написанных на бумаге, в виде переменных магнитных полей или как определенным образом расположенные электрические заряды. Человек использовал все эти способы ее консервации, но также и многие другие. Достаточно сказать, что уже задолго до нас он умел сохранять себя — или, если выражаться более точно, — сохранять бесплотные матрицы, по которым ушедших людей можно было сызнова вызвать к существованию…
Все это ты уже знаешь. Именно таким способом наши предки даровали нам практическое бессмертие и вместе с тем избежали проблем, возникающих одновременно с устранением смерти. Прожить тысячу лет в оболочке одного и того же тела — срок достаточно большой для любого человека. В конце такого периода воспоминания стискивают разум, и он жаждет только одного — отдохновения… либо возможности начать все с нуля…
Пройдет совсем немного времени, Олвин, и я стану готовиться к уходу из этой жизни. Я тщательно просею свои воспоминания, редактируя их и вымарывая из сознания те, которые мне не захочется сохранить. Затем я войду в Зал Творения — через дверь, которой ты еще не видел. Это дряхлое тело перестанет существовать — так же как и само мое сознание. От Джизирака не останется ничего, кроме целой галактики электронов, вмороженных в сердцевину какого-то там кристалла…
Я буду спать, Олвин, — спать сном без сновидений. И затем, однажды — быть может, через сто тысяч лет — я осознаю себя в новом теле и повстречаю тех, кого изберут на роль моих опекунов. Они станут заботиться обо мне, как заботились о тебе Эристон и Итания, потому что сперва я ничего не буду знать о Диаспаре и мне неведомо будет, кем и чем я был прежде. Воспоминания об этом постепенно возвратятся к концу срока моего младенчества, и на их основе я начну возводить здание нового цикла своего существования…
Такова схема наших жизней, сменяющих друг друга. Все мы уже побывали в этом мире много, много раз, хотя, поскольку периоды не-существования различаются, — надо думать, в соответствии с законом случайных чисел, — каждое нынешнее население города уже никогда не повторяется с совпадением на все сто процентов. У нового Джизирака будут и совсем другие новые друзья, и новые интересы… Однако старый Джизирак — ровно такая его часть, какую мне заблагорассудится сохранить, — все же будет существовать…
Но и это еще не все. В каждый данный момент, Олвин, только сотая часть граждан Диаспара живет в нем и разгуливает по его улицам. Подавляющее же большинство его населения спит глубоким сном в Хранилище Памяти в ожидании сигнала, который снова призовет каждого на сцену бытия. И это значит, что мы сочетаем непрерывность с изменчивостью, а бессмертие — с отсутствием застоя…
Я понимаю, Олвин, над чем ты сейчас задумался. Тебе хочется узнать, когда же и ты сможешь вызвать к поверхности сознания воспоминания о своих прежних жизнях, как это уже делают твои товарищи по играм…
Так вот — таких воспоминаний нет, Олвин, поскольку ты — единственный в своем роде. Мы пытались скрывать это от тебя так долго, как только могли, чтобы ни единое облачко не затмило твоего младенчества, хотя, я лично думаю, часть правды тобой, должно быть, уже угадана. Пять лет назад мы и сами даже и не подозревали об этой правде, но теперь не осталось никаких сомнений…
Ты, Олвин, — нечто такое, что наблюдалось в Диаспаре всего лишь несколько раз со времени основания города. Очень может быть, что твое «я» дремало в Хранилищах Памяти на протяжении всех этих эпох, но не исключено и то, что ты впервые был сотворен лишь два десятка лет назад в результате стечения каких-то случайных факторов. Быть может, создатели города запланировали твое появление на свет с самого начала, но возможно, что ты — всего лишь порождение уже нашего времени, лишенное какого-либо сокровенного смысла.
Мы не знаем. Нам известно только, что ты — единственный из всей человеческой расы, кто никогда не жил прежде. В буквальном смысле слова — ты единственный ребенок, родившийся на Земле за последние, по крайней мере, десять миллионов лет.
3
…Когда Джизирак и родители истаяли на стене, Олвин долго еще лежал, пытаясь отрешиться от всего. Он сомкнул комнату вокруг себя, чтобы никто не мог прервать его глубокой и серьезной сосредоточенности.
Он, однако, не спал. Он просто не знал, что такое сон, ибо это состояние было принадлежностью совсем другого мира — мира ночи и дня, а в Диаспаре царил только день. Лежать вот так — это было самое тесное приближение к забытому людьми состоянию сна, и, хотя, в сущности, это было не так уж и нужно, Олвин понимал, что такое отключение от окружающего поможет ему быстрее собраться с мыслями.
Нового для себя он выяснил мало. Почти обо всем, что сообщил ему Джизирак, он уже догадался раньше. Но одно дело догадаться, и совсем другое, когда твоя догадка подтверждается с полной неопровержимостью.
Как все это скажется на его жизни — и скажется ли вообще? Олвин ничего не знал наверное, и эта неопределенность была для него ощущением новым. Быть может, никаких перемен и не будет; если он не приспособится полностью к Диаспару в нынешней жизни, это может произойти в следующей… или в той, которая наступит за ней…
Мысль эта еще только формировалась, а мозг Олвина уже отверг ее. Диаспар мог вполне устраивать остальную часть человечества, но только не его. Олвин не сомневался, что человек мог бы прожить в Диаспаре тысячу жизней и не исчерпать всех его чудес, не перечувствовать всех оттенков опыта того быгия, которое предлагал ему город. Все это доступно и ему… Но если он не сможет рассчитывать на большее, то никогда не познает удовлетворения…
Перед ним стояла только одна проблема. Что еще мог бы он совершить?
Этот безответный вопрос пробудил его от полузабытья. Он не в силах был долее оставаться здесь, будучи в таком вот взвинченном состоянии, а в городе существовало только одно место, которое обещало ему успокоение.
Дрогнув, часть стены исчезла, когда он вошел в нее и ступил в коридор, и ее поляризованные молекулы на мгновение мягко облегли его тело — словно слабый ветерок дохнул в лицо. Существовало много способов, с помощью которых он мог бы без труда добраться до цели, но он предпочел отправиться пешком. Его комната находилась почти на Главном Уровне города, и короткий проход привел Олвина на спиральный пандус, сбегавший на улицу. Он пренебрег движущимся тротуаром и ступил на узкий неподвижный, что, без сомнения, было причудой, поскольку ему предстояло преодолеть несколько миль. Но Олвину нравилось ходить пешком — ходьба успокаивала. Кроме того, можно было по пути увидеть столь многое, что ему представлялось просто досадным проноситься на скорости мимо новейших чудес Диаспара, когда впереди у тебя времени — вечность.
У художников города — а в Диаспаре каждый время от времени становился художником — был обычай выставлять свои новые произведения вдоль движущихся тротуаров, чтобы гуляющие могли любоваться работами. При такой системе обычно проходило лишь несколько дней — и все население успевало критически осмотреть каждую стоящую внимания вещь, а также и выразить о ней свое мнение. Окончательный вердикт, автоматически фиксируемый специальной аппаратурой для анализа общественного мнения, которую никому еще не удавалось подкупить или обмануть, — хотя попыток такого рода насчитывалось вполне достаточно, — и решал судьбу шедевра. Если в его пользу подавалось определенное число голосов, матрица произведения помещалась в Хранилища Памяти, и каждый, кто того хотел, в любой момент и ныне, и присно, и во веки веков мог получить копию, абсолютно неотличимую от оригинала.
Менее же удачные работы ожидала судьба всех таких произведений. Они либо распылялись на свои составляющие, либо в конце концов находили себе приют в домах друзей художника.
На всем своем пути Олвину встретилось лишь одно objet d’art, которое ему более или менее пришлось по душе. Это была композиция из чистого света, отдаленно похожая на распускающийся цветок. Медленно вырастая из крохотной цветной сердцевинки, рисунок разворачивался в систему сложных спиралей и занавесов, затем внезапно опадал, и весь цикл начинался сызнова. Но уже не совсем так, как в предыдущий раз, и новый рисунок не совпадал полностью с тем, который был прежде. Олвин наблюдал за картиной на протяжении нескольких пульсаций, и каждый раз возникали едва заметные, почти неощутимые отличия, хотя в целом основа композиции и оставалась неизменной.
Он понимал, почему ему понравилась именно эта вот неосязаемая скульптура, изваянная из света. Ее ритмичное расширение порождало ощущение пространства, даже какого-то бунта против замкнутого объема. Возможно, что именно по этой причине она не пришлась бы по душе многим согражданам Олвина. Он запомнил имя художника и решил при первом же удобном случае побеседовать с ним.
Все дороги Диаспара — и движущиеся, и неподвижные — кончались у границ Парка, этого зеленого сердца города. Здесь, на круговом пространстве диаметром более трех миль, жила память о том, чем была Земля в те дни, когда пустыня еще не поглотила, как теперь, поверхность планеты, обойдя лишь Диаспар. Сначала шел широкий пояс луга, затем — низкорослые деревья, заросли которых становились все гуще и гуще По мере того, как гуляющий углублялся под их кроны. В то же время уровень Парка постепенно понижался, так что для наблюдателя, вышедшего из узкой полосы леса, город совершенно пропадал из виду, скрытый стеною деревьев.
Широкий поток, струившийся перед Олвином, назывался просто — Река. Другого имени у него не было, да и к чему бы оно ему… Кое-где Реку пересекали узкие мосты, и она текла по Парку, описывая геометрически правильное замкнутое кольцо, время от времени прерываемое плесами. То обстоятельство, что эта Река с довольно быстрым течением могла впадать в себя самое после каких-то шести миль, никогда не поражало Олвина как нечто необычное. В сущности, если даже где-то в своем течении Река потекла бы вдруг вверх по склону, он и на это не обратил бы никакого внимания. В Диаспаре можно было встретить и куда более диковинные вещи.
С десяток девушек и юношей купались на мелководье одного из плесов, и Олвин остановился поглядеть. Лица большинства из них бьши ему знакомы, многих он знал и по именам, и на какой-то момент ему захотелось принять участие в их забаве. Но затем тайна, которую он нес в себе, взяла свое, и он удовольствовался ролью наблюдателя.
Развитие тел не позволяло судить, кто из этих молодых граждан вышел из Зала Творения в нынешнем году, а кто жил в Диаспаре уже столь же долго, сколь и Олвин. Хотя все они сильно разнились по росту и весу, с их возрастом это никак не соотносилось. Просто — люди рождались уже вот такими, и, хотя больший рост, в общем, означал, что человек этот старше других, это было не слишком-то надежным правилом для определения возраста, если только речь не шла о прожитых столетиях.
О возрасте куда проще было судить по лицу. Некоторых из новорожденных, хотя они и были ростом выше Олвина, отмечала печать незрелости: на их лицах все еще проглядывало восхищенное изумление миром, в котором они обнаружили себя, миром, который в мгновение ока произвел их на свет. Было как-то странно знать, что в их сознании глубоким, непотревоженным сном спала бесконечная череда жизней, воспоминание о которых скоро пробудится. Олвин завидовал им и в то же самое время не был уверен, что тут стоит чему-то завидовать. Самое первое существование каждого было драгоценнейшим даром, которому уже никогда не повториться. Это было восхитительно — наблюдать жизнь впервые, словно бы в свежести рассвета. Если бы только найти других, таких же, как он сам, с кем он мог бы разделить свои мысли и чувства!
И тем не менее физический его облик был создан точь-в-точь в тех же формах, что и у этих детей, играющих в воде. За миллиард лет, протекших со времени создания Диаспара, человеческое тело не изменилось, в сущности, ни на йоту, поскольку основы его конструкции были навечно вморожены в Хранилища Памяти города. И все же оно отличалось от своей первоначальной, примитивной формы, пусть даже большая часть отличий была внутреннего характера и увидеть их было нельзя. В ходе долгой своей истории человек не раз перестраивал себя, стремясь избавиться от болезней, средоточием которых когда-то была его плоть.
Такие ненужные принадлежности, как ногти и зубы, исчезли. Волосы сохранились лишь на голове, на теле же от них не осталось и следа. Но больше всего человека Эпохи Рассвета поразило бы, пожалуй, необъяснимое отсутствие пупка. Это дало бы ему обильную пищу для размышлений, и с первого взгляда он был бы немало озадачен проблемой — как отличить мужчину от женщины. Быть может, он был бы даже склонен полагать, что этого различия больше не существует, и это стало бы его серьезной ошибкой. В соответствующих обстоятельствах существование сильного пола сомнений не вызывало. Все дело в том, что отличительные черты пола, когда в них не было необходимости, принимали куда более скромные формы.
Конечно, воспроизведение перестало быть функцией тела, будучи делом слишком серьезным, чтобы его можно было отдать игре случая, в которой те или иные хромосомы выпадали, будто при игре в кости. И все же, хотя зачатие и рождение уже совершенно изгладились из человеческой памяти, физическая любовь продолжала жить. Даже в древности едва ли какая-то сотая часть сексуальной активности человека падала на процессы воспроизведения. Исчезновение этого единственного процента изменило рисунок человеческого общества и значение таких слов, как «отец» и «мать», но влечение сохранилось, хотя теперь удовлетворение его преследовало цель ничуть не более глубокую, нежели любое другое чувственное наслаждение.
Олвин покинул своих резвящихся сверстников и пошел дальше, к центру Парка. Он ступал по едва намеченным тропинкам, которые, пересекаясь, вились сквозь низкорослый кустарник и время от времени ныряли в узкие расщелины между огромными, обросшими лишайником валунами. В одном месте он поравнялся с какой-то маленькой машиной многогранной формы, парившей в кроне дерева. Никто не знал, сколько разновидностей роботов существует в Диаспаре: они старались не попадаться людям на глаза и занимались своим делом настолько споро, что увидеть изредка даже хотя бы одного из них было событием весьма необычным.
Наконец поверхность почвы снова стала подниматься — Олвин приближался к небольшому холму, расположенному точно в центре Парка и, следовательно, — и самого города. Идти здесь стало легче, и ему уже ясно была видна вершина холма и венчавшее ее здание простых очертаний. К тому моменту, когда Олвин достиг цели, он несколько запыхался и был рад возможности прислониться к одной из розовых колонн, передохнуть и окинуть взглядом путь, которым он сюда добрался.
Существует несколько архитектурных форм, которые не подвержены изменениям, потому что являют собой совершенство. Усыпальница Ярлана Зея могла бы быть возведена и строителями храмов самых первых цивилизаций из всех известных человечеству, хотя они даже отдаленно не смогли бы себе представить, из какого материала она выстроена. Потолок усыпальницы растворялся в небе, а единственный ее зал выстилали плиты, которые только на беглый взгляд казались вытесанными из камня. В течение многих геологических эпох люди истирали ногами этот пол и так и не оставили на нем ни малейшего следа — столь непостижимо тверд был материал плит.
Создатель этого огромного парка (а также, как утверждали некоторые, — строитель и самого города) сидел, слегка опустив глаза, словно бы изучая какие-то чертежи, расстеленные у него на коленях. Странное, ускользающее выражение его лица ставило в тупик мир на протяжении долгой череды поколений. Одни приписывали это всего лишь праздной причуде скульптора, но иным представлялось, будто Ярлан Зей улыбается какой-то тайной своей шутке…
Да и само по себе все это сооружение было окутано пеленой тайны, потому что в анналах города о нем нельзя было отыскать ни строчки. Олвин не был даже особенно уверен в том, что означало само слово «усыпальница»; возможно, что это ему мог бы разъяснить Джизирак, любивший коллекционировать устаревшие слова и уснащать ими речь к полному смущению собеседника.
Со своей удобной наблюдательной позиции Олвин мог поверх крон кинуть взгляд на город. Ближайшие здания отстояли от него почти на две мили, образуя вокруг Парка низкое кольцо. За ними, ряд за рядом, наращивая высоту, вздымались башни и террасы — собственно, они-то и составляли город. Миля за милей простирались они, медленно карабкаясь к небу, их формы все усложнялись, они поражали воображение своей монументальностью. Диаспар был спланирован как единство — это была одна могучая машина. Но хотя уже и сам его облик ошеломлял сложностью, она лишь намекала на те чудеса техники, без которых все эти огромные здания были бы лишь безжизненными гробницами.
Олвин пристально всматривался в границы своего мира. Милях в двадцати — там детали очертаний уже скрадывало расстояние — проходили внешние обводы этой крепости, и на них, казалось, покоился уже сам небесный свод. За ними не было ничего — совсем ничего, разве что тягостная пустота песков, в которой человек — поговаривали — быстро сходил с ума…
Тогда почему же эта пустота влекла его так, как ни одного из окружающих его людей? Олвин никак не мог этого понять. Он все смотрел и смотрел на разноцветные шпили, на зубцы башен, которые теперь заключали в своих объятиях весь человеческий дом, — словно искал в них ответа на свое недоумение и тревогу.
Ответа не было. Но в эти мгновения, когда сердце Олвина тянулось к недоступному, он принял решение.
Теперь он знал, чему посвятить жизнь.
4
Джизирак оказался не слишком-то полезен, хотя и проявил большую готовность помочь, чего Олвин все-таки не ожидал. За долгую карьеру ментора Джизираку не раз уже задавали похожие вопросы, и ему как-то не верилось, что даже такой Неповторимый, как Олвин, мог бы сильно удивить его или поставить перед проблемами, которых он не сумел бы разрешить.
Правда, Олвин уже начал проявлять кое-какие черты эксцентрической личности, которые впоследствии могли бы потребовать исправления. Он не принимал в должной мере участия в необыкновенно сложной социальной жизни города и в фантастических затеях своих товарищей. Не выказывал он большого интереса и к горним полетам мысли; впрочем, в его возрасте это едва ли было чем-то необычным. Куда более примечательной представлялась его беспорядочная любовная жизнь. Конечно, трудно было ожидать, чтобы он установил относительно стабильные отношения с девушками на протяжении еще, по меньшей мере, столетия, и тем не менее мимолетность его увлечений была уже широко известна. Пока они длились, увлечения эти были всепоглощающи, однако ни одна из связей не продолжалась долее нескольких недель. Похоже было, что в каждый данный отрезок времени Олвин мог глубоко заинтересоваться лишь чем-то одним. Бывали периоды, когда он очертя голову кидался в любовные игры своих сверстников или на несколько дней исчезал с очередной подружкой. Но как только это настроение у него проходило, наступала долгая полоса, когда ему, казалось, было абсолютно наплевать на то, что должно бы было составлять главное занятие в его возрасте. Быть может, это было не слишком хорошо и для него самого, но уж, вне всякого сомнения, совсем не устраивало покинутых им девушек, потерянно слонявшихся по городу. После Олвина им требовался слишком уж долгий срок, чтобы обрести утешение где-нибудь в другом месте. Как обратил внимание Джизирак, Алистра сейчас как раз вступила в эту несчастную стадию.
И дело было вовсе не в том, что Олвину не хватало сердца или заинтересованности. Просто в любви, как и во всем остальном, он, похоже, стремился к цели, которую Диаспар не мог ему указать.
Эти черточки характера мальчика не слишком тревожили Джизирака. От Неповторимого вполне можно было ожидать именно такого вот поведения, но в должный срок Олвин, конечно же, воспримет существующий в городе образ жизни. Ни один индивидуум, как бы эксцентричен, как бы талантлив он ни был, не сумел бы оказать возмущающего влияния на колоссальную инерцию общества, которое оставалось неизменным на протяжении более чем миллиарда лет. Джизирак не просто свято верил в эту стабильность. Ничего иного он и помыслить себе не мог.
— Проблема, волнующая тебя, очень стара, — говаривал Джизирак Олвину. — Но ты удивишься, узнав, какое множество людей принимает этот мир как нечто само собой разумеющееся — и до такой степени, что проблема эта никогда не только не тревожит их, но и в голову-то им не приходит! Верно, было время — человечество занимало пространство, бесконечно большее, нежели этот город. Отчасти ты знаком с тем, чем была Земля до той поры, пока не восторжествовала пустыня и не исчезли океаны. Видеозаписи, которые ты так любишь, — одни из самых ранних, какие только есть в нашем распоряжении. Они — единственные, на которых Земля запечатлена в том виде, в каком она была до появления Пришельцев. Не могу себе представить, чтобы записи эти оказались известны заметному кругу людей. Ведь безграничные, открытые пространства — суть нечто для нас невыносимое и непостижимое…
Но, ты сам понимаешь, наша Земля была лишь ничтожной песчинкой Галактической Империи. Какие они из себя, черные пространства между звездами, — это такой кошмар, который ни один человек в здравом уме не станет даже и пытаться себе вообразить. Наши предки впервые покорили эти пространства на заре истории, когда они отправились в космос создавать Империю. И они снова пересекли межзвездную пропасть — в самый последний раз, — когда Пришельцы отбросили их обратно на Землю.
Легенда — и это только легенда — повествует о том, что мы заключили с Пришельцами некий пакт. Они могли забирать себе Вселенную, коли она так уж была им нужна, а мы удовольствовались миром, в котором родились.
Мы соблюдали этот договор, предав забвению честолюбивые устремления своего детства, как оставишь их и ты, Олвин. Люди, выстроившие этот город, создавшие общество, населяющее его, безраздельно повелевали силами человеческого разума — так же как и материей. Они поместили внутри стен этого города все, что могло бы когда-либо понадобиться землянам, после чего постарались, чтобы мы никогда не покинули пределов Диаспара.
О, физические препятствия — они-то как раз наименее существенны. Кто его знает, возможно, и есть пути, которые ведут за пределы города, но я не думаю, что по ним можно уйти далеко, даже если ты их и обнаружишь. Но пусть тебе даже и удастся эта попытка — что толку? Твое тело не сможет долго продержаться в пустыне, где город уже будет не в состоянии защищать и кормить тебя…
— Но если есть какой-то путь, ведущий из города, — медленно проговорил Олвин, — то что мешает мне выйти?
— Вопрос не из умных, — откликнулся Джизирак. — Полагаю, что ответ ты уже знаешь и сам…
Джизирак был прав, но не совсем так, как ему представлялось. Олвин знал ответ — или, лучше сказать, он его угадывал. Истину подсказали ему его товарищи — своим поведением наяву и в тех полугрезах с приключениями, которые он разделял с ними. Они были абсолютно не способны покинуть Диаспар. Джизирак, однако, не знал другого: непреложность этого правила, двигающего их жизнью, не имела ровно никакой силы над Олвином. Чем бы ни была вызвана его Неповторимость — случайностью ли, древним ли расчетом (Олвин этого не знал), — но этот дар явился одним из ее следствий. Снедало любопытство — сколько же еще таких вот, как он сам, встретится ему в жизни?
…В Диаспаре никто никогда не спешил, и даже Олвин редко нарушал это правило. Он тщательно осмысливал свою проблему на протяжении нескольких недель и тратил бездну времени в поисках самых ранних записей Памяти города. Часами лежал он, поддерживаемый неощутимыми ладонями гравикомпенсаторного поля, в то время как гипноновый проектор раскрывал его сознание навстречу прошлому. Кончалась запись, проектор расплывался и исчезал — но Олвин все лежал, уставясь в пустоту, и не спешил возвращаться из глубины столетий к реальностям своего мира. Он снова и снова видел безбрежные пространства голубых вод — куда более громадные, чем пространства суши, — и волны, накатывающиеся на золотые отмели побережий. В ушах у него звенел грохот гигантских валов, отшумевших миллиарды лет назад… Он вызывал в памяти леса и прерии и удивительных животных, которые когда-то делили Землю с Человеком.
Древних этих записей обнаружилось совсем немного. Было принято считать, хотя никто и не знал — почему, что где-то в промежутке между появлением Пришельцев и основанием Диаспара все воспоминания о тех примитивных временах были утрачены. Стирание общественной памяти было настолько полным, что невозможно было поверить, будто такое могло произойти в силу какой-то случайности. Человечество забыло свое прошлое — за исключением нескольких хроник, которые могли оказаться не более чем легендами. Все, что было до Диаспара, называлось просто — Века Рассвета. В этой непостижимой временной пропасти буквально бок о бок сосуществовали первобытные люди, едва-едва научившиеся пользоваться огнем, и те, кто впервые высвободил атомную энергию; тот, кто первым выжег и выдолбил каноэ из цельного ствола дерева, и тот, кто первым же устремился к звездам. На той, дальней стороне пустыни Времени все они проживали соседями, современниками…
…Эту прогулку Олвин вознамерился было совершить, как и прежде, в одиночестве, однако уединиться в Диаспаре удавалось далеко не всегда. Едва он вышел из комнаты, как встретил Алистру, которая даже и попытки не сделала показать, что оказалась здесь по чистой случайности.
Олвину и в голову не приходило, что Алистра красива, поскольку ему никогда не случалось сталкиваться с уродством. Когда прекрасное окружает нас со всех сторон, оно утрачивает способность трогать сердце, и произвести какой-то эмоциональный эффект может лишь его отсутствие.
В первое мгновение Олвин испытал раздражение — встреча напомнила ему о страстях, которые его больше не испепеляли. Он был еще слишком молод и слишком полагался на себя самого, чтобы чувствовать необходимость в какой-то длительной привязанности, и, приди время, ему, возможно, будет нелегко такими привязанностями обзавестись. Даже в самые интимные моменты барьер этой непохожести на других вставал между Ним и его возлюбленными. Хотя тело его и сформировалось, он тем не менее все еще оставался ребенком, и таковым ему было суждено пребывать на протяжении многих десятилетий, в то время как его товарищи один за другим возродят воспоминания о своих прежних жизнях и оставят его далеко позади. Ему уже приходилось сталкиваться с этим, и он приучился быть осторожным и не отдаваться безоглядно обаянию личности другого человека. Даже Алистра, кажущаяся сейчас такой наивной, лишенной какой бы то ни было искусственности, станет вскоре сложным конгломератом воспоминаний и талантов, далеко превосходящих все, что он мог бы себе вообразить.
Но едва проклюнувшееся было раздражение почти тотчас бесследно исчезло. Не существовало ровно никаких причин, по которым Алистра не должна была бы идти с ним, коли уж ей так этого захотелось. Олвин не был этоистом и не стремился, как нищий суму, ревниво прижимать к груди новый свой опыт. В сущности, он, возможно, сумел бы узнать много интересного для себя но ее реакции на то, что ей предстояло увидеть…
Пока экспресс-тротуар выносил их за пределы заполоненного людьми центра города, Алистра — что было для нее как-то необычно — не задавала никаких вопросов. Вместе они добрались до центральной, самой скоростной линии, не удосужившись и взгляда бросить на чудеса, расстилающиеся у них под ногами. Инженер из мира древности тихо сошел бы с ума, пытаясь, к примеру, уразуметь, каким образом твердое, по всей видимости, покрытие тротуара может быть неподвижным по краям, а ближе к центру — двигаться со все увеличивающейся скоростью. Но для Олвина и Алистры существование вещества, которое обладает свойствами твердого тела в одном направлении и жидкости — в другом, представлялось совершенно естественным.
Здания вокруг них вздымались все выше и выше, словно бы город угрожающе наставлял свои башни против внешнего мира. Как странно было бы, подумалось Олвину, если бы эти громоздящиеся стены стали вдруг прозрачными, будто стекло, и можно было бы наблюдать жизнь, протекающую там, внутри… Рассеянные в пространстве вокруг него, жили друзья, которых он знал хорошо, и те, с кем в один прекрасный день ему еще предстоит познакомиться, и те из сограждан, с которыми ему не встретиться никогда, — хотя как раз таких-то могло оказаться совсем немного, поскольку на протяжении жизни ему придется повстречаться едва ли не с каждым в Диаспаре. По большей части все эти люди сидят сейчас, вероятно, в своих неприступных комнатах, однако они вовсе не одиноки. Стоит только каждому из них сформировать мысль-пожелание, как он сразу очутится — во всех смыслах, кроме физического, — перед лицом любого избранного им в собеседники жителя Диаспара. Эти люди не ведали, что такое скука, поскольку имели доступ ко всему, что происходило в мире воображения и в реальной жизни с тех самых времен, когда был построен этот город. Людей, чье сознание было устроено таким вот образом, город обеспечивал всем необходимым с безукоризненной полнотой. А того, что такое существование является, в сущности, совершенно бесплодным, не понимал даже и сам Олвин.
По мере того как молодые люди выбирались из центра города к его окраине, число встречных на улицах все уменьшалось, и, когда тротуар плавно остановился у очень длинной платформы, сложенной из яркого мрамора, вокруг них уже не было ни одной живой души. Они пересекли застывший водоворот вещества, из которого эта странная субстанция струящегося тротуара возвращалась к истоку, и остановились перед стеной, пронизанной ослепительно освещенными туннелями. Олвин без колебаний выбрал один из них и ступил в него. Алистра следовала за ним по пятам. Перистальтическое поле тотчас же подхватило их и понесло, а они, откинувшись — ни на что! — удобно полулежали и разглядывали окружающее.
Просто не верилось, что туннель этот проложен где-то в глубочайших недрах города. Искусство, пользовавшееся Диаспаром как одним огромным холстом, проникло и сюда, и им казалось, что небо над ними распахнуто навстречу райски ароматным и свежим ветрам. Сияющие на солнце башни города окружали их. Это был вовсе не тот город, в котором так легко ориентировался Олвин, а Диаспар времен куда более ранних. Большинство всех этих гигантских зданий узнавались, но тем не менее окружающему были присущи и некоторые отличия — впрочем, они делали пейзаж еще более интересным. Олвину хотелось бы немного задержаться, но он просто не знал способа остановить это плавное движение через туннель.
Вскоре невидимая сила мягко опустила их на пол просторного эллиптического зала, по всему периметру которого шли окна. Через них молодые люди могли охватить взором невыразимо манящий ландшафт — сады, пылающие ярким, с просверками пламенем цветов. Да, в Диаспаре были и сады — хотя бы вот эти, но они существовали только в воображении художника, который их создал. Вне всякого сомнения, таких цветов, как эти, на самом деле в природе не существовало…
Алистра была заворожена их красотой. Она, похоже, думала, что Олвин и привел-то ее сюда единственно для того, чтобы полюбоваться на них. Некоторое время он наблюдал за девушкой, весело и легко перебегающей от окна к окну, и сам радовался радости каждого ее открытия. В полупокинутых зданиях по внешней границе Диаспара таились сотни таких вот мест, и какие-то скрытые силы, следящие за ними, непрестанно поддерживали их в безупречном состоянии. В один прекрасный день приливная волна жизни, возможно, снова хлынет сюда, но до поры этот древний сад оставался тайной, существующей только для них двоих.
— Нам — дальше, — проговорил наконец Олвин, — Ведь это только начало… — Он прошел через одно из окон, и… иллюзия разрушилась. За пропустившим его «стеклом» не было никакого сада — только круговой проход, круто загибающийся кверху. Олвин все еще видел Алистру — в нескольких шагах от себя, — но знал, что она-то его уже не видит. Алистра, однако, не заставила себя ждать. Секундой позже она уже стояла рядом с ним.
Пол у них под ногами медленно пополз вперед, словно бы изъявляя полную свою готовность незамедлительно доставить их к цели путешествия. Они сделали было по нему несколько шагов, но скорость пола стала уже столь большой, что не было ровно никакой необходимости шагать еще и самим.
Проход все так же поднимался вверх и через сотню футов шел уже под совершенно прямым углом к первоначальному своему положению. Впрочем, постичь эту перемену можно было лишь логикой, ибо чувства говорили, что движение происходит по безупречной горизонтали. Тот факт, что на самом-то деле они двигались вверх по стенке вертикальной шахты глубиной в несколько тысяч футов, совершенно не тревожил молодых людей: отказ гравикомпенсаторного поля был просто немыслим.
Наконец коридор пошел с «наклоном» вниз, пока опять не изменил своего направления под прямым углом к вертикальной плоскости. Движение пола неприметным образом все более и более замедлялось, наконец он совсем остановился в конце длинного зала, стены которого были выложены зеркалами, и Олвин понял, что уж эдесь-то Алистру никак не поторопишь. Дело было не только в том, что некоторые черты женского характера без малейших изменений выжили со времен Евы: просто никто не смог бы не поддаться очарованию этого места. Ничего подобного ему, насколько было известно Олвину, в Диаспаре не существовало. Благодаря какой-то уловке художника только некоторые из этих зеркал отражали мир таким, каким он был на самом деле, и даже они — Олвин был в этом убежден — беспрестанно меняли изображение. Остальные, конечно, тоже отражали нечто, но было как-то жутковато видеть себя расхаживающим среди переменчивой и совершенно нереальной, выдуманной кем-то обстановки.
Порой в этом Зазеркалье возникали и другие люди, они двигались в разных направлениях, и Олвин несколько раз отметил в толпе знакомые лица. Он отлично отдавал себе отчет в том, что это вовсе не были его друзья по нынешнему существованию. Глазами неизвестного художника он глядел в прошлое и видел предыдущие воплощения тех, кто сейчас населял мир. Напомнив о его непохожести на других, пришла печальная мысль, что, сколько бы он ни ждал перед этими переменчивыми картинами, никогда ему не увидеть древнего эха самого себя…
— Знаешь, где мы? — спросил Олвин у Алистры, когда они миновали зеркальный зал. Алистра отрицательно покачала головой.
— Наверное, где-то у самой-самой окраины города, — беззаботно ответила она. — Похоже, что мы забрались очень далеко, а вот куда именно — я и понятия не имею…
— Мы — в башне Лоранна, — объяснил Олвин, — это одна из самых высоких точек Диаспара. Идем — я тебе покажу.
Он взял девушку за руку и вывел ее из зала. Собственно, никакого видимого выхода здесь не было, но кое-где рисунок на полу указывал, что отсюда ответвляется боковой коридор. Стоило в таком месте приблизиться к зеркальной стене, как отражения в ней, казалось, сплавлялись в светящуюся арку, и через нее можно было проникнуть в еще один проход. Алистру давно сбили с толку все эти повороты, но наконец они вышли в длинный, совершенно прямой туннель, в котором с постоянной силой дул холодный ветер. Туннель простирался горизонтально на сотни футов в обоих направлениях, и окончания его представлялись лишь крохотными светлыми кружочками.
— Не нравится мне здесь, — поежилась Алистра, — Здесь холодно!
Очень могло быть, что ей еще ни разу в жизни не приходилось сталкиваться с настоящим холодом, и Олвин почувствовал себя несколько виновато. Ему следовало бы предупредить девушку, чтобы она прихватила с собой какую-нибудь накидку, и потеплее, поскольку обычная, повседневная одежда в Диаспаре была чисто декоративной, и в смысле защиты от холода толку от нее не было никакого.
Поскольку испытываемые Алистрой неприятные ощущения целиком лежали на его совести, он молча передал ей свой плащ. Галантности в этом не было и следа — равенство полов уже слишком долго было абсолютно полным, чтобы такие условности еще имели право на существование. Озябни он — Алистра отдала бы ему свой плащ, и он принял бы эту помощь как нечто само собой разумеющееся.
Ветер подталкивал их в спину, идти было даже приятно, и вскоре они добрались до конца туннеля. Широкая решетка из резного камня преградила им путь — и кстати, поскольку они стояли теперь над пустотой. Огромное вентиляционное отверстие открывалось прямо на отвесной стене башни, и под ними зияла пропасть глубиной, по меньшей мере, в тысячу футов. Они находились высоко на внешнем обводе города, и Диаспар расстилался под ними — мало кто из их мира когда-либо видел его таким.
Им представилась картина, обратная тому, что наблюдал Олвин из центра Парка. Теперь он уже сверху вниз смотрел на концентрические волны камня и металла, многомильными дугами уходящие к центру города. Далеко-далеко, за силуэтами башен виднелись лужайки, деревья и Река с ее вечным круговым течением. А еще дальше — к небу снова начинали карабкаться бастионы Диаспара.
Стоя рядом с Олвином, Алистра тоже глядела на открывшийся вид — глядела с удовольствием, однако без малейшего удивления. Ей и прежде приходилось бессчетное число раз видеть свой город с почти столь же высоких точек, разве что только в обстановке куда более комфортабельной.
— Вот он, наш мир, — весь, целиком, — проговорил Олвин. — А теперь я хочу показать тебе кое-что еще…
Он повернулся спиной к решетке и двинулся навстречу далекому светлому пятнышку на противоположном конце туннеля. Ветер холодил его едва прикрытое тело, но Олвин не замечал этого и с каждым шагом все дальше и дальше погружался в струи встречного потока воздуха.
Он прошагал всего ничего, когда до него вдруг дошло, что Алистра так и не двинулась с места. Она стояла и смотрела на него. Плащ, который он ей дал, трепетал на ветру, одна рука девушки застыла на полпути к лицу… Олвин видел, что губы ее шевелятся, но слова не долетали до него. Он оглянулся на нее сперва удивленно, потом с нетерпением и не без жалости. То, о чем толковал Джизирак, оказалось правдой: Алистра просто не могла следовать за ним! Она догадалась, что означал этот дальний кружок света, через который в Диаспар от века стремился поток воздуха. За ее спиной цвел знакомый ей мир, полный чудес, но лишенный тайны, плывущей по реке Времени, подобно блистающему, но наглухо запаянному пузырьку. А впереди, на расстоянии каких-то нескольких шагов, простирались запустение и дикость — мир пустыни, мир Пришельцев…
Олвин возвратился к девушке и удивился, обнаружив, что ее бьет дрожь.
— Чего ты испугалась? — спросил он. — Мы же все еще в Диаспаре, в безопасности! И раз уж мы выглянули в то окошко, что позади нас, то, конечно же, можем поглядеть и в это!..
Алистра смотрела на него так, как если бы он был каким-то неведомым чудовищем. Да, собственно, по ее разумению, так оно и было.
— Ни за что не смогу… — прошептала она наконец, — Стоит мне только подумать об этом, как меня прямо мороз пробирает — холодно делается почище, чем от этого вот ветра. Ой, Олвин, не ходи дальше!..
— Но ведь в этом же нет никакой логики! — укоризненно настаивал он. — Ну что с тобой может приключиться, если ты дойдешь до того конца туннеля и выглянешь наружу? Конечно, место там странное и пустынное… но ведь в нем нет ничего ужасного… Честно говоря, чем дольше я туда смотрю, тем красивее мне все там кажется…
Алистра даже не дала себе труда дослушать. Она резко повернулась на каблуках и побежала по длинному проходу, который вознес их сюда сквозь пол вентиляционного туннеля. Олвин не сделал ни малейшего движения, чтобы задержать ее. Это было бы вопиющим проявлением дурных манер — навязывать другому человеку свою волю. Ему было понятно, что принуждение в таком вот деле совершенно бесполезно. Он знает, что Алистра теперь не остановится, пока не возвратится к своим друзьям. Опасности, что она заблудится в лабиринтах города, не существовало, поскольку ей совсем не трудно будет восстановить путь, приведший их сюда. Инстинктивная способность отыскивать выход из самых запутанных лабиринтов была еще одним из многочисленных достижений человека, которых он добился с той поры, как начал жить в городах. Вымершие давным-давно крысы тоже были вынуждены выучиться этому, когда покинули свои норы в полях и присоединились к горожанам…
Олвин постоял еще немного, словно надеясь, что Алистра возвратится. Сама по себе реакция девушки его не удивила. Странными были только бурность ее проявления и полная иррациональность. И хотя ему было искренне жаль, что Алистра ушла, он все же не мог не подосадовать, что она не оставила ему его плащ.
Идти наперекор потоку ветра, вливавшегося в легкие города, было не только холодно, но и просто трудно. Олвину приходилось преодолевать и сопротивление стены воздуха, и ту силу, которая тянула его в город. Только добравшись до решетки и ухватившись за нее, он смог расслабиться. Промежутки в решетке были достаточно велики, чтобы он мог просунуть наружу голову, но все равно поле зрения у него оказалось в общем-то ограниченным, потому что входное устье вентиляционной трубы было заметно притоплено в наружной стене города.
И все же, несмотря ни на что, некоторые детали он смог разглядеть достаточно хорошо. Далеко-далеко внизу свет солнца убегал из пустыни. Почти горизонтальные лучи, проходя сквозь решетку, отбрасывали в глубину туннеля перемежающийся узор золота и черни. Слепящее сияние заставило Олвина прижмуриться. Он стал пристально смотреть вниз — на землю, по которой на протяжении неведомого количества веков не ступала нога человека.
Ему представилось, что он разглядывает навсегда замерзшее море. Ибо миля за милей песчаные дюны волнами шли к западу и очертания их странно искажались в лучах заходящего солнца. Там и сям непостижимые капризы ветра изваяли в песке какие-то водовороты и лощины, и порой трудно было поверить, что все это — работа стихии, а не дело рук каких-то разумных существ. Где-то в дальней дали — так далеко, что он просто не в силах был оценить расстояние, — тянулась гряда слегка сглаженных холмов. Холмы эти разочаровали Олвина: он дорого дал бы, чтобы увидеть вздымающиеся вершины, образ которых ему подарили древние видеозаписи и собственные его грезы.
Солнце уже касалось кромки холмов, свет его, ослабленный сотнями миль атмосферы, через которую ему приходилось пробиваться, был красен. На диске светила можно было различить два огромных черных пятна. Олвин знал из уроков, что это в порядке вещей, но подивился, что может, оказывается, наблюдать это явление вот так, запросто. Пятна очень напоминали два каких-то глаза, уставившиеся на него, одинокого, скрючившегося в своем наблюдательном пункте, где ветер не переставая свистел и свистел в ушах.
Сумерки так и не наступили. С уходом солнца лужи черной тени, плескавшиеся меж дюн, сразу же стремительно слились в одно необозримое озеро тьмы. Краски схлынули с неба, теплота киновари и золота истаяла, оставив после себя лишь ледяную голубизну, которая становилась все глубже и глубже, оборачиваясь черной синевой ночи. Олвин ждал того, дух захватывающего мига, который из всего человечества был ведом только ему одному, — мига, когда самая первая звезда, дрожа, пробудится к жизни…
Много недель минуло с того дня, когда он стоял здесь в последний раз, и он знал, что рисунок ночного неба за это время должен был перемениться. И все равно он оказался не готов к первой встрече с Семью Солнцами.
Они не могли называться никак иначе; его губы непроизвольно прошептали именно эти два слова. Семь Солнц составляли небольшую, очень тесную и удивительно симметричную группу — на небе, еще слегка согретом дыханием ушедшего дневного светила. Шесть из них располагались несколько вытянутым эллипсом, который в действительности — Олвин был в этом уверен — являлся безупречной окружностью, только чуть наклоненной по отношению к лучу зрения. Все семь звезд сияли разными цветами: он мог разобрать красный, голубой, золотистый и зеленый — оттенки других не поддавались глазу. И точнехонько в центре всего этого строя сверкал одинокий белый гигант — самая яркая звезда на обозримом небосводе. Вся друза удивительно напоминала драгоценное ювелирное изделие. Казалось немыслимым, выходящим за рамки законов вероятности, чтобы создать столь совершенное произведение могла сама природа.
По мере того как глаза Олвина медленно обвыкались в темноте, он стал различать и гигантский туманный занавес, который когда-то называли Млечным Путем. Он простирался от зенита к горизонту, и Семь Солнц были пришпилены к его складкам. Вот появились и другие звезды, почти столь же яркие, но, разбросанные группами там и сям, они лишь подчеркивали тайну безупречной симметрии Семерки. Казалось, что чья-то неведомая воля сознательно бросила вызов беспорядочности природной Вселенной, пометив звездное небо своей печатью.
Всего десяток раз, не более того, повернулась Галактика вокруг своей оси с тех пор, как Человек впервые пошел по Земле. По собственным масштабам Галактики это было всего лишь мгновение. И все же за этот ничтожный срок она изменилась неузнаваемо: куда как больше, нежели имела право по логике естественного хода событий. Великие солнца, что когда-то, во времена своей гордой юности, пылали столь неистово, теперь угасали, приговоренные. Но Олвин никогда не видел неба в его древней красе и поэтому просто не представлял себе, что же оказалось утрачено.
Холод, пронизывающий его до костей, заставлял возвращаться обратно, в город. Олвин оторвался от решетки и принялся растираться, чтобы восстановить кровообращение в озябших руках и ногах. Впереди, в том, дальнем конце туннеля, свет, струившийся из Диаспара, был настолько нестерпим, что на мгновение пришлось отвести глаза. За пределами города существовали и день и ночь, но в его стенах сиял вечный полдень. По мере того как солнце садилось, небо над Диаспаром наполнялось рукотворным светом, и никто не замечал мига, когда исчезало естественное освещение. Люди изгнали тьму из своих городов еще до того, как научились обходиться без сна. Единственная, так сказать, ночь, которая когда-либо задевала Диаспар своим крылом, наступала во время случавшегося достаточно редко и совершенно непредсказуемого затемнения — время от времени оно окутывало Парк, превращая его в средоточие какой-то тайны.
Олвин медленно двинулся в обратный путь через зеркальный зал. Его сознание все еще было занято картиной ночи и звезд. Он испытывал и необъяснимый подъем, и в то же время был немало подавлен. Он не находил ровно никакого способа, при помощи которого мог бы скользнуть в эту огромную пустоту, да, собственно, не видел и никакой разумной причины так поступить. Джизирак сказал, что человек там, в пустыне, обречен на скорую гибель, и Олвин вполне ему верил. Быть может, наступит день, и он отыщет способ покинуть Диаспар, но он знал, что лаже в этом случае вскоре ему придется вернуться. Уйти в пустыню было бы забавной игрой, не более того. И игрой, которую он не сможет разделить ни с кем, и сама по себе она не даст ему ничего… И все же на это стоит пойти хотя бы только для того, чтобы унять душевную тоску…
Словно не желая возвращаться в знакомый мир, Олвин бродил и бродил среди отражений прошлого. Остановившись перед одним из огромных зеркал, он стал рассматривать изображения, которые то появлялись, то исчезали в его глубине. Неведомый механизм, управлявший этими образами, контролировался, надо полагать, самим присутствием Олвина и, до некоторой степени, его мыслями. Когда он входил в это помещение, зеркала вначале всегда были слепы, но стоило ему только начать двигаться, как они тотчас же наполнялись действием.
Было похоже, что он стоит в каком-то просторном открытом дворе, которого он никогда прежде не видел, но который, вполне вероятно, и впрямь существовал где-нибудь в Диаспаре. Двор этот был необычно многолюден, похоже, что здесь происходило какое-то собрание. На приподнятой платформе двое мужчин вели вежливый спор, а их сторонники стояли внизу и время от времени бросали спорящим реплики. Полнейшая тишина лишь добавляла очарования происходящему: воображение немедленно принялось восполнять отсутствующие звуки. О чем они спорят? — думал Олвин. Быть может, это вовсе не какая-то реальная сцена из прошлого? Тщательно продуманная и сбалансированная расстановка фигур, несколько театральные движения — все это делало происходящее в зеркале чуточку слишком «причесанным» для настоящей жизни.
Олвин всматривался в лица в толпе, пытаясь разглядеть хоть кого-нибудь из знакомых, но никого не находил. Впрочем, он, возможно, глядел на лица тех друзей, которых ему не повстречать еще на протяжении нескольких столетий… Сколько существует возможных типов лиц? Число это невообразимо, но все-таки оно не бесконечно, в особенности теперь, когда все малоэстетичные вариации устранены…
Люди в Зазеркалье продолжали свой давно уже никому не нужный спор, не обращая ровно никакого внимания на Олвина, отражение которого недвижимо стояло среди них. В сущности, было очень непросто поверить, что сам он не является реальным участником происходящего, — так безупречна была иллюзия. Когда один из фантомов в зеркале прошелся за спиной Олвина, то фигура последнего перекрыла его, как это было бы в реальном мире. А когда кто-то из присутствующих переместился перед ним, то заслонил его, Олвина, своим телом…
Он уже хотел было уйти, когда обратил внимание на странно одетого человека, стоящего несколько в стороне от основной группы. Его движения, его одежда, все в его облике казалось несколько не в стиле собравшихся. Он нарушал общий рисунок; как и Олвин, он выглядел среди остальных каким-то анахронизмом.
И уж совсем поразительно — он был реален, и он смотрел на Олвина со слегка насмешливой улыбкой…
5
За свою короткую жизнь Олвину удалось повстречаться не более чем с какой-нибудь одной тысячной жителей Диаспара. Поэтому он ничуть не удивился, что сейчас перед ним стоял незнакомец. Поразило его лишь то, что оказалось возможным вообще встретить кого бы то ни было в этой заброшенной башне, столь близко от границы неизведанного.
Олвин повернулся спиной к миру Зазеркалья и оказался лицом к лицу с непрошеным гостем. Но, прежде чем он успел рот раскрыть, тот уже обратился к нему:
— Насколько я понимаю, ты — Олвин. Когда я обнаружил, что сюда кто-то приходит, мне следовало бы сразу же догадаться…
Замечание это, несомненно, было сделано безо всякого намерения обидеть, это была просто констатация факта, и Олвин так его и воспринял. Он не удивился тому, что его узнали: нравилось ему это или нет, но уже сам факт его непохожести на других, его еще не раскрывшиеся, но уже прозреваемые возможности делали его известным каждому в городе.
— Я — Хедрон, — сказал незнакомец, словно бы это все объясняло. — Они называют меня Шутом.
Олвин непонимающе смотрел на него, и Хедрон пожал плечами с насмешливой покорностью:
— Вот она, слава! Хотя… ты еще юн, и жизнь пока не выкидывала с тобой никаких своих штучек. Твое невежество извинительно.
Он был какой-то приятно-необычный, этот Хедрон. Олвин порылся в памяти, пытаясь отыскать значение странного слова «шут». Оно будило какие-то туманные воспоминания, но он никак не мог сообразить — какие именно. В сложной общественной жизни Диаспара в ходу было множество всяких титулов и прозвищ, и, чтобы выучить их все, требовалось прожить целую жизнь.
— И часто ты приходишь сюда? — немного ревниво спросил Олвин. Он уже как-то привык считать башню Лоран на своей собственностью и теперь испытывал нечто вроде раздражения от того, что ее чудеса оказались известны кому-то еще. Интересно, подумал он, выглядывал ли когда-нибудь Хедрон в пустыню, видел ли он, как звезды скатываются за западный край земли?
— Нет, — ответил Хедрон, уловив эти его невысказанные мысли. — Я не был здесь прежде ни разу. Но мне доставляет удовольствие узнавать о всякого рода необычных происшествиях в городе, а с тех пор как некто посещал башню Лоранна, прошло уже очень много времени…
Олвин мимолетно подивился, откуда Хедрон мог узнать о его предыдущих визитах сюда, но быстро оставил эту тему. Диаспар был полон ушей и глаз, а также других, куда более тонких органов восприятия, которые информировали город обо всем, что происходило в его стенах. И если кому-то очень уж приспичило, он, без сомнения, мог найти способ подсоединиться к соответствующим каналам информации.
— Даже если это и необычно, чтобы кто-то приходил сюда, — проговорил Олвин, словно бы защищаясь, — почему это должно тебя интересовать?
— Потому что все необычное в Диаспаре — это моя прерогатива, — ответил Хедрон. — Я обратил на тебя внимание еще очень давно и знал, что нам однажды предстоит встретиться. Я ведь тоже — на свой лад — единственный в своем роде. О, совсем не в том смысле, в каком ты! — я тысячу раз выходил из Зала Творения. Но когда-то давно, в самом начале, меня определили на роль Шуга, а в каждый настоящий момент в Диаспаре живет только один Шут… Многие, впрочем, полагают, что и одного-то слишком много…
В голосе у Хедрона звучала ирония, удивлявшая Олвина. Было не в лучших манерах задавать прямые личные вопросы, но, в конце концов, Хедрон сам затеял весь этот разговор…
— Прошу простить мне мое невежество, — сказал Олвин, — но что это такое — «Шут» и что он делает?
— Ты спросил — «что?», поэтому я начну с ответа на вопрос — «почему?», — ответил Хедрон. — История эта довольно длинная, но мне представляется, что тебе будет интересно.
— Мне все интересно, — отозвался Олвин, и это была достаточно полная правда.
— Превосходно! Так вот, те люди — если они были людьми, в чем я порой сильно сомневаюсь, — которые создали Диаспар, должны были решить невероятно сложную проблему. Диаспар — это не просто машина. Ты знаешь — это живой организм, да еще и бессмертный к тому же. Мы настолько привыкли к нашему обществу, что и представить себе не можем, каким странным показалось бы оно нашим первым предкам. У нас здесь маленький, закрытый мирок, никогда ни в чем не меняющийся, за исключением разве это незначительных деталей, совершенно стабильный — от века к веку. Он, возможно, существует дольше, чем длилась вся человеческая история до него, — и тем не менее, в той истории человечества насчитывалось, как принято думать, бесчисленное множество тысяч отдельных культур и цивилизаций, которые какое-то время держались, а затем исчезали без следа. Так как же, спрашивается, Диаспар достиг этой своей исключительной стабильности?
Олвину странно было, что кто-то может задаваться столь элементарным вопросом, и его надежды узнать что-нибудь новенькое стали тускнеть.
— Благодаря Хранилищам Памяти, естественно, — ответил он. — Диаспар всегда состоит из одних и тех же людей, хотя их сочетания изменяются по мере того, как создаются или уничтожаются их физические оболочки…
Хедрон покачал головой.
— Это всего лишь очень и очень незначительная часть ответа. С теми же точно людьми можно построить множество модификаций общества. Я не могу этого доказать — у меня нет прямых свидетельств этому, — но я все-таки убежден, что так оно и есть. Создатели нашего города не только строго определили число его обитателей, они еще и установили законы, руководящие нашим поведением. Мы едва ли отдаем себе отчет в том, что эти законы существуют, но мы им повинуемся. Диаспар — это замерзшая культура, которая не в состоянии выйти за свои весьма узкие рамки. В Хранилищах Памяти помимо матриц наших тел и личностей содержится еще так много всего другого… Они хранят формулу самого города, удерживая каждый его атом точно на своем месте, несмотря на все изменения, которые может принести время. Взгляни, к примеру, на этот пол: его настелили миллионы лет назад, и по нему с тех пор прошло бессчетное число ног. А видишь ли ты хоть какие-нибудь следы износа?.. Незащищенное вещество, как бы прочно оно ни было, уже давным-давно было бы истоптано в пыль. Но до тех пор, пока есть энергия, поддерживающая функционирование Хранилищ Памяти, и до тех пор, пока собранные в них матрицы контролируют структуру города, физическое состояние Диаспара не изменится ни на йоту…
— Но ведь были же и некоторые изменения, — возразил Олвин. — С тех пор как город был построен, многие здания снесли, а на их месте возвели новые…
— Да, конечно, — но только в результате стирания информации, содержащейся в Хранилищах Памяти, и замещения ее новыми формулами… Как бы там ни было, я упомянул об этом просто в качестве примера работы механизма, с помощью которого город сохраняет свой физический облик. Мне же хочется подчеркнуть, что в то же самое время есть и механизмы, которые сохраняют нашу социальную структуру. Они следят за малейшими изменениями и исправляют их, прежде чем те станут слишком уж заметными. Как это делается? Не знаю — возможно, путем отбора тех, кто выходит из Зала Творения. А может быть, что-то перестраивают матрицы наших индивидуальностей… Мы склонны полагать, что обладаем свободой воли, но можем ли мы быть в этом уверены?
В любом случае эта проблема была решена. Диаспар выжил и благополучно движется от столетия к столетию, подобно гигантскому кораблю, грузом которого являются все и всё, что осталось от человеческой расы. Это — выдающееся достижение социальной инженерии, хотя стоило ли всем этим заниматься — совсем другой вопрос.
Но стабильность — это еще не все. Она очень легко ведет к застою, а затем и к упадку. Создатели города предприняли очень сложные меры, чтобы избежать как того, так и другого, хотя эти вот покинутые здания свидетельствуют, что полного успеха они добиться не сумели. Я, Хедрон-Шут, являюсь частью их сложного плана. Очень возможно — весьма незначительной частью. Мне, конечно, нравится думать, что это не так, но я не могу быть в этом уверен.
— И в чем же суть этой роли? — спросил Олвин, который все еще почти ничего не понимал и начал уже понемножку отчаиваться.
— Ну, скажем так — я вношу в жизнь города некоторое рассчитанное количество беспорядка. И объяснить мои действия — значит погубить их эффективность. Судите меня по делам моим, хотя их и немного, а не по словам, пусть они и изобильны…
Никогда прежде Олвин не встречал никого, похожего на Хедрона. Шут оказался истинной личностью — человеком, который, насколько мог судить Олвин, на две головы возвышался над всеобщим уровнем однообразия, столь типичным для Диаспара. И хотя казалось, что установить в точности, в чем заключаются его обязанности и как он их выполняет, нет никакой надежды, это едва ли имело значение. Важно то, чувствовал Олвин, что существует некто, с кем он может поговорить — случись пауза в этом монологе — и кто в состоянии дать ответы на многие из загадок, мучающих его уже так долго.
Они вместе двинулись в обратный путь по коридорам башни Лоранна и вышли наружу неподалеку от пустынной движущейся мостовой. Только когда они уже очутились на улицах города, Олвину пришло на ум, что Хедрон так и не поинтересовался у него, что же он делал там, на границе с неведомым. Он подозревал, что Хедрон это знал, ситуация представляла для него известный интерес, но он ей не удивлялся. Что-то подсказывало Олвину, что чем-то удивить Хедрона было бы очень нелегко.
Они обменялись индексами связи, чтобы в любое время вызвать друг друга. Олвину очень захотелось почаще встречаться с Шутом, хотя он и задумался, не окажется ли общество этого человека чересчур утомительным, прими беседа более долгий характер. Перед тем как им встретиться снова, он, однако, хотел бы выяснить, что могут сообщить ему о Хедроне его друзья, и особенно — Джизирак.
— До следующей встречи, — проговорил Хедрон и тотчас же растаял. Олвина покоробило. Принято было, если вы встречались с человеком, всего лишь проецируя себя, а не будучи представленным во плоти, дать это понять собеседнику с самого начала. Иногда, если собеседник не знал, в каком виде вы с ним разговариваете, это могло поставить его в чрезвычайно невыгодное положение. Вполне возможно, что все это время Хедрон преспокойно сидел дома — где бы он ни был, его дом. Номер, который он дал Олвину, мог обеспечить поступление к нему любой информации, но отнюдь не раскрывал адреса. Впрочем, это-то, по крайней мере, было в рамках принятых норм. Вы могли достаточно свободно раздавать знакомым индексный номер, но адрес — его открывали только самым близким друзьям.
Пробираясь к центру города, Олвин все раздумывал над тем, что сказал ему Хедрон о Диаспаре и его социальной организации. Странно было, что ему до сих пор не встретилось ни единого человека, который был бы не удовлетворен своим образом жизни. Диаспар и его обитатели были созданы в рамках какого-то одного всеобъемлющего плана и сосуществовали в совершенном симбиозе. В течение всей своей неимоверно долгой жизни жители города никогда не испытывали скуки. И хотя, по стандартам минувших веков, мирок их был совсем крохотным, его сложность ошеломляла, а сокровищница чудес и богатств была выше всякого разумения. Человек собрал здесь все плоды своего гения, все, что было спасено им из-под руин прошлого. Считалось, что каждый из городов, которые когда-либо существовали, даровал что-то Диаспару; до нашествия Пришельцев имя его было известно во всех мирах, впоследствии потерянных Человеком. Все мастерство, все художественное дарование Империи воплотилось в строительстве Диаспара. Когда дни величия уже приближались к концу, неведомые гении придали городу новую форму и снабдили машинами, которые сделали его бессмертным. Все могло кануть в небытие, но Диаспар был обречен жить, чтобы в безопасности пронести потомков Человека по реке Времени.
Они не добились ничего, кроме выживания, но были вполне этим удовлетворены. Существовали миллионы дел, чтобы занять их жизнь между моментом, когда, уже почти взрослые, они выходили из Зала Творения, и тем часом, когда — едва ли постарев — они возвращались в городские Хранилища Памяти.
В мире, где все мужчины и женщины обладали интеллектом, который в прежние времена поставил бы их на одну доску с гениями, опасности заскучать просто не существовало. Наслаждение от бесед и споров, тончайшие условности общения — да уже их одних было бы достаточно, чтобы занять добрую часть жизни. Но, помимо всего этого, проводились еще и грандиозные официальные дискуссии, когда весь город словно зачарованный слушал, как его проницательнейшие умы схватываются в споре или борются за то, чтобы покорить вершины философии, на которые никому еще не удавалось взойти, но вызов, который они бросали человеку, никак не может утомить его разум.
В городе не было никого, кем не владела бы какая-то всепоглощающая интеллектуальная страсть. Эристон, например, большую часть времени проводил в собеседованиях с Центральным Компьютером, который, в сущности, и управлял городом, но у которого тем не менее еще оставалась возможность вести неисчислимое количество одновременных дискуссий — с каждым, кто только пожелал бы померяться с ним в остроте разума. В течение трехсот лет Эристон пытался создать логические парадоксы, которые оказались бы не по зубам машине. Он, впрочем, не рассчитывал добиться какого-либо серьезного успеха, не потратив на это занятие нескольких жизненных циклов.
Интересы Итании были более эстетического направления. С помощью синтезаторов материи она изобретала переплетающиеся трехмерные структуры такой красоты и сложности, что это, в общем-то, были уже не просто стереометрические конструкции, а топологические теоремы высшего порядка. Ее работы можно было увидеть по всему Диаспару, и по мотивам некоторых из этих композиций были даже созданы мозаики полов в гигантских хореографических залах — рисунок пола служил своего рода основой для создателей новых танцевальных вариаций.
Все эти занятия могли бы показаться бесплодными тому, кто не обладал достаточным интеллектом, чтобы оценить их тонкость. Но в Диаспаре не нашлось бы ни единого человека, который не смог бы понять то, что пытались создать Эристон и Итания, и кем не двигал бы такой же всепоглощающий интерес.
Физические упражнения и различные виды спорта, включая многие такие, которые стали возможны только после овладения тайной гравитации, делали приятными первые несколько столетий юности. Для приключений и развития воображения саги предоставляли все, что только можно было пожелать. Это был неизбежный конечный продукт того стремления к реализму, которое началось, когда человек стал воспроизводить движущиеся изображения и записывать звуки, а затем использовать эту технику для воссоздания сцен из реальной или выдуманной жизни. Иллюзия саг была безупречной, поскольку все чувственные ощущения поступали непосредственно в мозг, а противоборствующие чувства устранялись. Погруженный в транс, зритель был отрезан от реальностей жизни на длительность саги; он словно бы видел сон — с полнейшим ощущением, что все происходит наяву.
В этом мире порядка и стабильности, который в своих основных чертах ничуть не переменился за миллиарды лет, было неудивительным обнаружить и всепоглощающий интерес к играм, построенным на использовании случайности. Человечество издавна завораживала тайна выброшенных костей, наудачу выпавшей карты, каприз поворота рулетки. На самом низменном первоначальном уровне этот интерес основывался просто на жадности — чувстве, совершенно невозможном в мире, где каждый обладал всем, что он только мог пожелать в необъятно широких рамках разумного. Но даже когда жадность отмерла, чисто интеллектуальное обаяние случая продолжало искушать и самые изощренные умы. Машины, действовавшие по программе случайности, события, последствия которых невозможно было предугадать, сколь много информации ни находилось бы в распоряжении человека, — философ и игрок в равной степени могли из всего этого извлекать наслаждение.
И по-прежнему оставались — для всех мужчин и женщин — сопряженные миры любви и искусства. Сопряженные, поскольку любовь без искусства есть просто удовлетворение желания, а искусством нельзя насладиться, если не подходить к нему с позиций любви.
Человек стремится к красоте во множестве форм — в последовательности звуков, в линиях на бумаге, в поверхности камня, в движениях тела, в сочетаниях цветов, заполняющих некоторое пространство. Все эти способы выражения красоты издревле существовали в Диаспаре, а на протяжении веков к ним прибавились еще и новые. И все же никто не был уверен, что все возможности искусства исчерпаны, — так же как и в том, что оно имеет какое-то значение вне человеческого сознания.
И это же самое можно было сказать о любви.
6
Джизирак недвижимо сидел среди вихря цифр.
Первая тысяча простых чисел, выраженных в двоичном коде, которым пользовались во всех арифметических операциях с тех самых пор, как был изобретен компьютер, в строгом порядке проходила перед ним. Бесконечные шеренги единиц и нулей плыли и плыли, являя Джизираку безупречную последовательность чисел, не обладающих, в сущности, ни одним другим качеством, кроме самотождества и принадлежности к некоему единству. В простых числах пряталась тайна, властно очаровывавшая человека в прошлом, но и посейчас не отпустившая его воображения.
Джизирак не был математиком, хотя порой и любил потешить себя мыслью, что принадлежит к их числу. Все, что он мог, — это блуждать среди бесконечной череды математических загадок в поисках каких-то особых соотношений и правил, которые могли бы быть включены в более общие математические законы более талантливыми людьми. Он в состоянии был обнаружить, как ведут себя числа, но не мог объяснить — почему. Для него это было просто удовольствием — прорубаться через арифметические дебри, и порой ему случалось открывать чудеса, ускользнувшие от более подготовленных исследователей.
Он установил матрицу всех возможных целых чисел и запрограммировал свой компьютер таким образом, чтобы он мог нанизывать на нее простые числа, подобно бусинам на пересечениях ячеек сети. Джизирак делал это уже не одну сотню раз и прежде и так не добился какого-либо интересного результата. Но он был заворожен тем, как простые числа были разбросаны — по-видимому, без какой-либо закономерности — по спектру своих целых собратьев. И хотя законы распределения, к этому времени уже открытые, были ему известны, он все же надеялся обнаружить что-нибудь новенькое.
Вряд ли он мог пожаловаться на то, что его прервали. Если бы ему хотелось, чтобы его не тревожили, он настроил бы свой домашний объявитель соответствующим образом. Когда в ухе у него раздался мелодичный звон сигнала, стена чисел заколебалась, цифры расплылись и Джизирак возвратился в мир простой реальности.
Он сразу же узнал Хедрона и не слишком обрадовался этому визиту. Джизираку не нравилось, когда его отвлекали от заведенного жизненного порядка, а Хедрон всегда означал нечто непредсказуемое. Тем не менее он достаточно вежливо приветствовал гостя и постарался скрыть даже малейшие признаки пробудившегося в душе беспокойства.
Когда в Диаспаре двое встречались впервые — или даже в сотый раз, — было принято провести час-другой в обмене любезностями, прежде чем перейти к делу, если оно, разумеется, было, это самое дело. Хедрон до некоторой степени оскорбил Джизирака, сократив этот ритуал до пятнадцати минут, после чего он внезапно заявил:
— Мне бы хотелось поговорить с вами относительно Олвина. Насколько я понимаю, вы — его наставник…
— Верно, — ответил Джизирак. — Я все еще вижусь с ним несколько раз в неделю — не так часто, как ему этого бы хотелось.
— И как по-вашему — он способный ученик?
Джизирак задумался: ответить на этот вопрос было непросто. Отношения между учеником и наставником считались исключительно важными и, по сути дела, были одним из краеугольных камней жизни в Диаспаре. В среднем в городе что ни год появлялась тысяча новых «я». Предыдущая память новорожденных была еще латентной, и в течение первых двадцати лет все вокруг было для них непривычным, новым и странным. Этих людей нужно было научить пользоваться тьмой машин и механизмов, которые составляли фон повседневности, и, кроме того, они должны были познакомиться еще и с правилами жизни в самом сложном обществе, которое когда-либо создавал человек.
Часть этой информации исходила от супружеских пар, избранных на роль родителей новых граждан. Выбор происходил по жребию, и обязанности их были не слишком обременительны. Эристон и Итания посвящали воспитанию Олвина никак не более трети своего времени, и они сделали все, что от них ожидалось.
В обязанности Джизирака входили наиболее серьезные аспекты обучения Олвина. Считалось, что названые родители должны обучить ребенка, как ему вести себя в обществе, ну и познакомить со все расширяющимся кругом друзей. Они отвечали за характер Олвина, Джизирак — за его интеллект.
— Мне достаточно трудно ответить на ваш вопрос, — проговорил наконец Джизирак. — Разумеется, с мышлением у Олвина все в порядке. Но многие вещи, которые, казалось бы, должны его интересовать, полностью остаются за пределами его внимания. А с другой стороны — он проявляет несколько даже болезненное любопытство к моментам, которые мы обычно не обсуждаем между собой…
— Например — к миру за пределами Диаспара?
— Да… Но откуда вы знаете?
Хедрон какое-то мгновение колебался, размышляя, насколько он может довериться Джизираку. Ему было известно, что наставник Олвина — человек сердечный и намерения у него самые добрые. Но знал он и то, что Джизирак повинуется всем тем табу, которые определяют жизненные установки каждого гражданина Диаспара, — каждого, кроме Олвина.
— Это догадка, — сказал он наконец.
Джизирак устроился поудобнее в глубине материализованного им кресла. Ситуация складывалась интересная, и ему хотелось проанализировать ее со всей возможной полнотой. Многого узнать он. однако, не мог — разве только Хедрон проявил бы желание помочь.
Ему стоило бы предвидеть, что в один прекрасный день Олвин познакомится с Шутом — со всеми непредсказуемыми последствиями этого знакомства.
Если не считать Олвина, Хедрон был единственным во всем городе, кого можно было бы назвать человеком эксцентричным, но даже и эта особенность его личности была запрограммирована создателями Диаспара. Давным-давно было найдено, что без своего рода преступлений или некоторого беспорядка Утопия вскоре стала бы невыносимо скучна. Преступность, однако, в силу самой логики вещей не могла существовать даже на том оптимальном уровне, которого требовало социальное уравнение. Если бы она была узаконена и регулируема, то перестала бы быть преступностью.
Решением проблемы, которое нашли создатели города, решением с первого взгляда наивным, но, строго говоря, очень тонким, было учреждение роли Шута. На протяжении всей истории Диаспара можно было бы насчитать меньше ста человек, чье интеллектуальное достояние делало собственных пригодными для этой необычной роли. Они обладали определенными привилегиями, которые защищали их от последствий их шутовских выходок, хотя были и такие Шуты, что переступили некую ограничительную линию и заплатили за это единственным наказанием, которому мог подвергнуть их Диаспар, — их отправляли в будущее прежде, чем истекал срок их очередного существования.
В редких и трудно предвидимых случаях Шут буквально вверх дном переворачивал город какой-нибудь своей проделкой, которая могла быть не более чем тонко задуманной дурацкой шуткой или же рассчитанным выпадом против популярного в данный момент убеждения, а то и всего образа жизни. Принимая все это во внимание, можно было утверждать, что титул «шут» оказался в высшей степени удачным. В свое время, еще когда существовали короли и их дворы, шуты решали именно такие задачи и преследовали те же цели.
— Будет полезно, — сказал Джизирак, — если мы будем откровенны друг с другом. Мы оба знаем, что Олвин — Неповторимый, что он никогда раньше в жизни Диаспара не существовал. Очень может быть, что вам легче, чем мне, догадаться о последствиях этого факта. Я сомневаюсь, что хоть что-то из происходящего в городе может быть никоим образом не запланировано, и, стало быть, и в создании Олвина должна заключаться какая-то цель. Достигнет ли он этой цели, какова бы она ни была, мне неизвестно. Не знаю я и того, хороша ли она или дурна… Я просто не в силах догадаться, в чем она состоит…
— Ну, допустим, она касается чего-то, лежащего за пределами Диаспара?..
Джизирак терпеливо улыбнулся: Шут мило пошутил, что, собственно, от него и ожидалось.
— Я уже рассказал ему — что там… Он знает, что за пределами Диаспара нет ничего, кроме пустыни. Пожалуйста, отведите его туда, если можете. Кто знает, вдруг вам известен путь наружу… Когда он столкнется с реальностью, это, наверное, позволит излечить некоторые странности его сознания…
— Мне представляется, что он уже видел наружный мир, — тихо проговорил Хедрон. Но сказал он это себе, а не Джизираку.
— Я не думаю, что Олвин счастлив, — продолжал Джизирак. — Он не обзавелся настоящими привязанностями, и трудно себе представить, как он мог бы это сделать, пока он страдает от этой своей одержимости. Но, в конце концов, Олвин ведь еще очень молод… Он может вырасти из этой фазы и стать частью рисунка обычной жизни города…
Все это Джизирак говорил, в общем-то, для того, чтобы успокоить самого себя. Хедрону было небезынтересно, верит ли он собственным словам.
— А скажите-ка мне, Джизирак, — неожиданно задал вопрос Шут, — знает ли Олвин, что он — не первый Неповторимый?
Казалось, Джизирак был поражен услышанным и даже до некоторой степени уязвлен.
— Мне следовало бы догадаться, что уж вам-mo это известно, — с печалью в голосе ответил он. — Ну и сколько же Неповторимых было за всю историю Диаспара? Десять?
— Четырнадцать, — немедленно последовал ответ Хедрона. — Это не считая Олвина.
— У вас информация богаче, чем у меня, — криво усмехнулся Джизирак. — И вы можете сказать мне, что именно сталось с теми Неповторимыми?
— Они исчезли…
— Благодарю. Это мне известно. Именно поэтому я почти ничего и не сообщил Олвину о его предшественниках: знание о них едва ли помогло бы ему в его нынешнем состоянии… Могу я рассчитывать на ваше сотрудничество?
— В настоящий момент — да. Мне хочется самому изучить Олвина. Загадки всегда завораживали меня, а в Диаспаре их так мало… Кроме того, мне кажется, что судьба, возможно, готовит нам такую шутку, по сравнению с которой все мои шутовские проделки будут выглядеть куда как скромно… И в этом случае я хочу быть уверен, что буду присутствовать на месте действия, когда грянет гром…
— Похоже, вам слишком уж нравится говорить намеками, — попенял Шуту Джизирак. — Что именно вы предвидите?
— Я сомневаюсь, знаете ли, чтобы мои догадки оказались хоть в какой-то степени лучше ваших. Но я верю: ни вы, ни я, ни кто-либо третий в Диаспаре не сможет остановить Олвина, когда тот решит, что же именно ему хочется сделать. У нас впереди, на мой взгляд, несколько очень и очень интересных столетий…
Джизирак долго сидел недвижимо, совершенно забыв о своей математике, после того как изображение Хедрона растаяло. Его терзало дурное предчувствие, не сравнимое ни с чем, что он когда-либо испытывал прежде. В какой-то момент он даже задался вопросом — а не следует ли ему попросить аудиенции у Совета?.. Но, с другой стороны, не будет ли это выглядеть как смешная паника без малейшего на то повода? Быть может, вся эта ситуация — не более чем какая-то сложная и непостижимая шутка Хедрона, хотя Джизираку и нелегко было представить себе, почему мишенью для розыгрыша избрали именно его…
Он всесторонне обдумал ситуацию, проанализировал ее со всех точек зрения. Спустя час с небольшим он пришел к характерному для него решению.
Он подождет и посмотрит.
…Олвин не тратил времени зря и немедленно принялся узнавать все что можно о Хедроне. Как всегда, основным его источником информации был Джизирак. Старый наставник дал ему строго фактический отчет о своей встрече с Хедроном и добавил к нему то немногое, что ему было известно об образе жизни Шута. В той мере, в какой это вообще было возможно в Диаспаре, Хедрон вел уединенную жизнь: никто не знал, ни где он обитает, ни каковы его привычки. Последняя по времени шутка, которую он отмочил, была, в сущности, совсем детской проказой, повлекшей за собой полный паралич всего городского транспорта. Было это пятьдесят лет назад. Столетием раньше он пустил гулять по городу какого-то очень уж противного дракона, который слонялся по улицам и жадно пожирал все работы, выставленные модным в тот момент скульптором. Сам скульптор, справедливо встревоженный, когда разборчивость чудовища по кулинарной части стала очевидной, предпочел спрятаться и не появляться на люди до тех пор, пока дракон не пропал таким же загадочным образом, как и появился.
Изо всей этой информации ясно было одно. Хедрон, должно быть, досконально знал функции всех устройств и всех тех сил, которые управляли жизнью города, и мог заставить их повиноваться своей воле в такой степени, какая была недоступна никому другому. И надо полагать, существовал еще один, более высокий уровень контроля, на котором предотвращались любые попытки слишком уж изобретательных Шутов причинить постоянный, неустранимый ущерб сложнейшей структуре Диаспара.
Олвин должным образом усвоил все это, но не предпринял никаких попыток к тому, чтобы увидеться с Хедроном. Ему хотелось обрушить на Шута целый ворох вопросов, но непреклонное стремление до всего доходить самому — быть может, наиболее неповторимая черта его уникальной натуры — укрепляло решимость выяснить все, что можно, собственными силами, без помощи со стороны. Он взялся за дело, которое могло потребовать от него многих лет, но до тех пор, пока он чувствовал, что движется вперед, к своей цели, он был счастлив.
Подобно путешественнику стародавних времен, который стирал с карты белые пятна неведомых земель, Олвин приступил к систематическому исследованию Диаспара. Дни и недели проводил он, бродя лабиринтами покинутых башен на границах города, — в надежде, что найдет где-нибудь выход в мир на той стороне. В ходе этих поисков он обнаружил с десяток огромных воздуховодов, открывающихся вовне высоко над уровнем пустыни, но все они оказались забраны решетками. Хотя, даже и не будь там этих самых решеток, отвесная пропасть глубиной в милю оставалась достаточно серьезным препятствием.
Он так и не нашел выхода из города, хотя исследовал тысячи коридоров, десятки тысяч пустующих помещений. Все эти заброшенные здания были в безупречном — ни пылинки! — состоянии, которое жители Диаспара, кстати сказать, принимали как нечто само собой разумеющееся, как часть нормального порядка вещей. Порой Олвин встречал плывущего робота, совершающего, очевидно, инспекционный обход, и всякий раз задавал машине свой сакраментальный вопрос. Все это было без толку, потому что встречавшиеся ему машины не были настроены на ответ человеческой мысли или речи. И хотя, вне всякого сомнения, они осознавали его присутствие, потому что вежливо отплывали в сторонку, чтобы дать ему пройти, завязывать с ним разговор категорически не желали.
Случалось, что Олвин на протяжении долгих дней не встречал другого человеческого существа. Когда его начинало мутить от голода, он заходил в какое-нибудь из заброшенных жилых помещений и заказывал себе обед. Чудесные машины, о существовании которых он и не задумывался, после целых геологических эпох сна немедленно пробуждались к действию. Программы, которые они хранили в своей памяти, вдруг возникали к жизни где-то на самой границе реального, непостижимым образом преобразуя подвластные им вещества. И вот уже блюдо, впервые приготовленное каким-то безвестным чародеем поварского искусства сто миллионов лет назад, снова вызывалось к существованию, чтобы порадовать человека изысканностью вкусового богатства или, на худой конец, просто утолить его голод.
Пустота этого всеми забытого мира — скорлупы, окружающей живое сердце города, — не подавляла Олвина. Он был привычен к одиночеству — даже когда проводил время среди тех, кого называл своими друзьями. Эти ревностные поиски, поглощающие всю его энергию и весь жизненный интерес, заставляли на какое-то время забыть тайну своего происхождения и ту странность, что отрезала его от всех его товарищей.
Он успел исследовать менее чем одну сотую зданий внешнего пояса, когда пришел к выводу, что тратит время зря. Это не было результатом нетерпения — думать именно так заставлял простой здравый смысл. Если бы было необходимо, он готов был вернуться сюда и довершить начатое, даже если бы на это понадобилось потратить остаток жизни. Но он, однако, увидел уже вполне достаточно, чтобы убедиться, что, если выход из города где-то и есть, его так вот просто ему не найти. Он мог бы потратить столетия в бесплодных поисках, вместо того чтобы обратиться к помощи более умудренного человека.
Джизирак прямо сказал ему, что не знает пути, ведущего из Диаспара, и что сам он сомневается в его существовании. Информационные устройства, когда Олвин задавал им этот вопрос, тщетно обшаривали свою практически безграничную память. Они могли поведать ему мельчайшие детали истории города, вплоть до самого начала периода, записанного в Центральном Компьютере, — вплоть до барьера, за которым, навечно скрытые от человека, лежали Века Рассвета. Но либо информаторы были не в состоянии дать ответ на незатейливый вопрос Олвина, либо какой-то высший авторитет запретил им отвечать…
Ему снова нужно было повидаться с Хедроном.
7
— А ты не торопился, — сказал Хедрон, — Впрочем, я-то знал, что рано или поздно, но ты придешь.
Олвин вспыхнул раздражением от такой самоуверенности. Не хотелось признаваться себе, что кто-то, оказывается, может с такой точностью предсказать твое поведение. У него даже мелькнуло подозрение — а уж не следил ли Шут за всеми его бесплодными поисками?
— Я пытаюсь найти выход из города, — без обиняков отрезал Олвин. — Ведь должен же быть хотя бы один… и мне думается, помочь найти его можете вы!
Несколько секунд Хедрон сидел в полном молчании. Захоти он — у него еще была возможность свернуть с пути, что простерся перед ним в будущее, которое лежало за пределами всех его способностей к предвидению. Никто другой на его месте не колебался бы ни минуты. В городе не было другого человека, который — даже будь у него силы и возможности — решился бы потревожить призраки века, мертвые уже на протяжении миллионов столетий. Быть может, никакой опасности и не существовало и ничто не могло потревожить преемственную неизменность Диаспара. Но если он все-таки имелся — самый что ни на есть малейший риск пробуждения чего-то странного и неизведанного, грозящего этому миру, то сейчас у Хедрона был последний шанс предотвратить грядущее.
Порядок вещей, каким он существовал, вполне устраивал Шута. Время от времени он мог слегка расстраивать этот порядок, но только едва-едва ощутимо. Он был критиком, а не революционером. На поверхности ровно текущей реки Времени он стремился вызвать лишь легкую рябь. От мысли, что можно изменить и само течение, у него мурашки бежали по коже. Стремление испытать какое-то приключение, кроме тех, что были возможны в сагах, было вытравлено из его сознания так же тщательно и продуманно, как и у всех остальных жителей Диаспара.
И все же в нем еще теплилась — чуть-чуть — искорка того любопытства, что было когда-то величайшим даром Человека. И Хедрон был готов пойти на риск.
Он глядел на Олвина и пытался припомнить собственную молодость, свои мечты того времени, которое сейчас отстояло от него на половину тысячелетия. Любой момент его прошлого, когда он обращался к нему мысленным взором, вырисовывался в памяти ярко и четко. Словно бусины на нитке, простирались от него в минувшее и эта его жизнь, и все предыдущие. Он мог охватить памятью и пересмотреть любую из них. По большей части те, прежние, Хедроны были для него теперь чужаками. Основной рисунок характера мог оставаться тем же самым, но его, нынешнего, навсегда отделял от тех, прежних, груз опыта. Если бы ему захотелось, он мог бы навечно стереть из памяти все свои предыдущие воплощения — в тот миг, когда он снова войдет в Зал Творения, чтобы уснуть до поры, пока город снова не призовет его. Но это была бы своего рода смерть, а к ней он еще не был готов. Он по-прежнему жаждал собирать и собирать все, что могла предложить ему жизнь, словно спрятавшийся в своем домике наутилус, терпеливо добавляющий все новые и новые слои к своей медленно растущей спиральной раковине.
В юности он ничем не отличался от товарищей. Только когда он повзрослел и пробудившиеся воспоминания о прежних существованиях нахлынули на него, только тогда он принял роль, для которой и был предназначен давным-давно. Порой все в нем восставало против того, что великие умы, которые с таким бесконечным искусством создали Диаспар, в состоянии даже теперь, спустя века и века, заставлять его дергаться марионеткой на выстроенной ими сцене. И вот у него — кто знает? — появился шанс осуществить давно откладываемую месть… Появился новый актер, который, возможно, в последний раз опустит занавес над пьесой, действие за действием все идущей и идущей на подмостках жизни…
Сочувствие — к тому, чье одиночество должно быть куда более глубоким, чем его собственное, скука, порожденная веками повторений, и проказливое стремление к крупному озорству — таковы были противоречивые факторы, подтолкнувшие Хедрона к действию.
— Быть может, я в состоянии помочь тебе, — ответил он Олвину — А может быть, и нет… Мне не хотелось бы пробуждать несбыточные надежды. Встретимся через полчаса на пересечении Третьего радиуса и Второго кольца. По крайней мере, могу обещать тебе хорошую прогулку — если не сумею сделать ничего большего.
Олвин пришел за десять минут до назначенного срока, хотя место встречи и находилось на противоположном краю города.
Он нетерпеливо ждал, глядя, как бесконечной лентой плывут мимо него тротуары, несущие на себе таких довольных и таких скучных ему' жителей города, устремляющихся куда-то по своим, не имеющим ровно никакого значения делам. Наконец вдалеке показалась высокая фигура Хедрона, и несколькими мгновениями спустя Олвин впервые очутился в обществе Шута во плоти, а не его электронного изображения. Они сомкнули ладони в древнем приветствии — да, Шут оказался достаточно реален.
Хедрон уселся на одну из мраморных балюстрад и принялся разглядывать Олвина с пристальным вниманием.
— Интересно, — протянул он, — отдаешь ли ты себе отчет в том, на что покусился?.. И еще мне интересно — что бы ты сделал, если бы твое желание исполнилось? Неужели ты и в самом деле воображаешь, что в состоянии покинуть пределы города, если найдешь выход?
— В этом я уверен, — ответил Олвин, ответил достаточно храбро, хотя Хедрон и уловил в голосе юноши некоторые колебания.
— Тогда позволь мне сказать тебе кое-что, о чем ты и понятия не имеешь. Видишь вон те башни? — Хедрон простер руку к двойному пику Центральной Энергетической и Зала Совета, которые глядели друг на друга, разделенные пропастью глубиной в милю. — Теперь представь, я положил бы между этими башнями абсолютно жесткую доску — шириной всего в шесть дюймов. Смог бы ты по ней пройти?
Олвин, ошеломленный, медлил.
— Не знаю, — наконец прошептал он. — Мне что-то и пробовать-то не хочется…
— Я совершенно уверен, что тебе не удалось бы по ней пройти ни за что на свете. Закружится голова, и ты рухнешь вниз, не пройдя и десятка шагов… Но если бы та же доска была укреплена лишь на ладонь от поверхности земли, ты прошел бы по ней без малейшего затруднения.
— Ну и что?
— Мысль очень проста. В этих двух предложенных мной экспериментах доска, заметь, одной и той же ширины. Какой-нибудь из этих вот роботов на колесах, которых мы порой встречаем, прошел бы по ней между башнями с такой же легкостью, что и по земле. А мы — нет, поскольку нам свойственна боязнь высоты. Да, пусть она иррациональна, но она слишком уж сильна, чтобы ее можно было игнорировать. Она встроена в нас. Мы с нею рождены.
Так вот, точно таким же образом нам свойственна и боязнь пространства. Покажи любому в Диаспаре дорогу, ведущую из города, дорогу, которая, возможно, ничуть не отличается от этой вот мостовой, и он далеко по ней не уйдет. Ему просто придется повернуть назад, как повернул бы ты, рискнув пойти по доске между этими двумя башнями.
— Но почему? — запротестовал Олвин. — Ведь было же, наверное, когда-то время…
— Знаю, знаю, — улыбнулся Хедрон. — Когда-то человек путешествовал по всему миру и даже к звездам. Но… Что-то изменило его и вселило в него этот страх, с которым он теперь и рождается. Ты — единственный, кто воображает, будто ему этот страх несвойствен. Что ж, посмотрим. Я поведу тебя в Зал Совета…
Зал этот находился в одном из величайших зданий города и был почти полностью предоставлен в распоряжение машин, которые и являлись настоящей администрацией Диаспара. Близко к вершине здания находилось помещение, в котором в тех редких случаях, когда возникала проблема, требующая обсуждения, встречались члены Совета.
Широкий вход поглотил их, и Хедрон уверенно ступил в золотой полумрак. Олвин никогда прежде не бывал в Зале Совета. Это не было запрещено — в Диаспаре вообще мало что запрещалось, — но он, как и все остальные, испытывал перед Советом чувство едва ли не какого-то мистического благоговения. В мире, где не знали богов, Зал Совета был наиболее близким подобием храма.
Хедрон без малейших колебаний вел Олвина по коридорам и пандусам, которые, судя по всему, предназначались вовсе не для людей, а для колесных роботов. Некоторые из этих пологих спусков зигзагами уводили в глубину здания под такими крутыми углами, что идти по ним было просто немыслимо, и лишь искривленное поле тяготения компенсировало крутизну.
В конце концов они остановились перед закрытой дверью, которая тотчас же медленно скользнула вбок, а затем снова задвинулась за ними, отрезав им путь к отступлению. Впереди была еще одна дверь, которая, однако, при их приближении не отворилась. Хедрон не сделал ни малейшей попытки хотя бы коснуться ее, он просто остановился. Через короткое время прозвучал тихий голос:
— Будьте добры, назовите ваши имена.
— Я — Хедрон-Шут. Мой спутник — Олвин.
— По какому вы делу?
— Да так, любопытствуем…
К удивлению Олвина, дверь тотчас открылась. Он по собственному опыту знал, что если дать машине шутливый ответ, то это всегда приводит к путанице и все приходится начинать сызнова. Видимо, машина, которая задавала вопросы Хедрону, была очень умна и высоко стояла в иерархии Центрального Компьютера.
Им не встретилось больше никаких препятствий, но Олвин подозревал, что их подвергли множеству тайных проверок. Короткий коридор внезапно вывел их в огромное круглое помещение с притопленным полом, и на плоскости этого самого пола возвышалось нечто настолько удивительное, что на несколько секунд Олвин от изумления потерял дар речи. Он смотрел сверху… на весь Диаспар, распростертый перед ними, и самые высокие здания города едва доставали ему до плеча.
Он так долго выискивал знакомые места, так пристально изучал неожиданные ландшафты, что не сразу обратил внимание на остальную часть помещения. Его стены оказались покрыты микроскопическим рисунком из белых и черных квадратиков. Сама по себе эта мозаика была, казалось, совершенно лишена какой-либо системности, но когда Олвин быстро повел по ней взглядом, ему представилось, что стены стремительно мерцают, хотя рисунок их не изменился ни на йоту. Вдоль этой круговой стены через короткие интервалы были расставлены какие-то аппараты с ручным управлением, и каждый из них был оборудован экраном и креслом для оператора.
Хедрон позволил Олвину вдоволь налюбоваться этим зрелищем. Затем он ткнул рукой в уменьшенную копию города:
— Знаешь, что это такое?
Олвина так и подмывало ответить: «Макет, надо полагать», но такой ответ был бы настолько очевидным, что он решил просто промолчать. Поэтому он только неопределенно покачал головой и стал ждать, чтобы Хедрон сам ответил на свой вопрос.
— Помнишь, я как-то рассказывал тебе, как наш город поддерживается в неизменном состоянии, как в Хранилищах Памяти навечно запечатлен его облик… Эти Хранилища теперь здесь, вокруг нас. Со всем их неизмеримо огромным объемом информации, полностью описывающей город как он есть в настоящий момент. С помощью сил, о которых мы все позабыли, каждый атом в Диаспаре каким-то образом связан с матрицами, заключенными в этих стенах.
Шут повел рукой в сторону безупречного, бесконечно летального изображения Диаспара, которое распростерлось перед ними:
— Это не макет. То, что ты видишь, — неосязаемо. Это просто электронное изображение, воссозданное по матрицам, хранящимся в Памяти, совершенно идентичное самому городу. А вот эти просмотровые мониторы позволяют увеличить любой требуемый участок Диаспара, посмотреть на него в натуральную величину или даже под еще большим увеличением. Ими пользуются, когда нужно внести какие-либо изменения в конструкцию города, хотя никто не брался за это уж бог знает сколько времени. Если ты хочешь узнать, что же это такое — Диаспар, то нужно идти именно сюда. Здесь в несколько дней ты постигнешь больше, чем за целую жизнь изысканий там, на улицах.
— Как замечательно! — воскликнул Олвин. — И сколько же людей знают о существовании этого места?
— О, знают очень многие, да только все это редко кого интересует. Время от времени сюда приходит Совет — ведь ни одно изменение в городе не может произойти, если члены Совета не присутствуют тут в полном составе. Но даже и этого недостаточно, если Центральный Компьютер не одобрит предполагаемое изменение. Словом, я сильно сомневаюсь, что хоть кто-то приходит сюда чаще чем два-три раза в год.
Олвину хотелось спросить, откуда же у самого Хедрона доступ в это место, но он вспомнил, что многие из наиболее сложных проделок Шута требовали вовлечения внутренних механизмов города, а знание их работы проистекало из глубокого изучения святая святых Диаспара. Наверное, это была одна из привилегий Шута — появляться где угодно и изучать что угодно. Лучшего провожатого по тайнам города ему нечего было и желать.
— Очень может быть, что предмета твоих поисков просто не существует, — снова заговорил Хедрон. — Но если он все-таки есть, то отыскать его можно только отсюда. Давай-ка я покажу тебе, как управляться с монитором.
Весь следующий час Олвин просидел перед одним из аппаратов, учась управлять им. Он мог по желанию выбирать какую угодно точку города и исследовать ее при любом увеличении. По мере того как он менял координаты, на экране перед ним мелькали улицы, башни, движущиеся тротуары, стены… Похоже было, что он стал всевидящим, бесплотным духом, который может безо всяких усилий парить над Диаспаром, не затрачивая на это ни эрга энергии.
И все же, в сущности, он исследовал не Диаспар. Он передвигался среди клеток памяти, рассматривая идеальный облик города, параллельно которому реальный Диаспар и сохранялся неизменным на протяжении вот уже миллиарда лет. Олвин мог видеть только ту часть города, которая оставалась незыблемой.
Люди, ходившие по его улицам, не существовали в этой застывшей картине. Впрочем, для его целей это не имело значения. Его интересовало сейчас исключительно создание из камня и металла, в котором он был узником, а вовсе не те, кто разделял с ним — добровольно — его заточение.
Он поискал и тотчас нашел башню Лоранна и быстро пробежался по ее коридорам и проходам, уже известным ему. Когда перед его глазами возникло изображение той каменной решетки — крупным планом, — он почти въяве ощутил холод ветра, что дул сквозь нее непрерывно на протяжении, возможно, половины всей истории человечества. Он «подошел» к решетке, выглянул… и не увидел ровно ничего. Мгновенный шок был настолько силен, что Олвин чуть не усомнился в собственной памяти: да уж не во сне ли он видел пустыню?
Но он тотчас понял, в чем тут дело. Пустыня ни в коей мере не являлась частью Диаспара, и поэтому в том призрачном мире, который он сейчас исследовал, не было ее изображения. В реальной жизни по ту сторону решетки могло лежать все что угодно, но экран монитора был здесь совершенно бессилен.
И все же он мог показать Олвину кое-что из того, чего не видел никто из живущих. Олвин переместил точку зрения через решетку на наружную сторону — в пустоту за пределами города. Он повернул верньер настройки, контролировавший направление обзора, таким образом, что теперь «глядел» в ту сторону, с которой «пришел». И там, впереди, лежал Диаспар, увиденный снаружи.
Для компьютеров, цепей памяти и всех бесчисленных механизмов, создававших изображение, на которое смотрел Олвин, это была просто проблема перспективы. Они «знали» формы города, поэтому могли показать их и так, как они выглядят со стороны. И все же, хотя Олвину и был понятен способ, при помощи которого все это осуществлялось, открывшееся зрелище ошеломило его. Ведь если не физически, то духовно-то он все-таки выскользнул из города! Ему представлялось, что он висит в пространстве в нескольких футах от отвесной стены башни Лоранна. Пару секунд он глядел на ровную серую поверхность перед его глазами. Затем тронул ручку управления, и стена помчалась вверх.
Теперь, когда он знал возможности этого чудесного инструмента, план действий был ясен. Не было никакой необходимости тратить месяцы и годы, осматривая Диаспар изнутри — комнату за комнатой и коридор за коридором. Со своей превосходной новой смотровой позиции он мог, словно на крыльях, облететь весь внешний периметр города и сразу же обнаружить любое отверстие, ведущее в пустыню и раскинувшийся за ней мир.
Радость победы, упоение достигнутым закружили ему голову, и Олвину захотелось поделиться с кем-нибудь радостью. Он обернулся к Хедрону, чтобы поблагодарить Шута за то, что он сделал это возможным. Но Хедрон, оказывается, ушел, и ему понадобилось совсем немного времени, чтобы догадаться почему.
Олвин, возможно, был единственным жителем Диаспара, кто мог безо всякого вреда для себя рассматривать изображения, плывущие сейчас по экрану. Хедрон мог, конечно, оказать ему содействие в поисках, но даже Шут разделял с остальными этот странный ужас перед Вселенной, что в течение столь долгого срока держал человечество внутри его крохотного мирка. Шут оставил Олвина продолжать свои поиски в одиночестве.
И ощущение этого одиночества, которое на некоторое время отпустило было Олвина, снова навалилось на него. Но сейчас совсем не время было грустить. Слишком многое нужно было сделать. Он снова обратился к экрану монитора, заставил стену города медленно поплыть по нему и начал поиски.
Диаспар почти не видел Олвина в последующие несколько недель, хотя всего лишь какая-то горстка людей заметила его отсутствие. Джизирак, обнаружив, что его ученик, вместо того чтобы бродить в районе границ города, все свое время проводит в Зале Совета, испытал некоторое облегчение, ибо полагал, что уж там-то с Олвином никакой беды не приключится. Эристон и Итания раз-другой навестили его комнату, убедились, что сын отсутствует, и не придали этому значения. Что же касается Алистры, то она оказалась более настойчивой.
Для собственного же спокойствия ей следовало бы пожалеть, что она увлеклась Олвином, в то время как перед ней был такой широкий выбор куда более привлекательных вариантов. Поиск партнера никогда ее не затруднял, но… по сравнению с Олвином все ее знакомые мужчины представлялись ничтожествами, отлитыми на один и тот же невыносимо скучный манер. Она не хотела потерять друга без борьбы: отчужденность и безразличие Олвина бросали ей вызов, который она не могла не принять.
И все же, вполне вероятно, мотивы, которые ею двигали, были не совсем уж так этоистичны и диктовались скорее чем-то, что походило более на материнское отношение к Олвину, нежели было простым влечением. Конечно, деторождение было забыто жителями города, но великие женские инстинкты оберегания и сочувствия все еще жили. Олвин мог казаться упрямым и слишком уж полагающимся на самого себя, куда как полным решимости идти своим путем, и все же Алистра была способна ощутить его внутреннее одиночество.
Обнаружив, что Олвин исчез, она немедленно справилась у Джизирака, что произошло. Джизирак, поколебавшись лишь мгновение, рассказал ей все. Если Олвин не нуждался в обществе другого человека, он сам должен был дать тому это понять. Его наставник относился к их взаимоотношениям с полным безразличием. В целом Алистра ему скорее нравилась, и он надеялся, что ее влияние поможет Олвину приноровиться к жизни в Диаспаре.
Тот факт, что Олвин пропадал теперь в Зале Совета, мог означать только одно — что он погрузился в какие-то исследования, и это, по крайней мере, помогало задушить любые подозрения, которые могли бы возникнуть у Алистры в отношении возможных соперниц. Но хотя ревность в ней и не вспыхнула, зато зародилось любопытство. Порой она упрекала себя за то, что бросила Олвина в башне Лоранна, хотя и понимала, что, повторись все сначала, она снова бы поступила точно так же. Нет никакой возможности понять, что у Олвина на уме, говорила она себе, до тех пор пока она не докопается, чем же это он занят.
Алистра решительно вошла в главный вестибюль Зала Совета — должным образом пораженная, но ничуть не подавленная глубочайшей тишиной, которая объяла ее тотчас же, едва она переступила порог. Вдоль дальней стены вестибюля сплошной шеренгой стояли информационные машины, и она наудачу подошла к одной из них.
Как только загорелся сигнал приема, она произнесла: «Я ищу Олвина. Он где-то в этом здании. Как мне его найти?»
Даже прожив не одну жизнь, люди так и не могли привыкнуть, что на обычные вопросы машины отвечали мгновенно. Были среди жителей Диаспара такие, кто говорил, что им известно, как это происходит, и с таинственным видом рассуждали о «времени доступа» и «объеме памяти», но окончательный результат не становился от этого менее чудесным. Любой чисто практический вопрос, касающийся чего-то в пределах и в самом деле невообразимого объема информации обо всем, происходящем в городе, получал разрешение немедленно. Некоторая задержка происходила только в тех случаях, когда требовалось произвести сложные вычисления.
— Он у мониторов, — последовал ответ. Это было не слишком много, потому что слово «мониторы» ничего Алистре не говорило. Ни одна машина по своей собственной инициативе никогда не сообщала информации больше, чем от нее требовали, и поэтому умение правильно сформулировать вопрос было искусством, овладеть которым часто удавалось не вдруг.
— А как мне к нему пройти? — спросила Алистра. Она узнает, что такое мониторы, когда доберется до них.
— Я не могу вам этого сказать, пока у вас не будет разрешения Совета.
Меньше всего она могла ожидать вот такого, совершенно обескураживающего, оборота событий. В Диаспаре было совсем немного мест, которые не мог бы посетить всяк кому вздумается. Алистра была совершенно уверена, что у самого-то Олвина не имелось никакого разрешения от Совета, а это могло только означать, что ему помогает кто-то, кто стоит выше Совета.
Совет руководил Диаспаром. Но и сам Совет должен был повиноваться приказаниям еще более высокой инстанции — почти безграничного интеллекта Центрального Компьютера. Трудно было не думать о Центральном Компьютере как о живом существе, локализованном в каком-то ограниченном пространстве, хотя на самом деле он представлял собой сумму всех машин Диаспара. И даже если он и не был живым в биологическом понимании этого слова, ему, во всяком случае, было свойственно не меньше сознания и самосознания, чем человеческому существу. Он обязан знать, чем занят Олвин, и, следовательно, должен одобрять эту деятельность, иначе Олвин был бы остановлен, а его проблема была бы передана Совету — как это сделала информационная машина в отношении самой Алистры.
Смысла оставаться здесь не было никакого. Алистра понимала, что любая попытка найти Олвина — даже если бы она точно знала, где именно в этом огромном здании он находится, — обречена на неудачу. Двери не станут отворяться перед ней, движущиеся полы, ступи она на них, будут изменять направление движения, унося ее не вперед, а назад, гравикомпенсаторные поля эскалаторов загадочным образом потеряют силу, отказываясь опускать ее с этажа на этаж. Если же она проявит настойчивость, то ее выпроводит наружу вежливый, но совершенно непреклонный робот или же ее примутся водить по всему зданию, пока ей это смертельно не надоест и она не уйдет отсюда по своей собственной воле.
Когда она вышла на улицу, настроение у нее было хуже некуда. И в то же самое время она была более чем удивлена, впервые осознав, что существует какая-то тайна, перед которой ее личные желания и интересы выглядят, в сущности, тривиальными. Впрочем, это совсем не означало, что для нее-то самой они отныне станут сколько-то менее важными. У нее не было ни малейшего представления, что же теперь делать, но в одном она была уверена: Олвин был не единственным в Диаспаре, кто мог быть упрямым и настойчивым.
8
…Олвин оторвал руки от панели управления, обесточил все цепи, и изображение на экране угасло. Несколько секунд он сидел совершенно недвижимо, уставившись на пустой прямоугольник дисплея, целиком занимавший его сознание на протяжении всех этих долгих недель. Он совершил кругосветное путешествие вокруг своего мира. По этому экрану проплыл каждый квадратный дюйм внешней стены Диаспара. Он знал теперь свой город лучше, чем любой другой его гражданин, — за исключением, возможно, Хедрона, — но знал он теперь и то, что выхода сквозь стены не существует…
Чувство, владевшее им сейчас, было не просто унынием. Откровенно сказать, он, в сущности, и не ожидал, что проблему можно будет решить так вот просто, что с первой же попытки удастся отыскать то, что ему требуется. Важно было, что он устранил еще одну возможность. Теперь предстояло взяться за другие.
Он поднялся из кресла и подошел к изображению города, которое почти заполняло зал. Трудно было не думать о нем как о материальном макете, хотя Олвин и понимал, что на самом-то деле это всего-навсего оптическая проекция сложнейшей матрицы, распределенной по ячейкам памяти, которые он только что исследовал. Когда он поворачивал ручки управления и заставлял свою воображаемую наблюдательную позицию передвигаться по городу, по поверхности этой вот его электронной копии синхронно путешествовало крохотное пятнышко света, и он мог совершенно точно знать, куда именно в данный момент он направляется. В первые дни световой зайчик был очень удобным гидом, но вскоре Олвин настолько напрактиковался в настройке координат, что подсказка эта стала ему уже не нужна.
Город распростерся у его ног. Он смотрел на него, как если бы был Богом. И — едва видел, потому что перебирал в уме один за другим шаги, которые следовало предпринять теперь.
Если все мыслимые решения проблемы и отпали, все-таки оставалось еще одно. Быть может, Диаспар и сохраняется в своем вечном стасисе, навсегда замороженный в соответствии с электрическим узором ячеек памяти, но сам-то этот узор может быть изменен, и тогда соответствующим образом изменится и сам город. Можно будет перестроить целую секцию внешней стены, проломить в ней проход, ввести эту информацию в мониторы и позволить городу переделать себя в соответствии с этой новой концепцией.
Олвин подозревал, что обширные панели пульта контроля за мониторами, функций которых Хедрон ему не объяснил, имеют отношение как раз к такого вот рода изменениям. Экспериментировать с ними было бесполезно. Средства управления, которые могли изменять самое структуру города, были, конечно же, накрепко блокированы, и привести их в действие можно было только с разрешения Совета и с одобрения Центрального Компьютера. Существовало очень маю шансов на то, что Совет пойдет ему навстречу, даже если он приготовится к десяткам лет, а то и к столетиям терпеливейших просьб. Такая перспектива не устраивала его ни в малейшей степени.
Он обратил свои мысли к небу. Порой ему чудилось — в мечтах, о которых он вспоминал потом не без смущения, — что он обрел способность летать, способность, утраченную человечеством так давно. Было время — он знал это, — когда небо Земли заполняли странные силуэты. Из космоса прилетали огромные корабли, они несли в трюмах неведомые сокровища и приземлялись в легендарном порту Диаспара. Но порт находился за пределами города. Целые эпохи прошли с того времени, когда он оказался укрыт кочующими песками пустыни. Олвин, понятно, мог мечтать о том, что где-то в лабиринте Диаспара все еще может таиться одна из этих летающих машин, но, в общем-то, он в это не верил. Представлялось крайне маловероятным, что даже в те дни, когда полеты на маленьких флайерах личного пользования были делом обычным, ими разрешалось пользоваться за пределами города.
На какие-то секунды он забылся в старой, привычной мечте: он вообразил, что небо подвластно ему, что, распростершись, мир лежит под ним, приглашая отправиться туда, куда ему хочется. Это не был мир его времени. Это был утраченный мир Начала — богатейшая, вся в движении панорама холмов, лесов и озер. Он испытал острую зависть к своим неведомым предкам, которые с такой свободой летали над всей землей и которые позволили умереть ее красоте.
Эти иссушающие ум мечтания были бесплодны. Он с трудом вернулся в настоящее — к своей насущной проблеме. Если небо для него недостижимо, а путь по земле прегражден, то что же остается?
Он снова оказался в положении, когда ему требуется помощь, когда только своими силами он не может продвинуться вперед. Ему не хотелось признаваться в этом перед самим собой, но он был достаточно честен и осознал этот малоприятный факт, И мысли его с неизбежностью обратились к Хедрону.
Олвин никак не мог решить, по душе ли ему Шут. Он был очень рад, что они встретились, и был благодарен Хедрону за ту, неясно выраженную, но все-таки симпатию, которую Шут проявил к нему в ходе поиска. В Диаспаре больше не нашлось бы ни одной живой души, с кем у Олвина оказалось бы так много общего, и все-таки в личности Хедрона ощущался какой-то червячок, который нет-нет да и действовал ему на нервы. Возможно, это был налет этакой иронической отстраненности, которая порой порождала у Олвина подозрение, что Хедрон втихомолку подсмеивается над всеми его усилиями, даже когда казалось — он делает все, чгобы именно помочь. Из-за этого, а также в силу свойственного ему упрямства и чувства независимости, Олвину не слишком хотелось обращаться к Хедрону — разве что в самом крайнем случае.
Они договорились встретиться в маленьком круглом дворике неподалеку от Зала Совета. В городе было множество таких вот уединенных местечек, частенько расположенных всего в нескольких шагах от оживленной магистрали, но совершенно изолированных от людской толчеи. Добраться до них, как правило, можно было только пешком, изрядно побродив сначала вокруг да около. По большей части они, в сущности, являлись центрами умело созданных лабиринтов, что только усиливало их отъединенность. Это было довольно типично для Хедрона — выбрать для встречи именно такое вот место.
Дворик оказался едва ли более пятидесяти шагов в поперечнике и, в общем-то, находился не на воздухе, а глубоко внутри какого-то большого здания. Глазу, однако, представлялось, что у него нет каких-то определенных физических границ, а окружает его нечто из полупрозрачного голубовато-зеленого материала, светящегося мягким внутренним светом. И все же, несмотря на отсутствие этих самых границ, дворик оказался спроектирован таким образом, что не было ни малейшей опасности потеряться в кажущейся бесконечности окружающего его пространства. Низкие стены, высотой в половину человеческого роста, разорванные через неправильные интервалы с тем, чтобы через них можно было пройти, создавали достаточное впечатление замкнутости, без чего никто в Диаспаре не мог чувствовать себя совершенно в своей тарелке.
Когда появился Олвин, Хедрон внимательнейшим образом разглядывал как раз одну из секций стены. Она была украшена хитроумной мозаикой из глазурованных плиток, и узор оказался таким фантастически сложным, что Олвин даже и стараться не стал читать его.
— Посмотри-ка на эту мозаику, Олвин, — молвил Шут. — Не замечаешь ли ты в ней какой-нибудь странности?
— Нет, — бегло взглянув на рисунок, признался Олвин, — Да мне, собственно, все равно — тем более что никакой странности тут нет…
Хедрон пробежался пальцами по разноцветным плиткам.
— Ты не слишком наблюдателен, — укоризненно проговорил он — Взгляни-ка вот на эти кромки — видишь, как они округлены, какую приобрели мягкую форму? Это нечто такое, Олвин, что в Диаспаре можно увидеть крайне редко. Это — изношенность. Вещество выкрашивается под напором времени. Я припоминаю эпоху, когда этот рисунок был совсем новым, — это было всего восемьдесят тысяч лет назад, в мою предыдущую жизнь. И если я вернусь сюда еще через десяток перевоплощений, от этих плиток уже мало что останется…
— Ну, а что тут удивительного? — отозвался Олвин. — В городе есть и другие произведения искусства, не такие уж ценные, чтобы хранить их вечно в ячейках памяти, но все-таки достаточно интересные, чтобы не уничтожать их вскоре же после создания. Я полагаю, наступит день, придет сюда другой какой-нибудь художник и сотворит что-то еще более прекрасное. И уж его работе не дадут истлеть…
— Я знавал человека, который составил этот рисунок, — сказал Хедрон. Пальцы его все еще блуждали по поверхности мозаики, исследуя ее трещинки, — Странно то, что я помню сам этот факт, но в то же время совершенно забыл человека, о котором мы сейчас говорим. Надо полагать, он мне не больно-то нравился, поскольку я, судя по всему, стер память о нем из своего сознания… — Он коротко рассмеялся. — Впрочем, может оказаться и так, что это я сам создал этот рисунок во время одной из своих художественных фаз, а когда город отказался хранить его вечно, был так раздосадован, что и решил тогда же забыть об этом эпизоде… Ну вот, так я и знал, что этот кусочек того гляди отвалится.
Хедрон ухитрился отколупнуть осколок позолоченной плитки и, казалось, был страшно доволен этим актом мало кого трогающего вандализма. Он бросил крохотную чешуйку наземь:
— Вот теперь роботам-уборщикам будет над чем потрудиться!
Олвин понял, что это — урок. Странный инстинкт, известный под именем интуиции, способный приводить к цели напрямик, срезая углы, тотчас сказал ему об этом. Он уставился на золотистую крошку, лежащую у его ног, пытаясь как-то связать ее с проблемой, занимающей его сознание.
Найти ответ было несложно, коль скоро ему стало очевидно, что ответ такой существует.
— Да, я понимаю, что именно вы стараетесь мне втолковать, — сказал он Хедрону. — Это значит, что в Диаспаре есть объекты, которые не зафиксированы в ячейках памяти. Вот поэтому-то я и не мог найти их с помощью мониторов там, в Зале Совета. Пойди я туда и нацелься на этот дворик, мне бы и следа не углядеть этой вот стенки, на которой мы сейчас сидим…
— Ну, я думаю, что стенку-то ты бы обнаружил… Но вот мозаику на ней…
— Да-да, понимаю… — почти не слушая, продолжал Олвин, слишком занятый сейчас своими мыслями, чтобы обращать внимание на такие тонкости этикета. — И точно таким же вот образом могут существовать и целые районы города… они не отражены в его вечной памяти, но они еще не износились… они существуют… Нет, я все-таки как-то не вижу, чем это может мне помочь. Я же знаю, что внешняя стена стоит, как скала, и что в ней нет проходов…
— Гм… Возможно, из этого положения и в самом деле нет выхода, — проговорил Хедрон. — Во всяком случае, я ничего не могу тебе обещать. Но все же думаю, что мониторы способны научить нас еще очень и очень многому… если, конечно, Центральный Компьютер им разрешит. А он, похоже, относится к тебе… м-м… доброжелательно.
На пути к Залу Совета Олвин раздумывал над этими словами Шута. До сих пор он полагал, что доступ к мониторам ему обеспечило единственно влияние Хедрона. Ему и в голову не приходило, что это стало возможным в силу каких-то качеств, внутренне присущих именно ему самому. Быть Неповторимым означало потерю многого. И было бы только справедливо, если бы ему полагалась какая-то компенсация.
…Ничуть не изменившийся электронный слепок города все так же занимал центр зала, в котором Олвин провел эти долгие недели. Он смотрел на него теперь с новым чувством понимания: ведь все, что он видел здесь, перед собой, существовало в действительности, но… могло быть и так, что отнюдь не весь Диаспар отражен в этом безупречном зеркале. Да, разумеется, любые несоответствия должны быть пренебрежимо малы и, насколько он мог видеть, просто неуловимы…
И все же…
— Я, знаешь, попытался сделать это много лет назад, — нарушил молчание Хедрон, усаживаясь в кресло перед одним из мониторов. — Но управление этой штукой никак мне не давалось… Возможно, теперь все будет иначе…
Сначала медленно, а потом со все возрастающей уверенностью — по мере того как в памяти оживали давным-давно забытые навыки — пальцы Хедрона побежали по панели управления, лишь на мгновение задерживаясь в некоторых ее точках.
— Вот, думаю, так будет правильно, — наконец проговорил он. — Во всяком случае, мы сейчас в этом убедимся. — Экран монитора засветился, но вместо изображения, которое ожидал увидеть Олвин, появилась несколько обескуражившая его надпись: «Регрессия начнется, как только вы установите градиент убывания».
— Экая я бестолочь, — прошептал Хедрон, — Вот ведь все сделал правильно, а самое-то важное и забыл… — Теперь его пальцы двигались по панели уже совершенно уверенно, и, когда надпись на экране растаяла, он развернул свое кресло так, чтобы видеть и изображение города в центре зала.
— Гляди внимательно, Олвин, — предупредил он — Думается мне, что мы оба узнаем сейчас о Диаспаре кое-что новенькое.
Олвин терпеливо ждал, но ничего не происходило. Изображение города по-прежнему стояло у него перед глазами во всем своем таком знакомом великолепии и красе — хотя ни то ни другое им сейчас не осознавалось. Он уже хотел было спросить Хедрона, а на что, собственно, ему смотреть, как вдруг какое-то внезапное движение приковало его внимание, и он быстро повернул голову, чтобы уловить его. Это был всего лишь какой-то краткий миг, что-то на мгновение сверкнуло, и он так и не успел заметить, что же явилось причиной вспышки. Ничто не изменилось: Диаспар оставался точно таким же, каким он его знал. Однако, переведя взгляд на Хедрона, он увидел, что тот наблюдает за ним с сардонической усмешкой, и снова уставился на город. И теперь это произошло прямо у него на глазах.
Одно из зданий на периферии Парка неожиданно исчезло, и на его месте немедленно появилось другое — совершенно иной архитектуры. Превращение произошло настолько стремительно, что мигни Олвин именно в этот момент, и он ничего бы уже не заметил. В изумлении смотрел он на слегка изменившийся город, но даже и в этот миг потрясения от увиденного мозг его искал объяснений. Ему вспомнились появившиеся на экране слова: «Регрессия начнется…» — и он тотчас же осознал, что же тут, собственно, происходит.
— Таким город был много тысяч лет назад, — сказал он Хедрону. — Мы словно бы движемся назад по реке времени…
— Весьма красочный, но вряд ли самый точный способ отразить то, что здесь сейчас творится, — ответил Шут. — На самом-то деле монитор просто вспоминает ранний облик города. Когда в прошлом производились какие-то модификации, ячейки памяти не просто освобождались. Хранившаяся в них информация перекачивалась во вспомогательные запоминающие устройства, чтобы по мере надобности ее можно было вызывать снова и снова. Я настроил монитор на анализ именно этих узлов — со скоростью в тысячу лет в секунду. И сейчас мы видим с тобой Диаспар таким, каким он был полмиллиона лет назад. Но только, чтобы заметить какие-то действительно существенные перемены, нам придется отодвинуться во времени на куда большую дистанцию… Вот я сейчас увеличу скорость…
Он снова обратился к панели управления, и именно в этот момент уже не одно какое-то здание, а целый квартал перестал существовать и сменился гигантским овальным амфитеатром.
— О, да ведь это же — Арена! — воскликнул Хедрон — Я прекрасно помню, какой шум поднялся, когда мы решили от нее избавиться! Ареной почти не пользовались, но, знаешь, огромное число людей испытывало к ней теплые чувства.
Теперь монитор вскрывал пласты своей памяти с куда большей быстротой. Изображение Диаспара проваливалось в прошлое на миллион лет в минуту, и перемены совершались так стремительно, что глаз просто не мог за ними уследить. Олвин отметил, что изменения в облике города происходили, похоже, циклично: бывали длительные периоды полного равновесия, затем вдруг начиналась горячка перестройки, за которой следовала новая пауза. Все происходило так, как если бы Диаспар был живым существом, которому после каждого взрывообразного периода роста требовалось собраться с силами.
Несмотря на все эти перемены, основной рисунок города не менялся. Да, здания возникали и исчезали, но расположение улиц представлялось вечным, а Парк все так же оставался зеленым сердцем Диаспара. Олвин прикинул, насколько далеко может простираться память монитора. Сумеют ли они вернуться к самому основанию города и проникнуть сквозь занавес, отделяющий непреложно известную историю от мифов и легенд Начала?..
Они погрузились в прошлое уже на пятьсот миллионов лет. За пределами стен Диаспара, неизвестная мониторам, лежала совсем иная Земля. Возможно, там шумели океаны и леса, быть может, существовали иные города, еще не покинутые Человеком в его долгом-долгом отступлении к своему последнему пристанищу…
Минуты текли — и каждая была целой эпохой в крохотной вселенной мониторов. Олвину подумалось, что скоро они достигнут самого раннего из доступных уровней памяти и бег в прошлое прекратится. И хотя все происходящее представлялось ему просто-таки захватывающе интересным, он тем не менее никак не мог понять, каким образом это поможет ему вырваться из Диаспара.
…Резким, беззвучным скачком город сократился до незначительной части своей нынешней величины. Парк исчез. В мгновение ока словно бы испарилась ограничивающая город стена, составленная из титанических башен. Этот новый город был открыт всем ветрам, и его радиальные дороги простирались к границам объемного изображения, не встречая никакого препятствия. Диаспар… Такой, каким он был перед великим превращением, которому подверглось человечество.
— Дальше пути нет, — сказал Хедрон и показал на экран монитора, где появилась надпись: «Регрессия завершена». — Должно быть, это и есть самый первый облик города, запечатленный в памяти машин. Сомневаюсь, чтобы ячейки памяти использовались в период, предшествующий этому, — когда здания еще были подвержены разрушительному действию стихий.
Олвин долго глядел на модель древнего города. Он размышлял о движении, которое кипело на этих дорогах, когда люди свободно приезжали и уезжали во все концы мира — и к другим мирам тоже. Те люди были его предками. Он чувствовал себя куда ближе к ним, чем к своим современникам, которые делят с ним сейчас его жизнь. Ему так хотелось поглядеть на них, проникнуть в их мысли — мысли людей, ходивших по улицам Диаспара миллиард лет назад. Нет, подумалось ему, их мысли не могли быть безоблачными — ведь земляне того времени жили в мрачной тени Пришельцев. И всего через несколько столетий им пришлось отвратить лица свои от славы, завоеванной ими, и возвести Стену, отгородившую их от мира…
Хедрон несколько раз прогнал монитор взад и вперед по короткому отрезку истории, который был свидетелем трансформации. Переход от маленького, настежь распахнутого городка к куда большему по размерам, но уже отъединенному от мира, занял немногим более тысячи лет. За это время, должно быть, и были созданы машины, которые и посейчас так верно служат Диаспару, и именно тогда в их память было вложено знание, обеспечивающее выполнение ими своих задач. В этот же самый период в запоминающие устройства города должны были поступить электронные копии всех живущих ныне людей, готовые по первому же сигналу Центрального Компьютера обрести плоть и, заново рожденными, выйти из Зала Творения.
Олвин понимал, что и он тоже, в некотором смысле, существовал в том древнем мире. Хотя, конечно, было возможно, что он-то как раз оказался продуктом чистого синтеза — вся его личность, целиком и полностью, была создана инженерами-художниками, которые пользовались инструментарием непостижимой сложности ради какой-то ясно осознаваемой ими цели… И все же ему представлялось куда более вероятным, что он все-таки был плоть от плоти тех людей, что когда-то жили на планете Земля и путешествовали по ней.
Когда был создан новый город, от старого Диаспара мало что осталось. Парк почти полностью покрыл изначальное поселение, а также то, с чего, собственно, и начинался сам-то этот древний город. Казалось, что в центре Диаспара от века существовало крохотное зеленое местечко, к которому стекались все радиальные улицы города. Впоследствии его размеры разрослись вдесятеро, стерев множество зданий и улиц. Усыпальница Ярлана Зея появилась как раз в это время, заменив собой какую-то очень громоздкую круглую конструкцию, которая возвышалась на месте слияния всех улиц. Олвин, в сущности, никогда не верил легендам о непостижимой древности усыпальницы, но теперь ему стало ясно, что легенды, похоже, говорили правду.
— Но ведь мы… — Олвин был просто сражен внезапно пришедшей ему на ум мыслью, — ведь мы можем изучать это вот изображение в деталях… точно так же, как мы разглядывали и современный нам Диаспар?
Пальцы Хедрона порхнули над панелью управления, и экран тотчас же ответил на вопрос Олвина. Город, давным-давно исчезнувший с лица земли, стал расти у него на глазах по мере того, как взгляд юноши погружался в лабиринт странных узких улочек. Это — почти живое — воспоминание о Диаспаре, который когда-то существовал, было ясным и четким, как и изображение города, в котором они жили сейчас. В течение миллиарда лет электронная память хранила эту информацию, терпеливо дожидаясь момента, когда кто-то снова вызовет ее к жизни. И все это, подумалось Олвину, было даже не памятью — если говорить о том, что он сейчас искал. Это было нечто куда более сложное — воспоминание о памяти…
Он не знал, что это ему даст и поможет ли его исканиям. Неважно. Было захватывающе интересно вглядываться в прошлое и видеть мир, который существовал еще в те времена, когда человек путешествовал среди звезд. Он указал на низкое круглое здание, стоящее в самом сердце города:
— Давайте начнем отсюда. Это место ничуть не хуже всякого другого для того, чтобы приступить к поиску…
Быть может, это оказалось результатом чистой удачи. Или же подала вдруг голос какая-то древняя генная память. А может быть, сработала и элементарная логика. Это не имело значения, поскольку рано или поздно он все равно добрался бы до этого места — места, откуда начинались все радиальные улицы города.
Ему потребовалось всего лишь каких-то десять минут, чтобы сделать открытие: улицы соединялись здесь вовсе не только из соображений симметрии. Всего десять минут, чтобы понять — долгий его поиск вознагражден.
9
Алистре было совсем нетрудно последовать за Олвином и Хедроном так, чтобы оба они и понятия об этом не имели. Они, казалось, очень спешили — что уже само по себе было в высшей степени необычно — и ни разу даже не оглянулись. Забавная игра — преследовать их на движущихся тротуарах, прячась в толпе, не спускать с них глаз… В конце концов цель, к которой они стремились, стала для Алистры очевидной. Раз уж они оставили улицы и углубились в Парк, то могли направляться только к усыпальнице Ярлана Зея. В Парке не было никаких других зданий, а люди, спешащие так, как спешили Олвин с Хедроном, явно не собирались любоваться пейзажами.
Поскольку на последних десятках метров перед усыпальницей укрыться было решительно негде, Алистра выждала, пока преследуемые не углубились в ее мраморный полумрак. Как только они скрылись из виду, девушка тотчас же поспешила вверх по поросшему травой склону. Она была совершенно уверена, что сумеет скрываться за одной из огромных колонн достаточно долго, чтобы суметь выяснить — чем это таким заняты Олвин и Хедрон. А уж потом, даже если они ее и обнаружат, будет все равно…
Усыпальница состояла из двух концентрических колоннад., ограждающих круглый дворик. Колонны эти — за исключением одного сектора, — перекрывая друг друга, полностью укрывали от взоров центр всего сооружения, и Алистра, не желая рисковать, проникла в усыпальницу сбоку. Она осторожно миновала первое кольцо колонн, убедилась, что в поле зрения никого нет, и на цыпочках подобралась ко второй колоннаде. Между колоннами ей было видно скульптурное изображение Ярлана Зея, устремившего взгляд к входу в усыпальницу и дальше — через Парк, созданный им, — на город, за которым он следил столько тысячелетий.
И мраморное его уединение сейчас не нарушала ни одна живая душа. Усыпальница была пуста…
В эти же самые секунды Олвин и Хедрон находились метрах в тридцати под поверхностью земли — в тесной, напоминающей ящик клетушке, стенки которой, казалось, струились вверх. Это было единственным признаком того, что она движется. Не ощущалось ни малейшей вибрации, которая указывала бы на то, что они постепенно погружаются в недра земли, приближаясь к цели, о которой ни тот ни другой даже и теперь не имели ни малейшего представления.
Все оказалось до смешного просто, потому что искомый путь был прямо-таки подготовлен для них. («Кем? — думалось Олвину. — Центральным Компьютером? Или самим Ярланом Зеем, когда он преображал город?») Экран монитора показал им глубокую вертикальную шахту, уходящую в недра, но они «спустились» по ней не слишком глубоко — экран погас. Это означало, что они затребовали информацию, которой монитор не располагал и которой, возможно, у него и вообще никогда не было.
Олвин едва успел додумать эту мысль, как экран ожил снова. На нем появилась короткая надпись, напечатанная упрошенным шрифтом, которым машины пользовались для общения с человеком с тех самых пор, как они достигли интеллектуального равенства:
«Встаньте там, куда смотрит статуя, и подумайте:
«ДИАСПАР НЕ ВСЕГДА БЫЛ ТАКИМ»».
Последние пять слов были напечатаны прописными буквами, и суть этого послания сразу же была схвачена Олвином. Произнесенные в уме, кодовые фразы такого рода столетиями использовались для того, чтобы открывать двери или включать машины. Что же касается выражения «встаньте там, куда смотрит статуя», то, в сущности, это было уже совсем просто понять.
— Интересно, сколько же человек читало эти слова, — задумчиво произнес Олвин.
— Насколько я знаю, четырнадцать, — ответил Хедрон. — Но, возможно, были и другие… — Он никак не прояснил эту свою достаточно загадочную реплику, а Олвин слишком торопился попасть в Парк, чтобы задавать еще какие-нибудь вопросы.
У них не было никакой уверенности, что механизмы все еще способны откликнуться на кодовый импульс. Когда они добрались до усыпальницы, им потребовалось всего ничего времени, чтобы обнаружить ту единственную плиту пола, на которую был устремлен взгляд Ярлана Зея. Это только невнимательному наблюдателю могло показаться, что изваяние смотрит вдаль, на город. Стоило стать прямо перед ним, и сразу же можно было убедиться, что глаза Зея опущены и изменчивая его улыбка адресована как раз плите, расположенной у самого входа в усыпальницу. Как только секрет этот оказался раскрыт, никаких сомнений уже не оставалось. Огромная каменная глыба, на которой они стояли, плавно понесла их в глубину.
Голубое окно над их головами внезапно пропало. Устье этой шахты там, наверху, перестало зиять. Опасность, это кто-нибудь случайно ступит в провал, перестала существовать. Олвин мимолетно подумал о том, не материализовалась ли внезапно какая-то другая каменная плита, чтобы заменить ту, на которой плыли сейчас они с Хедроном, но затем решил, что вряд ли. Глыба, на которой они стояли, могла в действительности существовать лишь дискретно — неощутимые доли секунды. Она, в сущности, все так же покрывала пол усыпальницы. И снова и снова материализовывалась на все большей и большей глубине — через микросекундные интервалы, — чтобы создать иллюзию плавного движения вниз.
Ни Олвин, ни Хедрон не проронили ни слова, пока стены шахты медленно скользили мимо них кверху. Хедрон снова сражался со своей совестью, размышляя — не зашел ли он на этот раз слишком далеко. У него не было ни малейшего представления, куда ведет этот путь, — если он вообще ведет куда-то… Впервые в жизни Шут начал понимать истинный смысл слова «страх».
Олвину же не было страшно — он был слишком возбужден. Он переживал те же чувства, что и в башне Лоранна, когда взглянул на девственную пустыню и увидел звезды, взявшие в полон небо. Тогда он едва кинул на неведомое беглый взгляд. А вот теперь — он приближался к нему…
Стены прекратили движение. На одной из них появилось пятно света, оно становилось все ярче и ярче и внезапно обернулось дверью. Они ступили в ее проем, сделали несколько шагов по коридору и совершенно неожиданно для себя очутились вдруг в огромной круглой камере, стены которой плавно сходились в трехстах футах над их головами.
Каменная колонна, внутри которой они спустились сюда, казалась больно уж хрупкой, чтобы держать на себе все эти миллионы тонн скальной породы. В общем-то, она даже выглядела не как неотъемлемая часть всего этого помещения, а так, словно бы ее добавили сюда значительно позднее основного строительства. Хедрон, проследив взгляд Олвина, пришел точно к такому же выводу.
— Эта колонна, — сказал он, явно нервничая и словно бы испытывая неодолимую потребность хоть что-нибудь да говорить, — была построена просто для того, чтобы нести в себе шахту, по которой мы сюда и прибыли. Она, конечно же, никоим образом не могла пропускать через себя все то движение, которое, надо полагать, имело здесь место, когда Диаспар еще был открыт миру. Основные потоки шли во-он по тем туннелям… Как — соображаешь, для чего они?
Олвин обвел взглядом стены этой пещеры, отстоящие от того места, где находились они с Хедроном, больше чем на сотню метров. Пронизывая скалу через равные интервалы, зияли жерла огромных туннелей — двенадцать общим числом, и, судя по всему, туннели эти радиально расходились по всем направлениям, в точности повторяя маршруты движущихся улиц там, на поверхности. Приглядевшись, можно было заметить, что туннели имеют небольшой уклон кверху. Олвин тотчас же узнал и знакомую серую поверхность движущегося полотна, но… это были лишь руины великих когда-то дорог. Странный материал, что когда-то давал им жизнь, теперь был недвижим. Когда там, наверху, разбили Парк, ступица всего этого гигантского транспортного «колеса» была похоронена под землей.
И все-таки она не была разрушена.
Олвин направился к ближайшему туннелю. Он успел пройти всего несколько шагов, когда вдруг до него дошло, что с поверхностью пола у него под ногами что-то происходит… Пол становился… прозрачным! Еще несколько метров, и Олвину уже представилось, будто он стоит прямо в воздухе, без какой-либо видимой поддержки. Он остановился и вгляделся в пропасть, разверзшуюся перед ним.
— Хедрон! — позвал он. — Подойдите, подойдите — взгляните-ка только на это чудо!
Шут присоединился к нему, и они вместе стали разглядывать всю эту фантасмагорию под ногами. На неопределенной глубине, едва видимая, простерлась чудовищных размеров карта — сложнейшая сеть линий на ней сходилась точно в колонне центральной шахты. Некоторое время они смотрели на все это молча. Затем Хедрон тихо произнес:
— Ты понимаешь, что это такое?
— Думаю, что да, — так же тихо отозвался Олвин. — Это карта всей транспортной системы планеты, а вон те маленькие кружки — это, должно быть, другие города Земли… Я вижу, что возле них написаны какие-то названия, только вот ничего не могу разобрать…
— В прежние времена там, наверное, было внутреннее освещение, — задумчиво проговорил Хедрон. Он внимательно прослеживал взглядом линии под ногами, отходящие к стенам каверны, в которой они находились.
— Так я и думал! — внезапно раздался его возглас. — Ты вот обратил внимание, что все эти радиальные линии тянутся к маленьким туннелям?
Олвин тоже заметил, что помимо огромных арок самодвижущихся дорог были в стенах еще и бесчисленные туннели поменьше, тоже ведущие куда-то в неизвестность, но вот только уклон у них был не вверх, а вниз.
Хедрон тем временем продолжал, не ожидая ответа:
— Более простую систему трудно себе и представить! Люди сходили с самодвижущихся дорог, выбирали по этой вот карте направление к месту, которое нужно было посетить, и все, что им после этого оставалось делать, — это просто следовать определенной линии на карте.
— И что происходило с ними после этого? — задал осторожный вопрос Олвин.
Хедрон молчал, но глаза его пытливо искали разгадку тайны этих идущих вниз туннелей. Их было три или четыре десятка, и все они походили друг на друга. Различить их можно было только по названиям на карте, но нечего было и думать расшифровать эти едва видимые теперь надписи.
Олвин двинулся с места и пошел вокруг центральной колонны. Внезапно Хедрон услышал его голос — несколько искаженный отголосками от стен этой огромной полости.
— Что-что? — переспросил Хедрон, которому ну никак не хотелось трогаться с места, потому что он уже почти разобрал одну едва различимую группу черточек на карте. Но голос Олвина звучал больно уж настойчиво, и Хедрон пошел на зов.
Глубоко под ногами виднелась вторая половина огромной карты, слабые ее штрихи расходились наподобие «розы» на картушке компаса. Здесь, однако, неразличимы были далеко не все надписи: одна из линий — о, только одна! — была ярко освещена. Впечатление складывалось такое, словно она не имеет никакого отношения к остальной части системы. Сияющая стрела указывала на один из меньших туннелей, ведущих куда-то вниз. Вместо острия у этой стрелы был маленький кружок, возле которого светилось единственное слово: «Лиз». И это было все.
Шут и Олвин долго стояли и смотрели на этот золотой символ. Для Хедрона это был вызов, которого ему — он-то это хорошо знал! — никогда было не принять и который, если уж на то пошло, лучше бы и вовсе не существовал. Но Олвину — Олвину надпись намекала на возможность использования всех его самых заветных мечтаний. И хотя слово «Лиз» было для него пустым звуком, он с наслаждением перекатывал во рту это немного звенящее название, радовался ему, как какому-то экзотическому плоду дивного вкуса. Кровь билась у него в венах, щеки пылали лихорадочным румянцем. Он блуждал взглядом по этой огромной подземной пустоте, пытаясь представить себе, что происходило здесь в древности, когда воздушному транспорту уже пришел конец, но города Земли еще поддерживали какой-то контакт друг с другом… Он думал о бессчетном количестве миллионов лет, которые канули куда-то с тех пор, о том, как с каждым таким миллионом движение здесь все затихало и затихало, а огни на огромной карте угасали один за другим, пока не осталась эта вот единственная линия. Как долго, мнилось ему, сияет она здесь, среди своих погасших товарок, в ожидании человека, которого нужно направить и которого все нет и нет?.. И наконец, Ярлан Зей вообще запечатал самодвижущиеся пути и отрезал Диаспар от всего остального мира…
А это было миллиард лет назад. Уже тогда, видимо, Лиз потерял все связи с Диаспаром. Казалось невозможным, чтобы Лиз выжил. Возможно, в конце концов, что эта карта уже не имеет ровно никакого значения…
Хедрон прервал его размышления. Заметно было, что Шут нервничает и чувствует себя не в своей тарелке, — он был совсем не похож на того уверенного и даже самоуверенного человека, каким всегда представлялся там, наверху, в городе.
— Не думаю, что нам надо двигаться еще куда-то дальше, — проговорил Хедрон. — Это может быть… небезопасно, если мы… если мы не будем подготовлены лучше…
Известная мудрость в этом, признаться, была, но Олвин расслышал в голосе Хедрона всего лишь нотку страха. Будь иначе, он, возможно, с большим вниманием отнесся бы к доводам здравого смысла, но слишком острое ощущение собственного мужества вкупе с презрением к робости Шута властно толкало Олвина вперед. Ему представлялось просто глупым — зайти так далеко только для того, чтобы повернуть назад, когда вожделенная цель маячила уже где-то перед глазами.
— Я пойду по этому туннелю, — упрямо заявил он, словно бы даже провоцируя Хедрона остановить его. — Хочу посмотреть, куда он ведет… — Олвин решительно зашагал вперед, и, поколебавшись какое-то мгновение, Шут тоже двинулся за ним вдоль сияющей стрелы, что пылала у них под ногами.
Войдя в туннель, они сразу же ощутили знакомую тягу перистальтического поля, и спустя миг оно без малейшего усилия уже уносило их в глубь земли. Все путешествие продолжалось едва ли более минуты. Когда поле освободило их, они оказались в конце длинного и узкого помещения полуцилиндрической формы. На другом, дальнем его конце два слабо освещенных туннеля уходили куда-то в бесконечность.
Представители едва ли не всех без исключения цивилизаций, которые только существовали на Земле со времен Начала, нашли бы эту обстановку совершенно обычной, но для Олвина и Хедрона это было окном в совершенно иной мир. Загадкой было, к примеру, назначение этой вот длинной, стремительных очертаний машины, которая — так похожая на снаряд — покоилась вдоль стены помещения: хотя о ее функции, в общем-то, можно было догадаться, но менее таинственной она от этого не становилась. Верхняя часть ее была прозрачна, и, глядя сквозь стенки, Олвин видел ряды удобно расположенных кресел. Признаков какого-либо входа в нее не было заметно. Машина парила на высоте что-то около фута над незатейливым металлическим стержнем, который простирался вдаль и исчезал в одном из туннелей. Несколькими метрами дальше другой такой же точно стержень вел в другой туннель — с той лишь разницей, что над ним не было такой же машины. Олвин знал — как если бы ему об этом сказали, — что где-то под далеким и неведомым ему Лизом еще одна такая же машина в таком же помещении, как это, тоже ждет своего часа.
Хедрон вдруг заговорил — быть может, несколько быстрее, чем обычно:
— Какая странная транспортная система! Она может одновременно обслуживать всего лишь какую-то сотню человек… Из этого следует, что они вряд ли рассчитывали на интенсивное движение между городами. И потом — зачем им все эти хлопоты, зачем, спрашивается, было зарываться в землю при все еще доступном небе? Возможно, это Пришельцы не разрешали им летать, хотя мне и трудно в это поверить… Или, может быть, все это было сооружено в переходный период, когда люди еще позволяли себе путешествовать, но уже не хотели, чтобы хоть что-то напоминало им о космосе? Они могли перебираться из города в город и так и не видеть ни неба, ни звезд… — Он хохотнул — коротко и нервно: — Я в одном только уверен. Когда Лиз существовал, он был очень похож на Диаспар. Все города в основе своей были похожи. И неудивительно, что в конце концов они были покинуты людьми, которые стянулись в один центр — в Диаспар. На кой, спрашивается, ляд было им иметь их больше одного?..
Олвин едва слышал Шута. Он был поглощен разглядыванием этого диковинного снаряда, нетерпеливо пытаясь найти вход. Если машина управлялась централизованно или при помощи устного кодового приказа, ему бы ни за что не удалось заставить ее повиноваться ему и она до конца его жизни так и осталась бы сводящей с ума загадкой.
…Беззвучно раскрывшаяся дверь застала его врасплох. Тишина не была тронута ни малейшим шорохом, не прозвучало ни малейшего предупреждения, когда целая секция корпуса просто истаяла и перед ним, готовая его принять, предстала безупречная красота интерьера.
Настал момент выбора. До этого рубежа он всегда мог повернуть назад, стоило ему только захотеть. Но, ступи он в эту так гостеприимно раскрывшуюся дверь, и можно было уже не сомневаться в том, что произойдет после этого, хотя Олвин не имел ни малейшего представления о том, куда именно его привезут. Он предался бы попечению совершенно неизвестных ему сил и лишил бы себя возможности распоряжаться собственной судьбой.
Он не колебался ни мгновения. Он страшно боялся промедлить, боялся, что, коли будет раздумывать слишком долго, этот момент никогда уже не повторится, — у него просто не хватит решимости безоглядно отдаться своему испепеляющему стремлению познать неведомое. Хедрон раскрыл было рот в энергичном протесте, но, прежде чем он произнес хотя бы одно слово, Олвин уже переступил порог. Он обернулся к Хедрону, обрамленному едва видимым прямоугольником дверного проема, и на несколько секунд между ними воцарилось напряженное молчание, когда каждый ждал, чтобы первым заговорил другой.
Решение было принято за них. Что-то прозрачно мигнуло, и корпус машины снова сомкнулся. И не успел Олвин и руки поднять в прощальном приветствии, как длинный цилиндр тихонько тронулся вперед. Еще не войдя в туннель, он уже двигался быстрее бегущего человека.
…Были времена, когда что ни день миллионы людей совершали такие вот путешествия в машинах — в основном такого же типа, как и эта, — между домом и местом работы. С тех давным-давно минувших времен Человек успел обойти Вселенную и снова возвратиться на Землю — после того как основанную им Галактическую Империю вырвали у него из рук. И вот теперь машина снова работала, человек снова устремился куда-то вперед, сидя в салоне, в котором легион ныне забытых, совершенно не склонных к приключениям людей в свое время чувствовали себя совершенно как у себя дома.
С одним только отличием — путешествие Олвина было самым примечательным из всех, которые предпринимались людьми за последний миллиард лет.
…Алистра обошла усыпальницу раз десять (хотя, в сущности, вполне хватило бы и одного) — спрятаться здесь было решительно негде. После первого приступа изумления она стала сомневаться: а были ли те, кого она преследовала по Парку, Олвином и Хедроном во плоти или же она гналась всего-навсего за их электронными фантомами? Впрочем, мысль была не из умных, потому что свой фантом можно было сразу «проявить» в любом месте, которое захотелось бы посетить, и незачем было отправляться куда бы то ни было лично. Ни один человек в здравом рассудке не заставил бы свое отображение отшагать пару миль, затратив на это полчаса, когда на место можно было прибыть мгновенно. Нет, это, конечно же, были Олвин и Хедрон, и именно их она и проводила до усыпальницы.
Следовательно, где-то здесь должен быть тайный вход. И пока она ждет их возвращения, отчего бы его и не поискать?
Так уж получилось, что возвращение Хедрона она прозевала, потому что как раз в этот момент изучала одну из колонн позади скульптуры, а Шут появился совсем с противоположной стороны. Она услышала его шаги, обернулась к нему и сразу поняла, что он один.
— Где Олвин? — закричала она.
Прошло некоторое время, прежде чем Шут ответил. Выглядел он изможденным и каким-то словно в воду опущенным, и Алистре пришлось повторить свой вопрос, и только тогда он обратил на нее внимание. Казалось, он ничуть не был удивлен, увидев се здесь.
— Я не знаю, — ответил наконец Хедрон, — Могу только сказать, что сейчас он — на пути к Лизу. Ну вот… теперь ты знаешь ровно столько же, сколько и я…
Слова Шута никогда не следовало понимать буквально. Но Алистра не нуждалась более ни в каких дополнительных доказательствах того, что сегодня Шут вовсе не играл свою привычную роль. Он говорил ей правду — что бы эта самая правда ни означала.
10
Когда дверь закрылась, Олвин рухнул в ближайшее кресло. Ему почудилось, что ноги внезапно отказались ему служить. Наконец-то и он познал тот ужас перед неизвестным, который преследовал всех его сограждан. Каждая клеточка в нем тряслась от страха, глаза застилала какая-то пелена. Сумей он сейчас вырваться из этой набиравшей скорость машины, он сделал бы это с радостью, даже ценой отказа от своей мечты…
Смял его не только страх, но еще и чувство невыразимого одиночества. Все, что он любил и знал, осталось в Диаспаре. Даже если ему и не грозит никакая опасность, он — как знать? — может никогда больше не увидеть своего мира. Как ни один человек на протяжении миллионов лет, он прочувствовал сейчас, что это значит — навсегда оставить свой дом. В этот момент отчаяния ему казалось совершенно неважным — вела ли эта его тропа к опасности или же была безопасна и ничем ему не грозила. Самое главное было то, что она уводила его от дома.
…Шли минуты. Это настроение медленно истаивало. Темные тени покинули мозг. Олвин начал мало-помалу обращать внимание на окружающее и, в силу своего разумения, разбираться в устройстве невообразимо древнего экипажа, в котором ему' довелось путешествовать. Олвина совершенно не поразило и не показалось в особенности странным то обстоятельство, что эта погребенная под землей транспортная система все еще совсем исправно действует после столь невообразимо долгого перерыва. Ее характеристик не было в запоминающих устройствах городских мониторов, но, должно быть, где-то еще сохранялись аналогичные цепи, предохранившие ее от изменений и разрушения.
И тут он впервые увидел индикаторное табло, составляющее часть переборки. На нем горела короткая, но такая ободряющая надпись:
«ЛИЗ.
35 минут».
Пока он разглядывал эту надпись, число сменилось на «34». По крайней мере, это была полезная информация — хотя, поскольку он не имел ни малейшего представления о скорости машины, она ничуть не прояснила для него вопрос о расстоянии до неведомого города. Стены туннеля сливались в однородную серую массу, и единственным признаком движения была совсем слабенькая вибрация, которой ему бы и не заметить, если бы он не стал с особенным вниманием вживаться в окружающее.
К этому моменту Диаспар, должно быть, отстоял от него уже на многие и многие мили, и теперь над головой Олвина, надо полагать, простиралась пустыня с ее неотвратимо перекатывающимися барханами. Очень могло быть, что вот в этот самый момент он мчался как раз под теми древними холмами, которые так часто разглядывал из башни Лоранна.
Его воображение стремглав уносилось к Лизу, словно торопясь прибыть туда ранее тела. Что же это будет за город? Как ни старался Олвин, он мог представить себе всего только уменьшенную копию Диаспара. Да и существует ли он еще? — думалось ему… Но он быстро убедил себя, что, будь иначе, машина не несла бы его с такой стремительностью сквозь пласты земли.
Внезапно вибрация пола приобрела совершенно иной характер. Странный экипаж замедлял движение — это было несомненно! Время, видимо, бежало быстрее, чем казалось Олвину. Он глянул на табло и несколько удивился — надпись гласила: «Лиз. 23 минуты».
Ничего не понимая, немного обеспокоенный, он прижался лицом к прозрачной стенке машины. Скорость все еще смазывала облицовку туннеля в сплошную серую ленту, но все же теперь он уже успевал схватывать взглядом какие-то загадочные отметки, которые исчезали с такой же стремительностью, как и появлялись. Но всякий раз, прежде чем исчезнуть, они, казалось, уже чуть-чуть дольше задерживались на сетчатке глаза.
Затем, совсем неожиданно, стены туннеля с обеих сторон отпрыгнули в стороны. Все еще на огромной скорости, машина теперь мчалась сквозь огромное пустое пространство — куда более просторное, чем даже та пещера самодвижущихся дорог под Парком.
С изумлением оглядываясь по сторонам, Олвин заметил внизу сложную сеть направляющих стержней, которые сходились, перекрещивались и ныряли в туннели по обе стороны от его экипажа. Поток голубоватого света лился из-под выгнутого купола арочного потолка, обрисовывая силуэты огромных транспортных машин. Свет был настолько ослепительным, что было больно глазам, и Олвин догадался, что место это не было предназначено для человека. Мгновением позже его экипаж стремглав промчался мимо нескольких рядов цилиндров, недвижно паривших над своими направляющими. Они были значительно больших размеров, чем тот, в котором он находился, и Олвин догадался, что они, должно быть, использовались для перевозки грузов. Вокруг них громоздились какие-то совершенно непонятные механизмы — замершие, остывшие…
Это циклопическое и такое пустынное помещение исчезло почти так же стремительно, как и возникло. Образ его вызвал в сознании Олвина что-то похожее на благоговение. Впервые он осознал значение той огромной затененной карты под Диаспаром. Мир оказался куда более полон чудесами, чем ему когда-либо представлялось.
Олвин снова глянул на табло. Ничто не изменилось: ему понадобилось меньше минуты, чтобы промелькнуть через пустынную станцию. Машина снова набирала скорость, и, хотя движение по-прежнему почти не ощущалось, стены туннеля уже отбрасывались назад с быстротой, о порядке которой он не мог и догадываться.
Казалось, целая вечность прошла, прежде чем снова наступило почти неощутимое изменение в характере вибрации. Теперь на табло значилось: «Лиз. 1 минута».
Минута эта оказалась самой долгой в жизни Олвина. Медленно, еще медленнее двигалась машина… И на этот раз она не просто замедляла свой ход. Она — останавливалась!..
Плавно, в абсолютной тишине удлиненный цилиндр выскользнул из туннеля в помещение, которое могло бы сойти за двойника того, что простиралось под Диаспаром. Несколько мгновений сильнейшее волнение мешало Олвину что-либо разглядеть. Двери давно уже были раскрыты, но он как-то не вдруг осознал, что может покинуть свой экипаж. Торопливо выходя из машины, он в последний раз бросил взгляд на табло. Надпись на нем изменилась теперь на противоположную, и смысл ее оказался бесконечно ободряющ: «Диаспар. 35 минут».
Когда Олвин занялся поисками выхода из этого помещения, он углядел первый намек на то, что, возможно, находится теперь в стане цивилизации, отличающейся от его собственной. Выход на поверхность — это-то было ясно — лежал через низкий и широкий туннель в торце станции, и пол в этом туннеле был не чем иным, как лестницей! В Диаспаре лестницы встречались чрезвычайно редко. Архитекторы города везде, где их замыслы сталкивались с перепадом уровней, строили пандусы.
Это было отголоском той эпохи» когда роботы передвигались на колесах и ступеньки были для них непреодолимым препятствием.
Лестничный пролет оказался очень коротким и закончился перед дверьми» которые при приближении Олвина автоматически растворились. Он ступил в небольшую комнатку, схожую с той, что опустила его из-под фигуры Ярлана Зея, и совсем не удивился, когда спустя несколько минут перед ним снова растворились двери, открыв взору сводчатый коридор, полого поднимающийся к арке, которая своим полукругом обрамляла кусочек неба. В лифте он опять не почувствовал никакого движения, но понимал, что, наверное, поднялся на многие сотни футов. Он поспешил вверх по коридору к залитому солнечным светом выходу, торопясь поскорее увидеть, что же лежит перед ним, и позабыв обо всех своих страхах.
Он очутился на склоне низкого холма, и на какое-то мгновение ему даже почудилось, будто он снова находится в центральном Парке Диаспара. Быть может, это и в самом деле был какой-то парк, но разум отказывался охватить его размеры. Города, который он ожидал увидеть, не было. Насколько хватало глаз, вокруг не было ничего, кроме леса и ровных пространств, заросших травой.
Олвин перевел взгляд на горизонт, и там, над кромкой деревьев, простираясь справа налево исполинской дугой, замыкающей в себе мир, темнела каменная гряда, но сравнению с которой даже самые гигантские сооружения Диаспара показались бы карликами. Гряда эта лежала так далеко, что детали ее скрадывались расстоянием, но все-таки угадывалось в ее очертаниях что-то такое, что до глубины души поразило Олвина. Наконец его глаза приноровились к пространствам этого необъятного ландшафта, и он понял, что эти каменные исполины были нерукотворны.
Время поработило далеко не все. Земля и по сей день была обладательницей гор, которыми она могла бы гордиться.
Олвин долго стоял в устье туннеля, постепенно привыкая к этому странному миру, в котором так неожиданно очутился. Он почти лишился дара речи — такое впечатление произвели на него уже просто сами размеры окружающего его пространства. Это кольцо прячущихся в дымке гор могло бы заключить в себе и десяток таких городов, как Диаспар. Но, как ни вглядывался Олвин, он так и не мог обнаружить никаких следов присутствия человека. И тем не менее дорога, сбегавшая с холма, находилась в ухоженном состоянии. Ему ничего не оставалось, как довериться ей.
У подножия холма дорога исчезала среди огромных деревьев, почти скрывающих солнце. Странный букет запахов и звуков опахнул Олвина, когда он ступил под их кроны. Ему и раньше знаком был шорох ветра в листве, но здесь, кроме этого, звенела еще и самая настоящая симфония каких-то слабеньких звуков, значения которых он не угадывал. Неведомые ароматы охватили его — ароматы, даже память о которых была утрачена человечеством. Это тепло, это обилие запахов и цвета, да еще невидимое присутствие миллионов живых существ обрушились на него с почти ощутимой силой.
Встреча с озером оказалась полной неожиданностью. Деревья справа внезапно кончились, и он очутился перед обширнейшим водным пространством, усыпанным крохотными островками. Никогда в жизни Олвин не видел такой воды. По сравнению с этим озером самые обширные бассейны Диаспара выглядели не более чем лужами. Он медленно спустился к самой кромке воды, зачерпнул в пригоршни теплую влагу и стал смотреть, как она струйками стекает у него меж пальцев.
Огромная серебристая рыбина, внезапно появившаяся из колыхающегося леса водорослей, стала первым живым существом, отличным от человека, которое Олвину довелось увидеть в своей жизни. Рыбина висела в зеленоватой пустоте, и плавники ее были размыты стремительным движением — она была живым воплощением скорости и силы. Претворенные в линиях этого живого тела, продолжали свой век изящные очертания тех огромных кораблей, что когда-то владели небом Земли. Эволюция и наука пришли к одному и тому же ответу, только вот дитя природы просуществовало гораздо дольше.
Наконец Олвин высвободился из-под завораживающего очарования озера и продолжил свой путь по извивающейся дороге. Лес снова сомкнулся над ним — но ненадолго. Дорога внезапно кончилась — обширным пустым пространством шириной в полмили и вдвое большей длины, и Олвин понял, почему до сих пор он не встретил никаких следов человека.
Пространство это оказалось заполненным низкими двухэтажными строениями, выкрашенными в мягкие тона, глядеть на которые глазу было приятно даже при полном сиянии солнца. Большинство этих домов были ясных, простых пропорций, но некоторые выделялись каким-то сложным архитектурным стилем с использованием витых колонн и изящной резьбы по камню. В этих постройках, которые казались очень старыми, была использована даже непостижимо древняя идея остроконечной арки.
Медленно приближаясь к селению, Олвин прилагал все старания, чтобы побыстрее освоиться с новым окружением. Все здесь было незнакомо. Даже сам воздух был иным — неощутимо пронизанный биением неведомой жизни. А золотоволосые люди небольшого роста, двигающиеся между домами с такой непринужденной фацией, совершенно ясно, были совсем не такими, как жители Диаспара.
Они не обращали на Олвина ни малейшего внимания, и это было странно, поскольку уже и одеждой он отличался от них. Температура воздуха в Диаспаре всегда была неизменной, и поэтому одежда там носила чисто декоративный характер и подчас обретала весьма сложные формы. Здесь же она казалась в основном функциональной, сшитой для того, чтобы в ней было удобно ходить, а не исключительно ради украшательства, и у многих состояла всего-навсего из целого куска ткани, обернутого вокруг тела.
Только когда Олвин уже углубился в поселок, люди Лиза отреагировали на его присутствие, да и то их реакция приняла несколько необычную форму. Двери одного из домов выпустили группу из пяти человек, которая направилась прямехонько к нему, — выглядело это все так, как если бы они, в сущности, ожидали его прибытия. Сильнейшее волнение внезапно овладело Олвином, и кровь застучала у него в венах. Ему подумалось обо всех знаменательных встречах, которые состоялись у Человека с представителями других рас на далеких мирах. Люди, которых он встретил здесь, принадлежали к его собственному виду — но какими же стали они за те эпохи, что разделили их с Диаспаром?
Депутация остановилась в нескольких шагах от Олвина. Ее предводитель улыбнулся и протянул руку в старинном жесте дружбы.
— Мы решили, что будет лучше всего встретить вас здесь, — проговорил он. — Наш дом весьма отличен от Диаспара, и путь пешком от станции дает возможность гостю… ну, что ли, несколько акклиматизироваться.
Олвин принял протянутую руку, но некоторое время молчал, так как был слишком взволнован, чтобы отвечать. И еще ему стало понятно, почему все остальные жители поселка не обращали на него никакого внимания.
— Вы знали, что я иду к вам? — спросил он после паузы.
— Ну конечно, — последовал ответ. — Нам всегда становится известно, что вагон пришел в движение. Но скажите — как вы нашли к нам путь? С момента последнего посещения минуло так много времени, что мы уже стали опасаться — а не утрачена ли тайна безвозвратно…
Говорящего прервал один из спутников:
— Мне думается, Джирейн, что нам пока следует сдержать свое любопытство. Сирэйнис ждет.
Имени Сирэйнис предшествовало какое-то незнакомое Олвину слово, и он подумал, что это, должно быть, титул. Он понимал речь своих собеседников безо всякого труда, и ему и в голову не приходило, что в этом заключается что-то удивительное. У Диаспара и Лиза было одно и то же лингвистическое наследие, а изобретение еще в древности звукозаписывающих устройств давным-давно обеспечило речи неколебимость форм.
С видом насмешливой покорности судьбе Джирейн пожал плечами.
— Хорошо, — улыбнулся он. — У Сирэйнис не так уж много привилегий — не стану лишать ее хотя бы этой.
Они двигались тесной группой, все дальше углубляясь в селение, и Олвин с любопытством разглядывал окружающих его людей. Они представлялись добрыми и интеллигентными, но все это были такие добродетели, которые он на протяжении всей жизни принимал как нечто само собой разумеющееся, и теперь он искал черты, которые отличали бы этих людей от диаспарцев. Отличия существовали, только вот четко определить их было бы довольно затруднительно. Все местные были несколько ниже ростом, чем Олвин, и двоих из тех, кто вышел его встречать, отмечали безошибочные пометы возраста. Кожа у всех была коричневого цвета, а движения, казалось, прямо-таки излучали здоровье и энергию. Олвину это было приятно, хотя и казалось несколько удивительным. Он улыбнулся, припомнив предсказание Хедрона, что если он, Олвин, когда-нибудь и доберется до Лиза, то найдет его как две капли воды похожим на Диаспар.
Теперь жители селения уже с открытым любопытством наблюдали, как шагает Олвин среди своих сопровождающих. Никто уже не делал вид, что воспринимает его как нечто само собой разумеющееся. Внезапно из купы деревьев справа раздались пронзительные крики, и стайка крохотных, оживленно галдящих созданий, вырвавшись из леса, подбежала и сгрудилась вокруг Олвина. Он остановился, пораженный, не веря глазам своим. Перед ним было нечто, утраченное его миром так давно, что теперь относилось уже чуть ли не к области мифологии. Вот так когда-то начиналась жизнь… Эти вот ни на что не похожие, шумные создания были человеческими детьми!
Олвин разглядывал их с изумлением и с изрядной долей недоверчивости. И, надо сказать» и с еще каким-то чувством» которое щемило ему грудь» но подобрать названия которому он не умел. Ничто другое здесь не могло бы так живо напомнить ему его собственную удаленность от мира, который был ему так хорошо известен. Диаспар заплатил за свое бессмертие — втридорога…
Вся группа остановилась перед самым большим домом из всех, что до сих пор увидел Олвин. Дом стоял в самом центре поселка, и на флагштоке над его куполом легкий ветерок полоскал зеленое полотнище.
Когда Олвин ступил внутрь, все, кроме Джирейна, остались снаружи. Внутри было тихо и прохладно. Солнце, проникая сквозь полупрозрачные стены, озаряло интерьер мягким, спокойным сиянием. Пол, украшенный мозаикой тонкой работы, оказался гладким и несколько упругим. На стенах какой-то замечательно талантливый художник изобразил ряд сцен, происходящих в лесу. Картины перемежались мозаикой, мотивы которой ничего не говорили уму Олвина, но глядеть на нее было приятно. В одной из стен оказался притоплен прямоугольный экран, заполненный перемежающимися цветными узорами, — по-видимому, это было приемное устройство видеофона, хотя и достаточно маленькое.
Вместе с Джирейном они поднялись по недлинной винтовой лестнице, которая вывела их на плоскую крышу дома. Отсюда хорошо было видно все селение, и Олвин смог убедиться, что состоит оно из что-то около согни построек. Там, вдали, лес расступался и кольцом охватывал просторные луга, где паслись животные нескольких видов. Олвин и вообразить себе не мог, чем бы они могли быть. Большинство из этих животных принадлежали к четвероногим, но некоторые, похоже, передвигались на шести и даже на восьми конечностях.
Сирэйнис ожидала его в тени башни. «Сколько же лет этой женщине?» — спросил себя Олвин. Ее длинные, солнечного цвета волосы были тронуты серебром, что, как он догадался, должно было каким-то образом указывать на ее возраст. Дело в том. что существование здесь детей, со всеми вытекающими отсюда последствиями, совсем запутало Олвина. Ведь там, где есть рождение, там, несомненно, должна существовать и смерть; и продолжительность жизни здесь, в Лизе, по-видимому, сильно отличалась от того, что имело место в Диаспаре. Он никак не мог решить — было ли Сирэйнис пятьдесят лет, пятьсот или пять тысяч, но, встретив ее взгляд, он почувствовал ту же мудрость и глубину опыта, которые он порой ощущал в присутствии Джизирака.
Она указала ему на низкое сиденье. Хотя глаза ее и приветливо улыбались, она не произнесла ни слова, пока Олвин не устроился поудобнее — или, по крайней мере, настолько удобно, насколько сумел под этим дружелюбным, но достаточно пристальным взглядом. Затем Сирэйнис вздохнула и низким, нежным голосом обратилась к гостю:
— Это случай, который выпадает нечасто, поэтому извините меня, если я, возможно, не все делаю по правилам. Но у гостя, даже совершенно неожиданного, есть определенные права. Поэтому, прежде чем мы начнем беседу, я хотела бы предупредить вас кое о чем… Видите ли, я в состоянии читать ваши мысли.
Она улыбнулась мгновенной вспышке недоумения, окрашенного неприязнью, и быстро добавила:
— Но вас это вовсе не должно тревожить. Ни одно из прав человека у нас не соблюдается так свято, как право на уединение сознания. Я могу войти в ваше мышление только в том случае, если вы мне это позволите. Однако скрыть от вас сам факт было бы нечестно, и заодно это объяснит вам, почему мы находим устную речь до некоторой степени утомительной и медленной. Ею здесь пользуются не столь уж часто.
Откровение это хотя и несколько встревожило Олвина, но, в общем-то, не слишком поразило. Когда-то этой способностью обладали и люди, и машины, а механизмы в Диаспаре, не изменяющиеся с течением времени, и по сию пору могли воспринимать мысленные приказы своих повелителей. Но вот сами-то жители Диаспара утратили этот дар, который когда-то они разделяли со своими механическими рабами.
— Я не знаю, что привело вас из вашего мира в наш, — продолжала Сирэйнис, — но коль скоро вы искали встречи с живыми существами, ваш поиск завершен. Если не считать Диаспара, то за кольцом наших гор, кроме пустыни, нет ничего.
Было странно, что Олвин, который прежде так часто подвергал сомнению общепринятые взгляды, ни на мгновение не усомнился в словах Сирэйнис. Единственное, чем откликнулся он на ее лекцию, была печаль по поводу того, что все, чему его учили, оказалось так близко к истине.
— Расскажите мне о Лизе, — попросил он. — Почему вы так долго были отъединены от Диаспара? Хотя, похоже, вы знаете о нас так много…
Сирэйнис улыбнулась его нетерпению.
— Да расскажу я, все я вам расскажу. — почти пропела она, — но сначала я хотела бы узнать кое-что о вас лично. Прошу вас… Как вы нашли дорогу к нам? И еще — почему вы пришли?
Несколько запинаясь поначалу, но потом все более и более уверенно Олвин поведал свою историю. Никогда прежде не случалось ему говорить так свободно. Перед ним был человек, который, как ему представлялось, уж точно не станет потешаться над его мечтами, потому что знает: эти мечты реальны, осуществимы… Раз или два Сирэйнис прервала его короткими вопросами — когда он касался каких-то моментов жизни в Диаспаре, которые не были ей известны. Ему так трудно было вообразить, что реалии его повседневного существования кому-то покажутся бессмысленными, поскольку вопрошающий никогда не жил в его городе и ничего не знает о его сложной культурной и социальной организации… Но Сирэйнис слушала с таким участием, и он как должное воспринимал, что она все понимает. Много позже он осознал, что помимо Сирэйнис его рассказ слушало еще огромное число людей.
Когда он закончил свое повествование, на некоторое время воцарилось молчание. Затем Сирэйнис взглянула на него и тихо произнесла:
— Почему вы пришли в Лиз?
Олвин посмотрел на нее с изумлением.
— Я же сказал вам. Я хотел исследовать мир. Все твердили мне, что за пределами города нет ничего, кроме пустыни, но я должен был сам в этом убедиться…
— И это — единственная причина?
Олвин поколебался немного. И когда он наконец ответил, это был уже не бестрепетный исследователь, а заблудившийся ребенок, рожденный в чужом мире:
— Нет… Не единственная… Хотя до сих пор я этого и не понимал. Я… я чувствовал себя одиноким…
— Одиноким? В Диаспаре? — На губах Сирэйнис играла улыбка, но в глазах светилось сочувствие, и Олвин понял, что этой женщине не нужно ничего объяснять.
Теперь, когда он рассказал свою историю, он ждал, чтобы и его собеседница выполнила уговор. Не мешкая, Сирэйнис поднялась и стала медленно прохаживаться по крыше.
— Я знаю, о чем вы собираетесь спрашивать, — начала она. — На некоторые из этих вопросов я могу дать ответ, но делать это с помощью слов было бы слишком утомительно. Если вы откроете мне свое сознание, я передам ему все, что вам хочется узнать.
Можете мне довериться: без вашего разрешения я не прочту ни мысли.
— И что я должен сделать? — осторожно осведомился Олвин.
— Настройтесь на то, чтобы получить мою помощь, — смотрите мне в глаза и постарайтесь забыть обо всем, — скомандовала Сирэйнис.
Что произошло затем, Олвин так и не понял. Все его чувства, казалось, полностью выключились, и хотя он так никогда потом и не мог припомнить, как же это случилось, но, вслушавшись в себя, он вдруг с изумлением обнаружил, что знает все.
Он видел прошлое — правда, не совсем отчетливо, как человек, стоящий на вершине горы, мог бы видеть скрывающуюся в дымке равнину. Он понял, что люди не всегда жили в городах и что с тех пор, как машины освободили их от тяжкого труда, начался спор между двумя цивилизациями различного типа. На протяжении столетий и столетий периода Начала существовали тысячи городов, однако большая часть человечества предпочитала жить сравнительно небольшими поселениями. Все-земной транспорт и мгновенные средства связи давали людям возможность осуществлять все необходимые контакты с остальным миром, и они не испытывали ни малейшей необходимости ютиться в тесноте городов, в толчее миллионов своих современников.
Лиз в те ранние времена мало чем отличался от сотен других поселений. Но постепенно, по мере того как проходили столетия, он сумел создать независимую культуру, которая относилась к категории самых высокоразвитых из когда-либо известных человечеству. По большей части культура эта была основана на непосредственном использовании психической энергии, и именно это вот обстоятельство и отъединило ее от остальной части человеческого общества, которое все больше и больше полагалось на широкое использование механизмов.
Эпохи сменяли одна другую, и, по мере того как эти два типа цивилизаций продвигались вперед по своим столь разнящимся путям, пропасть между Лизом и остальными городами все расширялась. Она становилась преодолимой лишь в периоды серьезных кризисов. Когда Луна стала падать на Землю, разрушили ее именно ученые Лиза. Так же было и с защитой Земли от Пришельцев, которых отбросили после решающей битвы у Шалмирейна…
Исполинское это усилие истощило человечество. Города один за другим стали приходить в упадок, и пустыня барханами накатывалась на них. По мере того как численность населения падала, человечество начало мигрировать, в результате чего Диаспар и остался последним — и самым большим — из всех городов.
Большая часть всех этих перемен никак не отозвалась на Лизе, но ему пришлось вести свою собственную битву — против пустыни. Естественного барьера гор оказалось совсем недостаточно, и прошло множество столетий, прежде чем людям удалось обеспечить безопасность своему оазису. В этом месте картина, возникшая перед внутренним взором Олвина, несколько размывалась. Возможно, это было сделано намеренно. В результате Олвин никак не мог уразуметь, что же обеспечило Лизу ту же вечность бытия, которой обладал его Диаспар.
Впечатление было такое, что голос Сирэйнис пробивается к нему с огромного расстояния, — и все же это был не только ее голос, поскольку в мозгу Олвина звучала целая симфония слов — как будто одновременно с Сирэйнис говорили еще многие и многие другие.
— Такова вкратце наша история. Вы видите, что даже в эпоху Начала у нас было очень мало общего с городами, хотя их жители достаточно часто посещали наши земли. Мы никогда им не препятствовали, поскольку многие из наших величайших умов были пришельцами извне, но когда города стали умирать, мы не захотели оказаться вовлеченными в их падение. И вот, когда воздушный транспорт перестал функционировать, в Лиз остался только один путь — через транспортную систему Диаспара. С нашей стороны она была запечатана, когда в центре вашего города разбили Парк, и вы забыли про нас, хотя мы о вашем существовании не забывали никогда.
Диаспар поразил нас. Мы ожидали, что и его постигнет судьба других городов, но вместо этого он сумел развить стабильную культуру, которая, по всей вероятности, будет существовать до тех пор, пока существует сама Земля. Мы не в восхищении от этой культуры и до некоторой степени даже рады, что те, кто стремился ускользнуть от нее, смогли это сделать. Куда больше людей, чем вы можете себе представить, предприняли такое же вот подземное путешествие, и почти всегда они оказывались людьми выдающимися, которые, приходя в Лиз, приносили с собой нечто ценное…
Голос сошел на нет. Паралич чувств у Олвина постепенно проходил, он снова становился самим собой. С удивлением он обнаружил, что солнце уже опустилось далеко за деревья, а небо на востоке напоминает о наступлении ночи. Откуда-то плыл вибрирующий стон огромного колокола. Он медленно растворялся в тишине, наполняя воздух напряжением какой-то тайны и предчувствием чего-то необыкновенного. Олвин обнаружил, что слегка дрожит, — и не от первого вечернего холодка, а от благоговения и изумления перед всем тем, что ему довелось узнать. Ему вдруг остро захотелось снова увидеть своих друзей, снова оказаться среди такого знакомого окружения Диаспара.
— Я должен вернуться, — сказал он. — Хедрон… мои родители… они будут меня ждать…
Это не совсем было правдой. Хедрон, конечно, станет удивляться — что это такое с ним приключилось, но, насколько понимал Олвин, о том, что он покинул Диаспар, больше не знал никто. Он не смог бы объяснить побудительные мотивы этой маленькой неправды и, как только произнес эти слова, сразу же застыдился себя.
Сирэйнис задумчиво посмотрела на него.
— Боюсь, что все это не так просто, — проговорила она.
— Что вы имеете в виду? — спросил Олвин. — Разве машина, которая привезла меня сюда, не в состоянии отправить меня и обратно? — Он никак не мог свыкнуться с мыслью, что его могут задержать в Лизе помимо его воли, хотя что-то подобное и промелькнуло у него в голове.
Впервые за все время Сирэйнис, похоже, почувствовала некоторую неловкость.
— Мы сейчас говорим о вас, — сказала она, не объясняя, кто это — «мы» и каким образом могла происходить такая консультация. — Если вы возвратитесь в Диаспар, о нашем существовании узнает весь город. Даже если вы пообещаете никому ничего не рассказывать, вы все равно не сможете сохранить наше существование в тайне.
— А зачем хранить его в тайне? — удивился Олвин. — Я уверен, что для обоих наших народов будет только хорошо, если они снова смогут встретиться и начать сосуществовать…
Сирэйнис, казалось, была чем-то недовольна:
— Мы так не считаем. Стоит только воротам раствориться, как нашу землю наводнят праздные, любопытствующие искатели сенсаций. До сих пор до нас добирались только самые лучшие из ваших людей…
Этот ответ содержал в себе столько бессознательного превосходства и в то же время был основан на столь ложных предпосылках, что Олвин почувствовал, как подступившее раздражение совершенно вытеснило в нем тревогу.
— Все это совершенно не так, — без околичностей заявил он. — Я глубоко убежден, что во всем Диаспаре не найдется ни единого человека, который бы покинул город — если бы даже и захотел, если бы даже он знал, что ему есть куда отправиться. Поэтому, если вы разрешите мне вернуться, на Лизе это ну никак не скажется…
— Это не мое решение, — объяснила Сирэйнис. — И вы недооцениваете возможностей и сил человеческого сознания, если полагаете, будто барьеры, которые удерживают жителей Диаспара в границах города, не могут быть устранены. Тем не менее у нас нет ни малейшего желания удерживать вас здесь против вашей воли, хотя, если вы намереваетесь все-таки вернуться в Диаспар. мы будем вынуждены стереть из вашей памяти все воспоминания о нашей земле. — Она чуть помедлила. — Этот вопрос никогда прежде не поднимался. Все ваши предшественники приезжали к нам навсегда.
Олвин оказался перед выбором, который он отказывался принимать. Ему хотелось исследовать Лиз, узнать все его тайны, открыть для себя те его стороны, которыми он отличается от его родины, но в то же самое время он был преисполнен решимости возвратиться в Диаспар, чтобы доказать друзьям, что он вовсе не какой-то праздный мечтатель. Он никак не мог понять этого стремления сохранить тайну Лиза. Но и, пойми он его, это ничуть не сказалось бы на его намерениях.
Он понял, что должен выиграть время или же убедить Сирэйнис в том, что то, о чем она его просит, совершенно невозможно.
— Но ведь Хедрон знает, где я, — возразил он, — Вы же не можете стереть и его память.
Сирэйнис улыбнулась. Улыбка была приятна, и в других обстоятельствах она показалась бы достаточно дружелюбной. Но сейчас за ней Олвин впервые уловил присутствие ошеломляющей, неумолимой силы.
— Вы недооцениваете нас, Олвин, — прозвучал ответ. — Сделать это совсем нетрудно. Я могу добраться до Диаспара куда быстрей, чем, скажем, требуется, чтобы из конца в конец пересечь Лиз. Некоторые из тех, кто прибывал к нам прежде, сообщали друзьям, куда именно они направляются. И все же друзья эти забыли про них. Эти люди просто исчезли из истории Диаспара…
Было бы глупо отвергать такую возможность, и теперь, когда Сирэйнис указала на нее, она представлялась совершенно очевидной. Олвин задумался, сколько раз за эти миллионы лет, протекшие с тех пор, как разделились две культуры, люди Лиза проникали в Диаспар с тем, чтобы охранить свою так ревностно оберегаемую тайну. И еще — он задумался и над тем, насколько могущественны силы мозга, находящиеся в распоряжении этих странных людей и без колебаний приводимые ими в движение.
Не грозило ли ему какой-нибудь опасностью — строить какие бы то ни было планы вообще? Сирэйнис обещала, что не станет читать его мысли без его согласия, но нет ли обстоятельств, в которых это обещание останется невыполненным?
— Вы, конечно, не ожидаете, чтобы я немедленно принял решение, — проговорил он. — Не могу ли я, прежде чем сделать выбор, хотя бы немного познакомиться с вашей страной?
— Ну конечно же, — немедленно отозвалась Сирэйнис, — Оставайтесь у нас столько, сколько вам захочется, и в конце концов вы все же сможете возвратиться в Диаспар, если не передумаете. Но если бы вы приняли решение в течение следующих нескольких дней, это бы упростило дело. Вам ведь не хочется, чтобы ваши друзья волновались, а чем дольше вы у нас пробудете, тем труднее для нас будет сделать соответствующие поправки.
Это Олвин мог оценить. Ему бы только хотелось знать, что это за «поправки». По всей вероятности, кто-то из Лиза войдет в контакт с Хедроном — о чем Шут даже и подозревать-то не будет — и займется его сознанием. Сам факт отсутствия Олвина скрыт быть не может, но вот информация, которую они с Хедроном обнаружили, окажется уничтоженной. И по мере того как будут проходить столетия, имя Олвина станет в один ряд с именами тех Неповторимых, которые загадочным образом исчезли без следа и были забыты…
Здесь было множество тайн, и он, похоже, ничуть не приблизился к разгадке хотя бы одной из них. Но существовала ли какая-то цель за этими странными односторонними отношениями Лиза и Диаспара, или же это всего лишь проявлялась некая историческая случайность? Кто и что были эти Неповторимые, и если жители Лиза могли проникать в Диаспар, то почему же тогда они не отключили те цепи Хранилищ Памяти, где содержится информация, дающая ключ к их обнаружению? Это был, видимо, единственный вопрос, на который Олвин и сам мог дать более или менее правдоподобный ответ. Центральный Компьютер, должно быть, оказался слишком неподатливым для такого рода шуток, и вряд ли даже с помощью самых тонких приемов парапсихологии к нему можно было подобрать отмычку.
Он оставил все эти проблемы в стороне. Кто знает, может быть, у него и появится шанс ответить на них, когда он узнает побольше. Что толку предаваться бесплодным размышлениям, возводя пирамиды догадок на песке неосведомленности…
— Что ж, хорошо, — сказал он, может быть, не совсем вежливо, потому что все еще был раздражен этим неожиданным препятствием, вставшим на его пути. — Как только смогу — сразу же дам вам ответ. Если вы покажете мне, какова же она, ваша земля.
— Вот и прекрасно, — воскликнула Сирэйнис, и на этот раз Олвин не усмотрел никакой скрытой угрозы в ее улыбке, — Мы гордимся Лизом, и нам будет приятно показать вам, как это люди могут обходиться без городов. И пожалуйста, ни о чем не беспокойтесь: друзья в Диаспаре не будут встревожены вашим отсутствием. Мы позаботимся об этом — хотя бы ради вашего собственного благополучия.
Сирэйнис впервые в жизни дала обещание, которого она не смогла выполнить…
11
Как Алистра ни пыталась, никаких больше сведений выудить у Хедрона ей не удалось. Шут быстро оправился от первоначального шока и от той паники, которая буквально вытолкнула его на поверхность, когда он остался в полном одиночестве под усыпальницей Зея. Кроме того, он стыдился своей трусости и в то же время спрашивал себя — достанет ли у него духу в один прекрасный момент вернуться в пещеру самодвижущихся дорог и расходящихся по всему свету туннелей? Хотя он и понимал, что Олвином двигал не столько здравый смысл, сколько нетерпение, если не глупость, ему, в сущности, не верилось, что тому угрожает какая-то опасность. В свое время он возвратится. В этом-то Хедрон был убежден. Ну почти убежден: сомнений оставалось ровно настолько, чтобы понудить его соблюдать осторожность. Будет мудро, решил он, пока суть да дело, распространяться обо всем этом как можно меньше и представлять все случившееся просто как еще одну свою проделку.
К несчастью для этого превосходного плана, он не сумел скрыть обуревавшие его чувства, когда по возвращении на поверхность перед ним предстала Алистра. Она усмотрела в его глазах страх, безошибочный страх, и тотчас же истолковала его в том смысле, что Олвину грозит какая-то опасность. Напрасны оказались все заверения Хедрона — Алистра пилась на него все больше и больше, когда они вместе возвращались через Парк.
Сначала она хотела остаться около усыпальницы — подождать Олвина, каким бы загадочным образом он ни исчез. Хедрону удалось убедить ее, что это будет зряшная трата времени, и, когда она последовала за ним в город, у него несколько отлегло от сердца. Нельзя было сбрасывать со счетов возможность того, что Олвин вернется почти тотчас же, и Хедрону не хотелось, чтобы кто-то еще оказался посвященным в тайну Ярлана Зея.
К тому времени, когда они достигли первых зданий города, Хедрону стало ясно, что его тактика увиливания от ответов полностью провалилась и ситуация самым драматическим образом вышла из-под контроля. Впервые в жизни Шут просто растерялся и не нашел способа справиться с возникшей проблемой. Изначальная его реакция — подсознательный страх — медленно уступала место более глубокой и более обоснованной тревоге. До сих пор Хедрон придавал мало значения последствиям своих поступков. Его собственные интересы и некоторая, совершенно искренняя симпатия к Олвину были достаточным мотивом для всею, что он сделал. Да, он поощрял и поддерживал Олвина, но ему и в голову не приходило, что может произойти что-то похожее на то, что сейчас произошло.
Несмотря на разницу лет и пропасть опыта, разделяющие их, воля Олвина всегда оказывалась сильнее, чем его собственная. С этим теперь уже ничего нельзя было поделать. Хедрон чувствовал, что события уже сами несут его к какой-то высшей точке и от него, собственно, уже ничто не зависит.
Учитывая все это, было как-то не совсем справедливо, что Алистра, по всей вероятности, считала его чем-то вроде алого гения Олвина и вовсю демонстрировала склонность винить во всем случившемся именно его. Алистрой при этом двигала отнюдь не мстительность. Она была просто раздосадована, и часть этой ее досады фокусировалась на Хедроне. И если бы какие-то ее действия причинили Шуту беспокойство, она нимало бы об этом не пожалела.
Они расстались в каменном молчании, когда дошли до могучей кольцевой магистрали, опоясывающей Парк. Хедрон глядел девушке вслед, пока она не исчезла из виду, и устало думал о том, какие же еще планы могут созревать сейчас в этой юной головке.
Он мог быть уверен только в одном: отныне на протяжении некоторого времени ему может угрожать все что угодно, кроме скуки.
Что же касается Алистры, то она действовала быстро и не без некоторого озарения. Она не стала тратить времени на розыски Эристона и Итании. Родители Олвина, с ее точки зрения, были не более чем милыми ничтожествами, к которым она относилась не без приязни, однако решительно безо всякого уважения. Они только бы упустили время в пустых препирательствах, а затем поступили бы точно так же, как Алистра поступала сейчас.
Джизирак выслушал ее рассказ, не проявляя внешне ровно никаких чувств. Если он и был взволнован или удивлен, то хорошо это скрывал — настолько хорошо, что Алистра даже испытала некоторое разочарование. Ей представлялось, что до сих пор в городе никогда не происходило ничего столь же важного и необычного, и деловой подход Джизирака как-то несколько охладил ее пыл. Когда она закончила свое повествование, Джизирак задал ей несколько вопросов и намекнул, не выразив этого в каких-то определенных выражениях, что она, возможно, просто ошиблась. Какие у нее были причины полагать, что Олвин и в самом деле покинул город?
Может быть, над ней просто подшутили… То обстоятельство, что во всем этом оказался замешан Хедрон, делало такое предположение в высшей степени правдоподобным. Быть может, вот в этот самый момент Олвин, скрываясь где-то в Диаспаре, тихонько посмеивается над ней…
Единственный определенный ответ, которого она добилась от Джизирака, состоял в том, что он наведет справки и в течение дня свяжется с ней. А она тем временем не должна тревожиться, и было бы лучше всего, если бы она никому ничего не рассказывала о происшедшем. Нет никакой надобности сеять панику по поводу инцидента, который, вполне возможно, разъяснится в течение ближайших нескольких часов.
Алистра ушла от Джизирака в состоянии, близком к зарождающемуся отчаянию. Доведись ей увидеть, что он предпринял сразу же после ее ухода, она была бы довольна куда больше.
У Джизирака были друзья в Совете. За свою долгую жизнь он и сам, бывало, состоял его членом и мог бы стать им снова, если бы ему вдруг до такой степени не повезло. Словом, он связался со своими тремя наиболее влиятельными коллегами и осторожно возбудил их интерес. Как наставник Олвина, он хорошо понимал деликатность своего положения и, естественно, стремился обезопасить себя. А пока — чем меньше людей будут знать о происшедшем, тем оно и лучше.
Собеседники его сразу же согласились, что первое из всего, что необходимо предпринять, — это войти в контакт с Хедроном и потребовать объяснений. В этом великолепном плане был только один изъян: Хедрон предвидел такой поворот событий, и найти его оказалось невозможным.
Если в положении Олвина и заключалась какая-то двойственность, то его хозяева были достаточно осмотрительны и не показывали ему этого. В Эрли — маленьком поселке, где правила Сирэйнис, — он волен был ходить, где ему только заблагорассудится. Выражение «правила», впрочем, было, пожалуй, слишком уж сильным, чтобы точно обрисовать положение этой женщины. Порой Олвину казалось, что она была снисходительным диктатором, а в иных случаях выходило, что у нее вообще нет никакой власти. До сих пор ему никак не удалось хотя бы приблизиться к пониманию социальной системы Лиза — то ли потому, что она была слишком проста, то ли из-за того, что настолько сложна, что ее суть ускользала от понимания. Наверняка он выяснил только то, что Лиз был разделен на бесчисленные поселки и Эрли среди них считался типичным. Однако, в известном смысле, типичных примеров тут просто не существовало: Олвина заверили, что каждый поселок старается быть как можно более не похожим на своих соседей. Все это было чрезвычайно запутано.
Хотя Эрли был очень маленьким и в нем проживало меньше тысячи человек, сюрпризов он таил в себе немало. Все здесь, решительно все отличалось от аналогов Диаспара. Различия распространялись даже на такие фундаментальные вещи, как человеческая речь. Своими голосовыми связками пользовались только ребятишки. Взрослые же очень редко обращались друг к другу со словами, и спустя некоторое время Олвин пришел к выводу, что они поступали так только из вежливости по отношению к нему. Быть окруженным со всех сторон бурей беззвучных слов было странно, непривычно и порой вызывало у Олвина даже что-то вроде отчаяния, но через какое-то время он к этому привык. Вскоре ему уже казалось странным, что устная речь вообще выжила в условиях, когда в ней не было никакой необходимости. Но прошло еще какое-то время, и Олвин с изумлением обнаружил, что жители Лиза очень любят петь и вообще являются поклонниками музыки во всех ее видах. Весьма вероятно, подумалось ему, что, не будь этого, они уже давным-давно стали бы совершенно немы.
Эти люди постоянно были чем-то заняты, их время и внимание поглощали задачи и проблемы, для Олвина абсолютно непостижимые. А когда он все-таки догадывался о том, что именно делает тот или иной житель Лиза, многое из этих трудов представлялось ему совсем ненужным… Значительная часть потребляемых здесь пищевых продуктов самым натуральным образом выращивалась, а не синтезировалась по технологии, выработанной еще столетия назад. Когда Олвин заговорил об этом, ему терпеливо объяснили, что людям Лиза нравится наблюдать за ростом живого, нравится выполнять сложные генетические эксперименты и разрабатывать все более тонкие оттенки вкуса и аромата. Эрли славился фруктами, но, когда Олвин отведал некоторые из самых отборных плодов, они показались ему ничуть не лучше тех, которые он мог сотворить в Диаспаре, едва пальцем шевельнув.
Сперва он задался вопросом: не забыли ли жители Лиза те силы и машины (если они когда-либо обладали ими), которые он принимал как нечто в высшей степени естественное и на которых зижделась вся жизнь в Диаспаре. Вскоре он, однако, обнаружил, что вопрос поставлен некорректно. В Лизе были и необходимые орудия, и умение их применять, но вот прибегали к ним лишь в том случае, когда это было уж совершенно необходимо. Наиболее разительный пример в этом смысле являла собой местная транспортная система — если ее можно было почтить таким названием. На короткие расстояния люди ходили пешком, и, казалось, им это было вполне по душе. Если же человек спешил или нужно было перевезти небольшой груз, то использовали животных, которые, совершенно очевидно, были предназначены именно для этого. В тяжеловозах ходили какие-то низкорослые шестиногие монстры, очень послушные, сильные и умственно не слишком развитые. Быстрые на ногу животные были совсем иными. Обычно они передвигались на четырех конечностях, но когда нужно было развить высокую скорость, то пользовались только задними. Весь Лиз они могли пересечь за несколько часов, и наездник при этом располагался в шарнирном седле, притороченном к спине животного. Ничто в целом свете не заставило бы Олвина рискнуть отправиться в такого рода прогулку, а вот среди местных молодых людей это был весьма популярный вид спорта. Их скакуны превосходных кровей были аристократами здешнего животного мира и, надо сказать, хорошо это понимали. В их распоряжении имелся довольно обширный лексикон, и Олвину нередко случалось подслушать, как они хвастаются друг перед другом своими прошлыми и грядущими победами. Когда Олвин пытался проявить дружелюбие и присоединиться к беседе, скакуны делали вид, что не понимают его, а если он проявлял настойчивость, то убегали с видом оскорбленного достоинства.
Эти вот два вида животных в полной мере удовлетворяли все обычные нужды Лиза и доставляли владельцам огромное удовольствие, которого, конечно, никак нельзя было ожидать от машин. Но когда требовалась особенно высокая скорость или необходимо было перевезти очень уж значительный груз, то на помощь приходили машины, и ими пользовались без малейшего колебания.
Хотя животные Лиза явились для Олвина целым миром, полным интересного и удивительного, более всего его заинтересовали две крайности среди людей. Очень молодые и очень старые — и те и другие в равной степени казались ему странными и даже поражающими. Самый старый обитатель Эрли едва достиг двухсотлетнего возраста, и жить ему оставалось всего несколько лет. Олвин не мог не отметить про себя, что в этом возрасте его собственное тело едва ли претерпело бы какие-либо изменения, в то время как этот человек, у которого впереди не было целой цепочки жизней, воспринимаемой им как своего рода компенсация, почти исчерпал свои физические силы. Волосы его были абсолютно белы, а лицо представляло небывало сложную сеть морщин. Похоже, что большую часть времени он проводит, сидя на солнышке или медленно прогуливаясь по поселку, обмениваясь со всеми встречными беззвучными приветствиями. Насколько мог решить Олвин, старик был совершенно доволен жизнью, ничего большего не требовал от нее и ни в малейшей степени не был угнетен сознанием своего приближающегося конца.
Это было проявление философии, настолько отличающейся от взглядов, принятых в Диаспаре, что Олвин никак не мог ее усвоить. Почему кто-то должен столь терпимо относиться к смерти, если она не является чем-то обязательным, если есть возможность жить тысячу лет, а затем совершить скачок через многие и многие тысячелетия, чтобы начать все сначала в мире, черты которого в какой-то степени предопределены и тобой? Это была одна из загадок, разрешить которые он вознамерился, как только у него появится возможность откровенно их обсудить. Ему было очень трудно уверовать в то, что Лиз сделал этот выбор по собственной воле, если ему было хорошо известно об альтернативе, реально существующей в Диаспаре.
Часть ответа на свой вопрос он нашел в детях — этих маленьких созданиях, которые представлялись ему столь же необычными, как и любые представители животного мира Лиза. Он проводил очень много времени среди них, наблюдал за их играми и в конце концов был принят ими как друг. Часто ему казалось, что они вообще не имеют отношения к человеческому роду, потому что их мотивации, их логика и даже их язык были столь странны. Он недоверчиво смотрел на взрослых и задавался вопросом, как это они могли развиться из этих вот удивительных существ, которые, казалось, большую часть жизни проводят в своем собственном замкнутом мирке.
И все же, даже изумляя его, они пробуждали в его сердце чувство, доселе ему совершенно неведомое. Когда — что случалось нечасто, но все-таки случалось — они начинали плакать или каким-то другим образом проявляли полное отчаяние или подавленность, их маленькие несчастья представлялись ему куда более трагическими, чем даже весь долгий путь отступления Человека после потери Галактической Империи. То было что-то слишком огромное и слишком уж далекое по времени для понимания, а вот всхлипывания ребенка пронзали сердце насквозь.
В Диаспаре Олвин познал, что такое любовь, но теперь перед ним было что-то равно драгоценное, что-то такое, без чего сама любовь никогда бы не могла достигнуть полного своего расцвета, навечно оставаясь ущербной… Он познавал, что такое нежность.
Если Олвин изучал Лиз, то и Лиз не оставлял его своим вниманием и не был разочарован тем, что ему удалось выяснить. Гость находился в Эрли уже три дня, когда Сирэйнис предположила, что он, возможно, хотел бы познакомиться с внутренними районами страны. Олвин без колебаний принял это предложение — при условии, что от него не станут требовать, чтобы он путешествовал верхом на одном из лучших рысаков поселка.
— Могу вас заверить, — с редкой для нее вспышкой чувства юмора ответила Сирэйнис, — что никому здесь и в голову бы не пришло рискнуть одним из своих драгоценных животных. Поскольку случай особый, я предоставлю вам такое средство транспорта, в котором вы будете чувствовать себя более привычно. Хилвар поедет с вами гидом, но, разумеется, вы вольны отправиться в любое место, которое только вас интересует.
Олвин поразмыслил — так ли это будет на самом деле. Ему представлялось, что если он попытается возвратиться к тому' холму, со склона которого он впервые увидел Лиз, то возникнут возражения. Тем не менее это его пока не слишком беспокоило, поскольку он теперь вовсе не торопился возвращаться в Диаспар и, в сущности, совсем даже и не думал над этим после своей первой встречи с Сирэйнис. Жизнь здесь для него все еще была настолько интересна и так нова, что своим пребыванием в Лизе он оставался вполне удовлетворен.
Он оценил жест Сирэйнис, когда она предложила ему в гиды своего сына, хотя — сомневаться в этом не приходилось — Хилвар, конечно же, и получил детальные инструкции: в оба присматривать за тем, чтобы Олвин не попал в какую-нибудь переделку. Олвину потребовалось некоторое время, чтобы попривыкнуть к Хилвару — по причине, которую он не смог бы толком объяснить, не ранив при этом чувств сына Сирэйнис. Физическое совершенство в Диаспаре было чертой настолько всеобщей, что личная красота полностью потеряла свою ценность. Люди обращали на нее внимания не больше, чем на воздух, которым дышали. В Лизе же все это обстояло далеко не так, и наиболее лестным эпитетом, который можно было бы применить к Хилвару, являлось слово «симпатичный». По стандартам же Олвина он был просто уродлив, и в течение некоторого времени Олвин даже сознательно избегал его. Если Хилвар и отдавал себе в этом отчет, то ничем себя не обнаруживал, и очень скоро присущее ему дружелюбие сломало барьер. Но все еще впереди было время, когда Олвин настолько привыкнет к широкой и несколько кривоватой улыбке Хилвара, к его силе и к его мягкости, что ему едва ли правдоподобным будет казаться, что в свое время он считал этого парня таким непривлекательным, и ни за что на свете не захочется, чтобы Хилвар стал каким-то другим.
Они покинули Эрли вскоре после рассвета в небольшом экипаже, который Хилвар называл мобилем и который, очевидно, действовал на тех же принципах, что и машина, которая доставила Олвина сюда из Диаспара. Экипаж этот парил над поверхностью земли всего в нескольких дюймах, и, хотя не было ни малейших признаков направляющего стержня, Хилвар оговорился, что такие вот машины в состоянии двигаться только по определенным маршрутам. Этим видом транспорта были связаны между собой все населенные пункты, однако за все время своего пребывания в Лизе Олвин ни разу не видел, чтобы кто-нибудь пользовался таким вот мобилем.
Хилвар отдал много сил организации экспедиции и — это было заметно — с нетерпением ждал, когда же можно будет отправиться в путь; так же, впрочем, нетерпелив был и Олвин. Сын Сирэйнис спланировал маршрут, имея в виду и некоторые свои личные интересы, потому что естественная история была его всепоглощающей страстью, а в тех сравнительно малозаселенных районах, которые им предстояло посетить, он надеялся обнаружить новые виды насекомых. Он собирался забраться так далеко на юг, насколько позволит мобиль, а уж остальную часть пути они должны были проделать пешком. Не совсем отдавая себе отчет в том, что это может означать для него на практике, Олвин ничуть не возражал.
В путешествии этом их компанию разделял еще и Криф — наиболее поразительный из многочисленных любимцев Хилвара. Когда Криф отдыхал, шесть его полупрозрачных крыльев, сложенные, покоились вдоль тела, а оно сверкало сквозь них, напоминая осыпанный драгоценностями скипетр. Но стоило ему чем-то встревожиться, как он мгновенно взмывал в воздух блистающей стрелой, слабо жужжа невидимыми крылами. Это огромное насекомое, хотя оно и могло возвращаться по зову человека и даже понимало некоторые самые простые слова, было совершенно безмозглым. И тем не менее оно, вне всякого сомнения, было личностью — на свой лад, конечно, и по каким-то неведомым причинам с явной подозрительностью относилось к Олвину, чьи спорадические попытки завоевать его доверие кончались ничем.
Это путешествие через весь Лиз представлялось Олвину каким-то волшебным сном. Их экипаж, беззвучный, точно призрак, скользил по слегка всхолмленным равнинам, змейкой лавировал среди деревьев леса, ни на дюйм не отклоняясь от своей невидимой колеи. Двигался он со скоростью раз этак в десять выше скорости неспешно шагающего человека. В сущности, в этой стране редко когда кто-либо двигался быстрее, чем прогулочным шагом.
Они миновали много селений, некоторые из них были большими, куда больше Эрли, но почти все они оказались построены на тех же самых принципах. Олвин с интересом отметил незначительные, но о многом говорящие различия в одежде и даже физическом облике людей от поселка к поселку. Цивилизация Лиза состояла из тысяч отличающихся друг от друга культур, каждая из которых вносила в общее дело что-то свое. Мобиль был как следует загружен прославленным фруктом Эрли — небольшими желтыми персиками; кому бы Хилвар их ни предлагал, персики эти всегда принимались с благодарностью. Он частенько делал остановки, чтобы поболтать с друзьями и представить им Олвина, не устававшего поражаться той деликатной непринужденности, с которой все тотчас же переходили на устную речь, стоило им только узнать, кто он такой. Для многих это было не просто, но, насколько он мог судить, все мужественно сопротивлялись искушению перейти на обмен мыслями, и поэтому он никогда не чувствовал себя выключенным из общего разговора.
Самая долгая стоянка случилась у них в одной крохотной деревушке, почти пропавшей в зарослях высокой золотистой травы, метелки которой трепетали где-то над их головами и, колеблемые ленивым ветерком, казались чуть ли не живыми. Двигаться сквозь эту траву было все равно что бесконечно преодолевать пенный гребень какой-то неумирающей волны — бесчисленные листья в унисон склонялись к путешественникам. Сначала это немного тревожило Олвина, потому что он никак не мог отделаться от мысли, что трава наклоняется для того, чтобы поглядеть на них попристальнее, но потом он привык и даже стал находить это непрекращающееся движение успокаивающим.
Вскоре он понял, чего ради сделали они эту остановку. В небольшой толпе, которая, по-видимому, собралась прежде, чем они прибыли в селение, стояла застенчивая темнокожая девушка, которую Хилвар представил как Ньяру. Было нетрудно догадаться, что эти двое страшно рады увидеться, и Олвин испытал лаже что-то вроде зависти, наблюдая чужое счастье от короткой встречи. Хилвар просто разрывался между необходимостью исполнять свою роль гида и желанием не видеть рядом никого, кроме Ньяры, и Олвин тотчас избавил его от мук, отправившись на прогулку в одиночестве. В деревушке оказалось не так уж много интересного, но он добросовестно убивал время.
К моменту, когда они снова отправились в путь, у него накопилась целая куча вопросов к Хилвару. Он, к примеру, никак не мог представить, на что может быть похожа любовь в обществе, где люди в состоянии читать мысли друг друга, и после некоторой паузы, продиктованной вежливостью, прямо спросил об этом. Хилвар с готовностью принялся отвечать, хотя Олвин и подозревал, что заставил друга прервать долгое и нежное прощание.
Примерно выяснилось, что в Лизе любовь начиналась с мысленного контакта, и порой могли пройти многие месяцы, а то и годы, прежде чем пара встречалась, так сказать, наяву. При этом, как объяснил Хилвар, каких-либо неправильных представлений друг о друге не могло возникнуть в принципе, и злоупотребление доверием тоже было совершенно исключено. Двое, чьи мысли были открыты «я» другого, не могли иметь каких-то секретов. Даже если бы один из любящих и попытался создать из чего-то тайну, другой тотчас бы обнаружил, что от него что-то скрывают.
Такую открытость и чистоту помыслов могли позволить себе только очень зрелые и хорошо сбалансированные умы. И лишь основанная на полнейшем самоотречении любовь могла выжить в таких условиях. Олвин хорошо понимал, что такая любовь должна быть глубже и богаче всего, что было известно по этой части его народу. Если вдуматься, то она могла подняться до таких высот совершенства, в существование которых просто трудно было и поверить.
Тем не менее Хилвар уверил его, что такая любовь действительно существует, а когда Олвин прижал его выведыванием подробностей, глаза темнокожего юноши засияли и он… забылся в каких-то своих, глубоко личных мыслях. Вероятно, существовали и такие вещи, которые он просто не мог передать словами. Человек либо знал их, либо даже и не догадывался о том, что они есть на свете. И Олвин не без грусти решил про себя, что ему никогда и ни с кем не достичь той степени взаимопонимания, которую эти счастливые люди сделали самой основой своего бытия. Когда мобиль пересек саванну — оборвавшуюся столь внезапно, как если бы существовала какая-то черта, за которой трава просто не могла расти, перед ними открылась гряда низких, сплошь поросших лесом холмов. Хилвар объяснил, что здесь проходит граница главного горного бастиона, оберегающего Лиз. Настоящие же горы лежат еще дальше. Но даже и эти низкие холмы оказались для Олвина зрелищем поразительным и внушающим благоговейное чувство.
Мобиль остановился в узкой, затененной долине, которая, впрочем, пока все еще была согрета теплотой и светом садящегося солнца. Хилвар посмотрел на Олвина своими широко распахнутыми, простодушными глазами, в которых, можно было поклясться, не светилось и намека на какое-то вероломство.
— А вот отсюда мы двинем пешком, — весело сказал он, начиная выкидывать из мобиля их снаряжение. — Дальше не проедешь.
Олвин смотрел на окружающие их холмы, оценивая их, а затем перевел взгляд на комфортабельное сиденье, которое так славно принимало его во время поездки.
— И что — нет никакого окольного пути? — спросил он без особой надежды.
— Есть-то он, конечно, есть, — ответил Хилвар, — да только мы им не пойдем. Нам нужно на самый верх — там знаешь как интересно! А мобиль я переведу в автоматический режим, так что он будет нас ждать с той стороны, когда мы спустимся снова.
Полный решимости без борьбы не сдаваться, Олвин сделал последнюю попытку:
— Скоро станет совсем темно. До заката-то нам ни за что не осилить всего пути…
— Точно! — согласился Хилвар, с невероятным проворством рассортировывая многочисленные пакеты и свертки. — Поэтому мы проведем ночь на вершине, а путешествие закончим утром.
На этот раз Олвин вынужден был признать поражение.
Снаряжение, которое они несли, было очень объемистым, но не весило практически ничего. Все было упаковано в гравикомпенсаторные контейнеры, которые нейтрализовали вес, поэтому иметь дело приходилось только с массой и, следовательно, с силой инерции. Пока Олвин двигался по прямой, он совершенно не ощущал, что за плечами у него есть какой-то груз. И все же обращение с этими контейнерами требовало известной сноровки, потому что стоило только изменить направление движения, как поклажа немедленно проявляла твердокаменное упрямство и, казалось, прямо-таки из себя выходила, только бы сохранить Олвина на прежнем курсе, — до тех пор пока он не преодолевал инерцию.
Когда Хилвар приладил лямки и убедился, что все в порядке, они медленно двинулись вверх по долине. Олвин оглянулся и с тоской увидел, как мобиль устремился назад по собственному следу и вскоре исчез из виду. Олвин только вздохнул, удрученный тем, что пройдет, должно быть, еще немало часов, прежде чем ему снова доведется расслабиться в комфортабельном чреве их экипажа.
Тем не менее идти все вверх и вверх, ощущать, как солнце мягко пригревает спину, любоваться новыми и новыми пейзажами, разворачивающимися перед глазами, — все это оказалось весьма приятным. Они двигались по почти заросшей тропинке, которая время от времени пропадала совсем, но Хилвар благодаря какому-то чутью не сбивался с нее даже тогда, когда Олвин совершенно терял ее в зарослях. Он поинтересовался у Хил вара, кто протоптал эту тропку, и получил ответ, что в этих холмах водится великое множество мелких животных — некоторые из них живут поодиночке, другие примитивными сообществами, отдаленно напоминающими древние человеческие племена. Кое-какие их виды даже сами открыли — или были кем-то этому обучены — науку использования примитивных орудий и огня. Олвину и в голову бы не пришло, что такие существа могут проявить по отношению к ним какое-то недружелюбие. И он, и Хилвар принимали такой порядок вещей как нечто совершенно естественное: на Земле прошло слишком много времени с тех пор, как кто-то мог бы бросить вызов Человеку — высшему существу.
Они поднимались уже, должно быть, с полчаса, когда Олвин впервые обратил внимание па слабый, чуть реверберирующий шепот вокруг. Источника его он никак не мог установить, потому что звук этот исходил как бы отовсюду. Он слышался непрерывно, и, по мере того как ландшафты перед ними распахивались все шире и шире, звук становился громче. Олвин непременно спросил бы Хилвара, что это такое, да только оказалось, что дыхание следует беречь для более существенных целей.
Здоровье у Олвина было отменное. В сущности, за всю свою жизнь он и часа не проболел. Но физическое здоровье — свойство само по себе очень важное — оказалось все же не главным для выполнения той задачи, которая теперь стояла перед ним. Его великолепному телу не хватало известных навыков. Летящая поступь Хилвара, та легкость, с которой он, не прилагая, казалось, ни малейших усилий, одолевал всякий подъем, будили в Олвине зависть и решимость не сдаваться до тех пор, пока он еще в состоянии переставлять ноги. Он превосходно понимал, что Хилвар проверяет его, но протеста у него это не вызывало. Шла товарищеская игра, и он проникся ее духом и старался не слишком вслушиваться в то, как ноги понемножку наливаются усталостью.
Хилвар сжалился над ним только тогда, когда они одолели две трети подъема, и они немного отдохнули, подставив натруженные тела ласковому солнышку. Пульсирующий гром слышен был теперь куда яснее, и Олвин спросил о нем, но Хилвар уклонился от ответа. По его словам, это. испортит приятную неожиданность, коли Олвин уже сейчас узнает — что там, в конце этого подъема.
Теперь они двигались уже против солнца, и, по счастью, заключительный участок пути оказался довольно гладким и отлогим. Деревья, которыми так густо поросла нижняя часть холма, теперь поредели, словно бы они тоже изнемогли в битве с земным тяготением, и на последних нескольких сотнях метров землю здесь покрывала только жестковатая, короткая трава, шагать по которой было приятно. Когда показалась вершина, Хилвар словно взорвался энергией и устремился вверх по склону чуть ли не бегом. Олвин решил не принимать вызова, да, в сущности, ничего другого ему и не оставалось. Его вполне устраивало медленное, размеренное продвижение вперед, и когда наконец он поравнялся с Хилваром, то повалился рядом в блаженном изнеможении.
Только когда дыхание его успокоилось, он смог в полной мере оценить ландшафт, расстилающийся перед ним, и увидеть этот источник бесконечного грома, наполнявшего воздух. Земля впереди круто падала от вершины холма — настолько круто, что на протяжении какого-нибудь десятка метров склон превращался уже в вертикальную стену. И, далеко простираясь от этого обрыва, лежала могучая полоса воды. Прихотливо петляя по плоской поверхности плато, она вдруг в одном месте рушилась на скалы, зловеще торчащие в тысяче футов внизу. Там она пропадала в сверкающем тумане мельчайших брызг, и из этой-то глубины и поднимался непрестанный пульсирующий рев, протяжным эхом отражающийся от склонов холмов по обеим сторонам водопада.
Большая часть этого низвергающегося потока находилась в тени, но солнечные лучи, прорывающиеся между вершинами гор, еще освещали неповторимый пейзаж, добавляя к нему свои прощальные волшебные мазки: подрагивая, у подножия водопада в неуловимой своей красоте стояла последняя на Земле радуга.
Хилвар повел рукой, и этот жест объял весь горизонт.
— Отсюда, — почти прокричал он, чтобы его можно было услышать сквозь гул водопада, — виден весь Лиз!..
Олвин не поверил. К северу от них миля за милей простирались леса, перемежающиеся полянами, протяженными полями, изрезанные ниточками сотен речушек. Где-то среди этой необъятной панорамы прятался Эрли, но нечего было и думать отыскать его. Олвину было показалось, что он разглядел озеро, мимо которого вела тропа, идущая в Лиз, но потом он все-таки решил, что ему померещилось. Еще далее к северу и леса, и просветы в них терялись в сплавленном воедино зеленом покрове земли, кое-где приподнятом выпуклостями холмов. А уж за ними, на самой кромке поля зрения, словно гряда далеких облаков, громоздились горные цепи, отделяющие Лиз от пустыни.
Картина на западе и на востоке мало чем отличалась от того, что наблюдали они на севере, но вот на юге горы, казалось, отстояли от них всего на несколько миль. Олвин видел их очень ясно и в полной мере осознал, насколько же они выше той вершинки, на которой он сейчас находился. От гор их с Хилваром отделяло пространство куда более девственное и дикое, чем то, которое они только что преодолели. Неизвестно почему — он, во всяком случае, не мог бы сказать почему — оно представлялось безжизненным и пустынным, как если бы нога человека не ступала здесь в течение многих и многих лет.
Хилвар ответил на невысказанный вопрос Олвина:
— Когда-то эта часть Лиза была обитаема. Не знаю, почему ее оставили… Вполне допускаю, что, может быть, и снова наступит такой день, когда мы ее займем. А теперь здесь только животные и водятся.
И в самом деле, нигде не было заметно ни малейших следов пребывания человека — ни расчищенных пространств, ни приведенных в порядок, обузданных рек. Лишь в одном месте кое-что говорило о том, что когда-то здесь жили люди: за много миль от молодых людей над зеленым покровом леса, как сломанный клык, высились белые руины какого-то здания. На всем же остальном пространстве джунгли взяли свое.
Солнце садилось за горную гряду Лиза. На краткий миг далекие вершины охватило золотое пламя. Но вслед за этим земля, которую они охраняли, погрузилась в тень, и на нее пала ночь.
— Надо было нам раньше за это приняться, — заметил, как всегда практичный, Хилвар, когда начал разбирать снаряжение. — Через пять минут темнотища будет — глаз выколи, да и похолодает…
Трава стала принимать на себя странные на вид части каких-то аппаратов. Из стройного треножника высунулся штырь с утолщением на конце, напоминающим по форме грушу. Хилвар все удлинял и удлинял этот штырь, пока тот не воздвигся над их головами. После этого он послал какую-то мысленную команду, которую Олвин отметил, но не понял. И тотчас же их маленький бивак оказался затоплен потоками света, отодвинувшими тьму. Груша эта излучала не только свет, но и тепло — Олвин сразу же ощутил это нежное, ласкающее излучение, которое, казалось, проникало до самых костей.
Держа треножник в одной руке, а в другой — свой рюкзак, Хилвар стал спускаться вниз по склону, и Олвин поспешил за ним, прилежно стараясь не выходить из круга света. В конце концов Хилвар выбрал место для ночевки в небольшом углублении несколькими сотнями ярдов ниже вершины холма и принялся приводить в действие оставшуюся часть снаряжения.
Первым возникло большое полушарие из какого-то твердого и почти прозрачного материала, которое полностью укрыло их, надежно защитив от холодного ветра, которым потянуло вверх по склону. По-видимому, этот купол генерировался тем самым небольшим прямоугольным ящичком, который Хилвар поставил прямо на землю и больше уже не обращал на него ровно никакого внимания — до такой степени, что в конце концов даже завалил его какими-то другими причиндалами. Очень может быть, что этот же самый ящичек произвел для них и удобные полупрозрачные койки, на одну из которых Олвин с радостью и облегчением сразу же и повалился. Это был первый случай, когда он увидел в Лизе материализацию мебели. Жилища здесь представлялись ему ужасно загроможденными непреходящими произведениями рук человеческих, а ведь куда как удобнее было хранить их все в памяти электронных машин.
Ужин, который Хилвар сварганил с помощью другого аппарата, тоже был первой синтетикой, которую Олвину пришлось отведать с тех самых пор, как он прибыл в Лиз. Когда преобразователь материи принялся поглощать сырье, чтобы сотворить свое обыкновенное чудо, оба явственно ощутили, как в отверстие на вершине покрывающего их купола хлынул поток засасываемого воздуха. В общем-то, чисто синтетическая пища была Олвину куда больше по душе. Способ, которым приготовлялась та, натуральная, поразил его как исключительно негигиеничный, а уж при преобразователе-то материи вы, во всяком случае, всегда знали, что именно вы едите.
Они принялись за ужин, когда ночь уже полностью вступила в свои права и на небо высыпали звезды. К концу трапезы за пределами их маленького освещенного мирка стало уже совершенно темно, и на самой границе света и тьмы Олвин заметил какие-то движущиеся тени — это обитатели леса выползали из своих дневных укрытий. Время от времени он видел отблески — чьи-то бледные глаза смотрели на него, но, кто бы это ни был, зверье близко не подходило, так что хорошенько разглядеть ничего не удавалось.
Было так спокойно и славно, и Олвин испытывал полнейшее удовлетворение. Некоторое время они лежали и толковали о том, что им сегодня встретилось, о тайне, которая витала над всем происходящим, о множестве различий двух таких разных культур, к которым они принадлежали. Хилвар был просто зачарован волшебством Хранилищ Памяти, которые вырвали Диаспар из цепких объятий Времени, и тут Олвин обнаружил, что найти ответы на некоторые вопросы Хилвара ему исключительно трудно.
— Чего вот я никак не понимаю, — рассуждал Хилвар, — так это, как проектировщики Диаспара добились того, что ничто никогда не может произойти с Хранилищами Памяти. Вот ты говоришь, информация, которая полностью описывает весь город и всех, кто в нем живет, хранится в виде электрических зарядов в кристаллах, расположенных там в определенном порядке. Ну ясно — кристаллы-то могут существовать вечно, а вот как же все соединенные с ними электрические цепи? Неужели же никогда-никогда не бывает никаких отказов?
— Я спрашивал об этом Хедрона, и он ответил, что Хранилища Памяти, в сущности, утроены. Каждое из трех Хранилищ способно и в одиночку обеспечить существование города, и, если что-то случится с одним, два других автоматически исправят поломку. И если только какое-то нарушение произойдет сразу в двух из них, то городу будет нанесен уже непоправимый ущерб. А шансы на то, что такое может случиться, пренебрежимо малы…
— Ну а как же материализуется связь между программами в виде этих самых зарядов и вещественной структурой города? Между планом, как он есть, и теми предметами, которые он описывает?
Тут Олвин понял, что прочно сидит на мели. Ему было известно в общих чертах, что ответ следует искать в технологии, манипулирующей свойствами самого пространства. Но вот каким именно образом удалось на практике жестко удерживать каждый атом города в положении, описанном данными, хранящимися где-то в дебрях Хранилищ Памяти, — к объяснению всего этого он даже и подступиться не мог.
По внезапному наитию он ткнул пальцем в купол, защищающий их от ночи.
— А ты объясни мне, как вот эта крыша над нашими головами получается из того ящика, тогда и я расскажу, как работают Хранилища Памяти, — сказал он.
Хилвар засмеялся:
— Ну ты в самую точку… Если уж тебе хочется узнать про это, то придется обратиться к нашим специалистам по теории ноля. А я-то уж точно не сумею тебе ничего рассказать!
Этот ответ заставил Олвина глубоко задуматься; выходило, что в Лизе все еще были люди, которые понимали, каким образом действуют их машины. О Диаспаре сказать этого никак было нельзя.
Так они разговаривали и спорили, пока Хилвар наконец не сказал:
— Что-то я устал… А ты — собираешься спать?
Олвин потер свои все еще гудящие от усталости ноги.
— Да хорошо бы, — признался он — Только я не знаю — смогу ли… Для меня сон, знаешь, все еще очень странный обычай…
— Да это куда больше чем обычай, — засмеялся Хилвар. — Мне вот рассказали, что когда-то для любого человеческого организма это была самая настоящая жизненная необходимость.
Мы и до сих пор любим поспать — хотя бы раз в сутки, хотя бы всего-то несколько часов, потому что во время сна тело освежается, да и мозг тоже… Неужели же в Диаспаре никто так никогда и не спит?
— Только в очень редких случаях, — ответил Олвин. — Джизирак, мой наставник, спал раз или два — после того как долго занимался очень уж утомительной умственной работой. А так… хорошо спроектированное тело не должно испытывать потребности в таких вот периодах отдыха. Мы с этим покончили миллионы лет назад…
Еще произнося эти несколько хвастливые слова, он уже опровергал самого себя. Усталость — такая, какой он никогда прежде не испытывал, — навалилась на него. Она поднималась от лодыжек и бедер, пока не затопила все его тело. В этом непривычном ощущении не было, впрочем, ничего неприятного — скорее даже наоборот. Хилвар наблюдал за ним с улыбкой, и Олвин еще успел подумать: не испытывает ли его друг на нем свою способность к внушению? Но даже если это и было так, он ничуть не возражал…
Свет, лившийся из «груши» над их головами, померк до слабого тления, но излучаемое грушей тепло не ослабло. При последнем трепетании света сознание Олвина отметило несколько любопытных фактов, значение которых ему предстояло выяснить поутру.
Хилвар сбросил одежду, и Олвин впервые увидел, насколько разнятся две ветви человечества. Некоторые отличия в строении тела касались только пропорций, но другие — такие, например, как гениталии и наличие зубов, ногтей и заметных волос, — были более фундаментальными. Больше всего его, однако, поразило странное углубление на животе Хилвара.
Когда спустя несколько дней он внезапно вспомнил об этом, то потребовались долгие объяснения. К тому времени, как Хилвар сделал для него функцию пупка совершенно понятной, он уже произнес несколько тысяч слов и нарисовал кучу диаграмм.
И оба — Хилвар и Олвин — сделали огромный шаг в понимании основ культуры Диаспара и Лиза.
12
Глубокой ночью Олвин проснулся. Что-то тревожило его — какой-то шепот или что-то вроде этого проникало в сознание, несмотря на нескончаемый рев падающей воды. Он сел в постели и стал напряженно вглядываться в окутанные тьмой окрестности, затаив дыхание, прислушиваться к пульсирующему грому водопада и к более мягким и каким-то тайным звукам, производимым ночными созданиями.
Ничего не было видно. Свет звезд был слишком слаб, чтобы озарить многомильные пространства, лежащие в сотнях футах внизу. Только иззубренная линия еще более беспросветной черноты, затмевающая звезды, напоминала о горных кряжах на южном горизонте. Олвин услышал, как в темноте купола его товарищ завозился и тоже сел в постели.
— Что там такое? — донесся до него шепот Хилвара.
— Да показалось, что я услышал какой-то шум…
— Какой шум?
— Не знаю… Может, почудилось…
Наступило молчание. Две пары глаз уставились в тайну ночи. Внезапно Хилвар схватил Олвина за руку.
— Гляди! — прошептал он.
Далеко на юге светилась какая-то одинокая точка, расположенная слишком низко к горизонту, чтобы быть звездой. Она была ослепительно белой с едва уловимым фиолетовым оттенком, и, по мере того как они следили за ней, точка эта стала менять цвет по всему спектру, одновременно набирая яркость — пока глазам не стало больно смотреть на нее. А затем она взорвалась — казалось, что где-то за краем света тьму рванула молния. На краткий миг горы и все окруженное ими пространство земли огнем вспыхнули на фоне неба. Вечность спустя докатился звучный отголосок далекого взрыва. В деревьях внизу внезапный порыв ветра потревожил кроны. Ветер этот быстро улегся, и погасшие было звезды одна за другой возвратились на свои места.
Во второй раз в своей жизни Олвин испытал чувство страха. Это не был тот страх перед непосредственной угрозой для его «я», который навалился на него там, в пещере самодвижушихся дорог. На сей раз это было, скорее, благоговение и изумление перед чем-то неведомым и грандиозным. Он глядел в лицо неизвестности, и ему показалось, что он понял: там, у гор, есть нечто, что он просто обязан увидеть.
— Что это было? — спросил он после долгого молчания.
Пауза оказалась столь длинна, что ему пришлось повторить вопрос.
— Да вот, пытаюсь выяснить, — коротко ответил Хилвар и снова умолк. Олвин догадался, чем он сейчас занят, и не стал мешать молчаливому расследованию друга.
Наконец Хилвар вздохнул — разочарованно.
— Спят все, — сказал он, — Не нашлось никого, кто смог бы объяснить, что же это такое. Надо нам подождать до утра — если только мне не удастся сейчас разбудить одного из моих друзей. А мне бы, честно-то говоря, не хотелось этого делать — разве что только в самом уж крайнем случае…
Олвин про себя заинтересовался, что же именно Хилвар считал самым крайним случаем. И только он собрался предположить — не без сарказма, — что увиденное ими вполне стоит того, чтобы кого-то и разбудить, как Хилвар заговорил снова:
— Я вспомнил… Я здесь давно не был и поэтому не уверен… Но это, должно быть, Шалмирейн. — Тон у него был какой-то извиняющийся.
— Шалмирейн! Да разве он еще существует?
— Существует. Я почти забыл… Сирэйнис как-то рассказывала мне, что крепость лежит именно в этих горах. Само собой, она вот уж сколько столетий в развалинах, но, может быть, кто-то там еще и живет…
Шалмирейн! Для этих детей двух рас, так сильно различающихся и историей, и культурой, — название, исполненное волшебства. За всю долгую историю Земли не было эпоса более величественного, чем оборона Шалмирейна от захватчика, который покорил Вселенную. Хотя истинные факты давным-давно растворились в тумане, окутывающем Века Рассвета, легенды продолжали жить и будут жить столь же долго, как и сам Человек.
В темноте внезапно снова зазвучат голос Хилвара:
— Люди с юга смогут рассказать нам больше. У меня там есть несколько друзей. Утром я с ними поговорю.
Олвин ею почти не слышат. Он был глубоко погружен в собственные мысли, стараясь припомнить все, что ему приходилось слышать о Шатмирейне. Впрочем, вспоминать было почти нечего. По прошествии столь невообразимо долгого времени никто уже не смог бы отсеять правду от вымысла. С уверенностью можно было говорить только о том, что битва при Шалмирейне ознаменовала рубеж между победами Человека и начатом его долгого упадка.
Где-то в этих вот горах, думалось Олвину, могут лежать ответы на те загадки, которые мучили его на протяжении всех этих долгих лет.
— А сколько нам понадобится времени, чтобы добраться до крепости? — поинтересовался он у Хилвара.
— Я там никогда не был, но полагаю, что это куда дальше, чем я намеревался пройти. За день нам туда вряд ли и дошагать…
— А если мобиль использовать?
— Не получится. Путь-то туда — через горы, а машина для этого никак не приспособлена.
Олвин поразмыслил над этим. Усталость скрутила его, ноги горели, а мышцы бедер все еще ныли от непривычного усилия. Соблазн плюнуть на путешествие к крепости до следующего раза был слишком велик. Но этого следующего раза могло и не быть…
Под призрачным светом бледнеющих звезд — немало их погасло с тех пор, как отгремела битва при Шалмирейне, — Олвин боролся с собой и наконец принял решение. Ничто не переменилось. Горы снова встали на караул над спящей землей. Но поворотный пункт истории пришел и прошел, и человечество двинулось к своему странному новому будущему.
В эту ночь Хилвар с Олвином уже не заснули и с первыми же лучами солнца свернули лагерь. Холм был осыпан росой, и Олвин, вышагивая, любовался сверкающими драгоценностями, которые окружили каждую травинку и каждый листок. Свист мокрой травы поразил его, когда он пропахивал ее ногами, и. глядя назад, на холм, он видел, как прорисованный им след темной лентой вьется на алмазном фоне.
Солнце только-только привстало над восточной стеной Лиза, когда они добрались до опушки леса. Природа здесь пребывала в первозданном своем состоянии. Даже Хилвар, похоже, несколько словно бы потерялся среди этих гигантских деревьев, которые заслоняли солнце и выстилали подлесок коврами непроницаемой тени. К счастью, начиная от водопада, река текла на юг линией слишком прямой, чтобы быть естественного происхождения, и им было удобно держаться берега — это позволяло избежать битвы с самой густой порослью нижних этажей леса. У Хилвара пропасть времени уходила на то, чтобы держать в ежовых рукавицах Крифа, который то и дело исчезал в джунглях или вдруг сломя голову бросался скользить по поверхности реки. Даже Олвин, для которого все окружающее было совершенно внове, чувствовал, что этот лес завораживает чем-то таким, чего лишены меньшие по размерам окультуренные леса северной части страны. Одинаковых деревьев было совсем мало. Большинство исполинов переживали различные стадии регресса, некоторые на протяжении веков почти вернулись к своим изначальным формам. Некоторые, очевидно, и вовсе были неземного происхождения, а может быть — даже и не из Солнечной системы. Часовыми, возвышаясь над своими менее рослыми собратьями, стояли гигантские секвойи высотой в триста, а то и в четыреста футов. Когда-то их называли самыми старыми из живущих обитателей Земли. И до сих пор они оставались намного старше Человека.
А река теперь стала расширяться. Теперь она то и дело расползалась в небольшие озера, на которых, словно на якоре, стояли островки. Были здесь и насекомые — ярко окрашенные существа, порхающие и раскачивающиеся над гладью волы. В один из моментов, несмотря на запрещение Хилвара, Криф метнулся в сторону, чтобы присоединиться к каким-то своим дальним родственникам. Он немедленно исчез в облаке блистающих крыльев, и до путников тотчас донеслось сердитое жужжание. Мгновение спустя облако это словно бы взорвалось, и Криф скользнул обратно по поверхности воды — да так стремительно, что глаз почти и не отметил какого-либо движения. После этого случая он все жался к Хилвару и больше уже никуда не отлучался.
Ближе к вечеру сквозь кроны деревьев стали время от времени проглядывать вершины гор. Верный проводник юношей — река текла теперь лениво, словно бы тоже приближалась к концу своего пути. Но стало ясно, что к наступлению ночи гор им не достичь. Задолго до заката в лесу стало так темно, что двигаться дальше было просто немыслимо. Огромные деревья стояли в озерах тьмы, сквозь листву дул пронизывающий ветер. Олвин с Хилваром устроились на ночлег подле гигантского красного дерева, настолько высокого, что ветви на его вершине еще были облиты сиянием солнца.
Когда наконец давно уже невидимое светило зашло, отсветы закатного неба еще некоторое время мерцали на танцующей поверхности воды. Оба исследователя — а теперь они смотрели на себя именно так, да так оно и было на самом деле — лежали в собирающейся темноте, глядя на реку и размышляя над всем тем, что им довелось увидеть в течение дня. Но вот Олвин снова ощутил, как его охватывает состояние восхитительной дремоты, впервые познанное предыдущей ночью, и радостно отдался сну. Пусть сон и не был необходим в Диаспаре, где жизнь не требовала никаких физических усилий, но здесь он был просто желанен. В последний момент перед забытьем он еще успел подумать — кто, интересно, последним проходил этим вот путем и как давно это произошло.
Солнце стояло уже высоко, когда они вышли из леса и оказались перед горной стеной, ограждающей Лиз. Прямо перед ними поверхность земли круто поднималась к небу обрывами совершенно непреодолимых скал. Река заканчивалась здесь столь же живописно, как и начиналась там, у водопада: прямо по ее руслу земля расступалась, и воды реки с грохотом пропадали из виду в глубокой расселине. Олвину было страшно интересно, что же происходит с рекой дальше, через какие подземные пещеры лежит ее путь, прежде чем ей снова выйти на свет дня. Возможно, исчезнувшие океаны Земли все еще существовали — глубоко внизу, в вечной тьме, и эта древняя река все еще слышит зов, который влечет ее к морю.
Несколько секунд Хилвар стоял, глядя на водоворот и на изломанную землю за ним. Затем он кивнул на проход в скалах.
— Шалмирейн лежит вон в том направлении, — уверенно проговорил он.
Олвин не стал спрашивать, откуда это ему известно. Он принял как должное, что Хилвар в течение некоторого времени поддерживал контакт с кем-то из друзей за много миль от них, и ему при полном молчании передали всю необходимую информацию.
До прохода в скалах они добрались довольно быстро, а когда миновали его, то вышли на чрезвычайно интересное плато, полого снижающееся по краям. Теперь Олвин уже не испытывал ни усталости, ни страха — только жадное чувство предвкушения волнующих событий возбуждало его. Он понятия не имел о том, что именно ему предстоит обнаружить. Но то, что что-то будет обнаружено, не вызывало у него никаких сомнений.
Вскоре характер поверхности резко изменился. Нижняя часть склона плато состояла из пористой вулканической породы, собранной там и сям в огромные навалы. Здесь же грунт внезапно превратился в твердые, стеклистые плиты, совершенно гладкие, как если бы когда-то горные породы бежали здесь по склону расплавленной рекой.
Кромка плато оказалась едва ли не у самых их ног. Хилвар первым дошагал до нее, а спустя несколько секунд и Олвин, лишившись дара речи, уже стоял рядом. Он был ошеломлен, потому что оба они находились на краю вовсе не какого-то там плато, как им представлялось поначалу, но огромной чаши глубиной в полмили и диаметром мили в три. Поверхность впереди резко понижалась, плавно выравнивалась на дне этой огромной круглой долины и снова поднималась — все более и более круто — к противоположному краю. Самая низкая часть чаши была занята круглым озером, зеркало которого непрерывно трепетало, словно бы терзаемое непрекращающимся ветром.
Хотя вся картина была залита беспощадным сиянием солнца, огромная эта язва на теле земли оказалась глубокого черного цвета. Ни Олвин, ни Хилвар не имели ни малейшего представления, из какого материала сложен кратер, но он был черен, как скалы мира, которые никогда не знали солнца. Но и это было еще не все, ибо ниже того места, где они стояли, опоясывая весь кратер, шла металлическая, без единого шва полоса шириной в несколько сот футов, потускневшая от непостижимо долгих тысячелетий, но без малейших признаков коррозии.
Когда глаза немного попривыкли к этой фантасмагорической картине, Олвин и Хилвар поняли, что чернота кратера вовсе не столь уж абсолютна, как это им представилось вначале. То тут, то там крохотные блики — такие неуловимые, что их почти невозможно было заметить, — вспыхивали на стенках, черных, будто они были сделаны из эбенового дерева. В сверкании этом не было ни малейшей упорядоченности, блики пропадали, едва родившись, и напоминали отражения звезд на из-морщенной поверхности моря.
— Как замечательно! — ахнул Олвин. — Но только… что же это такое?
— Похоже на какой-то рефлектор…
— Но он такой черный…
— Только для наших глаз, не забывай об этом. Мы же не знаем, какой вид излучения они использовали…
— Но ведь должно же быть и что-то еще! Где, например, сама крепость?
Хилвар протянул руку по направлению к озеру.
— Посмотри внимательно, — сказал он.
Олвин уставился на дрожащую поверхность озера, стараясь проникнуть взглядом поглубже, пытаясь понять тайны, которые скрывала вода в своих глубинах. Сначала он ничего не мог разобрать. Затем на мелководье возле самой кромки берега он разглядел едва заметное чередование света и тени. Ему удалось проследить этот рисунок вплоть до самой середины озера, где глубина уже скрадывала детали.
Вот это-то темное озеро и поглотило крепость. Там, внизу, лежали руины того, что когда-то было мощными зданиями, ныне поверженными временем. И все же не все они погрузились в глубину, потому что на дальней стороне кратера Олвин теперь разглядел груды исковерканных каменных блоков и огромные гранитные глыбы, из которых когда-то были сложены массивные стены. Волны плескались вокруг них, но еще не поднялись настолько высоко, чтобы довершить свою победу.
— Давай обогнем озеро, — предложил Хилвар, и голос его был тих, как если бы величественность этих руин наполнила его душу благоговением. — Может, что-нибудь и найдем в этих развалинах…
Первые несколько сот ярдов стенки кратера были такими крутыми и гладкими, что на них трудно было стоять выпрямившись, но вскоре молодые люди достигли более пологого склона и теперь могли передвигаться без особого труда. У самой воды аспидно-черная поверхность кратера была покрыта тонким слоем почвы, нанесенной, должно быть, сюда ветрами.
В четверти мили от них циклопические каменные блоки громоздились друг на друга, словно непомерных размеров кубики, брошенные каким-то гигантским младенцем. Вот тут еще можно было узнать секцию массивной стены… Там — пара изъеденных временем пилонов отмечала место, которое когда-то было позицией грандиозных ворот… Повсюду рос мох и какие-то ползучие растения, крохотные карликовые деревья… Даже ветра и того здесь не чувствовалось.
Так Олвин и Хилвар пришли к развалинам Шалмирейна. Силы, которые были способны потрясти мир и обратить его в прах, обернулись пламенем и громом и потерпели сокрушительное поражение, натолкнувшись на эти стены и на ту энергию, которая ожидала за ними своего часа. Когда-то это такое мирное небо полыхало огнем, вырванным из самого сердца звезд, и горы Лиза, должно быть, стонали, будто живые существа, на которые обрушивается ярость их хозяина.
Шалмирейн никогда не был захвачен кем бы то ни было. Но теперь эта крепость, эта необоримая твердыня пала, захваченная и уничтоженная терпеливыми усиками плюша, поколениями слепых червей, неустанно роющих свои ходы, и медленно наступающими водами озера…
Ошеломленные величием этих колоссальных развалин, Олвин и Хилвар приближались к ним в полном молчании. Они ступили в тень разрушенной стены и углубились в своего рода каньон: горы камня здесь расселись. Озеро лежало перед ними, совсем рядом, и вот уже они стали у самой кромки воды, волны плескались у их ног. Крохотные волночки… Высотой не более нескольких дюймов, они бесконечной чередой разбивались об узкую полоску берега.
Хилвар первым нарушил молчание, и в голосе его прозвучала нотка неуверенности, заставившая Олвина взглянуть на друга с некоторым удивлением.
— Что-то тут не так… Ничего не могу понять, — медленно проговорил Хилвар. — Ветра-то нет, а что же тогда морщит воду? Ей бы надо оставаться совершенно спокойной…
Прежде чем Олвин продумал ответ, Хилвар стремительно присел, склонил голову к плечу и погрузил в воду правое ухо. Олвин не имел ни малейшего представления, что это хочет обнаружить его друг таким вот странным способом и в таком нелепом положении. Потом догадался: Хилвар просто прислушивался. Преодолевая себя, потому что эта мертвая на вид вода выглядела здесь как-то особенно неприветливо, Олвин последовал его примеру.
Холод воды мешал всего несколько мгновений. А потом Олвин услышал слабый, но отчетливый упорный и ритмичный пульсирующий звук. Было похоже, будто в глубинах озера бьется чье-то гигантское сердце.
Они стряхнули воду с волос и остолбенело уставились друг на друга. Ни тому ни другому не хотелось первым высказать поразившую его догадку, что озеро это — живое.
— Лучше всего будет порыться в развалинах, а от озера давай-ка держаться подальше, — решился наконец Хилвар.
— Думаешь, там внизу что-то есть? — спросил Олвин, кивнув на загадочные волны, которые все так же разбивались у его ног. — Это может быть опасно?
— Ничто, если у него есть сознание, не представляет опасности, — ответил Хилвар. («Так ли это? — подумалось Олвину. — А Пришельцы?») — Я не могу обнаружить там ни малейшего присутствия мысли, но почему-то убежден, что мы здесь не одни. Очень странно…
Они медленно двинулись назад, к руинам крепости, и каждый нес в памяти звук этой приглушенной непреходящей пульсации. Олвину представлялось, что здесь тайна громоздится на тайну и что, несмотря на все его усилия, он все больше и больше отдаляется от какого-либо понимания истины, поисками которой занялся.
Как-то не верилось, что развалины могут им что-то поведать, но они тем не менее все-таки занялись самыми тщательными поисками среди мусора, скопившегося между нагромождениями огромных каменных глыб. Может быть, здесь нашли свое последнее пристанище машины и механизмы, которые так давно сделали свое дело… Теперь-то от них не было никакого проку, подумал Олвин, если бы Пришельцы и вернулись. Но почему же они так и не возвратились? Впрочем, это была только еще одна мучительная загадка, а у него и так уже накопилось полным-полно тайн, в которые предстояло проникнуть. Искать новые не было ровно никакой необходимости.
В нескольких ярдах от берега среди всяких мелких обломков они обнаружили небольшое чистое пространство. Его покрывали сорняки: почерневшие и спекшиеся от невообразимого жара, при приближении людей они стали рассыпаться в пыль, пачкая им ноги угольно-черными полосами. В центре пустого пространства стоял металлический треножник, прочно укрепленный в грунте. Треножник этот нес на себе кольцо, несколько наклоненное таким образом, что его ось упиралась в неведомую точку небосвода где-то на полпути между горизонтом и зенитом. На первый взгляд казалось, что кольцо это ничего в себе не заключало. Но затем, приглядевшись повнимательнее, Олвин увидел, что пространство внутри кольца заполнено каким-то слабым туманом, который сильно утомлял зрение, а его и без того нужно было напрягать, чтобы заметить этот самый туман — так близко цвет его находился у самого края видимого спектра. Светилась какая-то энергия, и, вне всякого сомнения, именно этот вот механизм и произвел тот взрыв света, который привлек их в Шалмирейн.
Не решаясь подойти поближе, они остановились и стали наблюдать за странным этим устройством с безопасного, как им представлялось, расстояния. «Мы на верном пути», — билось в голове у Олвина. Теперь оставалось только выяснить — кто или что установило здесь этот механизм и какой цели он может служить. Это наклоненное кольцо… ясно было, что оно нацелено в космос. Не была ли вспышка, которую они наблюдали, своего рода сигналом? От этой догадки захватывало дух, стоило только поразмыслить о последствиях.
— Олвин! — раздался вдруг голос Хилвара, и в тихом этом возгласе звучала безошибочная нотка предостережения — У нас гости.
Олвин резко обернулся и обнаружил перед собой треугольник глаз, начисто лишенных век. Таково, по крайней мере, было первое впечатление. Секундой позже за этими пристально глядящими на него глазами он рассмотрел очертания небольшой, но, по-видимому, очень сложной машины. Она висела в воздухе в нескольких футах над поверхностью земли и ничем не напоминала ни одного из тех роботов, которые когда-либо встречались Олвину.
Когда первоначальное изумление прошло, он вполне почувствовал себя хозяином положения. Всю жизнь он отдавал приказания машинам, и то, что эта вот была ему незнакома, не имело ни малейшего значения. В конце концов, ему приходилось сталкиваться не более чем с несколькими процентами всех разновидностей роботов, которые в Диаспаре обслуживали его повседневные нужды.
«Ты умеешь говорить?» — спросил он.
Ответом было молчание.
«Кто-нибудь тебя контролирует?»
Снова молчание.
«Уйди… Подойди… Поднимись… Опустись…»
Ни одно из этих таких привычных мысленных приказаний не возымело никакого эффекта. Машина оставалась совершенно безответной. Это предполагало две возможности. Либо машина была слишком низкоорганизованной, чтобы понимать его, либо, в сущности, слишком интеллектуальной и обладала собственными представлениями о целесообразности того или иного выбора, поскольку' в нее был заложен принцип свободы воли. В таком случае он должен обращаться к роботу как к равному. И даже в этом случае он может недооценить его. только робот на это не обидится, поскольку самомнение не есть болезнь, характерная для машин.
Хилвар не мог удержаться от смеха, глядя на очевидную тщетность усилий Олвина. Он как раз собирался предложить свои услуги по установлению контакта с роботом, когда слова вдруг замерли у него на губах.
Тишина Шалмирейна была нарушена многозначительным и безошибочно знакомым звуком — мокрым шлепаньем какого-то большого тела, выходящего из воды.
Во второй раз с тех пор, как он покинул Диаспар, Олвин пожалел, что он не дома. Затем он сообразил, что с таким настроением идти навстречу приключению никак не годится, и медленным шагом, но решительно направился к озеру.
Существо, которое появилось из темной воды, выглядело как чудовищная, выполненная из живой материи пародия на робота, который по-прежнему молча разглядывал их пристальным взором. Расположение глаз в вершинах равностороннего треугольника — как и у парящего робота — никак не могло быть простым совпадением. То же самое можно было сказать и о щупальцах, и о маленьких суставчатых конечностях. На этом, однако, сходство заканчивалось. У робота не было — они ему, очевидно, просто не требовались — нежных перьев какой-то бахромы, которая в однообразном ритме била по воде, не было великого множества ног, похожих на обрубки, не было и вентиляционных отверстий, которые с натугой сипели в разреженном воздухе.
Большая часть этого существа оставалась в воде. Только головные десять футов или около того проникли в среду, которая, похоже, была для этого животного враждебной. Существо имело в длину футов пятьдесят, и даже человек, совершенно незнакомый с биологией, мог бы догадаться, что что-то с ним было не так. Для облика существа был характерен налет импровизационного — и не слишком поэтому удачного — конструирования, как если бы части его тела лепили без особых раздумий и приставляли одну к другой по мере того, как в этом возникала необходимость.
Несмотря на устрашающие размеры существа и все свои первоначальные сомнения, ни Олвин, ни Хилвар ничуть не встревожились, едва разглядели получше этого обитателя озера. Животное было как-то трогательно неловко, и эта неловкость не позволяла считать его какой-либо серьезной угрозой, даже если бы и возникли подозрения, что оно может оказаться опасным. Люди давным-давно преодолели детский ужас перед тем, что выглядит ни на что не похожим. Этому страху просто не суждено было выжить после первого же контакта с дружественными внеземными цивилизациями.
— Дай-ка я с ним пообщаюсь, — тихонько сказал Хилвар. — Я ведь привык общаться с животными.
— Но это же не животное, — прошептал в ответ Олвин, — Я убежден, что оно разумно, а этот робот принадлежит ему…
— Может статься, как раз оно-то и принадлежит роботу. Во всяком случае, у него какие-то странные умственные способности. Я все еще не могу обнаружить ни малейшего признака мышления… Эй! Что это такое делается?..
Чудище ни на йоту не переменило своего положения у кромки воды, поддерживать которое ему, похоже, приходилось из последних сил. Но в центре треугольника, образованного глазами, начала формироваться какая-то полупрозрачная мембрана — она пульсировала, трепетала и в конце концов стала издавать вполне различимые звуки. Это было низкое, гулкое уханье, никаких слов разобрать в нем было невозможно, хотя неведомое существо явно пыталось что-то сказать.
Было больно наблюдать эту отчаянную попытку вступить в контакт. Несколько минут существо понапрасну пыталось добиться какого-нибудь эффекта. Внезапно оно, видимо, осознало, что совершает ошибку. Пульсирующая мембрана уменьшилась в размерах, а издаваемые ею звуки поднялись в тоне на несколько октав, пока не улеглись в звуковой спектр нормальной человеческой речи. Стало формироваться что-то похожее на слова, хотя они все еще перемежались невразумительным бормотаньем, Похоже было, что существо с превеликим трудом вспоминает лексикон, который был ему известен когда-то давным-давно, но к которому оно не прибегало на протяжении многих лет.
Хилвар попытался помочь всем, что только было в его силах.
— Вот теперь мы можем вас понимать, — произнес он, выговаривая слова медленно и раздельно. — Чем мы можем быть вам полезны? Мы заметили свет, который вы произвели. Он и привел нас сюда из Лиза.
При слове «Лиз» существо как-то поникло, словно бы оно испытало жесточайшее разочарование.
— Лиз, — повторило оно. Звук «з» вышел у него не слишком удачно, — и слово прозвучало больше похожим на «Лид». — Всегда из Лиза… А больше никто никогда не приходит… Мы называем их Великими, но они не слышат…
— Кто это — Великие? — спросил Олвин, живо подавшись вперед.
Нежные, безостановочно двигающиеся щупальца коротким движением взметнулись к небу.
— Великие… — повторило существо, — С планет Вечного Дня… Они придут… Мастер обещал нам…
Ситуацию это ничуть не прояснило. Прежде чем Олвин смог продолжить свой допрос, Хилвар вмешался снова. Вопросы, которые он задавал, были так терпеливы, он говорил с таким участием и в то же самое время с такой настойчивостью и убедительностью, что Олвин решил ни в коем случае не прерывать его, хотя его так и подмывало вступить в разговор. Ему не хотелось признаваться себе, что Хилвар превосходит его по развитию, но не было ни малейших сомнений в том, что дар друга общаться с животными простирается даже на это фантастическое существо. И более того — чудище, похоже, откликалось. Его речь стала более разборчивой, и если сначала это странное создание отвечало столь кратко, что выходило чуть ли не грубо, то, по мере того как развивалась беседа, оно стало отвечать на вопросы подробно и даже само уже сообщало кое-какую информацию, о которой его и не спрашивали.
Хилвар терпеливо складывал по кусочку мозаику этой невероятной истории, и Олвин совсем потерял ощущение времени. Всей истины они выяснить так и не смогли — для догадок и предположений оставалось места сколько угодно. По мере того как существо все более и более охотно отвечало на вопросы Хилвара, его внешний вид начал меняться. Оно сползло обратно в озеро, и его ноги-чурбачки, казалось, растворились в теле. Внезапно произошла вещь еще более невероятная: три огромных глаза медленно закрылись, стянулись в крохотные точки и бесследно исчезли. Выглядело это так, будто существо уже увидело все, что ему нужно было увидеть, и теперь глаза ему стали просто без надобности.
Олвин никак не мог поверить, что разум может существовать в такой вот нестабильной оболочке, однако впереди его ждал еще и не такой сюрприз. Было очевидно, что их собеседник — внеземного происхождения, но прошло еще некоторое время, прежде чем даже Хилвар с его куда более обширными познаниями в биологии понял, с каким типом организма они имеют дело. В течение всей беседы существо называло себя «мы», и, в сущности, это была целая колония независимых существ, организованных и контролируемых какими-то неизвестными силами.
Животные отдаленно такого же типа — медузы, например, — когда-то процветали в земных океанах. Некоторые из них достигали огромных размеров, занимая своими полупрозрачными телами и лесом стрекающих щупалец пятьдесят, а то и сто футов пространства. Но ни одна из этих медуз не обрела и крупицы интеллекта, если не считать за интеллект способность реагировать на простые раздражители.
Здесь же молодые люди, несомненно, имели дело с разумом, хотя это и был разум вырождающийся. Олвину никогда было не забыть этой необычайной встречи и того, как Хилвар медленно реконструировал историю Мастера, в то время как изменчивый полип судорожно искал полузабытые слова, а темное озеро плескалось о руины Шалмирейна и трехглазый робот не мигая наблюдал за происходящим.
13
…Мастер вынырнул на Земле в хаосе Переходных Столетий, когда Галактическая Империя уже рушилась, но маршруты, связывающие звезды, еще не были перерезаны окончательно. Был он человеческого происхождения, хотя дом его и находился на планете, кружащейся вокруг одного из Семи Солнц. Еще в ранней молодости он был вынужден покинуть родной ему мир, память о котором преследовала его всю жизнь. Причиной своего изгнания он считал происки врагов, но истина заключалась в том, что он страдал от неизлечимой болезни, которая, похоже, из всех носителей разума во Вселенной поражала только представителей homo sapiens. Эта позорная болезнь была религиозной манией.
На протяжении ранней стадии своей истории человечество исторгнул о из себя неисчислимое количество всякого рода пророков, ясновидцев, мессий и провозвестников небесного откровения, которые убеждали своих последователей и самих себя, что тайны Вселенной открыты только им одним и никому больше. Кое-кому из них случалось основать религии, которые ухитрились выжить в течение многих поколений и оказали влияние на миллиарды людей. Других забыли еще до их смерти.
Расцвет науки, которая с непреложной регулярностью отвергала космогонические построения всех этих болтунов и дарила людям чудеса, о которых ясновидцы и мессии и помыслить-то были не в состоянии, в конце концов не оставил от всех этих верований камня на камне. Наука не уничтожила благоговейного изумления, почтения и сознания своей незначительности, испытываемых всеми разумными существами, когда они размышляют о необъятности Вселенной. Но она ослабила, а в конце концов и вообще отбросила в небытие бесчисленные религии, каждая из которых с невероятным высокомерием провозглашала, что именно она является единственной провозвестницей Истины, тогда как миллионы ее соперников и предшественников — все пали жертвой заблуждений.
И все же, хотя каким-то изолированным культам уже никогда не суждено было обладать какой-то реальной властью, как только человечество в целом достигло самого элементарного уровня цивилизованности, они все же время от времени появлялись на протяжении многих столетий и, как бы фантастично ни звучали их неумные символы веры, им все же удавалось привлечь какое-то число последователей. В особенности процветали они в периоды неразберихи и беспорядка, и было совсем неудивительно, что Переходные Столетия стали свидетелями вспышки иррационального. Когда реальность оказывалась для человеческого духа угнетающей, люди всегда пытались найти утешение в мифах.
Так вот, этот самый Мастер, даже если он и был изгнан из своего собственного мира, вовсе не покинул его этаким сиротой-сиротинушкой. Семь Солнц являлись центром галактической власти и науки, а он, должно быть, имел чрезвычайно влиятельных друзей. Он бежал на маленьком скоростном корабле, о котором поговаривали, что это был самый быстрый космический корабль из когда-либо построенных. И еще он прихватил с собой в изгнание самый совершенный продукт галактической науки — робота, который спустя столько времени всплыл теперь здесь, у Шалмирейна, неизвестно откуда, перед изумленными Олвином и Хил варом.
Никто так до конца и не исчерпал все таланты и функции этой машины. В сущности, робот этот до некоторой степени стал вторым «я» Мастера. И, не будь его, вера в «Великих», по всей вероятности, благополучно почила бы после смерти Мастера. Вдвоем они довольно продолжительное время блуждали зигзагообразным курсом среди звездных облаков, и курс этот привел их — ясно, что не случайно, — назад, к тому миру, из которого вышли предки Мастера.
Целые сонмы книг были посвящены этому событию, и каждая такая книга вызывала к жизни еще и вороха комментариев, пока в этой своего рода цепной реакции первоначальные произведения не оказались погребены под целыми Монбланами всякого рода глоссов и разъяснений. Мастер останавливался на многих мирах и навербовал себе паству среди представителей множества рас. Надо полагать, он был весьма сильной личностью, если мог с одинаковым успехом воспламенять своими проповедями гуманоидов и негуманоидов, и, видимо, учение, находившее столь широкий отклик, содержало в себе еще и что-то такое, что представлялось людям благородным и чистым. Быть может, этот самый Мастер оказался самым удачливым — как и самым последним — из всех мессий, которых когда-либо знало человечество. Никто из его предшественников не сумел привлечь к себе такого числа адептов или же добиться того, чтобы его догма проложила себе путь через столь огромные пространственные и временные пропасти.
В чем, собственно, состоял смысл догмы Мастера, ни Олвин, ни Хилвар так и не смогли разобраться хотя бы с какой-то степенью достоверности. Огромный полип отчаянно старался сделать все, чтобы посвятить их в суть дела, но многие из его слов не содержали в себе ровно никакого смысла, и, кроме того, у него была привычка повторять предложения и даже целые пассажи в такой стремительной и совершенно механической манере, что за мыслью невозможно было уследить. И вскоре Хилвар приложил все свои силы, чтобы увести разговор от этих топких геологических болот и сосредоточиться лишь на достоверных фактах.
Мастер и горстка его самых верных последователей прибыли на Землю в те дни, которые предшествовали падению городов, а порт Диаспара еще был открыт для пришельцев из других звездных систем. Они, должно быть, прибывали в космических кораблях самых разных систем — полип из озера, например, в корабле, наполненном водой того моря, которое было естественной средой его обитания. Была ли догма Мастера принята на Земле с терпимостью, оставалось неясным. Но, по крайней мере, она не встретила бурной оппозиции, и после долгих блужданий эти фанатики нашли себе окончательное пристанище среди лесов и гор Лиза.
На закате своей долгой жизни Мастер вновь обратил мысли к дому, из которого он был изгнан, и попросил вынести его из помещения на воздух, чтобы он мог смотреть на звезды. Теряя последние силы, он подождал появления Семи Солнц и под самый занавес набормотал еще много такого, что должно было в будущем вызвать к существованию новые груды книг с толкованиями. Снова и снова он распространялся о «Великих», которые сейчас временно покинули эту Вселенную, но которые в один прекрасный день, несомненно, вернутся, и обязал своих фанатиков приветствовать их по возвращении. Это были его последние более или менее разумные слова. После этого он уже не отдавал себе отчета в окружающем, но перед самым концом произнес еще одну фразу, которая пережила столетия, гвоздем засев в головах тех, кому довелось ее услышать: «Как славно смотреть на цветные тени на планетах Вечного Света».
После чего умер.
По смерти Мастера многие из его последователей плюнули на догму, но кое-кто остался ей верен. По мере того как проходили столетия, она все усложнялась. Сначала веровали, что эти «Великие», кем бы они ни были, скоро возвратятся, но время шло, и надежды на это все тускнели и тускнели. В этом месте рассказ полипа стал очень путаным — похоже было, что правда и мифы переплелись уже совершенно нерасторжимо. Олвин схватил только туманный образ каких-то фанатиков, поколение за поколением ожидающих некоего великого свершения, смысл которого был им абсолютно непонятен и которое должно было произойти неизвестно когда в будущем.
«Великие» так и не вернулись. Пробивная сила догмы мало-помалу иссякла по мере того, как смерть и разочарование все уменьшали и уменьшали число приверженцев. Сначала из мира ушли люди с их короткими жизнями, и было что-то невероятно ироническое в том, что последним адептом мессии-гуманоида стало существо, совершенно не похожее на человека.
Огромный полип стал последним учеником Мастера по причине весьма тривиальной: он был бессмертен. Миллиарды индивидуальных клеток, из которых состояло его тело, естественно, умирали своим чередом, но, прежде чем тому произойти, они воспроизводили себе подобных. Через длительные интервалы чудище распадалось на мириады клеток, которые начинали жить автономно и размножались делением — если окружающая среда оказывалась для этого подходящей. В такие периоды полип уже не существовал как сознательное, разумное существо-единство. И туг Олвин просто не мог не вспомнить о том, как проводили свои сонные тысячелетия в Хранилищах Памяти города обитатели Диаспара.
Но вот в должное время какая-то загадочная биологическая сила снова собирала вместе все эти рассеянные компоненты огромного тела, и полип начинал новый цикл существования. Он опять обретал сознание и воспоминания о своих прежних жизнях — часто не совсем точные воспоминания, поскольку разного рода несчастные случаи время от времени губили клетки, несущие весьма уязвимую информацию памяти.
Не исключено, что никакая другая форма жизни не смогла бы так долго хранить веру в догму, забытую уже на протяжении миллиарда лет. В некотором смысле полип стал беспомощной жертвой собственной биологической сущности. В силу своего бессмертия он не мог изменяться и оказался обречен вечно один к одному воспроизводить все ту же неизменную структуру.
Вера в «Великих» на ее поздних стадиях стала отождествляться с поклонением Семи Солнцам. «Великие» упрямо отказывались появляться, и были сделаны попытки послать на их далекую родину сигналы. Уже в незапамятные времена эта сигнализация стала всего лишь бессмысленным ритуалом, а теперь к тому же ею занималось животное, совершенно утерявшее способность к научению, да робот, который не умел забывать.
…Когда непостижимо древний голос затих и воздух снова зазвенел тишиной, Олвин вдруг понял, что его охватила жалость. Преданность — не к месту, верность, от которой никому не было никакого проку, в то время как бесчисленные солнца и планеты рождались и умирали… он в жизни бы не поверил в такую историю, если бы непреложные свидетельства в ее пользу не находились у него перед глазами. Собственное невежество сильнее, чем когда-либо прежде, печалило его. На некоторое время высветился было крохотный кусочек прошлого, но теперь тьма снова сомкнулась…
История Вселенной, должно быть, состоит из массы таких вот разрозненных ниточек, и кто скажет, какая из них важна, а какая — тривиальна? Фантастическая легенда о Мастере и о «Великих» была, надо думать, просто еще одной из тех бесчисленных сказок, что каким-то странным образом сохранились с времен Начала. Но, что ни говори, уже само существование огромного этого полипа и каменно молчаливого робота не позволяло Олвину отбросить всю эту историю как просто какую-то волшебную выдумку, построенную на самообмане и на чистом безумии.
Ему было страшно интересно понять взаимосвязь между роботом и полипом, между двумя этими сущностями, которые, но всем статьям отличаясь друг от друга, умудрились на протяжении целых эпох поддерживать это вот свое совершенно невероятное партнерство. Почему-то ему сильно верилось, что из них двоих робот был куда более важен. Он ведь ходил в наперсниках Мастера и, должно быть, и по сей день хранил все его тайны.
Олвин кинул беглый взгляд на таинственную машину, которая по-прежнему висела в воздухе, упершись в него, Олвина, пристальным взором. Почему это она не желает разговаривать? Какие, интересно знать, мысли блуждают в ее сложном и, возможно, совершенно чуждом ему сознании? Впрочем, если она и была построена с таким расчетом, чтобы служить единственно этому самому Мастеру, даже в этом случае ее мозг не может быть совершенно уж чуждым и она все равно должна повиноваться приказам человека…
Раздумывая о тайнах, которые столь упорно хранила в себе эта немая машина, Олвин испытывал самый настоящий зуд любопытства — да еще настолько глубокого, что оно уже граничило с жадностью. Ему представлялось просто-таки нечестным, чтобы такое знание было укрыто от мира людей. Тут таились какие-то чудеса, которые, возможно, и не снились Центральному Компьютеру Диаспара.
— Почему это твой робот не желает с нами разговаривать? — обратился он к полипу, когда Хилвар на какую-то секунду замешкался с очередным своим вопросом. И в ответ он услышал именно то, что почти и ожидал:
— Мастер не желал, чтобы робот разговаривал с каким бы то ни было другим голосом, а голос самого Мастера теперь молчит…
— Но тебе-то он станет повиноваться?
— Да. Мастер оставил его в нашем распоряжении. Мы видим его глазами, куда бы он ни направился. Он наблюдает за механизмами, которые поддерживают существование этого озера, содержат его воду в чистоте. И все же будет правильнее называть его нашим партнером, а не слугой…
Над этим Олвин задумался. Некая идея, совсем еще туманная, полуоформившаяся, стала исподволь зарождаться в его мозгу. Вполне вероятно, что толчок ей дала обыкновенная жажда знания и силы. Когда впоследствии Олвин мысленно возвращался к этому моменту, он никак не мог с полной уверенностью разобраться в своих мотивах. В основных своих чертах они могли быть продиктованы вполне этоистическим чувством, но в то же время прослеживался в них и отзвук сострадания. Будь это в его силах, он поломал бы эту скучную череду совершенно тщетной жизни и освободил бы эти создания от их фантастической судьбы… Он не слишком хорошо представлял себе, что именно можно сделать для этого полипа, но вот излечить робот от его религиозного безумия было вполне в человеческих силах, а это, в свою очередь, высвободило бы и бесценную, сейчас наглухо запечатанную память уникального устройства…
— Уверены ли вы, — тщательно произнося слова, обратился он к полипу, хотя, конечно, адресовался и к роботу, — что, оставаясь здесь, вы и в самом деле исполняете волю Мастера? Ведь он хотел, чтобы мир узнал о его учении, а оно, пока вы скрывались здесь, в Шалмирейне, оказалось утеряно… Мы нашли вас по чистой случайности, но ведь могут быть и многие другие, кто хотел бы услышать о Великих…
Хилвар метнул на него быстрый взгляд. Он не понял намерений Олвина. Полип же, казалось, взволновался, и ритмичная пульсация его дыхательных органов дала вдруг мгновенный сбой. Затем последовал и ответ — голосом далеко не бесстрастным:
— Мы обсуждали эту проблему на протяжении многих и многих лет. Но мы не можем покинуть Шалмирейн, поэтому мир должен сам прийти к нам, какого бы времени это ни потребовало…
— Но у меня возникла куда лучшая идея, — живо отозвался Олвин. — Да, это верно, что вы должны оставаться здесь, в озере. Но ведь нет никаких причин к тому, чтобы с нами не отправился ваш компаньон. Он, разумеется, может возвратиться, как только сам этого захочет или же как только понадобится вам. Ведь с тех пор, как умер Мастер, многое изменилось, произошли события, о которых вам следует знать, но о которых вы никогда не узнаете и которых не поймете, если останетесь здесь…
Робот не шелохнулся, но полип, буквально в агонии нерешительности, полностью ушел под воду и оставался там в течение нескольких минут. Вполне могло быть, что в это время у него происходил беззвучный спор с его коллегой. Несколько раз он принимался было снова подниматься к поверхности, но, видимо, передумывал и опять погружался в воду. Хилвар воспользовался представившейся возможностью, чтобы обменяться с Олвином несколькими словами.
— Хотелось бы мне знать, что это ты намереваешься делать, — мягко произнес он, но в голосе его вместе с улыбкой звучала и озабоченность, — Или ты еще и сам не знаешь?
— Знаешь, я не сомневаюсь, что и тебе жалко этих бедняг, — ответил Олвин. — И разве спасти их — не значит проявить доброту?
— Это, конечно, верно. Но я достаточно тебя узнал, чтобы понять, что — ты уж прости — альтруизм доминантой твоего характера совсем не является. У тебя должен быть и какой-то другой мотив…
Олвин улыбнулся. Даже если Хилвар и не прочел его мысли — а у Олвина не было ни малейших оснований подозревать, что он это сделал, — то уж характер-то он действительно мог прочувствовать.
— У твоего народа в повиновении замечательные силы разума, — пытаясь увести разговор с опасного для него направления, сказал он. — Я думаю, вы сможете сделать что-нибудь для робота, если уж не для этого вот животного, — Олвин говорил очень мягко и тихо, опасаясь, что его могут подслушивать. Конечно, эта маленькая предосторожность могла оказаться и тщетной, но если робот и перехватывал их разговор, то не подал и виду.
К счастью, прежде чем Хилвар пустился в расспросы, полип снова появился из толщи воды. За последние несколько минут он стал значительно меньше размерами, а движения его приобрели какой-то хаотический характер. Прямо на глазах у Олвина и Хилвара целый кусок этого сложного полупрозрачного тела оторвался от целого и тотчас же вслед за этим стремительно распался на дюжину комочков, которые столь же быстро рассеялись в воде. Создание начало распадаться прямо на глазах.
Когда оно снова заговорило, голос его оказался неустойчив и понимать его стало куда трудней, чем прежде.
— Начинается следующий цикл, — выдохнуло оно каким-то дрожащим шепотом… — Не ожидали его столь скоро… осталось всего несколько минут… стимулирование слишком сильно… долго нам всем вместе не продержаться…
Во все глаза глядели Олвин и Хилвар на это существо, испытывая нечто вроде восхищения, смешанного с ужасом. Хотя процесс, происходящий на их глазах, и был совершенно естественным, было не слишком-то приятно наблюдать разумное, по всей видимости, существо, бьющееся в агонии. К тому же их еще и угнетало какое-то смутное ощущение собственной вины. Конечно, это было нелепо — думать так, потому что представлялось не столь уж важным, когда именно начинал полип свой очередной жизненный цикл, но они-то понимали, что причиной этой вот преждевременной метаморфозы явилось необычное волнение, вызванное именно их появлением.
Олвин сообразил, что теперь действовать нужно быстро, иначе представившаяся было возможность пропадет, — быть может, всего на несколько лет, но вполне возможно — и на долгие столетия.
— Так что же вы решили? — с жадным любопытством спросил он. — Что — робот отправится с нами?
Наступила мучительная пауза, в течение которой полип пытался заставить свое расползающееся тело повиноваться ему. Речевая диафрагма затрепетала было, но никакого явственного звука не воспоследовало. Затем, словно бы в отчаянном жесте прощания, существо слабо шевельнуло своими дрожащими щупальцами и снова уронило их в воду, где они немедленно оторвались и куда-то уплыли. Через какие-то считанные минуты трансформация завершилась. Не осталось ни одного кусочка величиной более дюйма. А вода кишела крохотными зеленоватыми точками, которые, казалось, жили и двигались по своему собственному разумению и быстро исчезали в пространстве озера.
Рябь на поверхности теперь совершенно исчезла, и Олвин каким-то образом понял, что пульс, бившийся в глубинах озера, теперь умолк. Озеро снова стало мертво — или, по крайней мере, представлялось таким. Но конечно же, это была всего лишь иллюзия: настанет день, неведомые силы, которые безупречно действовали на протяжении всего долгого прошлого, снова проявят себя, и полип возродится. Это был совершенно необычный и исключительно тонкий феномен — но так ли уж он был более странен, чем организованность другой обширнейшей колонии самостоятельных живых клеток — человеческого тела?
Олвин не стал терять времени на раздумья над всем этим. Он был подавлен поражением — даже если и не до конца представлял себе цель, к которой стремился. Им была упущена — и вряд ли теперь она повторится — ошеломляющая возможность… Он печально глядел на озеро, и прошло довольно продолжительное время, прежде чем его сознание восприняло какой-то сигнал извне, — это, оказывается, Хилвар что-то нашептывал ему в ухо:
— Слушай, Олвин, мне кажется, что в этом споре ты выиграл…
Олвин стремительно обернулся. Робот, который до сего момента праздно висел в воздухе, не приближаясь к ним больше чем на два десятка футов, оказывается, беззвучно переместился и теперь парил что-нибудь в ярде у него над головой. Неподвижные глаза, полем зрения которых была, по-видимому, вся передняя полусфера, ничем не выдавали, на что направлен его интерес. Но Олвин не сомневался — почти не сомневался, — что внимание робота сосредоточено теперь именно на нем.
Робот ждал его следующего шага. Наконец-то он был теперь под контролем у Олвина! Он мог последовать за ним в Лиз, а может, и в Диаспар, если только не передумает… Ну а пока именно он, Олвин, был его временным хозяином!
14
Возвращение в Эрли заняло у них почти три дня — потому отчасти, что Олвин, в силу собственных своих причин, не слишком-то торопился. Физическое исследование страны отступило теперь на второй план, вытесненное более важным и куда более волнующим проектом: медленно, но верно он находил общий язык с этим странным, одержимым интеллектом, который стал отныне его спутником.
Олвин подозревал, что робот пытается использовать его в своих собственных целях. Он не мог до конца разгадать мотивы этого аппарата, поскольку робот по-прежнему упорно отказывался разговаривать с ним. По каким-то соображениям — возможно, из опасения, что робот выдаст слишком уж много своих тайн, — Мастер предусмотрел эффективную блокировку его речевых цепей, и все попытки Олвина снять эти запреты оказались безуспешными. Даже косвенные вопросы типа: «Если ты ничего мне не ответишь, я буду считать, что ты сказал «да»», — провалились. Робот оказался слишком высокоорганизован, чтобы попасться в такую незатейливую ловушку.
Тем не менее в других сферах он проявил куда большую склонность к сотрудничеству. Он повиновался любым командам, которые не требовали выдачи какой-то информации. Спустя некоторое время Олвин обнаружил, что может повелевать этим устройством с такой же легкостью, как и роботами в Диаспаре, — одними мысленными приказаниями. Это был огромный шаг вперед. А немного спустя это создание — о нем трудно было думать как о всего лишь машине — еще больше ослабило свою настороженность и позволило Олвину пользоваться своими тремя глазами. Одним словом, оно не возражало против любых пассивных форм общения, но решительно пресекало все попытки Олвина сойтись поближе.
Хилвара оно совершенно игнорировало. Оно не повиновалось ни единой из его команд, и, похоже, мозг его был наглухо заперт для всех попыток Хилвара проникнуть в него. Сначала это было для Олвина своего рода разочарованием — ведь он надеялся, что большая, чем у него самого, способность Хилвара к телепатии поможет ему открыть сундук с сокровищами столь надежно спрятанных воспоминаний. И только позже Олвин осознал, какое это преимущество — иметь слугу, не подчиняющегося больше никому в мире.
Членом экспедиции, который резко воспротивился присутствию робота, оказался Криф. То ли он вообразил, что теперь у него появился соперник, то ли из каких-то более общих соображений неодобрительно отнесся к существу, которое может летать без крыльев, — это было неясно. Когда никто на него не смотрел, он сделал несколько попыток напасть на робота, но тот привел его в еще большую ярость тем, что не обратил на эти наскоки ни малейшего внимания. В конце концов Хилвару удалось его успокоить, и, когда они уже возвращались в мобиле, Криф, похоже на то, примирился с ситуацией. Робот и насекомое, словно какой-то эскорт, сопровождали мобиль, беззвучно скользящий по лесам и полям, и каждый держался стороны, где сидел его хозяин, делая вид, что соперника просто не существует.
Когда мобиль вплыл в Эрли, Сирэйнис уже ждала их. Этих людей изумить чем-то просто невозможно, подумал Олвин. Взаимопереплетающееся сознание позволяло им знать все, что происходит в Лизе. Ему была интересна их реакция на его поведение в Шалмирейне, о котором, надо полагать, здесь уже знал каждый.
Сирэйнис казалась чем-то обеспокоенной и еще более неуверенной, чем когда-либо, и Олвин тотчас вспомнил выбор, перед которым его поставили. В треволнениях нескольких последних дней он почти забыл о нем. Ему не хотелось тратить силы на решение проблем, время которых еще не наступило. Но теперь вот срок подошел вплотную: ему предстояло принять решение — в каком из двух миров он хочет жить.
Голос Сирэйнис, когда она заговорила, был исполнен тревоги, и у Олвина внезапно родилось впечатление, что в тех планах, которые Лиз строил в отношении его, что-то не сработало. Что произошло здесь за время его отсутствия? Побывали ли в Диаспаре эмиссары Лиза, чтобы провести манипуляции с мозгом Хедрона? И не постигла ли их неудача?
— Олвин, — начала Сирэйнис, — есть много такого, о чем я вам еще не рассказала, но теперь вам предстоит все это узнать, чтобы понять наши действия.
Вам известна одна из причин изоляции наших двух сообществ друг от друга. Страх перед Пришельцами, эта темная тень в сознании каждого человеческого существа, обратил ваших людей против мира и заставил их забыться в мирке собственных грез. Здесь, у нас, страх этот никогда не был столь велик, хотя это именно мы вынесли бремя последнего нашествия.
За всеми нашими действиями были самые лучшие мотивы, и то, что мы сделали, мы сделали с открытыми глазами.
Давным-давно, Олвин, Человек мечтал о бессмертии и наконец добился своего. Но люди как-то забыли, что мир, отринувший смерть, обязательно должен отринуть и жизнь. Способность продлить свое существование до бесконечности может принести удовлетворение отдельному индивидууму, но она же приносит застой сообществу людей. Много столетий назад мы принесли наше бессмертие в жертву развитию, но Диаспар все еще тешится ложной мечтой. Вот почему наши пути разошлись — и вот почему им никогда уже не соединиться…
Хотя Олвин почти ожидал именно этих слов, удар, тем не менее, был силен. И все же Олвин отказывался признать крушение своих планов, как бы смутны они ни были, и теперь воспринимал слова Сирэйнис только краешком сознания. Он понимал и фиксировал в памяти все, что она говорила, а сам в это же время мысленно снова возвращался в Диаспар, стараясь представить себе все те препятствия, которые могут оказаться воздвигнутыми на его пути.
Заметно было, что Сирэйнис чувствует себя не в своей тарелке. В голосе у нее звучала едва ли не мольба, и Олвин отлично понимал, что она обращается не только к нему, но и к своему сыну. Она прекрасно отдавала себе отчет в том взаимопонимании, в той приязни, которые выросли между ними за дни их совместного путешествия. Пока мать говорила, Хилвар внимательно глядел на нее, и Олвину казалось, что в этом его взгляде отражалась не только известная обеспокоенность, но и некоторая доля критицизма.
— Мы вовсе не хотим принуждать вас делать что-либо против вашей воли. Но, безусловно, вы должны понимать, что именно произойдет, если Диаспар и Лиз встретятся. Между нашими двумя культурами простирается пропасть столь же бездонная, как и та, что некогда разделяла Землю и ее древние инопланетные колонии. Подумайте хотя бы об одном этом факте, Олвин. Вы с Хилваром теперь одного примерно возраста. Но мы оба — и он, и я — будем уже мертвы на протяжении столетий, в то время как вы все еще будете оставаться юношей. И ведь это только первая из бесконечной череды ваших жизней…
В комнате было очень тихо — так тихо, что Олвину слышны были странные жалостные звуки, издаваемые в полях за поселком какими-то неведомыми ему животными. Наконец, почти шепотом, он произнес:
— Чего же вы хотите от меня?
— Мы надеялись, что сможем предоставить вам выбор — остаться здесь или вернуться в Диаспар. Но теперь это уже невозможно. Произошло слишком многое, чтобы мы могли теперь оставить решение в ваших руках. Даже за то короткое время, что вы пробыли здесь, у нас, ваше влияние на умонастроения людей оказалось в высшей степени дестабилизирующим. Нет-нет, я вас вовсе не упрекаю. Я совершенно уверена, что вы не имели в виду нанести нам какой бы то ни было ущерб. Но было бы куда лучше предоставить создания, которые встретились вам в Шалмирейне, их собственной судьбе… Ну а что касается Диаспара… — Сирэйнис раздраженно повела плечами. — О том, куда вы отправились, там уже знает слишком много людей. Мы не успели вовремя предпринять необходимые действия. И, что уж совсем серьезно, — человек, который помог вам открыть Лиз, исчез. Ни ваш Совет, ни наши агенты не смогли его обнаружить, так что он остается потенциальной угрозой нашей безопасности. Возможно, вы удивлены, что я все это вам рассказываю, но, видите ли, я делаю это без малейшей опаски. Боюсь, Олвин, что теперь перед вами выбора уже нет: мы просто должны отослать вас в Диаспар с искусственным набором воспоминаний. Эти воспоминания сконструированы для вас с огромной тщательностью, и когда вы возвратитесь домой, то не будете помнить о нас ровно ничего. Вы будете убеждены, что пережили скучные, но довольно опасные приключения в каких-то пещерах, где своды то и дело обрушивались за вашей спиной, и вы остались в живых потому только, что питались какими-то малоаппетитными сорняками, а воду с огромным трудом добывали в каких-то подземных родниках. Всю свою оставшуюся жизнь вы будете убеждены, что это и есть правда, и все в Диаспаре примут эту историю за истинную. Таким образом спрятана тайна, которая могла бы привлечь новых исследователей. Они будут думать, что уже знают о нашей земле все, что только можно узнать.
Сирэйнис умолкла и посмотрела на Олвина с мольбой. Пауза была недлинной.
— Мы очень сожалеем, что это необходимо, и просим у вас прощения, пока вы нас еще помните. Вы можете не принять наш вердикт и нашу логику, но ведь нам известно множество фактов, которые вам неведомы… По крайней мере, у вас не будет никаких сожалений, потому что вы будете верить, что открыли все, что только можно было обнаружить.
«Так ли это?» — подумал Олвин. Он сильно сомневался, что сможет снова погрузиться в рутину городского существования, даже если и убедит себя, что за стенами Диаспара нет ничего достойного внимания. И, более того, у него не было ни малейшего желания подвергаться такого рода эксперименту.
— И когда же вы намереваетесь произвести со мной эту… операцию? — спросил он.
— Немедленно. Вы уже готовы. Откройте мне свое сознание, как вы уже дел&зи это прежде, и вы ничего не ошутите до тех пор, пока снова не окажетесь в Диаспаре.
Некоторое время Олвин молчал, а затем тихо произнес:
— Я хотел бы попрощаться с Хилваром.
Сирэйнис кивнула:
— Да, я понимаю. Я оставлю вас здесь на некоторое время и вернусь, когда вы почувствуете, что готовы. — Она прошла к лестнице, что вела вниз, внутрь дома, и оставила их на крыше одних.
Олвин заговорил со своим другом не сразу. Он испытывал огромную грусть и в то же самое время непоколебимую решимость не позволить, чтобы все его надежды пошли прахом. Еще раз взглянул он на поселок, в котором обрел известную толику счастья, на поселок, который ему, возможно, уже не увидеть снова, если те, кто стоит за Сирэйнис, все-таки добьются своего. Мобиль все еще парил под одним из раскидистых деревьев, а бесконечно терпеливый робот висел над ним. Несколько ребятишек сгрудились вокруг этого странного пришельца, но из взрослых никто, казалось, не проявлял ни малейшего любопытства к странному аппарату.
— Хилвар, — внезапно нарушил тишину Олвин, — мне очень жаль, что все так получается…
— И мне тоже, — немедленно отозвался Хилвар, и голос его дрогнул от сдерживаемого чувства. — Я так надеялся, что ты сможешь остаться здесь…
— Ты полагаешь, что то, что собирается сделать Сирэйнис, — это правильно?
— Не вини мать. Она только выполняет то, что ее попросили сделать, — ответил Хилвар. Олвин не получил ответа на свой вопрос, но задать его снова не решился. Было бы непорядочно подвергать преданность друга такому испытанию.
— Тогда ты мне вот что скажи, — продолжал он. — Как твои люди могут меня остановить, если бы я вдруг попытался уйти от вас с нетронутой памятью?
— Это будет совсем нетрудно сделать. Если бы ты сделал попытку уйти, они бы овладели твоим сознанием и заставили бы тебя вернуться…
Именно этого Олвин и ожидал, и это его не обескуражило. Ему страшно хотелось довериться Хилвару, который — это было совершенно ясно — сокрушался по поводу предстоящего расставания, но он не решился подвергнуть свой план риску. Очень тщательно, выверяя каждую деталь, он снова просмотрел единственный путь, который только и мог привести его обратно в Диаспар — на нужных ему условиях.
Существовал только один рискованный момент, на который нужно было пойти и который он никак не мог устранить, чтобы защитить себя. Если Сирэйнис нарушила обещание и в эти вот минуты читала его мысли, то все его скрупулезные приготовления оказались бы ни к чему.
Он протянул Хилвару руку, тот крепко сжал ее, но не мог, казалось, вымолвить ни слова.
— Пойдем, встретим Сирэйнис, — предложил Олвин — Я бы хотел еще повидать некоторых жителей поселка, прежде чем уйти от вас…
Хилвар молча последовал за ним в прохладу дома и потом — через входные двери — на улицу, в кольцо из цветного стекла, окружающее дом. Сирэйнис ждала их там, и вид у нее был спокойный и решительный. Она, конечно, знала, что Олвин пытается что-то утаить от нее, и снова мысленно перебрала все предусмотренные ею меры предосторожности. Как человек, разминающий мускулы перед предстоящим ему большим усилием, она произвела смотр всему, что было в ее силах предпринять в случае необходимости.
— Вы готовы, Олвин? — спросила она.
— Совершенно готов, — ответил Олвин, но в голосе у него прозвучало нечто такое, что заставило Сирэйнис внимательно посмотреть на него.
— Тогда лучше всего будет, если вы сейчас отрешитесь от всех мыслей, как вы это уже умеете. После этого вы ничего не будете чувствовать и ничего не будете знать до тех пор, пока снова не окажетесь в Диаспаре.
Олвин повернулся к Хилвару и быстрым шепотом, который Сирэйнис не могла услышать, произнес:
— До свидания, Хилвар! Не тревожься… Я еще вернусь…
И снова обратился к Сирэйнис:
— Я не возмущаюсь тем, что вы намереваетесь совершить. Вы, бесспорно, верите, что это — лучший выход из положения, только вот, с моей точки зрения, вы сильно ошибаетесь. Диаспар и Лиз не должны оставаться навечно разобщенными. Надо думать, придет такой день, когда они отчаянно будут нуждаться в помощи друг друга. Вот поэтому-то я и отправляюсь домой со всем тем, что мне удалось здесь узнать, и я совсем не думаю, что вам удастся меня остановить.
Он не стал дожидаться ответа, и правильно сделал. Сирэйнис даже не пошевельнулась, но он тотчас же почувствовал, что его тело перестает ему повиноваться. Сила, столкнувшаяся с его волей, оказалась куда более могущественной, чем он ожидал, и это навело его на мысль, что Сирэйнис, возможно, помогало огромное число людей. Беспомощно повлекся он обратно к дому, и на какой-то ужасный момент ему даже подумалось, что великолепный его план провалился.
Но как раз в этот миг брызнуло сверкание металла и кристаллических глаз и руки робота мягко сомкнулись вокруг него. Его тело боролось с ними, и он знал, что оно так и должно себя вести, но борьба эта была бессмысленной. Земля ушла у него из-под ног, и на мгновение он увидел Хилвара, застывшего в совершеннейшем изумлении, с глуповатой улыбкой на лице.
Робот перенес его на несколько десятков футов гораздо быстрее, чем человек мог бы пробежать это расстояние. Сирэйнис потребовалось всего лишь мгновение, чтобы понять его ход, и он перестал извиваться в руках своего робота, когда она сняла контроль над его телом. Но Сирэйнис все еще не была побеждена, и тотчас же наступило то, чего Олвин боялся и с чем приготовился сражаться изо всех сил.
В его мозгу боролись теперь две совершенно различные сущности. Одна из них умоляла робота опустить его на землю. Настоящий Олвин, у которого перехватило дыхание, ждал, лишь вяло сопротивляясь тем силам, которых, он знал, ему не преодолеть. Это был азартный расчет: не существовало никакой возможности заранее предсказать с уверенностью, что робот, этот его ненадежный союзник, станет повиноваться тем сложным приказам, которые он ему отдал. Олвин сказал роботу, чтобы тот ни при каких обстоятельствах не повиновался его же, Олвина, командам, пока он не очутится в безопасности в Диаспаре. Таков был жесткий приказ. Если он окажется выполнен, то это будет означать, что Олвин вручил свою судьбу силам, которым совершенно не страшно вмешательство человека.
Без малейшего колебания робот устремился вдоль тропы, которую Олвин так тщательно нанес на карту его памяти. Часть сознания юноши все еще гневно умоляла, чтобы его освободили, но он уже понимал, что спасен, И тотчас же это поняла и Сирэйнис, потому что конфликтующие силы в его мозгу прекратили бороться друг с другом. Снова он был спокоен, как был спокоен тысячелетия назад другой путешественник, когда, привязанный к мачте своего корабля, он услышал, как пение сирен затихает над морем цвета темного вина.
15
Олвин не успокоился до тех пор, пока вокруг него снова не сомкнулись своды пещеры самодвижущихся дорог. Все еще существовала опасность, что Лиз сможет остановить или даже повернуть вспять вагон, в котором он мчался, и привезти его, беспомощного, в точку старта. Его возвращение, однако, стало ничем не примечательным повторением путешествия в Лиз. Через сорок минут после того, как он покинул станцию отправления, он оказался в усыпальнице Ярлана Зея.
Прокторы Совета, задрапированные в официальные черные одежды, которые были их униформой на протяжении столетий, уже ждали его. При виде этого «комитета по встрече» Олвин ничуть не удивился и почти не испытал никакой тревоги. К этому времени он преодолел такое количество всевозможных препятствий, что еще одно дело не меняло. С тех пор как он оставил Диаспар, он узнал такое количество всего, что с этим огромным знанием пришла и уверенность, граничащая с высокомерием, Кроме того, теперь у него был могущественный, хотя и не совсем надежный союзник. Лучшие умы Лиза не смогли противостоять его планам. Трудно сказать почему, но Олвин был уверен, что у Диаспара дела пойдут не лучше.
Под этой уверенностью были, конечно, и рациональные основания, но в целом она держалась на чем-то таком, что выходило за пределы рационального, — это вера в свое предназначение медленно, но упрямо укреплялась в сознании Олвина. Загадка его происхождения, успехи в достижении такого, что не удавалось еще ни одному человеку, новые перспективы, открывавшиеся перед ним, и то, что его не смогли остановить никакие препятствия, — все это только укрепляло его самоуверенность. Вера в собственную судьбу была одним из наиболее ценных даров, доставшихся Человеку, но Олвин не знал, сколь многих эта вера привела к полной катастрофе.
— Олвин, — обратился к нему предводитель городских прокторов, — у нас есть приказ следовать за тобой, куда бы ты ни направился, — до тех пор пока Совет не заслушает твое дело и не вынесет свой вердикт.
— И в чем же меня обвиняют? — поинтересовался Олвин. Он все еще переживал волнение, связанное с побегом, и никак не мог принимать всерьез этот новый поворот событий. А по поводу того, что Шут выдал его тайну, он испытал лишь мимолетное раздражение.
— Никаких обвинений не выдвинуто, — последовал ответ. — Если это окажется необходимым, то обвинение будет сформулировано после того, как тебя выслушают.
— И когда же это случится?
— Очень скоро, я полагаю. — Проктор, по всей видимости, испытывал неловкость и не был уверен, как именно следует ему выполнять свою малоприятную миссию. Он разговаривал с Олвином то как со своим товарищем-согражданином, то вдруг вспоминал о долге стража и напускал на себя преувеличенную отчужденность.
— Этот робот, — произнес он вдруг, указывая на спутника Олвина, — Откуда он? Это что — один из наших?
— Да нет, — ответил Олвин, — Я подобрал его в Лизе — ну в той стране, где я побывал. Я привел его сюда, чтобы он встретился с Центральным Компьютером.
Это спокойное заявление вызвало серьезное замешательство. Нелегко было принять уже тот факт, что существовав что-то и за пределами Диаспара, но то, что Олвин еще и привел с собой одного из обитателей того мира и предполагал познакомить его с мозгом города, было гораздо хуже. Взгляды, которыми обменялись прокторы, были столь беспомощными и тревожными, что Олвин едва удержатся от смеха.
Пока они шли через Парк — эскорт при этом держался в почтительном отдалении и переговаривался взволнованным шепотом, — Олвин взвешивал свой следующий шаг. Первое, что он должен сделать, это выяснить в точности, что же произошло здесь за время его отсутствия. Сирэйнис сказала, что Хедрон исчез. В Диаспаре можно было найти бессчетное число мест, где человек мог бы надежно укрыться, а поскольку Шут знал город, как никто другой, маловероятно было, что его найдут, если только он сам не решит снова выйти на люди. Олвину пришло в голову, что, возможно, ему удастся оставить записку где-нибудь в таком месте, что Хедрон просто не сможет ее не обнаружить, и договориться о встрече. Впрочем, присутствие охраны могло этому и помешать.
Ему пришлось признать, что наблюдение за ним вели весьма деликатно. К тому времени, как он добрался до своей комнаты, он почти забыл о существовании прокторов. Он полагал, что ему не помешают передвигаться свободно до тех пор, пока он не вознамерится снова покинуть Диаспар, но сейчас такого намерения у него не было. В сущности, он был твердо убежден, что возвратиться в Лиз прежним маршрутом станет уже невозможно. Подземная транспортная система уже, без сомнения, выведена из строя Сирэйнис и ее коллегами.
Прокторы не прошли за ним в комнату. Им было известно, что выход из нее имеется только один, и поэтому они расположились снаружи. Не имея инструкций касательно робота, они позволили ему сопровождать Олвина. У них не было ни малейшего желания связываться с этой машиной, чужеземное происхождение которой представлялось столь очевидным. По поведению ее они не могли судить, является ли она пассивным слугой Олвина или же действует, повинуясь собственным установкам. Принимая во внимание эту неопределенность, они, к полному своему удовлетворению, согласились оставить робота в покое.
Как только стена за ним сомкнулась, Олвин материализовал свой любимый диван и бросился на него. Нежась в знакомой обстановке, он вызвал из памяти города свои последние упражнения в живописи и скульптуре и принялся критически их разглядывать. Если они и прежде его не удовлетворяли, то теперь стали вдвойне неприятны, и он уже никак не мог заставить себя ими гордиться. Личности, которая создала их, больше не существовало. Олвину казалось, что несколько дней, проведенных им за пределами Диаспара, вместили в себя впечатления целой жизни.
Все эти многочисленные произведения периода своего отрочества он уничтожил — стер их навсегда, не став возвращать в Хранилища Памяти. Комната снова стала пуста, если не считать этого вот дивана, на котором он развалился, да робота, по-прежнему глядящего на него широко раскрытыми глазами неизмеримой глубины.
«Что думает робот о Диаспаре?» — мелькнула мысль. Но тут же Олвин припомнил, что робот вовсе не является для города чужаком: ведь он знавал город еще во времена его последних контактов со звездами.
Только совершенно освоившись с мыслью, что он снова дома, Олвин начал обзванивать друзей. Начал он с Эристона и Итании, хотя продиктовано это решение было скорее чувством долга, чем желанием снова видеть их и говорить с ними. Он не слишком опечалился, когда домашний коммуникатор приемных родителей сообщил ему, что связаться с ними нельзя, но все же оставил обоим коротенькое уведомление, что вернулся. Это было совсем не обязательно, поскольку теперь о его возвращении знал уже весь город. Тем не менее он надеялся, что они оценят его предусмотрительность. Он начал постигать науку осторожности — хотя еще и не осознал, что, как и от множества других добродетелей, от заботливости мало проку, если она не бессознательна.
Затем, действуя по внезапному наитию, Олвин вызвал номер, который Хедрон сообщил ему столь давно в башне Лоранна. Ответа он, само собой, не ожидал, но всегда сохранялась вероятность, что Хедрон все-таки оставил для него весточку.
Догадка оказалась справедливой. Но вот содержание послания было потрясающе неожиданным.
…Стена растворилась, и перед ним оказался Хедрон. Шут выглядел усталым и нервничающим, это был уже не тот уверенный в себе, слегка циничный человек, что направил Олвина по тропе, ведущей в Лиз. В глазах у него притаилось выражение загнанного зверя, а голос звучал так, словно у него уже не оставалось времени на разговоры.
— Это запись, Олвин, — начал он. — Ее можешь просмотреть только ты, и я разрешаю тебе использовать то, что ты сейчас узнаешь, как только тебе заблагорассудится. Мне уже все равно.
Когда я возвратился в усыпальницу Ярлана Зея, то обнаружил, что Алистра, оказывается, следила за нами. Надо думать, она сообщила Совету, что ты покинул Диаспар и что я тебе в этом помог. Очень скоро прокторы начали меня искать, и я решил уйти в подполье. Я к этому привык, мне уже приходилось поступать точно так же, когда некоторые мои шутки не встречали понимания… («Вот он, старый Хедрон!» — подумал Олвин.) Им бы не найти меня и в тысячу лет, но я чуть не попался кому-то постороннему. В Диаспаре есть чужаки, Олвин! Они могли прийти только из Лиза, и они ищут меня. Не знаю, к чему бы это, только мне все это как-то не нравится. То обстоятельство, что они чуть меня не поймали, — это в городе-то, где все для них, казалось бы, необычно и чуждо, — свидетельствует, что они вооружены телепатическими способностями. Я мог бы схватиться с Советом, но тут передо мной какая-то непостижимая угроза, и противостоять ей я не решаюсь.
Вот почему я просто предвосхищаю тот шаг, который мне, как я полагаю, все равно пришлось бы сделать по настоянию Совета, — мне ведь этим уже угрожали. Я отправляюсь туда, где никто уже не может меня настичь и где я пережду любые катаклизмы, какие только могут обрушиться на Диаспар. Быть может, я поступаю глупо. Но докажет это только время. В один прекрасный день я буду знать ответ.
Ты, конечно, уже догадался, что я последовал обратно, в Зал Творения, в безопасный мир Хранилищ Памяти. Что бы ни случилось, я целиком и полностью доверяюсь Центральному Компьютеру и силам, которые подвластны ему во имя процветания Диаспара. Если что-то нарушит работу Центрального Компьютера, то всем нам крышка. Ну а если нет, то мне нечего опасаться.
Мне покажется, что пролетит всего какой-то миг до того момента, когда я снова выйду на улицы Диаспара — через пятьдесят, а то и через сто тысяч лет. Интересно, какой город предстанет передо мной?.. Будет занятно, если я еще найду тебя в нем… И все же, как мне кажется, настанет день, когда мы снова встретимся. Не знаю — жду ли я этой встречи с нетерпением или боюсь ее…
Я никогда не понимал тебя, хотя было время — я оказался достаточно тщеславен тогда, чтобы думать, будто понимаю. Правду знает только Центральный Компьютер, и он же знает всю правду о тех Неповторимых, которые время от времени, на протяжении минувших тысячелетий, появлялись и бесследно исчезали. Интересно, выяснил ты уже или еще нет, что же именно с ними происходило?..
Одна из причин того, что я бегу в будущее, состоит, я полагаю, в том, что я нетерпелив. Мне страстно хочется побыстрее увидеть результаты начатого тобой, но мне нож острый — наблюдать все промежуточные стадии, которые — есть у меня такое подозрение — могут оказаться достаточно неприятными. Было бы интересно увидеть — в том мире, который будет вокруг меня через несколько коротких минут относительного времени, — помнят ли тебя как творца или как разрушителя, да и помнят ли вообще.
До свидания, Олвин. Мне хотелось бы дать тебе несколько советов, но я как-то не думаю, чтобы ты им последовал. Ты пойдешь собственным путем, как ты это всегда и делал, а твои друзья будут для тебя либо инструментами, которые следует использовать, либо ненужным балластом — смотря по сиюминутной ситуации.
Вот и все… Не знаю, что мне еще сказать…
Какое-то мгновение Хедрон — Хедрон, которого больше не существовало, если не принимать во внимание калейдоскоп электрических зарядов в ячейках памяти города, — еще смотрел на Олвина — с неприязнью и, похоже, с грустью. После чего экран снова опустел.
Когда изображение Хедрона исчезло, Олвин долго еще оставался недвижим. Ни разу за все прошедшие годы он не вглядывался в себя так, как сейчас, потому что не мог не согласиться с той правдой, что прозвучала в словах Хедрона. Когда это, спрашивается, было, чтобы он остановился, отложил в сторону все свои планы, все свои авантюры, чтобы задуматься — а как все это повлияет на судьбу его друзей? Пока что он доставлял им только беспокойство, но вот вскоре может присовокупить к этому и нечто куда более худшее — и все из-за своей ненасытной любознательности и настойчивого стремления постичь то, что не должно быть постигнуто человеком…
Хедрона он не любил. Эксцентрическая натура Шуга как-то не располагала к более теплым отношениям, даже если бы Олвин к ним и стремился. И все же, размышляя сейчас над прощальными словами Хедрона, он был буквально ошеломлен внезапно пробудившимися угрызениями совести. Ведь Шуту пришлось бежать в будущее именно из-за него, Олвина!..
Но, уж конечно, нетерпеливо возражал самому себе другой Олвин, винить себя в этом просто глупо. Бегство Шута лишь неопровержимо доказало известное — а именно, что Хедрон был трусом. Очень может быть, он в этом отношении и не выделялся из остальных жителей Диаспара, но ему не повезло — у него оказалось слишком уж сильно развитое воображение. Поэтому если Олвин и мог принять на себя некоторую долю ответственности за судьбу Шута, то, действительно, всего лишь некоторую, но уж никак не всю.
Кому еще в Диаспаре он навредил, кого опечалил? Он подумал о Джизираке, своем наставнике, который был так терпелив с ним, своим, должно быть, самым трудным учеником. Он припомнил все самые малейшие знаки доброты, которые проявляли по отношению к нему его родители все эти годы. Теперь это представлялось ему куда более значительным, чем в свое время…
И еще он подумал об Алистре. Она любила его, а он то принимал, то отвергал ее любовь — по своей прихоти. Быть может, откажись он от нее совсем, она стала бы хоть ненамного счастливее?
Теперь он понимал, почему никогда не испытывал по отношению к Алистре ничего похожего на любовь — ни к ней, ни к какой-нибудь другой женщине в Диаспаре. Это был еще один урок из тех, что преподал ему Лиз. Диаспар многое забыл, и среди забытого оказался и подлинный смысл любви. В Эрли он наблюдал, как матери тетешкали на руках своих малышей, и сам испытал эту нежность сильного, нежность защитника по отношению ко всем маленьким и таким беспомощным существам, которая есть альтруистический близнец любви. А вот в Диаспаре теперь не было уже ни одной женщины, которая знала бы или стремилась бы к тому, что когда-то являлось венцом любви.
В бессмертном городе не было ни сильных чувств, ни глубоких страстей. Вполне возможно, подобные чувства могли расцвестъ только в силу своей преходящести, ибо не могли длиться вечно и всегда были угнетены той тенью неизбежности, которую Диаспар уничтожил.
Это и был момент — если он вообще когда-нибудь существовал, — такой момент, когда Олвин осознал, какой же должна быть его судьба. До сих пор он выступал как бессознательный исполнитель собственных импульсивных желаний. Будь он знаком со столь архаичной аналогией, он мог бы сравнить себя со всадником на закусившей удила лошади. Она пронесла его по множеству странных мест и могла бы снова это сделать, но дикий ее галоп показал ему ее силу и научил осознанию собственной цели.
Эти раздумья Олвина внезапно прервал мелодичный звонок стенного экрана. Тембр сигнала подсказал ему, что это не был звонок связи — кто-то лично явился навестить его. Он дал сигнал «впустить» и через несколько мгновений оказался лицом к лицу с Джизираком.
Наставник выглядел суровым, но никакой враждебности в нем не чувствовалось.
— Меня попросили привести тебя в Совет, Олвин, — сказал он. — Совет ждет, он хочет послушать тебя. — В этот момент Джизирак заметил робота и принялся с любопытством его разглядывать. — Так это, значит, и есть тот самый спутник, которого ты привел с собой из путешествия! Я полагаю, будет правильно, если он отправится вместе с нами.
Это как нельзя более устраивало Олвина. Робот однажды уже вызволил его из опасной ситуации, и, возможно, ему, Олвину, придется снова прибегнуть к его помощи… Ему было страшно интересно узнать, что думает эта машина о тех приключениях и сложностях, в которые он ее вовлек, и в тысячный раз пожалел, что от него скрыто все, что происходит внутри этого на крепкие замки запертого разума. У него сложилось впечатление, что робот решил пока просто наблюдать, анализировать и делать собственные выводы, не предпринимая никаких самостоятельных действий до тех пор, пока время, по его мнению, не созрело. А тогда — возможно, совершенно внезапно — он может вознамериться начать действовать. Единственное, что никак не устраивало Олвина, так это то, что поступки робота могут не совпасть с его собственными планами. Его единственный союзник был связан с ним чрезвычайно слабыми ниточками собственного интереса и мог покинуть его в любой момент.
Алистра ждала их на пандусе, сбегающем к улице. Даже если бы Олвину и захотелось взвалить на нее вину за ту роль, которую она сыграла в обнаружении его тайны, у него не хватило бы на это духу. Ее отчаяние было слишком очевидным, а когда она метнулась ему навстречу, глаза у нее были полны слез.
— Ах, Олвин! — всхлипывала она. — Что им от тебя нужно?..
Олвин взял ее ладошки в руки с нежностью, которая удивила их обоих.
— Да не волнуйся, Алистра, — проговорил он. — Все будет хорошо. Ведь в конце-то концов даже в самом худшем случае Совет может всего-навсего отправить меня в Хранилища Памяти, но, знаешь, мне как-то не верится, что они на это пойдут…
Ее красота и очевидное отчаяние были так привлекательны, что даже в эту минуту Олвин почувствовал, что его тело на свой обычный манер откликается на присутствие девушки. Но это был всего лишь физический порыв. Он, конечно, не относился к нему с презрением, но одного его уже было недостаточно. Осторожно высвободив руки, он повернулся и следом за Джизираком отправился в Зал Совета.
Сердце Алистры изнывало от одиночества, однако горечи она уже не испытывала, когда глядела ему вослед. Теперь она знала, что Олвин не потерян для нее, потому что он никогда ей и не принадлежал. И, приняв это, она стала собираться с силами, чтобы уберечь себя от тщетных сожалений.
Олвин едва замечал любопытствующие или испуганные взгляды своих сограждан, когда он и его свита шли по знакомым улицам. Он все повторял в уме аргументы, которые ему, возможно, придется пустить в ход, и облекал свой рассказ в форму, наиболее для себя благоприятную. Время от времени он принимался уверять себя, что ни чуточки не встревожен и что именно он все еще является хозяином положения.
В приемной они прождали всего несколько минут, но Олвину этого хватило, чтобы подивиться — почему это, если ему ничуть не страшно, он ощущает такую вот странную слабость в коленках. Ощущение это было знакомым — по тем временам, когда он с трудом заставлял себя в Лизе взбираться по склону того холма, с вершины которого Хилвар показал ему водопад и откуда они увидели взрыв света, приведший их обоих в Шалмирейн. Что-то сейчас поделывает Хилвар, подумалось ему, и суждено ли им встретиться снова? И тотчас же ему представилось страшно важным, чтобы это оказалось возможным.
Огромные двери разошлись в стороны, и вслед за Джмзира-ком он вошел в Зал Совета. Все двенадцать его членов уже сидели вокруг своего стола, сделанного в виде полумесяца, и Олвину польстило, что он не увидел ни одного незанятого места. Вполне возможно, Совет в полном своем составе собрался впервые за много столетий. Как правило, его редкие заседания были пустой формальностью, поскольку все текущие дела решались через видеосвязь и, в случае необходимости, беседой председателя Совета с Центральным Компьютером.
Большинство из членов Совета Олвин знал в лицо, и присутствие такого числа знакомых придало ему уверенности. Как и Джизирак, эти люди не казались настроенными враждебно, они были всего-навсего изумлены и сгорали от нетерпения. В конце концов, все они были носителями здравого смысла. Они могли испытывать раздражение от того, что кто-то доказал им, что они ошибаются, но Олвину не верилось, что они затаили против него недоброжелательство. Когда-то такой вот выход мог оказаться чересчур поспешным, однако человеческая природа в некотором смысле улучшилась.
Они выслушают его безо всякой предвзятости, но вся штука-то была в том, что как раз их мнение и не имело решающего значения. Его, Олвина, судьей будет не Совет. Им станет Центральный Компьютер.
16
Не было никаких формальностей. Председатель объявил заседание открытым и повернулся к Олвину.
— Мы бы хотели, Олвин, — произнес он достаточно благожелательно, — чтобы ты рассказал нам, что произошло с тобой с того времени, как ты исчез десять дней назад.
Употребление слова «исчез» означает очень многое, подумалось Олвину. Даже и сейчас Совету не хотелось признавать, что Олвин побывал за пределами Диаспара. Он подумал — а знают ли эти люди о том, что в городе бывают чужие, и, в общем, усомнился в этом. Будь это так, они выказали бы куда больше тревоги.
Он рассказал свою историю ясно и ничуть ее не драматизируя. Она и без того была достаточно невероятна для их ушей и никаких украшательств не требовала. Только в одном месте он отошел от строго фактического изложения событий, ни слова нс сказав о том, каким образом ему удалось ускользнуть из Лиза. Представлялось более чем вероятным, что к этому методу ему придется прибегнуть снова.
Было очень интересно наблюдать, как отношение членов Совета к его рассказу мало-помалу изменялось. Сначала за столом сидели скептики, отказывающиеся примириться с отрицанием, по сути дела, всего, во что они верили, с разрушением своих сокровеннейших предрассудков. Когда Олвин поведал им о своем страстном желании исследовать мир, лежащий за пределами города, и о своем ни на чем, в сущности, не основанном убеждении, что такой мир в действительности существует, они смотрели на него как на какое-то диковинное существо. Но в конце концов им пришлось допустить, что он оказался прав, а они ошибались. По мере того как разворачивалась одиссея Олвина, сомнения, которые еще могли у них оставаться, постепенно рассеивались. Им могло очень и очень не нравиться то, что он им рассказывал, но они более не в состоянии были закрывать глаза на факты. Если у них и появлялось такое искушение, то стоило только кинуть взгляд на молчащего спутника Олвина, чтобы тотчас избавиться от него.
Лишь один аспект всей этой истории привел их в раздражение, да и то направлено оно оказалось не на него. Гул недовольства пронесся над столом, когда Олвин рассказал о страстном желании Лиза избежать нечистого контакта с Диаспаром и о шагах, которые предприняла Сирэйнис, чтобы избежать этой, с ее точки зрения, катастрофы. Город гордился своей культурой, и к этому у него были все основания. И то обстоятельство, что кто-то позволял себе рассматривать жителей Диаспара как какие-то существа низшего порядка, было для членов Совета просто невыносимо.
Олвин очень старался, чтобы ничем не задеть слушателей. Ему хотелось завоевать Совет на свою сторону. Он все время пытался создать впечатление, что не видит ничего плохого в том, что совершил, и что за свои открытия он скорее надеется получить похвалу, а не порицание. Это была самая лучшая из всех возможных тактик, ибо она заранее обезоруживала возможных критиков. Кроме того, она до некоторой степени возлагала всю вину на скрывшегося Хедрона. Слушателям было ясно, что сам Олвин — существо слишком уж юное — не мог усмотреть в том, что он совершает, какой-то опасности. Шуту же, напротив, следовало бы отдавать себе отчет в том, что он действует исключительно безответственно. Они еще не знали, насколько сам Хедрон был с ними согласен.
Наставник Олвина тоже заслуживал некоторого порицания, и время от времени кое-кто из советников бросал на него задумчивые взоры. Джизирак, казалось, не обращал на это никакого внимания, хотя, конечно, великолепно понимал, какие именно мысли бродят в этих головах. В том, чтобы быть наставником этого самого оригинального ума из всех появлявшихся в Диаспаре со времен Рассвета, была известная честь, и в этом-то никто Джизираку не мог отказать.
Олвин не стал ни в чем убеждать членов Совета, пока не закончил рассказ о своих приключениях. В общем, ему нужно было как-то уверить этих людей в истинности всего увиденного им в Лизе, но как он, спрашивается, мог заставить их сейчас понять и представить себе то, чего они никогда не видели и едва ли могли себе вообще вообразить?
— Мне представляется большой трагедией, — говорил Олвин, — что две сохранившиеся ветви человечества оказались разобщенными на такой невообразимо огромный отрезок времени. Возможно, он и наступит, тот день, когда мы узнаем, почему так произошло, но сейчас куда более важно поправить дело и принять все меры к тому, чтобы впредь такого не случилось. Когда я был в Лизе, то протестовал против мнения, что они превосходят нас. У них может оказаться много такого, чему они в состоянии нас научить, но ведь и мы можем дать им многое. Если же мы станем считать, что нам нечего почерпнуть друг у друга, то разве не очевидно, что не правы будут и те и другие?
Он выжидательно посмотрел на полукольцо лиц и с воодушевлением продолжил:
— Наши предки построили общество, которое достигло звезд. Люди перемещались между этими мирами, как им заблагорассудится, а теперь их потомки носа не высунут за стены своего города. Хотите, я скажу вам — почему? — Он сделал паузу. В огромном пустом помещении никто не шелохнулся. — Да потому, что мы боимся — боимся чего-то, что случилось на самой заре истории. В Лизе мне сказали правду, хотя я и сам давно уже об этом догадался. Неужели же мы должны вечно, как сущие трусы, отсиживаться в Диаспаре, делая вид, что, кроме него, ничего больше не существует, и только потому, что миллиард лет назад Пришельцы загнали нас на Землю?
Он затронул их потаенный страх — страх, которого он никогда не разделял и всей глубины которого он никогда полностью не мог оценить. Пусть-ка теперь поступают как хотят. Он высказал им правду, как он ее понимал.
Председатель Совета, нахмурившись, посмотрел на него:
— У тебя есть еще что-нибудь, что ты хотел бы сказать? Прежде чем мы начнем обсуждение, что же следует предпринять…
— Только одно. Я бы хотел отвести этого робота к Центральному Компьютеру.
— Но зачем? Ты же знаешь, что Компьютеру уже известно все, что произошло в этом зале…
— И все-таки я считаю это необходимым, — вежливо, но упрямо проговорил Олвин. — Я прощу разрешения у Совета и у Компьютера.
Раньше, чем председатель смог ответить, в тишине зала раздался голос — ясный и спокойный. Никогда прежде за всю свою жизнь Олвин не слышал его, но он знал, чей это голос. Информационные машины — не более чем периферийные устройства этого гигантского разума — тоже умели разговаривать с человеком, но в их голосах не было этого безошибочного оттенка мудрости и властности.
— Пусть он придет ко мне, — произнес Центральный Компьютер.
Олвин перевел взгляд на председателя. Надо отдать ему должное, он не пытался торжествовать свою победу.
Он просто спросил:
— Вы разрешите мне покинуть вас?
Председатель оглядел Зал Совета, не увидел ни малейшего движения несогласия и ответил — несколько беспомощно:
— Очень хорошо… Прокторы пойдут с тобой, а когда мы закончим обсуждение, то приведут тебя обратно…
Олвин слегка поклонился в знак признательности, огромные двери снова раздвинулись перед ним, и он медленно вышел из зала. Джизирак последовал за ним и, когда створки дверей снова сомкнулись, повернулся к своему воспитаннику.
— Как ты думаешь, что теперь сделает Совет? — нетерпеливо спросил тот.
Джизирак улыбнулся.
— Нетерпелив, как всегда? Верно? — сказал он. — Не знаю, чего стоит моя догадка, но полагаю — они постановят запечатать усыпальницу Ярлана Зея, чтобы никто никогда не смог повторить твоего путешествия… И Диаспар сможет продолжать жить прежней жизнью, не тревожимый внешним миром…
— Этого-то я и боюсь, — горько проговорил Олвин.
— А ты все еще надеешься не допустить до этого?
Олвин ответил не сразу. Он понимал, что Джизирак разгадал его намерения, но уж конкретные-то планы его он никак не мог предугадать, поскольку никаких таких планов не существовало. Он вступил в полосу, когда на каждую новую ситуацию он мог откликаться всего-навсего импровизацией.
— Ты винишь меня? — наконец произнес он, и Джизирак удивился новой нотке, прозвучавшей в голосе юноши. Он услышал в нем какой-то намек на униженность и едва заметное напоминание о том, что впервые за все время Олвину понадобилось словечко одобрения от товарища. Джизирака это тронуло, но он был достаточно мудр, чтобы не принимать всерьез эту слабость. Олвин сейчас находился в состоянии огромного напряжения, и было бы опрометчиво думать, что это вот внезапное исправление его характера может вдруг обернуться чем-то постоянным.
— На этот вопрос ответить очень нелегко, — медленно проговорил Джизирак, — Меня так и подмывает напомнить тебе, что любое знание ценно, и просто глупо было бы отрицать, что ты очень многое добавил к нашему знанию. Но ведь ты также умножил и число подстерегающих нас опасностей… А в конечном счете — что окажется важней? Как часто ты задумывался над этим?
Несколько секунд учитель и ученик пристально смотрели друг на друга, и каждый, возможно, понимал другого яснее, чем когда-либо прежде. Затем, повинуясь одному и тому же импульсу, они направились по длиннейшему коридору прочь от Зала Совета, а их молчаливый эскорт терпеливо последовал за ними — в некотором отдалении.
…Эти пространства — Олвин хорошо это понимал — не были предназначены для Человека. Под пронзительным сиянием голубых огней — настолько ослепительных, что от них больно было глазам, — длинные и широкие коридоры простирались, казалось, в бесконечность. Роботы Диаспара, должно быть, скользили по этим переходам с незапамятных времен, но стены здесь еще ни разу не отзывались эхом на звук человеческих шагов.
Здесь раскинулся подземный город — город машин, без которых Диаспар не мог существовать. В нескольких сотнях ярдов впереди коридор открывался в круглое помещение диаметром более чем в милю, свод которого поддерживали огромные колонны, — там, на поверхности, на них опирался фундамент и весь неизмеримо огромный вес Центральной Энергетической.
Это и было помещение Центрального Компьютера. Именно здесь он каждый мельчайший миг размышлял над судьбой Диаспара.
Олвин разглядывал помещение. Оно оказалось даже более обширным, чем он решался себе представить, но где же был сам Компьютер? Почему-то Олвин ожидал увидеть одну исполинскую машину, хотя в то же самое время и понимал, что такое представление достаточно наивно. Величественная и лишенная всякого видимого смысла панорама, распахнувшаяся перед ним, заставила его застыть в изумлении, сдобренном значительной долей неуверенности.
Коридор, по которому они пришли сюда, обрывался высоко в стене, замыкающей это огромное пространство — самую гигантскую из всех пещер, когда-либо вырытых человеком. По обе стороны устья коридора длиннейшие пандусы полого спускались вниз, к далекому полу. И все это залитое нестерпимым светом место покрывали сотни гигантских белых структур, настолько порой неожиданных по форме, что какое-то мгновение Олвину чудилось, будто он видит необыкновенный подземный город. Это впечатление было поразительно живым и осталось в памяти Олвина на всю жизнь. И нигде глаз его не встречал того, что он так ожидал увидеть, — не было знакомого блеска металла, этой от века непременной принадлежности любого машинного слуги человека.
Здесь находились продукты конечной стадии эволюционного процесса — почти столь же долгого, как и эволюция самого человечества. Его начало терялось в тумане Веков Рассвета, когда люди впервые научились сознательно использовать энергию и пустили по городам и весям свои лязгающие машины. Пар, воду, ветер — все запрягли они в свою упряжку на некоторое время, а затем отказались от них. На протяжении столетий энергия горения давала жизнь миру, но и она оказалась превзойдена, и с каждой такой переменой старые машины предавались забвению, а их место занимали новые. Очень медленно, в течение тысячелетий, люди приближались к идеальному воплощению машины — воплощению, которое когда-то было всего лишь мечтой, затем — отдаленной перспективой и, наконец, стало реальностью:
НИ ОДНА МАШИНА НЕ МОЖЕТ ИМЕТЬ ДВИЖУЩИХСЯ ЧАСТЕЙ.
Это был идеал, Чтобы достичь его, человеку, возможно, потребовалось сто миллионов лет, и в момент своего триумфа он навсегда отвернулся от машины. Она достигла своего логического завершения и отныне уже сама могла вечно поддерживать свое собственное существование, верно служа Человеку.
Олвин больше не спрашивал себя, какие же из этих не издающих ни звука белых сооружений были Центральным Компьютером. Он знал, что гигантская машина вбирает их все, а сама простирается далеко за пределы этого вот помещения, ибо включает в себя и все остальные машины, имеющиеся в Диаспаре, — движущиеся и неподвижные. Его собственный мозг был суммой многих миллиардов отдельных клеток, собранных в пространстве размерами всего в несколько, дюймов, а физические элементы Центрального Компьютера были рассеяны по всему пространству Диаспара. В этом же зале могла располагаться не более чем коммутационная система, с помощью которой мириады отдельных частей Компьютера подключались друг к другу.
Не очень представляя себе, куда же теперь направиться, Олвин смотрел вниз, на огромные пологие дуги пандусов и на все, что простиралось за ними. Центральный Компьютер должен знать, что он уже здесь, как он знает обо всем, что происходит в Диаспаре. Олвину оставалось только ждать от него инструкций.
Уже знакомый, но по-прежнему вызывающий благоговение голос был так тих и раздался так близко от Олвина, что тому даже показалось, что Джизирак вряд ли его слышит.
— Спуститесь по левому пандусу, — сказал голос. — Там я дам вам новые инструкции.
Олвин медленно двинулся вниз по покатой плоскости, и робот по-прежнему реял над ним. И Джизирак, и прокторы остались на своих местах. Интересно, подумалось Олвину, получили ли они приказание оставаться наверху или же решили, что им и отсюда все будет отлично видно и поэтому нет никаких причин к тому, чтобы утомлять себя долгим спуском. Или, возможно, они до такой степени приблизились к святая святых Диаспара, что просто не могли найти в себе решимости двинуться дальше?
Пандус кончился, и тихий голос дал Олвину новое направление. Он выслушал и двинулся по широкой улице между спящими титаническими структурами. Голос еще трижды говорил с ним, и наконец он понял, что достиг цели.
Машина, перед которой он теперь стоял, была размерами поменьше, чем все остальные вокруг, но все равно, стоя перед ней, Олвин ощущал себя каким-то карликом. Пять уровней с их стремительно льющимися горизонтальными линиями отдаленно напоминали какое-то затаившееся перед прыжком животное, и, переведя взгляд с этого сооружения на своего собственного робота, Олвин едва мог поверить, что обе эти машины — продукт одной и той же эволюции и что суть их — одна и та же.
Примерно в трех футах от пола по всему фасаду сооружения шла прозрачная панель. Олвин прижался лицом к гладкому, странно теплому материалу и стал вглядываться внутрь. Сначала он ничего не мог разобрать. Затем, загородив глаза ладонями, чтобы унять льющийся с боков ослепительный свет, он различил тысячи и тысячи слабенько светящихся точек, висящих в пустоте. Они образовывали решетку — столь же непостижимую для него и лишенную всякого смысла, какими для древних людей были звезды. Он неотрывно смотрел на этот рисунок в течение нескольких минут и не заметил, чтобы цветные эти огоньки меняли свои места или яркость.
Впрочем, подумал Олвин, загляни он в свой собственный мозг, то понял бы не больше. Машина представлялась инертной и неподвижной, потому что он не мог наблюдать сам процесс ее мышления.
Только теперь он начал смутно догадываться о силах и энергии, обеспечивающих существование города. Всю свою жизнь он, как нечто само собой разумеющееся, воспринимал, скажем, чудо синтезирования, которое из века в век обеспечивало все нужды Диаспара. Тысячи раз наблюдал он этот акт творения, редко отдавая себе отчет в том, что где-то должны существовать прототипы всего, что он видит входящим в его мир.
Подобно тому как человеческий мозг может в течение некоторого времени задержаться на одной-единственной мысли, так и бесконечно более сложные мыслительные устройства, являющиеся всего лишь частью Центрального Компьютера, тоже могли зафиксировать и удерживать — вечно — самые хитроумные идеи. Матрицы всех без исключения синтезируемых предметов были заморожены в этом вечном сознании, и требовалось только выражение человеческой воли, чтобы они стали вещной реальностью.
Мир и в самом деле далеко ушел с той поры, как первые пещерные люди час за часом терпеливо оббивали куски неподатливого камня, изготавливая наконечники для стрел и ножи…
Олвин ждал, не решаясь заговорить, знака, что его присутствие замечено. Ему было любопытно — каким образом Центральный Компьютер знает, что он здесь, как он видит его и слышит его голос. Нигде не было заметно ни малейших признаков каких-либо органов чувств, ни одного из тех бесстрастных кристаллических глаз, акустических решеток и экранов, через которые роботы обычно получали сведения об окружающем.
— Изложите вашу проблему, — раздался вдруг у самого уха все тот же тихий голос. Было странно, что это гигантское скопление машин может выражать свои мысли столь негромко. Затем до Олвина дошло, что он себе льстит: очень могло быть, что с ним имеет дело едва ли миллионная часть Центрального Компьютера. Олвин был не более чем одним из неисчислимых инцидентов, одновременно занимающих внимание Компьютера, следящего за жизнью Диаспара.
Было совсем нелегко разговаривать в присутствии чего-то, что заполняет все пространство вокруг тебя. Слова, казалось, умирали, едва Олвин их произносил.
— Что я такое? — спросил он.
Если бы он задал этот вопрос одной из информационных машин города, он бы заранее знал, каков будет ответ. В общем-то, он частенько так поступал, и они всегда отвечали: «Вы — человек». Но теперь он имел дело с разумом совершенно иного порядка, и не было никакой необходимости в семантической тщательности. Центральный Компьютер должен был знать, что именно имеет в виду вопрошающий, но это, правда, вовсе еще не означало, что он обязательно ответит на вопрос.
И в самом деле, ответ оказался именно таким, какого и опасался Олвин:
— На этот вопрос я не могу отвечать. Поступить так — значило бы открыть цель моих создателей и тем самым аннулировать возможность ее достижения.
— Выхолит, моя роль была запланирована, еще когда город только создавался?
— Это можно сказать о каждом.
Такой ответ заставил Олвина задуматься. Сам по себе ответ был достаточно корректен: человеческий компонент Диаспара создавали так же тщательно, как и всю машинерию города. То обстоятельство, что Олвин оказался Неповторимым, просто выделяло его из остальных как нечто достаточно редкостное, однако было совершенно необязательно считать, что в этой его особенности заключалось какое-то достоинство.
Он понял, что относительно тайны своего рождения ему здесь больше ничего не узнать. Бессмысленным было даже пытаться заманить в ловушку это гигантское сознание или надеяться. что оно само выдаст вдруг информацию, которую ему приказано было сохранять в глубочайшей тайне. Олвин, однако, не стал убиваться от разочарования по этому поводу. В глубине души он чувствовал, что ему уже удается приблизиться к истине, да и в любом случае цель его прихода сюда состояла вовсе не в этом.
Он взглянул на робота, которого привел из Лиза, и задумался, как же построить свой следующий шаг. Знай робот, что именно он планирует сделать, он вполне мог бы прореагировать весьма бурно. Именно поэтому представлялось таким существенным, чтобы он никоим образом не подслушал то, что Олвин намеревался сейчас сообщить Центральному Компьютеру.
— Можешь ты создать Зону Тишины? — обратился он к Компьютеру.
В тот же самый миг он испытал то самое безошибочное «мертвое» ощущение — результат полнейшего исчезновения даже самых слабых звуков, — которое наступало, когда человек оказывался в такой зоне. Голос Компьютера, теперь странно тусклый и даже какой-то зловещий, обратился к нему:
— Сейчас нас никто не слышит. Что вы хотели мне сообщить?
Олвин кинул взгляд на своего робота. Тот даже не шелохнулся. Вполне возможно, что он ничего и не подозревал и Олвин просто-напросто ошибался, полагая, что у робота есть какие-то свои планы. Вполне вероятно, что робот последовал за ним в Диаспар просто как верный, вполне послушный слуга. В таком случае то, что Олвин сейчас намеревался проделать, представлялось в особенности коварным трюком.
— Ты слышал, при каких обстоятельствах я повстречал этого робота, — начат Олвин. — Как мне представляется, он должен обладать бесценными знаниями о прошлом, которое восходит еще к тем дням, когда наш город— в том виде, каким мы его знаем теперь, — просто не существовал. Робот, вполне может быть, даже способен рассказать нам о других, кроме Земли, мирах, поскольку он сопровождай Мастера в его странствиях. Но вот, к сожалению, его речевой канат заблокирован. Не знаю, насколько эффективен этот блок, но я прошу тебя снять его.
Голос его звучал безжизненно и сухо, потому что Зона вбирала каждый звук, прежде чем он мог вызвать эхо. Стоя внутри этого невидимого душного кокона, Олвин ждал, чтобы его просьбу либо отвергли, либо исполнили.
— Просьба порождает две проблемы, — отозвался Компьютер — Одна из них нравственная, другая — техническая. Этот робот был сконструирован с тем, чтобы повиноваться приказам совершенно определенного человека. Какое право я имею отменить эту установку, даже если бы и был в состоянии сделать это?
Олвин предвидел такой вопрос, и у него уже было припасено несколько ответов.
— Нам неизвестно, какую конкретно форму приняли запреты Мастера, — сказал он. — Если ты сумеешь заговорить с роботом, то, вероятно, сможешь убедить его, что обстоятельства, при которых был поставлен блок, теперь переменились…
Это, разумеется, был самый очевидный подход. Олвин и сам пытался прибегнуть к такой вот стратегии — безо всякого, впрочем, успеха, — и надеялся, что Центральный Компьютер с его бесконечно более обширными интеллектуальными ресурсами сможет совершить то, что не удалось ему.
— Все это полностью зависит от характера блокировки, — последовал ответ, — Вполне мыслимое дело — создать такую блокировку, которая, если попытаться ее снять, сотрет содержимое всех цепей памяти. Я, впрочем, не думаю, что этот самый Мастер обладал достаточными навыками, чтобы сделать это, — здесь требуется довольно-таки специфическая техника. Я спрошу твою машину, была ли установлена стирающая цепь в ее блоках памяти.
— Но предположим, — быстро сказал Олвин с внезапной тревогой, — что даже вопрос о существовании стирающих цепей приведет к ликвидации памяти…
— Для таких случаев существует стандартная процедура, и я буду ей следовать. Я выставлю вторичные условия, приказав роботу игнорировать мой вопрос, если такая мера предосторожности была в него встроена. После этого уже весьма несложно обеспечить ситуацию, в которой машина будет вовлечена в логический парадокс, когда, и отвечая мне, и отказываясь отвечать, она будет вынуждена нарушить данные ей инструкции. В таких случаях все роботы действуют одинаково, стремясь к самозащите. Они освобождают входные цепи, по которым к ним извне поступают сигналы, и ведут себя так, словно им вообще не задавали никакого вопроса.
Олвин уже испытывал угрызения совести, что затронул эту тему, и после некоторой внутренней борьбы признал, это на месте робота принял бы именно эту тактику и сделал бы вид, что просто не расслышал вопроса. В одном, по крайней мере, он был теперь уверен: Центральный Компьютер оказался совершенно готов иметь дело с любыми ловушками, какие только могут быть установлены в блоках памяти робота. У Олвина не было ни малейшего желания видеть своего слугу превращенным в груду лома. Он скорее бы добровольно вернул его в Шалмирейн со всеми его тайнами.
Собрав все свое терпение, он ждал, покуда два молчаливых интеллекта общались друг с другом неощутимо для всего остального мира. Это был диалог двух сознаний, каждое из которых было создано человеческим гением в давным-давно минувший золотой век его самых замечательных достижений. А теперь ни тот ни другой разум не могли быть полностью поняты кем бы то ни было из живущих на Земле людей.
Прошло несколько томительных минут, прежде чем пустой, незвучный голос Центрального Компьютера не раздался снова.
— Я установил частичный контакт, — произнес голос. — По крайней мере, теперь мне известен характер блокировки, и я думаю, что знаю, по какой причине она была предусмотрена. Снять се можно только одним способом: этот робот не заговорит снова до тех пор, пока на Землю не придут какие-то «Великие»…
— Но ведь это же нелепость! — запротестовал Олвин. — Адепты Мастера верили в них, и один даже пытался объяснить нам, что такое эти «Великие»… По большей части это было что-то совершенно невразумительное. Эти самые «Великие» никогда не существовали и никогда не будут существовать!..
Поражение представлялось полным, и Олвин испытал горькое и какое-то еще и беспомощное разочарование. Между ним и Истиной встал человек, который, помимо того что был сумасшедшим, еще и умер миллиард лет назад…
— Возможно, вы и правы, — откликнулся Центральный Компьютер, — когда говорите, что «Великих» не было. Но это совсем не означает, что они не появятся…
Наступила долгая пауза, во время которой Олвин раздумывал над смыслом этого замечания, а две мыслящие машины снова вошли в контакт друг с другом.
И внезапно, безо всякого предупреждения, он снова очутился в Шапмирейне.
17
Все здесь оставалось в точности по-прежнему. Огромная аспидно-черная чаша пила солнечный свет и ни крупицы его не отражала в глаз человека. Олвин стоял среди руин крепости и глядел на озеро, чьи спокойные воды свидетельствовали о том, что гигантский полип стал теперь не более чем рассеянным облаком живых клеток, не имеющих ничего общего с организованным в определенные формы разумным существом.
Робот по-прежнему находился рядом, но Хилвара не было и в помине. Олвину некогда было размышлять, что бы все это значило, или проявлять беспокойство по поводу отсутствия друга, потому что почти тотчас же произошло нечто столь фантастическое, что оно напрочь выбило из его головы все посторонние мысли.
Небо стало раскалываться надвое. Тонкая полоска черноты протянулась от горизонта к зениту и стала медленно расширяться, как если бы тьма и хаос обрушивались на Вселенную. Неумолимо эта полоса становилась все шире и шире, пока не охватила четверть небесной сферы. Несмотря на все свои познания в области реальных астрономических фактов, Олвин никак не мог отделаться от ошеломляющего впечатления, что кто-то извне вламывается в его мир через щель в огромном голубом куполе неба…
Крыло ночи перестало расти. Силы, породившие его, теперь смотрели вниз, на этот игрушечный мир, который они обнаружили здесь, и, быть может, советовались между собой — стоит ли этот мир их внимания. Олвин не испытывал ни тревоги, ни страха. Он почему-то знал, что находится лицом к лицу с такой силой и с такой мудростью, перед которыми человек должен испытывать не страх, а только благоговение.
И теперь силы эти пришли к решению: да, они потратят несколько ничтожно малых частиц вечности на Землю и ее обитателей. Они стали спускаться вниз через это окно, проделанное в небесах.
Словно искры от какого-то небесного горна, они падали вниз, на Землю. Все гуще и гуще становился этот поток, пока с высоты не полилась целая река огня, растекающаяся по поверхности земли озерами жидкого света. Олвин не нуждался в словах, которые теперь звучали в его ушах как благословение:
«Великие пришли…»
Пламя достигло и его, но оно не обжигало. Повсюду пылало оно, наполняя циклопическую чашу Шалмирейна золотым сиянием. В изумлении глядя на все это великолепие, Олвин отметил, что поток света вовсе не аморфен, он обладал и формой, и структурой. Жидкий огонь стал принимать определенные очертания, собираясь в отдельные яростные пламявороты. Вихри эти принялись вращаться все быстрее и быстрее вокруг своих осей, а центры их стали подниматься, образуя колонны, внутри которых Олвин мог разглядеть какие-то загадочные образования. От этих сверкающих тотемных столбов исходила едва слышная музыка, бесконечно далекая и бесконечно чарующая.
«Великие пришли…»
На этот раз последовал и ответ. Когда Олвин услышал слова: «Слуги Мастера приветствуют вас. Мы вас ждали», — он понял, что все барьеры рухнули. Но в этот же самый миг и Шалмирейн, и его странные гости исчезли, и он снова очутился перед Центральным Компьютером в глубинах своего Диаспара.
Все это оказалось иллюзией — не более реальной, чем фантастический мир саг, в котором в юности он провел так много часов. Но как она была создана? Откуда взялись эти странные видения, так явственно представившиеся ему?
— Проблема оказалась не совсем обычной, — прозвучал тихий голос Центрального Компьютера, — Я предположил, что у вашего робота должна быть какая-то зрительная концепция «Великих». Если бы я смог убедить его, что чувственные представления, получаемые им, совпадают с этими зрительными образами, остальное было бы уже просто.
— И как же ты этого достиг?
— В основном, расспрашивая робота, на что были похожи эти «Великие», и затем перехватив образ, сформированный его сознанием. Рисунок оказался весьма неполным, и многое мне пришлось вложить от себя, импровизируя на ходу. Раз или два картина, которую я создавал, начинала было резко расходиться с концепцией робота, но уже в самые первые мгновения я успевал отметить нарастающее недоумение робота и изменял образ, прежде чем он становился подозрительно непохожим. Вам, конечно, понятно, что я в состоянии задействовать сотни своих вычислительных цепей, тогда как в его распоряжении лишь одна, и могу переключаться с одной на другую настолько быстро, что этот процесс не может быть воспринят. Это был своего рода фокус, я смог насытить сенсорные цепи робота и в то же время подавить его способность к критическому воспитанию. То, что вы увидели, оказалось лишь окончательной — самой правильной — картиной, наиболее полно приближающейся к тому, что представлял себе этот Мастер. Но она не отличалась особой тонкостью, хотя и оказалась вполне достаточной. Робот был убежден в ее подлинности достаточно долгое время, чтобы снять блокировку, и в этот-то момент я и обеспечил абсолютный контакт с его сознанием. Он более не сумасшедший. Он ответит теперь на любой вопрос, какой вы только пожелаете ему задать.
Голова у Олвина все еще шла кругом. Яркое зрительное эхо внезапного апокалипсиса еще горело перед его внутренним взором, и он и вида не делал, что полностью понимает объяснения Центрального Компьютера. Но это все не имело уже никакого значения. Чудо исцеления свершилось, и врата в храм знания широко распахнулись перед ним, маня войти в них.
Но он тут же припомнил предостережение Центрального Компьютера и спросил тревожно:
— А как насчет моральных возражений, которые были у тебя по поводу отмены приказа Мастера?
— Я выяснил, почему он был отдан. Когда вы в деталях узнаете его жизнь — а теперь вы сможете это сделать, — то увидите, что ему приписывали массу чудес. Его паства верила в него, и эта вера многое добавила к его силе. Но, разумеется, все эти чудеса имели простое объяснение — если они вообще происходили. Мне представляется удивительным, что люди, во всех остальных отношениях вполне разумные, позволяли надувать себя подобным образом…
— Выходит, этот самый Мастер был шарлатаном?
— Нет, все не так просто. Будь он всего лишь плутом, ему бы никогда не добиться такого успеха, а его учение не продержалось бы так долго. Человек он был неплохой, и многое из того, чему он у<гил окружающих, было истинным и неглупым. В конце концов он сам уверовал в свои «чудеса», но он понимал и то, что есть один свидетель, который способен его разоблачить. Все его тайны знал робот… Через робота он обращался к своим последователям, и если бы этого робота подвергли тщательному допросу, его ответы разрушили бы сами основания силы и власти Мастера. Вот он и приказал ему никогда, ни под каким видом никого не допускать к своей памяти — вплоть до последнего дня Вселенной, когда придут «Великие». Трудно, конечно, поверить, что такой странный конгломерат лжи и искренности мог уживаться в одном человеке, но так оно и было…
Олвин был бы не прочь узнать, что испытывает сейчас его робот, освободившийся от столь древнего ига. Он, безусловно, был достаточно высокоорганизованной машиной, чтобы ему было известно такое чувство, как негодование. Он мог бы сердиться на своего Мастера за то, что тот поработил его, — и равно быть недовольным Олвином и Центральным Компьютером, которые обманом вернули его в мир правды.
Зона Тишины была снята — в секретности больше не было никакой нужды. Наступил наконец момент, которого Олвин ждал так долго. Он повернулся к роботу и задал ему вопрос, преследующий его с тех самых пор, как он услышал историю о похождениях Мастера.
И робот ответил.
Джизирак и прокторы все еще терпеливо ждали, когда он снова присоединится к ним. На верхней части пандуса, прежде чем войти в коридор, Олвин оглянулся, чтобы опять оглядеть помещение Центрального Компьютера, и впечатление оказалось еще более сильным. Под ним простирался мертвый город, состоящий из странных белых зданий, город, залитый яростным светом, не предназначенным для человеческих глаз. Быть может, он и действительно был мертв, этот город, поскольку он никогда и не жил, но в нем билась энергия более могущественная, чем та, что когда-то привела в движение живую материю. До тех пор пока мир будет существовать, эти молчащие машины останутся здесь, ничем не отвлекаясь от размышлений и мыслей, вложенных в них гениями человечества столь непомерное время назад.
Хотя Джизирак и пытался спрашивать что-то у Олвина, когда они возвращались в Зал Совета, узнать что-нибудь о беседе с Центральным Компьютером ему не удалось. Со стороны Олвина это было не просто благоразумие. Он был еще слишком погружен в свои думы об увиденном, был еще слишком опьянен успехом, чтобы поддержать какой-либо более или менее содержательный разговор. Джизираку пришлось призвать на помощь все свое терпение и только надеяться, что Олвин наконец выйдет из транса.
…Улицы Диаспара купались в свете, но после сияния машинного города он казался бледным и каким-то даже беспомощным. Олвин едва замечал окружающее. Он не обращал теперь ровно никакого внимания на знакомую красоту огромных башен, проплывающих мимо, и на любопытствующие взгляды своих сограждан. Как странно, думалось ему, что все, что с ним произошло, подвело его к этому вот моменту. С тех пор как он повстречал Хедрона, события, казалось, развивались автоматически и вели к какой-то предопределенной цели. Мониторы… Лиз… Шалмирейн… И ведь на каждой из этих стадий он мог просто отвести в сторону невидящий взгляд… Но что-то продолжало продвигать его — вперед и вперед… Был ли он сам творцом собственной судьбы или же судьба как-то по-особенному возлюбила его? Возможно, все это было лишь производным теории вероятностей, действия законов случая… Ведь любой мог обнаружить путь, по которому он сейчас прошел, и бессчетное количество раз за минувшие тысячелетия другие, должно быть, заходили почти так же далеко. Те, ранние Неповторимые, к примеру, — что сталось с ними? Очень может быть, что он просто оказался первым, кому повезло.
На протяжении всего пути по улицам Олвин устанавливал все более тесный контакт с роботом, которого он сегодня освободил от векового наваждения. Робот уже давно мог принимать его мысли, но прежде Олвин никогда не мог быть уверен, что он станет повиноваться всем его приказаниям. Теперь эта неуверенность исчезла. Он мог беседовать с роботом, как беседовал бы с любым человеком, хотя, поскольку они были не одни, он велел роботу не пользоваться речью, а обходиться простыми зрительными образами. Раньше ему, бывало, не нравилось, что роботы могли свободно общаться между собой на телепатическом уровне, в то время как человеку это было недоступно — если, конечно, не считать жителей Лиза. Что ж, это была еще одна способность, которую Диаспар утратил, — если не намеренно отказался от нее.
Он все еще продолжал этот неслышимый и несколько односторонний разговор, пока они ждали в приемной перед Залом Совета. Нельзя было не сравнить его нынешнее положение с тем, в котором он оказался в Лизе, когда Сирэйнис с коллегами пытались подчинить его своей воле. Он надеялся, что не будет никакой необходимости еще в одном конфликте, но, если бы такой конфликт и возник, он был теперь подготовлен к нему несравненно лучше.
Уже самый первый взгляд на лица членов Совета подсказал Олвину, каково их решение. Он не был ни удивлен, ни особенно разочарован и не выказал никаких чувств, которых могли бы ожидать от него советники, когда слушал, как председатель подводит итоги обсуждения.
— Мы всесторонне рассмотрели ситуацию, которая порождена твоим открытием, Олвин, — начал председатель, — и пришли к следующему единогласному решению. Поскольку никто не желает каких-либо изменений в нашем образе жизни и поскольку только раз в несколько миллионов лет рождается кто-то, кто способен покинуть Диаспар, даже если средства к этому существуют для каждого из нас, то туннельная система, ведущая в Лиз, не является необходимой и, очень возможно, даже опасна. Вот почему вход в нее отныне закрыт.
Более того, поскольку не исключена возможность, что могут найтись и другие пути, ведущие из города, будет начат их поиск посредством блоков памяти в мониторах. Этот поиск уже начался.
Мы обсудили также, какие меры должны быть предприняты — если они вообще необходимы — в отношении тебя. Принимая во внимание твою юность и своеобразные обстоятельства твоего появления на свет, существует всеобщее ощущение, что порицать тебя за то, что ты сделал, нельзя. В сущности, раскрыв потенциальную опасность для нашего образа жизни, ты даже оказал городу услугу, и мы зафиксируем наше одобрение этого…
Раздались тихие, шелестящие аплодисменты, и на лицах советников появилось удовлетворенное выражение. Они быстро справились с трудной ситуацией, избежали необходимости наказывать Олвина и теперь могли снова приняться за привычные свои занятия, радуясь, что они, влиятельные граждане Диаспара, исполнили свой долг. Если им достаточно повезет, пройдут еще целые столетия, прежде чем подобная необходимость возникнет снова.
Председатель выжидательно посмотрел на Олвина. Возможно, он надеялся, что тот выразит ответное понимание и воздаст благодарностью Совету за то, что с ним обошлись столь милостиво. Он, однако, был разочарован.
— Можно мне задать вам всего один вопрос? — обратился к нему Олвин.
— Конечно.
— Насколько я понимаю, Центральный Компьютер одобрил ваши действия?
В обычных условиях спрашивать такое не полагалось. Было не принято признавать, что Совет должен как-то оправдывать свои решения или же объяснять, каким образом он к ним пришел. Но Олвин сам был облечен доверием Центрального Компьютера — по причинам, известным только тому. И оказался в привилегированном положении.
Было совершенно очевидно, что вопрос вызвал известную неловкость, и поэтому ответ последовал несколько неохотно:
— Естественно, мы проконсультировались с Центральным Компьютером… Он сказал, чтобы мы поступали так, как сочтем нужным…
Олвин этого и ожидал. В те самые минуты, когда машинное сознание города разговаривало с ним, оно, должно быть, обменивалось мнениями и с Советом — в тот же, в сущности, момент, когда заботилось еще о миллионе самых разных вещей в Диаспаре. Компьютер, как и Олвин, понимал, что, какое бы решение ни принял сейчас Совет, оно не будет иметь ровно никакого значения. Будущее совершенно ускользнуло из-под контроля Совета в тот самый миг, когда он, в своем неведении, решил, что благополучно справился с кризисом, порожденным ненасытной любознательностью Олвина.
И Олвин совсем не испытывал чувства превосходства и блаженного предвкушения приближающегося триумфа, когда глядел на этих не слишком умных, стареющих мужчин, считающих себя правителями Диаспара. Ведь он-то видел реального хозяина города и даже беседовал с ним в торжественной тишине его блистающего подземного мира. Эта встреча выжгла из его души едва ли не все высокомерие, хотя все же какая-то его часть еще сохранилась — для окончательного предприятия, признанного затмить все, что произошло до сих пор.
Покидая Совет, Олвин размышлял о том, были ли они удивлены его покорностью и отсутствием раздражения по поводу того, что дорога в Лиз теперь закрыта, Прокторы теперь не сопровождали его, он уже не находился под наблюдением — в открытую, по крайней мере. Вместе с ним из Зала Совета на улицы, сияющие красками и заполненные народом, вышел только Джизирак.
— Ну что же, Олвин, — сказал он, — Ты вел себя как нельзя лучше, но меня-то тебе не провести! Что это ты теперь задумал?
Олвин улыбнулся.
— Так я и знал, что ты что-нибудь да заподозришь. Если ты пойдешь со мной, то я покажу тебе, почему подземный путь в Лиз не имеет больше никакого значения. Есть и еще один эксперимент, который мне хотелось бы провести. Он не причинит тебе никакого вреда, но может не прийтись по вкусу…
— Отлично. Подразумевается, что я все еще твой наставник, но похоже на то, что роли-то теперь переменились?.. И куда это ты меня поведешь?
— В башню Лоранна — я хочу показать тебе мир за стенами Диаспара.
Джизирак побледнел, но остался верен своему решению. Словно опасаясь, что слова могут выдать его состояние, он коротко и сдержанно кивнул и вслед за Олвином ступил на плавно плывущий тротуар.
Джизирак не проявил ни малейших признаков страха, когда они шли по туннелю, через который вечно дул холодный ветер. Туннель теперь был уже совсем не тот: каменная решетка, преграждавшая доступ во внешний мир, исчезла. Она не служила никакой конструктивной цели, и Центральный Компьютер по просьбе Олвина убрал ее, не задавая вопросов. Позже он может дать инструкции снова вспомнить про эту решетку и восстановить ее. Но сейчас жерло туннеля, ничем не огражденное и никем не охраняемое, зияющим отверстием выходило прямо на внешнюю стену города.
Джизирак почти подошел к краю пропасти, когда наконец осознал, что внешний мир — вот он, прямо перед ним. Он смотрел на расширяющийся круг неба, и шаги его становились все более и более неуверенными, пока в конце концов ноги не отказались ему служить. Олвин вспомнил, что на этом вот самом месте Алистра просто повернулась и убежала, и подумал — сможет ли он побудить Джизирака пройти немного дальше?
— Я прошу тебя только лишь взглянуть, — умолял он наставника, — а не выходить из города. Уж конечно, это-то ты можешь!
В Эрли, во время своего недолгого пребывания там, Олвин наблюдал однажды, как мать учила своего малыша ходить. Увлекая Джизирака по коридору, он не мог не увидеть аналогии и делал поощряющие замечания по мере того, как его наставник одну за другой переставлял не повинующиеся ему ноги, помаленьку все-таки продвигаясь вперед. В отличие от Хедрона, Джизирак не был трусом. Он был готов бороться со своим предубеждением, но это была борьба отчаяния. Когда Олвину удалось-таки привести Джизирака к той точке, откуда он мог видеть всю ширь пустыни безо всякой помехи, Олвин был измучен едва ли не так же, как и его пожилой спутник.
Тем не менее, оказавшись у самого края, Джизирак был захвачен необычайной красотой пейзажа, так не похожего на все, что ему приходилось видеть на протяжении всех его жизней. Огромное это пространство, покрытое перекатывающимися дюнами, ограниченное по горизонту древними холмами, покорило его.
— Я попросил тебя прийти сюда, поскольку понимаю — у тебя больше, чем у кого-либо другого, прав увидеть, куда привели меня мои блуждания, — сказал Олвин, проговаривая слова быстро, как если бы он был не в силах сдержать нетерпения, — Мне хотелось, чтобы ты увидел пустыню, а кроме того, я хочу, чтобы ты стал свидетелем — пусть Совет узнает, что я сделал!
Как я и сказал Совету, этого робота я привел из Лиза в надежде, что Центральный Компьютер будет в состоянии убрать блокировку, установленную на его память человеком, известным под прозвищем Мастер. С помощью какой-то уловки, которой я до сих пор не понимаю, Компьютер это сделал. Теперь у меня есть доступ ко всему объему памяти этого робота и ко всем способностям, которые были в него встроены. И вот сейчас одну из этих способностей я и хочу использовать. Гляди!
По беззвучному приказу, о характере которого Джизирак мог только гадать, робот выплыл из отверстия туннеля, набрал скорость и через несколько секунд превратился в далекий, отсвечивающий металлом солнечный блик. Он летел низко над пустыней — над ее песчаными дюнами, которые, словно застывшие волны, заштриховали пустыню косой сеткой гребней… У Джизирака возникло безошибочное впечатление, что робот что-то ищет, — но вот что именно, он, конечно, и представить себе не мог.
И вдруг с пугающей внезапностью сверкающая крупинка метнулась вверх и замерла в тысяче футов над поверхностью пустыни. Олвин испустил шумный вздох удовлетворения. Он кинул на Джизирака быстрый взгляд, как бы говоря: «Вот оно!»
Не понимая, чего же, собственно, ожидать, Джизирак поначалу не заметил никаких перемен. Но затем, едва веря своим глазам, увидел, как с поверхности пустыни начинает медленно подниматься облако пыли…
Нет ничего более ужасного, чем внезапное движение там. где, как предполагается, движения уже не может быть никогда. И тем не менее ни страх, ни изумление не поразили громом Джизирака, когда дюны стали расступаться. Что-то ворочалось под поверхностью пустыни, неведомый исполин просыпался ото сна, и почти тотчас же до слуха Джизирака донесся гром низвергающейся земли и пронзительный вопль скал, раздираемых неодолимой, исполинской силой. Внезапно гигантский песчаный гейзер взметнулся на тысячу футов и скрыл пустыню из виду…
Медленно пыль стала оседать в рваную рану, зияющую теперь на лице пустыни. Но Джизирак и Олвин по-прежнему пристально всматривались в небо, в пустоте которого только что сиял маленький робот. Лишь теперь Джизирак понял, почему Олвин остался столь безразличным к решению Совета и почему он не выказал ровно никаких чувств, когда его поставили в известность, что подземный путь в Лиз отныне закрыт.
Кора приставшей земли и камней лишь отчасти скрывала гордые очертания корабля, который все еще величественно вздымался из недр разодранной пустыни. Джизирак, не отрывая глаз, наблюдал, как корабль неспешно развернулся в их сторону, мало-помалу превратившись в аккуратный кружок. Затем, столь же неторопливо, кружок этот стал увеличиваться в размерах.
Олвин заговорил — стремительно, словно времени у него уже не оставалось:
— Этого робота разработали так, чтобы он стал компаньоном и еще и слугой этого самого Мастера. И кроме того, он должен был пилотировать его корабль. Прежде чем сесть в Лизе, он тогда опустился в космопорту Диаспара, который сейчас лежит там, погребенный среди этих песков. Даже в то время порт, в сущности, был уже заброшен. Я думаю, что корабль Мастера был одним из последних, прилетевших тогда на Землю. Перед тем как отправиться в Шалмирейн, Мастер некоторое время жил в Диаспаре — в те времена путь, наверное, был еще открыт для всех. Но корабль ему никогда уже больше не понадобился и все эти тысячелетия ждал, погребенный под песками. Как сам Диаспар, как этот робот, как все, что строители прошлого считали действительно важным, он сохранялся с помощью своих собственных схем Вечности. До тех пор пока у него есть источник энергии, он не может износиться или быть уничтожен. Образ конструкции, во всех ее мельчайших деталях хранящийся в его блоках памяти, никогда не потускнеет, а ведь именно этот образ и контролирует его физическую структуру…
Теперь корабль, направляемый роботом к башне, был уже совсем близко. Джизирак прикинул, что он около ста футов длиной. На заостренном с обоих концов корпусе не видно было ни окон, ни каких-либо других отверстий, хотя, в общем-то, толстый слой земли на обшивке и не позволял утверждать это с полной уверенностью.
Внезапно их обдало пылью, посыпались камешки — это одна из секций корпуса откинулась наружу, и Джизираку удалось бросить взгляд на маленькую, голую каморку шлюза, в дальнем конце которой виднелась дверь. Корабль висел в воздухе в каком-нибудь футе от жерла воздушного туннеля, к которому он приблизился с крайней осторожностью — будто чувствующее, живое существо.
— До свидания, Джизирак, — проговорил Олвин — Я не могу вернуться в Диаспар, чтобы попрощаться с друзьями. Сделай это за меня, пожалуйста. Передай Эристону и Итании, что я надеюсь скоро вернуться. Если же не вернусь, то пусть знают — я благодарен им за все, что они для меня сделали, И тебе я благодарен, если ты и не одобряешь того, каким образом я воспользовался твоими уроками… Ну а что касается Совета — скажи им, что пути, которые когда-то были открыты, нельзя закрыть, приняв резолюцию!..
Корабль был теперь только темным пятном на фоне неба, а мгновение спустя Джизирак и вообще потерял его из виду. Он не заметил никакого движения, но внезапно с неба обрушилась лавина самых потрясающих звуков из всех, когда-либо сотворенных человеком, — это был долгий гром падающего воздуха: миля за милей он обрушивался в туннель вакуума, в мгновение ока просверленный в атмосфере.
Джизирак не в силах был сдвинуться с места, даже когда последние отголоски этого грома замерли, потерявшись в пустыне. Он все думал и думал о мальчике, который ушел от него, — ведь для Джизирака Олвин навсегда остался ребенком, да к тому же — единственным, впервые пришедшим в мир Диаспара с тех пор, как был разрушен цикл рождения и смерти — тогда, в незапамятные времена. Олвин не может вырасти. Вся Вселенная была для него просто детской площадкой для игр, увлекательной загадкой, которую надо разгадать ради собственного развлечения. И вот, играя, он нашел себе теперь совершенную смертоносную игрушку, которая в состоянии разрушить все, что еще сохранилось от человеческой цивилизации… Но, каков бы ни был исход, для Олвина это по-прежнему будет только игра…
Солнце уже склонилось низко к горизонту, и над пустыней потянуло леденящим ветром. Но Джизирак все еще ждал, перебарывая страх. И внезапно — впервые в жизни — увидел звезды.
18
Даже в Диаспаре Олвин не видел такой роскоши, которая открылась его взору, когда внутренняя дверь воздушного шлюза скользнула в сторону. Что бы он там ни представлял из себя на самом деле, уж аскетом-то Мастер явно не был. Лишь несколько позже Олвину пришло в голову, что весь этот комфорт мог и не быть пустой экстравагантностью: маленький мирок корабля был единственным домом Мастера во время его продолжительных скитаний среди звезд.
Нигде не было видно никаких приборов управления, но огромный овальный экран, полностью занимающий дальнюю переборку, указывал, что это помещение — не просто жилая комната. Дугой перед экраном расположились три низких кресла. Остальное пространство комнаты занимали два столика и несколько мягких стульев — некоторые из них, совершенно очевидно, предназначались совсем не для гуманоидов.
Удобно устроившись перед экраном, Олвин огляделся в поисках своего робота. К его изумлению, тот исчез. Но затем он все-таки обнаружил его — в маленьком углублении под закругляющимся потолком: робот уютно устроился в этой нише. Он привел Мастера через пространства Космоса на Землю, а затем в качестве слуги проследовал за ним в Лиз. Теперь же, словно и не было всех этих минувших эпох, он изготовился снова выполнять свои старые пилотские обязанности.
Для пробы Олвин подал ему команду, и огромный экран, затрепетав, ожил. Перед ним появилась башня Лоранна, странным образом укороченная и даже, судя по всему, лежащая на боку. Еще несколько команд — и он увидел небо, город и бескрайнее пространство пустыни. Четкость изображения была безупречна, почти ненатурально хороша, хотя, казалось, никакого увеличения и не было. Олвин поэкспериментировал еще некоторое время, пока не наловчился получать именно то изображение, которое ему хотелось бы увидеть. И теперь он готов был начать.
— Перенеси меня в Лиз! — Это, конечно, была команда из простых, но как мог корабль повиноваться ей, если он и сам не имел ни малейшего представления о том, в каком именно направлении лететь? Олвин сначала просто не подумал об этом, а когда сообразил, то корабль уже мчался над пустыней на головокружительной скорости. Олвин пожал плечами, с благодарностью принимая то обстоятельство, что теперь в его распоряжении находится слуга куда более знающий, чем он сам.
Определить масштаб изображения, которое скользило сейчас по экрану, было нелегко, но, судя по всему, ежеминутно они, должно быть, покрывали пространство во много миль. Вскоре после района города цвет поверхности внезапно переменился на скучно-серый, и Олвин догадался, что теперь они пролетают над ложем древнего океана. Когда-то, видимо, Диаспар стоял совсем рядом с морем, хотя даже в самых древних хрониках об этом не было ни малейшего упоминания. Как ни древен был город, океаны Земли, видимо, безвозвратно высохли еще задолго до его основания.
Через несколько сот миль поверхность резко поднялась, и внизу снова потянулась пустыня. В какой-то момент Олвин остановил корабль над странным рисунком из пересекающихся линий, которые неясно прорисовывались сквозь песчаное покрывало. Некоторое время его мучило недоумение, но затем он понял, что под кораблем лежат руины какого-то забытого города. Он не стал здесь задерживаться: было больно думать, что миллиарды людей не оставили никаких следов своего существования, кроме этих вот борозд на песке…
Ровная линия горизонта вскоре стала изламываться, и прорисовались горы, которые, едва он их увидел, уже замелькали под ним. Корабль стал замедляться, опускаясь к земле по огромной пологой дуге длиной в сотни миль. И затем — под ним оказался Лиз, его леса и бесконечные реки, образующие ландшафт такой несравненной красоты, что некоторое время Олвин был просто не в состоянии двигаться дальше. На востоке земля была затенена, и огромные озера стояли лужами еще более темной ночи. Но в направлении на запад воды плясали, струились, сверкали острыми бликами, посылая глазу цвета такой яркости и чистоты, о существовании которых Олвин и не подозревал.
Найти Эрли оказалось нетрудно — и это было к счастью, потому что дальше робот уже не мог вести корабль. Олвин ожидал этого и был даже несколько обрадован тем, что обнаружил хоть какой-то изъян во всемогуществе своего слуги. Было маловероятно, что роботу когда-то приходилось пилотировать корабль с Мастером в Эрли, и поэтому месторасположение древни и не было зафиксировано в его памяти.
С нескольких попыток Олвин приземлил свой корабль на склоне того самого холма, с которого впервые увидел Лиз. Управлять кораблем оказалось совсем просто — требовалось лишь в самых общих чертах сформулировать желание, а уж робот сам прорабатывал все детали. Олвин подумал, что, по-видимому, робот станет игнорировать опасные или невыполнимые приказы, хотя у него-то не было ни малейшего намерения отдавать без особой к тому необходимости.
Олвин был абсолютно уверен, что никто не мог видеть его прибытия. Он считал это обстоятельство достаточно важным, поскольку не испытывал ни малейшего желания снова вступать в телепатическую схватку с Сирэйнис. Планы его все еще были несколько туманны, но он не подвергался никакому риску, пока у него сохранялись дружественные отношения с обитателями низа. Робот мог действовать в качестве посла, в то время как он оставался бы в безопасности на корабле.
По дороге к Эрли роботу не повстречалось ни одной живой души. Странно это было — сидеть в неподвижном космическом корабле, в то время как его взгляд без малейших усилий с его стороны скользил по знакомой тропе, а в ушах звучал шепот леса. Он все еще не мог полностью отождествить себя с роботом, и поэтому усилия по управлению им еще приходилось затрачивать немалые.
Почти стемнело, когда он «достиг» Эрли, маленькие домики которого словно бы плавали в озерцах света. Робот держался затененных мест и уже почти доплыл до дома Сирэйнис, когда его обнаружили. Внезапно раздался сердитый высокий, жужжащий звук, и поле зрения оказалось закрытым мельтешеньем крыльев. Олвин невольно отпрянул, но тотчас понял, что произошло. Это Криф снова выражал свою неприязнь ко всему что летает, не будучи крылатым.
Не желая причинять вреда прекрасному, хотя и безмозгло-существу, Олвин остановил робота и, как мог, терпел удары, которые градом сыпались на него. Несмотря на то что он в полном комфорте сидел в миле от места происшествия, он все-таки поеживался и очень обрадовался, когда из дома вышел Хилвар, чтобы выяснить, что тут происходит.
Увидев приближающегося хозяина, Криф отступил, но все еще угрожающе жужжал. Хилвар постоял некоторое время, глядя на робота. А затем улыбнулся.
— Привет, Олвин, — сказал он. — Рад, что ты вернулся. Или ты еще в Диаспаре?
Уже не в первый раз Олвин с некоторой завистью подивился быстроте и точности мышления Хилвара.
— Да нет, — ответил он, отметив при этом, до чего же здорово робот воспроизводит его голос. — Я здесь неподалеку. Но пока останусь на месте.
Хилвар засмеялся.
— Полагаю, что это правильно. Сирэйнис-то тебя простила, но вот Ассамблея… Впрочем, это совсем другая история. Тут, знаешь, сейчас происходит конференция… первая, которая созвана в Эрли…
— Ты хочешь сказать, что ваши советники лично сюда пожаловали? — удивился Олвин. — А я-то полагал, что личные встречи — с вашими-то телепатическими способностями — совсем необязательны…
— Они происходят — только редко. Бывают случаи, когда общее мнение склоняется к тому, что, пожалуй, стоит и собраться. Точная природа нынешнего кризиса мне неизвестна, но три сенатора уже здесь, а остальные вот-вот прибудут.
Олвин не мог не улыбнуться тому, до какой степени события в Диаспаре и Лизе приняли один и тот же оборот. Куда бы он ни направился, он, похоже, везде теперь оставлял за собой след озабоченности и тревоги.
— Мне представляется, что будет совсем неплохо, если я смогу обратиться к этой вашей Ассамблее… Если только я смогу это сделать, не подвергая себя опасности.
— Даже если ты пожалуешь сюда во плоти, это будет вполне безопасно, коли Ассамблея даст обещание не пытаться снова овладеть твоим сознанием, — ответил Хилвар. — А нет — так я бы на твоем месте оставался там, где ты сейчас. Я отведу твоего робота к сенаторам… Ох и расстроятся они, когда его увидят!
Олвин испытывал острое чувство возбуждения и радости, когда за Хилваром проследовал в дом. Теперь он встречался с правителями Лиза куда более на равных, нежели прежде. И хотя он и не испытывал к ним никаких мстительных поползновений, все равно приятно было сознавать, что теперь он — хозяин положения, располагающий силами, истинной мощи которых не представлял себе и сам.
Двери комнаты, где происходила конференция, оказались запертыми, и прошло некоторое время, прежде чем Хилвару удалось привлечь внимание находящихся внутри. Сенаторы, казалось, были настолько поглощены своими проблемами, что пробиться в их раздумья представлялось едва ли не безнадежным делом. Но вот стены словно бы неохотно скользнули в стороны, и Олвин быстро вдвинул своего робота в комнату.
Трое сенаторов так и застыли в своих креслах, когда робот подплыл к ним, но на лице у Сирэйнис просквозил лишь едва уловимый след удивления. Возможно, Хилвар уже послал ей предупреждение, а может быть, она и сама ожидала, что рано или поздно Олвин возвратится.
— Добрый вечер, — вежливо произнес Олвин с такой интонацией, будто столь неожиданное и необычное его появление было самым что ни на есть привычным пустяком, — Я решил все-таки вернуться.
Нечего и говорить — их изумление превзошло все его ожидания. Один из сенаторов, молодой человек с седеющими волосами, первым пришел в себя.
— Как вы сюда попали? — Он едва мог двигать языком — так был поражен.
Причина такой реакции на появление Олвина представлялась совершенно очевидной. Как и Диаспар, Лиз, должно быть, вывел из строя свою сторону подземной дороги.
— Да, знаете, я и на этот раз прибыл сюда точно так же, как и тогда, — ответил Олвин, не в силах удержаться от соблазна немного повеселиться за их счет.
Двое сенаторов не отрывали глаз от третьего, который развел руками в полном отчаянии, непонимании и беспомощности. Тот самый молодой человек, который заговорил с Олвином, снова встрепенулся:
— И вы не встретили… никаких… м-м… трудностей?
— Ровно никаких, — ответил Олвин, решивший еще больше усугубить их замешательство. И понял, что своего добился.
— Я вернулся, — продолжал он, — по своей доброй воле и в связи с тем, что у меня есть для вас кое-какие важные новости. Тем не менее, помня о наших былых расхождениях, я в настоящий момент нахожусь вне досягаемости. Если я появлюсь здесь лично — обещаете ли вы не пытаться снова задержать меня?
Некоторое время все молчали, и Олвину было страшно интересно, какими мыслями они обменивались сейчас в этой тишине. Затем от имени всех заговорила Сирэйнис:
— Мы не станем снова пытаться контролировать вас… впрочем, я не думаю, что в прошлый раз мы добились в этом больших успехов…
— Вот и хорошо, — ответил Олвин. — Я прибуду в Эрли как можно быстрее.
Он дождался возвращения робота. Затем тщательнейшим образом проинструктировал его и даже заставил все повторить. В том, что Сирэйнис не нарушит данного ею слова, он был убежден, но тем не менее хотел обеспечить себе путь к отступлению.
Воздушный шлюз беззвучно закрылся за ним, когда он покинул корабль. Секундой позже раздалось едва слышное шипение — будто кто-то изумленно вздохнул. Несколько мгновений темная тень еще закрывала звезды, и корабль исчез.
И только теперь Олвин с неудовольствием подумал, что все-таки допустил небольшой, но досадный просчет, причем просчет такого рода, что он мог повлечь за собой катастрофическое крушение всех его замечательных планов. Он упустил из виду, что чувства у робота куда более остры, чем у него самого, а ночь оказалась темнее, чем он ожидал. Не раз и не два он совершенно сбивался с тропы и едва не расшибал себе лоб о стволы деревьев. В лесу царила кромешная тьма, и в один из моментов что-то большое двинулось к нему по кустарнику. Он услышал едва различимое потрескивание сучьев под осторожной лапой, и вот уже на уровне его живота на него уставились два изумрудных глаза. Он негромко окликнул животное, и чей-то невероятно длинный язык лизнул ему руку. Секунду спустя могучее тело уже доверчиво и нежно терлось об него и вдруг беззвучно исчезло. Он и понятия не имел, кто бы это мог быть.
Наконец между деревьями впереди заискрились огни поселка, но их блеск уже не был ему нужен, потому что тропа у него под ногами превратилась теперь в ручеек неяркого голубого огня. Мох, по которому он ступал, светился, а каждый шаг Олвина оставлял темные отпечатки, которые медленно становились неразличимыми. Это было завораживающе красивое зрелище, и, когда Олвин нагнулся, чтобы сорвать пригоршню странного мха, тот еще долго пылал в его ладонях, постепенно угасая.
И снова Хилвар встретил его за порогом дома, и опять представил Сирэйнис и сенаторам. Они приветствовали его с вымученным уважением. И если их и интересовало, куда делся робот, они, во всяком случае, ни словом об этом не обмолвились.
— Я искренне сожалею, что мне пришлось покинуть ваш край столь экстравагантным образом, — начал Олвин. — Быть может, вам будет интересно услышать, что вырваться из Диаспара оказалось не легче. — Он сделал паузу, чтобы они смогли в полной мере осознать смысл его слов, а затем быстро добавил: — Я рассказал своим согражданам все о вашей стране и очень старался, чтобы создать у них о вас самое благоприятное впечатление. Но… Диаспар не хочет иметь с вами ничего общего. Что бы я им ни говорил, они просто одержимы своим стремлением избегнуть осквернения низшей культурой…
Ах, как приятно было ему наблюдать реакцию сенаторов! Даже сдержанная, всегда такая воспитанная Сирэйнис при этих его словах слегка порозовела. Если бы он только смог добиться, подумал Олвин, того, чтобы Лиз и Диаспар преисполнились раздражением друг против друга, то проблема была бы решена больше чем наполовину. Каждый бы так старался доказать превосходство своего образа жизни, что барьерам, разделяющим их, осталось бы жить совсем недолго…
— Почему вы вернулись в Лиз? — спросила Сирэйнис.
— Потому, что мне хочется убедить вас — так же, как и Диаспар, — что вы совершаете ошибку. — Он не стал распространяться о другой причине: здесь у него жил единственный друг, в котором он мог быть уверен и на помощь которого рассчитывал.
Сенаторы пребывали в молчании, ожидая продолжения, и Олвин отлично сознавал, что, слушая их ушами и видя их глазами, за всем, что происходит в этой комнате, сейчас следит огромное число людей. Он был представителем Диаспара, и весь Лиз судит теперь о таинственном городе по тому, что он, Олвин, говорит, по тому, как он ведет себя, по тому, как он мыслит. Это была неимоверная ответственность, и он чувствовал себя перед нею таким маленьким… Он собрался с мыслями и заговорил.
Его темой был Диаспар. Он рисовал им город таким, каким увидел его в последний раз. Он описывал город, дремлющий на груди пустыни, возводил его башни, сверкающие на фоне неба, подобно словленным радугам. Из волшебного сундучка памяти он изалекал песни, написанные в честь Диаспара поэтами прошлого, он рассказывал о легионе людей, потративших долгие жизни, чтобы приумножить красоту города… Никто, говорил он своим слушателям, не в состоянии исчерпать все сокровища города за любой — даже немыслимо долгий — срок. Некоторое время он подробно живописал чудеса, созданные жителями Диаспара. Он старался заставить своих слушателей хотя бы чуть-чуть проникнуться теми красотами, которые были сотворены художниками прошлого к вечному поклонению человека. И сам спрашивал себя — не без некоторого тоскливого чувства, — правда ли, что музыка Диаспара оказалась последним звуком, который человечество послало в звездные дали?
Они дослушали его до конца — не перебивая и не задавая вопросов. Было уже очень поздно, когда он закончил свой рассказ, и он испытывал такую усталость, что хоть с ног вались. Напряжение и все треволнения долгого дня наконец сказались, и совершенно неожиданно для себя Олвин уснул.
Проснувшись, он обнаружил, что лежит в какой-то незнакомой ему комнате. Прошло несколько секунд, прежде чем он вспомнил, что находится не в Диаспаре. По мере того как сознание возвращалось, свет в комнате становился все ярче и ярче и в конце концов все вокруг оказалось залитым мягким сиянием еще по-утреннему прохладного солнца, струящего свои лучи сквозь ставшие теперь прозрачными стены. Олвин нежился в блаженной полудреме, вспоминая события минувшего дня, и размышлял над тем, какие же силы он привел теперь в движение.
С тихим мелодичным звуком одна из стен стала подниматься, сворачиваясь при этом настолько сложным образом, что сознание было не в силах схватить его. Через образовавшийся проем в комнату ступил Хилвар. Он глядел на Олвина с выражением удовольствия и вместе с тем озабоченности.
— Ну, раз уж ты проснулся, — начал он, — то, может, ты хоть мне наконец скажешь, как это тебе удалось вернуться сюда и что ты собираешься делать дальше? Сенаторы как раз отправляются посмотреть на подземку. Они никак не могут взять в толк, как это тебе удалось использовать ее для возвращения… Ты что, и в самом деле приехал на ней?
Олвин спрыгнул с постели и сладко потянулся.
— Наверное, их лучше перехватить, — сказал он. — Мне не хочется, чтобы они тратили время попусту. Ну а что касается твоего вопроса, то скоро я покажу тебе… м-м… ответ.
Они дошли почти до самого озера, прежде чем догнали троих сенаторов. Обе стороны обменялись натянутыми приветствиями. Депутация расследователей поняла, что Олвину известна цель их похода, и неожиданная эта встреча, совершенно очевидно, несколько смутила сенаторов.
— Боюсь, что вчера вечером я до некоторой степени ввел вас в заблуждение, — весело обратился к ним Олвин, — В Лиз я возвратился вовсе не старым маршрутом, так что ваши старания запечатать его оказались совершенно ненужными. Откровенно говоря, Совет в Диаспаре тоже закрыл этот путь со своего конца — и с таким же успехом…
По лицам сенаторов — по мере того как они перебирали в уме один за другим варианты решения этой загадки — можно было бы изучать, что это такое — полное, до онемения, изумление.
— Но как же тогда… как же вы здесь очутились? — задал вопрос предводитель. Внезапно во взгляде у него пробудилась догадка, и Олвин понял, что он начинает подбираться к истине. Уж не перехватил ли сенатор ту мысленную команду, которую я послал туда, к горной гряде? — подумалось Олвину. Он, однако, не произнес ни слова и только молча указал рукой на северную часть неба.
Глаз едва мог уследить за тем, как серебряная стрела света прочертила дугу над вершинами гор, оставив за собой многомильный след инверсии. В двадцати тысячах футов над Лизом она остановилась. Ей вовсе не понадобилось торможением гасить свою колоссальную скорость. Она остановилась мгновенно, и глаз, следовавший за ней, по инерции прочертил дугу еще до четверти небосклона, прежде чем сознание ненужности этого смогло остановить его движение. С высоты обрушился чудовищный удар грома — это взревел воздух, смятый движением корабля. Прошло еще немного времени, и сам корабль, празднично сверкая в солнечном свете, опустился на склон холма в какой-нибудь сотне футов от них.
Трудно было сказать, кого это поразило больше, но Олвин первым пришел в себя. Когда они шли — почти бежали — к кораблю, он все думал: всегда ли это создание рук человеческих движется с такой метеоритной скоростью? Мысль эта его тревожила, хотя, когда он сам летел в корабле, быстрота его движения вообще не ощущалась. Значительно более загадочным, однако, было то, что еще позавчера это блистательное создание человеческого гения лежало, скрытое под мощным слоем твердой как сталь скальной породы, остатки которой оно еще сохраняло на себе, когда вырвалось из объятий пустыни. Возле кормы и сейчас еще налипли следы земли, спекшиеся в лавовую корку. Все остальное было снесено движением, и обнажился упрямый корпус, который не поддался ни времени, ни разрушительным силам природы.
Вместе с Хилваром Олвин ступил в раскрывшийся шлюз и обернулся к застывшим, потерявшим дар речи сенаторам. Его очень интересовало, о чем они сейчас думают, о чем, в сущности, думает сейчас весь Лиз. Выражение на лицах сенаторов, однако, было таким, что казалось — им в этот момент вообще не до того, чтобы над чем-то размышлять.
— Я отправляюсь в Шалмирейн и возвращусь в Эрли что-нибудь через часок, — сказал Олвин. — Но это только начало, и, пока я буду там, мне хотелось бы, чтобы вы поразмыслили над одним обстоятельством.
Дело в том, что это — не какой-то обычный флайер, на которых люди когда-то путешествовали в пределах своей планеты. Это — космический корабль, один из самых быстрых, которые когда-либо были построены. Если вам интересно узнать, где я его обнаружил, то вы можете найти ответ в Диаспаре. Но для этого вам придется отправиться туда самим, потому что Диаспар никогда не придет к вам первым.
Он повернулся к Хилвару и подтолкнул его к внутренней двери. Тот колебался всего какое-то мгновение. Полуобернувшись, он кинул прощальный взгляд на холм, на траву, на небо — все это такое знакомое — и прошел внутрь.
Сенаторы глаз не отрывали от корабля, пока он — на этот раз достаточно медленно, поскольку путь предстоял близкий — не исчез на юге. Затем седеющий молодой человек, который предводительствовал группе, с видом философского смирения пожал плечами и повернулся к одному из своих коллег:
— Вы всегда были против того, чтобы мы стремились к каким-то переменам. И до сих пор последнее слово всегда оставалось за вами. Но теперь… я не думаю, что будущее — за какой-то одной из наших фракций. И Лиз, и Диаспар — они оба завершили некий этап своего развития, и вопрос заключается в том, как наилучшим образом воспользоваться создавшейся ситуацией.
— Боюсь, вы правы, — последовал угрюмый ответ. — Мы вступили в полосу кризиса, и Олвин знал, что говорит, когда настаивал, чтобы мы отправились в Диаспар. Они теперь знают о нашем существовании, так что таиться больше нет никакого смысла. Мне представляется, что нам лучше все-таки войти в контакт с нашими двоюродными братьями. Весьма возможно, что мы найдем их стремящимися к сотрудничеству в куда большей степени, чем прежде…
— Но ведь подземка закрыта с обоих концов…
— Мы можем распечатать наш. И пройдет не так уж много времени, прежде чем Диаспар сделает то же самое…
Сенаторы — и те, что находились в Эрли, и остальные, рассеянные по всей территории Лиза, — взвесили это предложение и всей душой невзлюбили его. Но иного выхода, похоже, просто не было.
Росток, высаженный Олвином, начал расцветать быстрее, чем можно было надеяться.
Горы еще зябли в тени, когда корабль достиг Шалмирейна. С высоты, на которой они находились, огромная чаша крепости выглядела совсем крохотной. Казалось просто невероятным, что когда-то от этого вот черного как ночь кружка зависели судьбы Земли.
Как только Олвин приземлил корабль среди развалин на берегу озера, леденящая душу атмосфера одиночества и заброшенности охватила его. Он открыл шлюз, и тотчас же мертвая тишина этого странного места просочилась внутрь корабля. Хилвар, который за все время этого короткого путешествия едва ли вымолвил больше дюжины слов, негромко обратился к Олвину:
— Почему ты снова пришел сюда?
Олвин молчал, пока они не добрались до кромки воды. И только тут он отозвался:
— Мне хотелось показать тебе, что это за корабль… И еще я надеялся, что полип, возможно, снова существует… У меня такое ощущение, что я перед ним в долгу, и мне очень хочется рассказать ему о том, что я открыл.
— В таком случае тебе придется подождать, — сказал Хилвар. — Ты возвратился слишком рано.
Олвин был готов к такому повороту дела. Возможность того, что полип жив, была слишком уж слаба, и Олвин не особенно огорчился тем, что его ожидания обмануты. Воды озера лежали совершенно спокойно, в них больше уже не бился тот напряженный пульс, что так поразил их в первое посещение. Олвин опустился на колени возле воды и стал вглядываться в холодную, темную глубину.
Крохотные полупрозрачные колокольчики, за которыми тянулись почти невидимые хвостики, медленно перемещались в разных направлениях под самой поверхностью. Он опустил ладонь в воду и зачерпнул один такой колокольчик. И тотчас же выплеснул его обратно, ойкнув: колокольчик его стрекнул.
Придет день — возможно, через несколько лет, а то и столетий, — и эти вот безмозглые кусочки протоплазмы снова соберутся вместе, и снова народится огромный полип, его сознание пробудится к существованию, и память возвратится к нему. Было бы интересно узнать, как примет это существо все, что ему, Олвину, удалось узнать… Быть может, ему будет не слишком приятно услышать правду о Мастере… В сущности, оно, возможно, даже не захочет признаться самому себе в том, что все эти столетия и столетия терпеливого ожидания прошли совершенно бесцельно…
Но — бесцельно ли? Хотя полип и был обманут, но ведь его столь долгое бдительное терпение оказалось теперь вознаграждено. Чуть ли не чудом он спас из забвения прошлого знание, которое иначе было бы безвозвратно утрачено… Теперь это существо, распавшееся на клетки, сможет наконец отдохнуть, а его символ веры отправится туда, где почили миллионы других верований, полагавших себя вечными…
19
В задумчивом молчании шли Хилвар с Олвином обратно, к ожидавшему их кораблю. Как только они взлетели, крепость стала темной тенью среди холмов, она быстро сокращалась в размерах, пока не превратилась в странный черный глаз без век, обреченный на пристальный, вечный взгляд вверх, в пространство, — и вскоре они потеряли его в огромной панораме Лиза.
Олвин ровным счетом ничего не делал для управления кораблем. И все же они поднимались и поднимались, пока весь Лиз не распростерся под ними — зеленым островом в охряном море. Никогда прежде Олвин не забирался так высоко. Когда наконец корабль замер, внизу под ними полумесяцем лежала теперь вся Земля. Лиз отсюда выглядел совсем крошечным — изумрудное пятнышко на ржавом лике пустыни. А далеко, у самого закругления этого полуосвещенного шара, что-то сверкало, будто рукотворный драгоценный камень. Таким Хилвар впервые увидел Диаспар.
Они долго сидели, наблюдая, как Земля проворачивается под ними. Из всех древних способностей человека любопытство, без сомнения, было тем, что он меньше всего мог позволить себе утратить. Олвину хотелось бы показать властителям в Лизе и Диаспаре весь этот мир — таким, каким он видел его сейчас.
— Хилвар, — наконец проговорил он, — а ты уверен, что то, что я делаю, — правильно?
Вопрос этот удивил Хилвара, который и понятия не имел о тех внезапных сомнениях, что временами накатывали на его друга, да и, кроме того, он еще не знал о встрече Олвина с Центральным Компьютером и о том отпечатке, который эта встреча наложила на его сознание. Не такой это был легкий вопрос, чтобы ответить на него бесстрастно. Как и Хедрон, хотя и с меньшим основанием, Хилвар чувствовал, что его собственное «я» тонет в личности Олвина. Его безнадежно засасывало в водоворот, который Олвин оставлял за собой на своем пути по пространству и времени.
— На мой взгляд, ты прав, — медленно проговорил Хилвар. — Наши два народа были разделены слишком долгое время… — Это ведь правда, подумалось ему, хотя он и понимал, что личные его ощущения все еще противоречат такому ответу. Но Олвин не успокоился.
— Есть еще одна проблема, которая меня волнует, — обеспокоенно сказал он — Различие в длительности наших жизней. — Он не добавил больше ни слова, но оба они в этот момент знали, о чем именно думает сейчас друг.
— Меня это тоже тревожит, — признался Хилвар. — Но мне кажется, что к тому времени, как наши народы смогут снова хорошо узнать друг друга, проблема эта разрешится сама собой. Мы оба можем оказаться правы: пусть наши жизненные циклы слишком коротки, но зато ваши, без сомнения, чересчур уж длинны. В конце концов будет найден какой-то компромисс…
Олвин задумался над этим. В самом деле, единственную надежду следовало искать только в этом направлении, однако столетия переходного периода, конечно же, будут очень сложными. Он снова припомнил горькие слова Сирэйнис: «И он, и я будем мертвы уже иелые столетия, в то время как вы будете еще молодым человеком…» Что ж, хорошо: он примет эти условия. Даже в Диаспаре все дружеские связи развивались в тени того же самого — сотня ли лет, миллион ли, в конце концов это не имело значения.
С уверенностью, которая выходила за пределы логики, Олвин знал, что благополучие народа требовало сосуществования двух культур. В этом случае индивидуальное счастье окажется на втором плане. На момент человечество представилось Олвину чем-то куда более драгоценным, нежели как просто фон его собственного бытия. И он без колебаний принял ту долю личных потерь, которую, наступит день, принесет ему сделанный им выбор.
Мир под ними продолжал свое бесконечное вращение. Чувствуя настроение друга, Хилвар молчал, пока наконец Олвин сам не нарушил устоявшуюся тишину.
— Когда я в первый раз ушел из Диаспара, я и понятия не имел — а что же я надеюсь найти? — сказал он. — Тогда меня вполне мог удовлетворить Лиз, и он меня и удовлетворил, но теперь все на Земле кажется таким маленьким… Каждое сделанное мною открытие вызывало все более серьезные вопросы, открывало более широкие горизонты… Где, где все это кончится?..
Никогда еще Хилвар не видел своего друга таким задумчивым, и ему не хотелось мешать этой погруженности в самого себя. За последние несколько минут он очень многое узнал о друге.
— Робот сказал мне, что этот корабль может достичь Семи Солнц меньше чем за день, — сказал Олвин. — Как ты считаешь — отправиться мне туда?
— А ты что же — полагаешь, что мне удастся тебя отговорить? — вопросом же негромко ответил Хилвар.
Олвин улыбнулся:
— Это не ответ. Кто знает, что именно лежит там, в пространстве? Может, Пришельцы и покинули Вселенную, но в ней могут найтись и другие разумные существа, враждебные Человеку…
— Да с какой же стати им быть враждебными? — поразился Хилвар. — Эту проблему наши философы обсуждали на протяжении веков. По-настоящему разумная раса просто не может быть враждебной разуму.
— Но Пришельцы…
— Они — загадка, я согласен. Если они действительно были злобны, то к настоящему времени наверняка уже уничтожили сами себя. Но даже если этого и не произошло… — Хилвар указал на бесконечные пустыни под кораблем: — Когда-то у нас была Галактическая Империя. Что есть у нас теперь такое, что им хотелось бы захватить?
Олвин был несколько удивлен, что вот нашелся и еще один человек, исповедующий точку зрения, так близко подходящую к его собственной.
— И что — весь ваш народ думает так же? — поинтересовался он.
— Да нет, только меньшинство… Средний человек над всем этим просто не задумывается. Но спроси такого — и он наверняка скажет, что, если бы Пришельцы и в самом деле хотели уничтожить Землю, они сделали бы это уже давным-давно… Мне как-то не кажется, что хотя бы кто-то боится их и на самом деле…
— В Диаспаре все совсем по-другому, — вздохнул Олвин. — Мои сограждане — безумные трусы. Они ужасаются при одной мысли о том, что можно выйти за пределы городских стен, и я просто не представляю себе, что с ними станется, когда они проведают о моем космическом корабле. Джизирак сейчас уже, конечно, обо всем рассказал Совету… Хотелось бы мне знать, что они предпринимают…
— Это-то я могу тебе сказать! Сейчас они готовятся принять первую делегацию из Лиза. Мне только что сказала об этом Сирэйнис.
Олвин снова посмотрел на экран. Сам он мог в мгновение ока покрыть расстояние между Лизом и Диаспаром. Одна из целей была достигнута, но теперь это уже не казалось таким уж важным. И все же он был очень рад. Уж теперь-то окончатся долгие века стерильной изоляции…
Сознание, что он добился успеха в том, что когда-то было его главной миссией, выветрило из головы последние сомнения. Здесь, на Земле, он исполнил свое дело быстрее и тщательнее, чем мог надеяться поначалу, Был открыт путь к тому, что могло бы стать его последним и, уж конечно, самым выдающимся предприятием.
— Отправишься со мной? — спросил он, отлично сознавая, чего именно просит.
Хилвар пристально посмотрел на него.
— Мог бы и не спрашивать, — ответил он. — Я сообщил маме и всем друзьям, что улетаю с тобой, — и было это добрый час назад!
Они находились очень высоко, когда Олвин закончил отдавать роботу последние распоряжения. Корабль к этому времени почти остановился, и Земля лежала в тысяче миль под ним, едва не закрывая все небо. Вид у нее был какой-то неуютный. Олвину подумалось о том, сколько кораблей в прошлом висели вот тут некоторое время, прежде чем продолжить свой путь…
Пауза затянулась, как если бы робот тщательнейшим образом проверял все органы управления и многочисленные электрические цепи, которыми не пользовались на протяжении целых геологических эпох. Затем раздался какой-то очень слабый звук — первый, который услышат Олвин от этой машины. Это было едва различимое пение, оно быстро меняло тональность — от октавы к октаве, забираясь все выше и выше, и вот уже ухо было не в силах его воспринимать. Они не ощутили никакого изменения в движении корабля, но внезапно Олвин обратил внимание, что звезды поплыли по экрану. Снова появилась Земля — и откатилась назад… появилась опять, но уже в другом ракурсе. Корабль охотился за своим курсом, крутясь в космосе, как крутится стрелка компаса, когда она ищет север. В течение нескольких минут небеса рыскали вокруг них, пока наконец корабль не остановился — гигантский снаряд, нацелившийся на звезды.
В самом центре экрана во всем своем радужном великолепии лежали теперь Семь Солнц. От Земли остался лишь самый краешек — темный серпик месяца, отороченный золотом и пурпуром заката. Олвин понимал, что сейчас происходит что-то, выходящее за пределы его опыта. Он ждал, вцепившись в подлокотники кресла. Секунды капали одна за другой, а на экране сияли Семь Солнц.
Ни звука не раздалось, когда произошел этот внезапный рывок, который на миг замутил зрение, но Земля исчезла, словно чья-то гигантская рука просто смела ее с небосвода. Они оказались одни в космосе — только они и звезды, да странно съежившееся Солнце. Земля пропала, будто ее никогда и не было.
Снова такой же рывок, но на этот раз послышался и едва уловимый звук, как будто бы только вот сейчас генераторы корабля отдали движению более или менее заметную долю своей энергии. И все же какую-то секунду еще казалось, что ничего не произошло. Но почти тотчас же Олвин осознал, что исчезло и Солнце, а звезды медленно ползут назад вдоль корпуса корабля. Он обернулся на мгновение и — ничего не увидел. Все небо в задней полусфере просто исчезло, сметенное тьмой. Он успел заметить, как звезды срываются в эту тьму и гаснут, будто искры, падающие в воду. Корабль двигался теперь со скоростью, куда большей, чем скорость света, и Олвин понял, что родной мир Земли и Солнца им с Хилваром уже не принадлежит.
Когда этот внезапный, головокружительный рывок произошел в третий раз, сердце у него почти остановилось. Странное затемнение зрения теперь стало очевидно: на какой-то момент все окружающее, казалось, до неузнаваемости изменило свои очертания. Откуда оно — это искажение, Олвин понял в каком-то озарении, происхождения которого он не мог бы объяснить. Мир искривился на самом деле, это не были шутки зрения. Пронизывая тонкую пленку Настоящего, Олвин каким-то образом схватывал основные черты перемен, происходящих вокруг него в пространстве.
И в этот миг шепот генераторов превратился в рев потрясающей силы. Звук этот был в особенности страшен, потому что генераторы корабля зашлись в протесте в первый раз за все это время. Почти тотчас же все и кончилось, и внезапно наступившая тишина, казалось, зазвенела в ушах. Устройства, приводящие корабль в движение, сделали свое дело: теперь они уже не понадобятся до самого конца путешествия. Звезды впереди сияли бело-голубым огнем и пропадали в ультрафиолете. И все же, благодаря какому-то чуду природы или науки, Семь Солнц видны были по-прежнему, хотя теперь их расположение и цвел все-гаки слегка изменились. Корабль стремглав несся к ним сквозь туннель черноты, за пределами пространства, за пределами времени, и скорость его была слишком громадной, чтобы человеческий разум мог ее оценить.
Было трудно поверить, что их вышвырнуло из Солнечной системы со стремительностью, которая, если ее не обуздать, скоро пронесет корабль через самое сердце Галактики и выбросит в неимоверно пустынные и темные пространства за ее пределами. Ни Олвин, ни Хилвар не могли оценить всей громадности своего путешествия; величественные саги о межзвездных странствиях совершенно переменили взгляд Человека на Вселенную, и даже сейчас, спустя миллионы столетий, древние мифы еще не совсем умерли. Существовал когда-то корабль, шептала легенда, который совершил кругосветное путешествие по Космосу за время от восхода до заката Солнца. Все эти миллиарды миль, разделяющие звезды, не значили ровно ничего перед такой скоростью. Вот почему для Олвина этот полет был лишь чуть-чуть более грандиозным, чем его первая поездка в Лиз.
Именно Хилвар вслух выразил их общую мысль при виде того, как Семь Солнц впереди исподволь набирают яркость.
— А ведь такое вот их расположение не может быть естественным, — задумчиво проговорил он.
Олвин кивнул:
— Я думал над этим на протяжении многих лет, но даже сама мысль о такой возможности все еще представляется мне фантастической…
— Возможно, эту систему создали и не люди, — согласился Хилвар, — но все же она должна быть творением разума. Природе никогда бы не сотворить такое вот совершенное кольцо из звезд равной яркости. И в видимой части Вселенной нет ничего похожего на Центральное Солнце.
— Но… зачем же это понадобилось?..
— О, можно напридумывать сколько угодно причин! Вдруг это сигнал, чтобы любой корабль, проникающий в нашу Вселенную, знал, где искать жизнь… Или — указание на расположение центра галактической администрации… Или, может быть, — и я почему-то склоняюсь к тому, что так оно и есть, — это просто самое величественное из всех произведений искусства. Но что толку-то — размышлять об этом сейчас? Мы же через несколько часов все равно узнаем истину…
«Узнаем истину»… Очень может быть, подумалось Олвину, но вот — какую часть ее? Казалось странным, что сейчас, когда он покидал Диаспар — а в сущности, и самое Землю — со скоростью, выходящей далеко за пределы самого смелого воображения, его разум обращался не к чему-нибудь, а к самой тайне его собственного происхождения. Но, возможно, это было и не столь уж удивительно… Ведь с тех самых пор, как впервые попал в Лиз, он действительно узнал очень многое, но до сих пор у него и минутки свободной не было, чтобы спокойно предаться размышлениям.
А сейчас ему не оставалось ничего другого, кроме как сидеть и ждать. Его непосредственным будущим управляла чудесная машина — без сомнения, одно из самых высоких достижений инженерной мысли во все времена, — которая несла его в самый центр Вселенной. Момент для размышлений и анализа, хотел он того или нет, наступил именно теперь. Но сначала он расскажет Хилвару обо всем, что произошло с ним с момента его торопливого отбытия двумя днями прежде…
Хилвар выслушал одиссею безо всяких комментариев и не требуя разъяснений. Казалось, он тотчас схватывает все, что говорит ему Олвин, и он не выказал ни малейшего удивления даже тогда, когда друг рассказал о своей встрече с Центральным Компьютером и о той операции, которую мозг города произвел с сознанием робота. Это, конечно, вовсе не означало, что он был не способен удивляться. Просто известная ему история прошлого изобиловала чудесами, вполне сравнимыми с любым эпизодом из истории Олвина.
— Мне совершенно ясно, что Центральный Компьютер получил насчет тебя какие-то специальные инструкции — еще когда его только построили, — сказал Хилвар, едва Олвин завершил свое повествование. — Теперь-то ты должен бы уже догадаться почему.
— Мне кажется, я знаю… Часть ответа сообщил мне Хедрон, когда объяснил, каким образом люди, разработавшие концепцию Диаспара, предусмотрели все, чтобы предотвратить его упадок…
— Выходит, по-твоему, что и ты сам, и другие Неповторимые, которые были еще до тебя, все вы — часть какого-то социального механизма, который предотвращает полный застой?
Так что, если Шуты — это только кратковременные корректирующие факторы, то ты и тебе подобные должны работать на долгую перспективу?
Хилвар выразил эту мысль лучше, чем мог бы и сам Олвин, и все же это было совсем не то, что пришло ему в голову.
— Да нет, я убежден, что истина-то куда более сложна. Очень уж похоже на то, что, когда город еще только строился, произошло столкновение мнений между теми, кто хотел совершенно отгородить его от остального мира, и теми, кто выступал за некоторые контакты Диаспара с этим миром. Победила первая группировка, но те, другие, не захотели признать своего поражения. И вот, мне кажется, Ярлан Зей был, должно быть, одним из их лидеров, только он был недостаточно могущественным, чтобы выступить в открытую. Он сделал все, что мог, оставив подземку в рабочем состоянии и предусмотрев, чтобы через долгие интервалы времени кто-то выходил из Зала Творения с психологией человека, ни в малейшей степени не разделяющего страхов своих сограждан. В сущности-то мне вот что интересно… — Олвин остановился, и глаза его затуманились мыслью до такой степени, что какое-то время он, похоже, просто не отдавал себе отчета в окружающем.
— Ты о чем задумался? — спросил Хилвар.
— Мне просто пришло в голову… может быть, я и есть Ярлаи Зей? Это, знаешь, вполне возможно… Он мог внести матрицу своей личности в Хранилища Памяти и возложить на нее задачу взломать форму Диаспара, прежде чем она закостенеет. Придет день, когда я должен буду выяснить, что же случилось с теми, предыдущими Неповторимыми. Это ведь помогло бы стереть множество белых пятен в общей картине…
— И Ярлан Зей — или кто бы это ни был — также проинструктировал Центральный Компьютер оказывать Неповторимым помощь, когда бы они ни появлялись, — задумчиво произнес Хилвар, следуя линии его логики.
— Вот именно! Ирония же заключается в том, что я мог получить всю необходимую информацию прямо от Центрального Компьютера и мне не нужно было бы потрошить беднягу Хедрона. Мне-то Центральный сообщил бы гораздо больше, чем то, что он когда-либо рассказывал Шуту. Но все-таки Хедрон сэкономил для меня бездну времени и научил многому, до чего я сам никогда бы не додумался…
— Твоя гипотеза вроде бы и объясняет все известные факты, — осторожно сказал Хилвар. — К несчастью, она все еще оставляет открытой самую глубокую проблему из всех — изначальную иель создания Диаспара. Почему ваши люди склонны считать, что внешнего мира просто не существует? Вот вопрос, на который я хотел бы получить ответ.
— Я как раз и собираюсь на него ответить, — сказал Олвин. — Только не знаю — когда и как…
И так они спорили и мечтали, в то время как час за часом Семь Солнц расплывались в стороны, пока кольцо их не обрисовало внешние обводы этого странного туннеля ночи, в котором мчался корабль. Затем одна за другой наружные звезды исчезли на грани черноты, и, наконец, в центре экрана осталось только среднее солнце Семерки. Хотя корабль все еще пронизывал не его пространство, среднее светило уже сияло тем жемчужным огнем, который выделял его из всех остальных звезд. Яркость его увеличивалась с каждой минутой, пока наконец оно из точки не превратилось в крохотный жемчужный диск. И этот диск принялся увеличиваться в размерах.
Раздалось кратчайшее из кратких предупреждение: на какое-то мгновение в корабле завибрировала глубокая, колокольного тона нота. Олвин стиснул подлокотники кресла — движение это было достаточно бессмысленным.
И снова взорвались жизнью гигантские генераторы, и с внезапностью, которая почти ослепила, на небе появились все его звезды. Корабль снова выпал в пространство, снова появился во Вселенной солнц и планет, в естественном мире, где ничто не может двигаться быстрее света.
Они оказались уже внутри системы Семи Солнц — огромное кольцо разноцветных шаров теперь явно доминировало в черноте Космоса. Но разве можно было назвать это чернотой! Звезды, которые были им знакомы, все привычные созвездия куда-то пропали. А Млечный Путь теперь уже не рисовался слабой полоской тумана на одной стороне небосвода. Он гордо пролегал теперь в самом центре мироздания, и широкое его полотно делило Вселенную надвое.
Корабль все еще очень быстро двигался в направлении Центрального Солнца, а шесть остальных звезд системы были словно разноцветные маяки, расставленные кем-то по небу. Неподалеку от ближайшей из них просматривались крохотные искорки планет — должно быть, планеты эти были неимоверных размеров, если их было видно с такого расстояния.
Причина туманного, а потому и жемчужного свечения Центрального Солнца была теперь очевидна: гигантскую звезду окутывала газовая оболочка, она смягчала излучение и придавала ему характерный цвет. Глаз едва различал эту газовую туманность, и вся она была словно бы изломана, но как именно — невозможно было решить. Но оболочка была, и чем дольше на нее смотреть, тем протяженнее она представлялась.
— Ну, Олвин, у нас с тобой теперь достаточно миров, чтобы сделать выбор, — засмеялся Хилвар. — А может, ты нацелился исследовать их все?
— К счастью, в этом нет необходимости. Если мы только сможем где-то войти в контакт, то получим всю нужную нам информацию. Знаешь, логично, наверное, будет направиться к самой большой планете Центрального Солнца…
— Если только она не слишком уж велика. Я слышал, что некоторые планеты так огромны, что человек просто не может на них ступить — его собственный вес раздавит…
— Да навряд ли здесь есть что-нибудь подобное. Понимаешь, я уверен, что вся эта система полностью искусственная. Во всяком случае, мы же еще с орбиты сможем увидеть, есть ли на планете города и деревни.
Хилвар кивнул в сторону робота:
— Эта проблема решена. Проводник-то наш здесь ведь уже бывал… Он ведет нас домой, и мне хотелось бы узнать, о чем он в связи с этим думает.
Олвину это тоже пришло в голову. Но возможно ли, не бессмыслица ли, чтобы робот испытывал хоть что-нибудь, напоминающее человеческие чувства, пусть даже он и возвращался — после столь долгого отсутствия — к древнему дому своего хозяина?
Ни разу за все время с тех пор, как Центральный Компьютер снял блокировку, делавшую робота немым, машина не выказала ни малейшего признака эмоциональности. Робот отвечал на вопросы и повиновался командам, но истинное его «я» было для Олвина за семью печатями. А в том, что робот все-таки был личностью, Олвин был уверен. Иначе он не испытывал бы того туманного ощущения вины, которое охватывало его всякий раз, когда он вспоминал уловку, на которую попался робот.
Этот интеллект по-прежнему верил во все, чему научил его Мастер, хотя и видел, как тот «ставил» свои «чудеса» и лгал пастве. Странно, что эти неудобные факты не поколебали его преданности. По-видимому, он был способен — как и многие человеческие существа до него — примирять два противоречащих друг другу ряда фактов.
Теперь он прослеживал свои воспоминания в обратном направлении — к источнику их происхождения.
…Почти потерявшись в сиянии Центрального Солнца, лежала бледная искорка, вокруг которой поблескивали уж совсем крохотные миры. Необъятное по масштабам путешествие приближалось к концу. Через короткое время Олвину и Хилвару станет известно, не проделали ли они его впустую.
20
Планета, к которой они приближались, находилась теперь от них всего в нескольких миллионах миль — красивый шар, испещренный многоцветными пятнами света. На ее поверхности нигде не могло быть темноты, потому что, по мере того как планета поворачивалась под Центральным Солнцем, по ее небу чередой проходили все другие светила системы. И теперь Олвин с предельной ясностью понял значение слов умирающего Мастера: «Как славно смотреть на цветные тени на планетах Вечного Света!»
Они были уже так близко, что различали континенты, океаны и слабую вуаль атмосферы. В очертаниях суши и водоемов тревожило что-то загадочное, и они тотчас же уловили, что границы тверди слишком уж правильны. Континенты этой планеты были теперь совсем не такими, какими создала их природа, — но сколь ничтожной задачей было это преобразование мира для тех, кто построил его солнца!
— Да ведь это вовсе и не океаны! — внезапно воскликнул Хилвар. — Гляди, на них видны какие-то отметины…
Только когда планета совсем приблизилась, Олвин смог ясно рассмотреть, что именно имел в виду его друг. Он заметил слабые полоски, какие-то штрихи вдоль границ континентов — далеко в глубине того, что он принял за океаны. Он пригляделся и тотчас же исполнился сомнением, потому что значение таких же вот линий было ему слишком хорошо известно. Он уже видел такие же раньше — в пустыне за пределами Диаспара, и они теперь сказали ему, что путешествие к планете оказалось напрасным…
— Она такая же сухая, как и Земля! — упавшим голосом выдохнул Олвин. — Вся ее вода исчезла… вон те черточки — это полосы соли, там испарялись моря…
— Они никогда бы этого не допустили, — отозвался Хилвар. — Полагаю, что в конце концов мы опоздали…
Разочарование было таким горьким, что Олвин просто не решался заговорить снова, боясь, что голос выдаст его, и только молча смотрел на огромный мир под собой. С поражающей воображение величественностью проворачивалась планета под кораблем, ее поверхность медленно поднималась им навстречу. Теперь были уже видны и здания — крохотные белые инкрустации всюду, кроме дна океанов…
Когда-то этот мир был центром Вселенной. Ныне же он замер, его воздушное пространство пустовало, и на поверхности не было видно спешащих точек, свидетельствующих о том, что здесь кипит жизнь… И все же корабль по-прежнему неуклонно скользил над этим застывшим каменным морем, которое то там, то здесь собиралось в огромные волны, бросающие вызов небу.
В конце концов корабль остановился, как если бы робот внезапно отыскал в памяти то, что нужно, добравшись до самых ее глубин. Под ними высилась колонна из снежно-белого камня, вздымающаяся из самого центра невероятных размеров амфитеатра. Олвин немного подождал. Корабль оставался неподвижным, и тогда он приказал роботу приземлить его у подножия колонны.
Даже до этого вот момента Олвин втайне еще надеялся обнаружить на планете жизнь. Надежда исчезла, едва был открыт воздушный шлюз. Никогда прежде, даже в уединении Шалмирейна, не обволакивала их такая вот всепоглощающая тишина. На Земле всегда можно было уловить шорох голосов, шевеление живых существ или же, на худой конец, хотя бы вздохи ветра. Здесь ничего этого не было и уже не будет никогда…
— Почему ты привел нас именно на это место? — спросил Олвин у робота. Сам по себе ответ мало его интересовал — просто инерция исследования все еще несла его, хотя он и потерял всякое желание продолжать поиск.
— Мастер покинул планету именно отсюда, — ответил робот.
— Такого вот объяснения я и ожидал, — удовлетворенно сказал Хилвар. — Неужели до тебя не доходит ирония происходящего? Он бежал из этого мира всеми оплеванный — а теперь посмотри только на этот вот мемориал, который воздвигли в его честь!
Каменная колонна, возможно, в сотню раз превышала рост человека и стояла в центре металлического кольца, слегка приподнятого над уровнем равнины. Она была совершенно гладкая и без каких бы то ни было надписей. Сколько же времени, подумалось Олвину, собирались здесь околпаченные этим Мастером, воздавая ему почести? И узнали ли они, что он умер в изгнании на далекой Земле?
Все это теперь не имело никакого значения. И сам Мастер, и его паства были погребены вечностью.
— Выйди, — настойчиво приглашал Хилвар, пытающийся вывести Олвина из этого подавленного состояния. — Ведь мы же половину Вселенной пересекли, чтобы увидать это место. Уж по крайней мере, ты мог бы сделать над собой усилие и выйти наружу.
Против своего желания Олвин улыбнулся и вслед за Хилваром прошел воздушный шлюз. Но когда он оказался снаружи, настроение его стало мало-помалу подниматься. Даже если этот мир и оказался мертв, в нем должно найтись немало интересного, такого, что позволит ему раскрыть некоторые загадки прошлого.
Воздух был какой-то спертый, но им вполне можно было дышать. Несмотря на множество солнц на небе, жара не чувствовалась. Заметное тепло источал только белый диск Центрального Солнца, но и оно, это тепло, казалось, теряло свою силу, просачиваясь сквозь туманную дымку вокруг звезды. Другие же солнца давали свою долю света, но никак не тепло.
Им понадобилось всего несколько минут, чтобы убедиться, что этот обелиск ни о чем им не поведает. Упрямый материал, из которого он был сделан, ясно демонстрировал отметины, оставленные временем. Кромки его округлились, а металл, на котором он покоился, был исшаркан миллионами ног целых поколений пилигримов и просто любопытствующих. Странно было думать, что вот они двое, возможно, и есть последние из миллиардов человеческих существ, когда-либо стоявших на этом месте.
Хилвар уже хотел было предложить возвратиться на корабль и перелететь к ближайшему из расположенных в окрестностях обелиска зданий, когда Олвин обратил внимание на длинную узкую трещину в мраморном полу амфитеатра. Они прошли вдоль нее на довольно значительное расстояние, и трещина эта все время расширялась, пока наконец она не стала настолько широка, что уже нельзя было стать, поставив ноги на ее края.
Еще несколько секунд ходьбы — и они оказались возле того, что эту трещину породило. Поверхность амфитеатра в этом месте была расколота и разворочена, и образовалось гигантское углубление — длиной более чем в милю. Не требовалось ни какой-то особой догадливости, ни сильного воображения, чтобы установить причину всего этого. Столетия назад — хотя, несомненно, уже много времени спустя после того, как этот мир был покинут, — какая-то огромная цилиндрическая форма некоторое время покоилась здесь, а затем снова ушла в пространство, оставив планету наедине с ее воспоминаниями.
Кто они были? Откуда пришли? Олвин мог только глядеть и гадать. Ответа ему не узнать, поскольку он разминулся с этими более ранними посетителями на тысячу, а то и на миллион лет…
В молчании двинулись они обратно к своему кораблю. Каким бы малюткой выглядел он рядом с тем, чудовищных размеров, межзвездным скитальцем, который когда-то лежал здесь! Поднявшись, они медленно полетели над всей этой местностью, пока не приблизились к самому удивительному из зданий, рассеянных по ней. Когда они приземлились перед изукрашенным входом, Хилвар указал на то, что Олвин заметил и сам:
— Не больно-то эти здания безопасны! Погляди, сколько тут нападало камней, — да это просто чудо, что они еще держатся! Будь на этой планете бури, здания-то уж столетия назад сровнялись бы с землей… Не думаю, что это будет мудро — войти в одно из них…
— А я и не собираюсь. Давай пошлем робота — он же передвигается куда быстрее, чем мы, ни за что там не зацепится и не обрушит на себя перекрытия…
Хилвар такую предосторожность одобрил, но настаивал и еще на одной, которую Олвин не предусмотрел. Прежде чем робот отправился в разведку, Олвин приказал ему записать в память искусственного мозга корабля — почти столь же развитого, как и у самого робота, — подробный набор команд для возвращения на Землю, что бы ни случилось с их пилотом.
Понадобилось совсем немного времени, чтобы убедиться, что этот мир ничего не в силах им предложить. Сидя перед экраном в корабле, они миля за милей наблюдали пустынные, покрытые слоем пыли коридоры и проходы, которые проплывали перед ними, по мере того как робот исследовал эти безлюдные лабиринты.
Все здания, построенные разумными существами, какой бы формы ни были их тела, должны соответствовать определенным основным законам, и спустя некоторое время даже самые, казалось бы, чужеродные архитектурные формы перестают вызывать удивление, мозг словно бы гипнотизируется бесконечным повторением одного и того же и теряет способность воспринимать новые впечатления. Здания на этой планете, похоже, предназначались исключительно для жилья, и существа, некогда обитавшие в них, по своим размерам приблизительно соотносились с человеком. Очень может быть, что они и были людьми. Верно, что в этом здании было очень много комнат и помещений, проникнуть в которые могли только летающие существа, но это вовсе не означало, что строители зданий и сами были крылаты. Они могли, скажем, пользоваться индивидуальными гравитационными устройствами, которые когда-то были широко распространены, но от которых в Диаспаре сейчас не осталось и следа.
— Да мы можем потратить миллионы лет, исследуя все эти здания, — очнулся наконец Хилвар. — Ясно же, что их не просто бросили — их тщательно освободили от всего ценного, что они могли содержать. Мы только зря тратим время.
— Ну и что ты предлагаешь?
— Хорошо бы осмотреть еще два или три района планеты, да и убедиться, что все они — один к одному, как я ожидаю. Потом нам следует так же быстро ознакомиться с другими планетами, а приземляться только в тех случаях, если какая-то покажется нам сильно отличающейся от всех предыдущих или же если мы заметим что-нибудь необычное. И это все, на что мы можем надеяться, если только не собираемся торчать тут до конца своих дней…
Это было достаточно справедливо. Они собирались войти в контакт с разумными существами, а вовсе не археологическими раскопками заниматься. Первую задачу можно было бы выполнить за какие-то несколько дней — если выполнить вообще. Вторая потребовала бы столетий труда целых армий людей и роботов.
Двумя часами позже они покинули планету и были рады, что так поступили. Олвин решил, что даже в те времена, когда она еще цвела жизнью, мир этих бесконечных зданий был достаточно гнетущ. Они не встретили ни следа парков или каких-нибудь открытых пространств, на которых могла произрастать какая-нибудь растительность. Это был абсолютно бесплодный мир, и им трудно было представить себе психологический склад существ, которые его населяли. Олвин решил для себя, что если и следующая планета очень похожа на эту, то он, скорее всего, тут же свернет поиски.
Она не была очень похожей. Более того — контраст разительнее трудно было бы и представить.
Эта планета находилась ближе к солнцу и даже из Космоса выглядела знойной. Часть ее закрывали низкие облака, что указывало на обилие воды, но океанов не было и следа. Не было заметно и никаких признаков разумной жизни: они дважды облетели планету и так и не увидели ни единого создания рук человеческих. Весь ее шар — от полюсов до экватора — был покрыт ковром ярчайшей зелени.
— Вот кажется мне, что здесь нам надо быть очень и очень осторожными, — заметил Хилвар. — Это живой мир, и мне как-то совсем не нравится цвет здешней растительности. Наверное, разумнее всего будет оставаться в корабле и совсем не открывать шлюз.
— И что — даже и робота на разведку не посылать?
— Вот именно. Ты ведь просто не знаешь, что такое болезни, и, хотя мой народ и умеет с ними бороться, мы слишком уж далеко от дома. Кроме того, здесь ведь могут встретиться и такие опасности, о которых мы с тобой просто и не подозреваем… Знаешь, мне кажется, что это — мир, который как бы сошел с ума… Когда-то, возможно, он весь был большим таким садом или парком, но потом его забросили, и природа снова взяла свое. Когда вся эта звездная система была обитаема, он просто не мог быть таким, как сейчас.
Олвин ничуть не сомневался в правоте Хилвара. Действительно, чувствовалось что-то зловещее и враждебное тому порядку и всей той правильности, на которых зиждились Лиз и Диаспар, в этой вот биологической анархии внизу, под ними. Миллиард лет здесь бушевала непрекращающаяся битва. И конечно, было бы проявлением мудрости опасаться тех, кто в ней выжил.
Сторожко пробирались они в своем корабле вдоль обширного ровного плато — такого однообразного, что уже само это немедленно поставило их перед загадкой. Плато оказалось обрамлено более высокой местностью, сплошь заросшей деревьями, о высоте которых можно было только догадываться, — стояли они так тесно и были так погружены в подлесок, что стволов просто не было видно. В верхней части крон летало неисчислимое количество каких-то крылатых существ. Но они мелькали слишком уж быстро, и определить, что это — птицы или насекомые или же. ни то и ни другое, — было просто невозможно.
То тут, то там какой-нибудь лесной исполин ухитрялся вскарабкаться на несколько десятков футов над соперничающими с ним соседями, которые немедленно образовывали короткое содружество, с тем чтобы свалить его и ликвидировать набранное нахалом преимущество. Это была молчаливая война, и велась она слишком медленно, чтобы быть заметной глазу, но впечатление безжалостного, жестокого конфликта было просто ошеломляющим.
Плато же по сравнению с лесом казалось скучным и не обремененным никакими событиями. Оно было плоским, если не считать нескольких дюймов перепада по высоте между одним его краем и другим, и простиралось далеко, до самого горизонта.
Было похоже, что оно заросло редкой, похожей на проволоку травой. Они спустились над ним до высоты в пятьдесят футов, но так и не разглядели никаких признаков животной жизни, что, по мнению Хилвара, было несколько странно. Он решил, что, возможно, приближение корабля загнало обитателей плато под землю.
Они висели над самой поверхностью, пока Олвин пытался убедить Хилвара, что открыть воздушный шлюз — совсем безопасно, а Хилвар, со своей стороны, терпеливо объяснял ему, что такое вирусы, бактерии и грибки, и Олвин не мог их себе вообразить и еще меньше был способен понять, какое они имеют к нему отношение. Спор длился уже несколько минут, когда они не без любопытства заметили, что экран, который лишь минуту назад исправно показывал им панораму леса, стеной стоящего впереди, погас…
— Это ты его выключил? — спросил Хилвар, на мгновение, как обычно, опередив Олвина.
— Да нет, — ответил Олвин, и ледяные мурашки побежали у него по спине, как только в голову ему пришло единственное иное объяснение. — А ты не выключал его? — обратился он к роботу.
— Нет, — эхом его собственных слов прозвучал ответ.
Со вздохом облегчения Олвин отбросил мысль о том, что робот мог начать действовать по собственному разумению, что на борту вспыхнул мятеж машин.
— Тогда почему же экран не работает? — спросил он.
— Рецепторы изображения оказались закрыты.
— Не понимаю, — бросил Олвин, забыв в эти мгновения, что робот способен действовать только по прямому указанию и отвечать только строго в рамках заданного ему вопроса. Он быстро поправился: — Чем закрыты?
— Мне неизвестно.
Краткая точность робота порой может привести в отчаяние, ничуть не менее глубокое, чем многословие некоторых людей. Прежде чем Олвин собрался с силами, чтобы продолжить допрос, в бесплодный этот диалог вмешался Хилвар.
— Скажи ему, чтобы он поднял корабль, но только медленно, — сказал он, и в голосе у него прозвучала нотка настойчивости.
Олвин повторил команду. Как всегда, они не ощутили движения. Затем изображение снова медленно появилось на экране, хотя некоторое время еще и продолжало оставаться каким-то размытым и искаженным. Но они увидели достаточно, чтобы похоронить спор о воздушном шлюзе.
Ровное плато уже не было ровным. Прямо под ними сформировалась огромная выпуклость, разорванная на самой вершине — в том месте, где корабль выпростался из цепких объятий. Гигантские ложноножки в ярости беспорядочно хлестали во всех направлениях над образовавшимся провалом, будто пытаясь вновь ухватить добычу, которая только что ускользнула из их объятий. Глядя на все это с изумлением, к которому примешивалась и немалая доля страха, Олвин успел заметить какое-то пульсирующее алое отверстие — возможно, ротовое, обрамленное хлыстообразными щупальцами, которые бились в унисон, отправляя все, что к ним попадало, в зияющую пасть.
Лишившись своей жертвы, неведомое существо медленно погружалось в землю, и только теперь Олвин понял, что плато внизу оказалось всего лишь тонкой ряской на поверхности загнившего моря.
— Что это за штука? — едва вымолвил он.
— Мне пришлось бы спуститься и изучить ее, а уж тогда я тебе отвечу, — деловито сказал Хилвар. — Может статься, что это какая-то примитивная форма жизни, ну что-нибудь вроде родственника нашего друга там, в Шалмирейне. Ничуть не сомневаюсь, что это совершенно безмозглая тварь, иначе бы она не решилась сожрать космический корабль…
Олвина чуть ли не трясло, хотя умом он и понимал, что никакая опасность им не угрожала. Некоторое время он фантазировал о том, кто же еще может жить там, внизу, под этой невинной с виду ряской, которая так и звала опуститься на нее и пробежаться по ее упругой поверхности.
— Я мог бы провести здесь время с немалой пользой, — заявил ему Хилвар, который, судя по всему, был совершенно зачарован тем, что он только что увидел. — Надо думать, эволюция в этих вот условиях пришла к очень интересным результатам. Да и не только эволюция, но и обратный ей процесс — это когда высшие формы жизни начали деградировать после того, как планета была покинута разумными обитателями. Сейчас здесь, надо думать, достигнуто какое-то равновесие и… ты ведь не собираешься улетать немедленно? — Голос его, по мере того как ландшафт внизу становился все мельче и мельче, звучал как-то особенно жалобно.
— Вот именно — собираюсь, — ответил Олвин. — Я видел мир, на котором не было никакой жизни, и мир, на котором ее слишком как-то много, и я не знаю, какой из них не понравился мне больше…
В пяти тысячах футов над поверхностью плато планета преподнесла им свой последний сюрприз. Они вдруг встретили целую флотилию огромных мешковатых пузырей, плывших по ветру. Из каждого этого полупрозрачного мешка свешивались ветви, образуя своего рода перевернутый лес. Некоторые растения в попытке избежать смертоубийственных конфликтов на поверхности планеты приноровились, оказывается, жить в воздухе! Благодаря какому-то чуду адаптации они научились производить водород и запасать его в пузырях, что позволило им подняться в сравнительно безопасные слои нижней части атмосферы.
И все же безопасность эта полной не была. Их перевернутые стволы и ветви буквально кишели целыми выводками каких-то паукообразных животных, которые, должно быть, всю свою жизнь проводили в воздухоплавании над поверхностью планеты, продолжая вести эту всеобщую битву за существование на своих изолированных островах. Весьма вероятно, что время от времени контакт с землей у них все же случался. Олвин увидел, как один огромный пузырь внезапно схлопнулся и стал падать, причем лопнувшая оболочка действовала как какое-то грубое подобие парашюта. Мимолетно он еще задался вопросом — случайность ли это или же какая-то стадия жизненною цикла этих странных созданий.
…На пути к следующей планете Хилвар немного вздремнул. По какой-то причине, которую робот никак не мог им объяснить, корабль на этот раз двигался медленно — по крайней мере, по сравнению с той скоростью, с которой он мчался по Вселенной. Им понадобилось почти два часа, чтобы добраться до того мира, который Олвин выбрал для третьей остановки, и он был несказанно удивлен, что простое межпланетное путешествие потребовало такого срока.
Хилвара он разбудил, когда они уже погрузились в атмосферу.
— Ну и как тебе нравится вот это? — Он указал на экран.
Под ними простирался унылый пейзаж, окрашенный в серые и черные тона, нигде не видно было ни малейших признаков растительности или каких-нибудь других свидетельств существования здесь жизни. Если они и были, то только косвенными: низкие холмы и неглубокие долины несли на себе прекрасно сформированные полусферы, многие из которых располагались по сложным симметричным линиям.
Предыдущая планета научила их осторожности. Поэтому, тщательно взвесив все возможные последствия, они остались висеть в атмосфере, а вниз, на обследование, послали робота. Его-го глазами они и увидели, как одна из этих полусфер стала приближаться, пока робот не завис всего в нескольких футах над ее абсолютно гладкой поверхностью, на которой глазу не за что было зацепиться.
Не виделось и следа чего-либо похожего на вход, ничто и не намекало даже на цель, которой должно было служить это сооружение. Оно оказалось достаточно велико — более сотни футов в вышину. Иные из этих полусфер были еще выше.
После некоторого колебания Олвин приказал роботу двинуться вперед и притронуться к куполу. К его несказанному изумлению, робот отказался повиноваться приказу. И уж это-то действительно был мятеж — по крайней мере, так показалось сначала.
— Почему ты не выполняешь того, что я тебе приказываю? — спросил Олвин, когда немного опомнился от изумления.
— Запрещено, — последовал ответ.
— Кем это запрещено?
— Я не знаю.
— Тогда как же… Нет, можешь не отвечать. Был ли этот приказ встроен в тебя?
— Нет.
Это устраняло одну из возможностей. Строители этих вот куполов вполне могли оказаться создателями робота и включить свое табу в число фундаментальных принципов работы машины.
— Когда ты получил этот приказ?
— Когда приземлился.
Олвин повернулся к Хилвару. Свет новой надежды блистал в его глазах:
— Здесь есть разум! Ты его не чувствуешь?
— Нет, — ответил Хилвар. — Эта планета представляется мне такой же мертвой, как и первая.
— Я сейчас выйду и присоединюсь к роботу! Что бы это ни было — ну то, что говорит там с ним, оно ведь могло бы поговорить и со мной?..
Хилвар не стал спорить, хотя на лице у него не отразилось ни малейшего энтузиазма. Они посадили корабль в сотне футов от купола, поближе к роботу, и открыли воздушный шлюз.
Олвин отлично сознавал, что шлюз не может быть открыт до тех пор, пока мозг корабля не убедится в том, что атмосфера за бортом пригодна для дыхания. Какое-то мгновение ему казалось, что на этот раз мозг ошибся: слишком уж разрежен был здесь воздух, слишком мало кислорода доносил он до легких. Затем, вздохнув поглубже, Олвин обнаружил, что кислорода вполне достаточно, чтобы выжить несколько минут, по меньшей мере, хотя дольше ему и не выдержать.
Тяжело дыша, они подошли к роботу и к закругляющейся стенке таинственного купола. Шаг… еще шаг — и оба они разом остановились, словно настигнутые внезапным ударом. В мозгу у каждого, будто гулкий гром гигантского колокола, прозвучала одна-единственная фраза:
«Опасно! Ближе не подходить!»
И все. Это были не какие-то слова, а чистая мысль. Олвин был уверен, что любое существо, каков бы ни был уровень его развития, получит здесь то же самое предупреждение в том же самом неизменном виде — прямо в сознание.
При всем при том, это было именно предупреждение, а не угроза. И Хилвар, и Олвин каким-то образом поняли, что оно вовсе не направлено против них и, более того, что оно служит их защите. Оно как бы говорило: здесь находится нечто невообразимо опасное, и мы, его создатели, исполнены желания никому не причинить вреда…
Молодые люди отошли на несколько шагов и поглядели друг на друга: каждый ждал, чтобы именно другой первым сказал, о чем же он сейчас думает.
Подытожил Хилвар:
— Слушай, а ведь прав-то я оказался. Никакой разумной жизни здесь и в помине нет. А предупреждение это — оно автоматическое: оно включилось самим нашим с тобой присутствием, когда мы приблизились к дозволенной границе…
Олвин кивнул, соглашаясь:
— Но вот интересно, а что же это они пытаются защитить? Ну, скажем, под этими куполами могут оказаться дома, все что угодно…
— Нам никак этого не узнать, если каждый купол будет просить нас отойти… Но ведь как интересно — я про все эти различия между тремя планетами! Они все забрали с самой нашей первой… Оставили вторую, не позаботившись о ней ни на вот столько… А туг вот они озаботились прямо сверх всякой меры!.. Может и так статься, что они надеялись в один прекрасный день возвратиться и поэтому хотели, чтобы к их возвращению все было готово…
— Но ведь они же так и не возвратились, а было это все так давно…
— А может, они передумали?..
Странно, пришло в голову Олвину, как оба они — и Хилвар, и он сам — бессознательно стали пользоваться этим словом… Кто бы и что бы «они» ни были, их присутствие явственно ощущалось на той, первой планете и еще более сильно — сейчас. Перед ними находился мир, который был тщательнейшим образом упакован и, так сказать, отложен про запас, пока он не понадобится снова…
— Пошли к кораблю, — предложил Олвин — Я даже дышать-то здесь толком не могу!
Как только шлюз за ними закрылся и они снова почувствовали себя в своей тарелке, наступило время обсудить дальнейшие свои шаги. Детальное исследование планеты предполагало проверку огромного числа куполов в надежде, что удастся найти такой, который не станет предупреждать об опасности и в который можно будет проникнуть. Если же и эта попытка провалится, то тогда… Впрочем, Олвин и думать не хотел о такой возможности, пока обстоятельства не заставят его смириться с неизбежным.
С этими самыми обстоятельствами он столкнулся менее чем через час и куда более драматическим образом, чем ему могло представиться. Они посылали робота более чем к десятку куполов — и каждый раз все с тем же результатом, — пока не натолкнулись на сцену, которая в этом аккуратном, тщательно упакованном мире буквально ни в какие ворота не лезла.
Перед ними предстала широкая долина, там и сям испятнанная этими дразнящими, непроницаемыми куполами. В центре ее был виден — перепутать это было невозможно ни с чем — шрам от огромного взрыва, разметавшего обломки во всех направлениях на многие мили и проплавившего в поверхности планеты глубокий кратер.
И рядом с этим кратером валялись останки космического корабля…
21
Они приземлились совсем близко от места этой древней трагедии и медленно, щадя дыхание, двинулись к гигантскому остову, возвышающемуся над ними. Лишь одна короткая секция — может быть, это была корма — осталась от корабля, все же остальное, надо полагать, было уничтожено взрывом. Когда они вплотную приблизились к тому, что осталось от катастрофы, у Олвина сформировалась догадка, постепенно перешедшая в уверенность.
— Слушай-ка, Хилвар, — сказал он, думая о том, как же это трудно здесь — двигаться и говорить в одно и то же время, — мне кажется, что это тот самый корабль, который приземлялся на той, первой планете, у обелиска…
Не желая тратить дыхание, Хилвар только кивнул в ответ. Ему в голову уже пришла та же самая мысль. Это был превосходный предметный урок для неосторожных посетителей, подумалось ему. Он очень надеялся, что Олвин этот урок усвоит.
Они совсем близко подошли к корпусу корабля и стали разглядывать его обнаженные внутренности. Это было все равно что смотреть внутрь какого-то бромного здания, грубо разваленного надвое. Полы, стены, потолки, срезанные взрывом, являли глазу своего рода смятый чертеж поперечного сечения. Какие же странные существа, печально подумал Олвин, лежат в этих обломках — там, где застигла их смерть?
— Непонятно… — внезапно произнес Хилвар, — Эта вот часть страшно повреждена, но где же все остальное? Он что — переломился надвое еще в космосе и эта часть рухнула сюда?
Ответ на этот вопрос стал им ясен не прежде, чем они послали робота снова заняться исследованиями, да и сами внимательно изучили местность вокруг обломков. Не оставалось и тени сомнения: на небольшой возвышенности неподалеку от корпуса корабля Олвин обнаружил линию холмиков, каждый из которых был в длину не более десяти футов.
— Выходит, они опустились и пренебрегли предупреждением, — задумчиво произнес Хилвар. — Их распирало любопытство, как и тебя. И они попытались вскрыть один из куполов…
Он указал на противоположную стену кратера, на гладкую, по-прежнему ничем не отмеченную скорлупу купола, внутри которой создатели этого мира запечатали свои сокровища. Но то, что они увидели, куполом уже не было: теперь это была уже почти полная сфера, потому что грунт из-под нее вымело взрывом.
— Они погубили свой корабль, и многие из них были убиты. Но все же, несмотря на это, они как-то умудрились подремонтироваться и снова улететь, отрезав эту вот секцию и забрав из нее все более или менее ценное. Какой же это был, должно быть, труд!
Олвин почти не слышал друга. Он пристально разглядывал какое-то странное сооружение, которое, собственно, и привлекло его сюда. Это был высокий столб, пронзавший горизонтальный крут, вознесенный на зреть его высоты, считая от вершины. Как ни странно, как ни незнакомо было это устройство, что-то в Олвине отзывалось на него.
Под этими камнями, если бы он решился потревожить покой спящих там, находился ответ по меньшей мере на один его вопрос. Но ему предстояло так и остаться без ответа. Кто бы ни были эти существа, они заслужили право покоиться в мире.
Хилвар едва расслышал слова, которые Олвин прошептал, когда они медленно направились к своему кораблю.
— Надеюсь, они все-таки добрались до дома, — сказал он.
— И куда же мы теперь? — спросил Хилвар, когда они снова оказались в космосе.
Прежде чем ответить, Олвин довольно долго в задумчивости смотрел на экран.
— Ты что — считаешь, что надо возвращаться? — вопросом на вопрос ответил он.
— Это было бы только разумно. Удача может нам теперь изменить, и кто знает, какие еще сюрпризы подготовили для нас другие планеты?
Это был голос рассудка и осторожности, и Олвин теперь был склонен придавать ему куда больше значения, чем несколькими днями раньше. Но слишком уж длинный путь лежал у него за спиной, и он всю жизнь ждал этого момента. Он не мог повернуть вспять, когда оставалось увидеть еще столь многое…
— Отныне мы будем оставаться в корабле. И нигде не будем приземляться, — сказал он. — Уж этого-то будет вполне достаточно для обеспечения безопасности, тут и говорить нечего…
Хилвар пожал плечами, словно отказываясь принимать какую бы то ни было ответственность за все, что может произойти в следующий раз. Теперь, когда Олвин выказал известную долю благоразумия и осторожности, Хилвар не считал нужным признаваться, что он и сам в равной степени сгорает от нетерпеливого желания продолжить их исследования, хотя, по правде сказать, он уже оставил всякую надежду повстречать на какой-то из всех этих планет разумную жизнь.
На этот раз перед ними лежал двойной мир — колоссальных размеров планета со спутником, обращающимся вокруг нее. Сама планета, похоже, была двойняшкой той, второй, на которой они уже побывали, — ее покрывала все та же самая ядовитая зелень. Садиться здесь не было никакого смысла — все это они уже изведали.
Олвин опустил корабль пониже к поверхности спутника планеты. Ему не потребовалось предупреждения от сложной системы защиты, чтобы понять, что атмосферы здесь нет. Все тени обрисовывались резко, и не было никакого постепенного перехода от ночи к дню. Кстати сказать, это оказался первый мир, на котором они увидели какое-то подобие ночи, потому что в том месте, где они легли на круговую орбиту, над горизонтом стояло только одно из наиболее удаленных солнц. Пейзаж был залит его унылым красным светом, и впечатление было такое, будто все сущее здесь окунули в кровь.
Миля за милей летели они над вершинами гор, которые и по сию пору оставались все такими же островерхими, как и в далекие времена своего рождения. Это был мир, в котором такие понятия, как эрозия и перемены, не существовали, который никогда не подвергался разрушительной работе ветров или потоков дождевой воды. Здесь не требовалось Хранилищ Памяти, чтобы оставить в неизменности все элементы этой первозданной планетки.
Но если здесь не было воздуха, то, значит, не могло быть и жизни? Или же она все-таки могла существовать?
— Конечно, в этой идее с точки зрения биологии нет ничего абсурдного, — сказал Хилвар, когда Олвин задал ему этот вопрос. — Жизнь, конечно, не может изначально возникнуть в безвоздушном пространстве, но она вполне в состоянии развиться в формы, способные в нем выжить. Надо полагать, во Вселенной такое происходило многие миллионы раз — когда обитаемые планеты теряли вдруг свою атмосферу.
— Значит, по-твоему, в вакууме могут существовать и разумные формы жизни? Но разве они не смогли бы обезопасить свою планету от потери воздуха?
— Если это произойдет — я имею в виду катастрофу с атмосферой — уже после того, как они достигнут достаточно высокой стации развития, чтобы предотвратить такое. Но вот если атмосфера улетучится, когда они еще находятся на примитивной стадии развития, им придется либо приспособиться, либо исчезнуть. После же адаптации они вполне могут достигнуть весьма высокого уровня интеллектуального развития. В сущности, это даже неизбежно: их изобретательность будет исключительно велика…
Ну если говорить об этой вот планете, то рассуждения Хилвара — не более чем абстракция, решил Олвин. Не видно было ни малейшего доказательства того, что когда-то здесь существовала жизнь — разумная или какая-то иная. Но в таком случае каково же предназначение этого мира? Ведь вся многообразная система Семи Солнц — теперь он был в этом совершенно уверен — была искусственного происхождения, и этот вот мир тоже должен был быть составной частью великого замысла.
Хотя, по правде сказать, эта планетка могла служить и каким-то чисто украшательским целям — скажем, просто, чтобы красоваться луной на небе своего гигантского «хозяина». Но даже в этом случае представлялось вполне вероятным, что ей придумали бы и еще какую-то дополнительную функцию.
— Гляди-ка! — воскликнул вдруг Хилвар, указывая на экран, — Вон там, справа…
Олвин изменил курс корабля, и пейзаж тотчас наклонился. Скалы, освещенные красным, словно бы размывались скоростью их движения. Затем изображение стабилизировалось. И они увидели, что внизу под ними проносится неопровержимое свидетельство чьей-то разумной деятельности.
Да, неопровержимое — и в то же время какое-то сомнительное. На этот раз оно явилось им в виде редкого ряда стройных колонн, каждая из которых располагалась в сотне футов от соседней, а высотой была футов в двести. Колонны эти уходили вдаль, перспектива гипнотически уменьшала их все больше и больше, пока наконец горизонт не поглощал их совершенно.
Олвин бросил корабль вправо, и они помчались вдоль линии этих колонн. Он напряженно размышлял, для какой же цели могли они предназначаться. Все колонны были абсолютно одинаковы и непрерывной линией шагали через нагромождения скал и долины, и не было видно никаких признаков того, чтобы они когда-то что-нибудь поддерживали. Все они были совершенно гладкими и скучными, а к вершине чуть сужались.
Неожиданно череда этих колонн вдруг изменила свое направление под безупречным прямым углом. Олвин по инерции проскочил несколько миль, прежде чем среагировал и смог положить корабль на новый курс.
И снова колонны продолжали тянуться все тем же непрерывным забором, разрезая пейзаж, — все на том же расстоянии одна от другой. Затем, милях в пятидесяти от первого поворота, они снова резко свернули — и опять-таки под прямым углом. Если дело и дальше так пойдет, подумал Олвин, то мы скоро очутимся там, откуда начали…
Бесконечная череда этих колонн так заворожила их, это, когда ей наступил конец, они оказались уже во многих милях от этой последовательности. Только тогда Хилвар закричал и заставил Олвина, который ничего не заметил, повернуть назад. Они медленно снизились, и, пока кружили над тем, что обнаружил Хилвар, у каждого в сознании стала оформляться фантастическая догадка. Но поначалу ни тот ни другой не решались ею поделиться.
Пара колонн оказалась сломана у самого основания. Обе лежали там же, где упали. Но и это еще было не все: две колонны, обрамляющие образовавшийся провал, оказались согнуты в наружном направлении какой-то неодолимой силой…
Было просто некуда деться от внушающего трепет вывода. Теперь Олвин понял, над чем это они летели. Такие вещи он видел в Лизе достаточно часто, но до сего момента поразительная разница в масштабах мешала ему узнать очевидное.
— Хилвар… да ты знаешь, что это такое? — спросил он, все еще испытывая затруднения в формулировании своей мысли.
— В это, конечно, трудно поверить, — отозвался Хилвар, — но… мы летели по периметру загона… Эти колонны — загородка, которая вот в этом месте не оказалась достаточно надежной…
— Люди, которые держат домашних животных, должны заботиться о том, чтобы загоны были крепкими, — назидательно проговорил Олвин, стараясь нервным смешком скрыть замешательство.
Хилвар никак не отозвался на вымученную шутку. Насупив в раздумье брови, он глядел на сломанную ограду.
— Нет, не понимаю! — очнулся он наконец. — Откуда, спрашивается, на такой вот планете, как эта, оно могло добывать себе пищу? И почему оно вырвалось на свободу? Эх, я бы многое отдал, чтобы только узнать, что же это за животное такое…
— А может, его здесь просто забыли и оно вырвалось, потому что проголодаюсь, — предположил Олвин. — Или что-то могло вывести его из себя…
— Давай-ка снизимся, — предложил Хилвар, — Мне хочется хотя бы одним глазком взглянуть на грунт…
Они снижались до тех пор, пока корабль едва не коснулся голых скал, — и только тогда заметили, что плато испятнано бесчисленным множеством маленьких дырочек, диаметром не более дюйма или двух. С наружной стороны загона, однако, поверхность была свободна от этих загадочных отметин. Они пропадали сразу же за линией колонн.
— Ты прав, Оно было голодно, — признал Хилвар. — Но это было не животное. Правильнее будет назвать его растением. Оно выело все питательное в своем загоне, и ему понадобилось подыскать себе новое пастбище. Наверное, оно двигалось очень медленно. Вполне может быть, что ему потребовались годы, чтобы сломать эти столбы…
Воображение Олвина быстро дополнило эту картину деталями, которых он доподлинно знать, конечно же, не мог. Он не сомневался, что анализ Хилвара в основном был правильным и что этот ботанический монстр, двигавшийся, возможно, слишком медленно, чтобы его перемещения могли быть отмечены глазом, все-таки выиграл медленную, но бескомпромиссную схватку с барьером, который встал на его пути.
Он и сейчас еще мог быть жив — после всех этих столетий, блуждая, как ему заблагорассудится, по поверхности планеты. Искать его, впрочем, было бы задачей безнадежной, потому что в его распоряжении были многие миллионы квадратных миль. Безо всякой надежды на успех они прочесали поверхность в пределах нескольких квадратных миль поблизости от проема в загородке и обнаружили всего-навсего одно огромное круглое пятно, где это существо, по всей видимости, останавливалось покормиться — если только можно было приложить это выражение к организму, который извлекал необходимые ему питательные вещества из монолитной скалы.
Когда они снова поднялись в пространство, Олвин почувствовал, как его охватывает какая-то странная усталость. Увидеть столь многое, а узнать так мало… На всех этих планетах изобилие чудес, но то, поисками чего он занимался, покинуло их еще в незапамятные времена. Он понимал, что лететь к другим мирам Семи Солнц — дело вполне безнадежное. Даже если во Вселенной разумная жизнь еще и существовала, где теперь было ее искать? Он глядел на звезды, пылью рассыпанные по экрану корабля, и его мучила мысль, что время, оставшееся в его распоряжении, не позволяет ему исследовать их все.
Чувство одиночества и подавленности — такое, какого он до сих пор еще не испытывал, — затопило ему душу. Только теперь стал ему понятен ужас Диаспара перед непомерными просторами Вселенной, ужас, заставлявший его сограждан тесниться в микрокосме их города. Трудно было смириться с тем, что в конечном счете правы оказались все-таки они…
Он повернулся было к Хилвару, ища поддержки. Но Хилвар стоял, крепко сжав кулаки, и в глазах у него застыло какое-то неживое выражение. Голова была склонена на сторону: казалось, будто он прислушивается к чему-то, напрягая все свои чувства, пытаясь разумом проникнуть в пустоту, простирающуюся вокруг них.
— Что это с тобой? — с тревогой в голосе спросил Олвин. Ему пришлось повторить свой вопрос, прежде чем Хилвар выказал признаки того, что услышал друга. Но, даже отвечая ему, он все еще смотрел в никуда.
— Что-то приближается, — медленно выговорил он, — Что-то такое, чего я никак не могу постигнуть…
Олвину почудилось, будто в корабле внезапно похолодало. Ужас перед Пришельцами вдруг вынырнул откуда-то из глубин мозга и на какой-то миг затуманил сознание. С усилием воли, на которое потребовалась вся его энергия, он подавил в себе горячую волну паники.
— Оно… дружественное? — спросил он. — Или же нам следует немедленно бежать на Землю?
Хилвар не ответил на первый вопрос — только на второй. Голос его был очень слаб, но в нем не звучало и малой тревоги или страха. В тоне его скорее были любопытство и изумление, как если бы ему встретилось нечто столь удивительное, что теперь ему просто недосуг было откликаться на тревогу Олвина.
— Ты опоздал, — проговорил он, — Это уже здесь…
…Не раз и не два повернулась Галактика вокруг своей оси с тех пор, как Вэйнамонд впервые осознал себя. Он мало что помнил о тех давних-предавних временах и о созданиях, которые пестовали его, но до сих пор в памяти у него осталось то горькое чувство безутешности, которое он испытал, когда они ушли и оставили его одного среди звезд… И вот на протяжении веков и веков, минувших с тех пор, он блуждал от звезды к звезде, исподволь развивая и обогащая свои способности. Когда-то он мечтал о том, чтобы снова отыскать тех, кто позаботился о нем при его рождении. И хотя сейчас эта мечта и потускнела, он все еще не хотел отказываться от нее совсем.
На бесчисленных планетах нашел он останки, в которые обращалась жизнь, но вот разум обнаружил только однажды. От Черного солнца он в ужасе бежал… А Вселенная была громадна, и поиск его едва начался..
И хотя и далеко это было — и в пространстве, и во времени, — но гигантский поток энергии, истекающий из самого сердца Галактики, взывал к Вэйнамонду через пропасти световых лет. Он резко отличался от иррадиации звезд и появился в поле его сознания так же неожиданно, как неожиданно прочерчивает небо планеты внезапный метеор. По пространству и по времени двигался Вэйнамонд навстречу ему, к последнему моменту его существования, снимая с него — а он знал, как это делать, — мертвый, уже неизменимый рисунок прошлого.
Длинная металлическая форма со страшно сложной структурой, которую он никак не мог постигнуть, потому что она была столь же чужда ему, как почти все объекты физического мира… Вокруг нее еще витал призрак силы, которая влекла его через всю Вселенную, но теперь это было ему неинтересно. Осторожно, с оглядкой дикого зверя, который в случае опасности готов немедленно обратиться в бегство, он потянулся к двум созданиям, которых тут обнаружил.
И тотчас же понял, что долгие его поиски окончились.
Олвин ухватил Хилвара за плечи и бешено затряс, пытаясь пробудить друга к действительности.
— Да что там такое, скажи же мне! — умолял он. — Что я должен делать?
Потустороннее, отрешенное выражение постепенно уплывало из глаз Хилвара.
— Я все еще не совсем понимаю… — проговорил он, — Но вот пугаться не надо — уж в этом-то я совершенно убежден. Что бы это ни было, оно не причинит нам никакого вреда. Похоже, что оно просто… ну, заинтересовалось…
Олвин уже собрался было сказать еще что-то, когда его внезапно охватило ощущение, совершенно не похожее ни на что, что ему приходилось испытывать прежде. Теплая и слегка покалывающая волна пролилась по всему его телу. Странное ощущение это длилось всего несколько секунд, но, когда оно ушло, он был уже не просто Олвином. Что-то еще, что-то новое разделяло его сознание, накладываясь на него, как один круг может лечь на другой. Он отдавал себе отчет и в том, что вот рядом — сознание Хилвара, и тоже как-то связанное с тем самым созданием, которое им только что повстречалось. Ощущение это не было неприятным, скорее — просто новым, и оно-го и позволило Олвину впервые испытать, что это такое — настоящая телепатия. способность, которая в его народе ослабла настолько, что теперь ею можно было пользоваться только для того, чтобы отдавать команды машинам.
Когда Сирэйнис пыталась овладеть его сознанием, Олвин немедленно взбунтовался, но вот этому вторжению в свой разум он сопротивляться не стал. Во-первых, он почувствовал, что это было бы просто бесполезно. А во-вторых, это вот создание, чем бы оно там ни было, никак не представлялось недружественным. Он расслабился, безо всякого сопротивления воспринимая вторжение интеллекта, бесконечно более высокого, чем его собственный, исследующего сейчас его мозг. Но тем не менее он был не совсем прав.
Вэйнамонд сразу же увидел, что одно из этих двух существ значительно более восприимчиво и относится к нему с большей теплотой, чем другое. Он чувствовал изумление обоих но поводу его присутствия, что его самого несказанно поразило. Трудно было поверить в то, что они все позабыли. Забывчивость, как и смертность, находилась за пределами разумения Вэйнамонда.
Общаться было очень нелегко. Многие из мысленных представлений этих разумных существ были ему в новинку настолько, что он едва мог их осознавать. Он был поражен и немного испуган отголосками страха перед Пришельцами. Этот их страх напомнил ему о его собственных эмоциях, когда Черное солнце впервые появилось в поле его внимания.
Но эти вот двое ничего не знали о Черном солнце, и теперь он уже слышал их вопрос, обращенный к нему:
«Что ты такое?»
Он дал единственный ответ, на который был способен:
«Я — Вэйнамонд».
Последовала пауза (как много времени требовалось этим существам, чтобы сформировать мысль!), и после нее вопрос — что было странно — повторили! Это было так удивительно… ведь это такие же, как они, дали ему его имя, которое и сохранилось в памяти о его появлении в этом мире… Первых этих воспоминаний было очень немного, и все они странным образом начинались лишь в какой-то строго определенный момент времени, но зато были кристально ясны.
И снова их крохотные мысли пробились в его сознание:
«Где те люди, которые создали Семь Солнц?»
«Что с ними случилось?»
Этого он не знал. Они едва могли ему поверить, и их разочарование донеслось до него во всей своей ясности — через пропасть, отделяющую их от него. Но существа эти оказались терпеливы, и он был рад помочь им, потому что их поиск был сродни его собственному, а они оказались первыми его товарищами за всю его жизнь.
Олвин был убежден, что, сколько бы он ни прожил, никогда уже ему не испытать ничего более странного, нежели этот вот беззвучный разговор. Трудно было поверить в то, что он может стать чем-то большим, чем просто наблюдателем, а все потому, что ему никак не хотелось допустить, даже в глубине души, что мозг у Хилвара во многих отношениях куда более развит, чем его собственный. Он мог только ждать и изумляться, и у него голова чуть ли не кругом шла от этого потока мыслей, который находился далеко за пределами его понимания.
Наконец Хилвар, напряженный и бледный, прервал контакт и повернулся к своему другу:
— Тут что-то странное, Олвин, — устало сказал он. — Ну ничего не могу понять…
Эта новость, конечно же, совсем не способствовала сохранению самообладания. По лицу Олвина Хилвар, должно быть, понял, что тот сейчас переживает, потому что внезапно понимающе улыбнулся:
— Я не могу понять, что же он такое — этот… Вэйнамонд. Это какое-то живое создание, обладающее непостижимо громадными знаниями, но, знаешь, похоже, что разума-то у него просто кот наплакал. Разумеется, — сейчас же добавил он, — его разум может быть настолько отличен от нашего, что мы просто не в состоянии его оценить… и все-таки мне кажется, что правильнее — первое объяснение…
— Ну ладно, а что же все-таки ты узнал? — несколько нетерпеливо спросил Олвин. — Известно ли ему что-нибудь о Семи Солнцах?
Мысли Хилвара, казалось, витали где-то очень и очень далеко.
— Они были созданы множеством рас, включая и человеческую, — рассеянно сказал он, — Вэйнамонд в состоянии сообщить мне такие вот факты, но, понимаешь, как-то не похоже, чтобы он сам ясно понимал их значение. И мне кажется, что хоть он и отдает себе отчет в происходящем, но вот интерпретировать его совершенно не способен. В его сознании как-то ужасно перепутано все, что когда-либо происходило…
Секунду-другую он размышлял, а затем лицо его осветилось:
— Нам остается только одно: как уж это выйдет — не знаю, только мы должны доставить Вэйнамонда на Землю, чтобы наши философы могли его изучить.
. — А это не будет… опасно? — осторожно спросил Олвин.
— Нет, — ответил Хилвар, подумав при этом, насколько не характерна для Олвина такая ремарка. — Вэйнамонд — друг. Даже более того, он, похоже, относится к нам прямо-таки с нежностью…
И тут мысль, которая все это время блуждала где-то на задворках сознания Олвина, выкристаллизовалась со всей ясностью. Он припомнил Крифа и всех тех мелких животных, которые все время убегали — к неудовольствию или тревоге Хилвара. И припомнил еще — как же давно, казалось, это было! — зоологическую цель их путешествия к Шалмирейну.
Хилвар просто нашел себе нового любимчика.
22
Насколько же немыслимой, рассуждал про себя Джизирак, была бы эта конференция всего каких-то несколько дней назад. Шестеро гостей из Лиза сидели лицом к лицу с членами Совета, разместившись вдоль еще одного стола, поставленного у разомкнутой части подковы в Зале Совета. Какая же ирония окрашивала воспоминание о том, как совсем недавно Олвин стоял на этом же самом месте и внимал постановлению Совета о том, что Диаспар должен быть закрыт и будет закрыт для всего остального мира. Теперь же этот самый остальной мир вломился к ним с местью — и не только мир Земли, но и вся Вселенная.
Да и сам Совет был уже вовсе не тот, что прежде. Не хватало по крайней мере пяти его членов. Они оказались не в состоянии взять на себя ответственность и приняться за решение проблем, которые встали перед ними, и поэтому последовали по пути Хедрона. Это, пожалуй, служит убедительным доказательством того, что Диаспар не выдержат испытания, если так много его граждан не сумели принять первый — за многие миллионы лет — реальный вызов жизни, подумал Джизирак. Тысячи и тысячи их уже бежали в короткое забытье Хранилищ Памяти в надежде, что, когда они снова пробудятся, нынешний кризис будет уже преодолен и Диаспар снова станет самим собой, таким знакомым и привычным. Что поделать — их ожидало разочарование.
Джизирака кооптировали на одно из образовавшихся вакантных мест в составе Совета. Хотя над ним, в силу его положения наставника Олвина, в известной степени и нависли тучи, присутствие его в Совете было настолько существенно (и это было очевидно для всех), что игнорировать его просто не решились. Сейчас он сидел у самого конца подковообразного стола, что давало ему ряд преимуществ. Он не только мог наблюдать в профиль гостей Диаспара, но ему также видны были и липа почти всех его коллег по Совету, и выражение их лиц говор ил о достаточно о многом.
В том, что Олвин оказался прав, ни у кого не было ни малейших сомнений, и Совет сейчас медленно обвыкался с этой неудобоваримой истиной. Делегаты из Лиза оказались в состоянии мыслить куда живее, чем самые светлые умы Диаспара. И это было не единственное их преимущество. Они еще и демонстрировали необычайно высокую степень координации мышления, что Джизирак относил на счет их телепатических способностей. Его интересовало, читают ли они мысли советников, но по зрелом размышлении он решил, что вряд ли бы они рискнули нарушить торжественное обещание, без которого эта встреча оказалась бы просто немыслимой.
Джизирак не считал, что эта конференция достигла большого прогресса. Строго говоря, он просто не видел, как такой прогресс вообще может быть достигнут. Совет, который с таким большим трудом принял существование Лиза, все еще казался неспособен осознать, что же все-таки произошло. Но было ясно, что советники напуганы, и точно так же, считал Джизирак, были напуганы и гости, хотя им и удавалось куда лучше скрывать свое нынешнее состояние.
Сам же Джизирак вовсе не был столь уж испуган, как он поначалу ожидал. Страхи его, разумеется, оставались при нем, но он наконец вполне научился их обуздывать. Какая-то часть безрассудства Олвина — или, быть может, это была просто отвага? — воспринятая им, стала постепенно менять его взгляды, раскрывая перед ним новые горизонты. Ему все еще не верилось в то, что когда-нибудь он сможет ступить за пределы Диаспара, но зато теперь он вполне понимал те побудительные причины, которые заставили Олвина пойти на все это.
Вопрос председателя застал его врасплох, однако он тотчас собрался с мыслями.
— Полагаю, — сказал он, — что такая ситуация в прошлом не возникла ни разу лишь в силу чистой случайности. Нам ведь известно, что существовало четырнадцать Неповторимых и что за их творением стоял какой-то совершенно определенный план. Так вот, я убежден, что этот план состоял в том, чтобы не оставить Диаспар и Лиз разобщенными навечно. Олвин понял это, но он совершил также и нечто такое, что, по моему мнению, вовсе и не содержалось в первоначальном предначертании. Может ли Центральный Компьютер это подтвердить?
Безличный голос отозвался тотчас же:
— Советнику известно, что я не могу комментировать инструкции, данные мне моими создателями.
Джизирак принял эту мягкую укоризну и продолжил:
— Какова бы ни была причина, мы не можем оспаривать факты. Олвин отправился в Космос. Когда он возвратится, вы можете помешать ему снова сделать это, хотя я и сомневаюсь, что кому-нибудь это удастся, — ведь к тому времени он познает чрезвычайно многое. И если то, чего вы все боитесь, к настоящему моменту произошло, то мы уже просто не в состоянии что-то предпринять. Земля совершенно беспомощна — каковой, впрочем, она и была на протяжении миллионов столетий.
Джизирак сделал паузу и оглядел оба стола. Никто от его слов в восторг не пришел, да он этого и не ждал.
— И все же причин для какой-то тревоги я не усматриваю. Земля находится сейчас в опасности не большей, чем она была все это время. С чего бы это, скажите, двум человеческим существам в крохотном космическом корабле вдруг снова навлечь на Землю гнев Пришельцев? Если мы будем честны сами с собой, то тогда мы должны признать, что Пришельцы могли бы уничтожить наш мир еще бог знает когда…
Стояла недоброжелательная тишина. Это была самая настоящая ересь — и были времена, когда Джизирак сам бы так все это и назвал и предал бы такие взгляды анафеме.
Сурово нахмурившись, председатель прервал его:
— Но разве не существует легенды, согласно которой Пришельцы предоставили Землю самой себе только на том условии, что Человек никогда больше не выйдет в Космос? И разве мы не нарушаем это условие?
— Легенда — да, — согласился Джизирак. — Но ведь существует множество вещей, которые мы воспринимаем некритично, и эта вот легенда — одна из них. Под ней не лежит никаких доказательств, и мне трудно поверить, что что-нибудь такой-то вот важности не оказалось бы зафиксировано в памяти Центрального Компьютера, а ведь ему, тем не менее, об этом факте ничего не известно. Я обращался к нему по этому поводу, хотя и лишь через посредство информационных машин. Быть может, Совет озаботится задать этот вопрос напрямую?
Джизирак не видел причин, почему он должен напрашиваться на вторичное порицание, ступая на запретную территорию, и стал ждать ответа председателя.
Ответа этого так и не последовало, потому что именно в этот момент гости из Лиза вздрогнули, а лица их застыли в выражении какого-то недоверчивого изумления и даже тревоги. Казалось, все они прислушиваются к какому-то далекому голосу, нашептывающему что-то им на ухо.
Советники Диаспара замерли в ожидании, и их собственная тревога с минуты на минуту росла по мере тою, как продолжался этот безмолвный разговор. Но вот глава делегации очнулся от транса и с извиняющимся видом повернулся к председателю.
— Мы только что получили из Лиза очень странные и тревожные новости, — сказал он.
— Олвин возвратился на Землю? — спросил председатель.
— Не только Олвин… Там что-то еще…
Когда Олвин привел свой верный корабль на плато Эрли, он не мог не подумать о том, что едва ли за всю историю человечества какой-либо космический корабль привозил на Землю такой вот груз — если, в сущности, Вэйнамонда можно было считать заключенным в физическое пространство корабля. За все время обратного путешествия он не подавал никаких признаков существования. Хилвар полагал — насколько он мог уловить из контакта с этим странным существом, — что о его положении в определенном пространстве можно говорить только применительно к сфере внимания Вэйнамонда, физически же Вэйнамонд не существовал нигде и, возможно, — никогда.
Сирэйнис и пятеро сенаторов ожидали их, когда они вышли из корабля. Одного из этих сенаторов Олвин уже встречал во время своего первого посещения Лиза. Остальные двое участников той первой встречи, как он понял, находились сейчас в Диаспаре. Его сильно интересовало, каковы успехи этой делегации и как отнесся его город к первому посещению извне за столько миллионов лет.
— Похоже, Олвин, что вы просто-таки гений по части розыска всяких удивительных существ, — суховато произнесла Сирэйнис после того, как поздоровалась с сыном. — И все же, мне кажется, пройдет еще немало времени, прежде чем вам удастся превзойти нынешнее свое достижение.
Настала очередь Олвина изумляться.
— Так, значит, Вэйнамонд прибыл?
— Да, много часов назад. Он каким-то образом ухитрился проследить траекторию вашего корабля на пути туда — само по себе поразительное достижение, которое поднимает целый ряд интересных философских проблем. Есть свидетельство того, что он достиг Лиза в тот самый момент, когда вы его обнаружили, а это означает, что он способен развивать бесконечную скорость. Но и это еще не все. За последние несколько часов он дал нам такой объем знаний по истории, который превышает все, что, как мы предполагали, может существовать.
Олвин глядел на нее в полном изумлении. Затем до него дошло: ему было нетрудно представить себе влияние присутствия Вэйнамонда на этих людей — так тонко чувствующих, да еще с их переплетающимися сознаниями. Они отреагировали с удивительной быстротой, и он представил себе Вэйнамонда — возможно, несколько испуганного — в окружении жадных до знаний интеллектуалов Лиза.
— А вы установили, что же он такое? — спросил Олвин.
— Да. Это было просто, хотя мы и до сих пор не знаем его происхождения. Вэйнамонд — так называемый чистый разум, и знания его представляются безграничными. Но он — просто ребенок, и я употребляю это слово в его буквальном смысле.
— Ну конечно же! — вскричал Хилвар. — Как же это я не догадался!
Олвин выглядел совершенно ошеломленным, и Сирэйнис стало его жалко.
— Я хочу сказать, что, хотя Вэйнамонд и обладает колоссальным — возможно, безграничным — умом, он еще незрел и неразвит. Его истинная разумность вполовину меньше разумности человеческого существа, хотя мыслительные процессы у него протекают куда стремительнее наших и научается он очень быстро. У него есть также и еще целый ряд способностей, которых мы пока просто не понимаем. Одну из этих способностей он и использовал, чтобы прийти вашим путем на Землю.
Олвин молчал. Наконец-то хоть что-то его совершенно поразило. Теперь он понял, насколько прав был Хилвар, предложивший привезти Вэйнамонда в Лиз. И еще он понял, до какой же степени ему повезло тогда, когда он все-таки перехитрил Сирэйнис. Второй раз сделать это ему уже не удастся.
— Вы что же — хотите сказать, что Вэйнамонд только что родился? — спросил он.
— По его меркам — да. Ею истинный возраст невероятно велик, хотя он, очевидно, и моложе Человека. Самое удивительное в том, что, по его утверждению, это мы создали его. Вот почему я не сомневаюсь, что его происхождение каким-то образом связано с тайнами прошлого.
— А что с ним сейчас? — осведомился Хилвар, и в голосе у него явственно прозвучала ревнивая нотка хозяина.
— Сейчас ему задают вопросы историки из Гриварна. Они пытаются составить себе более или менее целостную картину прошлого, но, конечно, эта работа займет многие годы. Вэйнамонд в состоянии описывать прошлое в мельчайших деталях, но, поскольку он не понимает того, что видит, работать с ним совсем не просто.
Олвину было бы интересно узнать, откуда все это известно Сирэйнис. Но он тотчас же вспомнил, что едва ли не каждый в Лизе стал свидетелем этого неподражаемого расследования. Он испытывал чувство гордости от того, что сделал так много для Лиза и для Диаспара, но к этой гордости все же примешивалось еще и чувство беспомощности. Перед ним было нечто такое, чего он никогда не будет в состоянии полностью понять или разделить: прямой контакт между человеческими сознаниями был для него такой же загадкой, как музыка для глухого или цвета для слепого от рождения. А люди Лиза теперь обменивались мыслями даже с этим невообразимо чуждым существом, которое, правда, на Землю привел он, Олвин, но вот обнаружить которое с помощью имеющихся в его распоряжении средств он не сумел бы никогда.
Здесь он был чужим. Когда с вопросами и ответами покончат, ему сообщат результаты. Он отворил врата в бесконечность и теперь испытывал благоговение — и даже некоторый страх — перед всем, что сам же сделал. Ради своего собственного спокойствия ему следует возвратиться в Диаспар, искать у него защиты, пока он не преодолеет свои мечты и честолюбивые устремления. Здесь таилась некая насмешка: тот же самый человек, который оставил свой город ради попытки отправиться к звездам, возвращался домой, как бежит к матери испуганный чем-то ребенок.
23
Диаспар от лицезрения Олвина в восторг не пришел. Город еще переживал стадию, так сказать, герметизации и напоминал сейчас гигантский муравейник, в котором грубо поворошили палкой. Он все еще с превеликой неохотой смотрел в лицо реальности, но у тех, кто отказывался признавать существование Лиза и всего внешнего мира, уже не оставалось места, где они могли бы спрятаться: Хранилища Памяти отказывались их принимать. Те, кто все еще цеплялся за свои иллюзии и пытался найти убежище в будущем, напрасно входили теперь в Зал Творения. Растворяющее холодное пламя больше не приветствовало их там. Им уже не суждено было снова проснуться спустя сотню тысяч лет ниже по Реке Времени. Обращаться к Центральному Компьютеру тоже было без толку, да он и никогда-то не объяснял своих действий. Потенциальные беженцы печально возвращались в город, чтобы лицом к лицу встретиться с проблемами своего века.
Олвин и Хилвар приземлились На окраине Парка, неподалеку от Зала Совета. До самого последнего момента Олвин не был уверен, что ему удастся провести свой корабль в город, проникнув сквозь силовые экраны, защищающие его небо. Зашита Диаспара, как и все в городе, обеспечивалась машинами. Ночь — с ее звездным напоминанием обо всем, что оказалось утраченным Человеком, — никогда не простирала своих крыльев над городом. Защищен он был и от бурь, которые иногда бушевали над пустыней, застилая небеса движущимися песчаными стенами.
Невидимые часовые, однако, позволили Олвину войти, и, когда Диаспар распростерся перед ним, он понял, что все-таки вернулся именно домой. Как бы ни призывала его Вселенная со всеми своими тайнами, именно здесь он родился и тут было его место. Он всегда будет им недоволен и тем не менее всегда же будет сюда возвращаться… Ему нужно было добраться до центра Галактики, чтобы уяснить себе эту простую истину.
Толпы собрались еще до приземления корабля, и Олвин призадумался над тем, как встретят его сограждане. Он довольно легко читал по их лицам на экране — прежде чем открыть шлюз — обуревавшие их чувства. Преобладающим, похоже, было все-таки любопытство — нечто само по себе новенькое в Диаспаре. Вместе с тем на лицах отражалось и беспокойство, а кое у кого можно было заметить и безошибочные признаки страха. Олвин печально подумал, что никто не радовался искренне его возвращению.
С другой стороны, Совет просто-таки радостно приветствовал его прибытие — хотя, конечно, вовсе не из чувства дружеской приязни. Хотя Олвин и был причиной всего этого нынешнего кризиса, он единственный мог сообщить факты, на основе которых следовало строить всю будущую политику. Его слушали с глубоким вниманием, когда он описывал полет к Семи Солнцам и встречу с Вэйнамондом. Затем он ответил на множество вопросов — с терпением, которое, возможно, немало поразило его интервьюеров. Преобладающим в их мыслях, как он скоро понял, был страх перед Пришельцами, хотя никто ни единого разу не упомянул этого имени, и все чувствовали себя прямо-таки как на иголках, когда он сам коснулся этой темы.
— Если Пришельцы все еще находятся в нашей Вселенной, тогда я — тут и сомневаться нечего — встретил бы их в самом ее центре, — сказал Олвин членам Совета. — Но вокруг Семи Солнц нет разумной жизни. Мы догадались об этом еще до того, как это же подтвердил нам и Вэйнамонд. Я совершенно убежден, что Пришельцы убрались еще много столетий назад. Вне всякого сомнения, Вэйнамонд, который — по меньшей мере — находится в возрасте Диаспара, о Пришельцах ничего не знает.
— У меня есть предположение, — раздался внезапно голос одного из советников. — Вэйнамонд может оказаться потомком Пришельцев и в некотором отношении быть за пределами нашего сегодняшнего понимания. Он забыл о своем происхождении, но это вовсе не означает, что в один прекрасный день он снова не станет опасным…
Хилвар, который присутствовал здесь в роли простого наблюдателя, не стал даже дожидаться разрешения вступить в разговор. Впервые Олвин видел его рассерженным.
— Вэйнамонд читал мои мысли, а мне удалось прикоснуться к его разуму, — сказал он. — Мой народ уже многое узнал о нем, хотя мы еще и не установили, что же он такое. Но одно не подлежит сомнению: он настроен в высшей степени дружественно и был рад нас найти. Ждать от него какой-то угрозы не приходится!
После этой вспышки наступило недолгое молчание, а Хилвар снова расслабился с выражением некоторой неловкости на лице.
Было заметно, что напряжение в Зале Совета несколько разрядилось — словно бы уплыло прочь облако, затенявшее дух присутствующих. Во всяком случае, председатель даже попытки не сделал выразить Хилвару порицание за вмешательство в ход обсуждения.
Олвин слушал все эти дебаты, и ему было ясно, что здесь, в Зале Совета, определилось три мнения. Консерваторы, которые были в меньшинстве, все еще надеялись, что стрелки часов можно будет отвести назад и как-то восстановить старые порядки. Против всякого здравого смысла они цеплялись за надежду, что можно будет принудить Диаспар и Лиз снова забыть о существования друг друга.
Прогрессисты тоже составляли незначительное меньшинство. Но тот факт, что они вообще оказались в Зале Совета, порадовал и удивил Олвина. Не то чтобы они приветствовали вторжение внешнего мира, но зато были преисполнены решимости воспользоваться этим наилучшим образом. Некоторые из них зашли так далеко, что даже предположили, что может существовать какой-то способ пробиться сквозь психологический барьер, который так долго запечатывал Диаспар даже еще эффективнее, чем барьеры физические.
Большинство же членов Совета, верно отражая царящие в городе настроения, заняли позицию осторожного выжидания, помалкивая до того момента, пока рисунок будущего каким-то образом не проявится. Они отдавали себе отчет в том, что не могут разработать никакого определенного общего плана политических действий, пока буря не уляжется.
Когда заседание окончилось, Джизирак присоединился к Олвину и Хилвару. Похоже было, что он сильно переменился со времени их последней встречи в башне Лоранна, когда перед ними там простиралась пустыня. Перемена эта была не того свойства, которую ожидал увидеть Олвин, но зато она была уже достаточно распространенной: в ближайшие же дни Олвину предстояло сталкиваться с эти новым умонастроением все чаще и чаще.
Джизирак казался моложе, словно бы огонь жизни в нем обрел себе новую пишу и стал более живо гореть в его крови. Несмотря на свой возраст, он оказался одним из тех, кто уже приготовился принять перемены, принесенные Олвином в Диаспар.
— А у меня для тебя новости, Олвин, — сказал он. — Мне кажется, ты знаешь сенатора Джирейна…
Олавин сначала было задумался, но потом вспомнил:
— Ну конечно! Он ведь был один из первых, кого я встретил в Лизе. Он, кажется, входит в их делегацию?
— Да. Мы с ним хорошо узнали друг друга. Это блестящий ум, и в человеческой душе он разбирается куда тоньше, чем я вообще считал возможным, хотя и говорит мне, что по стандартам Лиза его следует рассматривать только как начинающего… Так вот. пока он здесь, он берется за одно предприятие, которое, надо думать, придется тебе очень и очень по душе. Он, видишь ли, берется проанализировать те побудительные мотивы, которые заставляют нас оставаться в пределах города, и убежден, что, как только ему станет ясно, каким именно образом они были нам… м-м… предписаны, он вполне сможет их устранить. Нас — тех, кто с ним сотрудничает, — уже человек двадцать.
— И ты — один из них?
— Да, — ответил Джизирак, и при этом он был настолько близок к смущению, как Олвин еще никогда за ним не замечал. — Это нелегко и, уж во всяком случае, малоприятно, но, знаешь, это стимулирует, стимулирует!..
— А как он работает?
— Он взял за основу наши саги. Ему сконструировали целую серию, и он изучает наши реакции на обстановку, когда мы в эти саги погружаемся. Вот уж никогда не думал, что в моем-то возрасте снова займусь развлечениями детства!
— А что это такое — саги? — спросил Хилвар.
— Воображаемые миры мечты, — ответил Олвин. — По крайней мере, большинство из них — воображаемые, потому что некоторые-то основаны и на исторических фактах. Их миллионы, записанных в Хранилищах Памяти города. Ты можешь выбрать себе по вкусу любое приключение, и оно будет представляться тебе совершенно реальным, пока соответствующие импульсы поступают в мозг, — Он повернулся к Джизираку: — А в какие же саги приглашает вас Джирейн?
— Да знаешь, большая их часть, как ты и мог бы предположить, касается выхода из Диаспара. Некоторые переносят нас в наши самые ранние существования — настолько близко к основанию города, насколько мы только можем туда подобраться. Джирейн, понимаешь ли, убежден, что чем ближе он станет к источнику тех побудительных причин, тем легче ему будет подорвать их…
Олвина эта новость сильно приободрила. Его собственный труд был бы завершен всего лишь наполовину, открой он крепостные врата Диаспара только для того, чтобы убедиться, что охотников пройти через них — нет.
— И вы действительно хотите получить способность выйти из города? — проницательно спросил Хилвар.
— О нет! — без всяких колебаний ответил Джизирак. — Меня при одной мысли об этом в дрожь кидает. Но, видите ли, я отдаю себе отчет в том, что мы были не правы, не правы абсолютно, когда считали Диаспар миром, вполне достаточным для человека, и логика подсказывает мне, что что-то должно быть предпринято, чтобы исправить эту ошибку. Но вот на эмоциональном уровне я все еще не способен покинуть город. Возможно, именно таким я и останусь навсегда… Джирейн же считает, что сможет добиться, чтобы многие из нас посетили Лиз, и я полон решимости помочь ему в его эксперименте… даже если половину времени я и тешу себя надеждой, что ничего у него не выйдет!
Олвин взглянул на своего старого наставника с новым уважением. Сам-то он уже не отвергал силу внушения и верно оценивал мотивы, которые могут заставить человека действовать в защиту логики. И он не мог не сравнить холодное мужество Джизирака с паническим бегством в будущее Хедрона, хотя теперь, когда он стал лучше понимать человеческую натуру, он уже больше не решался осуждать Шута за его поступок.
Он не сомневался в том, что Джирейну удастся задуманное. Быть может, Джизирак и окажется слишком уж стар, чтобы переломить пожизненную привычку — как бы ему ни хотелось начать все сначала. Но это уже не имело никакого значения, потому что успех все-таки ждал других, направляемых мудрыми психологами Лиза. А как только несколько человек вырвутся из своей миллиарднолетней раковины, последуют ли за ними остальные — станет только вопросом времени.
Он задумался над тем, что же произойдет с Диаспаром и Лизом, когда барьеры рухнут полностью. Лучшие элементы культуры обоих должны быть сохранены и спаяны в новую и более здоровую культуру. Это была задача устрашающих масштабов, и для ее решения потребуются вся мудрость и все терпение, на которые окажутся способны оба общества.
Некоторые из трудностей этого предстоящего притирания друг к другу уже были очевидны. Гости из Лиза — очень вежливо — отказались жить в домах, которые им предоставил город. Они раскинули свое временное жилье в Парке, среди обстановки, напоминающей им родину. Единственным исключением стал Хилвар: хотя ему и не слишком-то по душе было жить в доме с неопределенными стенами и эфемерной меблировкой, он все-таки отважно воспользовался гостеприимством Олвина, успокоенный обещанием, что они останутся тут недолго.
Никогда в жизни Хилвар не чувствовал себя одиноким, но вот в Диаспаре он познал это состояние. Город оказался для него еще более странным и чужим, чем даже Лиз для Олвина; его подавляла бесконечная сложность общения множества совершенно незнакомых людей, которые, казалось, заселяли каждый дюйм пространства вокруг него. В Лизе он знал каждого, независимо от того, встречался он с этим человеком лично или нет. Но, проживи он и тысячу жизней, он не смог бы перезнакомиться со всеми в Диаспаре, и хотя он и отдавал себе отчет в том, что чувство этой непреодолимости иррационально, оно все-таки подавляло его. Только преданность другу удерживала его в этом мире, не имеющем ничего общего с его собственным.
Он часто пытался анализировать свое отношение к Олвину. Эта дружба, как он понимал, возникла из того же источника, который питал его сочувственное отношение ко всем слабым и борющимся за жизнь существам. Это могло бы удивить тех, кто думал об Олвине как о человеке сильной воли, упрямом эгоцентристе, не нуждающемся ни в чьей нежности и не способном ответить ею.
Хилвар, однако, знал Олвина куда глубже. С самого начала он инстинктивно почувствовал, что Олвин — исследователь, а все исследователи ищут что-то такое, что ими утрачено. Они редко это находят, и еще реже достижение цели приносит им радость большую, чем сам процесс поиска.
Хилвар сначала не понимал, чего же именно ищет Олвин. Им руководили силы, приведенные в движение в незапамятные времена гениями, которые спланировали Диаспар с таким извращенным мастерством, или же еще более талантливыми людьми, противостоявшими первым. Как и любое человеческое существо, Олвин до известного предела был машиной, его действия предопределялись наследственностью. Это, конечно, не отменяло потребности в понимании и добром к нему отношении и в равной же степени не давало ему иммунитета против одиночества и отчаяния. Для его собственного народа он был настолько непредсказуем, что его сограждане порой забывали, что он живет теми же чувствами, что и они. Понадобился Хилвар — человек совсем иных жизненных обстоятельств, чтобы разглядеть в Олвине просто еще одно человеческое существо.
В течение первых нескольких дней в Диаспаре Хилвар повстречал людей больше, чем за всю свою предыдущую жизнь, но ни с кем не сблизился. Живя в такой скученности, обитатели города выработали известную сдержанность по отношению друг к другу, и преодолеть ее было нелегко. Единственное уединение, которое им было ведомо, было уединение мышления, и они упорно оберегали его, даже когда занимались сложными и бесконечными общественными делами Диаспара. Хилвару было их жаль, хотя он и понимал, что они не испытывают ни малейшей нужды в сочувствии. Они не отдавали себе отчета в том, чего оказались лишены, им неведомо было теплое чувство общности, связывающее всех и каждого в телепатическом социуме Лиза. Более того, значительная часть из тех, с кем ему случалось поговорить, смотрели на него с жалостью — как на человека, ведущего беспросветно скучную и никчемную жизнь, хотя все они были достаточно вежливы, чтобы и виду не показать, что они думают именно так.
К Эристону и Итании — опекунам Олвина — Хилвар быстро потерял всякий интерес, увидев, что это добрые люди, но поразительные посредственности. Его очень смущало, когда он слышал, как Олвин называет их отцом и матерью: в Лизе эти слова все еще сохраняли свое древнее биологическое значение. Ему требовалось постоянное умственное усилие — помнить, что законы жизни и смерти оказались перетасованы создателями Диаспара, и порой Хилвару даже казалось — несмотря на все столпотворение вокруг него, — что город наполовину пуст, потому что в нем нет детей.
Его интересовало, что же теперь станется с Диаспаром, теперь, когда его долгая изоляция подошла к концу. Лучшее, что мог бы сделать город, решил он, — это уничтожить Хранилища Памяти, которые в продолжение столь долгого времени держали его в замороженном состоянии. Столь чудесные сами по себе, вершина, настоящий триумф науки, создавшей их, они все-таки были порождением больной культуры, страшившейся слишком многого. Некоторые из этих фобий основывались на реальностях, но остальные, как теперь представлялось совершенно ясно, покоились лишь на разыгравшемся воображении. Хилвару было известно кое-что о той картине, которая стала вырисовываться в ходе изучения интеллекта Вэйнамонда. Через несколько дней это предстояло узнать и Диаспару — и обнаружить, сколь многое в его прошлом было просто выдумкой…
Но если бы Хранилища Памяти оказались уничтожены, через тысячу лет город был бы мертв, поскольку его обитатели потеряли способность к воспроизводству. Это была дилемма, от которой, казалось, совершенно некуда было уйти, но Хилвар уже нащупал одно из возможных решений. На любую техническую проблему всегда находится ответ, а народ Лиза достиг огромных высот в биологии. То, что было когда-то сделано, можно и переделать — если только Диаспар сам этого захочет.
Но сначала город обязательно должен осознать, что же именно он потерял. Этот процесс займет много лет, быть может, — даже столетий. Но это — начало. Очень скоро влияние первых уроков потрясет Диаспар так же глубоко, как и сам контакт с Лизом.
Лиз, впрочем, тоже будет потрясен до самого основания. Несмотря на всю разницу этих культур, они возникли из единого корня и питались теми же иллюзиями. Они обе станут здоровее, когда еще раз спокойно и пристально вглядятся в свое утраченное прошлое.
24
Амфитеатр был рассчитан на все население Диаспара, и едва ли хотя бы одно из десяти миллионов его мест пустовало. Глядя вниз со своего места далеко наверху на этот огромный овал, Олвин не мог не подумать о Шалмирейне. У обоих кратеров была одна и та же форма, да и размера они были почти одинакового. Если бы заполнить воронку Шалмирейна людьми, то она стала бы очень похожа на эту.
Была, однако, между ними и одна фундаментальная разница. Гигантская чаша Шалмирейна существовала, так сказать, во плоти, этот же амфитеатр — нет. И никогда прежде он не существовал. Это был просто фантом, рисунок электрических зарядов, дремлющих в памяти Центрального Компьютера, пока не наступала нужда вызвать их к жизни. Олвин отлично знал, что в действительности он находится в своей комнате и что все эти миллионы людей, которые его сейчас окружают, тоже сидят по домам. До тех пор пока он не предпринимал попытки сдвинуться с места, иллюзия оставалась полной. Вполне можно было поверить, что Диаспар опустел, а все его жители собрались здесь, в этой огромной чаше.
Не однажды за прошедшие тысячелетия жизнь в городе замирала, чтобы его население могло собраться на Великой Ассамблее. Олвин знал, что и в Лизе сейчас происходит нечто подобное. Но там встречались просто мыслями.
Большинство из окружающих были ему знакомы — вплоть до расстояния, на котором лицо еще можно было различить невооруженным глазом. Более чем в миле от него и тысячью футами ниже располагалось небольшое круглое возвышение, к которому и было приковано сейчас внимание всего мира. С трудом верилось, что можно будет что-то разглядеть с такого расстояния, но Олвин знал, что, когда начнутся выступления, он будет видеть и слышать все происходящее с такой же ясностью, как и всякий другой в Диаспаре.
Какая-ro дымка возникла на возвышении в центре амфитеатра. Тотчас же из нее материализовался Коллитрэкс — лидер группы, в задачу которой входило реконструировать прошлое на основе информации, принесенной на Землю Вэйнамондом. Задача эта была невообразимо трудна, почти невыполнима, и не только из-за того, что были вовлечены непостижимо долгие временные периоды. Лишь однажды, с помощью Хилвара, Олвину удалось прикоснуться к внутреннему миру этого странного существа, которое они открыли — или которое открыло их. Для Олвина мысли Вэйнамонда оказались столь же лишены смысла, как тысяча голосов, надрывающихся одновременно в какой-то огромной резонирующей камере. И все же ученые Лиза смогли разобраться в этом хаосе, записать его и проанализировать уже не спеша. Прошел слух — Хилвар не опровергал его, но и не подтверждал, — что то, что обнаружили ученые, оказалось столь странно, что почти ничем не напоминало ту историю, картины которой вес человечество считало истинными на протяжении миллиарда лет.
Коллитрэкс начал речь. Для Олвина, как и для любого другого в Диаспаре, его чистый и ясный голос исходил, казалось, из точки, расположенной от слушателя всего в нескольких дюймах. Затем — было трудно понять, каким образом (точно так же, как геометрия сна отрицает логику и все же не вызывает никакого удивления у спящего), — Олвин оказался рядом с Коллитрэксом в то же самое время, как он сохранял свое место высоко на склоне амфитеатра. Этот парадокс ничуть его не изумил. Он просто принял его, как воспринимал и все другие манипуляции с пространством и временем, возможность которых была предоставлена в его распоряжение.
Очень коротко Коллитрэкс коснулся общепринятой истории человечества. Он говорил о загадочных людях цивилизаций эпохи Рассвета, которые не оставили после себя ничего, кроме горстки великих имен и каких-то тусклых легенд об Империи. Даже в самом начале — так принято было считать — Человек стремился к звездам и в конце концов достиг их. В течение миллионов лет он бороздил пространства Галактики, прибирая к рукам одну звездную систему за другой. Затем из тьмы за краем Галактики Пришельцы нанесли свой удар и отобрали у Человека все, что он уже считал своим.
Отступление в тесные рамки Солнечной системы было горьким и продолжалось несколько столетий. Сама Земля едва избежала уничтожения благодаря легендарным битвам, которые гремели вокруг Шалмирейна. Когда все кончилось, Человеку остались только его воспоминания и мир, на котором он родился.
С тех пор все было лишь затянувшимся антипиком. И, как крайняя ирония, Галактическая Империя, которая надеялась повелевать Вселенной, покинула даже большую часть своего собственного мирка и раскололась на две изолированные культуры Лиза и Диаспара — оазисы жизни в пустыне, разделившей их столь же эффективно, как межзвездные пропасти.
Коллитрэкс остановился. Олвину, как и каждому в гигантском амфитеатре, казалось, что историк смотрит ему прямо в глаза — взглядом свидетеля таких вещей, в которые он и посейчас еще не в силах поверить.
— Вот и все, что касается сказок, в которые все мы свято веруем с тех самых пор, как началась наша писаная история, снова заговорил Коллитрэкс. — А теперь я должен вам сообщить, что все эти сказки лживы — лживы в каждой своей детали, лживы настолько, что даже сейчас мы еще не сумели полностью соотнести их с действительностью…
Он подождал, чтобы значение сказанного дошло до каждого. После чего, медленно и тщательно выговаривая слова, передал Лизу и Диаспару знание, которое было получено от Вэйнамонда.
— …Даже то, что Человек достиг звезд, было неправдой. Вся его крохотная империя ограничивалась орбитой Плутона и Персефоны — межзвездное же пространство оказалось таким барьером, преодолеть который Человек был не в силах. Вся его цивилизация теснилась вокруг Солнца и была еще очень молода. когда… звезды сами пришли к ней.
Влияние этого, должно быть, оказалось потрясающим. Несмотря на все свои неудачи, Человек никогда не сомневался, что настанет день — и он покорит глубины пространства. Он верил и в то, что, если Вселенная и населена равными ему, в ней тем не менее нет никого, кто превосходил бы его по развитию. Теперь же Земле стало ясно, что она была не права в обоих случаях и что в межзвездных глубинах существуют умы куда более великие, чем человеческий. На протяжении многих столетий — сначала в кораблях, построенных другими, а позже — и собственной постройки на основе заимствованных знаний — Человек исследовал Галактику. И повсюду он находил культуры, которые мог оценить, но с которыми не мог сравниться, а время от времени ему встречался и разум, обещавший вскоре вообще выйти за пределы человеческого понимания.
Удар этот был невообразимо тяжек, но человечество не было бы самим собой, если бы не справилось с ним. Став печальнее и неизмеримо мудрее, Человек вернулся в Солнечную систему — безрадостно размышлять над приобретенными знаниями. Он готовился принять вызов Галактики, и постепенно возник план, порождавший кое-какие надежды на будущее.
Когда-то физические науки представляли для Человека самый большой интерес. Теперь же он с еще большим горением накинулся на исследования в области генетики и науки о мозге. Он был преисполнен решимости любой ценой добраться до самых пределов своей эволюции.
Этот великий эксперимент на протяжении миллионов лет поглощал всю энергию человечества, но Коллитрэкс сумел уложить все эти страдания, все эти жертвы всего в несколько слов. Впрочем, эксперимент принес Человеку его самые замечательные достижения. Человек уничтожил болезни. Он мог бы теперь жить вечно, если бы пожелал. А овладев телепатией, он подчинил себе самую неуловимую силу из всех.
Он был готов снова, опираясь уже на собственные завоевания, ринуться к звездам — туда, в непомерные просторы Галактики. Он хотел встретить, как равных, обитателей тех миров, от которых когда-то отвернулся в уязвленном самолюбии. Он хотел сыграть и свою роль в истории Вселенной…
И все это он исполнил. Вот с тех-то времен — самых, возможно, продолжительных в истории — и появились легенды о Галактической Империи. Но все это оказалось забыто в ходе трагедии, которая подвела Человека к его концу…
Империя существовала по меньшей мере миллион лет. Надо полагать, она пережила множество кризисов, возможно, даже войн, но все это просто потерялось на фоне величественного движения социумов разумных существ в направлении зрелости.
— Мы можем гордиться той ролью, которую наши предки сыграли во всей этой истории, — сказал Коллитрэкс после очередной паузы. — Даже достигнув плато в развитии культуры, они ничуть не утратили инициативы. Здесь нам придется иметь дело скорее с умозаключениями, нежели с конкретными фактами, но представляется, что эксперименты, которые одновременно ознаменовали падение Империи и венчание ее славой, были вдохновлены и направлялись именно Человеком.
Философия, лежавшая в основе этих экспериментов, выглядит следующим образом.
Контакт с другими представителями разумной жизни показал землянам, насколько глубоко суждение мыслящего существа об окружающем мире зависит от его физического облика и от тех органов чувств, что находятся в его распоряжении. Много спорили о том, можно ли представить себе истинный облик Вселенной — если вообще вообразить ее себе — только с помощью разума, свободного от всех физических ограничений, иначе говоря — Чистого Разума. Это была концепция, обычная для множества древних верований, и представляется странным, что идея, не имевшая под собой ни малейшего рационального основания, стала в конце концов одной из величайших целей науки.
— В естественной Вселенной никто никогда не встречал интеллект, лишенный телесной оболочки, — продолжал Коллитрэкс. — Ученые поставили себе целью создать таковой. Навыки и знания, которые сделали это возможным, забыты нами вместе со многими другими. Ученым того времени были подвластны все силы природы, все тайны времени и пространства. Так как наши мысли являются продуктом неимоверно сложной структуры мозговых клеток, связанных друг с другом сетью нервных проводников, то ученые стремились создать мозг, компоненты которого не были бы материальны на молекулярном или атомном уровне, а состояли бы из элементов самого вакуума. Такой мозг, если его, конечно, можно так называть, использовал бы для своей деятельности электрические силы или взаимодействия еще более высокого порядка и был бы совершенно свободен от тирании вещества. И действовал бы он с куда большей скоростью, чем любой мозг органического происхождения. Он смог бы существовать до тех пор, пока во Вселенной оставался хотя бы один-единственный эрг энергии, а для возможностей его вообще не усматривалось границ. Созданный однажды, он сам стал бы развивать свои потенциалы — да такие, какие не в состоянии были предвидеть и сами его создатели.
И вот, опираясь в основном на опыт, накопленный за время своего собственного возрождения, человечество Земли предположило, что стоит попытаться приступить к созданию такого существа. Никогда еще перед суммарным интеллектом Вселенной не ставилось проблемы более фундаментальной и сложной, и после нескольких столетий споров вызов был принят. Все разумные обитатели Галактики объединили свои усилия, чтобы сообща выполнить замысленное.
Более миллиона лет отделило мечту от ее воплощения. Поднялись и склонились к закату многие цивилизации, впустую тратился тяжкий труд множества миров на протяжении целых столетий, но цель никогда не тускнела. Возможно, настанет день, когда мы в подробностях узнаем всю эту историю, это самое грандиозное и самое продолжительное усилие в истории человечества, Сегодня же нам известно только то, что все это закончилось катастрофой, которая едва не погубила Галактику.
Мозг Вэйнамонда отказывается детально следовать перипетиям этого периода. Существует некий узкий промежуток времени, который для него заблокирован, но, как нам представляется, заблокирован он лишь его собственным страхом. В начале этого промежутка мы видим межзвездное сообщество разумных существ на вершине своей славы, в нетерпеливом ожидании триумфа науки. В конце же, спустя всего какую-то тысячу лет, эта могучая организация поколеблена и сами звезды потускнели, словно бы лишенные части своей энергии. Над Галактикой простирается крыло страха, связанное с понятием «Безумный Разум»…
— Нетрудно догадаться, что же именно произошло в этот короткий промежуток, — продолжал Коллитрэкс. — Чистый Разум был создан, но либо он оказался безумен, либо, как с большей вероятностью следует из других источников, оказался неумолимо враждебен веществу. В течение столетий он терзал Вселенную, пока его не обуздали силы, о которых мы можем только догадываться. Какое бы оружие ни использовала доведенная до крайности Галактическая Империя, оно истощило энергию огромнейшего числа звезд. Из воспоминаний об этом трагическом периоде и возникли некоторые — хотя и не все — легенды о Пришельцах. Об этом я сейчас расскажу подробнее.
Безумный Разум не мог быть уничтожен, поскольку был бессмертен. Его оттеснили к краю Галактики и там каким-то образом заперли — мы не знаем как. Его тюрьмой стала созданная искусственно странная звезда, известная под названием Черное солнце, и там он и остается по сей день. Когда Черное солнце умрет, он снова станет свободен. Сказать, насколько далеко в будущем лежит этот день, не представляется возможным.
Коллитрэкс умолк, словно бы забывшись в собственных размышлениях, совершенно безразличный к тому, что на него глядели глаза всего мира. Воспользовавшись этим долгим молчанием, Олвин стал оглядывать тесно сидящих вокруг него людей, стремясь прочесть, угадать, что у них на уме теперь, когда они познали откровение и ту таинственную угрозу, которая отныне призвана заменить миф о Пришельцах. По большей части на лицах его сограждан застыло выражение крайнего недоверия, они все еще не могли отказаться от своего фальшивого прошлого и принять вместо него еще более фантастическую версию реальности.
Коллитрэкс заговорил снова. Тихим, приглушенным голосом он принялся описывать последние дни Империи. По мере того как перед ним разворачивалась картина того времени, Олвин все больше понимал, что это был век, в котором ему очень хотелось бы жить. Век приключений и не знающего преград, сверхъестественного мужества, которое все-таки сумело вырвать победу из зубов катастрофы.
— Хотя Галактика и была опустошена Безумным Разумом, — говорил Коллитрэкс, — ресурсы Империи оставались еще огромными и дух ее не был сломлен. С отвагой, которой мы можем только поражаться, великий эксперимент был возобновлен ради поиска ошибки, которая привела к трагедии. Разумеется, теперь нашлись многие и многие, кто выступил против этой работы, предрекая усугубление катастрофы, но все-таки возобладало противоположное мнение. Проект продвигался вперед во всеоружии знания, добытого такой дорогой ценой, и на этот раз он привел к успеху.
Народившийся новый вид разумных существ имел интеллект, который просто невозможно было измерить. Но этот разум был совершенно ребяческим. Мы не знаем, был ли это расчет его создателей, но представляется вероятным, что они считали это неизбежным. Потребовались бы миллионы лет, чтобы он достиг зрелости, и ничего нельзя было предпринять, чтобы ускорить этот процесс. Вэйнамонд оказался самым первым из этих созданий. По Галактике должны были быть рассеяны и другие, но мы считаем, что создано их было не так уж и много, поскольку Вэйнамонд никогда не встречал своих собратьев.
Создание этого разума стало величайшим достижением галактической цивилизации. Человек играл в ней ведущую, даже, возможно, абсолютно доминирующую роль. Я не упоминаю здесь население собственно Земли, поскольку ее история — не более чем ниточка в огромном ковре. В силу того, что на протяжении всего этого периода наиболее предприимчивые люди уходили в космос, наша Земля неизбежно стала в высшей степени консервативной и в конце концов даже выступила против ученых, которые создали Вэйнамонда. И уж конечно, она не сыграла никакой роли в заключительном акте.
Труд Гатактической Империи был теперь завершен. Люди той эпохи смотрели на звезды, которые они исковеркали в своем отчаянном стремлении побороть опасность, и приняли решение. Они постановили оставить нашу Вселенную в распоряжении Вэйнамонда…
Здесь чувствуется какая-то тайна… тайна, которой нам никогда не постичь, потому что Вэйнамонд не в состоянии оказать нам помощь. Нам известно только, что Галактическая Империя вошла в контакт с чем-то… очень странным… и обладающим необычайным величием, с чем-то, что находилось далеко за кривизной пространства, на другом конце самого Космоса. Что это такое было — мы можем только гадать. Но контакт был, вероятно, необыкновенно важен, а обещания столь же велики, В течение очень короткого промежутка времени наши предки и все дружественные им сообщества разумных существ прошли путь, оценить который мы не в состоянии. Мысли Вэйнамонда, похоже, ограничены нашей Галактикой, однако, читая их, мы смогли проследить за самым началом этого великого и загадочного предприятия. Вот образ того, что нам удалось реконструировать. Сейчас вы увидите то, что происходило более миллиарда лет назад…
…Бледный венок минувшей своей славе висит в пустоте — медленно вращающееся колесо Галактики. По всей его ширине тянутся огромные пустые туннели, вырванные из структуры Галактики Безумным Разумом, — в веках, которые воспоследуют, эти раны будут затянуты дрейфующими звездами. Но никогда уже этим страницам не восполнить былого великолепия.
Человек собирался покинуть Вселенную — так же как давным-давно он покинул свою планету’. И не только Человек, но и тысяча других рас, трудившихся вместе с ним над созданием Галактической Империи. Они собрались все вместе здесь, на самом краю Галактики, всей своей толщиной лежащей между ними и целью, которой им не достичь еще долгие века.
Они собрали космический флот, перед которым было бессильно воображение. Его флагманами были солнца, самыми маленькими кораблями — планеты. Целое шаровое скопление со всеми своими солнечными системами, со всеми своими мирами готовилось отправиться в полет через бесконечность.
Длинная струя огня пронзила вдруг сердце Вселенной, скачками передвигаясь от звезды к звезде. В кратчайший миг умерли тысячи солнц, отдав свою энергию чудовищному шару из светил, который метнулся вдоль оси Галактики и теперь становился все меньше и меньше, уходя в неизмеримую глубину космической пропасти…
— Таким вот образом Империя покинула нашу Вселенную, чтобы встретить свою судьбу в ином месте, — продолжил Коллитрэкс. — Когда ее восприемники, интеллекты типа Вэйнамонда, достигнут своей полной формы, она. возможно, возвратится снова. Но этот день еще далеко впереди.
Вот она, в самом кратком и самом поверхностном описании, — история Галактической Империи. Наша собственная история, которая представляется нам такой важной, — не более как запоздалый и, в сущности, тривиальный эпилог, хотя он и настолько сложен, что мы до сих пор не можем разобраться во всех деталях. Представляется, что многие из старых рас. не снедаемые жаждой приключений, отказались покинуть свои родные планеты. Большинство из них постепенно пришли в упадок и более не существуют, хотя некоторые все еще живы. Наш собственный мир едва избежал подобной же участи. Во время Переходных Столетий, которые в действительности-то длились миллионы лет, знание о прошлом было либо утрачено, либо уничтожено преднамеренно. Последнее представляется более вероятным, хотя в это и трудно поверить. В течение столетий и столетий Человек тонул в исполненном предрассудков и все же научном варварстве, искажая историю, чтобы избавиться от ощущения своего бессилия и чувства провала. Легенды о Пришельцах абсолютно лживы, хотя отчаянная борьба против Безумного Разума, несомненно, способствовала их зарождению. И наших предков ничто не тянуло обратно, на Землю, кроме разве что душевной боли…
Когда мы сделали это открытие, одна проблема в особенности нас поразила. Не было никогда никакой битвы при Шалмирейне, и все же Шалмирейн существовал и существует и по сей день. Более того, это было одно из величайших орудий уничтожения из всех когда-либо построенных.
Потребовалось некоторое время, чтобы разрешить эту загадку, но, когда ответ был найден, он оказался очень простым. Давным-давно у Земли был ее единственный спутник — Луна. Когда в бесконечном противоборстве приливов и тяготения Луна наконец стала падать, возникла необходимость уничтожить ее. Шалмирейн был построен именно для этой цели, и только позже вокруг него появились легенды, которые вам известны.
Коллитрэкс улыбнулся своей огромной аудитории. Улыбка эта была несколько печальна.
— Таких легенд — частью правдивых, частью лживых — много. Есть в нашем прошлом и другие парадоксы, которые еще предстоит разрешить. Но это уже проблемы скорее для психолога, нежели для историка. Даже сведениям, хранящимся в Центральном Компьютере, нельзя доверять до конца, поскольку они несут на себе явственные свидетельства того, что в очень далекие времена их подчищали.
На Земле лишь Диаспар и Лиз пережили период упадка — первый благодаря совершенству своих машин, второй — в силу своей изолированности и необычных интеллектуальных способностей народа. Но обе эти культуры, даже когда они стремились возвратиться к своему первоначальному уровню, уже не могли преодолеть искажающего влияния страхов и мифов, унаследованных ими.
Эти страхи не должны больше преследовать нас. Не дело историка предсказывать будущее — я должен только наблюдать и интерпретировать прошлое. Но урок этого прошлого вполне очевиден: мы слишком долго жили вне контакта с реальностью, и теперь наступило время строить жизнь по-новому.
25
В молчаливом удивлении шагал Джизирак по улицам Диаспара и не узнавал города — настолько он отличался от того, в котором наставник Олвина провел все свои жизни. Но он все-таки знал, что это — Диаспар, хотя и не задумывался над тем, откуда это ему известно.
Улицы были узкими, здания — ниже, а Парка и вовсе не было. Или, лучше сказать, его еще не было. Это был Диаспар накануне перемен, Диаспар, еще распахнутый в мир и Вселенную. Город накрывало бледно-голубое небо, усеянное размытыми перьями облаков, — они медленно поворачивались и изгибались под ветром, который мел по поверхности этой еще совсем юной Земли.
Пронизывая облака, летя и выше их, в небе двигались и более материальные воздушные странники. На высоте многих миль над городом корабли, связывающие Диаспар с внешним миром, мчались по своим маршрутам в самых разных направлениях, прошивая небеса кружевными строчками инверсионных следов. Джизирак долго смотрел на эту загадку, на это чудо — распахнутое небо, и страх касался его души неосязаемыми холодными пальцами. Он почувствовал себя голым и беззащитным, ошеломленный осознанием того, что весь этот такой мирный голубой купол — не более чем тончайшая из скорлупок, за которой простирается космос, таинственный и угрожающий.
Но этот страх был недостаточно силен, чтобы парализовать волю. Какой-то долей сознания Джизирак понимал, что все это сон, а сон не причинит ему ровно никакого вреда. Он просто проплывет сквозь это наваждение, пробуя его на вкус, пока не проснется в городе, который ему хорошо знаком.
Он направлялся в самое сердце Диаспара, к той его точке, где в его эпоху будет стоять усыпальница Ярлана Зея. Теперь, в этом древнем городе, здесь ничего еще не было, стояло только низкое, круглое здание, в которое вело множество сводчатых дверей. Около одной из них его дожидался какой-то человек.
Джизираку следовало бы онеметь от изумления, но теперь его уже ничто не могло удивить. Почему-то это казалось совершенно правильным и естественным — оказаться лицом к лицу с человеком, построившим Диаспар.
— Полагаю, вы меня узнали, — обратился к нему Ярлан Зей.
— Ну конечно! Ведь я тысячи раз видел ваше изображение. Вы — Ярлан Зей, а это все — Диаспар, каким он был миллиард лет назад. Я понимаю, что все это мне снится и что ни вас, ни меня в действительности здесь нет…
— Тогда, что бы ни произошло, вам не следует тревожиться. Поэтому идите за мной и помните: ничто не может причинить вам никакого вреда, поскольку стоит вам только пожелать — и вы проснетесь в Диаспаре своей эпохи…
Джизирак послушно проследовал за Ярланом Зеем в здание. Свой мозг в эти минуты он мог бы сравнить с губкой — все впитывающей и ничего не подвергающей сомнению. Какое-то воспоминание или даже всего лишь отдаленное эхо воспоминания предупреждало его о том, что именно должно сейчас вот произойти, и он знал, что в былые времена при виде этого он сжался бы от ужаса. Теперь же он совсем не испытывал страха. Он не только сознавал себя под защитой понимания того, что все здесь происходящее — нереально, но и присутствие Ярлана Зея казалось неким талисманом против любых опасностей, которые могли бы ему встретиться.
На движущихся тротуарах, ведших в глубину здания, стояло всего несколько человек, и поэтому, когда Джизирак с Ярланом Зеем остановились наконец в молчании возле длинного, вытянутого цилиндра, который, как знал Джизирак, может унести его в путешествие, сведшее бы его в будущем с ума, рядом с ними никого не оказалось. Его проводник жестом указал ему на отворенную дверь. Джизирак задержался на пороге не более чем на какую-то долю секунды, а затем решительно ступил внутрь.
— Вот видите, — улыбнулся Ярлан Зей. — Ну а теперь расслабьтесь и помните, что вы — в полнейшей безопасности… никто и ничто вас не тронет…
Джизирак верил ему. Только едва уловимую дрожь беспокойства ощутил он, когда в полной тишине вход в туннель перед ними скользнул навстречу и машина, внутри которой они находились, двинулась в глубь земли, набирая скорость. Какие бы страхи он ни испытывал прежде, все они теперь были прочно забыты — смятые, оттесненные горячим желанием поговорить с этой загадочной личностью, явившейся из такого далекого прошлого.
— Не кажется ли вам странным, — обратился к нему Ярлан Зей, — что, хотя небо для нас и открыто, мы пытаемся зарыться поглубже в землю? Это, знаете ли, начало той болезни, закономерное окончание которой вы наблюдаете в своей эпохе. Человечество пытается спрятаться, оно страшится тою, что лежит там, в пространстве, и скоро оно накрепко запрет все двери, которые еще ведут во Вселенную.
— Но ведь я только что видел в небе над Диаспаром космические корабли, — возразил Джизирак.
— Больше вы их не увидите. Мы уже потеряли контакт со звездами, а очень скоро мы уйдем и с планет Солнечной системы. Нам потребовались миллионы лет, чтобы выйти в космическое пространство, и только какие-то столетия, чтобы снова отступить к Земле… А спустя совсем непродолжительное время мы покинем и большую часть самой Земли…
— Но почему? — спросил Джизирак. Ответ был ему известен, но что-то тем не менее все-таки заставило его задать этот вопрос.
— Нам необходимо было убежище, которое избавило бы нас от страха перед смертью и от боязни пространства. Мы были больным народом и не хотели более играть никакой роли во Вселенной, и вот мы сделали вид, будто ее попросту не существует. Мы видели, как хаос пирует среди звезд, и тяготели к миру и стабильности. А из этого со всей непреложностью следовало, что Диаспар должен быть закрыт, с тем чтобы ничто извне не могло в него проникнуть…
Мы создали город, который вам так хорошо известен, и сфабриковали фальшивое прошлое, чтобы скрыть от самих себя нашу слабость. О, мы были не первыми, кто прибегнул к такому способу… но мы оказались первыми, кто проделал все с такой тщательностью. И мы переделали сам дух Человека, лишив его устремлений и яростных страстей, дабы он был вполне доволен миром, которым теперь обладал.
Понадобилась тысяча лет, чтобы возвести город со всеми его механизмами. По мере того как каждый из нас завершал свою профессиональную задачу, из его памяти стирали все воспоминания, замещая их тщательно разработанным рисунком новых, фальсифицированных, и личность человека оказывалась погребенной в электронных катакомбах города до тех пор, пока не придет время снова вызвать ее к жизни…
И вот настал день, когда в Диаспаре не осталось ни единой живой души. Бодрствовал только Центральный Компьютер, повинующийся внесенным в него указаниям и контролирующий Хранилища Памяти, в которых спали мы все. Не осталось ни одного человека, который сохранил бы хоть какой-то контакт с прошлым… Таким вот образом в этот самый момент и начала свою поступь новая История…
Затем, один за другим, через определенные интервалы, мы были вызваны из электронных лабиринтов компьютерной памяти и снова облеклись плотью. Как механизм, который был только что построен и теперь получил толчок к действию, Диаспар принялся выполнять обязанности, для которых он и был создан.
И все же некоторых из нас с самого начала обуревали сомнения. Вечность — срок долгий. Мы отдавали себе отчет в том, на какой риск идем, не предусматривая никакой отдушины и пытаясь полностью отгородиться от Вселенной. С другой стороны, мы не могли обмануть ожиданий всего нашего сообщества, и поэтому работать над модификациями, которые представлялись необходимыми, нам пришлось втайне.
Неповторимые были одним из наших изобретений. Им предстояло появляться через весьма продолжительные интервалы времени, с тем чтобы, если позволят обстоятельства, обнаруживать за пределами Диаспара все, что было достойно усилия, потребовавшегося бы для контакта. Нам И в голову не приходило, что понадобится так много времени для того, чтобы одному из Неповторимых сопутствовал успех… Не ожидали мы и того, что успех этот окажется столь грандиозен…
Несмотря на заторможенность своих способностей к критическому анализу, составляющую самую суть сновидения, Джизирак бегло подивился тому, как это Ярлан Зей может с таким знанием дела рассуждать о вещах, которые имели место спустя миллиард лет после того времени, когда он существовал. Это было очень странно… он, видимо, просто потерял ориентировку — где находится во времени и пространстве…
А путешествие между тем подходило к концу. Стены туннеля уже больше не мелькали молниями мимо окон. И Ярлан Зей начал говорить с настойчивостью и властностью, которых у него только что и в помине не было.
— Прошлое кончилось. Мы сделали свое дело — для хорошего ли, для дурного ли, и с этим — все! Когда вы, Джизирак, были созданы, в вас был вложен страх перед внешним миром и то чувство настоятельной необходимости оставаться в пределах города, которое вместе с вами разделяют все граждане Диаспара. Теперь вы знаете, что страх этот ни на чем не основан, что он был навязан вам искусственно… И вот я, Ярлан Зей, тот, кто дал его вам, освобождаю вас от этого бремени. Вы понимаете?
На этих последних словах голос Ярлана Зея стал звучать все громче и громче, пока, казалось, не заполнил собой весь мир. Подземный вагон, в котором Джизирак двигался с такой скоростью, стал расплываться, дрожать, как будто сон подходил к концу. Изображение тускнело, но он все еще слышал повелительный голос, громом врывающийся в его сознание: «Вы больше не боитесь, Джизирак! Вы больше не боитесь!»
Он отчаянно пытался проснуться — так вот ныряльщик стремится вырваться на поверхность из морской глубины. Ярлан Зей исчез, но все еще продолжалось какое-то междуцарствие: голоса, которые были ему знакомы, но которые он не мог точно соотнести с определенными людьми, поощрительно обращались к нему, он ощущал, как его поддерживают чьи-то заботливые руки… И вслед за этим стремительным рассветом произошло возвращение к реальности.
Он открыл глаза и увидел Хилвара, Джирейна и Олвина, которые стояли подле него с выражением нетерпения на лицах. Но он едва обратил на них внимание: его мозг был слишком полон чудом, которое простерлось перед ним и над ним, — панорамой лесов и рек и голубым куполом открытого неба.
Он оказался в Лизе. И ему не было страшно!
Никто не беспокоил его, пока бесконечный этот миг навсегда отпечатывался в его сознании. Наконец, насытившись пониманием того, что все это действительно реальность, он повернулся к своим спутникам.
— Благодарю вас, Джирейн, — произнес он. — Мне, знаете ли, никак не верилось, что вы добьетесь успеха…
Психолог, выглядевший очень довольным, осторожно подкручивал что-то в небольшом аппарате, который висел в воздухе рядом с ним.
— Вы доставили нам несколько весьма неприятных минут, — признался он. — Раз или два вы начинали задавать вопросы, на которые невозможно было ответить в пределах логики, и я даже опасался, что вынужден буду прервать эксперимент.
— А… предположим… Ярлан Зей не убедил бы меня? Что бы вы тогда делали?..
— Пришлось бы сохранить вас в бессознательном состоянии и переправить обратно в Диаспар, где вы пробудились бы естественным образом и так бы и не узнали, что за время сна побывали в Лизе.
— Но тот образ Ярлана Зея, который вы мне внушили… как многое из того, что он мне рассказывал, — правда?..
— Я убежден, что большая часть. Меня, впрочем, куда сильнее заботило то, чтобы моя маленькая сага оказалась не столько исторически безупречной, сколько убедительной, но Коллитрэкс изучил ее и не обнаружил никаких ошибок. Вне всякого сомнения, она полностью совпадает со всем тем, что нам известно о Ярлане Зее и основании Диаспара.
— Ну вот, теперь мы можем открыть город по-настоящему, — сказал Олвин, — На это, само собой, уйдет уйма времени, но в конце концов мы сумеем нейтрализовать все страхи, и каждый, кто пожелает, сможет покинуть Диаспар…
— Уйма времени — это уж точно, — сухо отозвался Джирейн. — И не забывайте, что Лиз едва ли достаточно велик, чтобы принять несколько сот миллионов посетителей, если все ваши вздумают вдруг явиться сюда. Я не считаю, что это так уж вероятно. но и исключать такую возможность не стоит…
— Проблема решится автоматически, — возразил Олвин. — Пусть Лиз крохотен, но мир-то — велик! И с какой стати мы должны оставлять его в распоряжении пустыни?
— Экий ты все еще мечтатель, Олвин, — с улыбкой произнес Джизирак. — А я-то все думал — что же еще осталось для тебя?
Олвин промолчал. Джизирак задал вопрос, который все настойчивей и настойчивей звучал в его собственной голове — все последние несколько недель. Он так и остался в задумчивости, бредя позади всех, когда они стали спускаться с холма в направлении Эрли. Не станут ли столетия, лежащие перед ним, спокойными, лишенными каких бы то ни было новых впечатлений?
Ответ был в его собственных руках. Он разрядил заряд, уготованный ему судьбой. Теперь, возможно, он мог начать жить.
26
В достижении цели есть некоторая особенная печаль. Она — в осознании того, что цель эта, так долго остававшаяся вожделенной, наконец покорена, что жизни теперь нужно придавать новые очертания, приспосабливать ее к новым рубежам. Олвин в полной мере познал эту печаль, когда бродил в одиночестве по лесам и полям Лиза. Даже Хилвар не сопровождал его, потому что в жизни у каждого мужчины наступает момент, когда он отдаляется и от самых близких своих друзей.
Блуждания эти не были бесцельными, хотя он и никогда не решал заранее, в каком селении остановится на этот раз. Не какое-то определенное место искал он. Ему нужно было новое настроение, какой-то толчок… в сущности, новый для него образ жизни. Диаспар теперь в нем уже не нуждался. Семена, которые он занес в город, быстро прорастали, и он теперь ничего не мог сделать, чтобы ускорить или притормозить перемены, которые там происходили.
Этому мирному краю тоже предстояло перемениться. Олвину частенько приходило в голову — правильно ли он поступил, открыв в своем безжалостном стремлении удовлетворить собственное любопытство древний путь, связывающий обе культуры. Но конечно же, лучше было, чтобы Лиз узнал правду, — ведь и он, как и Диаспар, почивал на своих собственных опасениях и совершенно беспочвенных мифах.
Иногда Олвин задумывался и над тем, какие же черты приобретет новое общество. Он всей душой верил в то, что Диаспар должен вырваться из темницы Хранилищ Памяти и снова восстановить цикл жизни и угасания. Знал он и то, что, по глубочайшему убеждению Хилвара, в этом нет ничего невозможного, хотя детали предлагаемой другом методики и оказались для Олвина слишком уж сложны. Что ж, тогда, может быть, снова наступят времена, когда живая человеческая любовь не будет для Диаспара чем-то недостижимым.
Неужели, раздумывал Олвин, любовь и была тем, чего ему всегда не хватало в Диаспаре, и ее-то на самом деле он и стремился найти? Теперь он слишком хорошо понимал, что, когда играющая молодая сила натешена, честолюбивые устремления и любознательность удовлетворены, остается еще нетерпение сердца. Никому не дано было жить настоящей жизнью, если его не осенял прекрасный союз любви и желания, который и не снился Олвину, пока он не побывал в Лизе.
Он бродил по поверхности планет Семи Солнц, — первый человек за миллиард лет. Но теперь это для него мало что значило. Порой ему представлялось, что он отдал бы все свои достижения, если бы только мог услышать крик новорожденного и знать, что это дитя — сто собственное…
В Лизе он в один прекрасный день мог найти то, к чему так стремился. Людям этого края были свойственны сердечная теплота и понимание других, чего — ему теперь это было ясно — не было в Диаспаре. Но, прежде чем он мог предаться отдыху и обрести покой, ему предстояло принять еще одно решение.
В его руки пришла власть. Этой властью он все еще обладал. Это была ответственность, которой он когда-то искал и взвалил на себя с радостью, но теперь он понимал, что не найдет успокоения, пока эта ответственность будет лежать на нем. И вместе с тем отказаться от нее означало предать оказанное ему доверие…
Он обнаружил, что находится в селении, изрезанном массой каналов, и стоит на берегу большого озера. Разноцветные домики, замершие, словно на якорях, над едва заметными волнами, составляли картину почти неправдоподобной красоты. Здесь была жизнь, от домиков веяло теплотой человеческого общения и комфортом — всем, чего ему так не хватало там, среди величия и одиночества Семи Солнц. Здесь он и принял свое решение.
Настанет день, когда человечество снова будет готово отправиться к звездам. Какую новую главу напишет Человек там, среди этих пылающих миров, Олвин не знал, это будет уже не его заботой. Его будущее лежит здесь, на Земле.
Но, прежде чем повернуться к звездам спиной, он совершит еще один полет.
Когда Олвин пригасил вертикальную скорость корабля, город находился уже слишком далеко внизу, чтобы можно было признать в нем дело рук человеческих, и уже заметна была кривизна планеты. Еще немного спустя они увидели и линию терминатора, на которой — в тысячах миль от Них — рассвет свершат свой бесконечный переход по безбрежным пространствам пустыни, Над ними и вокруг них сияли звезды, все еще блистающие красотой, несмотря на то, что когда-то они утратили часть своего великолепия.
Хилвар и Джизирак молчали, догадываясь, но не зная с полной уверенностью, чего ради Олвин затеял этот полет и почему он пригласил их сопровождать его. Разговаривать не хотелось. Под ними медленно разворачивалась безрадостная панорама, лишенная даже малейших признаков жизни. Ее опустошенность давила и того и другого, и Джизирак неожиданно для себя самого почувствовал, как в нем вспыхнул гнев на людей прошлого, которые благодаря своему небрежению позволили угаснуть красоте Земли.
Ему страстно захотелось верить, что Олвин прав, говоря о том, что все это еще можно переменить. И силы, и знания все еще находились в распоряжении Человека, и необходима была только воля, чтобы повернуть столетия вспять и заставить океаны вновь катить свои волны. Вода еще была — там, глубоко под поверхностью. А если необходимо, то можно создать заводы, которые дадут планете эту воду.
За годы, лежащие впереди, предстояло сделать так много! Джизирак знал, что стоит на рубеже двух эпох: он уже повсюду чувствовал убыстряющийся пульс человечества. Предстояло, конечно, столкнуться с гигантскими проблемами, но Диаспар пойдет на это. Переписывание прошлого набело займет многие сотни лет, но, когда оно будет завершено. Человек снова обретет почти все, что оказалось им утрачено.
И все же — в состоянии ли он будет обрести действительно все? — подумал Джизирак. Трудно было поверить в то, что Галактика снова может быть покорена, и если даже это и будет достигнуто, то ради какой цели?
Олвин прервал его размышления, и Джизирак отвернулся от экрана.
— Мне хотелось, чтобы вы это увидели, — тихо произнес Олвин, — Другой возможности вам может не представиться.
— Разве ты покидаешь Землю?
— Нет. Я по горло сыт космосом. Даже если другие цивилизации еще и выжили в Галактике, я как-то сомневаюсь, что они стоят того, чтобы их разыскивать. Так много работы на Земле! Теперь я знаю, что мой дом — она. И я не собираюсь снова покидать этот дом.
Он смотрел вниз, на бескрайние пустыни, но глаза его видели воды, которые будут плескаться на этих пространствах через тысячи лет. Человек снова открыл свой мир, и он сделает его прекрасным, пока останется на нем. А уж потом…
— Мы не готовы уйти к звездам, и пройдет очень много времени, прежде чем мы снова примем их вызов. Я все думал — что мне делать с этим кораблем? Если он останется здесь, на Земле, меня все время будет подмывать воспользоваться нм и я потеряю покой. В то же время я не могу распорядиться им бездарно. У меня такое чувство, будто мне его доверили и я просто должен использовать его на благо нашего мира…
Поэтому я решил вот что: я пошлю его в Галактику с роботом в роли пилота, чтобы выяснить — что же произошло с нашими предками, и, если возможно, узнать, ради чего они покинули нашу Вселенную, что они собирались найти. Это, должно быть, представлялось им чем-то невообразимо чудесным, если в стремлении к нему они оставили столь многое…
Робот не знает усталости, сколько бы времени ни заняло у него это путешествие. И настанет день, когда наши двоюродные братья получат мое послание и узнают, что мы ждем их здесь, на Земле. Они вернутся, и я надеюсь, что к тому времени мы станем достойны их, сколь бы велики ни были они в своем знании…
Олвин умолк, устремив взор в будущее, контуры которого он определил, но которого ему, возможно, и не суждено увидеть. Пока Человек перестраивает свой мир, этот корабль будет пересекать пропасти тьмы между галактиками и возвратится лишь через многие тысячи лет. Может быть, он, Олвин, еще будет здесь, чтобы встретить его, но даже если нет, он все равно был вполне удовлетворен своим решением.
— Мне представляется, что ты рассудил мудро, — отозвался Джизирак. И тут же, в последний раз, отголосок былого страха вспыхнул в его душе, чтобы помучить его: — Но предположим, что корабль войдет в контакт с чем-то таким, встречи с чем мы бы не хотели… — Голос его упал, поскольку он осознал источник своей тревоги, и он улыбнулся кривой улыбкой, в которой был упрек самому себе и которая тотчас же прогнала последний призрак Пришельцев.
Олвин, однако, отнесся к делу куда серьезнее, чем того ожидал Джизирак.
— Ты забываешь, что скоро у нас помощником будет Вэйнамонд, — сказал он. — Мы еще не знаем, какими возможностями он располагает, но в Лизе все, похоже, думают, что возможности эти потенциально безграничны. Разве не так, а, Хилвар?
Хилвар ответил не сразу. Вэйнамонд был еще одной огромной загадкой, этаким гигантским вопросительным знаком, который всегда будет нависать над будущим человечества, пока это существо остается на Земле, — это было верно. Но очевидно было и то, что эволюция Вэйнамонда в сторону самоосознания ускорилась в результате его общения с философами Лиза. Они страстно надеялись на сотрудничество в будущем с этим супермозгом-ребенком, веря в то, что человечеству удастся в результате сэкономить целые эпохи, которых бы потребовала его естественная эволюция.
— Я не совсем уверен… — признался Хилвар. — Я думаю, что мы не должны ожидать слишком многого от Вэйнамонда. Мы теперь можем ему помочь, но ведь в его бесконечной жизни мы промелькнем всего лишь ничтожнейшим эпизодом. Я не думаю, что его конечное предназначение имеет к нам какое-либо отношение.
Олвин с изумлением уставился на него.
— Почему ты так считаешь? — спросил он.
— Мне трудно объяснить… Просто интуиция, — ответил Хилвар. Он мог бы добавить еще кое-что, но сдержался. Такие вещи как-то не предназначались для передачи, и, хотя Олвин, конечно же, не стал бы смеяться над его мечтой, он не решился обсудить проблему даже со своим другом.
Это было больше чем мечта, в этом он был уверен, и она отныне постоянно станет преследовать его. Каким-то образом она завладела его сознанием еще во время того неописуемого, ни с кем не разделенного контакта, который случился у него с Вэйнамондом там, у Семи Солнц. Знал ли сам Вэйнамонд, какой должна быть его одинокая судьба?
Наступит день, когда энергия Черного солниа иссякнет и оно освободит своего узника. И тогда на окраине Вселенной, когда само время начнет спотыкаться и останавливаться, Вэйнамонд и Безумный Разум должны будут встретиться среди остывших звезд.
Это столкновение может опустить занавес над всем мирозданием. И все же оно не будет иметь ничего общего с маленькими заботами Человека, и он так никогда и не узнает о его исходе…
— Смотрите! — воскликнул внезапно Олвин. — Вот это-то я и собирался вам показать. Знаете, что это такое?
Корабль находился над полюсом, и планета под ними представляла собой безукоризненную полусферу. Глядя вниз на пояс сумерек, Джизирак и Хилвар в одно и то же мгновение видели на противоположных концах мира и рассвет, и закат. Символика была столь безукоризненна и так поражала душу, что они запомнили этот момент на всю жизнь.
В этой Вселенной наступал вечер. Тени удлинялись к востоку, который не встретит еще одного рассвета. Но повсюду вокруг звезды были еще юны, а свет утра еще только начинал брезжить. И в один прекрасный день Человек снова двинется по тропе, которую он избрал.
Примечания
1
Уроженцы тихоокеанских островов, преимущественно Гавайских.
(обратно)2
Этот оборот имеется у Шекспира, правда, в несколько ином значении. (Примеч. пер.)
(обратно)3
Отрывок из трагедии английского поэта А. Ч. Суинберна (1837–1909) «Аталанта в Калидоне» (перевод А. Гузмана).
(обратно)4
Марло. Трагическая история доктора Фауста (перевод Н. Амосовой).
(обратно)5
Сита — супруга Рамы, мифического паря государства Айодхьи, героя великой древнеиндийской поэмы «Рамаяна».
(обратно)6
Нортон, в сущности, повторяет слова, произнесенные Нейлом Армстронгом 20 июля 1969 года в момент, когда лунная кабина «Аполлона-II» коснулась поверхности Луны.
(обратно)7
Все названия кораблей заимствованы из истории мореплавания. На барке «Индевор» Джеймс Кук в 1768–1771 годах совершил свое первое кругосветное путешествие. «Калипсо» — французское океанографическое судно, обслуживавшее экспедиции Жака-Ива Кусто. На корабле «Бигл» путешествовал вокруг света Чарлз Дарвин, а на пароходе «Челленджер» Джордж Нэрс в 1874 голу пытался проникнуть к Южному полюсу.
(обратно)8
Беверли-Хиллз — фешенебельный пригород Лос-Анджелеса, где живут, в частности, многие звезды Голливуда.
(обратно)9
Арнольд Тойнби (1852–1883) — английский буржуазный историк и экономист, исследователь эпохи «промышленной революции» XVIII века.
(обратно)10
Ангкор-Ват («Пагода столицы») — величественный памятник кхмерской культуры и архитектуры, построенный в ХП веке, затем заброшенный и заново открытый французскими археологами в 1861 году.
(обратно)11
Мэтью Колбрайт Перри (1794–1858) пол угрозой оружия вынудил японское правительство подписать договор, открывший для американских судов японские порты.
(обратно)12
За единицу принимается светимость Солнца.
(обратно)13
Кодовое название лунной кабины «Аполлона-II».
(обратно)14
«Резолюшн» («Решимость») — флагманский бриг, возглавлявший вторую (1772–1775) и третью (1776–1779) кругосветные экспедиции Джеймса Кука.
(обратно)15
Майское дерево — украшенный цветами столб, вокруг которого танцуют на весеннем празднике в английских деревнях.
(обратно)16
Любители, болельщики (исп.).
(обратно)17
Нравы (лат.).
(обратно)18
Окружение (фр.).
(обратно)19
Тупик (фр.).
(обратно)


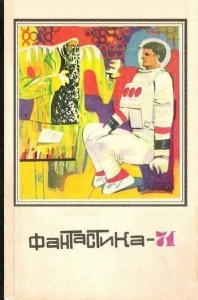
Комментарии к книге «Солнечный ветер», Артур Чарльз Кларк
Всего 0 комментариев