В один из тихих погожих вечеров, когда в потемневшем небе уже замерцали первые звезды, из невзрачного домика, что стоял на отшибе старой Волнер-стрит, вышел невысокий мужчина средних лет в потертых джинсах, в видавшей виды рубашке навыпуск и стоптанных ботинках. Дополняла убранство мужчины потертая шляпа с засаленными полями какого-то неопределенного цвета.
Мужчину звали величественно и грозно — Лев, но он давно уже привык к невыразительному Лева. Ну не вышло из него Льва Константиновича, что ж поделаешь? Не заслужил, так и остался на всю жизнь Левой: бывший механик-космолетчик, потом бывший каторжник, а теперь… А теперь, по большому счету, никто.
Закрывая расшатанную калитку на веревочку (шпингалет давно проржавел и куда-то делся), Лева отправился вдоль улицы, держа путь на Мейдан-стрит. Бросив мимолетный взгляд на небо, вдруг поймал себя на мысли, что уж очень часто в последнее время думает о космосе, недоступном с некоторых пор. А надо было думать о более прозаичных вещах, нежели звезды. Проще говоря, надо было решить, как жить дальше, вернее — на что, ибо все упиралось в деньги, с которыми у Левы сложились, прямо скажем, непростые отношения. Никак он не мог понять, как это они умудряются так быстро исчезать из карманов! Вот вчера, например, имелась у него вполне приличная сумма, потому что удалось-таки наконец сбагрить плохо работающий универсальный зукрийский дегустатор, найденный им еще во времена первых Походов на Свалку и оставшийся потом доживать свой век у него в сарае, благозвучно окрещенном Левой Отстойником. А уже сегодня от этих денег остался шиш да маленько, только-только, чтобы посидеть у Марка в баре, заплатив, естественно, за вход и заказав в баре самый минимум. А на что потратился? Смех! Купил носки (старые-то совсем прохудились), универсальный ключ-отвертку да несколько банок консервов у бакалейщика Грега. Хоть снова на Свалку. Но Завоз будет только завтра поутру, а с ним и конкуренты, и бродячие псы, и вонь, и местные докучливые насекомые. Или в Отстойнике все же покопаться? Есть там парочка вещей, до которых никак руки не дойдут.
Вообще и Поход, и Свалку, и Завоз, и Отстойник, и прочее, что связывало его сейчас с нынешней деятельностью, Лева про себя величал не иначе, как с большой буквы. Это после того, как и Поход, и Сбыт, и Поиск более-менее пригодных и не слишком-то изношенных Вещей приобрели для него определенный смысл и обозначили какую-то цель в жизни, когда решаешь, что можно приспособить к делу, а что, увы, уже никак, что возможно починить или отремонтировать, а что, к сожалению, надо просто выкинуть. А ремонтом заниматься он умел, ведь в бытность свою ходил механиком на межпланетниках в своем Аргунском секторе, и руки у него, как говорил бригадир, росли откуда надо. Вот и пригодилось знание предмета. Разве мог он когда-нибудь представить, что станет со временем обыкновенным старьевщиком, никчемным, в общем-то, человеком, зарабатывающим на жизнь тем, что продаст со Свалки? Но самое страшное — его затянул со временем сам процесс собирательства, потому что любое дело, которому отдаешься весь, без остатка, даже такое неблагородное и непотребное, подсознательно затягивает, более того, постепенно растворяет в себе. И одному Богу известно, во что бы он вскоре превратился, если бы у него не было одного увлечения, одной отдушины — вечернего просмотра у Марка в бар-клубе шоу-денса — самого прекрасного зрелища, какое он только видел в жизни. Да он и жил-то, собственно, теперь лишь для этого, все остальное интересовало его постольку-поскольку.
Лева опять посмотрел вверх. Звезды только-только выплескивались на небо и, как всегда, завораживали взгляд. Что у него в этой жизни осталось? Эти звезды, еще те самые танцы с кассет, что Марк демонстрировал у себя в бар-клубе. Невероятное, непостижимое зрелище. Бально-спортивные танцы, искусство с далекой Земли, необъяснимым образом получившее распространение и сумасшедшую популярность почему-то именно здесь, на окраинах сектора.
Почему и как это случилось — пусть выясняют социологи, для остальных то был просто свершившийся факт, данность, чудачество и очередной непредсказуемый зигзаг изменчивой моды, когда обычные развлечения уже как-то не прельщали, приелись и, больше того, надоели до такой степени, что человеку прямо-таки позарез требовалось что-то новенькое, неординарное, доселе невиданное, нестандартное. А спрос, как известно, всегда рождает предложения, пусть даже и такие эксклюзивные. И, как ни странно, они пришлись ко двору: вы хотели чего-то необычного, неожиданного, ласкающего взор как настоящего эстета, так и простого обывателя и в то же время дающее обоим истинное наслаждение при виде того, что может сотворить человеческое тело, отданное во власть музыки и движения? Пожалуйста, получите! Вот вам бально-спортивные танцы, полузабытое искусство с далекой Земли, наслаждайтесь!
Тогда, работая по контракту механиком на планетолете, Лева принял это искусство всей душой и сердцем, и для него в том не было ничего удивительного: а чем занять себя после изнурительных вахт на межпланетнике, когда книговизор предполагал хоть какую-то работу мысли, а думать ни о чем не хотелось? Боевики, с извечным набором одних и тех же героев и сюжетных ходов и отличающиеся друг от друга лишь названиями, осточертели до такой степени, что он швырял в голопроектор что под руку подвернется, а тут случайно увидел, как сосед смотрит м-кассету с танцующей парой, и просто остолбенел. Это было ново. Смело. Неожиданно. Но главное — красиво необычайно. До того красиво, что Лева совсем потерял голову, влюбившись без памяти в это зрелище, и продал свою душу, со всеми ее потрохами, этому волшебному искусству. А оно, в свою очередь, отплатило взаимностью, затронув в этой самой душе какие-то свои потаенные струны, разбудив в нем такие эмоции и чувства, о которых Лева и не подозревал. Его зачаровало, заворожило и пленило навсегда. Очевидно, мало иметь душу, надо, чтобы она еще и жила, и дышала.
А потом он попался с контрабандой, и все полетело коту под хвост. И зачем он только с ней связался?! На жизнь ведь хватало, на индивидуальный голопроектор почти накопил. А как мечтал в отпуск слетать на Землю, чтобы воочию, «вживую», полюбоваться на выступление профессиональных пар! Ведь в голопроекции, пусть и очень реалистичной, многого не ощущается, та же атмосфера и обстановка, к примеру, или исходящая от пар мощная энергетика, сводящая с ума и подчиняющая себе своей неистовой силой! Да и сам хотел кое-чему научиться, а в результате — Итшийские болота, трудлагерь и срок (три местных годочка с конфискацией), отбыв который заработал пожизненную дисквалификацию. Одинокий (вырос в сиротском приюте), никому не нужный, без работы (кому нужен бывший каторжник?), он стал тем, кем стал. Одно утешало: пока они там, на Итшае, осушали эти чертовы болота, мода на танцы только-только подкатила сюда, в Аргун-сити, где он потом и стал жить, сполна рассчитавшись за свою глупость, жадность и невезение. Совершенно чуждое, вроде, его жизни искусство, а вот, поди ж ты, прикипело к нему намертво, оно просто не дало ему сойти с ума, и помогло, и спасло. Особенно там, в трудлагере, когда, замерев в оцепенении, смотрел через старенький голопроектор вместе с остальными поощренными танцпрограмму четырех-, а то и пятимесячной давности, переживая внутри все перипетии и нюансы танца. Именно внутри, ибо внешне Лева всегда оставался человеком замкнутым и нелюдимым, даже угрюмым. Внутри же у него царила гамма чувств и эмоций, которым вполне мог позавидовать и экспансивный, увлекающийся человек.
Перепрыгнув узкую канаву для сточных вод, Лева свернул за угол и чуть было не столкнулся с Захом, местным аборигеном, похожим на гигантского кузнечика с мощными длинными ногами, узким туловищем и уродливой головой богомола. Тот, вылупив фасетчатые глаза, нес огромную коробку в четырех суставчатых конечностях.
— Привет, осторожней, посторонись, как дела, и тебе того же, — выдав на ходу скороговоркой этот дежурный набор фраз, Зах запрыгал дальше, смешно выворачивая зад. Куда это он? Уж не на Свалку ли? Лева проводил его заинтересованным взглядом, профессионально прикидывая, что такого полезного может быть в коробке подобного размера. Но абориген спешил, к сожалению, не на свалку, он свернул к мисс Улби, соседке Левы, склочной и вечно чем-то недовольной старухе. Интерес тут же угас. Понятно: Зах являлся местным почтальоном, брал, как, обычно, работу на дом. Еще бы, с такими-то ногами обратно порожняком куда угодно допрыгаешь в два счета. Хоть на край света.
Несколько разочарованный, Лева двинулся дальше, сняв шляпу и завертев ее в руках. Дурная привычка. Руки постоянно должны быть чем-то заняты, в пустых ладонях ощущался какой-то зуд, и тогда он брал, что под руку подвернется. Так называемый итшийский синдром, кожная болезнь, штука не заразная, но и приятного мало. Марк, в клубе которого Лева считался завсегдатаем, вызнав эту его особенность, но не зная о причинах, ухмыляясь, прятал от него всякую мелочевку, начиная с ложек-вилок и заканчивая тарелками-солонками. Разок не углядев (это когда Лева выронил вазочку с крекетами и все, естественно, просыпал), в сердцах посоветовал купить четки, идеально, по его мнению, успокаивающие нервы. За крекеты тогда пришлось расплачиваться. Хорошо, деньги были, потому как часом ранее он продал тому же Марку разделочный нож из тигийской стали — вещь в хозяйстве нужную — пусть и с треснувшей ручкой, но острый, как бритва.
А четки — это хорошо, он и сам подумывал о чем-то подобном. Только вот на что их покупать, если концы с концами никак не сходятся? И вряд ли сойдутся в обозримом будущем: Свалка лишь кормит (да и то не досыта), а на остальное денег как не было, так и нет. Мечты о волосяных биопроцессорах (поэтому и носил эту дурацкую шляпу, чтобы хоть как-то скрыть прогрессирующую плешь) и зубных протезах (половина своих повыпала там, на Итшае) так и оставались мечтами. Эх, жизнь…
Свернув еще раз, Лева дошел до первого перекрестка. Здесь было куда оживленней и многолюдней, чем у них на улице (одно слово — задворки). Отсюда уже начинал ходить монорельс и автотакси. А если свернуть еще дальше, на Парк-авеню, то оттуда можно было разглядеть искрящуюся сферу Делантик-сити и силовой стержень орбитального лифта. А уж если с Парк-авеню повернуть на Мейдан-стрит и подняться в навесной пентхауз к Марку в клуб, где у того еще был и приличный бар с рестораном этажом ниже, но, главное, последняя модель голографа с объемным реалистичным псевдоприсутствием, то с такой высоты уже проглядывали купола Южного порта и даже угадывались приемные мачты Аргунского космопорта и серебрящиеся черточки посадочных модулей. Правда, увидеть все это можно было лишь днем, когда Сун, местное светило, плясал осколками и брызгами света на всем металлическом, пробивая вездесущую дымку смога, что всегда сопутствовала каждому большому городу, население которого исчислялось миллионами.
Лева держал путь как раз на Мейдан-стрит, к Марку. Вечером тот через голограф крутил танцпрограмму, шоу-денс с участием профессиональных исполнителей бально-спортивных танцев, и Лева спешил к ее началу, заранее предвкушая зрелище. Марк, хозяин заведения, которому Лева приносил то да се, иногда оставлял ему местечко у барной стойки. Бывший боцман линейного крейсера, тоже космолетчик, снисходительно поглядывал на бывшего космомеханика. По большому счету, ни с кем близко в городе Лева так и не сошелся, хоть и прожил тут, на Западной окраине, уже с полгода. Он был одиноким человеком, крохотным винтиком в чудовищно-громадной махине гигантского мегаполиса.
Но он даже представить не мог, что ее величество Судьба уже пристально приглядывается к нему, оценивающе оглядывая его фигуру в потрепанной одежонке.
Ши-дарский игла-разведчик синхронизировал свое стаси-поле с физическими константами и мегаполем данного участка чужой вселенной и, протая в уже как материальное тело, мгновенно задействовал и перестроил внешние адаптеры на структурные основы окружающего его пространства. По корпусу тут же прошла легкая рябь — следствие гашения избыточного давления на чужую метрику. Пока шла физическая перестройка, мозг разведчика быстро просканировал пространство в поисках эмоциональной составляющей (человек сказал бы — принюхался). Та присутствовала, и это обнадеживало. Когда синхронизация и перестройка закончились, а метрика и физические константы пришли в относительную норму, над Аргуном — земной колонией в одном из отдаленных секторов — окончательно проявился длинный узкий корпус разведчика, облепленный блестящими шариками-адаптерами неестественного зеркального цвета. Они постоянно меняли траекторию движения, вращались вокруг собственной оси против часовой стрелки, а сам корпус иглы-разведчика переливался и искрился в лучах Суна, его ходовая часть к тому же еще слабо мерцала, окончательно гася векторную силу прокола времени-пространства. Определив, что структура окружающего пространства остается пока устойчивой и адаптеры успешно, без необратимых последствий, вклинил и разведчика в чужую вселенную, мозг спешно отправил к мохнатому шару планеты (это и был Аргун) капсулу-инвектор с эмоосом на борту. В эмоосе — существе, чье поведение целиком определяют эмоции, — на сей раз доминирующим элементом являлось женское начало, и то было не случайно. От успеха его миссии зависела жизнь и будущее целого мира, сейчас, за миллиарды парсек отсюда там, в другой вселенной, неумолимо угасающего.
…Поднимаясь в скоростном лифте, Лева нахлобучил шляпу чуть ли не на глаза, стараясь не смотреть на ухмыляющегося лифтера, а когда лифт, звякнув, остановился, мышкой прошмыгнул на этаж. Вот всегда так. А чего, казалось бы, стесняться? Или кого? Лифтера? Еще не известно, кому из них тяжелее. Лева, по крайней мере, свободен и в поступках, и в мыслях, а тут катайся с этажа на этаж, как привязанный, да с подобострастной улыбочкой, да слова лишнего никому не скажи.
Но в душе он понимал, что все это — отговорки, ибо у того же лифтера был определенный статус, какое-то положение в обществе, чего совсем не скажешь про него. И все же Лева был счастлив. Потому что сейчас он увидит такое!.. По сравнению с предстоящим остальное казалось пылью под ногами, ненужной мишурой и досадными мелочами.
В клубе у Марка, как всегда, народу хватало, ибо клуб (или, как называл его сам Марк, бар-клуб) пользовался успехом у жителей Западной окраины. Фактически он был один такой, где можно увидеть танцевальные пары с самой Земли, с метрополии. Как и откуда Марк добывал эти кассеты, знал только он. Мода на бальные танцы как на экстравагантное и впечатляющее зрелище здесь, на Аргуне, пока еще не вытеснила ни трехмерное видео, ни виртуалку, ни топ-бренды, ни прочие шоу, но все шло именно к этому, и очень скоро у Марка наверняка появятся конкуренты, а с ними и заботы, и всевозможные осложнения, и прочие неприятности. Ну а потом, как это частенько бывает, танцы вытеснит какое-нибудь другое, не менее захватывающее зрелище, но пока… Пока их популярность на планете не достигла даже пика.
Расположенный под самой крышей, бар-клуб был спроектирован так, что свободного пространства тут всегда хватало, по крайней мере возникала такая иллюзия, особенно в центре, под вогнутой чашей голографа. Лева, топчась в очереди у входа, глянул туда с благоговением, весь переполненный ожиданием и эмоциями — ох, поскорее бы! И, как ему казалось, многие в очереди так же, как и он, в нетерпении переминались с ноги на ногу, ожидая начала программы.
А вот молодежи было мало, та предпочитала ходить пока на другие шоу. Она всегда стремилась все делать сама, нежели смотреть, да еще и в проекции, как за нее «отрываются» другие. Поэтому клиентами Марка являлись, в основном, люди постарше, кое-что в жизни уже повидавшие, имеющие неплохой вкус и знающие толк в хорошем, эмоционально насыщенном зрелище. Они приходили сюда выпить-закусить (для этих целей имелся и бар, и превосходный ресторан этажом ниже, откуда можно было заказать вполне приличные блюда, и многочисленные столики в зале, и уединенные кабинки по его периметру), решить пару-тройку неотложных вопросов, обсудить последние новости, а потом, как бы на десерт, насладиться танц-зрелищем, благо обстановка позволяла: женщин легкого поведения здесь не встретишь, ибо Марк, служивший когда-то боцманом звездного линейного крейсера, на дух их не переносил (очевидно, достали в свое время). Так что леди приходили сюда или по делу, или уже с кавалерами, или просто скоротать вечерок не без пользы для себя — партнерши, исполняющие танцы, никого не оставляли равнодушными. Многие женщины, глядя на них, потом критически оценивали и себя, делая в уме заметки о прическах, нарядах, стиле и фигуре, — все-таки метрополия, а не захолустье. Как там у них, какова мода? Марк бы за голову схватился, узнай он истинную причину их появления здесь. А в остальном бывший боцман придерживался вполне демократических взглядов: у нас свободный город в свободном секторе, любил приговаривать он, только не напивайся в стельку, не бей посуду и морду соседа, кровь оттирать то еще удовольствие, и все будет в порядке: вы пришли отдохнуть и попутно насладиться сногсшибательным зрелищем, которого нигде более не увидите. Что ж, я предоставляю вам такую возможность, так давайте ж уважать друг друга! Лева уважал. И поэтому, заплатив за вход и отдав при этом почти все сэкономленные деньги, он снова мышкой проскользнул к дальнему концу подковообразной барной стойки, взобрался на вертящийся табурет, снял шляпу, привычно затеребил ее в руках и осторожно покосился по сторонам.
Публика, по мнению Левы, была все-таки какая-то не такая. Ну не было в ней той возвышенности, одухотворенности, эмоциональности, что целиком завладела им и которой он всецело отдался сейчас и сердцем, и душой. Не было! Через два табурета от него, например, восседал некто в кричащей ярко-малиновой водолазке, серых лактоновых брючках, с серьгой в ухе в виде серебряной монетки; черные гладкие волосы зачесаны назад. Тип что-то потягивал из высокого стакана через трубочку и равнодушно смотрел прямо перед собой. Кажется, ему было все равно, что он тут пьет и где находится. Лева встречал подобный оловянный взгляд там, в трудлагере, взгляд человека, полностью ушедшего в себя, когда на поверхности остаются одни лишь инстинкты — глотать, дышать, жевать да моргать, от эмоций — ноль! Не вязался как-то его оловянный взгляд с эмоциональной составляющей человеческого «я», да еще в предвкушении зрелища.
Чуть подальше, перед ажурными стеллажами с коллекцией экзотических цветов, расположился импозантный толстяк, этакая продувная нахальная морда вся в рыжей щетине, с маленькими хитрыми глазками, да с теми еще манерами: ел он, вернее, жрал, чавкая, причмокивая и сопя над горшочком с чем-то ароматно-дымившимся, выуживая оттуда пальцами особо лакомые кусочки. У Левы аж свело челюсти, но не от голода (хотя весь его сегодняшний рацион — это банка фасоли, что он разогрел в обед), сколько от обиды и возмущения. Он был убежден, что нельзя вот так — прийти в предвкушении захватывающего действа, экономя буквально на всем, чтобы потом прочувствовать и впитать каждой клеточкой тела и каждым порывом души всю красоту и неповторимость этого самого действа, а самому в это время жрать, сопя и чавкая, или, как тот тип в малиновой водолазке с оловянными глазами, безразлично тянуть что-то там из стакана. Лева понять не мог, как же так можно: не предвкушать того, что скоро начнется? Заниматься обыденными, прозаическими делами? Тогда зачем вообще сюда приходить?!
Если б ему сказали, что он просто идеальный зритель, благородный и благодарный, за виртуозное мастерство и вдохновенное выступление артистов в ответ отдающий частицу собственной души, он бы только отмахнулся. Лично для него это состояние было единственно возможным, естественным. Как дышать, например. «А разве может быть как-то иначе?» — удивленно спросил бы он. «Может, — со вздохом ответил бы какой-нибудь скептик. — Ты — один такой чудак, остальные воспринимают все происходящие как популярное развлечение, не больше, не меньше, как возможность скоротать вечерок, посмотрев заодно и танцпрограмму, шоу-денс, где одна из участниц — умопомрачительная женщина. Посмотреть, запивая его пивом и дымя сигаретой. А ты… Ты слишком эмоционален и экспансивен для этого. Слишком!»
Леве отчего-то взгрустнулось. Вздохнув, отвел взгляд от толстяка, оглядывая зал дальше, машинально поворачиваясь вместе с табуретом. Кого он тут высматривал — Лева вразумительно бы не ответил. Наверное, таких же чудаков.
Столики в зале были разные, чтобы угодить любой компании. В одной такой находился некто Гулявский, которого Лева знал в лицо. Антиквар средней руки, предприимчивый делец и, в общем-то, неплохой человек. Пару раз Лева относил ему кое-что — это когда наткнулся в самом дальнем углу Свалки на вещи местных аборигенов, выкинутые кем-то неразборчивым. Пойти поздороваться и перехватить пару бексов? Тот иногда выручал, когда бывал в настроении. Лева сполз было с табурета, но чья-то цепкая пятерня поймала его за плечо. Он испуганно оглянулся.
Это был Марк собственной персоной. Как обычно, в своей боцманской униформе с позолоченными пуговицами и воротником-стойкой; волосы ежиком, пушистые усы, внушительный подбородок с ямочкой и высокий лоб античного мыслителя. На среднем пальце правой руки массивный матово-черный перстень с конусообразным возвышением — спир, оружие ближнего боя десантников-бейберов. В центре возвышения мерцал алый огонек. То был кончик плазменной спирали, упрятанной в магнитной камере-ловушке, миниатюрный образец которой и являл собой увесистый перстень. Марк иногда использовал спир как обыкновенную зажигалку.
— О, ты-то мне и нужен!
При виде Марка Лева всегда робел, тот олицетворял для него все начальство мира.
— 3-зачем?
— Можешь раздобыть там… э-э… у себя кухонный конфигуратор первого или второго поколения, у них там ручная настройка? Сделаешь? За ценой не постою.
Лева даже расправил плечи: вот ради таких моментов и стоило жить на этом свете, жить, а не прозябать — в тебе все-таки нуждаются, ты хоть кому-то нужен. И это было, черт возьми, и здорово, и приятно одновременно.
— Я постараюсь, Марк… Но, сам понимаешь, поручение трудное.
— Да уж постарайся!.. Выпьешь чего-нибудь?
Лева тут же скис. Выпить хотелось, да только денег на подобное удовольствие практически не осталось.
— Попозже, — нашелся он и тут же задал мучивший его вопрос: — А кто сегодня танцует?
Марк расплылся в улыбке, даже усы встопорщились, как у кота при виде полной миски сметаны.
— Сюрприз! Сегодня новая кассета, которая стоит, между прочим, кучу денег!
У Левы замерло сердце. Новая кассета! Сегодня явно неплохой день. Он посмотрел на пустую площадку в самом центре зала, потом перевел взгляд наверх, на вогнутую чашу голографа, впаянную в потолок, выложенный шестиугольными зеркальными плитками. Тут же сладко заныло внутри, а голове стало жарко от прилившей крови, и было отчего — через каких-то полчаса оптический фокус голографа спроецирует объемное изображение танцевальной пары, в обиходе именуемое «динго», а по-научному названное «динамическое голографирование», и Лева тут же забудет обо всем, всецело наслаждаясь самым прекрасным зрелищем, какое он только видел в жизни…
…Пространство волновалось, «дергалось». Адаптеры, как могли, гасили всевозможные искривления, разбегающиеся от иглы-разведчика, как волны от брошенного в пруд камня; давление на чужую метрику неумолимо возрастало. Мозг даже просчитал вероятные последствия, и они оказались совсем неутешительными. В любом случае все заканчивалось глобальной сверткой пространства и времени, а в итоге — глобальным коллапсом, причем в галактическом масштабе. Мозг рассчитал, через сколько это произойдет: через час с небольшим по местному времени. Только-только раскрыться эмоосу. Если, конечно, позволят обстоятельства и найдется достойный объект. Предпосылки пока имелись. Но не более.
У эмооса были весьма сложные задачи. Как только мозг разведчика определит подходящее место и достойный внимания объект, эмоос тут же начнет обратный отсчет времени и всецело задействует свою доминантную, женскую эмоорганику и составляющую. Вот тогда-то и начнется основная миссия. По крайней мере, эмоос очень на это надеялся. А иначе — все напрасно! И Ши-дар, родная планета эмооса, неминуемо погибнет…
Лева все же наскреб на легкий коктейль и, потягивая кисловатый напиток, совсем извелся от нетерпения. Скорее бы! Сегодня, как сказал Марк, где-то через полчасика, он покажет Итена с Вионой. Лева о них слышал, но еще ни разу не видел и поэтому справедливо полагал, что ждет его нечто совсем уж фантастическое.
А в клубе тем временем бурлила своя жизнь, и до переживаний Левы тут никому не было ровным счетом никакого дела. Лавируя между столиками, сновали вездесущие официанты, разнося выпивку и закуску на круглых щитах подносов. Люди разговаривали, смеялись, курили, пили, словом, отдыхали и расслаблялись, как могли и умели. А Лева наблюдал за всем этим и предавался невеселым размышлениям.
Еще со времен Древнего Рима народ вывел для себя нехитрую жизненную философию — хлеба и зрелищ! Самое интересное: практически без изменений эта немудреная жизненная позиция сохранилась и до эпохи межзвездных перелетов, когда думаешь, как набить свое брюхо чем повкусней, а потом хорошенько поразвлечься, это брюхо поглаживая. Правда, со временем зрелища и поразнообразней стали, и подоступней, это не бои гладиаторов и коррида, но ведь экспрессии и накала в том же шоу-денс ничуть не меньше. Если не больше! Может, в этом-то все и дело, а?
А вообще, массовая популярность — штука абсолютно непредсказуемая: сегодня одно, завтра — другое. Но в данном случае можно только порадоваться вкусу обывателя и его предрасположенности именно к такому действу, ибо оно того стоило!
Лева допил из стакана и отставил его в сторону. Ну когда же, наконец, закончится это беспрерывное мельтешение и суета вокруг и начнется то, ради чего, собственно, он и пришел сюда, ради чего экономил на всем и ради чего ловил на себе косые, насмешливые взгляды того же официанта, к примеру, который, проходя мимо, умудрился одним вскользь брошенным прищуром выразить полное неудовольствие непрезентабельным видом клиента, мгновенно срисовав Леву от макушки до старых штиблет на ногах. Лева привычно стерпел, такие мелочи его давно не трогали. Он снова посмотрел в центр зала, где топтались сейчас три-четыре танцующие парочки из числа посетителей клуба; женщины полуобнимали партнеров и все, как одна, улыбались дежурными, неискренними улыбками. Кажется, чувствовали они себя не совсем в своей тарелке — в зале преобладали мужчины, и дамы частенько ловили на себе оценивающие, откровенные взгляды. Но все было в пределах дозволенного. Как Марк ухитрился поддерживать в своем заведении почти образцовый порядок — оставалось лишь догадываться. Что ж, боцман он и на «гражданке» боцман, это уже в крови, навсегда.
Толстяк тем временем расправился с горшочком и теперь налегал на десерт, ловко орудуя ложкой, запихивая в пасть то ли пудинг, то ли запеканку. Вообще-то толстяком его назвать можно было с натяжкой, скорее грузным, с оплывшей фигурой мужчиной, который просто любил вкусно поесть и которому заказать из ресторана внизу пару фирменных блюд вполне по карману. А то, что он при этом так неряшливо их поглощает, закатывая глаза и причмокивая от удовольствия, так то никого не касалось. Одно было непонятно Леве: зачем набивать свой желудок именно тут? Или, действительно, после «хлеба» ему так хотелось зрелищ, что он решил, не мудрствуя лукаво, совместить приятное с полезным прямо здесь, не сходя с места? Воистину, непостижима порой человеческая логика и его природа, поэтому человек, наверное, и является вершиной эволюции. Другой вопрос, что это за эволюция, если у нее такая вот вершина?..
В центре все так же топтались. Лева скривился: разве это танцы? Так, потуги какие-то, пародия, суррогат.
А он любил танцы, ему безумно нравилось, позабыв обо всем, следить за уверенными, преисполненными чарующей грацией и внутренней силой движениями танцоров. Он не знал значения слова «хореография», но догадывался, что такие утонченные, изумительные по красоте и восхитительные по исполнению танцевальные па и элементы не сотворишь просто так, на пустом месте, из ничего, без изнурительных тренировок и бесконечных повторов одного и того же бессчетное количество раз. Он мог только догадываться, какой титанический труд скрывался под непринужденной легкостью и изяществом танцующих мужчины и женщины, когда эта легкость и изящество скользили буквально в каждом отточенном движении, завораживая и оцепеняя, и в результате Лева мысленно оказывался рядом с ними, погружаясь в танец, как в волшебный, чудесный сон, растворяясь в нем без остатка, повторяя про себя каждое выверенное движение, при этом искренне восторгаясь и буквально пребывая в экстазе от вдохновенной игры тел, а после окончания программы и сам был мокрым от пота и внутренне выжатым не хуже лимона, — ведь он искренне сопереживал, мысленно находился рядом, соучаствовал, и почти всегда, когда душевный подъем достигал своего наивысшего накала, кульминации, апогея, высшей точки, а растворение в танце становилось практически абсолютным, он мог с пугающей его самого легкостью, от которой так сладко замирало сердце, полностью, всецело отождествить себя с танцующей сейчас парой, с закрытыми глазами в точности повторить и воспроизвести все их движения от начала и до самого конца. При этом с бешено колотящимся сердцем.
Только вот наяву не дано ему было ничего подобного: у Левы напрочь отсутствовали как музыкальный слух, так и чувство ритма. И хотя он давно понял, что с ним что-то не так, что в организме у него какой-то разлад, но в голове постоянно звучала музыка, а тело — непослушное, скованное, будто чужое, незримо переносясь туда, в центр зала, в ослепительный круг света, где скользила и преломлялась в танце великолепная пара, — это тело непостижимым образом обретало вдруг и удивительную легкость, и гибкость, и свободу, и раскрепощенность. В такие моменты душа его пела и, ликуя, уносилась куда-то далеко-далеко. На самый край вселенной. И тогда он забывал обо всем на свете: не было старьевщика Левы, неудачника и никчемного человека, а было слияние с прекрасным, восхождение к самым вершинам искусства, полностью затмевающего этот убогий и ненадежный мир.
Но вот в реальности Лева даже близко боялся подойти к центру зала, вот почему бар-клуб Марка стал для него своеобразной отдушиной, а в какой-то степени и смыслом жизни: забившись в самый дальний уголок, он в мыслях делал то, что не в состоянии был совершить наяву. Только, к сожалению, случалось это не так уж часто. По банальной и для него лично весьма уважительной причине — у него просто не всегда имелись деньги.
Но теперь он был здесь, и теперь, весь в предвкушении, с нетерпением дожидался того момента, когда Марк объявит начало танцпрограммы, активирует голограф, и разговоры, шум, звяканье посуды постепенно сойдут на нет, и начнется наконец вечернее шоу-денс, единственное и неповторимое в своем роде. Бывший боцман, которому медведь тоже на ухо наступил, как и Лева, обожал бально-спортивные танцы, считая их по праву высшим достижением того, что человек может сотворить со своей пластикой и грацией, каких высот и вершин при этом достичь, оставаясь всего лишь в хрупкой и слабой человеческой оболочке.
Публика, надо отдать ей должное, во многом разделяла его мнение, и так же восторгалась, и так же завороженно смотрела, и так же зачарованно следила за каждым выверенным движением, но хватало ее, в основном, на первую часть. Марк как владелец всего заведения прекрасно отдавал себе отчет, что занимать танцпрограммой весь вечер — все же непозволительная роскошь, популярность бальных танцев еще не та, одной духовной пищей сыт не будешь, надо думать и о бизнесе тоже. Поэтому обычных зрителей, которые лишь приходили посмотреть кассету, но ничего при этом не заказывали, он не жаловал. Даже таких, как Лева, завсегдатаев. Но душа отчего-то требовала иного. Как и у Левы.
В нижних слоях атмосферы над большим городом капсула без особых усилий остановила свое безудержное падение, чтобы при помощи многочисленных датчиков — инвесторов и сенсоров слежения осторожно войти в специфическое эмоциональное поле планеты. А для эмооса внутри, который уже практически раскрылся для его восприятия и настроился на выполнение своей миссии, это поле к тому же было единственно возможным для существования, как воздух, которым дышали существа, населяющие эту планету. Именно люди, даже не подозревая об этом, обладали тем, что так необходимо было эмоосу.
…Да, сегодня было что-то совсем невероятное, сногсшибательное, зажигающее и воспламеняющее с первого взгляда, с первого мгновения. «Искрометное», откуда-то со дна памяти всплыло красивое и певучее слово. Именно такими они и были, эти танцы с кассеты — разлетающиеся искры от трепещущих языков пламени, где самим огнем являлась музыка…
Пара выступала около часа, и весь этот час Лева просидел у стойки ни жив ни мертв, боясь пошевелиться, до мурашек по коже, не дыша и не до конца понимая, где он находится и что за силуэты и расплывчатые фигуры в полумраке вокруг, да его это мало и трогало. Он не сводил напряженного горящего взгляда с танцплощадки в центре клуба, где солировали Итен с Вионой — не мужчина и женщина, а нечто большее, спаянное в единое неделимое целое, имя которому — вдохновение; творили чудеса пластики и невообразимое для простых смертных движение, завораживающее своей отточенностью и потрясающей грацией, композицией, огранкой и скрупулезной шлифовкой сверкающего бесценного бриллианта под названием «танец-жизнь»…
И когда Марк выключил голограф и убрал кассету, Лева некоторое время просто сидел, оглушенный и потрясенный до глубины души только что увиденным. Итен с Вионой, эти мастера, профессионалы, кудесники танца, в проекции голографа предстали как живые — красивые, яркие, разящие движением, как рапирой, и раскрепощенные той внутренней свободой и силой, обладающие той бьющей через край внутренней энергией, которые достигаются и даются только благодаря изнуряющему, изматывающему, нечеловеческому труду где-то там, за кулисами.
В эмоциональном поле было множество примесей. На него в первую очередь накладывалось информационное, эмоосу сейчас ненужное. Энергетическое поле приятно пощипывало и щекотало внешние рецепторы. Было что-то еще, исходящее от инфраструктуры и образующее общий загруженный, беспрерывно пульсирующий и неразборчивый фон, исследовать который не было ни времени, ни смысла, ни особой необходимости.
А вот эмоциональное поле (и это вселяло надежду) весьма насыщено и устойчиво; но все же недостаточно мощное, и для успешного выполнения миссии в таком виде никак не годится. Датчики-инвекторы регистрировали и впитывали, в основном, незначительные всплески, реже — волны. Иногда вырастали даже целые пики, складывающиеся из повышенной эмоциональной возбудимости и чувственного настроя (радости, горечи, веселья, грусти, любви, ненависти), но они тут же, не набрав достаточной силы и интенсивности, опадали.
В целом эмоциональный фон был хаотичен, неустойчив и нестабилен и, как следствие, недостаточен и не востребован. Пребывал он сам в себе, и сам себя подпитывал, не неся совершенно никакой общеполезной нагрузки. На Ши-даре, родине эмооса, такое явление и стало предпосылкой общей катастрофы. Оставалось одно: искать глубже, а не сканировать поверхностный слой, ибо время неумолимо уходило.
Мир этот все же не располагал достаточными ресурсами, они были, но — сиюминутными, скоротечными. Эмоциональное поле хоть и присутствовало, но существа, благодаря которым оно и создавалось, совершенно не умели им манипулировать и насыщать пространство, варьировать его в различных диапазонах и частотах. Для эмооса такое положение вещей было странным, необычным, ведь на его родине эмоциями жили как в переносном, так и в прямом смысле. А здесь каждый индивидуум создавал только свой эмоциональный фон, нисколько не заботясь о социуме в целом.
Стараясь не думать о возможной неудаче, он осторожно раскрыл тонкий и самый чувствительный из эмовекторов, и пошел вглубь, бережно сканируя и впитывая внутреннюю составляющую поля, и сразу прочувствовал что-то неординарное, выделяющееся из общего эмоционального «шума», но пока едва различимого в этой общей массе всевозможных эмооттенков и невнятных эмограмм. Встрепенувшись, эмоос чуть-чуть раскрыл и задействовал остальные эмовекторы и тут же направил капсулу в ту сторону, где намечался не всплеск, и даже не пик, а настоящий взрыв той частоты и интенсивности, которая и была так необходима эмоосу. И он, боясь верить, стал спешно подготавливать свою доминантную, женскую эоорганику.
Едва закончилась программа, Лева тут же ушел, но не помнил, попрощался ли с Марком, не помнил о времени и вообще смутно представлял, где он находится и что делает. Он передвигался как сомнамбула, шел домой механически, как лунатик. С ним творилось что-то невообразимое, в душе была настоящая эмоциональная буря, ибо перед глазами и внутри него все жило и не собиралось умирать только что увиденное волшебство и магия танца, колдовство движений и очарование пластики, мистицизм гибкости и изящества. Но где-то еще глубже, под поверхностью этого неземного, трепещущего видения, пульсировало внутренней, саднящей болью и другое — острая жалость к самому себе и горькое понимание того, что вот так он не сможет никогда в жизни, и осознание этого так же теребило и рвало душу.
Высыпающие на небе звезды равнодушно поглядывали на спотыкающуюся фигуру. Они тоже кое-что понимали, только с высоты Вечности, несоизмеримой в своем одиночестве.
Лева тыльной стороной ладони утер повлажневшие глаза, не различавшие сейчас ни дороги, ни окрестностей, ибо видели они совсем иное.
Особенно впечатлило и поразило его танго, это невозможное и ослепительное танго. На других кассетах другие исполнители тоже творили чудеса, тоже заставляли и душу, и сердце рваться из груди, но только Виона и Итен довели это танго до полного совершенства, до той грани, той логической точки, после которых остается одна лишь пустота… Если бы боги то ли по своей прихоти, то ли по недоразумению вселились на время в людей и захотели бы вдруг потанцевать, то непременно выбрали бы это танго в исполнении Итена и Вионы.
Лева понимал и не понимал, что творилось сейчас у него в душе. Буря чувств, среди которых восторг занимал едва ли не последнее место, сотрясало его, как десятибалльный шторм утлое, ветхое суденышко. Но если Лева и желал тихой гавани, то только не сейчас: душа пела и рвалась к звездному небу, в голове ясно, отчетливо звучала взрывная музыка танго, а перед глазами, подчиняясь этой музыке и в то же время совершенно свободные от ее цепей и оков, ее обволакивающей власти, Итен и Виона творили из слабой человеческой плоти то самое божественное начало.
И, двигаясь по улице и не замечая ее, он был сейчас с ними, там, в круге переливающегося света под чашей голографа, фактически вместо них, постигая это божественное начало и одновременно изменяя все внутри самого себя, даже не подозревая, эмоциональный взрыв какой силы и эмоциональный импульс какой мощи рвется сейчас на свободу, словно ослепительный луч прожектора, конусом света устремившийся в темное нависшее небо.
Даже эмооса, который уже покинул капсулу, безошибочно вычислив Леву из миллионов существ по небывалой эмоциональной насыщенности, на миг ослепил этот эмоциональный «свет», но только для него он был словно живительная влага для иссохшейся и растрескавшейся почвы.
Захлебываясь от наслаждения, эмоос тут же начал впитывать в себя мощные эмоционально-чувственные потоки, что исходили от Левы. Впитывал, как пересохшее русло реки впитывает в себя без остатка долгожданную воду после обильного благодатного дождя. Под их воздействием полностью раскрылось и окончательно заняло свое доминирующее положение его женское начало, а потом, также благодаря эмоциональным импульсам и чувствам Левы, произошел последний качественный скачок, и эмоос целиком стал женской особью. Она тут же ускорила движение к источнику эмоционального взрыва, чтобы полностью вобрать в себя его энергию, впитать всю эмоциональную волну без остатка и на ее несущем гребне зачать в себе новое поколение, насыщенное иными, ранее невиданными эмоциями (человек сказал бы — свежей кровью), чтобы затем, родившись, поколение это могло бы со временем преобразить, обновить и заново перестроить распадающееся на части, погружающееся в себя, как в нирвану, угасающее, деградирующее Ши-дарское сообщество, живущее и питающееся за счет эмоций. Все, что мешало выполнению этой миссии и ради чего, собственно, эмоос прибыл из далекой чужой вселенной, было безжалостно отброшено вон.
Она полностью раскрыла свое лоно и с максимальной нагрузкой задействовала все свои эмовекторы, в доли секунды превратившись как бы в гигантскую ненасытную «губку», впитывающую в себя чужие, неведомые эмоции, даже не задумываясь при этом, какой вред она может нанести чужеродному организму, явно не готовому к такому контакту. Просто в мире эмооса такой уровень эмоциональных «калорий» считался когда-то обычной суточной нормой. Но это было когда-то.
Продолжая впитывать и вбирать в себя всю эмоциональную составляющую Левы, она даже успела испытать экстаз, настолько необычный, что все в ней сжалось, затрепетало от ни на что не похожих ощущений, граничащих с запредельным, идущим от обнаженных и полностью раскрытых для восприятия стремительно вбираемых эмовекторами чувственных потоков Левы. На короткое время она ощутила себя сопричастной чему-то непостижимо-прекрасному в своем величии и бесконечно далекому по сути, но очень близкому по духу и восприятию. Она даже успела на короткий миг полностью проявиться здесь, в этом мире, дающем ее Ши-дару новую жизнь и веру в будущее, проявиться, чтобы потом завершить последнюю стадию — вобрать в себя ауру и остаточную биоэнергетику этого источника, но…
Но все внезапно оборвалось. Всем раскрытым, жаждущим естеством своим она вдруг приняла такой колоссальный эмоциональный импульс боли, ужаса и шока, что вся ее эмоорганика мгновенно съежилась, как лист в огне, а следующего импульса, в котором не было ничего, кроме всеобъемлющего отчаянья пополам с тоской, не высказанной словами, с лихвой хватило, чтобы эмоорганика окончательно распалась и словно выгорела, как выгорает свеча до самого основания.
Человек сказал бы — не выдержало сердце.
У Левы оно перестало биться чуть раньше.
Когда он свернул на свою Волнер-стрит, внутри у него все еще звучала музыка, а перед глазами было божественное, бесподобное танго, доводящее отточенностью движений и изумительной грацией до умопомрачения. Душа пела от охватывающих его чувств, а тело казалось легким, невесомым. И тут вдруг неожиданно что-то случилось с его головой и сердцем. Он покачнулся, инстинктивно схватился за грудь и едва не упал. Ему вдруг показалось, что голова стала пустой-пустой, а из груди вверх бьет неудержимый фонтан болезненного света, и вместе с ним его кружит, вертит и одновременно засасывает в такую чудовищно-разверстую воронку, что внутри него мгновенно все опустошилось, будто невидимый, но ощутимый смерч высосал все его чувства и мысли без остатка, до самого донышка. И еще ему показалось, что одна из звезд сорвалась с небес и совершенно необъяснимым образом превратилась неожиданно в вытканную из ажурного серебра огромную красивую бабочку с большими полупрозрачными крыльями, сквозь которое проглядывало ночное небо с мерцающим рисунком созвездий, при этом бабочка смотрела на него почему-то вполне человеческим, слегка раскосыми глазами, в которых, казалось, отразилась сама ночь со звезднооким небом. Лева успел удивиться, откуда у этой бабочки могут быть вполне человеческие глаза, пока на последнем вдохе ему не открылось, что это и не бабочка вовсе, а неземной красоты женщина, неуловимо похожая на ту, в танго, но не естеством своим, не внешне, а той неуловимой грацией, пластикой, отточенностью и самим движением изумительного тела. Все это открылось и почувствовалось им с последней отлетевшей искрой озарения, что дарует сознание перед вечной тьмой и забвением.
Он рухнул замертво и уже не видел, как истончились, истаяли и растворились прямо над ним в ткани мирозданья огромные невесомые крылья, через которые проступила ярко-звездная перемигивающаяся россыпь…
Через минуту слабый ветерок принес легкую серебристую пыль (все, что осталось от эмооса), в темноте похожую на пепел, и прикрыл этой серой пыльцой, словно невесомым саваном, тело Левы, лишь не коснувшись лица с широко раскрытыми глазами, невидяще устремленными туда, в просеребренное небо. Он пролежал так до утра, безжизненно раскинув руки, словно собираясь это величественное небо обнять…
…Ранним утром, по иронии судьбы, первым на него наткнулся водитель большегрузного мусоровоза. Он, как и положено, вызвал полицию, потом давал показания, в основном сведшиеся к пожиманию плечами, был отпущен и благополучно отбыл на свалку Западного округа вываливать слежавшийся мусор. Через полчаса водитель уже позабыл о неприятном инциденте, занятый работой, и вспомнил о мертвом парне, лишь возвращаясь обратно. Здесь уже никого не было, да и как иначе? Какой-то бродяга, таких за ночь десяток находят. Проезжая мимо, водитель покосился на т о место, припомнил странно умиротворенное лицо мертвого, поежился, сплюнул, пожелал себе хорошего, без каких-либо ЧП, дня и выкинул все из головы.
В морге тело приняли и оформили как бродягу, не обратив внимания на серебристый налет, что покрывал одежду трупа: ночка выдалась та еще, везли одного за другим, то обколотых, то упившихся, каждого разглядывать — ни времени, ни персонала. Сделали вскрытие, констатировали кровоизлияние в мозг, хмыкнули, недоуменно пожали плечами и забыли об этом случае через пару дней.
Леву, как одинокого и неимущего, кремировали на третьи сутки за счет муниципалитета того же Западного округа согласно закону, оставив урну с прахом в соответствующим заведении, где она должна будет храниться ровно месяц, после чего прах развеют.
А Ши-дарский игла-разведчик из далекой чужой вселенной, так и не дождавшись эмооса обратно и исчерпав практически весь лимит времени, истаял с орбиты как материальное тело, а капсула в атмосфере планеты самоликвидировалась, не оставив после себя даже молекулы.
В своей вселенной, на орбите неотвратимо гибнущего Ши-дара, не имея подпитки извне, игла-разведчик снова протаял как физическое тело с уже постоянными константами своего пространства и стал ждать следующего эмооса, послав кодированный сигнал о неудачно закончившейся миссии. Он был автоматом с заданной программой, без чувств, эмоций, без души и сердца и мог ждать, сколько угодно. Но так и не дождался…
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg

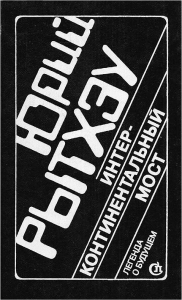
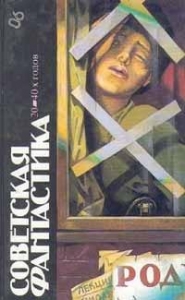
Комментарии к книге «Цена эмоций», Александр Викторович Голиков
Всего 0 комментариев