Зиновий Юрьев Чужое тело, или Паззл президента
Самое опасное в невозможном — это то, что оно может стать возможным.
П. Г. Илларионов, бизнесменЧасть первая ДО
1
Сколько Петр Григорьевич помнил себя, с самых юных лет у него была какая-то нелепая привычка непроизвольно выглядывать и угадывать в трещинках на стенах, в разного рода узорах, в натюрмортах и даже в облаках некое подобие человеческих лиц. Причем преимущественно мужских. Были они раздражающе непостоянны — то вот они, ясно видны, то посмотришь еще раз, а их и след простыл. И были эти рожицы, как правило, карикатурно уродливы и, казалось, всегда чему-то ехидно ухмылялись. Где-то он читал, что нечто похожее используют в своих тестах психологи и психиатры, когда предлагают своим пациентам посмотреть на так называемые кляксы Роршаха — кляксы, в которых испытуемого просили найти случайные ассоциации.
Капли ли, кляксы — он к ним никакого отношения не имел, потому что видел в узорах и трещинах только лица. Вот и сейчас, лежа на высокой больничной кровати в своей отдельной палате, он ясно видел отвратного вида старичка, прятавшегося в аляповатом акварельном натюрморте на стенке напротив, который изображал букет сирени. Носатый одноглазый уродец поглядывал на него из-за сиреневых веток с нескрываемым злорадством. Впрочем, понять, чему он так радовался, было нетрудно. Похоже было, что вскоре и сам Петр Григорьевич, до недавнего времени преуспевавший бизнесмен шестидесяти двух лет от роду, превратится в узор. И то хорошо, если хоть в узор. Скорее всего, и узора не останется, ничего не останется.
Три дня тому назад его лечащий врач Гурген Ашотович, с которым он был знаком уже лет пять, если не больше, зашел в его палату с каким-то напряженным лицом, медленно, словно выигрывал время, плотно прикрыл за собой дверь и осторожно вставил свой обширный зад в креслице, которое стояло подле кровати. На мгновенье сердце Петра Григорьевича остановилось и тут же ухнуло куда-то вниз, оставив во всем теле холодную сосущую пустоту. Он всегда мгновенно чувствовал опасность. Впрочем, вряд ли бы он иначе пережил две попытки пристрелить его и один раз взорвать его «мерседес». Тогда, едва только сев в машину, он неожиданно сам для себя вдруг попросил своего водителя-охранника Гену остановить машину и вернулся в офис. Он не успел даже дойти до лифта, когда услышал грохот взрыва. Хороший был парень Гена, жаль его. Оставил вдову и двухлетнего сына. На похоронах Петр Григорьевич обнял ее за зябко дрожавшие плечи и сказал, что распорядился выдать ей сразу тридцать тысяч долларов — тогда еще, в середине девяностых, считали все только в долларах — и ежемесячно платить по триста до совершеннолетия сына. Она с тех пор и замуж вышла, честно сообщила ему об этом, но он назначенную им пенсию продолжал платить. Ведь не только ей шли деньги. Парень рос. Похож на отца как две капли воды, отметил Петр Григорьевич, когда однажды он пришел с матерью поблагодарить его.
Много раз после того случая Петр Григорьевич пытался вспомнить, почему вдруг решил вернуться в офис. И так и не смог. Потому что никаких разумных оснований для этого не было. Ни о делах никаких недоделанных не вспомнил, и ничего в своем кабинете не забыл. Просто взял да вернулся. Словно какая-то высшая сила решила поберечь его тогда и вовремя выдернула из машины. Не пришло, мол, еще его время. Тогда…
— Петр Григорьевич, — со вздохом сказал доктор, — иногда я думаю, что в советские времена, когда больным правды об их состоянии не говорили, щадили их, мы, пожалуй, поступали не так уж глупо. Надежда умирает последней и всякое такое… С другой стороны, человеку ведь в наши времена нужно дать время привести свои дела в порядок, всякие там завещания и всё такое… А какие дела были у советского человека? Всё, так сказать, помещалось в личном деле. В одном, строго говоря, листке по учету кадров. Не был, не состоял, не имею. Чего завещать-то? Своего-то ничего не было. Всё казенное, от убогой комнатки в коммуналке или крошечной кооперативной квартирки до двух плохо переваренных котлет московских по семь копеек штука в желудке. Ну, что еще своего могло быть у советского человека за душой? Ну, разве что две пары семейных, как тогда говорили, трусов бэу? Холодильник «Саратов» неработающий? Телевизор «КВН» с помутневшей линзой перед крошечным экранчиком? Подписка на журнал «Крокодил»? И что бы человек ни оставил в наследство, всё равно пришлют кого-нибудь от месткома на кладбище, чтобы сказать с равнодушно-постным лицом, что покойный-покойная всегда выполнял-выполняла и перевыполнял-перевыполняла норму и упорно работал-работала над повышением своего профессионального и политического уровня. И все на кладбище постараются при этом не улыбнуться, потому что работа над поднятием своего политического уровня покойнику-покойнице явно не помогла, да и думали провожающие не столько о покойном-покойнице, сколько о поминках…
— Гурген Ашотович, — прокаркал Петр Григорьевич каким-то не своим голосом, — не юлите. Он самый?
— К сожалению, да. Рак поджелудочной железы в четвертой степени, то есть…
— Четвертая степень — это что, как высшая мера наказания?
— В общем, да. Только просить о помиловании некого… Поверьте… Мы вас и здесь исследовали, и в Онкоцентр возили, и консилиум собирали. Так что…
— Рад бы не верить, да не получается… И сколько вы мне даете времени? Надеюсь, счет идет еще не на часы…
— Вы мужественный человек, Петр Григорьевич. Даже шутите… Понимаете, человеческий организм — это все-таки не машина, на калькуляторе такие вещи не просчитаешь, но, боюсь, дорогой друг, месяцев семь-восемь, не больше… Во всяком случае меньше года, увы…
— А операция? — спросил Петр Григорьевич только для того, чтобы что-то спросить, потому что ответ он прекрасно представлял. Иначе бы вел себя доктор совсем по-другому. — Может, в Германии или в Израиле…
— Стадия абсолютно неоперабельная, рак этот довольно агрессивный и уже дал метастазы. Рак поджелудочной бывает очень коварен. Ничего не болит, никаких симптомов, а потом сразу удар под дых. Нокаут. Мы делали вам полную диспансеризацию почти год назад, точнее, тринадцать месяцев, и ничего подозрительного тогда не обнаружили… А насчет заграницы, так и там, поверьте, чудес не творят. Наши хирурги, во всяком случае, лучшие, режут нисколько не хуже. Это в целом наша бедная медицина, бедная во всех смыслах этого слова, отстает, а в хороших центрах у нас и специалисты не хуже, и оборудование теперь на уровне. Да и врачи и сестры у нас как-то потеплее, почеловечнее, что ли… Я когда стажировался в Германии, в Мюнстере, это сразу почувствовал… И дело, поверьте, не в каком-нибудь моем яром патриотизме. Откуда у армянина может быть русский квасной патриотизм? Так что, увы. Рад бы вас обнадежить, да при всей симпатии к вам, простите, не могу.
— А какие-нибудь лекарства…
— Радикального, увы, ничего до сих пор нет. Одни надежды. Кажется, со дня на день дожмут рак в конце концов. Еще немножко, как поется в известной песне, еще чуть-чуть. Это ведь сколько лучших медицинских голов в лучших лабораториях мира круглосуточно на него охотятся, обложили со всех сторон. Кажется, вот-вот и можно будет в Стокгольм за Нобелем собираться, пора уж и тезисы своей Нобелевской речи набрасывать. Ан нет, опять этот зловредный рак выворачивается в последнюю минуту. Так что в реальности пока что только статьи в научных журналах, не более того. Кроме, разумеется, тех случаев, когда застают болезнь вовремя, и еще можно оперировать… Конечно, все новейшие препараты мы попробуем, но не стану вас обнадеживать. В лучшем случае они лишь несколько отсрочат… И то, повторяю, в лучшем случае. Несколько дней мы вас здесь еще подержим, чтобы подобрать нужные дозы, а потом в больнице вам делать нечего. Дома-то у вас есть кому за вами ухаживать?
— Будем считать, есть. Жена…
— Отлично. И не думайте, что вам обязательно нужно лежать. Пока есть силы, можете заниматься своими делами. Даже старайтесь ими заниматься. Даже через силу. По крайней мере, будете меньше концентрироваться на своем состоянии. Завтра я к вам обязательно зайду. — Доктор испытующе посмотрел на Петра Григорьевича, словно мысленно что-то прикидывал. — Тем более что я хотел с вами поговорить об одной вещи…
— О вечности?
— Самое смешное, что…
— Что «что»? А сейчас нельзя?
— Мне еще нужно переговорить с одним моим старым знакомцем… И пожалуйста, не спрашивайте меня больше ни о чем. По крайней мере, сегодня. Мужайтесь, Петр Григорьевич. До завтра.
Доктор с трудом вытащил свой грузный зад из креслица. За те безумные деньги, что они здесь дерут с пациентов, привычно подумал Петр Григорьевич, могли бы сделать палаты хоть на несколько метров больше. Впрочем, какая ему разница… Гроб-то всё равно потеснее будет, между прочим… И ничего, уляжется, как миленький, и жаловаться на неудобства не станет. И некому и незачем. Да и не заметит их.
Конечно, когда боли у него где-то в животе начали становиться всё более настойчиво-требовательны, когда заметил он, что худеет, а нос на лице, которое каждый день смотрело на него из зеркала во время бритья, как-то, казалось ему, утончился и удлинился, мысль о раке не раз приходила ему в голову. А кто в его возрасте может исключить такое? И все-таки верить в подозрения не хотелось, ну никак не хотелось. Ни за что не хотелось. Просто гнал он от себя эти мысли. Почему рак? Почему именно у него? У других — это понятно, вещь вполне банальная, а в определенном возрасте даже более чем вероятная, но у него-то? То ведь у других, а он-то не другие… В конце концов, тело наше — это обширнейшее меню всяческих болячек — только выбирай. А можешь и не выбирать, какая-нибудь хворь и без заказа явится. Доставят на дом, как пиццу какую-нибудь. Да еще бесплатно. Чем плох, скажем, гастрит или, например, дуоденит, который был у него лет сорок назад. Или старая добрая язва? Живи, болей, лечись, радуйся. А оказалось, что выбор за него уже кем-то сделан, судьбой ли, Господом Богом, каким-нибудь дефектным геном — какая разница… И можно больше не хвататься за соломинку. Хватайся не хватайся — всё равно не выдержит. И ни один спасательный круг не выдержит. Нет их просто-напросто. Ни за какие деньги не купишь, хоть миллионы предлагай. И к простенькой этой, но чудовищно страшной мысли нужно потихоньку привыкать. В конце концов, не он первый и не он последний. Не было еще смертного, которому бы не удалось отбросить копыта в положенный час. От нищего попрошайки до самого могущественного императора или тирана. Не зря в английском языке один из синонимов глагола «умереть» — «присоединиться к большинству». Чуть раньше присоединишься к нему, чуть позже — какая, в сущности, разница. Всё равно окажешься в большинстве. Гм, поймал себя на этом слове Петр Григорьевич, он сегодня то и дело думает о разнице, а разницы-то и впрямь нет.
Рак Петру Григорьевичу почему-то всегда казался чем-то вроде цепкого бурьяна, который буйно рос вдоль забора в деревне у бабушки Шуры, куда его мальчонкой отправляли из Москвы на лето, а метастазы — в виде цепких корней, которые никак не давали возможности выдернуть эти длинные жесткие стебли, когда он сбивал их палкой, представляя, что перед ним вражеское войско. А конец… Иногда Петр Григорьевич представлял себе жизнь, не только свою, а жизнь вообще, в виде вращающейся сцены в жизненном театре. Вот откуда-то из кулис небытия она медленно выносит на свет рампы орущего и писающего младенца, вот младенец уже пошел, вот влюбился в первый раз, вот стал взрослым, родил уже своих детей, вот начал стареть и хворать, а сцена по-прежнему неумолимо совершает свой мерный круг, неся его к другому черному провалу, чтобы освободить место для новых поколений, которые уже нетерпеливо ждут своей очереди за кулисами. И ничего на свете не может остановить эту жестокую машинерию жизни и смерти.
Но что все-таки имел в виду доктор, на что намекал? О какой такой вещи хотел с ним поговорить? О чем говорить, когда сам назначил мне срок последнего отбытия… Наверное, посоветует какого-нибудь мага в десятом поколении с дипломом доктора космических исцелений. А что, они теперь вполне могут и с медиками в тандеме работать. Или сосватает святую какую-нибудь старушку. Какую-нибудь Матрону Красносельскую, Ульяну Тверскую или Ефросинью Большую Дорогомиловскую с бумажными иконками и расфасованными в старую газету травами. Впрочем, в его случае все они действительно могли соревноваться с медиками на равных. И те, и другие всё равно ничем помочь ему не смогут.
Назавтра Гурген Ашотович сказал, что никак не может найти своего таинственного знакомца, но обязательно разыщет его.
За окном было уже совсем темно — все-таки август. Его последний август. Впрочем, надо привыкать — у него теперь почти всё последнее. Последняя осень. Хорошо, если будет и последняя зима… Люди ждут первого снега. Ему бы хоть последний снежок в своей жизни успеть увидеть. Петр Григорьевич посмотрел на часы. Без пяти десять. Сейчас придет сестричка Даша сделать ему двойной укол на ночь, обезболивающий и успокоительный. Совсем молоденькая, лет, надо думать, не больше девятнадцати-двадцати, белобрысенькая, с забавными локончиками волос, всегда выбивавшимися из-под белой накрахмаленной шапочки, в меру пухленькая, какая-то пушистенькая, как котенок, улыбчивая. А ну, Петр Григорьевич, готовьте попу, — пропоет она, протрет спиртом место для укола, выпустит вверх тонкой серебряной струйкой каплю содержимого шприца, чтобы удалить из него воздух перед уколом. Не больно? — проворкует она, а он ответит под ее смех: ну что вы, Дашенька, даже приятно.
Он как-то читал, что какие-то дикари, теперь, наверное, их в традициях нынешней политкорректности нужно называть не дикарями, а аборигенами, считают (или это они раньше считали, еще до того, как появились у них в джунглях Макдональдсы, кто их знает) сон малой смертью. В его случае, невесело ухмыльнулся он, похоже, сон — это уже не малая смерть, а малая жизнь. Во сне не будет ни Гургена Ашотовича, зачитывающего ему приговор без права апелляции, ни мыслей о конце и бездонном черном провале, который ожидал его там. А будет какая-то веселая жизнь, в которой Таня, его первая жена, настоящая жена, настоящий друг и товарищ, не чета нынешней, жива и весела и называет его «дорогой мой купец», сын еще думает о будущем и не помышляет о наркотиках и уж подавно не собирается в монастырь, где он уже живет почти четыре года, напрочь вычеркнув отца из своей жизни. И одна картинка прежней жизни будет сменяться другой, как в детском калейдоскопе, без всякого смысла и логики, а потом в прежнюю жизнь как-то незаметно вплывут картины настоящей. Но не больничной с мыслями о скором конце, а планы развития и процветания его ИТ-компании. Его компании… Смешно.
Петр Григорьевич вдруг вспомнил свой последний разговор с сыном. «Понимаешь, отец, — печально, даже скорбно сказал он, и сердце Петра Григорьевича словно обручем сжало, — я тяжко болен. И дело не только в наркотиках. Дело и в другом. Кроме дури подсел я и на более страшный крючок. Я вдруг задумался, для чего мы живем, в чем смысл жизни. А это самый опасный вопрос, опасный и коварный, особенно в молодости, потому что ответа на него нет, и в помине никогда не было. И быть вообще не может. Потому что на каждый ответ находился всё тот же вопрос: а зачем? Не случайно на нем русская интеллигенция еще в девятнадцатом веке свихнулась. Искали его люди-человеки, искали испокон веков, ничего не скажешь. И империи строили, и веру огнем и мечом экспортировали, и революции устраивали, и еретиков и просто иноверцев уничтожали и в розницу и оптом миллионами — всё это, как говорил один почтенный библейский персонаж, суета сует и томленье духа. Пусть часто кровавая, но всё равно суета. Понимаешь, вопрос этот — что рыболовный крючок с зазубринами. Раз заглотнул — обратно не выплюнешь. Может, и лень и пьянство наше российское тоже начало берут от обреченных этих поисков и томления духа. Раз нет высшего смысла, куда стремиться, чего ради горбатиться и из шкуры выскакивать. Выпил — тут тебе сразу на душе потеплело. Как говорит один мой знакомый, „словно Иисус босиком по душе пробежал“, веселей стало, и смысла никакого вроде и не нужно. Вот и выходит, что какой-нибудь европейский обыватель, презренный бюргер, на которого мы в своей нелепой гордыне смотрим с презрением и который поисками смысла жизни себя не слишком обременяет, приспособлен к ней куда как лучше, чем мы со своим Достоевским. Пока русская интеллигенция гонялась за миражом, который казался ей истиной, они там на Западе потихоньку-полегоньку свою жизнь обустраивали. С провалами, конечно, с отступлениями, но обустраивали. А нас всё больше к революциям тянуло, страну кровью умывали и всё ждали, пока нам кто-нибудь путь к высшему смыслу укажет. Маркс-Энгельс вкупе с Ильичом особенно не преуспели. Как-то все эти прибавочные стоимости и диктатура пролетариата не грели всерьез наши души. Зато когда Усатый наш Пророк загнал нас в конце концов в ГУЛАГ истину искать, там тебе ее быстро вколачивали.
Вот и бегу от них, от абсурдных этих поисков. Попробую в одном монастыре спрятаться. Понравилось мне там — люди умные, всё понимают. Особенно сам игумен. В миру был, между прочим, кандидатом биологических наук. Связываться с тобой не буду, ты уж, отец, не обижайся. Ты ни в чем не виноват и себя не казни. Просто так лучше. Если что со мной случится, тебе сообщат. А пока ничего не сообщают — значит, я жив, а может, даже и здоров более или менее. Захочешь — переведешь разок-другой пожертвования на монастырь, но только умеренные. Ну, сто-двести тысяч рублей, ни в коем случае не более. И обязательно анонимно. Будь здоров, отец. Может, была бы мама жива, я бы не смог так расстаться с вами. Хотя кто знает, пути Господни неисповедимы. А ты выдержишь. Ты сильный. И главное — не задумывайся…»
Как, однако, близость смерти фильтрует мысли и чувства, подумал Петр Григорьевич. Ни тебе волнений, что будет с кредитами, ни споров с замом Юрием Степановичем, который всё зудит, что не следует отказываться от отличного предложения их партнера Фэна продать ему весь бизнес, ни попыток уговорить вместе с Вундеркиндом двух его товарищей по Физтеху пойти работать к ним. И уж, конечно, меньше всего гложут его переживания о Гале, его дражайшей половине. Четыре года они уже вместе, точнее, под одной крышей, и не стала она ему ближе ни на сантиметр. Поразительная женщина. И красива, тут уж не поспоришь, и элегантна, и выглядит куда моложе своих тридцати пяти, и далеко не дура. Умеет себя вести. Буквально ни одного фо па. Никогда не догадаешься, что эта неприступная секретарша в строгом черном костюме и белой кофточке, которую он встретил в одном офисе пять лет назад, с трудом кончила десять классов в своем Рыбинске, прежде чем отправиться на завоевание столицы. Талант, одно слово — талант. Рыбинская Сара Бернар. И обточила она этот талант на славу — сколько, поди, у нее здесь было точильщиков… И в скольких кроватях перебывала… В дела его не то что не лезет, даже не интересуется, чем он занимается. Не зря в офисе все считают, докладывал ему Костя, что он жену в черном теле держит, взаперти, можно сказать. А уж по части ведения хозяйства — тут бы ни один суд присяжных в мире не придрался. Еда всегда приготовлена, рубашки выглажены и даже галстук к костюму подобран, костюмы вычищены. Всё в доме на месте. Претензий никаких не предъявляет, голос не повышает, никогда ни в чем не попрекнула. Денег не просит. И в сексе была и в меру изобретательна и страстна и — главное — нисколько не требовательна. Что даже и до болезни было удобно. И потому, что секс-гигантом, если честно, он никогда не был, и годы, как ни крути, не самые юные и не самые пылкие, и после тяжелого дня приходишь домой весь вымочаленный и изжеванный. Не то, конечно, чтобы стонать, как в известном анекдоте, ах какой большой, но всем своим видом выражала Галя полное удовлетворение редковатыми и скуповатыми ласками мужа. И хотя в самой глубине души Петр Григорьевич и догадывался порой, что живет он с некоей великой актрисой, которая лишь играет роль любящей и образцовой жены, и играет, надо было признать, великолепно, но думать так было как-то зябко и неуютно, и он привычно соскальзывал в накатанную колею нормальной семейной жизни. Лишь несколько раз, когда Галя не видела, что он смотрит на нее, угадывал он в ее взгляде какое-то пугающее равнодушие, а если быть честным с собой — и даже презрение к нему. Вот и сегодня днем, когда она навещала его, она не видела, что ее лицо отражается в зеркале на стене. А он это отражение видел, и вдруг пахнуло на него из ее серых прекрасных глаз чем-то новым. И было это новое, решил Петр Григорьевич, ничто иное, как нетерпение. Нетерпение от чего — он еще не знал. То ли ей просто надоело сидеть в палате и поправлять подушки под головой мужа, то ли нетерпение было куда более зловещим — нетерпение ожидания его ухода. Из жизни. А что, остаться с огромной хорошо обставленной пятикомнатной квартирой в центре Москвы — миллионов под пять зеленых даже при кризисе наверняка потянет — плохо, что ли? Не зря, оказывается, старалась. Тут уж не до слез, радостный смех сдержать бы как-нибудь… В этот момент Петр Григорьевич окончательно решил, что кроме квартиры ничего Гале не оставит. Хватит с нее и того. Может быть — он еще раз привычно проверил себя, он всегда старался всё досконально проверить, прежде чем принять окончательное решение — может быть, он просто завидует этой всегда загорелой красивой женщине? Благо, фитнес-центр с его солярием в двух шагах от их дома, ее молодости или просто тому, что поджелудочная железа у нее, в отличие от его, надо думать, хоть на выставку? Да нет. Достаточно было представить себе на ее месте Таню. Вот уж кто бы наревелся, вот уж кого силком нельзя было бы вытолкнуть из палаты, вот уж кто бы никак не захотел смириться с приговором. Петенька, купчик мой любимый… Почему-то очень забавным казалось ей слово «купец», особенно в применении к мужу. А сама ушла первой. Сбил ее на переходе джип с пьяным водителем за рулем, будь прокляты все джипы на свете и все пьяные водители.
Дверь в палату приоткрылась, и вошла Даша. Прежде чем Петр Григорьевич увидел ее лицо, он уже почувствовал, что что-то было не так. Вместо обычного «как мы себя сегодня чувствуем, Петр Григорьевич?» и какой-то круглой, как всё ее личико, совсем детской улыбки, Даша молча поставила на стол подносик с лекарствами и подняла шприц. Глаза у нее были заплаканы, и слезы размазали тушь, от чего глаза стали странными и вовсе не Дашиными, а щеки шли красными пятнами.
— Что-нибудь случилось, Дашенька? — спросил Петр Григорьевич и почему-то отметил мысленно, что сестра так и не выпустила контрольную струйку из шприца. На мгновенье она замерла, затем крикнула «Нет, не могу!», бросила шприц, повернулась и выскочила из палаты. Бедная девочка, подумал Петр Григорьевич, и истерика какая-то совсем детская. Что-нибудь, наверное, сказала ей дежурная сестра, сейчас вернется. Когда выпишется, обязательно надо купить и прислать ей какие-нибудь хорошие духи. Как называются те, которыми пользуется Галя? Ага, кажется, «Хлоэ». От этой мысли на душе у него немножко потеплело, и он ясно представил себе, с каким любопытством начнет она раскрывать красивую коробку. Он потянулся и посмотрел на часы. Уже половина одиннадцатого. Привычная боль в животе куда-то спряталась, испугалась, наверное, шприца. Петр Григорьевич слегка улыбнулся в первый, похоже, раз за последние дни и на мгновенье ему даже почудилось, что весь этот кошмар последних дней к нему вовсе не относится. Он еще раз посмотрел на часы. Прошло уже десять минут, а Даши всё не было. Он потянулся к красной кнопке вызова дежурной сестры и нажал ее. Почти тут же в палату вплыла торжественно-накрахмаленная дежурная сестра Серафима Ивановна.
— Что-нибудь случилось, Петр Григорьевич?
— Да вот Дашу жду.
— Как ждете? Она же пошла к вам минут десять назад.
— Да, она зашла, но уколы не сделала, чем-то, похоже, была взволнована, крикнула «Нет, не могу!» и тут же выскочила из палаты.
— Что не могу? — подозрительно посмотрела на него Серафима Ивановна.
— Если 6 я знал…
— И уколы она не сделала?
— Нет.
— Странно… Вот подносик, ампул с лекарствами на нем нет, шприц на полу валяется. Пойду ее поищу, где-нибудь плачет, наверное, дурочка…
— Мне тоже показалось, что лицо у нее было заплаканное…
Серафима Ивановна быстро юркнула из палаты, сразу потеряв и свою торжественность и накрахмаленность. Где-то в голове у Петра Григорьевича тоненько, но настойчиво тренькнул звоночек тревоги. Что-то было не так. Он опустил ноги, сразу попав в домашние шлепанцы, накинул на пижаму тяжелый махровый больничный халат и вышел в коридор. Мимо мелкой трусцой пробежал дежурный врач. Вид у него был заспанный. Может, оторвали его от какого-нибудь порносайта на компьютере. Навстречу ему двигалась уже совсем растрепанная Серафима Ивановна.
— Данилыч говорит, — услышал Петр Григорьевич ее голос, — что Даша выскочила прямо под дождь. Она держала в руках мобильный. Данилыч сказал ей, что дождь прямо как из ведра, но она и головы не повернула и зонтик не взяла.
— Какой зонтик? — оторопело спросил дежурный врач.
— Так Данилыч предложил ей. Я ж говорю…
Они скрылись в комнате дежурной сестры, и Петр Григорьевич медленно вернулся к себе в палату. Сигнал тревоги в его голове продолжал звенеть. Всё это всё меньше и меньше нравилось ему: и то, что чего-то Даша так испугалась, и то, что вылетела из здания под дождь как оглашенная, и то, что ампул с его баралгином и реланиумом на подносике не было, а был лишь пустой шприц.
Он взял мобильный и набрал Костин номер.
— Добрый вечер, шеф, — послышался его голос, — как у вас дела?
— Дела, Костя, если честно, не очень хороши, но я звоню не для того, чтобы поплакаться тебе в жилетку, которой у тебя, наверное, вообще нет и никогда не было. А потому что, похоже, кто-то не хотел, чтобы мне сделали нужный укол. Скорее, кто-то, наверное, хотел, чтобы мне сделали совсем не тот укол, что надо.
— Еду, шеф, буду минут через пятнадцать, пробок сейчас быть не должно. Никого к себе не пускайте.
— Может, подождем до утра, а, Костя?
— Простите, шеф, я уже спускаюсь к машине.
То ли от делового Костиного голоса, то ли от молодой его энергии, то ли от привязанности его к нему, в которой он уже давно не сомневался, то ли от любимого Костиного обращения «шеф» стало на душе у Петра Григорьевича чуть спокойнее.
В девяносто восьмом Костя вдруг позвонил ему и спросил, помнит ли он его еще. Конечно, ответил Петр Григорьевич, ты ж, можно сказать, вырос вместе с моим Сашкой, друзья с первого класса.
— Мне очень нужна ваша помощь. Хотя…
— Никаких «хотя». По телефону можешь сказать?
— Лучше бы лично, Петр Григорьевич.
— Хорошо. Не буду тебе долго рассказывать, как найти мой офис, лучше подъезжай минут через тридцать-сорок на Пушкинскую площадь к памятнику Пушкину — мое любимое место. У меня как раз окно неожиданно образовалось. Годится?
— Вполне.
Через полчаса Петр Григорьевич уже сидел на скамеечке, глядел на поэта и читал строчки, высеченные на постаменте, которые так и остались в памяти со школы: «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал…»
Костю он даже сразу и не узнал — не видел его лет, наверное, пятнадцать, если не двадцать. Вырос, раздался в плечах, заматерел. Петр Григорьевич обнял его, похлопал легонько по спине, усадил рядом с собой.
— Рассказывай.
— Я, Петр Григорьевич, после школы попал в армию и прямиком в Чечню. Господь миловал, остался цел и невредим. И даже орденом наградили. А когда демобилизовался, поступил в Школу милиции. Кончил с отличием, и направили меня в один ОВД, не буду пока загружать вас деталями. Встретили неплохо. Атмосфера — что-то среднее между автосалоном и сберкассой.
— Не понимаю.
— Ну, автосалон — это потому что кто на собственном БМВ подкатывает, кто на «мицубиси паджеро», кто на «мерседесе» изволит прибыть, только что «феррари» ни одного не было. А сберкасса — все менты только тем и заняты, что деньги слюнявят, вчерашний приход подсчитывают. Ну, я не тороплюсь, приглядываюсь. Потом призвал меня к себе один старлей, такой, знаете, кисло-сладкий.
— То есть?
— Ну, глаза вроде улыбчивые, морщинки вокруг них, как у доброго дедушки, но в самих глазах такая, знаете, желтизна волчья. — Ты, — говорит, — лейтенант, ведешь себя нескромно.
— Это как же? — удивился я. Скромнее уж, кажется, невозможно было.
— Выделяешься ты, лейтенант, выставляешься, а это есть нехорошо.
— Как? Чем? — Я даже разволновался — так это всё звучало неожиданно.
— Чем? Ты как на работу приезжаешь?
— На метро.
— То-то и оно. Понял? Все на машинах, а он, видите, белый и пушистый, на метро. Бедный, но честный. Такой, пусть все видят, бессребреник. Тем и выделяешься. Вернее даже, выставляешься. Я бы промолчал, конечно. У нас ведь не детский сад. Но ты парень вроде симпатичный, Чечню прошел. Поэтому-то хочется тебе помочь. Я тебе скромненькую «Ауди 80» присмотрел. Красненькая такая, аккуратненькая. Надо только шильдик перебить, импортный сделаем, в Польше этим целый заводик, говорят, занимается, а документы новые тебе один мой знакомый умелец в момент сварганит. И отдадут, как ты понимаешь, за треть цены. А поторговаться — и за четверть.
— Так она ж, выходит…
— Выходит, лейтенант, выходит. Ты только не думай, что немцы все такие уж законопослушные ангелы. Договариваются с нашими, что день-два о пропаже своей машины в полицию не сообщат, пока наши умельцы уже не окажутся на ней в Польше, а то и в Белоруссии. И получают за машину и от наших, данке шон, и от страховщиков, тоже данке шон. Сечешь, лейтенант?
— А у меня и на левую «ауди» денег нет.
— Одолжим, лейтенантик. Ты их на крыше быстро возвратишь.
— Как это, на крыше?
— Ты, конечно, не Карлсон, на крыше жить не будешь, но крышевать, братец кролик, надо учиться. Рынок у нас тут большой, и в основном крытый. Вот и урвешь себе кусочек крыши. Может, ты не слышал, так я тебе, несмышленышу, напомню, что у нас теперь рыночная экономика. Вот и дуй на рынок, присматривайся. Чужого не трогай, а свое найди. Приглядишься, приходи, расскажешь всё. Прикинем, что тебе больше подходит. Понял, начинающий рыночник?
— Я даже не знаю…
— А тут и знать нечего. — И посмотрел на меня старлей так, что я, Петр Григорьевич, сразу всё понял. Стань на его пути, прирежет, не задумываясь, куда там бородатому боевику-ваххабиту. Тот хоть во имя Аллаха старается, а этот лишь свою корысть охраняет. Нож по рукоятку всадит и не извинится.
Ну, какое-то время я еще протянул, хотя так красненькую «ауди» и не взял, а потом еще один эпизодик случился, который уж всё окончательно на свои места расставил. Пришла как-то в отделение девица одна, за монашку как ни старайся уж никак не примешь. Было ей на вид лет шестнадцать, если не пятнадцать, но впечатление такое, что своим древним ремеслом она с пеленок занимается.
Старлей, мой наставник, подмигнул мне и говорит: «Беги, лейтенант, занимай очередь и спускай штаны. Специалистка по минету экстра класса. Хоть на всегородской конкурс ее посылай».
— Не понимаю, Иван Харитонович, — говорю я ему.
— А чего тут понимать? Думаешь, мы ее силком затащили? Силком может и откусить с перепугу. Нет. Мы и ее крышуем, ей, понимаешь, тоже ведь защита нужна. И от конкуренток и от иных клиентов. А расплачивается она с нами уже натурой. Выгодно всем. Ты не думай, она чистенькая… Рыночные отношения, братец кролик. Чего смотришь, беги…
А сам так и буравит меня взглядом. И морщинки добрые вокруг глаз куда-то разом исчезли, будто косметическую подтяжку только что сделал.
— Не могу, Иван Харитонович, как-то это всё не по-людски… Как-то…
— Можешь не объяснять, я тебя, лейтенант, давно раскусил. Не по-людски… Хорошо, лейтенант, ты сформулировал. Презираешь ты нас, ментуру продажную. Только я тебе вот что скажу: так просто ты от нас не уйдешь. Опасный ты человек. Очень даже опасный. Хуже любого бандюги.
— Да что вы говорите, товарищ старший лейтенант, как я…
— Хуже, лейтенант, хуже. С бандитом всегда договориться можно, потому что и он человек, и он свою выгоду понимает, и ему на зону лишний раз неохота. А ты человек, извиняюсь, нравственный, принципиальный. А такие как раз и есть самые опасные. Начнешь в поисках правды стучать налево и направо, жалобы строчить, а нам это, как ты понимаешь, са-а-всем ни к чему.
— Что вы хотите сказать, Иван Харитонович? — спросил я, а сам чувствую, что погружаюсь в трясину — дернешься — еще глубже увязнешь. И противно, и страшно. И, похоже, не зря я испугался. Потому что я уже понял, что мне дельце одно начинают шить — вымогательство. Азербайджанец один на рынке — он ко мне хорошо относился — по секрету намекнул. Садиться мне лет на пять, чтобы эта волчья стая в отделении спокойно и без свидетелей наживалась и малолеток хором трахала, почему-то не хотелось. А придется, похоже. Вы уж простите, Петр Григорьевич, я вас просто от отчаяния побеспокоил, голову себе сломал, всё думал, как выскочить из этой ситуации. Хоть в бега пускайся…
— Прощать тебя, Костя, не за что. Разве за то, что ты не ворюга и не взяточник. Хотя уже это одно делает тебя для многих человеком опасным. И старлея твоего со товарищи понять тоже можно. Его прежняя советская система к нынешним соблазнам не подготовила. Ни морально, ни материально. А насчет волчьих глаз твоего наставника, так советский лозунг «человек человеку брат» не совсем точен был. Правильнее было бы «человек человеку волк». Только в отличие от настоящих хищников мы поковарнее были, умели прикидываться овечками, в нужных местах аплодировали, хором кричали «ура!» и бежали домой побыстрее донос на ближнего своего состряпать. На нас призывы ЦК КПСС к праздникам объединяться, улучшать и поднимать действовали мало. Даже если бы вдруг напечатали в «Правде» призыв возлюбить ближнего своего как самого себя или даже больше, мы бы всё равно прекрасно знали, что ближнего остерегаться надо и пальца ему в рот не класть. Научила нас жизнь понимать, что к чему не через лозунги и призывы. Скорее, наоборот. Но не будем углубляться в философию. — Петр Григорьевич внимательно посмотрел на Костю. — Думаю, что смогу тебе помочь. Есть у меня знакомый человечек в Московском УВД. Кое-чем он мне обязан. Сегодня-завтра поговорю с ним. Ты мне другое скажи. Ну, уйдешь ты благополучно из системы МВД, что делать будешь?
— Даже и не думал пока.
— Хочешь в мою фирму?
— Да о чем вы говорите, хоть сторожем, хоть посыльным, хоть уборщиком. Каждый день молиться за вас стану.
— Будешь главой нашей службы безопасности. Она пока не слишком велика — один человек. Вот ты им и будешь. Машину водишь?
— Конечно.
— Что-нибудь в электронике понимаешь?
— Боюсь, что…
— Научим. Английский знаешь?
— В пределах дис ис э тейбл.
— С первого дня начнешь заниматься с преподавателем. Зубрить будешь по три часа ежедневно. Как зверь. Мне приходится часто ездить по делам за границу, будешь ездить со мной. Оплачивать уроки будет фирма.
— Петр Григорьевич, да я…
— Давай сразу договоримся — в пояс не кланяться, шапку не ломать. Я этого как-то не люблю. Ты женат?
— Нет, но…
— Но, как я догадываюсь, означает, что есть у тебя кто-то на примете. Контролировать твою личную жизнь я не собираюсь, но советую не торопиться. Да, кстати, раз ты служба безопасности, может, тебе какое-нибудь там самбо освоить?
— Я еще до армии занимался дзюдо. Черных там поясов каких-нибудь у меня нет, но кое-что умею.
— Хорошо. Живешь где?
— С родителями. Отец недавно демобилизовался из армии, вернее, его демобилизовали, знаете как теперь с этим… Подполковник запаса. Устроился на стройку нормировщиком. А мать уже на пенсии, чувствует себя неважно.
— Всё, Костя, оставь мне свои позывные, я тебе на днях позвоню.
Разговор с милицейским генерал-майором оказался даже проще, чем Петр Григорьевич представлял себе. Они сидели в тихом прохладном ресторанчике на самой окраине Москвы — его знакомый по вполне понятным причинам предпочитал места, где было меньше шансов увидеть его за одним столиком с бизнесменом, — и генерал, выслушав просьбу Петра Григорьевича, добродушно усмехнулся.
— Ну, это дело вполне поправимое. Отпустить — не назначить. Никого расталкивать, чтобы освободить местечко, не надо. Что именно там ваш подопечный натворил — не спрашиваю.
— Да ровным счетом ничего. Просто после армии и после Школы милиции не вписался, так сказать, в стиль органов.
— Ну, не будем обобщать, Петр Григорьевич. Знаете, какая наша главная беда?
— Чего-чего, а бед у нас хватает.
— Это верно. Я о том, что не умеем мы здраво на вещи смотреть. То всё розовыми красками рисовали и сусальным золотом крыли, то одним черным всё подряд мажем. Сплошной Черный квадрат, так, кажется, эта картина называется. Так что оставим это нашим записным либералам. Они, болезные, без черных очков и видеть ничего не могут. А у нас ведь в милиции всякие работают. И кто под бандитские пули попадает, и на Северный Кавказ в командировки едут не для того, чтобы на горных лыжах кататься. Сколько ребят там уже полегло, а никто от этих командировок не отказывается. А что, у вас в бизнесе только те, что с белыми крылышками за спиной? Хлоп-хлоп. С кем бы поделиться только и думают. Может, вам нужно, берите. А? То-то же… Давайте данные вашего парня и считайте вопрос решенным.
— Спасибо, товарищ генерал. Может, по капле коньяка?
— Ну, разве что по капле… А то я сегодня совещание провожу, и запах коньяка от меня очень украсил бы те доносы, которые на меня пишут, можно сказать, почти ежедневно и без устали.
Удивительно, думал Петр Григорьевич, лежа в своей больничной палате, как четко он помнит начало работы у него Кости. И спасибо тому бандитскому старлею, из-за которого оказался у него такой… Сотрудник? Помощник? Побольше, пожалуй. Почти сын. И чувство такта у него необыкновенное. Ни разу не позволил себе заговорить о Саше, чувствовал, наверное, что это рана незаживающая, что это — табу. И дистанцию сохранял, чтобы не показалось, будто покушается он на место сына.
В дверь постучали, и вошел Костя.
— Добрый вечер, шеф, — улыбнулся он. — Похоже, вы не ошиблись. Там внизу два опера вахтера допрашивают.
— А что случилось?
— Эту сестру вашу нашли недалеко от больницы. Сбита машиной. Насмерть.
— А как…
— Ну, во-первых, она в больничном комбинезоне или как там он у них называется. А во-вторых, у нее на груди табличка с именем. Так что догадаться, где она работает, труда особого не составляло.
— Господи, — вздохнул Петр Григорьевич, — полчаса назад она сюда входила…
2
— Садись в кресло, Костя. И слушай. Как ты думаешь, что у меня?
— В каком смысле?
— Ну, по какому поводу я здесь валяюсь.
— Не знаю, Петр Григорьевич, мало ли что у человека может быть…
— Мало, Костя, не покажется: рак у меня. И рак тяжелый. И нет, чтобы явиться при полном параде, чтобы дворецкий объявил торжественно: его онкологическое высочество господин рак изволили прибыть. Прошмыгнул тихонечко сексотом и начал свое черное дело. А теперь уже и приговор вынесен, и обжалованию он не подлежит. Доктор говорит, осталось мне дней пребывания на этом свете не так много, меньше года.
Костя как-то сразу осел, широченные его плечи опустились, и глаза начали набухать слезами.
— Да как же так, Петр Григорьевич, — взмолился он, — как же так… Да вы… Да не может того быть… Как же так…
— Да вот так. И ничего тут не поделаешь, старухе с косой взятку не подсунешь, и протекцию никто тебе не составит. Это американцы когда-то называли кольт великим уравнителем. Мол, с его помощью любой ближнего своего всегда укокошить может. Настоящий-то уравнитель — это не кольт. Это, Костя, смерть. Уж с ней-то никому еще договориться не удавалось. Менталитет, наверное, у нее другой, не то что у наших чиновничков… Теперь слушай меня внимательно. О себе и своем будущем не думай. Даже если компания ликвидируется или попадет в чужие руки, которым ты нужен не будешь, ты не пропадешь. Я включу тебя в завещание, и ты после моей смерти получишь изрядную сумму, которой, думаю, хватит на то, чтобы открыть свое собственное охранное агентство или что ты там еще надумаешь.
— Да что такое говорите, шеф, я этого и слушать не хочу.
— Хочешь не хочешь, а придется. Мне тоже много чего не хотелось бы. Мне ты эти все оставшиеся месяцы будешь нужнее, чем когда-либо. За компанию нашу уже давно подковерная борьба идет. Ты ведь Фэна знаешь?
— Фэн Юйсяна? Конечно. Он ведь ваш крупный акционер.
— Именно. У него не только восемнадцать процентов акций, он довольно богатый человек. Сам ли он нашим бизнесом интересуется или за ним какие-то другие интересы, китайские или какие-нибудь еще, в данном случае не так важно. Он еще год назад сделал мне предложение купить всю нашу компанию «РуссИТ» за восемнадцать миллионов долларов…
— Ничего себе…
— Не так, кстати, Костя, много. Я продавать компанию не собираюсь. А остальные акционеры, главным образом, мой зам Юрий Степанович, во сне видят, как бы куш ухватить побольше и слинять куда-нибудь побыстрее и подальше.
Китайцы, Костя, в отличие от нас народ издревле торговый и считать умеют. Впрочем, и работать тоже. Китайцы, как ты знаешь, давно уже с головой нырнули в информационные технологии. Какой компьютер или ноутбук ни возьмешь, будь то «Хьюлетт-Паккард» или «Делл», или «Компак», да любой, практически, глянь, а на нем табличка «мейд ин Чайна». В основном всё это продукция лицензионная, включая и периферию, всякие там мыши, клавиатуры и тому подобное. А хочется и свои разработки иметь. Я внятно говорю?
— Всё понятно, Петр Григорьевич.
— Ты нашего Вундеркинда встречал?
— Яшу Свирского? Конечно.
— Не знаю, гений ли он или просто талант — не знаю. Знаю лишь, что он еще до окончания своего Физтеха сделал замечательную разработку. Причем хватило у него ума, а может, глупости, кто знает, в Силиконовую долину в США, куда его сманивали, обещая царские заработки, не податься, а остаться на нашей благословенной родине. Конкретнее, у меня. И я это ценю.
Я, Костя, по образованию заурядный инженер-технолог, по воспитанию — заурядный совок. Просто вырвала меня, как, впрочем, и миллионы других, из привычной колеи Горбачевская перестройка, а затем и крах всего, на чем держалась наша благословенная держава. И пошел я, не совсем уже молодой инженер, с тремя такими же гавриками как я на так называемую укрепку. То есть ходили мы по домам и укрепляли хлипкие двери совковых домов, потому что их и здоровый ребенок мог запросто плечом вышибить, не говоря уже о профессионалах. Обшивали торцы дверей металлическими полосками, вставляли в них металлические штыри, которые входили в пазы. Мы их в дверных проемах высверливали. Что-то зарабатывали, хотя смотрели на нас, как смотрят у нас на сантехников, сам представляешь. А то и просто гнали. Мне потом эти тяжеленные дрели-перфораторы, которыми мы пользовались, долго по ночам снились. Только заснешь, а она в голове бу-бу-бу. И в носу явственно так запах пыли и известки.
Потом подался в челноки. Россия — Турция — Россия. Три часа лета до Стамбула, аэропорт Ататюрка, виза на месте. Двадцать пять километров — и ты в царстве невиданного страной победившего, прошу прощения, проигравшего социализма, барахла. И набивай свои матерчатые тюки сколько влезет и сколько у тебя оборотного капитала имеется. За несколько месяцев челночного нашествия русский в Стамбуле уже понимали лучше, чем английский. Местные лалельцы — это жители торгового района Лалели — к нам обращались «коллеги». А к оптовикам покрупнее — «брат». Торговое, так сказать, братство. А поближе к морю, где яростно выторговывали каждую копейку рядовые, так сказать, челноки, — и вовсе «братан».
Набитые ширпотребовским барахлом тюки мы перебинтовывали скотчем, чтоб не лопнули, и нагружались ими так, что и крепкий осел не выдержал бы. Но человек — не осел — всё вынесет. Я в те годы, Костя, ослам очень даже завидовал. Ослу что? Что навьючили на него, то и понес. Тяжело, конечно, зато голова ослиная свободна. Гонят тебя из пункта А в пункт Б. Только ноги переставляй. И все дела. Думай хоть об ослиной доле, хоть о еде, хоть об ослице какой-нибудь. А ты мало того, что семью потами обольешься, пока допрешь свой груз из Стамбула в Москву, так еще и продать его надо с выгодой, когда народишко наш только на то заточен, чтобы отнять твой товар или хотя бы на худой конец надуть клиента. Наши далекие предки еще грамоте не знали, зато твердо усвоили: не обманешь — не продашь. Так что многие тогда вспоминали стародавнюю присказку: торговали — веселились, подсчитали — прослезились.
Ты, Костя, прости за длинные рассказы. Никогда я никому этого не рассказывал, а перед уходом надо ж кому-нибудь жизнь свою рассказать… Не то чтоб была она так уж интересна или нравоучительна, по тем временам вполне заурядная жизнь, и отличало ее от других только одно. Что была она моя, а не чужая.
А дальше мне крупно повезло. То есть вначале это было не везение, а постоянный страх. Страх, что вот сейчас дверь моей двушки откроется, и пара бородачей скомандуют: давай деньги. Тане своей ни слова не говорил, этого еще ей не хватало…
Вкратце, дело было так: у меня в одном банке, теперь он уже давно, как писали когда-то, «почил в бозе», был хороший знакомец. Из нашей школы. И предложил он мне как-то хоть и небольшой, но легонький и быстрый заработок. Приедут двое джигитов с Кавказа, сказал он, которым нужно перевести за границу целую кипу деньжищ — десять миллионов баксов. Откуда они, как, что — не знаю. Мне, говорит, этим интересоваться было ни к чему. Меньше знаешь — лучше спишь. Хватало того, что брался он это дельце быстро провернуть за десять процентов суммы. Пока он всё подготовит, сказал мой знакомый, им надо будет где-то пожить, но не в гостинице, где их могли найти те, кто, надо думать, на эти десять миллионов баксов имел совсем другие виды.
В те времена, Костя, этот бизнес у нас вовсю процветал. Что-нибудь где-нибудь украсть, быстренько обналичить и куда-нибудь за границу в надежные оффшоры припрятать. Возьми, например, Кипр. Маленький бедный каменистый островок, да еще разорванный турецким вторжением пополам между греческой и турецкой общинами. Море и маслины, больше практически ничего. Зато с оффшорами. И в девяностых он словно на дрожжах вдруг расцвел: отели повсюду начали строить, виллы, банки, рестораны. Да что там строить. Этот островок вдруг стал инвестором номер один в российскую экономику, представляешь себе? А что удивляться — места для оффшорных богачей знакомые. Конечно, все эти сотни миллионов, а то и миллиарды долларов в кипрских оффшорах родом были из России. Но были они теперь уже не просто воровской добычей наших родных казнокрадов, жуликов и бандитов, а превратились в почтенные компании и фонды всяких там Никосов Папантониу или Саввасов Дмитриади, эдаких виртуальных порождений бухгалтерской фантазии. А уж эти инвестиции были священны. Тут уж не поинтересуешься, откуда такие бабки. Все честь по чести, пришли из-за границы…
Приехали, значит, ко мне вскоре два таких крутых молчаливых джигита, договорились заплатить за постой и за целость их багажа тысячу зеленых, оставили чемодан и куда-то ушли. Ночевать не пришли, на второй день тоже. И на третий не заявились. Через неделю я почувствовал, что что-то тут не так и позвонил в банк. А мне говорят таким постным голосом: Поливанов — это была фамилия моего банковского знакомого — у нас больше не работает. А где его можно найти, спрашиваю. Отвечают: боимся, что нигде вы его не найдете, убили его. И бросили трубку. Чувствую, лучше не спрашивать. Дело было по тем временам вполне заурядное. Как говорил покойный, меньше знаешь — лучше спишь. Хотя спал он теперь так, что и не разбудишь никогда. Через месяц я понял, что и джигиты мои, скорее всего, тоже уже давно кальян покуривают в райских кущах и на гурий любуются. О десяти миллионах баксов по рассеянности не забывают. Тогда ведь в начале девяностых человека убить было дешевле, чем костюм Армани купить в бутике в гостинице «Рэдиссон-Славянская».
Целый месяц мне снилось, как моих джигитов утюжком раскаленным по пузу гладят, чтобы они вспомнили, где деньги спрятали. И как приходят ко мне — уж кого кого, а лишнего свидетеля им никак не нужно было. Таня моя всё беспокоилась, что я во сне вскрикиваю. Тут не то что вскрикивать начнешь, волком серым завоешь от ужаса или в лучшем случае лунатиком станешь.
То ли промолчали горцы, то ли просто поторопились их прихлопнуть, но так никто ко мне и не пришел, хотя я каждый день с жизнью прощался. Через месяц решился. Дождался, пока Танюшка ушла на работу, и трясущимися руками открыл чемодан, дешевенький такой, потертый, обмотанный веревкой, фибра трехкопеечная — до этой минуты, веришь, к нему даже не прикасался. Просто закинул его на антресоли. А в нем два коврика для намаза, трусы, майки и два здоровенных кейса. В каждом по пять миллионов. Пять миллионов — это, Костя, пять сотен таких плотненьких американских кирпичиков, с которых смотрит на тебя то ли равнодушно, то ли даже слегка насмешливо мистер Франклин. Всем кишлаком, наверное, крышку коленями прижимали, чтобы закрыть кейс — так они набиты были.
Потом стал я бояться, что доллары поддельные — этот ведь промысел на Кавказе тоже очень уважают. Взял одного Франклина, то есть сотенную, нашел обменник на всякий случай подальше от дома и с бьющимся сердцем и на ватных ногах просунул ее в окошко. Сейчас, трясусь, мне ее обратно вместе с паспортом вышвырнут. А то и задержат. Обошлось…
Первое, что купил, — эту шубку Танюшке своей. Сказочной красоты коричневая каракульча. А уж сколько за нее заплатил — и сегодня вспомнить страшно, даже оторопь берет. Увидела она ее — и в смех и в слезы одновременно. Да ты не купец, Петюня, ты, видно, с кистенем на большой дороге орудуешь. Признавайся, скольких за шубку порешил? Для нее шутки, а я-то знал, что уж три жизни как минимум мой новый капитал стоил.
Через полгода купил я пять бензоколонок, но быстро понял, что попал не в свою весовую категорию. Этим делом народ посолиднее занимался. Это тебе не двери сверлить или турецкое барахло в тюках на себе переть. Пока думал, как мне ноги живым унести, два раза чуть-чуть меня не подстрелили. Один раз просто не попали — на ходу по машине стреляли, а хорошие киллеры тогда на вес золота были, не хватало их, а второй, когда около дома по незнакомой запаркованной машине с темными стеклами каким-то верхним чутьем почувствовал, догадался, что, похоже, поджидали меня в подъезде. Я через другой подъезд прокрался — всё ж таки вырос в этом домишке, каждый кирпич здесь в лицо знал, — чердаком прошел к своей лестнице, тихонько спустился, помню, не дышал даже от сосредоточенности, заметил стрелка и первый — чего уж теперь скрывать — со второго этажа его продырявил. Был у меня тогда такой увесистый немецкий «глок» с глушителем и лазерным прицелом — такая симпатичная оранжевая точечка в мишень упиралась — не промахнешься… Что, помню, меня потом уже больше всего поразило — это то, что действовал я быстро и хладнокровно. Хотя и проигрывал мысленно подобные ситуации не раз, всё равно, казалось, должен был я трястись от ужаса. Что ни говори, моя жизнь на кону стояла, и человека ведь убил. Ан нет. Должно быть, давно уже я вписался в систему, где убийство было сведено к обычной человеческой деятельности. Как, наверное, и было всегда в жестокой истории гомо сапиенс, которая и впрямь была жестокой в лихие девяностые годы.
А дальше всё было уже просто. Быстренько поднялся обратно на чердак, спрятал на всякий случай пистолет в тайничок, который у меня давно там был присмотрен, спустился через другой подъезд, вернулся к машине, которую на всякий случай оставлял в разных местах, только не у дома, потому что по машине человека найти куда проще, чем по физиономии, и поехал в ночной клуб, где бывал не раз. А уж оттуда позвонил Танюшке. Приезжай, говорю, в клуб, я дельце одно провернул сегодня удачное, надо обмыть. Наверное, что-то она почувствовала, потому что спрашивать ни о чем не стала и тут же примчалась в клуб. Вся встрепанная, только что, видно было, из халата вылезла. А глаза испуганные.
— Что случилось, Петенька?
— Ты, когда выходила, ничего не заметила?
— Да н-нет, вроде. А что я должна была заметить?
— Да ничего особенного. О трупик на лестнице не споткнулась случайно? Да не трясись ты так, не о моем же речь.
— Петенька… — говорит, а у самой губы трясутся, — Петенька…
— Не споткнулась — и слава богу. И скорой во дворе не было?
— Н-н-нет…
— И милиции?
— Не было.
— Тогда давай выпьем, любовь моя, за спокойствие наших границ. Помнишь, как пели когда-то? Мы рождены, чтоб сказку сделать былью… что-то там еще, а потом: и в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ. Ну а то, что за спокойствие иногда надо платить — это первый закон природы. Бесплатного сыра, Танюшка, как выяснила наука, не бывает.
— А труп…
— Видно, забрали его подельники. На всякий случай.
— А он, Петенька, он… он что…
— Да ничего, просто хотел, чтоб об мой труп споткнулись. Работа у него такая. Я бы в киллеры пошел, пусть меня научат.
А уж когда «мерседес» мой взорвали вместе с водителем — хороший был парень Гена — я из нефтяного бизнеса как ошпаренный выскочил. Продал свои колонки первому же покупателю. Почти, кстати, ничего и не потерял. Основал компанию, которая занималась импортом компьютеров. Тогда, в первой половине девяностых, компьютеры были на вес золота. Крали их из офисов и складов беспощадно. Вообще по тому, что в основном воруют, можно судить об эпохе куда точнее, чем по томам исторических исследований. Был бы я историком, диссертацию защитил на эту тему. И назвал бы красиво, что-нибудь вроде «К вопросу о краденом как показателе спроса и предложения эпохи». В двадцатых, говорят, больше всего воровали галоши, хотя тинэйджеры сегодня могут вообще и не знать, что это такое. В тридцатых — кальсоны с бельевых веревок, на которых они сушились, тащили. И они были ценностью. Ну и так далее. Сначала ввозили мы компьютеры целиком, потом — детали, из которых сами собирали их. В этом деле уже давно международная специализация сложилась. Жесткие диски, например, ввозили из Тайваня, в производстве процессоров царствовали США, периферию сразу захватили китайцы и так далее.
Сборка компьютеров, Костя, дело, между прочим, не такое уж трудное. Как детский конструктор, только чуть посложнее. А в последние несколько лет при своем заводике мы и лабораторию открыли.
А там вскоре порекомендовали мне одного парня, кончавшего тогда Физтех. Пришел такой тощенький рыжеватый мальчишка, волосенки в разные стороны торчат, и так скромненько сказал мне, что сконструировал флэшку нового образца, которая может полностью заменить винчестер. Я, если честно, понимал тогда в этом примерно столько же, сколько ты сейчас. Как-нибудь потом постараюсь тебе объяснять, о чем идет речь. Скажу лишь, что с этой штукой и размеры компьютера сокращаются, и энергопотребление. А быстродействие увеличивается. А что это может значить коммерчески — представить себе не так уж трудно. Колоссальные перспективы.
Не могу тебе точно сказать, чем меня наш Вундеркинд сразу купил.
— Хозяин, — говорит он мне, он меня так сразу прозвал, — меня в Калифорнию зовут, сулят золотые горы.
— И чего ж не едете? — эдак нарочито равнодушно спросил я. Поторговаться-то надо все-таки. Хотя бы для приличия.
— Да как-то сам в толк не возьму. Я, знаете, солнце плохо переношу, веснушки сразу вылезают.
По глазам вижу, смеется. И что мне особенно понравилось, ни слова о патриотизме, долге и тому подобных материях. Из опыта знаю, что эти словечки больше для камуфляжа годятся. Я когда еще в советские времена инженером работал, был у нас один в отделе такой патриот. Чуть что, сразу родину поминает. Да я за родину-мать и так далее. Только что ворот рубашки не рвал на себе. А потом выяснилось, что он на всех нас регулярно стучал. Хорошо хоть времена уже наступали полиберальнее, а то сидели бы всем отделом давным давно.
Я когда слышу все эти мифы о едином советском счастливом народе, в едином патриотическом порыве бросавшимся в очередь за колбасой в тех редких местах, где ее изредка видели, меня смех разбирает. Может, и сегодня наши прописные воздыхатели по советским временам потому и существуют, что мифы неистребимы. Они, я думаю, вообще для человека необходимы как воздух и еда. Поэтому, наверное, сегодня, когда советские мифы изрядно одряхлели и пообветшали и волнуют преимущественно сердца тех, кто жил в счастливые советские времена победившего социализма, их место заняли новые мифы, от мифов о пришельцах до мифов о снежном человеке. Не случайно, я думаю, один мудрец сказал давным-давно, что мифы — это то, что никогда не существовало, но всегда есть. Здорово ведь сказано, а?
А вообще, Костя, я сам-то иногда чувствую себя если и не мифом, то уж самой что ни на есть белой вороной. Потому что не думаю о стародавнем фундаменте нашей российской деловой этики — от трудов праведных не наживешь палат каменных. И что раньше появилось — это мудрое оправдание нашего извечного воровства и лени или и то, и другое, наоборот, вызвано убежденностью в преимуществах воровства над честным трудом, не разберешь. Ну а я, во-первых, уже кое-что имел, а во-вторых, мне всё казалось, что труды праведные все-таки поинтереснее палат каменных. Вот и живу теперь своей компанией «РуссИТ». А если точнее — доживаю.
И всё это длиннющее предисловие, Костя, не только оттого, что страшно мне одному оставаться в этой палате. Оно еще и к тому, чтобы ты понял, какие тут интересы задействованы. И чутье мое нашептывает, что смерть бедной этой сестрички Даши не так проста. Что я хочу от тебя? Может, поговоришь с вахтером? Тут его все зовут Данилычем. С этими операми. Случайно ли ее сбили или… Ну, и в компании присматривайся и приглядывайся. Знает ли кто-нибудь о моем диагнозе. Пока я жив, Костя, ложиться на спину и поднимать лапки как-то не хочется. Андерстэнд?
— Иес, сэр.
— Тогда иди. Думаю, что вряд ли сегодня мне грозит что-нибудь еще.
— Иес, сэр, — улыбнулся Костя. — Но все-таки я бы предпочел посидеть ночь рядом с этим Данилычем.
— Не выслуживайся, секьюрити, — улыбнулся Петр Григорьевич и тут же поймал себя на том, что улыбается впервые с момента вынесения ему приговора. — Придешь завтра.
— Понимаешь, сынок, — рассказывал через несколько минут вахтер Косте, — смотрю, она бежит, вся какая-то растрепанная, в руке мобильник. А на улице дождина как из ведра поливает. Я ей говорю, Даш, ты бы хоть зонтик взяла, держи, а она даже на меня не взглянула, только всхлипнула и выскочила на улицу.
— Всхлипнула? Плакала, что ли?
— Ну да, я и говорю. А прямо минут через двадцать два милиционера заявились и стали спрашивать, не наша ли это сотрудница. Проезжали, оказывается, мимо и заметили ее на дороге. Мертвая, говорят, уже была. Хорошая была девчушка… — Старик покачал головой и вытер глаза платком. — Я теперь вспоминаю, она уже несколько дней какая-то сама не своя была…
— А в чем вы это заметили?
— Ну, так прямо и не ответишь… Вообще-то она приветливая была, улыбалась, когда мимо проходила. И всегда спросит: Как дела, Данилыч, назначил бы хоть раз свидание. Смешливая была такая… — Старик снова приложил несвежий платок к глазам.
Утром Костя был уже в отделении милиции.
— Если не возражаете, товарищ лейтенант, — сказал он дежурному, — я бы хотел узнать о девушке, которую вчера обнаружили сбитой машиной около больницы.
— А вы кто? — хмуро спросил дежурный. — Родственник?
— Да нет. Ваш бывший коллега. Теперь вот в одной фирме безопасностью заведую. И мой шеф как раз лежит в этой больнице. Ему Даша, так зовут эту девушку, должна была укол на ночь сделать.
— А чего ушел из милиции? — слегка оживился дежурный. — Сам или поперли?
— Сам.
— И сколько же тебе в фирме платят?
— Сто тысяч.
— Честно?
— Ей-богу.
— Здорово… За такие деньги — это что ж, больше трех тысяч баксов…
— Точно.
— За такие деньги я бы сам… Нет ли там у вас еще местечка, а?
— Пока нет, но…
— Имей меня в виду, безопасность. Пройди в пятнадцатую комнату. Это на втором этаже вторая комната направо. Поговори со старшим лейтенантом Стычкиным. На него труп твой повесили.
Стычкин тоже долго интересовался, сколько Косте платят на фирме, потом вздохнул и покачал головой:
— Даже не знаю, что делать. Начали нас здорово поджимать. Вроде бы и хорошо это. Кусочничать и побираться противно, но когда это еще зарплату прибавят, да и сколько прибавят — тысячи на три? Пять? Жить-то как на наши деньги… Ну, что тебя интересует в этом ДТП?
— Понимаете, мой шеф думает, что это может быть и не ДТП. Может, это убийство, считает он. Она, эта девушка, должна была сделать ему укол — он лежит в больнице, — терпеливо бубнил Костя. — Он бизнесмен, и вполне может быть, что его враги решили подговорить сестру сделать не тот укол, что нужно было, но она в последнюю минуту испугалась и куда-то выскочила прямо под дождь.
— М-да, начало тридцать восьмой серии «Убийство под дождем»…
— Несколько вопросов, если вас не затруднит.
— Давай, секьюрити.
— Мобильный при ней нашли?
Старший лейтенант взял со стола листок и начал читать.
— Да нет, вроде. И что, ты думаешь, девчушку сбили машиной, чтобы украсть мобильный?
— Может, товарищ старший лейтенант, убийца боялся, что его номер остался в телефоне.
— Гм…
— И потом, не обнаружили ли у нее в кармане мелкие осколки стекла?
— В каком смысле?
— Понимаете, там вполне могла быть ампула, точнее ее осколки, с остатками того вещества, которое намеревались вколоть пациенту, то есть моему шефу.
— Ну, секьюрити, похоже, ты и впрямь милицейские погоны носил. Серия тридцать девятая. Давай твои позывные, я тебе сразу позвоню, когда проверим.
Костя медленно шел через парк к больничному корпусу. Неужели уже август к концу клонится — и не заметил, как лето прошмыгнуло. Вон и листочки начали кое-где желтеть, и ветерок холодный вполне по-осеннему под куртку забирается… Ну никак не хотелось верить, что Петр Григорьевич обречен. Так ему было хорошо за его широкой и надежной спиной. Всем, всем буквально был он обязан шефу. И тем, что вытащил он его тогда из милиции. И тем, что не считают теперь отец с матерью каждую копейку, когда нужно идти в аптеку. До этого отец от этих счетов и расчетов на глазах старился — не привык так жить. Все-таки был в советские времена кадровым военным. Деньги, говорят, людей не украшают. Может, оно и так. Зато их отсутствие людей уж точно портит. Отец с тех пор, как стал он работать у Петра Григорьевича, прямо на глазах изменился: и спокойнее стал, и мягче. Они на Петра Григорьевича как на святого молятся, только что портрет его в красный угол еще не повесили. И вообще, если бы не Петр Григорьевич, сидел бы он сейчас как пить дать где-нибудь в Мордовии в колонии общего режима и шил брезентовые рукавицы под выцветшим плакатом «На свободу с чистой совестью»… От того, что Петр Григорьевич рассказал ему накануне, на сердце ему словно защелку какую-то повесили — болело оно. Так жалко ему еще никогда никого не было. Прямо завыл бы от горя, как собака. Он, наверное, и был по натуре собакой, потому что только собака может быть так привязана к хозяину, как он к шефу.
Петр Григорьевич показался ему немножко оживленней сегодня, и он вкратце доложил ему о том, что уже успел.
— Может, — предложил он шефу, — все-таки посадить в коридоре у палаты хорошего человечка. Это организовать совсем не трудно. У меня есть старые знакомые, да и в отделении, которое убийством Даши занимается, тоже есть хорошие ребята.
— Думаю, Костя, — пожал плечами Петр Григорьевич, — что пока до штурма больницы дело не дойдет. Поезжай в офис и постарайся выяснить, знает ли кто-нибудь о моем диагнозе.
— Слушаю, шеф.
Днем в палату к Петру Григорьевичу зашел главврач Борис Васильевич.
— У меня к вам одна просьба, — сказал ему Петр Григорьевич.
— Слушаю.
— Проследите, пожалуйста, чтобы о моем диагнозе посторонние люди не знали. Это для меня очень важно, не столько лично, сколько для компании.
— Понимаю, — кивнул главврач и добавил с плохо скрытой обидой в голосе: — Уверяю вас, у нас персонал вымуштрован, врачебная тайна для нас отнюдь не абстрактное понятие, и всё, что касается пациентов, за пределы больницы не выходит и выйти не может.
Поразительно, почему-то заметил Петр Григорьевич, как у него изумительно выглажена рубашка. И усмехнулся про себя. Как часто он, однако, останавливает в последние дни внимание на пустяках. Прячется, должно быть, за ними от более серьезных вещей. Никогда раньше не подумал бы, что могут ничтожные пустяки быть человеку неким утешением.
— Спасибо, Борис Васильевич, очень надеюсь на вас. Иначе… — Он специально не закончил фразы, и главврач, кажется, почувствовал невысказанную угрозу. Он медленно кивнул и с видом подчеркнуто оскорбленного достоинства вышел из палаты.
Сразу после обеда в палату к Петру Григорьевичу вошел Гурген Ашотович.
— Как самочувствие, дорогой мой?
— Дышу еще.
— И слава богу. Вот, держите, — он протянул больному несколько отпечатанных листков.
— Что это? Набросок моего завещания?
— Ну, Петр Григорьевич, вы меня радуете. Узнаю ваш прежний юмор. Нет, до завещания еще дело не дошло, да вы его и без меня составите. Это вам советы по меню. Хотя, строго говоря, особых ограничений в еде я от вас не требую, но лучше не перегружать и без того ваш нагруженный желудочно-кишечный тракт. Кроме того, здесь указаны дозы того препарата, что я вам назначил. Если почувствуете тошноту, попробуйте старый дедовский способ — полстакана ледяной водички. Не поможет — попробуйте таблетку мотилиума. Болеутоляющее я вам тоже выписал, ну и снотворное. Пока этого достаточно. Да, чуть не забыл, — добавил Гурген Ашотович, — вот вам телефон человека, который очень хотел бы встретиться с вами. — Петру Григорьевичу показалось, что ничего доктор и не думал забывать и все эти рекомендации просто ширма для чего-то другого. — Держите.
— И по какому же поводу ваш знакомец хотел встретиться со мной?
— Понятия не имею, — для выразительности доктор даже покачал головой и театрально развел руками, отчего манжеты его голубой рубашки вылезли из-под халата.
— Простите, Гурген Ашотович, что-то, сдается мне, вы со мной в кошки-мышки играете. Вы давеча сами говорили, что это ваш знакомый, а теперь и понятия не имеете, зачем я ему.
— Не имею, — почему-то сразу нахохлился врач. — Просто просил он меня устроить с вами встречу. А на какой предмет — не знаю.
— Гм, и вы, зная меня и то, в каком я состоянии, советуете мне встретиться с ним? Так? Правильно я вас понял?
— Вы что, хотите, чтобы я честное пионерское дал или на библии поклялся? Да, я Семена, Семена Александровича знаю давным-давно. Лет пятьдесят, наверное. Учились в школе вместе. Хотя вижу его нечасто. Человек он, скажу вам прямо, довольно странный. Но что именно заинтересовало его в вас — не знаю и знать категорически не желаю, — врач даже слегка повысил голос.
— Боюсь, Гурген Ашотович, автора детективных романов из вас не получится. И знаете, почему? Потому что хорошему детективщику нужно заранее продумать все вопросы и ответы. Так, чтобы казались они естественными и убедительными. Вот сейчас я вас спрошу: а откуда это ваш знакомец знает о моем существовании и тем более о моей болезни? А? В выпуске новостей по телевизору сообщалось? Да не волнуйтесь вы так… Ведь я это…
— Я вас не понимаю, — пробормотал Гурген Ашотович, и желваки на его щеках угрожающе прокатились под кожей. — Я ведь вас не уговариваю…
— Уговариваете что сделать? Может, ваш друг хочет, чтобы я субсидировал постройку приюта для бездомных собак?
— Собак? При чем тут собаки? — почему-то разволновался доктор и недоуменно развел руками.
— Да ни при чем. Это я так, к слову. Тут как раз один такой собаколюб недавно по телевизору за это ратовал. Боюсь, мне как-то сейчас не до бродячих собак. Так что, простите…
— Ну, смотрите. Позвольте вам только намекнуть, что, может быть, вы сами не менее него можете быть заинтересованы во встрече. Если не более. Всё, Петр Григорьевич, больше не пытайте меня. С вашего разрешения я побегу, у меня, между прочим, кроме вас ведь и другие больные есть. Завтра утром выписывайтесь. Здесь вам делать больше нечего.
Такое было впечатление у Петра Григорьевича, что прекрасно Гурген знал, что от него хочет этот таинственный Семен Александрович. Знал и явно чего-то боялся…
Ну что ж, надо позвонить. Попытка — не пытка. Он набрал данный ему доктором номер.
— Ну, — нетерпеливо рявкнул кто-то в трубку, — кто там?
— Семен Александрович?
— Я, я.
— Это пациент Гургена Ашотовича Петр Григорьевич.
— А? Какой пациент? Гургена? А, да, да. Конечно. И что же вам, простите, нужно от меня?
— Прощать вас пока еще не за что. Из слов Гургена Ашотовича я понял, что это не я вами интересуюсь, а вы — мною.
— Что? Я? А, да, да. Конечно. Простите. Я, знаете, когда работаю, вообще перестаю что-либо соображать. Хотя, если честно, и когда не работаю, тоже мало что понимаю. Да-да, так мы о чем?
— Это я у вас хотел узнать.
— Сейчас сосредоточусь, старый осел…
— Это вы обо мне?
— О себе. Всё, я вернулся в наше измерение. Вас, если я правильно запомнил, Петром Григорьевичем звать?
— Совершенно верно.
— Ну что ж, если вы выделите мне толику вашего драгоценного времени, у нас может состояться ин-те-е-ресный разговор. Хотя предупреждаю вас заранее, что, скорее всего, вы решите, что перед вами клинический идиот. Что, если честно, может быть и не так уж далеко от истины.
— А все-таки о чем…
— Это, Григорий Петрович…
— С вашего разрешения, Петр Григорьевич.
— Простите, не хотел вас обидеть. Я хотел сказать, что это не совсем телефонный разговор. Когда вам Гурген окончательный диагноз поставил?
— Сейчас… Четыре дня тому назад.
— Гм… что ж, срок, пожалуй, достаточный.
— В каком смысле?
— Что? А, понимаю, что вы хотите спросить. Я хотел сказать, что, наверное, вы дозрели до нашей маленькой беседы.
— Семен Александрович, я уже вышел из возраста, когда любят загадки, всякие там «без окон, без дверей, полна горница…» и так далее. Да и настроение у меня для загадок, ребусов и считалок не совсем подходящее.
— Ну, это вы зря. Наоборот, похоже, самое подходящее. О чем это я? А, да. О встрече. Вы уверены, что Гурген даже не намекнул вам о моем предложении?
— Вполне.
— Скажите, пожалуйста, человек он не слишком умный, мягко выражаясь, а все-таки сообразил… Я и сам-то не уверен, что сумею вам объяснить, что имеется в виду. Завтра, может быть, а?
— Давайте завтра. Утром я выписываюсь из больницы, а после полудня мы можем встретиться в любое время. Домой к себе я вас не приглашаю, мне бы не хотелось…
— Мне тоже.
— Может, пригласить вас для беседы куда-нибудь в ресторан? Есть симпатичный итальянский ресторанчик «Ми пьяче» около Пушкинской площади.
— Не стоит, пожалуй. Я в ресторане лет двадцать не был… Если не больше. Я человек странный, дикий, бомжеватого вида и вообще не очень приятный. Даже сам себе, из-за чего у меня постоянное раздвоение личности. Вы говорите, Пушкинская площадь. Вот давайте лучше там и встретимся. Около памятника Пушкину.
— Как странно…
— Что?
— Я очень люблю это место и тоже назначал там свидания.
— Будем считать это добрым предзнаменованием. Оно нам очень нужно. Может, часа в три?
— Хорошо. Как я вас узнаю, Семен Александрович?
— Что? А, да, конечно. Розы во рту мне держать не надо. Увидите дикого бородатого неопрятного вида старика, глазеющего по сторонам, — это я. До завтра, Григорий Петрович…
3
Утром Петр Григорьевич позвонил Гале предупредить ее, что выписывается, что приезжать за ним не нужно, его привезет Костя и что будет он дома часам к одиннадцати.
— Слава богу, Петя, я уже устала быть одна в этой огромной квартире. Может быть, все-таки приехать за тобой?
— Не нужно, детка. И ничего особенного не готовь. Аппетита и так никакого…
— Я тебя, Петя, из ложечки кормить буду. За тебя, за твою компанию, за премьер-министра и за президента.
Вроде ни одного фо па, отметил про себя Петр Григорьевич, даже трогательно, но то ли чувства его теперь обострились, то ли еще помнил он пугающее равнодушие в ее глазах в зеркале, но звучали ее слова донельзя фальшиво. И что он в ней нашел четыре года назад, старый осел? Круглую маленькую попку? Серые удлиненные глаза? Дебил… Таня бы не спрашивала, приехать ли за ним в больницу. Она бы из палаты не вышла, пока он там лежал.
Костя поднес сумку Петра Григорьевича к самой двери квартиры и позвонил. Галя, похоже, стояла в прихожей, потому дверь сразу же открылась. Была она как всегда одета как перед выходом на подиум и причесана.
— Петенька, наконец-то ты дома, — проворковала она, и Петру Григорьевичу показалось, что жена бросила на него мгновенный оценивающий взгляд, то ли подставить щеку, то ли самой обнять мужа. Но вместо этого она просто подхватила сумку. Какова интуиция, усмехнулся про себя Петр Григорьевич. Он бы, конечно, вежливо прикоснулся губами к ее гладкой упругой щеке, пахнущей ее любимыми духами «Хлоэ», но, похоже, что это было бы обоим в равной степени неприятно.
— Костя, приезжай за мной к четырнадцати тридцати. Позвони, когда будешь подъезжать.
— Хорошо, шеф.
Удивительно, но квартира, которую Петр Григорьевич всегда так любил и которую с такой любовью обустраивал с Танюшкой, казалась сегодня какой-то чужой, неприветливой, настороженной, словно вошел в нее не хозяин, а посторонний, и ей, квартире, надо еще почувствовать, что это за человек и не несет ли он какой-нибудь опасности.
— Петенька, я все-таки сварила тебе куриный бульон, ни жиринки. Может, выпьешь все-таки чашечку? Тебе нужно силы восстанавливать, поправиться немножко.
— Спасибо, не хочется как-то. Пойду, полежу немного.
Прямо напротив постели в его спальне — они уже давно как-то незаметно, но по взаимному и молчаливому согласию начали спать с Галей в своих комнатах — был портрет Тани. Точнее, это была фотография, но профессионально увеличенная и вставленная в тоненькую темную рамку с приятным темно-зеленым багетом. Красивой Таня не была, но столько было в ее лице с трудом сдерживаемой живости и детского лукавого кокетства, что Петру Григорьевичу на мгновенье почудилось, что вот сейчас она выскочит из портрета и обнимет его, прижимаясь губами к его шее. Не зря он звал ее Танька-встанька. И сама была подвижна, как мячик, и всё вокруг нее всегда разом приходило в движение…
Петр Григорьевич прилег на кровать и почти сразу же задремал. Он это понял, потому что во сне Танюшка ласково помассировала ему грудь, опустила руку к животу, еще ниже… Действительно, Танька-встанька. Но даже во сне была Танина ласка бесконечно печальна, потому что каким-то краешком сознания понимал Петр Григорьевич, что это всего лишь сон…
Раздался телефонный звонок, и Петр Григорьевич взял трубку.
— Это Костя, шеф. Я подъезжаю. Подняться за вами?
— Лучше жди в машине. Вообще, старайся машину одну пока не оставлять, кто их знает, что они еще надумают.
— Те, которые…
— Сам понимаешь, что на медсестре они могут и не остановиться. Попробую спуститься сам.
Петр Григорьевич посмотрел на себя в зеркало. М-да… Старая больная обезьяна с печальными глазами и редкими волосенками. Он помассировал лицо руками и пошел к выходу.
Галя стояла в холле и держала в руках его кожаную куртку.
— Я подумала, Петенька, что в куртке тебе будет теплее, все-таки на улице довольно прохладно.
— Спасибо, детка. — Может, зря он так к каждому ее слову цепляется. Может, все-таки привязана она к нему…
Он надел куртку и вышел к лифту. Ноги были слабыми, но голова, кажется, еще работала вполне пристойно.
Его темно-синий «лексус» был как всегда надраен до блеска — и как только Костя ухитряется всегда держать машину в таком виде? — Костя выскочил, чтобы открыть ему переднюю дверцу рядом с собой.
— Поедем на Пушкинскую, у меня, как у молоденького, встреча там около Пушкина. Сколько она продлится — не знаю. Может, минут десять-пятнадцать, а может, и дольше. Если где-нибудь в районе Известий припарковаться не сможешь, найди местечко у Ленкома или напротив. Я тебе позвоню, и ты подъедешь. Что в милиции?
— Как мы и предполагали, мобильника при Даше не оказалось. Боялись, надо думать, что по нему можно будет определить, с кем она разговаривала накануне. В кармане комбинезона, или как он там в больнице называется, у нее нашли мелкие осколки, предположительно от раздавленной во время наезда на нее ампулы. Содержимое отправили на экспертизу.
— В конторе?
— Всё вроде спокойно. Ваша секретарша Анна Николаевна уже несколько раз спрашивала меня, как вы себя чувствуете, почему не звоните ей и когда выйдете на работу.
— Надо было, конечно, позвонить ей. Столько лет уже вместе… А говорят, что у меня?
— Считается, что острый гастрит. Не знаю уж, кто это решил, но все повторяют: гастрит. А так всё по-старому.
— Хорошо.
Когда Петр Григорьевич не без труда поднялся из скверика по нескольким ступенькам лестницы и подошел к поэту, он сразу же увидел Семена Александровича и отметил, что описал он себя на редкость точно: неопрятного вида старик с всклокоченной головой и спутанной бородой. Только что соломы в них не было. Хотя, если присмотреться, не такой уж и старик. Если и старше его, то лет, наверное, на пять, не больше.
Семен Александрович поймал его взгляд, кивнул, да, мол, вы не ошиблись, и приглашающе похлопал рукой по пустому месту на скамеечке рядом с собой.
— Добрый день, — кивнул ему Петр Григорьевич.
Семен Александрович кивнул в ответ и внимательно, как бы оценивая, посмотрел на него.
— Садитесь, Петр… э… да… Григорьевич, и выслушайте меня, пока скамейка пуста.
— В каком смысле?
— В самом прямом. Как вы думаете, если бы мы обсуждали, как, допустим, ограбить банк, стали бы мы это делать рядом с двумя парнями, сосущими пиво, или настороженным и изнывающим от скуки пенсионером?
— Значит, будем банк брать?
— В чем-то еще хуже. Ну да это… как это сказать… в общем виде…
— Не стесняйтесь, Семен Александрович.
— Я не стесняюсь, Григорий Петрович.
— Петр Григорьевич, с вашего разрешения.
— Простите Христа ради старого… этого… ну, конечно же… Теперь к делу…
Петру Григорьевичу показалось, что от его собеседника пахло чем-то неприятным: похоже, давно не мытым телом и несвежим бельем. И еще потягивало чем-то кисло-собачьим.
— Я, как я вам уже говорил, наверное, выжил из ума, если, впрочем, и был там когда-то. Вопрос, без излишнего кокетства, довольно спорный. Скорей всего, не был. М-да… Поэтому наберитесь терпения. Вам покажется, что я буду петлять, как заяц, всё кругом да около. Но на самом деле, чтобы самолет поднялся в воздух, нужен разбег.
— Ну что ж, давайте разбегаться.
— Петр Григорьевич, что вы там видите на памятнике Пушкину? Слова «нет, весь я не умру, душа в заветной лире мой прах переживет и тленья убежит…»
— Удивительно, я уже не в первый раз читаю на постаменте эти строчки…
— Так о прахе. Лиры у меня для вас нет, но в остальном…
— Вы хотите сказать, что знаете, как мне пережить свой прах?
— Именно. Вы очень… как это сказать… проницательный человек. Именно. Хотя, похоже, я чувствую в вашем тоне сарказм.
— И тленья убегу?
— Ваш этот… как его… да… маразм, простите, сарказм совершенно неуместен. Вы себя не в лире переживете — это не по вашей части, — а в каком-нибудь молодом здоровом теле. Не обязательно, чтобы юноша бледный со взором горящим и всем остальным, что таким юношам полагается иметь и что рифмуется с прилагательным «горящим», но обязательно в молодом здоровом теле.
— Семен Александрович, простите меня за резкость, но мне этот разговор кажется какой-то нелепой фантасмагорией. Или вы меня зачем-то просто дурачите, разводите, как нынче изящно выражаются, либо…
— Что? А, да. Конечно же. Разговор несколько странный для здорового человека, но вы ведь, если прямо, не только нездоровы. Точнее, обречены на скорую и, скорее всего, довольно неприятную смерть. Вы, конечно, можете сейчас вскочить, сказать мне, что я старый дурак, — и будете правы, между прочим — и в негодовании… Что делают в негодовании? Черт его знает… Уходят, наверное. А можете еще и послушать меня немножко. Решайте сами.
— Но что все-таки вы хотите мне предложить кроме лиры, которой у вас нет, а мне она как будто и ни к чему? И то ведь, не забудьте, Александр Сергеевич тоже в изрядной степени принимал желаемое за действительное. Удел, наверное, всех поэтов. Если гордые сыны славян его еще как-то с грехом пополам помнят, и то в основном благодаря школьным программам, то о финнах того же не скажешь. Да и ныне дикий тунгус, если честно, тоже, надо думать, не слишком занят творчеством Пушкина.
— Давайте-ка все-таки с разбега, а то мы так никак не подымемся в воздух. Сначала позвольте представиться: я гений. Но при этом стопроцентный идиот. Потому что мое открытие, точнее, изобретение, настолько же феноменально, насколько оно глупо и неприменимо. Даже больше — преступно и безнравственно с точки зрения морали и всех уголовных кодексов в мире. Мне шестьдесят пять лет, я кандидат биологических наук, и с последнего места работы меня выгнали — точно не помню — лет двадцать назад. Кандидат наук в шестьдесят пять, это примерно то же, что младший сержант перед выходом в отставку в том же почтенном возрасте. Другими словами, полный дебил.
Но давайте все-таки разбежимся, а то я всё барахтаюсь на грешной земле и никак не могу взлететь. Петр… Григорьевич? Правильно?
— Правильно.
— Что такое наше самосознание? То, что делает меня старым выжившим из ума мудаком, а вас — обреченным и оттого печальным бизнесменом? Сердце, легкие, почки и прочая начинка, хардвер на жаргоне современной электроники, у нас примерно одинаковые. Ну, получше, похуже, поздоровей или не очень — это сути дела не меняет. Ведь если бы мне, упаси бог, ногу оттяпали, а то и две — я всё равно осознавал себя тем же человеком. Дефектным, это верно. С весьма ограниченными возможностями, как теперь говорят, но тем же самым, каким был и с двумя ногами. Так что руки, ноги и прочие части кузова — это отнюдь не основа самосознания. Более или менее вполне однотипные детали. Но вы ведь не я, а я — не вы. Где же зашито это пресловутое мое «я»? Конечно, в мозгу. Душой вы это назовете или просто самосознанием — не суть важно. Причем и в мозгу, особенно в его древнейшей лимбической части, индивидуальности тоже маловато. Всё больше древние животные инстинкты, от инстинкта самосохранения до инстинкта продолжения рода. От постоянного желания отнять что-то у ближнего, на худой конец просто своровать, до жажды подчинять себе ближних и стремления угодить вожаку, чтобы он благоволил тебе. И, конечно, побольше самочек покрыть, пока еще есть чем… Нет, самосознание современного человека сосредоточено в основном в его коре больших полушарий. Строго говоря… А? Да. Строго говоря, вся цивилизация и культура — это степень контроля больших полушарий над древними инстинктами. Контроль, к сожалению, у многих весьма слабенький. Мне порой сдается, что можно охарактеризовать нашу цивилизацию как цивилизацию коры больших полушарий, которая диктует свои табу остальному мозгу. Забавно, кстати, что культура — это, выходит, жесткий контроль. Чтобы не сказать диктатура. Это, кстати, к сведению наших воинственных либералов. Что? А… конечно. Вы уж простите меня за странную манеру разговаривать, все эти паузы, мычанья, блеянья. Да, я не Цицерон. Совсем не Цицерон. И даже не Брежнев. Как я ведь вам уже сказал — я идиот. Нормальный человек думает обычно одновременно об одной, в крайнем случае, о двух вещах. У меня же параллельно их штук пять в голове блохами прыгают, а то и больше. Представляете, какая это чехарда и толкучка? И не всегда успеваешь переключаться вовремя. М-да… Так о чем я вам говорил? Несколько миллиардов или того более нейронов и во много раз больше их сочленений — синапсов, дают в своей чудовищно сложно переплетенной мозаике всё, что делает нас — нами. И прежде всего это память. Знаете, был такой замечательный поэт Заболоцкий. Он кое-что понимал в нашем «я».
— Слышал имя…
— Он когда-то написал:
Как мир меняется! И как я сам меняюсь! Лишь именем одним я называюсь, На самом деле то, что именуют мной, — Не я один. Нас много. Я — живой!Он прав. Мы — это наша память, наши воспоминания, мысли, чувства — гигантская по своей сложности и объему мозаика долговременной и кратковременной памяти. Но если в нас так много чего намешано, почему мы, просыпаясь по утрам, все-таки твердо знаем, что это мы те же, что были вчера, позавчера и так далее? Ведь, казалось бы, сегодня можно проснуться Ивановым Иваном Ивановичем, сорока лет, бухгалтером с геморроидальным цветом лица, а завтра, скажем, Фатимой Гаглоевой, шестнадцати лет, выпускницей школы во Владикавказе. Ан нет, это не лотерея. Каждый из нас остается собой, потому что его или ее самосознание жестко склеено памятью.
Когда я был совсем еще сопливым студентиком, меня увлекли исследования мозга американским ученым Корлисом Ламонтом. А исследования мозга нейрокомпьютерным интерфейсом начались лет сорок назад в университете Лос-Анджелеса. Кошкам вживляли крошечные электроды в гипоталамус — это часть мозга, — а потом старались расшифровать записанные сигналы.
Но не буду вам читать лекции. Со всей сегодняшней изощренной электроникой мы, в общем, не так уж далеко ушли от пионера в изучении работы мозга немца Германа Эббингауза, который занимался этим без малого сто лет назад. Да, одно время пресса писала об эффектных опытах доктора Альвареса, когда, например, сигнал, посланный по радио, приводил в действие электроды, вживленные в мозг быку, и тот останавливался на бегу и недоуменно тряс своей бедной бычьей головой, не понимая, что с ним случилось. Самое забавное или трагическое — это уж с какой точки зрения смотреть — это то, что сидящий перед вами вонючий старый дурак научился считывать по своему собственному алгоритму — в этом-то как раз и заключается мое величайшее открытие — карту мозга, записывать ее, а потом, наоборот, этой записью можно загрузить другой, предварительно, так сказать, стертый ум. Причем мои датчики и сенсоры так чувствительны, что не нужно сверлить черепную коробку и вживлять их в мозг. Иначе пришлось бы черепную коробку превратить в мелкое решето. Просто я надеваю на голову мой шлем, и он дистанционно контактирует с нейронами, точнее, с целыми кластерами нейронов… М-да. Звучит, наверное, глуповато, как, впрочем, и большинство великих идей…
— То есть вы хотите сказать, что можете скачать содержимое моего мозга в чей-то другой?
— Вы, Петр… э… Григорьевич, довольно быстро ухватили суть дела. Именно это я и хотел сказать. Мало того, я уже не раз испытывал свою систему. Правда, пока только на собачках. У меня дома живет мой единственный в жизни друг… да… о чем я? А, да, о друге. Милая дворняжка по кличке Корлис, в честь того исследователя, о котором я говорил… Но Корлисом, строго говоря, раньше была совсем другая собака, Лабрадор, которой… так сказать… пришлось отдать свое «я» на алтарь моих дурацких амбиций… А Корлис номер два приобрел все привычки Корлиса Первого, от привычки вспрыгивать ночью на мою кровать и ложиться мне в ноги и лежать там, пока согреется, до умильного взгляда на хозяина, когда очень хочется есть, не говоря уж о том, что он сразу же стал откликаться на новое имя, хотя до этого он и Тузиком, надо думать, не был, потому что песик был бездомным. А тут сразу благородное имя Корлис.
— А… что стало с Лабрадором?
— Отдал свою жизнь на благо науки, то есть почил в собачьем своем бозе. И похоронил я его со всеми собачьими почестями.
— Заманчиво, конечно… Но… я как-то плохо вижу себя в образе собаки. Может, собакой быть и интересно, открывается масса новых возможностей, но, боюсь, моя жена, члены правления моей компании, да и акционеры вряд ли согласятся, чтобы ими руководила собака. Даже в попонке. Даже с контрольным пакетом акций. Да и с представительскими функциями тоже не всё гладко было бы. Собак, знаете, в руководстве немало, но снаружи, пока они не начинают тявкать и гавкать, все-таки вид у них все-таки более или менее человеческий.
— Всё еще шутите, Петр Григорьевич. А я… а я ведь серьезен.
— Допустим, Семен Александрович. Но если следовать вашей логике, то где мне взять этот другой, стертый, как вы выражаетесь, мозг? Что-то я таких предложений типа «в связи с отъездом продам голову, недорого» ни в телевизионной рекламе, ни в Интернете, ни в одном каталоге не видел.
— Вот-вот-вот, о том-то и речь. Если бы чистые головы продавались как чистые дискеты на каждом углу, рублей тридцать за штуку, никаких проблем бы не было. Иначе я бы не только Нобелевскую премию давно получил. Это уж точно. Был бы я провозглашен… Кем? Да черт его знает… Ах да. Пожалуй, столпом, корифеем и гением. И пресса ловила бы меня на каждом шагу, чтобы узнать мое мнение обо всем на свете, начиная от моды на смену тел до проблемы однополых браков. А я вместо снисходительной раздачи интервью и автографов сижу около Пушкина с незнакомым человеком, который явно держит меня за дебила. Не без оснований, к тому же… Что? А, да. Сижу и пытаюсь убедить совершенно незнакомого мне бизнесмена в том, что могу сохранить его бесценную жизнь и при этом еще слушаю бурчанье своих кишок, потому что не жрал ничего со вчерашнего дня.
— Так я…
— Купите мне чебурек, а? Или два? Плачу от щедрости вашей и сердечной благодарности. Извольте ручку поцеловать. Что?
— Да я ничего…
— Не думайте о моих кишках, Петр… Григорьевич. Я голодать уже давно привык. К тому же лабораторные мыши, которых держали впроголодь… Впроголодь… Да, впроголодь, так вот, живут они почти вдвое дольше мышек сытых. Но я как-то… отвлекаюсь. Вы правы, хорошее здоровое тело купить в наше время трудновато, хотя, хотя… Хотя, как известно, продается и покупается всё. Проще было бы… как бы выразиться поизящнее… убить нужного человека.
— Как убить?
— Не в физическом смысле, Григорий Петрович…
— Петр Григорьевич, с вашего разрешения.
— Да что вы заладили Петр Григорьевич да Петр Григорьевич, сдался вам Петр Григорьевич! — вдруг вскрикнул сердито Семен Александрович. — Готовьтесь к тому, что вас вскоре будут называть как-то совсем по-другому. Если, конечно, вас заинтересует мое маленькое предложеньице и вы подсуетитесь и найдете себе подходящее хорошее тельце.
Голова Петра Григорьевича, казалось ему, вдруг стала какой-то огромной и гулкой, и каждое слово сумасшедшего старика, что сидел рядом с ним на лавочке у памятника Пушкину, отдавалось в ней перекатывающимся эхом. Стать молодым и здоровым и даже не знать слова «поджелудочная железа»… Вот уж поистине незнание может быть синонимом счастья. Да, но…
Семен Александрович сидел, полузакрыв глаза, и слабо улыбался.
— Позвольте, — вдруг очнулся от своих видений Петр Григорьевич, — но жизнь научила меня осторожности. Может, всё, о чем вы говорили, — это просто хитроумная схема, чтобы развести меня на энную сумму?
Семен Александрович засмеялся. Смеялся он как-то по-куриному, словно кудахтал. Вот-вот начнет хлопать пыльными крыльями и весело кукарекать. А то и яйцо снесет…
— Стреляный воробей всего боится. И правильно делает, между прочим. Все боятся. А я, думаете, не боюсь? Страх ведь основа цивилизации. Вы, конечно… да, вы правы, но я и не думаю просить у вас предоплату, задаток или, тем более, подписывать контракт о намерениях. Заплатит мне не Петр Григорьевич, а уже Иван Иванович, Самуил Яковлевич, Мустафа Магомедович или кем вы там станете после того, как душа ваша в заветной лире или там какой-нибудь чековой книжке перекочует в новое тело. И в цене как-нибудь сойдемся, потому что обе стороны будут заинтересованы в дальнейшем, так сказать, техобслуживании. Вы ведь в своем новом виде не пойдете к психиатру с жалобами, что вам как-то неудобно в новом теле. А я тем более. Вот так, — сказал Семен Александрович, — засим разрешите откланяться, как говорили наши предки.
— Позвольте, но мы даже…
— Всё вы, Петр… да, Григорьевич, всё поняли. У бизнесменов голова должна работать быстро, чтоб понять, где его выгода. А тут как раз такой случай, что выгода совершенно очевидна. А дальше всё решать вам. Переселяться или тихо ждать конца. А если переселяться — в кого. У меня, как ни странно это вам покажется, таких доноров на примете нет. Так что если надумаете, позвоните мне. Пока я еще жив… между прочим…
И исчез. Словно и не было вонючего бомжа, который говорил о самом невероятном предложении. Сумасшедший. Ну конечно же, типичный пример мании величия. Или, может, сверхценной идеи. Так это, кажется, называется в психиатрии. Псих, псих, псих. Стопроцентный псих, тут и думать-то не о чем. Сколько таких непризнанных гениев бродит вокруг. Одних Наполеонов в любой психушке по несколько штук. Так что лучше и не думать… Но думать как раз и было о чем. Как-то очень грустно было расставаться с пусть безумной, но так соблазнительно блеснувшей на мгновенье надеждой. Да, но если он сумасшедший, как мог Гурген давать его телефон и рекомендовать встретиться с психом? Для чего? Он-то бы уж наверняка знал, что этот человек болен. И старый его друг и все-таки врач, а не какая-нибудь доверчивая бабка, что ходит по магам и ясновидящим. Но самое главное было даже не в этом, вдруг ясно понял Петр Григорьевич. Теперь ясно, почему Гурген всячески подчеркивал, что не знает, о чем его знакомец может говорить с Петром Григорьевичем. Да просто потому, что дело это чисто уголовное — статья сто пятая. Не смена голов, конечно, а убийство. О чем, собственно, и идет речь. А трусливый Гурген звука своего голоса боится, не то чтобы вляпаться в статью сто пятую. Но это же, выходит, значит, что Семен Александрович никакой не псих.
М-да. Дело не просто уголовное. И следователи, и прокуроры, и адвокаты, и судьи просто рехнутся в одночасье, если займутся им. Какое же это убийство, улыбнется снисходительно адвокат, если перед вами, уважаемые присяжные заседатели, стоит человек, которого по странной, мягко говоря, версии прокуратуры убили? Жив, здоров и улыбается. Вы видели такие трупы, которые стоят в зале суда и улыбаются? Тут и живые улыбаются нечасто. А, вон оно что — уважаемый прокурор утверждает, что убито не тело, а голова? Так и голова, как вы все видите, на месте. И все свидетели подтверждают этот факт. И отвечает убитый вполне здраво, и все свидетели подтверждают, что это безусловно Иван Иванович, и жена его подтверждает, что это действительно Иван Иванович, за которым она замужем уже семь лет и которого она безумно любит. И знает, так сказать, до последней родинки на левой ягодице. Можете проверить сами, уважаемые присяжные заседатели. Мой подзащитный готов тут же, с разрешения вашей чести, господин федеральный судья, продемонстрировать ее. Ну и так далее…
Петр Григорьевич глубоко вздохнул, достал мобильный и позвонил Косте. Ну хорошо, допустим, он поверит всей этой фантастике. Но в кого переселяться? Пойти на убийство? Он-то знает, что это будет убийство. Самое изощренное убийство, которое только можно представить себе. Ну ладно, отбросим страх разоблачения. Сможет ли он жить с сознанием того, что убил человека? Ну хорошо, он о Боге не думает, что такое грех — точно не знает и знать не очень-то хочет. Но совесть-то у него какая-никакая есть? Самая что ни на есть бэу, старая, перестиранная, в заплатах, но все-таки, черт побери, совесть?
И что решить, и как решиться… К тому же один он такую операцию в своем нынешнем состоянии провести никак не сможет, даже если бы очень захотел. В чем он не был уверен, хотя, с другой стороны… Можно было бы, конечно, уговаривать себя, что жить ему нужно не для себя, боже упаси, а токмо ради процветания отечественной электроники вообще и своей компании в частности. Но он-то знал, что на самом деле преспокойно отдал бы за свое исцеление всю электронику на свете, жили ведь люди и без нее и даже без канцелярских счетов, на своих десяти пальцах считали, если уж очень нужно было. Просто очень не хотелось проваливаться в черную бездонную дыру смерти. До сердечных спазмов не хотелось. Тем более что ни Александром Матросовым, ни Иваном Сусаниным никогда он себя не чувствовал и уж себе-то чаще всего не врал. Значит, надо открыться кому-нибудь. Наверное, есть только один человек, которому он может довериться, — Костя. А как он отнесется к такому предложению? Никакой уверенности, что согласится он быть соучастником — да, соучастником, подельником — чего уж тут крутить — у Петра Григорьевича не было. А что, может быть, пусть Костя и решает. Тем более, как он только что понял, без него он всё равно сделать ничего не сможет. Еле до машины доползает на ватных трясущихся ногах, где уж тут убийство замышлять и тем более осуществить.
Звякнул мобильный.
— Петр Григорьевич, я у «Известий» встал во втором ряду. Идете? Или помочь вам?
— Иду, Костя, иду.
Петр Григорьевич сел в «лексус» и закрыл глаза — все силы словно сразу вытекли из него, и он чувствовал себя пустым и беспомощным. В машине слегка пахло кожей салона, и этот привычный запах на мгновенье отогнал фантасмагорию. Но только на мгновенье.
— Домой, шеф? — спросил Костя, и по его озабоченному тону Петр Григорьевич понял, что Костя заметил его внезапную слабость.
— Нет, Костя. Нам нужно серьезно поговорить. Найди-ка какое-нибудь спокойное местечко.
Душа Петра Григорьевича словно раздвоилась. Одна половинка хотела, да что хотела — жаждала, свирепо жаждала почувствовать радостный прилив сил, страсть борьбы, мечтала поднять его компанию на высоту, никому еще в отечественном ИТ-бизнесе не доступную, чтоб все почтительно замолкали при ее упоминании, хотела любви, ласки, веселого застолья. Чтобы дымком тянуло от мангала с жарящимся шашлыком, и чтобы он разливал гостям хороший коньячок. Хотела веселого молодого пота после хорошей пробежки. Алкала, как говорили когда-то, дождя брызг и ветра на лице и вибрации водных лыж на ногах. Вторая же половина сжалась в холодном тоскливом ужасе перед необходимостью стать убийцей. Да брось, не юродствуй, интеллигенток в первом поколении, напористо наседала первая половина, разве ты тогда не прихлопнул того человека на лестнице? А у него, скорее всего, были родители, которые потеряли сына. А может, жена и дети, которые в тот вечер все ждали и ждали его и так и не дождались. И что-то не помнится, чтобы тогда ты особенно мучился угрызениями совести. Да, слабо оправдывалась первая половинка, но это же была самозащита… Знаем мы эти самозащиты, особенно в благословенном отечественном бизнесе. Любой рейдер на библии поклянется, что захватывал чужое предприятие только для защиты… Даже не своих корыстных интересов, боже упаси, токмо для ради дела…
— Здесь в переулочке можно постоять, — сказал Костя, ловко вогнав машину между стареньким заржавелым «москвичом» и «фордом фокусом». Он выключил двигатель и повернулся к Петру Григорьевичу, глядя на него вопросительно и тревожно.
— Костя, приготовься к самому безумному и самому трудному разговору, в котором ты когда-либо участвовал.
— Слушаю, — сказал Костя, и лицо его стало еще более тревожным.
— Как я тебе уже говорил, рак мой неизлечим, неоперабелен и довольно быстро загонит меня в могилу. И вот появилась надежда — повторяю, надежда — остаться в живых.
— Какое-нибудь новейшее лекарство?
— Если бы… К этой надежде столько всяких «но» подвешено, что я боюсь принимать какое-то решение…
— О чем вы говорите, шеф, если речь идет о вашей жизни, какие могут быть «но»? Какие вообще могут быть «но» в вопросах жизни и смерти?
— Если ты наберешься терпения и выслушаешь меня, ты поймешь, почему я так нерешителен и почему я должен посоветоваться с тобой. Потому что без тебя всё равно я сделать ничего не смог бы.
— Да я всё сделаю, шеф! — с жаром воскликнул Костя.
— Подожди, Костя, подожди, не торопись. Боюсь, что через несколько минут ты уже не будешь таким решительным и уверенным…
С чего начать? Как всё это повторить? Как заставить молодого здорового человека понять, как, почему и зачем может старик так непристойно, так гадко цепляться за жизнь… Молодые ведь куда решительнее, всё у них настолько проще. Смерть для них это вещь абстрактная, к ним никакого отношения не имеющая. Особенно, когда речь идет не о них, а о других. Для них ведь смерть — это то, что случается с другими, но никак не с ними. Поэтому всё у них так просто и однозначно. Петру Григорьевичу вдруг стало холодно.
— Костя, включи, пожалуйста, печку на минутку. Что-то зябко стало.
Костя бросил недоумевающий взгляд на термометр на приборном щитке — двадцать три градуса — и включил печку. Легкий ток теплого воздуха успокоил Петра Григорьевича, и он начал рассказывать. Костя молчал. Ни вопроса, ни восклицания. Словно застыл, оцепенел, пока шеф пересказывал ему разговор с Семеном Александровичем. И даже когда Петр Григорьевич замолчал, он продолжал молча сидеть, держась за руль и ссутулившись. И Петр Григорьевич молчал, понимая, какая борьба сейчас идет в Костиной душе. И жалко, наверняка, ему шефа, как он его называет, и не может он решиться стать соучастником. Человек ведь Костя старомодно-нравственный. А не то был бы уже наверняка как минимум капитаном, купил бы как выгодное вложение на чье-то имя пару квартир и ездил бы на таком самом «лексусе». Он его понимал. Сам столько уж навоевался с сомнениями и страхами. И сказать, что ничем своему шефу в такой ситуации помочь не сможет, Косте, надо думать, нелегко.
Костя медленно повернул голову, взглянул на Петра Григорьевича и глубоко и прерывисто вздохнул. В сразу запавших его глазах стояли слезы. Откажется, с тягостным ужасом понял Петр Григорьевич, как пить дать откажется. Конечно, тяжело ему предавать шефа, ведь привязан он к нему, он был в этом уверен. Но надеяться на другое было с самого начала глупо. Да, конечно, Костя привязан к нему, он это знал, чувствовал. И Костя наверняка чувствовал, что фактически стал ему сыном. Но быть привязанным — одно, а быть соучастником убийства — совсем другое. Ну что ж, будем считать, не удалось ему из могильной ямы выбраться, земля под руками осыпается. Так оно и должно быть. Закон жизни. Из всего уравнения со многими неизвестными одно решение и не думало прятаться за иксами и игреками. Его онкологическому высочеству господину раку бояться некого и прятаться незачем.
— Шеф, я вас только попрошу… — с трудом, словно вдруг он потерял голос, пробормотал Костя.
— Что, Костя?
— Стариков моих не оставьте. Мама совсем в последнее время сдала…
— Конечно, но я что-то не пойму, к чему ты это говоришь?
— Как к чему? Если меня не будет…
Словно фейерверк вдруг яркой гроздью вспыхнул в голове Петра Григорьевича, и он почувствовал, как на глазах навернулись слезы. Да что навернулись, текли они, текли, застилали всё кроме одного: человек рядом с ним предложил ему свою жизнь. Такого благородства, такого самопожертвования он никогда в своей жизни не встречал. И даже представить себе такого не мог. Жив ли он будет или нет — всё равно несколькими словами Костя перевернул ему жизнь. И слезы всё продолжали набухать в его глазах и скатываться тоненькими ручейками. Он с трудом удержался от того, чтобы обнять Костю за шею и прижаться к нему. Отдать свою жизнь…
— Костя, и ты решил, что…
Костя недоуменно смотрел на него. Несколько раз он моргнул, чтобы лучше видеть.
— Конечно, шеф, — медленно и с трудом пробормотал он, — чего тут говорить, копыта отбрасывать кому хочется… Но вы… Вы для меня…
— Ну, Костя, вот уж не думал, что ты такое мог от меня ожидать. Да я… Ладно, Константин Пантелеймонович, ловко ты, однако, одним махом сделал меня твоим вечным должником. Шучу, конечно. Но действительно, неужели ты мог хоть на секундочку подумать, что я хочу вместо своей твою шею под косу подсунуть?
— Но тело-то нужно… И вы сказали, что без меня ничего не сможете. Я сразу понял, о чем вы говорите. Хотя, если честно, ох как не хотелось понимать. Прямо мысли извертелись. Но куда деться? Не так уж трудно было догадаться. А тут вдруг… Но как же тогда? Как же так? В кого же вы переберетесь?
— Об этом и разговор. Но уж во всяком случае, не в тебя.
— Тогда… — Глаза у Кости разом высохли, и голос окреп. И плечи распрямились, и голова поднялась от руля. Тяжело приспосабливаться к плохому, ухмыльнулся про себя Петр Григорьевич, а хорошее воспринимается сразу же, особенно в Костином возрасте.
— Тогда, — продолжал Костя, — тогда надо думать, кого мы выберем.
— Но ведь это, друг мой ненаглядный, убийство, как ни крути. И дело не только в статье сто пятой Уголовного кодекса. И с совестью своей нужно как-то договариваться. Конечно, у некоторых она партнер удобный и сговорчивый, а то и вообще в постоянном неоплаченном отпуске отдыхает, но ведь она и взбрыкнуть ненароком может. Об этом ты подумал? Я-то уж свою голову сломал, а тебе-то эти сомнения к чему?
— Это вы всё верно говорите, конечно. Но я вам вот что скажу, шеф. Хоть мы и штаны носим и вон даже на «лексусах» ездим, всё равно в душе все мы немножко звери. А звери над такими вопросами не задумываются. Хотя они, по-моему, вообще поблагороднее гомо сапиенс будут. Лев ведь подряд всех не дерет. Только для пропитания или для того, чтобы свою шкуру спасти. И плюньте на всякие там интеллигентские штучки-дрючки. Я так считаю, шеф. Может, это я грубо говорю, но зато по делу.
— Наверное, ты прав, хотя… Ладно. В одном-то ты уж безусловно прав — умирать очень не хочется. И себя жалко, и компанию, и вообще… Давай думать, кого мы наметим. Я уж эту ситуацию сто раз в голове перемолол. Мне кажется, что наша жертва должна быть из компании.
— Почему?
— Да потому, что еще заранее я этому человеку все свои акции завещу? Завещаю? Передам, одним словом. И он должен быть как бы в курсе дел компании, и другие его знать должны…
— А на самом деле это вы будете?
— Я ж тебе объясняю…
— Я понимаю, но старик этот, выходит, и правда гений.
— Если всё это не окажется каким-то непонятным фуфлом, он действительно гений. Если и не чистой красоты — помнишь, у Пушкина — как мимолетное виденье, как гений чистой красоты — то гений науки уж точно. Злой ли гений, добрый, это уже другой вопрос. Только вот одно не выходит у меня из головы.
— Что, шеф?
— Как-то он вскользь заметил: пока я жив. Это он о себе. Может, он и сам на ладан дышит? Я это к тому, что времени у нас с тобой мало, и откладывать надолго наше предприятие рискованно. Поехали, Костя, домой. Если честно, устал я от всех этих треволнений ужасно.
— Так от них и здоровый человек давно в нокдауне был бы, а с вашей болезнью и говорить нечего.
Немножко почувствовал себя Петр Григорьевич лучше, даже, можно сказать, некий неожиданный прилив сил испытал. Он набрал номер своего секретаря.
— Анна Николаевна, добрый день, это Петр Григорьевич.
— Слава богу, Петр Григорьевич, я все ждала-ждала, пока вы позвоните. Как вы себя чувствуете?
— Ну, к олимпиаде еще не готов, но, в общем, ничего. Завтра я приеду в офис как всегда, ну, может, чуть позже, а вас я попрошу собрать весь менеджмент часам, скажем, к одиннадцати. В моем кабинете, если он, конечно, еще не занят.
— Как вы можете так шутить, Петр Григорьевич, да мы тут баррикады бы выстроили. А вы — если кабинет не занят.
— Не сомневаюсь, Анна Николаевна. До завтра.
4
Петр Григорьевич медленно обвел взглядом всех собравшихся в его кабинете. Его заместитель, он же вице-президент фирмы Юрий Степанович не спеша оглядывал присутствовавших с видом человека, который одним своим присутствием уже делает одолжение другим. И как всегда галстук у него непостижимым образом казался приклеенным, так ровно он сидел под накрахмаленным воротничком на положенном месте. Финансовый директор Александра Яковлевна, по старому главбух, со старой советской халой на голове окончательно расстаться так и не смогла, но по новым временам выстраивала у себя на голове нечто подобное Вавилонской башне. Она сосредоточенно листала какие-то странички, и очки у нее как обычно сползли на самый кончик носа, вот-вот упадут. Но как всегда не падали. Главный аналитик и маркетолог Евгений Викторович, Женечка за глаза, тоже держал в руках какие-то каталоги. Красивый парень, вон какая бородка русая, прямо из чеховской пьесы персонаж, не в первый раз с легкой завистью заметил Петр Григорьевич и поймал себя на том, что погладил свой пока еще голый подбородок. Хороший специалист, кончил Томский университет. Молодой, красивый, стройный — бабам должен нравиться до умопомрачения. Где находится поджелудочная железа — почти наверняка не знает. И что она вообще делает — тем более. Да и зачем ему это знать? Счастливые, как известно, часов не замечают, а здоровые — свой организм. Вот бы… М-да, а почему бы и нет…
— Дорогие коллеги, — сказал Петр Григорьевич. С легкой руки президента страны стало это обращение нынче модным, — рад снова быть с вами. Теперь к делу. Ни для кого из вас не секрет, что наш акционер господин Фэн хотел бы приобрести наш «РуссИТ» и еще год назад сделал нам предложение, оферту, как говорят специалисты по корпоративным продажам и слияниям. — Юрий Степанович сразу напрягся, заметил Петр Григорьевич. Ну что ж, пусть напрягается. — По моему глубокому убеждению, никакого смысла принимать его предложение или даже поторговаться, чтобы поднять цену, у нас нет.
— Почему же, позвольте, однако, полюбопытствовать? — сразу ощетинился Юрий Степанович. — Особенно если он согласен пересмотреть свое предложение и поднять первоначальную цену.
— Охотно объясню. По двум причинам. Во-первых, может быть, вы слышали, что недавно в нескольких компьютерах иностранной сборки, которые использовались в силовых структурах, были обнаружены довольно ловко вшитые в них устройства, позволявшие третьим сторонам копировать базу данных этих аппаратов. Что, как вы понимаете, не очень-то обрадовало власти. И принято решение использовать, по крайней мере, пока что только в силовых структурах и в аппарате правительства, компьютеры исключительно отечественной сборки. Наша компания участвует в тендере на поставку им компьютеров, и от нас зависит, сумеем ли мы получить крупный заказ.
Это первое. Далее. Сегодня же я поговорю с двумя выпускниками Физтеха, которых нам рекомендовал Свирский, и у меня есть все основания полагать, что они согласятся работать у нас. С их помощью и при условии, что мы дооборудуем нашу лабораторию, мы можем надеяться, что через полгода, максимум год у нас будет готов первый экземпляр нового компьютера. Свирский условно называет его флэш-компьютером, аналогов которому в мире еще нет. Сумеем ли мы наладить их массовое производство или нет — всё равно цена наших акций, то есть капитализация компании возрастет, я уверен, в разы. Надеюсь, я изложил свои мысли понятно?
— Но пока суть да дело, — пожала плечами финансовый директор, — расходы предстоят нешуточные.
— Согласен. Я думаю, мы сможем получить достаточный кредит.
— Блажен, кто верует, — пробормотал Юрий Степанович.
— Юрий Степанович, вы прекрасный специалист. У врачей это называется от бога. От бога ли вы у нас оказались или просто так карта легла, но мы работаем с вами и ценим ваши знания и опыт. Но если вы такого низкого мнения о наших перспективах, продайте мне ваши восемь процентов акций. Зачем вам, бедному, мучиться?
— Вам? Боюсь, вы не потянете.
— Ну, это, дорогой мой, уж не ваша забота и не ваша печаль. Давайте договоримся так. Вы называете мне цену, мы поторгуемся и придем к соглашению. И вы преспокойно найдете себе другое местечко, где ничего не будет вас раздражать.
— Ну, знаете… вспыхнул Юрий Степанович. — Я уж как-нибудь сам решу, что мне делать. Не маленький. Хотите меня уволить — это ваше право, но, пожалуйста, не учите меня, что мне делать и что мне думать.
— Ну и решайте на здоровье. Главное — не ставьте нам палки в колеса. ИТ-бизнес ведь чудовищно конкурентен. Чуть споткнешься — всё. Нет тебя. Есть только твои обглоданные косточки, которые преспокойно, да что преспокойно, с радостью выплюнут конкуренты. Примеры приводить не буду. Вся история информатики полна ими. Дорога к успехам в ней проходит по полям недавних жестоких сражений. Где проигравшим даже памятники не ставят. А мы мало того что хотим благополучно пройти по этим полям, так мы еще должны уворачиваться от подножек, которые сами себе и ставим. Всё, коллеги.
Через час в кабинет вошел Вундеркинд, ведя за руки, как детсадовцев, двух молодых людей. Один большой, толстенький, сонного вида, второй, наоборот, маленький, чернявый и юркий с глазами-бусинками, как у вороны.
— Вот, Петр Григорьевич, это мои мальчики, которых я вам обещал. Большенький — это Свистунов Олег Игнатьевич, младшенький — Сидоров Исидор Исидорович.
— Исидор Исидорович?
— Ну, в миру-то он Игорь Иванович Сидоров. Выражаясь литературно, кликуха у него такая. Садитесь, дети, ведите себя прилично, в носу не ковыряйте.
— Здравствуйте, молодые волки. Наш Вундеркинд говорил мне, что вы лучшие из лучших. А я ему верю безусловно. Яша в Америку не уехал, и правильно, по-моему, сделал. Конечно, оклады там с нашими несравнимы, но есть у нас и свои преимущества.
— Это какие, конкретно? — уставился на Петра Григорьевича Исидор Исидорович своими черными любопытными бусинками.
— Ну, обещать вам, что вскоре вы переплюнете нашего соотечественника Сергея Брина, одного из основателей Гугла и миллиардера, я не могу. Но свободу деятельности я вам гарантирую.
— А как деять, на что? — не унимался Исидор Исидорович.
— Для начала вы будете получать по сто тысяч рублей в месяц. Через три месяца, если вы проявите себя, и Яков будет считать, что вы на своем месте, оклад вырастет на пятьдесят процентов. Мало того, если мы сработаемся, мы со временем выделим лабораторию в отдельную хозяйственно-исследовательскую структуру со своим счетом. И вы сможете стать ее совладельцами, то есть участвовать в прибылях.
— А в убылях? — улыбнулся Исидор Исидорович.
— И в убылях тоже. Если через три месяца мы придем к выводу, что устраиваем друг друга, мы поможем сделать вам первоначальный взнос и получить ипотеку на приобретение хорошеньких коттеджиков недалеко от лаборатории в поселочке с поэтическим названием не то «Сосновое счастье», не то «Сосновый бор», точно уж не помню.
— А лаборатория? — пробасил толстенький. — А то я со своим паяльником могу прийти.
— Начинаем оборудовать ее. Мы с Яшей уже обсудили, какое оборудование нужно купить в первую очередь.
— Соблазнительно излагаете, господин президент, — вздохнул Свистунов.
— И что же вас смущает?
— Да сам не знаю… Если вы согласны нас на испытательный срок в колодки не заковывать и каленым железом тавро на лбу не выжигать, можно, пожалуй, и попробовать.
— Я согласен, — улыбнулся Петр Григорьевич Свистунову. Симпатичный парнишка, ничего не скажешь. И полнота у него какая-то уютная, домашняя.
— То вы, а Яша — человек жестокий, палач по натуре, инквизитор, можно сказать. Он-то как?
— За палача ответишь, Свистун. Но так и быть, пощадим.
— Ладно, — печально кивнул головой Исидор Исидорович, — что ж делать, рискнем. Продадимся в рабство… Хорошо хоть не в сексуальное.
— Кто ж тебя, убогонького, в мужской стриптиз с интимными услугами возьмет? Так что бояться тебе сексуального рабства нечего.
Костя позвонил в милицию тому самому Стычкину, на которого по изящному выражению коллеги, повесили труп Даши.
— Какие-нибудь новости есть, товарищ старший лейтенант?
— А, это наш бывший товарищ, продавшийся новой российской буржуазии?
— Он самый.
— Не подыскал еще мне у них местечко? Одни обещания? Ладно, шучу, конечно. Так вот. Похоже, что это было действительно не банальное ДТП, а убийство. Очень, видно, кому-то хотелось девчушку на тот свет отправить.
— Почему вы решили?
— Понимаешь, хотя был сильный дождь, и со следами машины пришлось повозиться, выходит, что сначала ее машина ударила, а потом отъехала и проехала по ней…
— Господи, есть же выродки…
— Чего-чего, а этого добра у нас навалом. Можем экспортировать, как нефть. Машину пока не нашли и, боюсь, не найдем. Свидетелей нет: и поздно было, и местечко такое, и дождь — всё вместе.
— А осколки ампулы?
— А здесь свои сложности. Эксперты говорят, что на них найдены следы вещества, которое идентифицировать не так просто.
— Почему?
— Какое-то вещество органического происхождения. Говорят, не встречали еще такого… Хорошо хоть теперь не требуют от нас стопроцентной раскрываемости, вон, говорят, у американцев всего процентов, кажется, тридцать, а нас раньше заставляли под девяносто тянуть. Все мозги повысушивали придумывать всякую чушь. Но вообще-то в этом дельце крошечная зацепочка все-таки есть. Подруга этой девушки рассказала, что влюбилась она не так давно в какого-то парня, а он, как она поняла из рассказов убитой, оказался наркоманом. Только ни фамилии его не знает, ни кто он и где живет. Раз только его мельком видела, ну и как будто зовут его Степа. В смысле Степан. Такие вот неопределенные вещи. Вот и ищи. Как это в одной старой песне пелось — а я еду, а я еду за туманом… Как говорят в одной телепрограмме, будем ждать откликов. Ну, и надеяться, что выйдем как-нибудь на след этого наркомана. Чутье мне нашептывает, что он как-то с убийством связан.
— Спасибо, товарищ старший лейтенант.
— Не за что, служивый. Пока. Будут какие-нибудь новости, тут же позвоню.
— Яша, если ты не возражаешь, я бы хотел задержать тебя на несколько минут, — сказал Петр Григорьевич Вундеркинду, когда они остались одни.
— Слушаю, Хозяин.
— Не буду пока что объяснять тебе почему, но у меня в последнее время очень обострилось чувство времени. Которое мчится и мчится, как пришпоренное и которое не удержишь и не замедлишь. И я бы хотел спросить тебя — не как работодатель, а как… я даже не знаю… боюсь выспренних слов… ну, не в словах дело. Скажи, ты действительно считаешь, что при условии нормального финансирования и более или менее нормальной лаборатории вы сможете быстро, скажем, в пределах полугода-года, собрать ваш флэш-компьютер?
— Собрать-то не фокус, Хозяин. Фокус в том, чтобы модель эта действительно была бы в разы эффективнее и по приемлемой цене. Вообще ведь вся ИТ — информационные технологии — развиваются с чудовищной скоростью, а флэш-память, флэшки попросту, вообще плодятся, как дрозофилы. Знаете, есть такие мушки, на которых любят ставить свои опыты генетики, потому что поколения у них сменяются с бешеной скоростью. Флэш-память была изобретена всего-то навсего двадцать пять лет назад японским инженером Фудзио из компании «Тошиба», и была это скорее игрушка. Первую же коммерческую флэшку выпустил Интел в восемьдесят восьмом году. А сегодня такие гиганты, как «Тошиба» и «Самсунг» вцепились друг другу в горло в схватке за растущий рынок флэш-памяти. И емкость памяти у нынешних флэшек уже достигла двести пятьдесят шесть гигабайт, а в новейших образцах даже в несколько раз больше. Не буду вам объяснять, что это значит, скажу лишь — это много. Очень много. А о размерах и говорить не приходится — недавно объявлено о создании флэшки размером с почтовую марку. Представляете себе почтовую марку, в которой умещается с десяток энциклопедий, от Большой Советской до Британники? Я, если уж совсем как на духу, не могу, хотя ими и занимаюсь.
Почему же, спросите вы, до сих пор в компьютерах флэшки не используются в качестве основного накопителя… Я вам не надоел еще своими лекциями?
— Что ты, Яша, продолжай.
— Так вот. Почему в качестве основного накопителя информации в компьютерах используется жесткий диск или, как его еще называют, винчестер, а не гораздо более компактная флэшка? Да потому что винчестер работает побыстрее. И соотношение память — скорость — цена у него пока что получше. Что в принципе нонсенс, потому что винчестер — это вращающееся устройство и, по законам физики, инерционно, то есть при включении оно требует время на разгон, в чем флэш-память не нуждается.
— Я тебя перебью на секундочку. Знаешь, для профана — а я-то в конце концов в компьютерных тонкостях безусловный профан — этот ваш винчестер вызывает у меня священный ужас дикаря перед непознаваемым. Как это может быть, чтобы в огромном каком-нибудь тексте в сотни страниц, я мог дать компьютеру команду найти какое-нибудь слово, и через долю секунды оно выскакивает на мониторе, как черт из табакерки. Как, пытаюсь я представить себе, могут головки жесткого диска мгновенно переворошить сотни тысяч слов, чтобы найти нужное? В доли секунды… Чудо чудное…
— Если совсем уж честно, Хозяин, хотя теоретически я, конечно, понимаю, как работает винчестер, для меня это тоже чудо. С другой стороны, если вдуматься, мир вокруг нас полон чудес. Я, признаться, даже по-настоящему не понимаю, что такое электрический ток и как он течет. Как представлю себе полчища бедных несчастных электронов, которых заставляют из-под палки толкаться и пробираться по узким проводникам, сразу пожалеть их, горемык, хочется. Подневольные. Сидели бы на месте, отдыхали, а то гонят и гонят их. Сколько их, куда их гонят… Просто плакать хочется. Но я, Хозяин, немножко отвлекся. Говоря о флэш-памяти, я сделал маленькое усовершенствование, которое делает мою флэшку не только равной по скорости жесткому диску, но и превосходящей его…
— Такое уж маленькое, Вундеркинд? Или ты просто кокетничаешь?
— Конечно, кокетничаю. Но вернемся к нашим баранам, то есть флэшкам. В принципе для создания нашего принципиально нового компьютера есть всё. Нужно только три воодушевленные и достаточно прочные задницы…
— Задницы? Воодушевленные?
— Угу. Это ведь только считается, что ученый думает головой. Величайшее заблуждение, распространению которого способствуют сами ученые. На самом деле — задницей. В смысле, простите, жопой. Вот я и говорю, что три хорошие преданные науке жопы…
— Это ты о ком?
— Моя, Свистуна и Исидора Исидоровича. Судя по тому, о чем переговаривались ребята, когда выходили от вас, их задницы готовы для трудового подвига.
— А о чем они переговаривались?
— Какую машину лучше купить. Свистуну нравится «шевроле лачетти», а Исидор Исидорович предпочитает маленький «пежо». Скромненько, конечно, но не успеешь оглянуться, они уж к «мерседесам» начнут прицениваться.
— Может, дать им на первый взнос?
— Это, Хозяин, — ухмыльнулся Вундеркинд, — уже мне решать. Может, во мне еще зреет и талант нового Песталоцци или Макаренко.
— Значит, ты считаешь, что сделать новый компьютер можно?
— Всё можно, Хозяин. Надо только знать, за что уцепиться, чтобы не оторвать чего и не утащить для продажи налево. Это ведь наш национальный вид спорта. Может, если бы у нас народишко не тащил всё прямо на ходу, были бы мы впереди планеты всей не только в ракетах и балетах. Хотя говорят, что это по инерции мы так думаем. На самом деле и в том и в другом мы уже давно не безусловные лидеры. Но с мифами расставаться жалко, особенно когда ты вырос на них.
— Ладно, Вундеркинд, верю тебе. У тебя девушка есть?
— Если б одна, — тяжко вздохнул Яша, — а то с двумя бьюсь и никак не решу, какую выбрать.
— Одни плачут, что суп редкий, другие — что жемчуг мелкий. Главное, не давай им отвлекать тебя. А знаешь, Яш, может, тебе ислам принять?
— Ну, еврея могут и не принять. А для чего?
— Как для чего? Заведешь себе две-три жены, чем плохо…
— А что, очень здравая мысль, попробую поговорить с ними…
— Спасибо, Вундеркинд. Ты меня очень поддержал, а то, как я уже сказал, какой-то у меня появился зуд убегающего времени. Знаешь, почему я тебе сразу и безоговорочно поверил?
— Я не очень-то понимаю, почему я сам себе верю.
— Потому что глаза у тебя смешливые и непочтительные, но чертовски честные.
— Спасибо, Петр Григорьевич, можно, я эти слова выбью как скрижали на камне и повешу на стену?
— Можно, Яков Борисович.
Вундеркинд вдруг посерьезнел и внимательно посмотрел на Петра Григорьевича, но промолчал и встал.
— Можно идти, Хозяин, а то там меня мои малыши заждались?
— Иди, Яша. И спасибо тебе.
Вундеркинд еще раз вопросительно посмотрел на Петра Григорьевича. — Не за что. Во всяком случае, пока что не за что.
— Да, чуть не забыл. Не мог бы ты сделать какое-нибудь устройство, чтобы можно было проверить помещение или там машину на предмет нежелательных подслушивающих устройств?
— Проще пареного. Сделаю сегодня же.
— Спасибо. Говорить об этом, как ты понимаешь, не стоит. Когда сделаешь, отдашь моему Косте.
— Будет сделано, Хозяин.
В дверь позвонили. Степан, кряхтя, сполз с дивана и подошел к двери.
— Кто там?
— Юлий Юльевич.
— Заходите, ЮЮ, — промямлил он, открывая дверь.
— Ну, Степа, ты молодец, герой наш находчивый, — прямо с порога начал ЮЮ. — Не смог заказ выполнить, решил хоть девчонку ухлопать, а? Для отчета, что ли?
— Так она… она ж могла расколоться. Когда она мне позвонила, что бежит ко мне, чтобы отдать мне то, что я ей дал, я сразу понял, что она… ну, что неуправляема она. А что, сидеть и ждать, пока она нас всех сдаст?
— Это ты, Степа, тонко рассудил. Чистый Шерлок Холмс. Только вот заказ-то не выполнен. А заплатить-то нам должны не за какую-то там медсестру, кому она нужна. Ладно, не кручинься так. Что-нибудь придумаем. Машина-то в надежном месте?
— Вполне, в ракушке одной на другом конце Москвы. Да на ней, между прочим, и следов-то практически нет.
— Хорошо, Степа. Хоть одно сделал правильно.
— ЮЮ, я так понимаю, что аванс придется как-то отрабатывать…
— Конечно, пятьдесят тысяч рубликов на улице не валяются. Я сколько ни ходил, что-то их не видел. Не хотелось, скажу честно, тебе такой аванс давать. Сколько тебе на дозу нужно? А пятьдесят тысяч-то тебе на что?
— Не сердитесь, ЮЮ. Я думал Даше что-нибудь купить… А вон оно как получилось… Кто знать-то мог… Но я, ей-богу, отработаю.
— Ты уж отработаешь… Сегодня-то ширялся?
— Да нет, ЮЮ. Дома ничего нет, пусто, а идти… настроение какое-то поганое.
— Понимаю. Я тебе принес.
— Честно? — оживился Степан.
— Ну что я тебя обманывать буду? Держи шприц. — Юлий Юльевич осторожно, не касаясь завернутого в пластик шприца, протянул его Степану. — Перший сорт товар. Афган. Разведен в нужной дозе. Давай, а то мне самому шприц нужен.
Привычным движением Степан поднял рукав, покачал головой, глядя на многочисленные следы уколов, глубоко, с плотоядным присвистом вздохнул, ловко воткнул шприц в руку и надавил на плунжер. Тело его как-то сразу обмякло, он откинул голову на вытертое подголовье дивана и блаженно закрыл глаза.
ЮЮ молча смотрел на него. Тело Степана еще больше обмякло, отчего голова его уперлась подбородком в грудь, потом как-то странно дернулось несколько раз. Рот его приоткрылся, и из уголка побежала тоненькая струйка слюны. Юлий Юльевич вытащил из кармана белые нитяные перчатки, надел их на руки и взял руку Степана. Рука почему-то показалась тяжелой, как металлическая. Он попробовал нащупать пульс, но сквозь перчатки пульс не нащупывался, и он поднял веко Степана. Зрачок закатился, и глаз выглядел каким-то нелепым уродливым украшением на безжизненном лице.
Юлий Юльевич удовлетворенно кивнул, не торопясь, протер ручку двери — больше, кажется, ни к чему он не притрагивался, и начал методично искать деньги. Деньги лежали под телевизором. Он пересчитал их — по натуре он был человеком методичным и пунктуальным. Тридцать две тысячи. Это ж надо, за три дня спустить восемнадцать тысяч… Он покачал головой, положил деньги в карман своей куртки, снова подошел к Степану и наклонился над ним, прислушиваясь к дыханию. Дыхания не было. Да и не могло быть. Героин был неразбавленный, так сказать, концентрат, и такая доза не то что такого мозгляка, как Степан, и лошадь могла, наверное, убить. Ну, поправил он себя, лошадь не лошадь, а Степану достаточно. Тут уж не передозировка, а перепередозировка. Классический случай, даже у самого подозрительного скептика сомнений не появится.
Жалко ему Степу не было. Может, даже и одолжение ему сделал. Что его, бедолагу, ожидало… Он уже давно никого не жалел, разве что себя, да и то не слишком часто. Никчемное чувство, он давно это понял. Жить только мешает.
Он еще раз оглядел комнату, подошел к двери, прислушался и вышел. Машину он оставил в трех кварталах. Осторожность никогда не помешает. Лучше пере чем недо. Ничего не поделаешь, работа такая. Каждому свое. Как это по-немецки? На воротах концлагерей еще написано было. А, да, вспомнил: едэм дас зайне.
Завтра нужно будет связаться с заказчиком и получить новые инструкции. Самодеятельностью в таких вещах заниматься не стоит. Кто знает, может, он уже передумал или его планы как-то переменились.
Машина стояла там, где он оставил ее. Еще не подходя к своему старенькому «гольфу», он привычно оглянулся. Вроде всё спокойно. Он на расстоянии разблокировал брелоком сигнал тревоги. Открыл дверцу, сел, неторопливо закурил, завел мотор и поехал домой.
— Анна Николаевна, — сказал секретарю Петр Григорьевич, — попросите, пожалуйста, зайти ко мне Евгения Викторовича. Прямо сейчас, если он может.
Удивительные чувства вдруг начал он испытывать к своему аналитику. И почему-то хотелось как следует рассмотреть его, как будто за те полтора года, что он в фирме, он увидел его в первый раз. Особенно его чеховскую русую бородку и русые же волосы с косым пробором. Привлекательный парень, ничего не скажешь. И бабам, надо думать, нравится. Просто не могут такие не нравиться. Петр Григорьевич почесал ладонью свой голый подбородок и вдруг — словно занавес перед ним поднялся — понял, что именно тянет его к аналитику. Уж во всяком случае не анализы его и графики возможного спроса на продукцию ИТ в ближайшие годы. И не предложения о том, как увеличить продажи. И не потому, что в глубине души мог он — должен был — завидовать его молодости, здоровому телу. Нет, не в этом дело. А дело в том — страшно сказать даже самому себе — что помимо своей воли прикидывал, примерял на себя и русую бородку, и длинные артистические волосы с косым пробором, и хорошо скроенное молодое тело. Хотя так уж против своей воли? Словно костюм выбирал себе в хорошем бутике. М-да… На мгновенье он ужаснулся: неужели же мог он всерьез думать о бреднях сумасшедшего вонючего старика? Гнать, гнать от себя нелепый этот вздор! Забыть, выкинуть из головы раз и навсегда. Не было никакого Пушкина, никакой лиры, которой предстояло пережить прах и тленья убежать, никакого Заболоцкого, никаких разрядок и зарядок человеческих голов. Не было никакого мычащего старика, не было никакого разговора о новых телах. Вздор, вздор. Он, конечно, умирает от своей предательницы поджелудочной железы, но голова-то у него пока еще работает, слава богу.
Подожди, вдруг кольнула его живот и голову тоненькая, но какая-то остро торжествующая боль. Кольнула и словно оскалилась саркастически: ишь ты, добродетельный какой… Жить-то, поди, хочешь, старая обезьяна? Забыть о смерти, о черном поджидающем тебя совсем недалеко провале, откуда уже сейчас тянет промозглым холодом могилы? Только не юли, не крутись, как привычно крутился всю жизнь. Как все крутятся. Наберись мужества хоть на краю могилы…
— Разрешите, Петр Григорьевич? — просунул голову сквозь приоткрытую дверь кабинета Евгений Викторович. — Вы меня вызывали?
— Заходите, Евгений Викторович. Садитесь.
Главный аналитик как-то бочком, словно боясь чего-то, вполз в кабинет и, напряженно выпрямившись, присел на самый краешек кресла напротив стола Петра Григорьевича. В руках он нервно теребил целую кипу листочков. Надо его разговорить, подумал Петр Григорьевич, отвлечь, а то он словно аршин проглотил.
— Евгений Викторович, я хотел, чтобы вы мне вкратце обрисовали ситуацию на рынке. Я имею в виду продукцию ИТ. Чего можно ожидать в ближайший год-два? Цифр никаких не нужно, просто ваше понимание этого вопроса.
Напряжение прямо на глазах выходило из аналитика: он облегченно вздохнул и даже устроился в кресле поудобнее. Интересно, чего он так боялся, подумал Петр Григорьевич, не мог же он догадываться, что было в голове у начальника. Хотя, с другой стороны, найти такую работу, как здесь в компании, в Москве не так-то просто. Мало ли что может быть у начальства припасено за пазухой… Потому, видно, и боялся.
— Видите ли, Петр Григорьевич, — начал Евгений Викторович, и голос его звучал всё увереннее с каждым следующим словом, — мне кажется, что информационные технологии — это, так сказать, последний редут технического прогресса.
— В каком смысле?
— В том, что производство, по крайней мере в развитых странах, держится не на реальном спросе.
— А на чем же?
— Только на взбадривающих уколах рекламы. Ну какая, простите, разница между автомобилем модели пятилетней, скажем, давности и нынешней, если, конечно, отбросить всю рекламную болтовню? Я говорю, разумеется, не о годе выпуска, а о модели. Да никакой принципиальной разницы. И самолеты в сущности такие же, что были пять или десять, или пятнадцать лет назад. Ну, чуть экономичнее, но ведь и цена нового товара выше. Я уж не говорю об одежде, обуви и тому подобных вещах. Я вот, например, недавно новую электрическую бритву купил. «Филипс». Так верите, бреет похуже, чем та, которую я еще в Томске приобрел. Дизайн зато новый. Тут всё не на реальной потребности держится, а на моде, которая в сущности ничто иное, как наркотик, на который подсели десятки миллионов, прежде всего, конечно, женщины.
— Гм… А информационные технологии?
— Строго говоря, и они уже давно достигли и даже превзошли уровень реально потребного. Ну, может, для каких-то строго научных или военных целей еще более чудовищное быстродействие компьютеров и нужно, но это ничтожно малая толика рынка. А основному рынку все эти новшества, сыплющиеся из рога изобилия Гугла и Эппла, Самсунга и Нокиа и многих других, вовсе и не нужны. Я, например, считаю себя более или менее квалифицированным пользователем своего компьютера. На жаргоне, продвинутым юзером. А использую я его возможности — я недавно прикинул — процентов на десять самое большее. Больше мне и не нужно. Предложи мне какой-нибудь необыкновенный суперкомпьютер по той же цене, что стоит обычный ноутбук, так я и одного процента его возможностей не смогу использовать.
— Почему же все эти новинки все-таки находят спрос?
— Я, знаете, давно думал об этом. И пришел к неожиданному, может быть, выводу, — Евгений Викторович несмело улыбнулся, — что тут дело в том, что потребитель ровным счетом ничего не понимает в устройствах всех этих смартфонов, ноут- и нетбуков, коммуникаторов, электронных книг для чтения, навигаторов, планшетов и тому подобных гаджетов. А раз не понимает, может, как дикарь восхищаться ими и желать себе всё новых божков, хвастаться ими и молиться на них. Главное, конечно, хвастаться. Первый парень на деревне. Ну, и доступность, конечно, свою роль играет. Может, и в самолетах массовый потребитель тоже не очень разбирается, но не станет ведь он покупать себе каждый год по новому Боингу? — Аналитик как-то испуганно улыбнулся и посмотрел на Петра Григорьевича. — Я, может быть, не очень внятно говорю…
— Господь с вами, очень даже внятно и очень интересно. — И совсем неглупый парень, подумал Петр Григорьевич. Вот так работаешь с людьми в одной фирме и понятия не имеешь, что они из себя представляют. Впрочем, он не то что работает, под одной крышей с женой живет, и всё равно остается она для него полной загадкой…
— И вы считаете, что эта тенденция сохранится еще какое-то время?
— Безусловно. Потребление ведь давно уже стало религией куда более эффективной, чем религии традиционные. Там святые и пророки тысячелетиями остаются теми же, а в потреблении каждый год тебе новые объекты потребления-поклонения подсовывают. Новизна и доступность — это, знаете, непобедимое оружие. И никому не хочется отставать от ближнего своего, боже упаси! Наоборот, каждый норовит похвастаться новинкой. Как, у вас нет АйПода от Эппла? А у меня новейший: ткнул пальцем в экран и он что угодно тебе тут же покажет, от биржевых курсов до адресов бутиков, Одноклассников или Твиттера… — Аналитик робко взглянул на шефа, словно сам поражался собственной смелости. — И не дай бог, чтобы потребитель вдруг спохватился и перестал потреблять во много раз больше, чем ему нужно. Я говорю, конечно, о развитых странах.
— Почему же?
— Потому что вся цивилизация начнет тогда рушиться, как карточный домик. Спрос меньше — производство падает. Число безработных катастрофически растет. Заработки, наоборот, падают. Уровень жизни снижается. Потому что человечество расплодилось в десятки раз больше, чем предписано ему природой, и давно живет, так сказать, не по средствам. В долг. Так что мы все попали в ловушку искусственно поддерживаемого излишнего спроса… И, как ни парадоксально, чтобы современная экономика выжила, она должна всё глубже залезать в ею же расставленные ловушки. — Аналитик испуганно посмотрел на Петра Григорьевича. — Простите меня, разболтался. Я, знаете, иногда так всеми этими вещами увлекаюсь, что никак не могу вовремя остановиться.
— Да что вы. Наоборот, мне было очень интересно, Евгений Викторович. И спасибо огромное, вы даете возможность посмотреть на вещи шире, чем я это делал раньше.
— У меня тут графики предполагаемого роста спроса приготовлены, показать вам?
— Спасибо, Евгений Викторович, — кивнул Петр Григорьевич. — Может, в другой раз, у меня сегодня дел невпроворот, а чувствую я себя, если честно, довольно хреново.
— А что с вами? — испугался аналитик.
— Гастрит, ну и всякое там такое. Спасибо вам.
Главный аналитик вежливо наклонил голову и с явным облегчением вышел из кабинета.
М-да, думал Петр Григорьевич. И физически парень привлекательный, и вовсе не дурак. Хотя, одернул он сам себя и усмехнулся, дурак не дурак — какое это имеет значение, если на самом деле не он будет поглаживать свою бородку, а новый постоялец в этом молодом и, по-видимому, здоровом теле. Во вполне четырехзвездочном, а может, и пятизвездочном теле. Гм… вот так незаметно человек и привыкает к тому, к чему, казалось бы, привыкнуть нельзя, заметил сам себе Петр Григорьевич. Всё меньше и меньше «но» и всё больше и больше планов по обустройству новой квартиры. И вообще, мучаются сомнениями, когда выбирают квартиру. А когда шкаф затаскиваешь — совсем другие заботы. Чтобы шкаф этот не поцарапать и чтобы встал он на положенное место.
Может, мы потому и обогнали всех зверей на свете, что лучше умеем адаптироваться ко всему, что бы ни случилось. Интересно, вдруг подумал он, как бы к такой дилемме отнеслась Таня? Ответа не было. И не только потому, что и Тани не было, а потому, что не мог он себе даже представить ее реакции. Да, дралась бы за его жизнь насмерть, простите за невольный каламбур, но такой ценой…
Да, парень он неглупый, но, похоже, довольно трусливый и безвольный. Как такой сможет руководить его фирмой? Фу, недоумок, что за чушь опять лезет в голову. Он-то тут будет при чем? Это ведь не Евгений Викторович, а он, Петр Григорьевич, будет поглаживать чеховскую бородку и слегка театральным жестом откидывать голову, чтобы волосы не лезли в глаза.
Кто знает, а может после всей этой операции останется в новой голове Петра Григорьевича, то есть Евгения Викторовича, что-то от прежнего хозяина русых волос? А если и не останется, всё равно придется ему как актеру, получившему новую роль, вживаться в новое тело. А что, если допустит аппаратура старика сбой, и в голове Петра Григорьевича, то есть опять-таки, Евгения Викторовича, образуется какая-то каша, смесь двух личностей, двух «я»? Тогда уж прямой ход в психушку. Обратите внимание, господа, редкий случай классического раздвоения личности.
Господи, голова кругом идет. Петр Григорьевич поймал себя на том, что откинул жестом аналитика свою несуществующую шевелюру. Быстро, быстро, однако, соблазнила его новая жизнь. Поупирался, поупирался немножко скорей для приличия, если быть до конца честным с самим собой, и так охотненько сдался. Да даже и не сдался, а легонько соскользнул в решение. Поди, если бы ситуация была обратная, и нужно было жертвовать не каким-то там парнем из Томска, а самим собой, вот тогда бы аргументы против в длиннющую очередь выстроились бы.
5
Мобильный в Костином кармане тоненько тренькнул, и Костя поднес его к уху.
— Слушаю, товарищ старший лейтенант.
— Смотри, — удивился Стычкин, — ты уж и голос мой узнаешь. Тут кое-что появилось по интересующему тебя вопросу. Может, подъедешь?
— А может, встретимся где-нибудь после работы? Ты где живешь?
— У Сокола в районе Песчаных.
— Какой-нибудь ресторанчик у вас там есть недалеко?
— Ишь ты, какие замашки у тебя, служба безопасности. Нам по заработкам положено не в рестораны ходить, если, конечно, живешь только на них, а где-нибудь в парке примоститься, вытащить из кармана бутылку дива, постучать воблой о фонарь — и гуляй — не хочу!
— Ладно уж прибедняться, старлей. Сколько твоих коллег на вобле сэкономили и на какой-нибудь «ситроенчик» скопили? Так какой у вас там ресторан подходящий?
— Есть один, «Невка». Меня там знают, догола уж совсем не разденут. Штаны наверняка оставят. И домой вовремя вернусь. Жена будет довольна. Не-е, она вообще-то у меня хорошая баба, смешливая такая. Придешь чуть позже, она с сыном — пять лет пацану уже — подушки схватят и кричат: русс, сдавайся!
— Ну и прекрасно. В восемь сможешь?
— Смогу.
Они сидели в полупустом прохладном зале. Стычкин разлил по бокалам пиво.
— Ну, бывай, пивом не чокаются. Я тебе что хотел рассказать — нашли мы, кажется, этого парня, что медсестру сбил.
— Молодцы. И что он…
— Молчит. Потому что уже два дня как не нам отвечает, а перед Высшим Судией, как говорится, отчитывается.
— То есть?
— То есть, помер. Передозировка.
— М-да…
— Всё как будто ясно, но как-то, знаешь, слишком уж плотно всё одно к другому подогнано. С другой стороны, я начальство понимаю. Мы и так с перегрузкой работаем, а тут еще с каким-то наркоманом возиться. Тем более без очевидной перспективы. Но ощущение у меня такое, Костя, что помогли этому наркоману в последний раз уколоться… Объяснить этого не могу, так, ощущение…
— А почему ты уверен, что это он медсестру…
— Подружка ее его опознала. Говорит, что вроде это тот парень, с которым Даша встречалась.
— М-да… Ладно, Андрей. Оставим пока покойников. Скажи, ты бы хотел немножко прирабатывать?
— А что надо? Может, это и не по моей части.
— Да ничего особенного не нужно. Ну, там помочь нам иногда…
— В чем именно?
— Ну, отогнать машину, съездить куда-нибудь после работы, если я буду зашиваться. Говорю ж тебе, ничего такого особенного.
— Гм… И что я за это буду иметь?
— Ну, скажем, тысяч двадцать пять в месяц.
— А что, — оживился Андрей, — приварок недурен.
— Тебе как удобнее — заключить с нашей фирмой договор или частным образом?
— Не-е. Только не договор. А то начнется как, что, почему и так далее. У нас народец сам знаешь какой, не так важно сколько ты имеешь, главное, чтоб у соседа больше не было. Желательно даже, чтоб поменьше.
— Ну и хорошо. Может, еще по паре бутылок, а? Это что у нас, «Балтийское»?
— Оно. Хотя по мне что это пиво, что другое — всё одно. Ладно, давай за сотрудничество частного и государственного сектора.
Никак не выходили у Петра Григорьевича из головы слова сумасшедшего старика «пока жив». А вдруг не успеет? А вдруг сам богу душу отдаст прежде чем… И оставит его опять вздрагивать в тоскливом отчаянии при мысли о черном бездонном провале. Ох как непросто было решиться переступить черту, ох как непросто. Но уж раз решился, откладывать не хотелось. Да что не хотелось, просто невмоготу было. Он поймал себя на том, что уже который раз за последние дни поглаживает свою всё еще воображаемую русую бородку на годом своем подбородке. Нет, ждать было положительно нельзя. В конце концов, если он чего-то все-таки добился в этой жизни, то добился не потому, что без конца занимался русским типичным самоедством, а потому, что не боялся принимать решения. Принимал. И непростые, ох какие непростые были иной раз эти решения. Бизнес вообще мямлей не приемлет. А об отечественном и говорить не приходится. Это ведь скорее война. И не решишь, когда отступить, а когда подняться и броситься в атаку, не выживешь.
Он набрал номер Семена Александровича. Один гудок, второй. Сердце у него испуганно трепыхнулось. Господи, неужели он…
— Да, кто это? — рявкнула трубка, и Петр Григорьевич испытал давно забытое чувство острой радости — жив!
— Это, Семен Александрович, ваш…
— Да, да, я вас уже узнал. Ну что?
— Что «что»?
— Решились?
— Да.
— Ну и прекрасно. Может, вы сумеете завтра подъехать ну, скажем, к двенадцати?
— Туда же?
— На место нашего первого свидания.
— Что… а… да-да, конечно. В двенадцать?
— В двенадцать.
— Хорошо, буду.
Утром Петр Григорьевич взял из сейфа триста тысяч, подумал и положил их в пластиковый пакет. В полдень он уже сидел на лавочке и невидящими глазами смотрел на строчки, высеченные на постаменте памятника. «Душа в заветной лире мой прах переживет и тленья убежит…» На соседней скамеечке парень и девушка держались за руки и смотрели друг на друга влюбленными глазами, а старушка напротив них с нескрываемым любопытством наблюдала за ними, словно ожидала, пока от держания рук они перейдут к объятиям. У девушки был голый по моде пупок, хотя осенний ветерок был таким прохладным, что не голый пупок демонстрировать надо, а теплую курточку. И как это ей не зябко, подумал было Петр Григорьевич и тут же усмехнулся. От ребят, похоже, прямо жаром веяло, так бушевали в них гормоны. Кажется, присмотрись и увидишь, как они словно мошкара роем жужжат вокруг них. А что, он, конечно, с голым пузом в скверике сидеть уже не сможет, даже и в новом его, так сказать, обличье. И мужики пока что пивными своими брюшками не хвастают, да и возраст даже в новом теле будет уже не тот, но гормоны в нем еще попузырятся. Ну, слава богу, вон и сумасшедший его гений ползет потихонечку.
Семен Александрович выглядел сегодня еще хуже, чем накануне. И руки у него, похоже, тряслись, как он этого в прошлый раз не заметил. Паркинсон это, кажется, называется. Не здороваясь, он сел рядом с Петром Григорьевичем и с любопытством посмотрел на пластиковый пакет у него в руке.
— Это что… а… догадываюсь, старику бутерброд притащили? Зря, потому что я еще полон геркулесовой каши, будь она неладна. Только ей и живу… если… что если? Ах да, если это можно назвать жизнью.
— Да нет, Семен Александрович. Там деньги. Ровно триста тысяч рублей.
— Интересно, очень даже… интересно…
— Что вам интересно?
— Неужели столько денег бывает? Я, знаете, Григорий Петрович, всё больше в пределах сотни считаю. Пачка геркулеса, пакет молока полуторапроцентного, хлеб подешевле, сахар. А кому эти деньжищи?
— Вам.
— Мне? Это что, задаток?
— Он самый.
— Да как вы смеете, — вдруг рассердился старик и тут же обмяк. — А что, собственно, смеете, сам… как бы это выразить… не знаю и не ведаю… А хотите, я сейчас эти деньги достану и по ветру пущу? В прямом, так сказать, смысле? Куда там сцене из «Мастера и Маргариты» Булгакова? Хотите?
— Да что вы, дорогой Семен Александрович, — испугался Петр Григорьевич, — зачем это вам?
— Зачем? — Старик пожал плечами. — И действительно, зачем? Ну, тогда я ими так распоряжусь. Во-первых, на могилке матери плиту уложить… Отца своего я вообще не помню и не знаю. А во-вторых… сейчас вспомню… я об этом часто думал, наглядно так… представлял… Была у меня когда-то лаборантка Зоечка. Сейчас ей лет, по-моему, под семьдесят. Хорошая душа… Жива она, жива, каждый год мне 23 февраля звонит, с праздником защитника отечества поздравляет. Это я-то защитник… Пошлю ей двести тысяч. Вот удивится старушка… М-да… обязательно удивится. Ну, если не передумали, давайте денежки.
— Вот, пожалуйста. Можете пересчитать.
— Зачем?
— И то верно, незачем… Я, Семен Александрович, уже… как бы поизящнее выразиться… Тело себе подыскал.
— И он что, согласен? — вдруг не то засмеялся, не то закудахтал старик.
— Понимаю ваш юмор. Меня интересуют некоторые детали.
— Валяйте, друг мой. Хотя чего валять… — Семен Александрович потер себе лоб. — Совсем голова плохо работать стала. Так что вы хотели спросить?
— Скажите, а вы уверены, что в новой моей голове будет прописан, если можно так выразиться, только один человек — я, а не коктейль из прошлого владельца головы и меня? Я, как и абсолютное большинство моих соотечественников вырос в советские времена в коммуналке, но давно уже привык к отдельной квартире. Если вы, конечно, понимаете, о чем речь.
— Ну, вообще-то в этом мире можно быть твердо уверенным только в одном — в чем? Да черт его знает. Пожалуй, только в том, что всё когда-нибудь кончается. А что касается вашего вопроса… По всему выходит, что прежняя память будет стерта. Ну, может какие-то глубоко спрятанные воспоминания… детства, например, и могут всплывать в какие-то моменты… Вспомните вдруг, например, какую-то конопатую девчонку в чулках в резинку и как ваше маленькое сердечко билось при виде ее и заходилось в сладостных мечтах… Чем она вам в конце концов помешает?
— Кто?
— Как кто? Конопатая девочка в чулках в резинку.
— А в остальном?
— Чего вы так уцепились за чистоту… А, да… Чистоту вашей памяти. Да. Ну мало ли что может всплыть из самых ее глубин… Я вот сидел недавно и работал, а в голову вдруг невесть откуда-то вплыло: гром гремит, земля трясется, поп на курице несется, попадья за ним пешком, подгоняет помелом. Помелом… А? А может, ремешком? Или посошком. Черт ее знает, чем она подгоняла бедного супруга. А потом сообразил, что не то слышал, не то сам напевал эту детскую глупость лет шестьдесят с лишним тому назад. Представляете? И где, спрашивается, были поп, курица и попадья все эти годы? А черт их знает в каком мозговом придонном иле они прятались. Ну и что, прожил я целую жизнь, пусть дурацкую, но всё-таки жизнь, и никто из них, ни поп, ни попадья, ни тем более курица меня совершенно не беспокоили и мне не мешали. Так что не волнуйтесь, в главном будете вы всё тем же бизнесменом… Сколько вам, между прочим?
— Шестьдесят два.
— Значит, будете бизнесменом шестидесяти двух лет, которому надо будет постепенно привыкать — или правильнее сказать, вспоминать — что женщины — это, как ни крути, довольно притягательные создания, что тело ваше может многое, о чем вы уже, поди, и забыли, ну и так далее. А так это будете вы, Григорий Петрович… Господи, запомню я когда-нибудь как следует ваше имя и отчество… Петр Григорьевич со всеми воспоминаниями, познаниями и привычками, что у вас были в вашем нынешнем, так сказать, виде.
— Понимаю. Будем надеяться, что вы правы. И еще… Я, знаете, всё это уже сто раз в голове прокручивал. Ну, с моим новым обликом — это я понимаю. А что станет с тем Петром Григорьевичем, что вы видите сейчас перед собой?
— А что с ним?
— Ну, перенесете вы содержимое этой старой дурной головы в новую, а что будет со старой головой и с этой моей телесной… как когда-то выражались, юдолью печалей?
— Гм… Да ничего не будет.
— Вы хотите сказать, что копия моя останется такой же, как я сейчас?
— Копия? Гм… Точнее, это в новой голове будет копия, а в старой — оригинал.
— Вы хотите сказать, что какое-то время, пока рак мой меня не доконает, будут два Петра Григорьевича?
— Именно.
— И они смогут общаться между собой?
— Да сколько им вздумается. Мы, знаете, и в одном экземпляре часто сами себе изрядно надоедаем. Так что, если вы не будете уж очень раздражать друг друга, общайтесь, сколько влезет. Мы ведь так или иначе все представляем из себя… представляем из себя… что? Коктейль разных личностей, вот что, Григорий… э… Петрович. Правильно?
— Я уже толком не знаю, кто я. Может, я уже Евгений Викторович? Женечка?
— Это кто? Ваш донор?
— Гм… донор. Донор — это тот, кто добровольно готов поделиться своей кровью. А Женечка вряд ли горит желанием поделиться со мной своей… жизнью.
— Меньше рефлексий, Григорий… фу ты, черт, Петр Григорьевич. Назвался груздем — полезай… Ну да бог с ним, с груздем. Кто его, груздя, спрашивает, куда ему лезть. Пока что в своем нынешнем, так сказать, обличье вы на вашего Женечку не тянете. И даже на Петеньку… Женечка — это… догадываюсь… ваше новое имя?
— Да.
— Тогда потерпите еще немножко. Помолодеете, станете и Женечкой.
— Постараюсь, Семен Александрович. Тогда… ну, как минимум неделя мне понадобится, чтобы узнать и запомнить хотя бы какие-то сведения и привычки, биографические данные Евгения Викторовича и так далее. А то позвонит мне, допустим, его мамаша — жены у него, как я знаю, к счастью, нет — и спросит: как ты там, сынок? А мне как ей отвечать? Простите, мадам, вас как величать?
— Освоитесь. Вы, деловые, народ ушлый. И без того, надо думать, только тем и занимаетесь, что мозги друг другу пудрите. К тому же — я, признаться, и раньше подумывал об этих трудностях — можете устроить себе небольшое ДТП. И вопросов не будет, ну сотрясение у человека, амнезия небольшая, пройдет. Посмотришь передачу «Жди меня» и такое впечатление иной раз, что у нас полстраны не помнит, кто они, откуда и где прописаны. А вторая половина не знает, где искать первую.
— Разумно. Тогда последний вопрос. Ну, допустим, к вам привезти моего… так сказать… сменщика можно. Вы, кстати, где живете?
— Станция Удельная по Казанской дороге. Домишко мне там от мамы достался.
— Прекрасно. Скажу ему, что сделал один человек интересное усовершенствование в, скажем, конструкции мобильных телефонов. Такой умелец-самородок. Электронный Левша.
— Разумно.
— А вот как дальше быть? Как ему нахлобучить на голову ваш шлем, чтоб он не брыкался, не кусался и не орал благим матом на всю вашу Удельную?
— Как-то и не задумывался над этим… Этим, этим, этим… да, вопросом. Ну, можно было бы, например, сунуть ему под нос ватку с хлороформом. Как? Или угостить его чашечкой кофе с клофелином…
— А это не отразится на… на его умственном состоянии?
— Вон вы как уже рачительны стали к своей новой головенке. Да нет, нисколько. Но позвольте спросить у вас… из чистого, смею уверить, любопытства: человек-то симпатичный?
— Очень. Статный такой, молодой, тридцать один год, волосы русые на пробор, бородка такая чеховская.
— Ну что ж, могу вам только позавидовать.
— И сколько приблизительно времени займет вся эта процедура?
— Часа полтора-два, не более. В этом-то, без ложной скромности, и гениальность моего алгоритма, потому что даже если и уметь считывать информацию с мозга, объем ее чудовищен и можно было бы заполнить ею не одну сотню или даже тысячу дисков. Есть вещи, которые мы просто не в силах как следует осознать. Например, всего одна человеческая хромосома содержит информацию, равную по объему четырем тысячам толстенных томов. Представляете? И записывать ее пришлось бы если не месяцами, то уж неделями наверняка. А так полтора-два часа, как я вам сказал, и вся недолга. Извольте расписаться в получении новой головы.
— Спасибо, Семен Александрович. Даже не знаю, как отблагодарить вас.
— Придумаете что-нибудь. А сумму благодарности определите сами.
— Но все-таки… Понимаете, у меня ж не лежит на тумбочке несколько миллионов рублей. Переводить вам, думаю, некуда. Поэтому надо как-то заранее собрать их.
— Э… э… ну, миллион соберете?
— Вы что, смеетесь?
— В каком смысле? Много слишком?
— Наоборот. Может, с точки зрения нормального человека это и звучит глуповато, но я бы настаивал хотя бы на трех. А то как-то выходит, что слишком дешево я себя ценю.
— Гм, я вижу вам головку сменить надо и по другой причине. Что? А, да… Я всегда думал, что нормальный человек старается заплатить поменьше и купить побольше. Это ж, можно сказать, основа цивилизации. Тем более что вы бизнесмен. То есть человек, который норовит ближнего вообще задаром обобрать. Ну, смотрите, вам виднее. Жду вашего звонка.
Утром Костя приехал к шефу и, не докладывая, спустился в подвальный гараж. Сколько ни допытывался он у шефа, что стоило ему место в этом роскошном гараже, шеф только улыбался. «И не пытай, просто язык не поворачивается такие цифры вслух произносить. Непристойная цена. И то, за такие деньги и квартирку небольшую можно, наверное, купить где-нибудь в спальном районе».
Гараж на шестнадцать машин и впрямь был царский, под стать самому дому, перестроенному из какого-то особнячка еще в девяностых под два десятка роскошных квартир: кафель кругом, кондиционеры. И машины соответствующие, среди которых их «лексус» если и не выглядел совсем уж гадким утенком, то уж наверняка был не самым дорогим. Рядом стоял «порше кайен», тысяч, поди, под двести баксов, с другой — распластался пятисотый «мерседес». Не гараж, а Женевский автосалон.
— Привет, Василий Егорович, — кивнул он вахтеру, который как всегда шумно, с причмокиваньем, пил чай из огромной цветастой кружки. Сколько он, интересно, литров за дежурство высасывает? С таким номером в цирке можно было бы выступать. Одним махом десять литров выпивахом.
— Привет, — буркнул старик, скорее, не Косте, а своей кружке.
Очень не терпелось Косте побыстрее проверить два приборчика, что ему накануне дал Вундеркинд. Один должен был определить, не ухитрился ли кто-нибудь засунуть куда-нибудь жучок подслушивающий. «Тут и уметь нечего, — объяснил Яша, — главное — не торопись. Води им по всем местам, где можно жучок спрятать. Если запищит прибор — значит, нашли».
А второй приборчик был еще поинтереснее. Следуя Яшиным инструкциям, Костя накануне приклеил его под приборной доской скотчем. Если, сказал Яша, кто-нибудь попробует машину открыть и включится сигнал тревоги, приборчик это зарегистрирует с указанием времени на экранчике, когда это произошло.
Костя внимательно осмотрел все четыре дверцы «лексуса» и даже крышку багажника. Как будто никаких следов попыток открыть машину не было. Он сел на свое место и вынул маленькую коробочку из-под приборного щитка. Ага, и правда, на экране мигали цифры: 025. Ну и Вундеркинд. Выходит, не подвела шефа интуиция и на этот раз. Это ж надо так тонко всё просечь, всё прикинуть. Так на то он и президент компании. Интересовались, интересовались их «лексусом». И, похоже, вовсе не для того, чтобы угнать его. Ну, положим, и открыть его было не так-то просто. Обычным брелоком он не пользовался, теперь умельцы со своими сканерами могли и на расстоянии определить код брелока. Их машина запиралась только контактным брелоком — нужно было прижать его к замку.
Как и каждое утро, он тщательно проверил днище и колесные арки, нет ли где небольшой аккуратненькой коробочки, которая по сигналу взорвет их машину вкупе с пассажирами и водителем. Всё чисто, слава богу.
Он подошел к дежурному:
— Василий Егорович, ночью к машине нашей никто не подходил?
— Не-а, — буркнул старик и сделал такой глоток чая, что поперхнулся и долго откашливался.
— Значит, никто из посторонних в гараж ночью не заходил?
— Ну чего привязался, говорю ж — нет.
— И в полпервого никого не было?
Старик зло посмотрел на Костю:
— Словами же говорю, нет. Или ты глухонемой?
— Точно?
— Ну, вы тут совсем оборзели! — зло закричал старик неожиданно тонким голосом. — Рабочему человеку уж совсем от вас житья не стало!
— Да ты не волнуйся, Егорыч, — примирительно сказал Костя, достал тысячерублевую купюру и стал ее внимательно рассматривать.
— Это чего? — сразу успокоился рабочий человек Егорыч.
— Это тебе. За хорошую работу.
— Ну, спасибо, Костя. — Егорыч привычным жестом подсунул деньги под термос. Подумав немножко, он добавил: — Ты не обижайся, Костя. Это я от давления. Скачет, сука. То нормальное, а то под двести подпрыгнет, словно Бубка с шестом. Ты парень хороший, вежливый. А что ты спрашивал… Я вот сейчас вспомнил. Спускался тут ночью один. Ну, не через ворота, а по внутренней лестнице. Какую-то доверенность мне сунул, я и не рассмотрел как следует. Очки было лень доставать. От Надежды Федоровны, говорит, эта, у которой «мерседес» рядом с вашим. Просила, говорит, хозяйка посмотреть, что-то она там забыла в машине. Вообще-то у нее водитель другой, да ты его видел, Валерка, тощенький такой, всё на живот жалуется, язва, что ли, у него. А этот… Да у нее мужиков цельный взвод, и как она их помнит и в графике не путается… Я вот свой телефон не всегда сразу вспомнить могу. — Старик засмеялся и опять чуть не поперхнулся чаем. — Вот я и говорю…
— Ну спасибо, Василий Егорович, — сказал Костя и пошел к машине.
Юрий Степанович подошел к окну. Вид на Красную площадь из номера в гостинице «Балчуг-Кемпински» был просто необыкновенный, прямо с рекламного буклета. Господин Фэн согласно кивнул — прямо читал его мысли китаец.
— Вид и действительно вандер… простите, Юрий Степанович, соскальзываю иногда на английский. Хотел было вместо замечательный сказать вандерфул… Вы уж не обес… сейчас вспомню, слово такое литературное… Ага, не обессудьте. Правда, красивое слово? Его теперь и не услышишь в России. Это меня в детстве — а семья наша до семьдесят восьмого года жила в Гонконге — русская одна преподавательница, графиня, как она уверяла, учила русскому. Мой высокочтимый отец всегда настаивал, чтобы я учил русский. Вы разрешите, я налью вам бурбона? В Гонконге — не забывайте, что скала эта почти два столетия английской колонией была — шотландский виски всё больше был в моде, а с тех пор как мы переехали в Канаду, в Ванкувер, пристрастился я к бурбону — прекрасный напиток. Ну, как он вам? Нравится?
А мой высокочтимый отец решил, что надо уезжать из Гонконга, когда стало ясно, что со временем станет Гонконг частью мейнлэнд Чайна, я хочу сказать, материкового Китая. Не доверяли мы председателю Мао, а о Дэн Сяопине тогда никто по-настоящему и не слышал. Мой достопочтенный старший брат уже жил к этому времени в Куала-Лумпуре в Малайзии, текстилем занимался. Поэтому на семейном совете решено было, чтобы я поехал на… как это слово… ага, на ре-ког-нос-циров-ку в Ванкувер, потому что канадские власти были тогда заинтересованы в притоке капиталов, и каждый, кто мог бы вложить определенную сумму в экономику страны, мог рассчитывать на быструю натурализацию, а потом и гражданство.
Разрешите, я вам налью еще немножко, почтенный Юрий Степанович? А если хотите есть, можем заказать в номер какую-нибудь еду. Нет? Ну, смотрите…
И что он всё говорит и говорит, подумал Юрий Степанович, глядя на блестящую лысину китайца. Сияла она так, словно была тщательно отполирована, а внутри горела лампочка.
— Ну-с, приехал я в Ванкувер, остановился в гостинице, сколько помню, «Бест Вестин», называлась, на самом берегу залива. Из окна видно, как маленькие гидропланчики садятся на воду, вздымая кучу брызг. Поднялся в номер. Вид великолепный. На поручне балкона сидит упитанная такая сигал… я хочу сказать, чайка, и внимательно, хотя и вполне доброжелательно смотрит на меня. Спокойная такая, с чувством собственного достоинства. Сразу видно, канадская гражданка. Не то что бедные воробьи в материковом Китае, где председатель Мао повелел их всех извести. Я поклонился ей, и эта почтенная чайка, верите, важно кивнула мне, словно приветствовала меня в Ванкувере, взмахнула широченными крыльями и неспешно полетела по своим чаечьим делам. Хороший знак.
Вышел я на улицу, повернул налево в город и пошел, не торопясь, походить и осмотреться. Я всегда, когда попадаю в новую страну, люблю бесцельно пош… пош… ага, пошататься. Иду — навстречу «роллс-ройс» катит. Не то чтобы я «роллс-ройсов» никогда не видел, но у нас в Гонконге улочки тесные, на большой машине не всегда удобно ездить. А здесь в Ванкувере они хоть в три ряда ехать могут. Но самое интересное, что за рулем этого красавца сидела китаяночка. Это был знак уже более многозначительный, чем кивок чайки на поручнях балкона. А тут и «мазератти» следом. А за рулем уже не китаяночка, а китаец… Всё, думаю, ясно, и в тот же вечер позвонил своему высокочтимому отцу, что его мудрый выбор полностью подтвердился, и надо начинать собираться.
Я вижу, почтенный Юрий Степанович, что вам странно, как я об отце говорю «высокочтимый». Так ведь? Мы, китайцы, воспитаны нашим мудрым Конфуцием в традициях почитания старших и прежде всего родителей. У нас, говорят, в старину обычай даже был, когда в дни семейных праздников совершенно взрослые люди надевали детскую одежду и садились на пол играть в игрушки у ног престарелых родителей, чтобы те хоть на минутку почувствовали себя снова молодыми.
— Господин Фэн, — сказал Юрий Степанович, — я, конечно, ценю ваши замечательные рассказы, но, к сожалению, время…
— Понимаю, понимаю, почтенный господин Юрий Степанович. Ну что ж, вернемся к нашим, так сказать, баранам, ха-ха… Что касается баранов… Во-первых, хотел бы вам сообщить, что наш высокочтимый президент «РуссИТ» Петр Григорьевич страдает не только гастритом. Мне дали понять, что он тяжело болен…
— То-то я заметил, что выглядит он, прямо скажем, неважно.
— Отсюда следует, что нам не так уж важно срочно устранить… ха, ха… скажем точнее, отстранить его. Иной раз судьба решает какие-то вопросы эффективнее людей. И с меньшим риском, дорогой Юрий Степанович. Практически даже вообще без риска. Насколько я представляю себе, свои акции, то есть контроль над компанией, он завещает жене. Больше некому. Потому что с сыном у него отношений нет. Сын, мне рассказали, в монастыре, а завещать компанию монахам, знаете, как-то было бы странно… Ну а с вдовой мы уж как-нибудь договоримся. Она ведь, как я понимаю, компанией не интересуется…
— Ни разу даже не была, — подтвердил Юрий Степанович.
— Вот видите… Значит, главное, чтобы он не продал свои акции кому-нибудь еще. Здесь ли, за границей — не суть важно. Вы в российском мире ИТ ориентируетесь лучше меня, поэтому держите ухо остро…
— Вы разрешите, господин Фэн, сделать небольшое замечание?
— Разумеется, разумеется, почтенный Юрий Степанович.
— Надо говорить не «держать ухо остро», а «востро».
— Прекрасно. Значит, — улыбнулся китаец, — держите ухо востро. Такие вещи в тайне удержать трудно. Какие-то разговоры наверняка пойдут.
— Это уж точно. У нас и без поводов разговоров больше чем предостаточно. Уж во всяком случае больше, чем дел. Наше, так сказать, национальное хобби.
— Как вы говорите?
— Хобби.
— Тонкое замечание, почтенный Юрий Степанович. И последнее. Хочу вас покорнейше уверить, что я и те, чьи интересы я представляю, чрезвычайно высокого мнения о ваших деловых и человеческих качествах, и после… смены руководства вы вполне можете рассчитывать на пост генерального директора компании.
— Благодарю вас, господин Фэн.
Варвар, думал Фэн Юйсян, провожая гостя к лифту и вызывая кабину своим магнитным ключом. Варвары всегда остаются варварами…
Следуя инструкциям шефа, Костя зашел в крошечный кабинетик главного аналитика.
— Евгений Викторович, мне шеф столько о вас хорошего говорил…
— Правда? — просиял Евгений Викторович и взмахнул головой, откидывая волосы с лица.
— Ну что я обманывать вас буду? Раз вы так в этих электронных игрушках сечете здорово, я хотел спросить вашего совета, какой ноутбук стоит купить. Мой старенький «Асус» что-то совсем забарахлил и закапризничал, а с ремонтом хлопот не оберешься, да и чинят их, говорят, плохо.
— Это верно.
— А новых моделей столько, что голова кругом идет. У нас ведь в компании ноутбуки не собирают?
— Нет. А насчет моделей, вы правы — их сотни. Всё зависит от того, для чего вы собираетесь использовать аппарат.
— Ну, в основном как справочник. Где что купить, продать, как заказать, проехать, ну, вы понимаете? Ну и вообще без Интернета в наше время как-то даже неприлично.
— Это верно. Опутал нас наш отечественный Яндекс и всемирный Гугл так, что без них скоро и имя свое забудем. А по деньгам на сколько вы можете рассчитывать?
— Ну, не знаю, тысяч на пятнадцать — двадцать.
— Вот у меня, например, дома «Хьюлетт-Паккард». Пятнадцать дюймов монитор, два гига, два ядра, как говорят продвинутые юзеры, это о памяти и о двухядерном процессоре, довольно шустрая, удобная и надежная машинка. А знаете что, Костя, может быть, зайдете как-нибудь ко мне, сами посмотрите.
— О, спасибо, Евгений Викторович…
— Давайте просто Женя. Я ж вас Костей зову. Так как?
— С радостью. Да хоть сегодня.
— Прекрасно. Вот держите мою карточку, здесь и адрес. Флотская улица, это за Войковской. Найти нетрудно.
— Найду, спасибо.
— Давайте часов в восемь. Пива у меня хоть пивной бар открывай, а по дороге куплю какую-нибудь закусь.
— Спасибо, до вечера, Женя.
— Значит так, шеф, — докладывал Костя Петру Григорьевичу, помогая ему сесть в машину, чтобы поехать в офис. — Ночью машину пробовали открыть. Вундеркиндовы штучки сработали безотказно. Кто-то нами по-прежнему интересуется.
— Я в этом не сомневался.
— Юрий Степанович?
— Ты что, смеешься? Он так… мелкая сошка. Это, похоже, улыбка нашего высокочтимого господина Фэна.
— Тогда…
— А что тогда? Позвонить ему и спросить: господин Фэн, я, никак, вам поперек дороги стал? Нет, друг мой Костя, так дела не делаются. С божьей помощью мы к ним с тыла зайдем. Понимаешь?
— Понимаю, шеф.
— Я иной раз ловлю себя на мысли, что не знаю, чего в этой… невероятной затее больше — стремления, чтобы мой прах в заветной лире…
— Как вы говорите?
— Ты что, Пушкина в школе не учил? «Нет, весь я не умру, душа в заветной лире мой прах переживет и тленья убежит…» Вспомнил?
— Ну, как будто, да, — неуверенно пробормотал Костя.
— В общем, я хотел сказать, что иной раз и не знаю, то ли просто от смерти бегу, то ли хочется Фэна со товарищи одурачить… Ладно. Ты с Женечкой виделся?
— Так точно. Весь вечер у него просидел.
— И как он тебе?
— В каком смысле?
— Ну, вообще…
— А что, нормальный парень… На мой вкус мягковатый какой-то, а так… чего ж… Вполне нормальный. Я сидел и всё следил за манерами его, повадками, ну, вы понимаете. Жалко, на пленку нельзя было снимать наше свидание. Что я выяснил: живет один. Мать и отец в Томске, он там вырос, университет окончил.
— Как зовут мать?
— Дарья Олеговна. Ее телефон у него в мобильном. Не один он, конечно. Там десятка три номеров телефонов. И офиса, и знакомых…
— А девушка у него есть? Он ведь, кажется, не женат?
— Какие-то женские имена там были, внимательно рассмотреть не мог — он на секундочку вышел на кухню. Я прямо трясся, что он увидит, как я его телефон в руках держу. Он, кстати, смешно так отвечает, когда ему звонят — у аппарата. Может, это раньше так принято было отвечать. Забавно.
— А где он, кстати, живет?
— На Флотской. Это в районе Войковской.
— Будем надеяться, что ты его туда не раз еще подвезешь…
— Его?
— В смысле, меня. Теперь слушай меня внимательно. Мне нужно обязательно слетать в Цюрих. Пока еще есть хоть какие-то силы. Сегодня, как только я приеду в офис, я попрошу Анну Николаевну срочно заказать два билета в Лондон. Хочу, мол, еще с английскими врачами проконсультироваться. В больнице «Веллингтон». Английские визы, сколько я помню, у нас с тобой есть, только билеты и забронировать гостиницу на три дня. Паспорта наши заграничные у меня в сейфе.
— Вы ж говорите, Цюрих?
— В этом-то весь смысл. Пусть господин Фэн думает, что мы летим в Лондон, а на самом деле мы полетим в Цюрих. Что бы там они не задумали, время мы выиграем. Об этом, Костя, никто знать не должен. Поэтому, как только Анна Николаевна закажет билеты и вернет мне паспорта, ты возьмешь их и срочно закажешь два билета в Цюрих и забронируешь номер. Я был в Цюрихе один раз, если точно, в девяносто шестом, отель запомнил отлично — «Баур о Лак», на самом берегу Цюрихского озера. Изумительная гостиница, хотя цены еще более изумительные. Страшно даже просто вслух произнести. Запомнил?
— Так точно, шеф.
— Только билеты заказывай не в том агентстве, которое нашу компанию постоянно обслуживает. Ни в коем случае. Найди что-нибудь надежное, переплати им хоть по тысяче долларов сверху, но визы и билеты должны быть оформлены как можно скорее.
— Понимаю. А успеют они визы оформить?
— В Москве, Костя, процветает самая настоящая визовая мафия. Это простых честных граждан могут мурыжить неделями, а то и отказать в визе без всяких объяснений. А тем, кто согласен хорошо заплатить всяким там туристическим агентствам, которые делятся с самыми неподкупными, казалось бы, консульствами, визы шлепают мгновенно. То ли их дипломаты быстро у нас усваивают российские нравы, то ли они по существу ничем от наших мздоимцев не отличаются, просто в других странах брать им боязно, зато у нас берут они преотличнейшим образом. Можно даже сказать, азартно берут. Через турагентства обычно. Ты когда-нибудь слышал, чтобы нашим мафиози, у которых прямо на лбу написано, кто они по роду деятельности, когда-нибудь отказали во въезде в Испанию или даже США? То-то же. И главное, Костя. Я не уверен, что за нами не будут следить. Скорее, наоборот. Слишком ставки велики. Поэтому договорись с кем-нибудь, чтобы он как бы повез нас в аэропорт в «лексусе», а по дороге мы незаметно должны пересесть в какую-нибудь другую машину. А «лексус» доедет до Шереметьева и вернется домой. Это при условии, что билеты будут на один и тот же день. А то придется скрываться где-нибудь в промежутке между рейсами на Лондон и Цюрих.
— А уже есть такой человек. Милиционер. Старший лейтенант Стычкин, это он нашел того наркомана, который Дашу убил. Я вам рассказывал. А если нужно будет обождать где-нибудь денек, можно и у меня. Мои родители на вас просто молятся.
— Хорошо, Костя. Ну, и продолжай изучать Евгения Викторовича. Женю.
— Слушаюсь, шеф.
6
— Вот ваши паспорта и билеты, Петр Григорьевич, — сказала Анна Николаевна. — Гостиница та же, в которой вы всегда останавливаетесь в Лондоне, — «Дорчестер». Насчет больницы…
— Вы меня не поняли. Я не собираюсь ложиться там в больницу. Просто мне рекомендовали в больнице «Веллингтон» одного профессора — крупнейшее светило в гастроэнтерологии. Хочу проконсультироваться, а то у нас одни говорят одно, другие — другое.
— Очень правильно, Петр Григорьевич. Вам окрепнуть побыстрее надо, а то вон дел сколько, — Анна Николаевна покачала головой.
Не успела секретарша вернуться на свое место, как она уже звонила по мобильному Юрию Степановичу. По офисному мог кто-нибудь и подслушать. — Летит с Костей в Лондон. Только что билеты принесла. Гостиница «Дорчестер». Номер рейса? Сейчас скажу. Ага, вот он. Это раньше билеты были в фирменной обложечке, всё понятно. А в этих электронных сразу и не разберешься. Диктую… Да не за что.
С рейсами им повезло. Не только в один день, даже во времени вылета разница невелика, думал Петр Григорьевич.
— Когда ты вернешься, Петенька? — спросила его Галя, когда он попросил ее сложить в чемодан пижаму и всё, что нужно на несколько дней. — Я уж не спрашиваю, куда ты летишь. Я, Петенька, уже давно боюсь что-нибудь спрашивать у тебя. Я понимаю, ты плохо себя чувствуешь, а в такие времена человек становится раздраженным и раздражительным, но все-таки… я твоя жена… — В Галиных глазах блеснули слезинки, и Петр Григорьевич почувствовал неожиданный прилив жалости к этой красивой, но такой далекой и такой, наверное, одинокой женщине. В конце концов, не она виновата, что ничего у них, к несчастью, не получилось, что жил он по-прежнему с покойной Таней, которую никто в мире уже никогда не сможет заменить ему.
— Не сердись, Галочка, — вздохнул он. — Ты ни в чем не виновата. Ты честно старалась быть мне хорошей женой и не твоя вина, что как-то… всё не складывается у нас.
Теперь уже слезинки в Галиных глазах не просто набухали, а свободно катились тоненькими струйками по ее загорелым, слегка скуластым щекам.
— Может быть, Петенька, я была недостаточно ласкова с тобой, так ведь я… Мне всё казалось, что ты решишь, будто я навязываюсь со своими нежностями…
— Подожди, Галочка. Потерпи еще немножко. Кто знает, может, еще у нас всё переменится.
— Правда, ты правда так думаешь? — как-то совсем по-детски спросила Галя. — Или ты просто меня успокаиваешь?
— Честное… ну, если не пионерское, то, скажем, бизнесменское слово.
— Ты всё смеешься?
— Нисколько. — Петр Григорьевич потянулся, чтобы поцеловать жену, но острая боль словно выстрелила ему в желудок, и он скривился, стараясь подавить стон. Галя все-таки почувствовала что-то, потому что нежно провела ладонью по остаткам волос на его голове.
— Бедненький…
План был такой: Андрей Стычкин повезет их в «лексусе», а по дороге в Шереметьево они завернут на минутку к Косте, где во дворе будет стоять машина Андрея еще с одним водителем. Они пересядут в эту машину, а Андрей доедет в «лексусе» до Шереметьева и вернется в Москву. Петр же Григорьевич с Костей приедут во второй машине и прошмыгнут в ВИП-зал, а оттуда уже выйдут на посадку на цюрихский рейс.
ЮЮ сидел в своем «гольфе» напротив выезда из дома Петра Григорьевича. Он докуривал уже вторую сигарету, когда знакомый синий «лексус» выехал из ворот. А за рулем… почему не водитель Петра Григорьевича… А, конечно же, он летит с ним. Телохранитель, усмехнулся ЮЮ и достал мобильный.
— Всё как вы предполагали, — сказал он. — Только что выехали. За рулем какой-то незнакомый мне водитель. Потому что, как я понял, его водитель летит вместе с хозяином. Хорошо. Повторяю ваши инструкции. В Шереметьеве я сажусь на лондонский рейс, на который у меня билет. Нет, нет, на глаза постараюсь не попадаться, хотя меня они в лицо как будто не знают. «Гольф», как договаривались, я отдам Коле, который должен меня ждать в аэропорту. В Лондоне меня встретит какой-то китаец, который будет держать табличку с моим именем. Вдвоем мы должны проследить, с кем он будет в Лондоне встречаться. Как я понимаю, все эти разговоры о консультации в больнице «Веллингтон» чистое фуфло… Слушаюсь. Еду. Не беспокойтесь, никуда им не деться. Я постараюсь сесть в самолет одним из последних, чтоб быть уверенным, что они уже на своих местах. Хорошо. Еду.
Пробок было мало, словно знак свыше, а после моста через канал дорога была и вовсе свободна. «Гольф» не спеша катил через Химки и дальше к повороту на Шереметьево. Всё шло по плану, а он любил планы. Чтобы всё было рассчитано, просчитано, запланировано. Хороший план — это уже половина успеха. А успех в его профессии — это значило оставаться на свободе с куском хлеба, выражаясь литературно, а не кормить вшей на зоне. И уж подавно не лежать в холодильнике в морге с биркой, привязанной к пожелтевшей восковой ноге.
Когда он уже проехал через автоматический шлагбаум и начал подниматься по пандусу к вылетам, вдали он заметил знакомый синий «лексус», который уже высадил пассажиров. Теперь не торопиться, пусть они пройдут контроль, а он-то уже успеет сесть. Тем более, вещей у него практически не было, один саквояжик, ручная кладь.
А вот и парень, который должен отогнать домой его «гольф».
— Держи, — протянул ЮЮ ему ключи. — Машину оставишь у себя, а я тебе позвоню, когда буду вылетать из Лондона, и ты встретишь меня. Понятно?
— Вполне, — сонно кивнул белобрысенький паренек. — Давай ключи, а то я опаздываю…
Очереди перед стойками с лондонским рейсом уже почти не было, и ЮЮ быстро зарегистрировал билет. Покурить бы где-нибудь, а то курящих совсем со света сживают, выкуривают, так сказать, ухмыльнулся он каламбуру: и в самолете нельзя, и в аэропорту нельзя, и нигде нельзя. На том свете, интересно, хоть еще разрешают затянуться, подумал он и направился по рукаву ко входу в самолет. Газет он со стойки с прессой никогда не брал. Стоило ему усесться в кресло, он засыпал практически мгновенно. Гм… странно, что их в первом классе не было. По его, Петра Григорьевича, положению, должен он бизнес-классом летать. А может, всё экономит? Богатенькие, бывает, из-под себя едят. За копейку задушатся. Наверное… ЮЮ опустился на свое место в четырнадцатом ряду и успокоился. Сидели они где-то за ним и никуда они теперь не денутся от него. Только не нужно выглядывать их, а то мигом поймут, что их пасут. Ничего. На высоте в десять тысяч метров из самолета не удерешь. И в Лондоне выйдет он раньше, и будут они всё время под контролем. Так что всё путем.
Самолет, нетерпеливо подрагивая, взвыл двигателями в последней проверке и начал разгоняться. Перестук швов взлетной полосы под колесами превратился в пулеметную очередь и внезапно смолк. Самолет оторвался от земли. Шереметьево заваливалось куда-то в сторону. ЮЮ откинул голову на подголовник и начал засыпать. И тут же появилась откуда-то его мать и начала, как всегда, скорбно качать головой, словно оплакивала его…
А через час уже Петр Григорьевич смотрел через иллюминатор на редкие облака, сквозь которые просвечивала проплешинами лужаек подмосковная земля. Интересно, клюнули ли Фэн и К° на заброшенный им крючок? Они ведь тоже не лыком шиты. Один просчет — и не они на крючке, а ты. А то и на мушке. Уж очень ставки велики, в который раз повторил он себе. И Юрий Степанович и Фэн это прекрасно понимали. Если выдаст Вундеркинд со своей командой новый компьютер, хоть один только лабораторный образец, стоить «РуссИТ» станет на многие порядки больше. Речь пойдет не о каких-нибудь там двадцати миллионах долларов, что предлагал Фэн, а о двухстах или того больше. За такой патент или за всю компанию любой компьютерный мейджор, от «Делла» до «Эппла», «Хьюлетт-Паккарда», «Тошибы», «Сони», «Самсунга» душу черту заложит. Ну а если уж пойдет речь о массовом производстве флэш-компьютеров, тут счет вообще другой, заоблачный.
Особо рьяным патриотом Петр Григорьевич никогда не был, слишком много он видел людей, которые били себя в грудь, клянясь в пылкой любви к матушке-России, и одновременно обворовывали любимую матушку, как говорится, по-черному. Да и вообще выжить в лихие девяностые без доли цинизма было ох как трудненько. И всё же, всё же какая-то пусть старомодная, даже детская привязанность к родине все-таки оставалась в нем. Пусть и не в пафосных словах профессиональных патриотов, но он чувствовал, что должен сохранить такой приоритет для России — это ведь всё равно что одним рывком ее на несколько ступенек в новых технологиях поднять. По крайней мере в ИТ-технологиях.
Может, поди разберись, он себя просто утешал, облагораживал свое решение переехать, так сказать, в тело Женечки, но без него — а уж в этом-то он был твердо уверен — быстренько уплывет из России и компания и — главное — флэш-компьютеры. Сколько всего за последние лет двадцать уплыло… Конечно, при советской власти, особенно в сталинские времена, когда вся страна, в сущности, жила за колючей проволокой, внутри которой лучшие умы сидели к тому же еще и в шарашках, тех же, строго говоря, тюрьмах, ничего из страны не уходило. Но и делалось немного. Конечно, атомные бомбы, военные самолеты и ракеты делались — но какой ценой? В неволе талант плохо размножается. Так что, если разобраться, нынешняя наша отсталость зародилась именно тогда. Чего ж удивляться, что в девяностых многие лучшие наши умы быстренько навострили лыжи. И удивляться нечего. Рыба ищет где глубже. Чудо просто, что что-то и кто-то еще остались. Конечно, конечно, оправдывал он себя, спору нет, это всё так. Но себя не обманешь. Но так уж люди-человеки устроены, что всегда стараются облагородить свои поступки. От каких-нибудь там крестоносцев, что жгли всё по пути, крушили и грабили во имя господне, до родных большевиков, которые народ свой тоже во имя высших целей усердно изничтожали. Если разобраться как следует, это, наверное, единственное их свершение, которое превзошло все их планы. Что-что, а по части самоуничтожения Россия-матушка кому хочешь сто очков даст… Только вот почему-то эти достижения на мировом рынке особым спросом не пользовались.
Земля в иллюминаторе затянулась плотной пеленой беленьких снежных облаков, хоть на лыжах катайся… Боль в животе почему-то затихла, и Петр Григорьевич подумал о том, как мало человеку в сущности, надо. Полегчало немного, и уже смакуешь каждое мгновенье… Он посмотрел на Костю, который успел задремать. Молодость… Ему бы тоже не грех соснуть. Сил почти не оставалось, а предстояло ему в Цюрихе важное дело, другому его никак не поручишь, даже Косте…
Как только к самолету подали трап, ЮЮ, не оглядываясь, быстро прошел к выходу и направился к паспортному контролю. Господи, и это называется Англия, подумал он, стоя в небольшой очереди к паспортному чиновнику — довольно упитанному смуглому индусу, только что тюрбана сикха на голове не было. А в соседней очереди паспорта ловко штемпелевала черная африканка. Он протянул свой паспорт, сикх щелкнул по нему штемпелем и молча протянул его ЮЮ.
А вон и встречающий. Он сразу увидел невысокого китайца, который держал в поднятой руке плакатик с неуклюже написанными двумя Ю, и направился к нему.
— Здравствуйте, — протянул он китайцу руку. — По-русски говорите?
— Руски, — расплылся в фальшивой улыбке китаец, — карасо. А вы — инглиш?
— Тозе карасо, — ухмыльнулся ЮЮ. — Ну, будем ждать наших подопечных. Они сейчас багаж получают.
— Лагидж? Карасо. Здем.
Багаж или лагидж, один хрен, подумал ЮЮ, но пора им уже появиться. И первое, еще совсем легкое беспокойство пахнуло на него неуютным холодком. Да нет, сейчас появятся, куда ж им деться. И всё же тревожный холодок в груди усиливался. И сразу стало ему подозрительно, что в бизнес-классе их не было, хотя по всем расчетам должны они были лететь бизнес-классом, и что слишком уж долго они багаж получают — что они, двадцать чемоданов с собой приволокли, что ли? И что, в сущности, видел он в Шереметьеве? Только мелькнувший синий «лексус», а не лица. Да нет, попытался успокоить он себя. Еще минутка — и появятся они как миленькие. Но и через пять и через десять минут миленькие так и не появились. Вот сволочи, перепутали что-то с рейсами. Едкое раздражение поднималось по пищеводу как изжога. Сволочи, простую вещь сделать, как положено не могут, заказчики засранные. Таких посади на горшок, так они и тогда ухитрятся мимо на пол нагадить. Прошло еще пять минут. Как в воду канули. Он достал свой мобильный с роумингом и набрал московский номер.
— Это я из Лондона, — сказал он, услышав голос Юрия Степановича. — Их нет.
— Как нет?! — взвизгнул Юрий Степанович. — Как это нет? Из самолета они, что ли, выпали? Тоже мне профессионал! Мы вас посылаем в Лондон, а вы мне спокойненько сообщаете, что всё просрали и потеряли объект. Не только ни копейки не заплатим, вы еще нам заплатите!
Ну, это мы еще посмотрим, кто кому заплатит и в какой валюте. Хорошо еще, что по обычной своей привычке подстраховался он. ЮЮ попытался сглотнуть едкое раздражение, но оно словно приклеилось к пищеводу. Только сдержаться, не отвечать.
— Возвращайтесь в Москву, — зло сказал Юрий Степанович и отключился.
— Карасо? — широко улыбаясь, спросил китаец.
— Уж куда лучше, вша желтая, — пробормотал ЮЮ.
Китаец весело закивал и повторил: «Карасо».
Надо было идти в кассы узнавать, можно ли сменить его обратный билет на ближайший рейс в Москву.
Когда в аэропорту Клотен они спускались по трапу из самолета, Петр Григорьевич почувствовал, что ноги его подкашиваются, и он чуть не упал. Хорошо что Костя успел схватить его за руку. Обидно было бы дать дуба перед самым финишем. Хотя что в больнице помирать, что на трапе самолета — какая в сущности разница… Боль, словно беря реванш за отступление во время полета, со злобной энергией принялась клевать его внутренности. Хоть проси Костю нести его на руках — еле доплелся до стоянки такси.
Очередь была совсем небольшая, машины подкатывали одна за другой, и через минуту они уже сели в выдраенный до блеска «мерседес».
— Отель «Баур о Лак», битте, Тальштрассе, — сказал Костя. Молодец, отметил с удовольствием Петр Григорьевич, он уже и по-немецки… Костя словно услышал его, слегка улыбнулся и подмигнул. Мол, прямо, немецкий. Два десятка слов, если не меньше.
— Гут, — водитель в форменной фуражке слегка насмешливо кивнул, уж ему-то адресов гостиниц можно было и не говорить, во сне доедет. Машина плавно тронулась.
Со Швейцарией Костя был знаком исключительно посредством красного перочинного ножа с множеством лезвий и прочих штучек и национальным швейцарским белым крестом на толстеньком красном бочку. И пока Петр Григорьевич сидел, прикрыв глаза, он с любопытством смотрел на поразительно чистые машины, поразительно чистый асфальт, поразительно чистую фуражку водителя и множество поразительно чистых швейцарцев, чинно кативших на поразительно чистых велосипедах. И даже легкие облачка в небе тоже были по-швейцарски чисто промыты, только что белого креста на них почему-то не было.
Они еще в Москве обменяли две тысячи долларов на швейцарские франки. Больше, сказал Петр Григорьевич, не нужно. У него была платиновая карточка Мастеркард, по которой, объяснил он, хоть машину купить можно. Да и у Кости была золотая карточка Мастеркард и Виза-электрон.
— Битте, майне херрен, — сказал водитель, остановив «мерседес» около гостиницы. — «Баур о Лак». — Они расплатились и вошли в прохладный холл.
— Костя, входя в хорошую гостиницу, а этот отель входит даже в список «Лучшие отели мира», никогда не неси сам багаж.
— Так ваш чемодан ничего не весит, а мой саквояжик и того меньше.
— Не в весе дело. Тут у каждого свои обязанности, и не лишай никого положенных чаевых. Помнишь, как чаевые по-английски?
— Так точно, шеф, типс.
— Молодец. Вот видишь, наши вещи уже подхватили. Ритуал, Костя. Так положено. Отдай на ресепшн наши паспорта.
— Йа, майне херрен, Пиотр Илларионов и Константин Забелин, — кивнула девушка в фирменном пиджачке и учительского вида строгой белой кофточке, взяла паспорта и протянула два плоских магнитных ключа. — Битте, ирен цвай циммер люкс нуммер зекс унд цванциг.
— Я сейчас позвоню в банк и назначу встречу на завтра, а потом полежу. Нет сил, Костя. Доедает меня господин рак, доедает. И аппетит у него, доложу я тебе… Успеть бы…
— Успеете, шеф. Вы всегда всё успеваете.
— Твоими бы устами. — Он взял со стола телефон и позвонил в ресепшн. — Вы говорите по-английски?
— Конечно, сэр.
— Найдите, пожалуйста, мне телефон «Драйкониг-банка».
— Сейчас, сэр, не кладите трубку. Пожалуйста, — она продиктовала номер.
Петр Григорьевич позвонил в банк:
— Это номер два четырнадцать пятьдесят два сто одиннадцать.
— Одну минуточку, сэр, сейчас я проверю, — ответил женский голос. — Да, сэр, я вас слушаю.
— Я только что специально прилетел в Цюрих, чтобы поговорить с господином Майрхубером. Я был бы благодарен, если бы он смог уделить мне несколько минут завтра в любое удобное для него время.
— Вообще-то у господина директора завтра сложный день, но я сейчас спрошу его. Не кладите трубку, пожалуйста… В десять утра, сэр.
— Спасибо.
Петр Григорьевич прилег на диван.
— Ты заметил, что имени своего я не называл?
— Да, шеф.
— Они и не знают его. И им и мне так удобнее. Мало ли что может случиться с клиентом и кем он там может оказаться на самом деле, просто человеком, который не хочет платить налоги в своей стране, или каким-нибудь колумбийским наркобароном. Они на своей протестантской библии торжественно поклянутся, что понятия не имели, кто он или она. Помилуйте, это был вполне респектабельный господин, мне даже показалось, что он священнослужитель, а вы говорите наркобарон и убийца. Швейцарские банки выросли и расцвели на анонимности, которую они ценят, наверное, не меньше своей швейцарской независимости, а может, и побольше. Кто тут только не держал свои капиталы, от донов сицилианской мафии до главарей гитлеровского рейха. Не удивился бы, если узнал, что какие-нибудь советские спецслужбы тоже держали тут денежки. Американцы в последние годы всё больше давят на них с требованиями раскрыть тайну вкладов, поскольку это связано и с уходом от налогов и с деньгами террористических организаций, но сопротивляются цюрихские гномы отчаянно.
— Гномы?
— Их так в финансовых кругах называют. Незаметные, как гномики. Им публичность не с руки. И в рекламе они не нуждаются — репутация и без того более чем солидная. Всерьез скандалы начались со времени после Второй мировой войны, когда выяснилось, что здесь в банках хранились деньги, драгоценности и картины, отобранные нацистами у европейских евреев прежде чем отправить их в газовые камеры. Ну, что-то пришлось вернуть наследникам со скрежетом зубовным, малую толику, наверное. Работали палачи с чисто немецкой аккуратностью и тщанием, так что наследников не много осталось. Но, повторяю, упирались швейцарские гномы свирепо. И продолжают упираться… Вздремну я, Костя, совсем уже сил не осталось…
— Посиди в машине, Костя, я думаю, что пробуду тут от силы с полчаса.
— Хорошо, шеф. Мне пока водитель всю историю страны расскажет.
Петр Григорьевич вылез из машины — господи, да тут всего от отеля и полукилометра не будет, но время у Петра Григорьевича в последние недели неуклонно сжималось, а расстояния, наоборот, увеличивались. Ничего, скоро и то и другое сольется в один черный провал.
Дверь в «Драйконигбанке» была, как банкам и полагается, скромной, но респектабельной. Дуб, сияющие начищенной бронзой ручки и столь же сияющая небольшая вывеска «Драйконигбанк, АГ». Петр Григорьевич вошел в банк. Прямо перед ним была металлическая рамка, а за ней сидел полицейского вида человек с короткой стрижкой и стояли какие-то приборы.
— Дейч, франсе, итальяно, инглиш? — деловито спросил полицейский.
— Инглиш.
— Иес, сэр. Пройдите, пожалуйста, через рамку. Благодарю вас. Теперь назовите свой номер.
— Двести четырнадцать, пятьдесят два, сто одиннадцать.
— Благодарю вас, сэр. Теперь приложите правую ладонь к этой освещенной панельке. Благодарю вас. И последнее. Посмотрите в эти окуляры. Отлично. Сейчас я позвоню секретарю директора о том, что вы пришли.
Похоже было, что все служащие Швейцарии женского пола дали подписку носить только белые сурового вида кофточки и гладко причесывать волосы, туго затягивая их в пучок на затылке. Одна такая кофточка деловито процокала каблучками по белой с черным мраморной мозаике пола, которая изображала трех похожих на карточных валетов королей с коронами на головах.
— Доброе утро, сэр, господин директор уже ждет вас.
Она провела Петра Григорьевича к лифту, похожему внутри на входную дверь в банк — тот же дуб и до блеска начищенная бронза. Они поднялись на второй этаж, и белая кофточка открыла перед Петром Григорьевичем еще одну дубовую дверь, теперь уже с именем Майрхубера.
Директор, высокий молодой человек в темно-сером в тонкую полоску костюме и с начинающимися залысинами, вышел из-за стола и с сияющей улыбкой подошел к Петру Григорьевичу. — Рад вас видеть, уважаемый клиент. Чашечку кофе?
— Благодарю вас, господин директор. Я не был у вас четырнадцать лет, а вы, по-моему, даже помолодели за эти годы. Может, откроете мне секрет банковской вечной молодости? Она бы мне очень пригодилась.
— Увы, вы разговаривали не со мной, а с моим отцом. Он умер уже три года тому назад. Все говорят, что я очень похож на него.
— Примите мои соболезнования, господин Майрхубер. У меня к вам три вопроса.
— Слушаю вас.
— Какой мой баланс на сегодняшний день?
— Я уже посмотрел бумаги. В 1996 году вы доверили нам чуть меньше двадцати шести миллионов долларов. Сегодня ваш баланс составляет чуть больше тридцати четырех миллионов долларов или почти столько же швейцарских франков. Франк с долларом, как вы знаете, сейчас почти сравнялся. Два года назад баланс был значительно выше, точнее, тридцать девять миллионов. Ведь то были времена дорогих денег. Но кризис пощипал и нас. Часть денег была вложена в акции банка УБС, а он почти что испустил дух.
— Не будем сожалеть о том, что могло бы быть… И без того результаты впечатляющие, и я весьма благодарен вам. Теперь самое главное — то, ради чего я приехал, хотя чувствую я себя не слишком хорошо. Я прошу вас отменить проверку отпечатков пальцев и радужной сетчатки глаз у того, кто в следующий раз назовет мой пароль.
— Вы хотите сказать…
— Именно это. Это буду не я, а этого человека в силу определенных обстоятельств я привезти с собой не мог.
— Да, сэр. Я понимаю. Это условие будет сейчас же включено в ваше досье.
— Прекрасно. Далее. Вполне может быть, что этому человеку, который унаследует мою компанию после… моей кончины… нужны будут деньги на развитие компании. Мне нужно, чтобы вы были готовы предоставить ему кредит на сумму в тридцать миллионов долларов в обмен на пакет акций компании.
— Да, сэр, но при всем к вам уважении вы должны согласиться, что без проверки положения и состояния дел вашей компании эти акции…
— Вы не совсем поняли меня. Речь идет на самом деле о моих деньгах, но нам удобнее, чтобы для наших налоговых органов это выглядело как кредит.
— О, это совершенно другое дело, и я не вижу никаких препятствий…
— Мало того, с высокой степенью вероятности могу вас уверить, что в течение года-двух рыночная стоимость пакета акций, который вы получите, составит сумму значительно более высокую, чем те тридцать миллионов, о которых сегодня идет речь. Поэтому чтобы компенсировать вам определенные хлопоты, связанные с организацией официального банковского кредита, вы сможете продать акции, желательно нам же, но уже по более высокой цене. Маржа и составит ваш гонорар.
— Да, сэр. Все ваши просьбы легко выполнимы, и всё будет сделано так, как вы хотите.
— Отлично. Теперь последнее. В ячейке в вашем сейфе…
— Вы хотите проверить ячейку?
— Вместе с вами.
— Но почему? Это как-то не по правилам. Мы гарантируем нашим клиентам абсолютную тайну содержимого их сейфа. Они спускаются вниз к сейфам сами и могут быть абсолютно уверенными, что остаются со своими сейфами или ячейками совершенно наедине.
— Давайте все-таки спустимся вместе, и я объясню, почему я не хочу наслаждаться один своим сокровищем как скупой рыцарь.
— Скупой рыцарь? Простите, я не совсем…
— Ну, неважно.
Они спустились на лифте в подвал, и директор повернул тяжелое колесо на бронированной двери.
— Я уж забыл, как я найду свою ячейку и как мне открыть ее.
— Ее номер — это первые три цифры вашего пароля, а код замка — последние три цифры.
— Прекрасно. Ага, вот она.
В подвальном помещении было прохладно, где-то еле слышно гудел кондиционер, и звук этот лишь, казалось, уплотнял тишину. В животе Петра Григорьевича опять ожила боль, царапнула внутренности и заставила его остановиться. На мгновенье ему показалось, что вот-вот он потеряет сознание. А что, прекрасная смерть — в банковском подвале перед своим сейфом, подумал он и понял, что время еще не пришло. Умирая, люди не шутят. Господин рак опять втянул свои когти, и Петр Григорьевич осторожно вздохнул. И то, слава богу, вздохнуть — это, оказывается, не такая простая штука. Вдоху, оказывается, можно радоваться, им можно наслаждаться. И нет на свете вина, которое было бы прекраснее.
— Может быть, вам что-то нужно? — участливо спросил директор. — Мне показалось…
— Вам правильно показалось, господин Майрхубер. — Петр Григорьевич заставил себя улыбнуться. — Но я постараюсь не умереть здесь. У меня ведь оплачена только небольшая ячейка, и я в нее, боюсь, не влезу.
Директор посмотрел на Петра Григорьевича и неуверенно улыбнулся. С этими русскими никогда не знаешь, шутят они или говорят серьезно. А то, что перед ним русский, он понял сразу. И не только по акценту. Другие люди, другой менталитет. У одного, вдруг вспомнил он, дюжего клиента, который не говорил ни на одном языке, кроме русского, и от одного взгляда которого сразу становилось зябко: глаза были настороженно-равнодушными, а все руки были в странных татуировках: русалки, кресты и ножи… Хорошо хоть, что вытатуированные, а не настоящие. Зато чемоданчик с пачками долларов был самый что ни на есть настоящий.
Петр Григорьевич осторожно открыл свою ячейку. Если бы он писал детективный роман, из ячейки в этот момент должны были вывалиться человеческие кости и директор должен был завизжать от ужаса. Но роман был не детективный, а банковский, и в ячейке лежали не кости, а большой фолиант в слегка потертом кожаном переплете. Четырнадцать лет ничья рука не касалась фолианта. Хотя что такое четырнадцать лет по сравнению с содержимым тома, где многое насчитывало даже не столетия, а тысячелетия своего существования.
— Это, господин Майрхубер, — торжественно сказал Петр Григорьевич, вытаскивая фолиант, — довольно дорогая, как я понимаю, нумизматическая коллекция. — Он уж и забыл, каким тяжелым был том. А может, он просто так ослабел. — Она состоит из двух частей: древние монеты, от дохристианской Эллады до франкских и кельтских монет. Но, как мне объясняли специалисты, главная ценность коллекции — это необыкновенно полное собрание русских монет, от древненовгородских и киевских до золотых червонцев времен советского нэпа. Сколько этот томик может стоить, я и понятия не имею. Сам я никогда ничего не коллекционировал, разве что сохранил две школьные похвальные грамоты, которыми я был награжден за похвальное поведение в первом и третьем классах. Больше я, увы, ничем в школе не выделялся… Не буду вам рассказывать, каким образом коллекция эта оказалась у меня. Это довольно длинная и грустная история, которых в девяностые годы в России было более чем предостаточно. Так или иначе, коллекция эта оказалась у меня, и с великими трудами, немалым риском и кучей взяток я смог вывезти ее из страны.
Если для меня эта коллекция кроме ее стоимости имеет и какое-то эмоциональное значение, то для моего наследника, боюсь, она будет представлять из себя только товар. Поэтому я прошу вас, без всякой спешки — я понимаю, что рынок сейчас мало подходит для продаж такого рода — оценить коллекцию. А когда рынок поправится и моему наследнику нужны будут деньги, можно будет попытаться продать коллекцию. Целиком ли, по частям — это вы уж решите, когда дело дойдет до продажи. Разумеется, соответствующий гонорар вы получите при продаже.
Петр Григорьевич открыл тяжелый переплет. В слегка пыльных углублениях в выцветшем бархате тускло мерцали монеты разных форм и размеров — господи, сколько же каждая из них могла рассказать. Петр Григорьевич усмехнулся. Совсем он уже перестал соображать что-нибудь. Какой наследник, что он наплел выдраенному господину директору. Для чего? Только по привычке постоянно петлять и заметать следы? Это он ведь сам себе завещает. Но вообще-то дела это не меняет.
— Благодарю вас за доверие, уважаемый господин клиент. Очевидно, нужно будет составить подробную опись содержимого коллекции, и одно это займет немало времени.
— Разумеется, как вы посчитаете удобным. При всех обстоятельствах я полагаю, что ваша профессиональная щепетильность куда надежнее, чем самая подробная опись. Ведь при желании банк вполне бы мог представить мои документы таким образом, что я бы никогда не нашел следов нескольких миллионов и даже не догадался об их исчезновении.
Директор банка улыбнулся.
— Благодарю вас, уважаемый господин клиент. Вы правы, в конце концов, вся современная банковская система держится на доверии. Первый Ротшильд, основывая свою банковскую империю более двухсот лет назад, уже тогда прекрасно это понимал. Каким образом мне сообщить вам о результатах оценки?
— С вами свяжутся, господин Майрхубер. Благодарю вас за всё.
Назавтра они с Костей уже летели в Москву. Петр Григорьевич закрыл глаза. Как звали ту молодую женщину, что пятнадцать лет назад прибежала к нему в слезах и, всхлипывая, рассказала, что ее отца разбил паралич, что какие-то кредиторы требуют с нее сто тысяч долларов, а для нее что сто тысяч, что двести миллионов одно и то же, потому что в доме нет ни копейки, о чем его так называемые партнеры постарались с редким усердием — обобрали его до нитки. Не его это дело, она всегда ему это говорила, с его доверчивостью и наивностью не бизнесом заниматься надо, а вышивать крестиком.
Кажется, Машей ее звали, и несколько раз он видел ее у их общего знакомого. Так он и купил у нее за сто тысяч эту коллекцию, хотя лучше бы и не покупал. И не потому, что она не стоила того, что он за нее заплатил. Стоила, может быть, и побольше, он всегда каким-то неведомым образом чувствовал, когда переплачивает, а когда, наоборот, цена была ниже рыночной. Потому-то, если уж быть честным перед собой, и купил. Сто тысяч баксов — это ведь тебе не милостыню сунуть попрошайке в подземном переходе. Но намыкался он с этим фолиантом — мало не покажется. И дома держать страшно, и не за такие вещи отправляли на тот свет в то страшное лихолетье. А в банке в сейфе и того страшнее — лопались они тогда, как мыльные пузыри, сегодня не вспомнишь даже их названия, всякие там Агробанки, Мост-банки, какие-то Кредиты — сколько их было… И даже в землю не зароешь, потому что и земли своей у Петра Григорьевича не было. А как вывезти? Как гончая шел по следу от одного знакомого к другому, пока не вышел на нужного таможенника. Двадцать тысяч зеленых отвалил ему, чтобы благополучно провел его с чемоданчиком на посадку.
Принесли завтрак, и Петр Григорьевич неожиданно сам для себя спросил стюардессу, нет ли у них хорошего коньяка. Костя сразу встрепенулся и вопросительно посмотрел на него. Стюардесса виновато улыбнулась и объяснила, что может принести красного вина, а что касается коньяка…
— В чем проблема, принесите маленькую бутылочку «Курвуазье» или «Наполеона». Вот кредитная карточка. А если вам удобнее, можно и наличными.
— Петр Григорьевич, а можно вам? — испуганно спросил Костя.
— Теперь мне, к сожалению, всё можно. Привилегия приговоренного к смертной казни. Хуже уже не будет. А вот и коньяк. Налей мне капельку, а то руки трясутся. Спасибо, Костя. Знаешь, почему я вдруг выпить решил?
— Не-е.
— Хочется выпить за два не очень симпатичных персонажа, так сказать.
— Это за кого же?
— За того старшего лейтенанта, который тебя чуть не засадил. Как его звали?
— Иван Харитоныч.
— Вот-вот. Ты его больше не встречал?
— Господь миловал. Недавно, правда, мелькнуло его рыло по телевизору. Какое-то было очередное сборище милицейских чинов на тему борьбы с коррупцией. Майор уже. Весь вперед подался, напрягся, напружинился, каждое слово начальства ловит, ну прямо невтерпеж ему тут же броситься бороться с коррупцией. Ну просто сил никаких нет терпеть. Хоть тут же выскакивай из зала и беги хватать взяточников.
— Да, друг Костя, наградили все-таки татаро-монголы завоеванных российских несмышленышей кое-чем. Врос у нас их бакшиш не то что в менталитет, в гены, похоже, внедрился. Хоть жди, пока у нас ученые ген мздоимства выделят. А если и выделят, всегда найдутся блюстители прав человека, которые докажут, что гены такие лучше не трогать. И всё же я хочу выпить за твоего Ивана Харитоновича. Потому что если бы не он — не сидел бы ты сейчас рядом со мной и не было у меня такой близкой души и последней опоры. Ты уж прости за сентиментальность, но мне она по состоянию здоровья вполне позволительна…
— Спасибо, шеф, я даже не знаю…
— И еще за господина рака.
— А это-то как же?
— Потому что только тогда, когда часы твои дотикивают, начинаешь всерьез понимать что к чему.
Красиво сказал, сделал Петр Григорьевич себе мысленный комплимент. Но самое смешное, что не было в этих словах никакого преувеличения.
7
Никогда еще не владел Петром Григорьевичем такой зуд. Быстрее в Удельную к безумному своему спасителю, пока еще сам не успел откинуть копыта, и Семен Александрович как будто жив. Вроде бы всё сошлось — договорились на завтра. К часу будут у него, он, Костя и Женечка. Раззудил Петр Григорьевич любопытство своего аналитика необыкновенно. Просто, мол, рассказал он ему, это какой-то электронный Левша. Дикий, сумасшедший, но настоящий гений разных гаджетов. И тащить их в Москву в компанию отказывается наотрез, мол, боится, что украдут его гениальные идеи, требует только приехать к нему.
Шоссе было как почти всегда забито, и «лексус» еле тащился в сплошной веренице легковых машин, грузовиков и фур. Петр Григорьевич то медленно погружался в какое-то обморочное забытье, то с трудом выныривал на поверхность бодрствования. И Евгений Викторович словно чувствовал что-то, поэтому, наверное, сидел напряженный, не решаясь откинуться на мягкую кожу спинки и подголовники заднего сиденья. И не поймешь, то ли молчит из уважения к президенту компании, который задремал рядом с ним, то ли чувствует что-то. А что если сказать ему, что доживаешь ты, Евгений Викторович, последние часы своей земной жизни, что бы он сделал? Несмело улыбнулся бы — шутит, наверное, президент? Закричал? Выскочил на ходу? Любопытство было каким-то необязательным и надуманным. Всё, чем страдала и мучилась его совесть, — да так прямо и мучилась ли? — давно уже перегорело, и зола, похоже, успела остыть. Кто, на какой рулетке закрутил шарик его судьбы и жизни? Кто знает. Да и нужно ли знать? Не ты его закрутил и не тебе его останавливать. Твое дело получить свой выигрыш, если он в последнюю минуту не окажется проигрышем. Концом, точнее. Да ведь если разобраться, какие у него были гарантии, что сумасшедший старик не находится во власти самообмана? Собака, которая походит по привычкам на предыдущего пса? Да и то, только по рассказам ее владельца. Так что, если разобраться, единственная гарантия у него — это его безвыходное положение и надежда, которая одна только и остается в таком положении. Старик, может, и сумасшедший, одержимый сверхценной идеей, но рак-то поджелудочной железы со всеми его метастазами самый что ни на есть настоящий. Вот уж кому наплевать и на совесть его со всеми ее хилыми борениями, и на сверхценные идеи, и на жизнь и смерть шестидесятидвухлетнего Петра Григорьевича тоже было ему в высшей степени наплевать. Потому что рак, господа присяжные заседатели, бессмертен…
— Приехали, Петр Григорьевич, — послышался голос Кости с водительского места. — Еле нашел, хорошо хоть хозяин мне подробно всё объяснил.
Петр Григорьевич с трудом вылез из машины и чуть было не упал — как-то за последнее время совсем он разучился сохранять равновесие. Да и какое, собственно говоря, нужно равновесие на краю могилы? На какую сторону ни упадешь — всё равно на дне ее окажешься.
Домик на тихой дачной улочке с худосочной травкой между светлыми лужицами был под стать хозяину — маленький, облупленный и покосившийся. А вот и сам хозяин. Семен Александрович подошел к калитке, снял с нее кусок ржавой проволоки, служившей, очевидно, задвижкой, и кивком пригласил всех в дом. Около «лексуса» остановилась тощая бело-желтая худосочная коза с прилипшим к шерсти засохшим репейником, внимательно рассмотрела автомобиль, словно прикидывала, стоит ли покупать такой, одобрительно кивнула реденькой, как у восточного мудреца бородкой, и пошла по своим козьим делам. А вместо нее машину стал разглядывать голопузый мальчишка лет десяти.
— «Лексус»? — деловито спросил он.
— «Лексус», — улыбнулся ему Костя.
— Тлиста?
— Четылеста пятидесятый, — засмеялся Костя, снимая смехом напряжение, которое, казалось, всё сжималось и сжималось вокруг них.
— Ис ты! — с восхищением сказал мальчик, шмыгнул носом и пошел вслед за козой.
— Проходите, — сказал Семен Александрович, — только не треснитесь головой о притолоку.
На пороге показалась рыженькая собачонка и с любопытством уставилась на пришедших. Наверное, это и есть Корлис-два, подумал Петр Григорьевич. В каком-то смысле его родственник. Родственник, прямо скажем, не слишком аристократический, потому что угадывались в длинненькой рыжей собачонке и забредшая когда-то в его родословную какая-то случайная такса, и скорее всего рыженький сеттер оставил свой окрас, и кто знает сколько совсем уж беспородных предков. В нос Петра Григорьевича пахнуло той же вонью, что он уже чувствовал, сидя рядом с Семеном Александровичем около памятника Пушкину, только в несколько раз более густой: смесь пыли, немытого тела, грязных тряпок, собаки и бог знает чего еще.
— Кофе? — спросил хозяин и усмехнулся. — Вы не смотрите на обстановку, зато кофе у меня хороший. Карт нуар, если вы в кофе разбираетесь.
— Спасибо, — сказал Евгений Викторович, с любопытством рассматривая несколько компьютерных мониторов, стоявших на столе, большой компьютер и бесконечное количество дисков, которые, казалось, заполнили всю полутемную комнату.
— Это что у вас, — спросил он старика, — сервер?
— Точно. ПК с такими объемами информации, с которыми я имею дело, не справляются. Но пейте кофе. Я гостей должен обязательно напоить кофе. Завариваю по особому рецепту, добавлю чуть-чуть… что я добавляю… — Старик на мгновенье задумался, и сердце Петра Григорьевича замерло в тоскливом ужасе: сейчас брякнет «клофелин». — А, да, соли, представляете себе… Странно на первый взгляд, но подчеркивает, так сказать, вкус.
— Спасибо, — сказал Евгений Викторович, с любопытством оглядывая комнату.
— Благодарить будете после, — сказал старик и разлил кофе в три чашечки. — Кому с сахаром, вот он, в банке, а молоко вон, в пакете.
Все подняли разномастные чашки.
— А правда, вкусный кофе, — кивнул Евгений Викторович, и Петр Григорьевич внутренне улыбнулся сквозь ставшее уже нестерпимым напряжение: новый рецепт — карт нуар с клофелином, если, конечно, старик действительно подсыпал ему снотворного. А может, это он ему подсыпал, и спит на самом деле не главный аналитик с русой чеховской бородкой, а сам он, Петр Григорьевич, и это ему мерещится вся эта чертовщина.
— Что-то глаза слипаются, в машине, наверное, укачало, — виновато пробормотал Евгений Викторович, и в следующую минуту голова его безвольно опустилась на грудь. Он спал.
Корлис посмотрел на спящего аналитика, тихонько тявкнул и вдруг так же тихо завыл, скорбно подняв вверх длинную мордочку.
— Ты что? — спросил пса Семен Александрович. — Не хочешь, чтобы я…
Нет, положительно спал не главный аналитик с чеховской бородкой, решил в конце концов Петр Григорьевич, а он сам, потому что собака — он это явственно видел — совсем по-человечьи отрицательно покачала головой.
— Раньше нужно было думать, — пожал плечами Семен Александрович, обращаясь не то к себе, не то к Петру Григорьевичу, не то к собаке. — Деньги принесли? — это уж он явно у него спрашивал, решил Петр Григорьевич, откуда же у собаки деньги. Он помотал головой, пытаясь привести мысли хоть в какой-то порядок.
— Да, вот здесь в кейсе ровно два миллиона рублей. Чуть больше шестидесяти тысяч долларов, можете пересчитать.
— Что? А… мы, кажется… что кажется? А, да, мы уже говорили на эту тему. Считать я ничего не буду и никаких денег не возьму.
— Как же, — испугался Петр Григорьевич и почувствовал, что все его внутренности проваливаются куда-то вниз, — мы же договаривались! — Голос его звучал умоляюще. — Я же…
— Да нет, — усмехнулся старик, — вы меня… это… не так поняли. Всё мы сейчас сделаем, и часа через два будете поглаживать новую для себя бородку… ну, не знаю, что вы еще захотите у себя пощупать и погладить. Но денег я решил не брать. И не спрашивайте, почему. Да потому что не нужны они мне… аб-со-лют-но! Понимаете? Да и брать деньги за лебединую песню как-то негоже.
— Какая песнь, о чем вы, не понимаю, — сказал Петр Григорьевич просто для того, чтобы скрыть и волнение, которое так и колотило его, куда там Паркинсону, и надежду, и страх.
— Не понимаете — и тем лучше. Что за глупая привычка стараться всё понять. Я в отличие от вас давно понял, что ничего не понимаю… Да! — вдруг выкрикнул он тонким голосом. — Не по-ни-маю! Почему такой гений как я вместо почета, мировой славы и Нобелевской премии кончает жизнь преступником в нищей хибарке в подмосковной Удельной? Почему? То-то же, — вдруг обмяк он. — Ладно. Клофелин в той дозе, что я подсыпал вашему… вашему… ну, теперь уже можно сказать не вашему сотруднику, а вам, будет действовать часа два, а работы у нас полно.
— Как это мне? — снова испугался Петр Григорьевич.
— Да привыкайте же вы наконец к тому, что скоро произойдет. Не стройте из себя в последнюю минуту невинную девочку. Сами же просили. Вам — не вам, я ж вам всё объяснял несколько раз! Этот, — Семен Александрович кивнул в сторону спящего Евгения Викторовича, — еще пока что ваш сотрудник, но скоро станет вами.
Семен Александрович достал откуда-то из-под стола два не то шлема, опутанных множеством проводков, не то странного вида фиксаторов. Господи, почему-то всплыла в памяти Петра Григорьевича строчка Окуджавы «и комиссары в пыльных шлемах…».
— Садитесь сюда, Григорий… простите, Петр Григорьевич, видите, запомнил, наконец, ваше имя — а то провода не дотянутся. И не тряситесь вы так… будет вам и русая бородка, и вон какие плечи, и член, надо надеяться, под стать… ха… ха… Не проверяли, случаем? И о поджелудочной железе своей забудете. Теперь запомните: когда мой аппарат начнет работать, копируя содержимое вашего мозга, вы ничего особенного не почувствуете, всё будет как при обычном засыпании — мысли ваши замедлятся, как бы загустеют, и вы незаметно погрузитесь в сон. Когда копирование закончится, вы вскоре проснетесь, но уже в теле вашего… кто он там у вас… а, да… аналитика. И будете прекрасно помнить всё, что с вами случилось. И уж подавно рак ваш уж никак не даст забыть о себе.
— Как это? — вдруг разволновался Петр Григорьевич. — Какой же тогда рак? Тогда зачем… Вы ведь только что сказали, что будет у меня бородка, а рак у меня и без бородки не дает себя забыть…
— До чего ж, простите, вы… даже не знаю, как назвать… тугодумный, что ли… А еще бизнесмен. То-то наш отечественный бизнес никак из пеленок не вылезет.
— Не понимаю.
— Какое-то время, по крайней мере, пока не догрызет одного из вас ваш ненасытный рак, в этом прекрасном, но не слишком справедливом и благоустроенном мире будут существовать два Петра Григорьевича. Один, в своем старом обличье, со своими старыми болями и болячками будет ждать конца, другой — в другом теле с русой бородкой и русыми волосами — радоваться жизни. Я вам всё это уже объяснял. Устал уже. Но мы слишком много говорим…
Страшно было до спазмов в сердце. Ужас подымался в груди каким-то ледяным цунами. Хорошо хоть услышал в этот момент почему-то успокаивающий перестук недалекой электрички. И муха помогла. Билась, бедняга, о давно не мытое стекло оконца. И жужжала, жужжала, хотя, может быть, подумал Петр Сергеевич, жужжала вовсе не полудохлая муха, которая, наверное, всё равно уже примирилась с судьбой, осень уж на носу, а самолет в небе. Где-то тут аэропорт Быково должен быть не слишком далеко. Прав, прав был старик, он явно засыпал, подумал Петр Григорьевич, потому что перед ним стояла Таня и смотрела на него не то со страхом, не то с изумлением. Это… это… наверное… из-за шлема. А может, это она на Галю уставилась… уставилась, приставилась… подставилась… Хотя видеть Таню и Галю вместе было Петру Григорьевичу как-то неловко, сон не пугал его, и он легко погружался в него. Ну конечно, он уже спит, потому что Танюшка начала о чем-то оживленно, но вполне дружелюбно беседовать с Галей.
Проснулся он от того, что сидеть на жестком колченогом стуле было неудобно. И шея у него затекла. Да, прав был старик, он помнил всё. И словно подтверждая это, по-хозяйски кольнуло его и крутануло где-то в кишках. О, господи. Он провел рукой по голове. Буденновского шлема на нем уже не было. Сколько же он проспал? Он посмотрел на Евгения Викторовича, который тоже уже был без шлема. Аналитик заерзал, повертел шеей — наверное, и у него она затекла — и смущенно спросил у старика, который внимательно смотрел на него:
— Простите, где у вас туалет?
— Что? А, да. На улице, конечно, где ж ему быть.
— И я найду его?
— По запаху.
Интересно, с острым любопытством, даже с замиранием сердца подумал Петр Григорьевич, кто теперь этот хмырь с бородкой — главный аналитик из Томска или он сам, только в другом, так сказать, теле. В другой ипостаси, ухмыльнулся он от избытка чувств.
— Простите… — посмотрел он на человека со знакомой бородкой, — вы…
Евгений Викторович вдруг засмеялся:
— Вот уж не думал, что ты, старый хрен, станешь сам с собой так уважительно разговаривать. На вы. — Он посмотрел на Петра Григорьевича, покачал головой. — Гм, оказывается, видеть себя в зеркале са-а-всем не то же самое, что вживую в трех измерениях. Так сказать, в 3D. И выглядишь ты, уж не обижайся, мы ж все-таки не чужие, чего уж тут крутить, выглядишь ты не слишком авантажно.
Странно, однако же, совсем близнецами они почему-то не стали, отрешенно отметил старый Петр Григорьевич. Уже сейчас намечается разница у них. Ему в уборную совсем не хотелось, а этому, видишь ли, приспичило. Гм… почему-то он сразу стал относиться к бородатому своему двойнику с некоей настороженностью. Ревнует, что ли. Хотя думать так или тем более чувствовать, было явной глупостью. Всё это было так странно, так непривычно для него, так для этой ситуации не было у него в запасе никаких готовых шаблонов старого опыта, которыми мы, строго говоря, в основном и пользуемся в своем умственном процессе, что мысли никак не хотели идти своим чередом и всё время норовили замереть в парализованном изумлении.
Аналитик, он же Петр Григорьевич или, пожалуй, лучше Петр второй, так, наверное, он будет думать о себе, пока не останется в одном только экземпляре, встал и вышел из хибарки. Господи, не иначе как он превратился в американского астронавта на Луне — лишившись там привычного земного притяжения, они подпрыгивали в своих скафандрах на знаменитых кинокадрах, как воздушные шарики, а он вместо слабых ног, которые надо было ставить медленно и осторожно, чтобы не оступиться, чувствовал под собой мощные пружины, на которых что бегать, что прыгать казалось легче пареного.
Старик не преувеличивал. Не нужно было обладать собачьим нюхом, чтобы найти по запаху нужник. Из дощатой будочки тянуло такой густой и даже как бы физически ощутимой вонью, что найти ее можно было и с закрытыми глазами. Он расстегнул ширинку — как-то она не так открывалась, как у него, ну, конечно же, у него ширинка была на пуговицах, а у этого… на молнии. И трусы не его. И рука была не его. Куда только делись знакомые пятна пигментации и такая привычная подагрическая боль в суставах руки, без которой пальцы уж вроде и не пальцы. И ногти не так подстрижены. Да и сам член, который держала эта чужая рука, был странный. Впрочем, почему же странный, вполне пристойный член, просто побольше и посолиднее его сморщенного членика. А уж писалось… Может, и у него в юности била когда-то такая же струя — что там пожарный гидрант — он уже забыл, потому что давно пузырь его бедный ослабел, и мочился он медленно и по-стариковски вяло.
Он застегнул ширинку и повел плечами под чужим незнакомым пиджаком. Господи, это ж надо, чтобы от простого сокращения плечевых мышц, как они там называются, триглавые, что ли, можно получать такое удовольствие. Он медленно развел руками, наслаждаясь давно забытой готовностью тела к любым движениям. Коснулся дощатой в просветах стенки. Еще не хватало развалить этот нужник на куриных ножках…
Он вернулся в хибарку. Главный Петр Григорьевич, так сказать Петр первый, смотрел на него, приоткрыв рот, как дети смотрят на что-то необыкновенно интересное. Но в глазах у старого дурака, отметил Петр второй, угадывалась и некая настороженность.
— Петя, — сказал он, — к этому надо привыкать, потому что, похоже, мы первые двойники в этом лучшем из миров. А ты нахохлился. Ты бы посмотрел, как я только что писал! Это было не мочеиспускание, а песнь песней! Поэзия. Это нужно было видеть и этому нужно было аплодировать. А ты надулся, как будто ты меня… ревнуешь. Что, нет? Пойми, старый хрен, я — это ты, а ты — я. Это пусть твой старый членик ревнует к моему молодому члену, но мы-то не детсадовцы, сравнивающие свои пиписьки, нам-то это просто смешно. Если мы, конечно, их интеллектуально и превосходим, в чем я теперь не очень уверен.
— Да, ты, конечно, прав, — задумчиво сказал оригинальный Петр Григорьевич. — Просто каждый отдельный организм, наверное, инстинктивно стремится к некоей суверенности, к отдельности, и с этим ничего не поделаешь, это, очевидно, закон природы, к этому нужно привыкать. Тем более когда физически нас с тобой отделяет друг от друга целая пропасть. Один, молодой и здоровый, в восторге от того, как он мочился. Того и гляди начнет от самовлюбленности онанизмом заниматься, хрюкая от удовольствия. Второй, старый и умирающий, пытается скрыть зависть и раздражение, которые вызывает у него копия. Хотя, наверное, это естественно. Говорят, даже сиамские близнецы не всегда в восторге друг от друга.
И тут вдруг Петр Григорьевич, он же Петр первый, замер. Как же так, только что они… чего уж финтить… убили человека. И при этом преспокойно несут чушь о суверенности оригинала и копии и о величине членов. Это до какой же степени эгоизма нужно дойти… И так увиливать от ответственности. Хотя бы перед собой. Даже за множественное число ухватился — мы убили. Не мы убили, а он, он один убил.
И Петр второй, а лучше, чтобы не путаться, надо ему оставаться Евгением Викторовичем, а Петру Григорьевичу — самим собой, так сказать, оригиналом, оба они разом почувствовали неуместность, да что неуместность, скорее равнодушную жестокость их болтовни, и замолчали.
— Семен Александрович, — спросил Петр Григорьевич после паузы, — а мой… предшественник в этом теле… он…
— Его, строго говоря, уже нет, — пожал плечами Семен Александрович. — От всего его неповторимого «я» оставалось несколько гигабайтов на моем сервере, которые я благополучно стер для того, чтобы не оставалось следов нашего маленького… эксперимента. Знаете, наверное, что такое кнопка «делит» — стереть. Смерть, в сущности, ведь и есть нажатие на эту кнопку. Была жизнь — и вот нет ее, словно и не было. В компьютере хоть можно стертое выудить из корзины и восстановить, а с настоящей жизнью такое не получается. Хотя шарлатаны всякие, у которых, очевидно, на том свете, как теперь говорят, всё схвачено, именно это и обещают.
И Петр Григорьевич и Евгений Викторович разом посмотрели на Семена Александровича, который сидел в маленьком креслице. Глаза он плотно закрыл, но им обоим показалось, что его по-стариковски худые плечи несколько раз судорожно дернулись.
Обивка кресла, на котором он сидел, совсем вытерлась, засалилась, но зато идеально гармонировала и с пыльной грязной комнаткой и с лохмотьями самого хозяина.
— А теперь уезжайте, — сказал хозяин, не открывая глаз. — С самого начала я не сомневался в успехе. Пусть я и старый осел, и преступник, но все-таки гений, как ни крути. Уезжайте. Впрочем, это, наверное, бывает. Хотя в психиатрии так называемые идиот-саванты не совсем то. Они умеют гениально перемножать в уме чудовищные числа и точно помнят, какой день недели был, скажем, третьего апреля тысяча пятьсот третьего года, но в остальном они изрядно дебильны. Я же знаю, что я гений, но дурак, и отличаюсь от них хотя бы этим. Ну, да ладно. И не забудьте взять свои деньги. Я ведь не выпендривался… чего? А, да. Не выпендривался, когда сказал, что деньги мне не нужны. Лебединую песнь за гонорар не поют. А тех денег, что вы дали мне как задаток, хватило с лихвой. Об одном жалею…
— О чем же? — спросили Петр Григорьевич и Евгений Викторович почти хором.
— А? Да. Хотелось бы мне посмотреть на лицо моей бывшей лаборантки, когда ей принесли перевод на двести тысяч рублей. Так и вижу, как у нее очки вопреки законам тяготения сами по себе на лоб поднимаются. Я когда деньги переводил на почте, на меня девица с ярко-рыжими крашеными волосами всё смотрела подозрительно — откуда у этого бомжа столько бабок, спер, наверное. И головой качала. Лучше бы мне, старый хрыч, подарил. Я б ему…
— Семен Александрович, — сказал Петр Григорьевич, — во-первых, позвольте поклониться вам в пояс. Вы не только гений, вы и человек необыкновенный. А во-вторых, зачем вы говорите о лебединой песне? Может, есть и другие пути использования вашего… открытия.
— Ну, насчет лебединой песни объяснять вам ничего не буду. Скоро поймете… А насчет других путей… может быть, вы и правы… Но…
— Что же вам мешает, Семен Александрович, пойти по… менее радикальному пути? — спросил Евгений Викторович.
— Гордыня. Она ведь тоже признак незрелого ума. А теперь уезжайте.
Костя ждал их, задремав за рулем. Когда калитка скрипнула, он мгновенно открыл глаза и тут же выскочил, чтобы открыть заднюю дверцу.
— Мог бы и не беспокоиться, я уж как-нибудь за этим старикашкой присмотрю, — засмеялся Евгений Викторович-два и взмахнул головой, отбрасывая с лица волосы. Жест был в точности жестом Евгения Викторовича. Значит, пронеслось у него в голове, ничего не получилось, но тогда как этот главный аналитик смеет так обращаться к шефу. Сделать ему замечание, что ли… Но Евгений Викторович, похоже, и сам заметил Костино недоумение, потому что повернулся к нему и сказал:
— Костя, привыкай к странной мысли, что и я, и наш болезный президент — это в сущности один и тот же человек. Мысль, конечно, непростая и привыкнуть к ней не так-то просто, но нужно, иначе такая каша заварится… А для порядка, и уж обязательно на людях, ко мне придется обращаться Евгений Викторович, а к нему, — он кивнул на оригинального Петра Григорьевича, — Петр Григорьевич.
— Слушаюсь, шефы, — покачал головой Костя и добавил про себя: ну и ну, это ж надо такое придумать.
Дорога назад оказалась почему-то более свободной, и они быстро катили к Москве. Умом всё это Костя, разумеется, понимал, сколько они с шефом на эту тему переговорили, но почему-то никак у него не получалось думать о Евгении Викторовиче как о шефе, ну никак. Не мог он в душе поделить Петра Григорьевича с молоденьким самозванцем, как бы его ни называть.
Шеф у него мог быть только один.
Костя посмотрел в зеркальце. Этот с русой бородкой, не то аналитик Женечка, не то еще один Петр Григорьевич, всё ощупывал себя, доставал что-то из карманов, клал обратно, качал головой. Гм, оно и немудрено, и в чужом доме не сразу освоишься, а уж о новом теле и говорить не приходится. Ну и ну, это ж надо придумать такое… Он чуть не врезался в затормозившую перед ним «газель» и одернул себя, заставляя сосредоточиться на дороге. Еще не хватает разбиться после всех этих фантастических событий…
Ставший уже привычным за последние недели зуд снова охватил Петра Григорьевича. Если и не Петра Первого, то хоть Петра Григорьевича первого, добавил он, внутренне усмехаясь. Умирать не хочется никогда, но было бы поистине нелепо испустить дух сейчас, не оставив завещания, не переведя на своего двойника акций, не передав ему руководство компанией. Вот был бы праздник для достопочтенного господина Фэна и его Юрия Степановича, вот был бы пир для целой стаи адвокатов, которые бы год обильно кормились, чавкая от жадности и деля его наследство. Нет уж, извольте пировать на других костях. Он достал телефонную книжечку из кармана, нашел нотариуса, услугами которого постоянно пользовалась его компания, и набрал по мобильному его номер.
— Ананий Исакович? Добрый день. Это ваш постоянный клиент Илларионов из «РуссИТ». Спасибо, не очень. Поэтому-то хочу вас просить срочно составить мое завещание. Нет-нет, ко мне приезжать не нужно. Во-первых, я еще, слава богу, более или менее на ногах, а во-вторых, мне не хотелось бы, чтобы кто-нибудь знал о нем. Пока вы его, разумеется, не огласите официально уже после… Я приеду к вам в контору, но только назначьте мне точное время, а то мне, признаться, долго сидеть трудно. Завтра в полдень? Отлично, спасибо большое. До завтра.
— И то правильно, — улыбнулся Евгений Викторович и погладил бородку. — А то оставишь своего двойника на бобах. Без бабок и вообще-то жить непросто, а уж двойнику…
— Хватит ёрничать. — Хоть и сидел рядом с ним его двойник, его, так сказать, душа в заветной лире, он же сам, в сущности, но почему-то он уже начал раздражать его. Так, как сам он себя никогда не раздражал. А чем? Не бородкой же и не развязностью. В конце концов, их диалог это, в сущности, мысли одного человека, и всё же, всё же… Ну никак не мог он заставить себя смотреть на Евгения Викторовича как на себя. Умом-то он, конечно, всё понимал, но одно дело — умом, а другое — всем своим естеством. А это естество как раз восставало и не желало видеть в другом человеке себя. Да, память у обоих может быть и одна, но страдает-то он один, умирает-то он один. А этого для особенности более чем достаточно. И вообще, гусь свинье, как известно, не товарищ, особенно если гусь ходит, подпрыгивая от избытка сил, а свинья кряхтит от потери сил и еле ползает… Точнее, доползывает, сколько осталось…
А может, вдруг догадался он, дело не только в его особенности. Может, все-таки саднит его совесть хоть немножко. И хоть Евгений Викторович скорее жертва, чем сообщник, самим своим существованием он уже постоянно напоминал ему, что он сделал. Затихла вроде его совесть на какое-то время, а на самом деле… Убил же он ни в чем не повинного человека, так называй, эдак, но убил. Какая разница, что не нож ему в сердце всадил или не подстрелил, как куропатку, а нажал на кнопку «делит» — стереть. Суть-то та же.
Он не заметил, как задремал, но что дремлет он — понял сразу, потому что перед ним опять стояла Танюшка и как-то незнакомо смотрела на него. Никогда она на него так не смотрела. Конечно, и ссорились они, и попрекали друг друга, и кричали, и шипели — всякое бывало, живые ведь люди, но вот так — никогда. Недоуменно как-то, неодобрительно, что ли…
Сон прервал мобильный.
— Петр Григорьевич? — спросил его незнакомый мужской голос.
— Он самый. С кем имею честь?
— Это я имею честь, и, пожалуйста, не спрашивайте, откуда я знаю номер вашего мобильного телефона. Это, скажем так, маленький профессиональный секрет. Меня зовут… ЮЮ.
— Это что, имя такое?
— Какая разница, имя, кличка или псевдоним. Мне бы очень хотелось поговорить с вами…
— Простите, но я…
— Я, наверное, неловко выразился. Я уверен на сто процентов, что и вам было бы оч-чень интересно поговорить со мной.
— На какую же тему, господин ЮЮ? — Петр Григорьевич уже начал терять терпение.
— На тему вашего заместителя Юрия Степановича.
— А точнее? Я знаю, что он мой заместитель.
— Точнее — о его слежке за вами и некоторых его планах.
— Его?
— Его и того, кого он называет «заказчик». Я, конечно, догадываюсь, кто этот заказчик, но вам всё это будет понятнее после разговора.
— Ну что ж, господин ЮЮ, не спорю, вы меня заинтересовали. Когда мы можем увидеться?
— Да хоть сейчас.
— Отлично. Куда мне подъехать?
— Я в центре. Наслаждаюсь осенним солнышком в скверике около памятника Пушкина на Страстной.
— Поразительно. Просто мистика какая-то.
— В каком смысле?
— Неважно. Долго объяснять… Как я узнаю вас?
— Надеюсь, никак. Зато я вас узнаю. Столько уж изучал и вашу фотографию и вас лично, хотя и издалека…
— Прекрасно. Буду там минут через двадцать.
ЮЮ не торопясь обошел скверик, стараясь не пропустить ничего подозрительного. Конечно, не должен вроде этот Петр Григорьевич приготовить ему какой-нибудь нежелательный сюрприз в виде мента или двух. И заинтересован он в этом не был, и вряд ли смог бы организовать ловушку за четверть часа, даже если б хотел. Потому и назначил ему свидание практически сразу.
Научила его жизнь и осторожности и расчету. Тем более что год на зоне, считай, за два идет. Как на фронте. Да ведь и сел-то он только по доверчивости и наивности. Когда всё рухнуло в одночасье после развала Союза, и остался он, совсем еще зеленый юнец, с маманей на руках и без копейки, заметался он. А мечись не мечись — работы никакой не было, а была бы — и там зарплату тогда платили после дождичка в четверг, и то не в каждый… Да и какую работу он мог найти, когда только-только школу кончил, оглянуться не успел. А тут сосед по лестничной клетке Алексей Парамоныч. Отставник. Говорил — подполковник. Всегда в кителе, но без погон. И грудь полна разноцветных планок. Как-то встретил его подполковник и говорит:
— Юлька, ты всем этим рекламам, которые сулят в одночасье озолотить человека, не доверяйся, всем этим фондам, трастам, Эмэмам мавродиевским. Обдурят как миленького. Мне вот дружки по Афгану один банк военный порекомендовали, они не то чтобы себя рекламировать, чужих просто не пускают как на спецобъект. Так веришь, и правда за два месяца вклад мой утроился. Ладно, бывай, сосед, — и пошел, сделав ему ручкой на прощанье.
— Скажите, — взмолился он вдогонку отставнику, — а нельзя мне… Там у нас с мамашей какой-никакой НЗ остался, да и старинные часы-каретничек с перламутровой ручкой. Мать говорила, что, мол, очень ценные они, по наследству от ее родителей достались.
— Не знаю, — покачал головой отставник, — ей-богу, не знаю… И хочется тебе помочь, парнишка ты как будто неплохой… Ладно, — вдруг решился он, — так и быть. Попробую. Неси свою заначку и часы. Матери только не говори, сурприз ей будет.
Это ж надо, усмехнулся ЮЮ, так лопухнуться. Только он и видел эти последние копейки и старинные часы. Сначала отставник его всё завтраками кормил, мол, на следующей неделе всё будет о'кей, а потом и просто сказал: «Пошел ты куда подальше. Не видел я никаких часов и денег у тебя не брал».
Прямо закипело всё у него внутри. От негодования чуть не задохся. Всунул руку в карман, в кастет, который всегда в ту пору носил там, и врезал подполковнику по морде. Да так, что тот и брякнулся. Взяли его на следующий день. Оказалось, кто-то из соседей видел их. Да, кивал головой следователь, что жулик он, это верно. И такой же подполковник, как я маршал. Но за причинение серьезного вреда здоровью ответить тебе придется по полной. Ежели у нас все справедливость начнут кастетами восстанавливать, полстраны будет в больницах, а вторая половина на зоне.
Так что пришлось добираться жизненного опыта на зоне. И возненавидел ЮЮ этот опыт до сердечных судорог. И вонючие камеры с облупившейся штукатуркой, крашенной в ядовито-зеленый цвет, и параши, и стриженные наголо головы сокамерников с постоянно голодными и злыми глазами. Голодными от нехватки жратвы, баб, свободы. От тесноты и грязи. А злыми потому, что не они сторожили, а их… И выходя, поклялся себе, что обратно ни за что не вернется, что б не случилось…
Ага, вон и Петр Григорьевич с каким-то гавриком. Да нет, на мента не похож. Можно и подойти.
Не успели Петр Григорьевич-один и Петр Григорьевич-два найти свободное местечко, как перед ними появился непримечательного вида человек средних лет в длинном бежевом плаще. Он вопросительно посмотрел на Петра Григорьевича и перевел взгляд на Евгения Викторовича.
— Добрый день, я, признаться, ожидал увидеть вас одного…
— Не беспокойтесь, это мой доверенный человек. Водитель остался в машине…
— В «лексусе»?
— Вы, я вижу, хорошо изучили меня.
— Профессия такая, Петр Григорьевич. Так вы говорите, доверенное лицо?
— Вполне.
— Ну, раз вы настаиваете… Тогда разрешите мне перейти к сути дела.
— Я весь внимание.
— Некоторое время тому назад ваш заместитель, которому я уже оказывал такого рода услуги, поручил мне отправиться в Лондон, куда вы, по его сведениям, должны были вылететь, и там с помощью еще одного человека — китайца, между прочим, это вам о чем-то говорит? — проследить ваши контакты. В Лондон вы очень остроумно не полетели, и Юрий Степанович устроил мне разнос. Клял на чем свет стоит и даже сказал, что не только не заплатит мне за пустую поездку, но и вычтет из моего гонорара стоимость билета. Я и раньше видел, что он, простите, порядочное дерьмо, но в моей профессии имеешь дело как раз больше именно с такими. Но дело не только в потерянном заработке, он мое профессиональное самолюбие задел за живое. А мне это как-то не нравится. Без лишнего хвастовства замечу, что я человек осторожный, битый уже жизнью больше, чем полезно для здоровья, и люблю подстраховываться. Поэтому я его поручение записал на пленочку. Но спорить с ним не стал и ничего доказывать не стал. Доказать дерьму, что оно дерьмо вещь невозможная в принципе, как я давно понял. Потому что дерьмо всех на свой дерьмовый аршин мерит. Вот, собственно, и всё, Петр Григорьевич. Пленочка у меня с собой.
— Спасибо, и что я вам…
— Лишнего просить не буду, тем более что от одного того, что ему ножку подставляю, я уже, как нынче говорят, тащусь по полной. Ну, скажем, две тысячи баксов, только что покрываю потерю за этот гребаный Лондон. Годится?
— Вполне. Если, конечно, вы меня не разводите и если на пленке действительно голос дорогого Юрия Степановича.
— Разумно. Здесь, конечно, шумновато немножко, поэтому вы уж вставьте наушничек в ухо, лучше будет слышно. Вот вам проигрыватель, а вот и наушничек.
Петр Григорьевич внимательно выслушал наставления своего зама и возмущение его по поводу загубленного поручения и задумчиво кивнул головой. — Отлично, господин ЮЮ. Вы, случайно, не родственник Юлия Цезаря?
— В каком смысле? — насторожился ЮЮ.
— Да нет, это я так, к слову, это у вас инициалы такие редкие… Я заплачу вам не две, а три тысячи баксов за то, чтобы вы чувств своих к Юрию Степановичу не выказывали и продолжали записывать его голосок.
— А три с полтиной?
— Ну, ЮЮ, я от вас такой мелочности не ожидал…
— Жить-то надо, а тут еще ЖКХ тарифы, говорят, поднимает, — ЮЮ широко улыбнулся, довольный, очевидно, и договоренностью, и своим остроумием.
— Ладно, добавим на ЖКХ. Ну а если уж мы затеем с моим замом другую игру и вы примете в ней участие, тогда уж гонорары совсем иного порядка пойдут.
— Спасибо, согласен. Вот вам номер моего мобильного, нужен буду — звякните. До свидания.
— Ну, как всё это тебе, доверенное лицо? — повернулся Петр Григорьевич к двойнику и усмехнулся. — Как тебе наш Юрий Степанович?
— Что он мерзавец, я… то есть мы никогда не сомневались. Но организатор уж больно хороший. Менеджер от бога.
— Ладно, посмотрим, как он будет выглядеть, когда услышит свой голосок. Я уже предвкушаю удовольствие от его перекошенной рожи.
— Слово «рыло» подойдет ему, пожалуй, получше.
А вечером Костя встретился с Андреем Стычкиным.
— Что случилось? — спросил Андрей.
— Как ты думаешь, твоя жена впустит нас в квартиру?
— В каком смысле?
— В самом прямом.
— Что-то, Костя, ты темнишь. И не отнекивайся. У тебя же на твоем бесхитростном славянском лице написано, что ты хитришь. Колись, а то наручники надену.
— Понимаешь, дело-то серьезное, и решать его всё равно вам вдвоем придется. Ты ведь, если я правильно помню, говорил, что жена твоя баба толковая.
— Говорил. Но в чем суть-то?
— Суть в том, что я предлагаю тебе идти к нам работать. Хочешь, временно, если тебе дадут отпуск из органов хотя бы на месяц. А хочешь — на постоянной основе.
— Да ты что, рехнулся? Уволиться из органов? Мне в будущем году капитана по выслуге грозятся присвоить, а ты…
— Я всё понимаю, поэтому-то и хочу обсудить всё это с твоей женой.
Жена Андрея Ирина оказалась маленькой хрупкой женщиной, но лицо у нее было волевое, а глаза смотрели на Костю открыто и спокойно.
— Конечно, — говорил Костя им, — я отдаю себе отчет, что значит для служивого человека уйти из органов. Хоть и ругают нашего брата, простите за «нашего», это я по привычке, а все-таки это дело жизни. С другой стороны, жить по новым временам на одном энтузиазме не так-то просто, а когда вам зарплату поднимут и на сколько — это еще вопрос. С другой, приглашают Андрея в солидную и — главное — растущую компанию заместителем начальника службы безопасности с окладом, — Костя сделал эффектную паузу — в восемьдесят тысяч в месяц плюс бонус в конце года в размере как минимум месячного оклада. Ну и работа все-таки куда менее суматошная, чем в милиции, и спокойнее. Не столько на пистолет у нас полагаться приходится и не на дубинку, а на голову. Я, ребята, понятно говорю?
— А кто начальник службы? — спросила Ирина.
— Я.
— А пенсия? — вздохнул Андрей.
— А что пенсия? Это ж не контора по заготовке рогов и копыт. Все социальные отчисления, как положено. У вас компьютер есть?
— Есть, — кивнула Ирина.
— А Интернет?
— И Интернет есть.
— Вот вы и наберите в Яндексе компанию «РуссИТ». Это мы. Понимаете, ребята, в скором времени президентом компании станет другой, а пока что надо обеспечивать безопасность и старого и нового президента.
— ИТ — это информационные технологии? — спросила Ирина.
— Вы умница.
— Тогда зачем компании такая безопасность, это ведь не нефть или газ?
— Вы и представить себе не можете, какие интересы и какие большие деньги могут крутиться или, точнее, начать крутиться в этом бизнесе. Тем более что у нас разрабатываются технологии, которые могут обернуться не миллионными, а многомиллиардными прибылями.
— Спасибо, Костя, но вы ж понимаете, что такие вопросы за чашкой чая не решаются. Андрюшке и мне это сто раз прокрутить всё в головах придется.
— Вот и начинайте крутить, ребята, не буду вас больше отвлекать. Дело-то действительно непростое… Спокойной ночи, малыши.
Ирина улыбнулась и спросила мужа:
— Можно я твоего будущего начальника поцелую?
— Только в моем присутствии, предупреждаю. И в щеку. Только, — сурово добавил Андрей и на всякий случай грозно покачал пальцем.
— Тогда лучше не стоит, — засмеялась Ирина, провожая с мужем Костю.
8
Никак не кончался этот невероятный день, зато силы у него уже практически кончились, подумал Петр Григорьевич, подходя к машине.
— Ты хоть бы своему старику руку дал, — сказал он Евгению Викторовичу. Вроде бы и шутка, а красавчик с русой бородкой и впрямь начинал его раздражать. Хотя, казалось, ничем такого отношения не заслуживал. Просто, выходит, тем, что был здоров и полон сил — как раз того, чего у Петра Григорьевича уже не будет никогда.
— Прости, дедушка, — улыбнулся бывший главный аналитик, подсаживая спутника в «лексус».
— А дедушка еще должен, между прочим, договариваться, чтобы тебе физиономию немножко разукрасить.
— Это как? — удивился Евгений Викторович, непроизвольно ощупывая лицо.
— Как, как? Что-то уж слишком быстро ты забывчивым стал. Мы ж прикидывали, что сделать, чтобы твои возможные ляпы и провалы в памяти как-то сгладить.
— А, да.
— Упал в ванной, очень ударил голову, легкая амнезия.
— Да, конечно.
— Вот я и хочу позвонить Гургену Ашотовичу, чтобы он всё это сделал профессионально. Я и не умею, и пластырей таких у меня нет. А ты сам себя и подавно как следует обработать не сможешь. Сейчас позвоню ему по мобильному. Если он в больнице, Костя завезет сейчас меня домой, у меня просто ноги подкашиваются от усталости, а тебя потом отвезет в больницу.
— Гурген Ашотович? Добрый день, это ваш старый пациент Петр Григорьевич… Спасибо, как ни странно, я еще жив, но еле-еле… Друг мой, у меня к вам большая просьба. Я вас очень прошу слегка подправить лицо моего друга и сослуживца Евгения Викторовича. Что случилось? Да ничего особенного. Поскользнулся в ванной, ударился головой. Ну, сами понимаете. Да, конечно, вы не специалист по пластическим операциям, но ведь ничего серьезного и не надо делать. Приклеите там пару пластырей, йод, зеленка — чем вы там пользуетесь в таких случаях. Гурген, я вас не совсем понимаю, неужели вы не можете мне оказать такую пустяковую услугу? Что вы спрашиваете? Не видел ли я Семена Александровича? Видели мы, сегодня были у него в Удельной. Почему «мы»? Ну… Ну вот и спасибо. Через полчасика Евгений Викторович будет у вас.
Костя помог шефу подняться в квартиру и даже позвонил в дверь.
— Галина Сергеевна, вручаю вам мужа. И до свидания, я побежал, а то там в машине Евгений Викторович ждет.
— Кто? — почему-то испуганно вздрогнула Галя. — Какой Евгений Викторович? И почему…
— Мне еще нужно свезти его в больницу.
— Что-нибудь случилось, что с ним?
— Да нет, ничего особенного. Не волнуйтесь. До свидания.
«А почему это вдруг Галина так заинтересовалась Женей? — думал Петр Григорьевич, входя в спальню. — Она ж как будто и не должна знать, кто это. Она вообще никого из компании не знает. Странно…» Не снимая ни костюма, ни даже туфель, он лег на кровать. Знает, не знает, всё какие-то мелкие глупости лезут в голову. Человек в его положении, когда одна нога уже занесена, чтобы переступить последнюю черту, должен думать о вещах важных, а не о том, кого его жена знает и кого не знает. Мысли должны быть неторопливыми и скорбно-торжественными, как лица у сотрудников похоронного бюро, а не суетиться и не вытягивать любопытные мордочки. Он усмехнулся. Но только мысленно, потому что сил не было даже на то, чтобы придать лицу нужное выражение. И вообще, он ведь Галину никогда ни к кому не ревновал, с чего это под конец он вдруг в Отелло решил записаться?
Галя тихонько вошла в спальню.
— Петь, помочь тебе раздеться?
— Спасибо, Галочка. Сейчас переведу дух и попробую сам стащить брюки. — Он виновато улыбнулся. — Никогда не думал, что это такое сложное предприятие.
Галя смотрела на него с жалостью и — хотелось думать Петру Григорьевичу — с нежностью. Любовь, страсть, это всё игры для молодых и здоровых. Гормональные, так сказать, игрища. В его положении нежность куда ценнее, а жалость, сострадание — те уже просто вызывали слезы благодарности.
Был на Гале темно-синий халат с вышитыми фламинго с длинными белыми шеями и красными длинными клювами. Этот халат Петру Григорьевичу всегда нравился, а сегодня почему-то особенно. И косметики на ее лице не было, отчего оно стало чуточку проще, домашнее и доверчивее. И всё равно, отметил он, хороша она была необыкновенно.
— Галочка, — сказал он, повинуясь неожиданному приливу нежности к этой женщине, — черт с ними, с брюками. Сядь около меня.
— Спасибо, Петенька.
— За что же спасибо, глупенькая?
— Не знаю… Ты ведь всегда был человеком в чувствах сдержанным, а в последнее время, с тех пор, как ты стал хуже себя чувствовать, еще более… как это выразить… далеким.
— Гм, правда?
— А то ты и не знаешь? Ты ведь, Петенька, всегда всё знаешь, потому что ты самый умный.
Ну вот, подумал Петр Григорьевич, пошла в ход осадная артиллерия лести. Но развивать эту мысль почему-то не хотелось, и он просто пожал плечами. Или хотел только пожать ими, потому что и на этот жест сил не было.
— Галочка, я тебе должен сказать одну вещь. По крайней мере, ты заслужила, чтобы узнать это от меня, а не от кого-нибудь еще. Я, Галочка, умираю.
Галя уставилась на него, не зная, не понимая, шутит ли он, проверяет ее как-то или говорит правду. Петр Григорьевич молчал, и по молчанию его она вдруг поняла, что он не шутит. И вдруг зашлась в рыданиях. По натуре она была человеком цельным, не склонным к рефлексиям, и потому не думала и не понимала, плачет она по мужу или по своей какой-то нелепой охотничьей жизни. Охотилась, охотилась, да так и проохотилась. Тридцать пять, а семьи настоящей нет, и детей нет. И, наверное, не будет никогда. И близкой души нет, и не будет, наверное. Женечка, этот не в счет, не она на него, а он бы рад на нее опереться… А с Петей… Хоть и не была она с ним никогда по-бабьи счастлива, но все-таки муж, стена, опора. И жила так, как никогда даже мечтать не могла, ни когда из Рыбинска рванула, чтобы забыть Федьку и навязанный им аборт, ни когда в Москве из койки в койку прыгала в погоне за…
— Да, Галочка, я умираю, — повторил Петр Григорьевич, и из одного почему-то глаза выкатилась у него слезинка. И от этой слезинки так стало Гале пронзительно жалко своего мужа, что она уж и не пыталась сдержать рыдания и плакала навзрыд. Петр Григорьевич с трудом поднял руку, словно была в ней зажата тяжелая гантель, и осторожно прикоснулся к обтянутой халатом спине жены. Господи, почему он раньше не видел, что она, в сущности, хорошая баба, что тело у нее упругое, теплое и загорелое, что она, наверное, по-своему любила его. Впрочем, теперь всё это и не столь уж важно. Поезд уже отходил, жизнь уплывала. Вагончик тронется, перрон останется.
— Не плачь, Галочка. Плачем не поможешь. И ничего особенного, в сущности, не происходит. Это случается со всеми. Чуть раньше, чуть позже, с нищим или миллиардером, с бомжем или диктатором — всё едино.
— Не-е-нет! — вдруг закричала Галя. — Не хочу-у тебя терять!
Теперь уже и Петр Григорьевич плакал без стеснения. Как же он в ней так ошибался, как сам обокрал себя. Вот тебе и бизнесмен с острым умом. Профукал всё, пробросался. Слегка успокоившись, он сказал:
— Спасибо тебе за всё, и прости… Теперь слушай меня внимательно. Сколько мне осталось пробыть на этом свете, точно не знает никто. Но в любом случае это время одолженное. В лучшем случае несколько месяцев. А скорей всего, судя по тому, как я себя чувствую, и того меньше. Запомни: когда я выйду на финишную прямую и уже стану, как говорят юристы, недееспособным, и начнут все вокруг суетиться и говорить о больнице, отказывайся от этого решительно. Я хочу умереть дома на этой вот кровати. Одна ты со мной не управишься, всякие там уколы, перевернуть старика и тому подобное — помереть ведь тоже дело непростое — для всего этого потребуется профессиональная сиделка. Договорись заранее, чтобы не метаться в последнюю минуту. В крайнем случае, тебе поможет Евгений Викторович… Чего ты так уставилась на меня? Строго между нами, после меня он будет президентом компании. Ну, и еще одна вещь. По завещанию ты получишь этот дом со всем, разумеется, что в нем находится. Я думаю, даже при нынешнем кризисе миллионов пять долларов эта квартира стоит. Тихий переулок в центре — такие адреса на вес золота. Ну, может, чуть меньше пяти, но не намного. Так что вдовой ты будешь небедной…
— Не хо-о-чу быть вдовой, — совсем уже по-деревенски заголосила Галя и бухнулась на колени подле постели. — Слышишь, Петенька, милый, дорогой, не хочу быть вдовой! Не хо-чу!
Евгений Викторович поднялся по лестнице и подошел к двери, на которой было написано: к. м. н. врач высшей категории Г. А. Мовсесян. Строго говоря, он и так прекрасно знал дверь кабинета и все звания Гургена Ашотовича, но нужно было сохранять осторожность и делать вид, что он здесь в первый раз. Он, конечно, лечился здесь давно, и приговор свой услышал здесь и от Гургена, но Евгений-то Викторович всего этого знать не мог и потому нарочито нерешительно постучал в дверь.
— Войдите.
— Гурген Ашотович, добрый вечер, я от Петра Григорьевича, он вам звонил…
— А, да. Так что у вас?
— Поскользнулся в ванной, ударился головой, лоб ушиб, ссадины…
— Позвольте, я что-то не вижу никаких ссадин. Гм, ну, раз уж пришли… Давайте я вас посмотрю. Голова кружится?
— Теоретически, да.
— А практически?
— Нет.
— Ничего не понимаю, что вы от меня оба хотите и что это всё значит… Вытяните перед собой руки, закройте глаза и сведите руки так, чтобы кончик одного указательного пальца попал в другой. Да, друг мой, действительно, похоже, что у вас ничего не кружится… — Гурген Ашотович подумал немножко, потом спросил: — Петр Григорьевич сказал мне, что вы были у моего старинного друга Семена Александровича. Как он? Такой странный человек… очень способный, но совершенно неприспособленный к реальной жизни. — Вдруг врач замер и не то со страхом, не то с изумлением уставился на Евгения Викторовича-два. — Так вы…
— Да, — кивнул пациент, уже предвидя реакцию врача.
— Не знаю, что вы хотите сказать, и, честно говоря, знать не желаю. Ка-те-го-рически не желаю.
Он поколдовал каким-то инструментом над лбом пациента, довольно болезненно царапнув его, молча намазал зеленкой, быстро прилепил несколько кусков липкого пластыря и, стараясь не встречаться глазами с Евгением Викторовичем, сказал хмуро: — Всё. Вы свободны. И позвольте еще раз повторить: я совершенно ничего не знаю! До свидания…
Квартирка у Евгения Викторовича была небольшая, две маленькие комнатки, и явно не своя, а съемная. Было в ней нечто неуловимо казенное, точнее, не казенное — что может быть казенного в съемной квартире, тут инвентарных номерков быть не могло — а просто чужое. Безразличная какая-то была квартирка. Евгений Викторович долго шарил в темноте по стенам в поисках выключателя — простая, в сущности, вещь, но если не знать где что, и такой пустяк становился проблемой, — зажег свет и уселся в убогое креслице. Что ж, надо осваиваться. Человек это ведь не только трусы, брюки, член и паспорт, который лежал у него в кармане пиджака — он уже дважды вытаскивал и изучал его. Человек — это еще и жилье, и привычки, и знакомые. Хорошо еще, что семьи у него не было, а то бы сейчас пристали: где был, да почему сыну шоколадку не купил, обещал ведь. Хотя девица какая-нибудь у аналитика должна быть, скорее всего, должна, не монах же он.
Евгений Викторович прошелся по комнате, открыл шкаф, посмотрел на два костюма, пальто, куртку и дутик, аккуратно висевшие на плечиках. М-да, гардероб, прямо скажем, небогатый. Придется хоть немножко приодеться. На полочке ровной стопочкой лежали тщательно выглаженные рубашки. Девица определенно должна быть. Впрочем, не девица, а настоящее сокровище, потому что рубашки были не только отлично выутюжены, в воротники еще были вставлены картонные распорки. Идиот, он усмехнулся собственной несообразительности, какая это девица сегодня сумеет так выгладить и сложить рубашки, это же прачечная.
Он заглянул в крошечную ванную. Ни женского халата, ни второй зубной щетки. И слава богу. А то пойди догадайся, как аналитик с этой гипотетической девицей или дамой разговаривал, какой там у них был ритуал. Просто чмокнуть в щечку или потереться носом о нос. А может, просто буркнуть: ставь чайник, у меня тут работы полно, видишь, сколько журналов просмотреть надо. Журналы и вправду были на столе и на подоконнике.
Да, он же хотел проверить мобильный своего… предшественника. Гм, предшественника и по квартире, и по телу. Он вынул из кармана пиджака аппарат. Самсунг. Смартфонами такие, кажется, называются, в них нужную функцию выбираешь из меню прикосновением к экрану. Сам он во всяких таких цацках, гаджетах на ИТ — жаргоне, разбирался неважно, хоть и руководил компанией, которая как раз этим и занималась. Хотя хвастаться своим невежеством глупо. Это в прежние времена знаний особых для руководства не требовалось. Считалось, что раз ты уже в номенклатуре, то можешь руководить чем угодно, хоть банно-прачечным трестом, хоть производством шарикоподшипников или фильмов. Вот и доруководились до развала Союза под славным руководством партии, которая была… как тогда говорилось… Ага, была она нашим рулевым, честью, умом и совестью нашей эпохи.
Как же вызвать список знакомых абонентов на этом Самсунге? Ага, все-таки сообразил, похвалил новый Евгений Викторович сам себя. Старый-то владелец, поди, всё это с закрытыми глазами наверняка умел делать. Какой-то Астауров, Брыкин, Вениаминов, какой-то Г. Просто Г. Он уже хотел было двинуть курсор дальше, но что-то зацепило его внимание. Не Г, конечно. Мало ли на свете имен, начинающихся с буквы Г, от какого-нибудь Ганнушкина до Гурвича. Господи, да это ж был номер мобильного его Гали, как он сразу не сообразил. Гм, странно, однако, почему это у сотрудника его компании должен быть мобильный его жены, да еще наивно скрытый за буквой Г?
И тут словно маленький фейерверк вспыхнул яркой гроздью в его мозгу. И всё сразу осветилось и прояснилось. И как Галя как-то раз вздрогнула, когда он что-то сказал при ней об аналитике, и явный испуг, который читался на лице Евгения Викторовича, когда он пригласил его в свой кабинет. Ну конечно же, конечно. Да и что тут, собственно говоря, такого уж необычного? Молодая здоровая баба, с которой он давно уже не спал… Укол досады он, конечно, испытал, что ему, аплодировать мысленно, что жена всё это время трахалась с другим? Да еще с тем, кому он зарплату платил. Хорошо хоть не знал о его дополнительных обязанностях в «РуссИТ», а то пришлось бы доплачивать ему за, так сказать, помощь президенту в интимных вопросах. Ну, да хватит самоедствовать.
Но самым странным было другое. Спал, не спал, почему не спал — инстинкту собственника на такие детали наплевать, у него своя логика. Самым в высшей степени неожиданным было то, что при мысли о Галине как-то сами собой перед его мысленным взором откуда-то появились ее загорелые грудки, упругая под его рукой теплая спина, смеющиеся глаза. И еще более невероятным было какое-то движение соков в его теле, и давным-давно забытая эрекция. Го-о-споди, это что ж выходит, что я возбуждаюсь при мысли о том, что моя жена изменяла мне с русой бородкой? То есть с самим мной? Голова его пошла кругом, и он прикрыл глаза. Только бы не рехнуться от изумления. Это было бы уж совсем обидно. А что, это, наверное, память тела покойника. У тела, выходит, своя память, не обязательно связанная с корой больших полушарий, разряженных, стертых сумасшедшим гением из Удельной… С головой эта память, выходит, не связана, а с членом у нее особая спецсвязь… Гм…
И когда через несколько минут все эти ощущения уже немножко улеглись и не казались уж такими фантастическими, он поймал себя на том, что не прочь… да что там не прочь, что мечтает обнять Галю, пробежаться пальцами сверху вниз по ее позвоночнику, который она будет выгибать при его прикосновениях, как кошка, спуститься вниз, к попке, которую он прижмет к себе, вдавливая в себя. Как возьмет ее на руки и как она ласково куснет его за шею. И как будет напряженно сжимать глаза, сидя на нем, а потом вдруг откинется, откроет их и посмотрит на него неожиданно посерьезневшим изучающим взглядом. Этого-то Петр Григорьевич Илларионов уж точно помнить не мог. Хотя бы потому, что не было этого никогда, а того, что не было, помнить невозможно. Всё это могло помнить только тело главного аналитика. А раз какая-то память тела оставалась, наверное, она одной Галей не ограничивалась. Наверное, и желудок скоро заявит о своих вкусах, и вкусы Петра Григорьевича начнут спорить с вкусами Евгения Викторовича. Один будет заказывать в ресторане свою любимую рыбу, другой — мясо…
Да-а, что угодно мог подумать Женя, точнее, Петр второй — и как будет он разговаривать с сотрудниками компании, когда те будут ревниво оценивать его, тянет ли он на новую должность, на которую Петр Григорьевич так неожиданно выбрал человека, которого еще вчера все в компании звали Женечка, и как ведет себя, не задрал ли сразу нос… Но чтобы возбуждаться при мысли о жене, этой «Г» в списке абонентов главного аналитика, которая явно изменяла ему с ним и потому, теперь уже ясно, так спокойно переносила половую неадекватность мужа — если уж быть честным с собой — это, согласитесь, уже и вообразить себе было трудно. Но у секса своя логика и свой кодекс, и давно забытые ощущения щекотали его… как это когда-то называли в старинных стихах? Ага, чресла… Да…
Вопрос теперь был в другом: рассказать об этом своему второму умирающему «я» он не сможет никогда, и уж тем более не сможет признаться, что мечтает о Гале. А это значило, что они уже начали расходиться в стороны и вовсе не представляли того единого целого, единого «я», которое чудилось им с самого начала. И вообще, может ли память о боли сравниться с самой болью? У него-то не только ничего не болит, тело — словно полный силы молодой жеребец, который бьет от нетерпения копытами и торжествующе-победно ржет. Может ли такой быть точной копией умирающего оригинала? Немудрено, что несмотря на общую память ему становится всё трудней и трудней чувствовать себя тем Петром Григорьевичем, которым был совсем недавно. Он вдруг вспомнил схему из какой-то книги, которую когда-то читал: как древний праматерик — кажется, ученые называют его Пангея — расплывается на несколько нынешних материков. Вот тебе и Пангея. Сидеть в кресле убитого ими человека и прикидывать, как он может обмануть свое второе «я» со своей же женой — от этого одного крыша поехать может. И поедет, скорее всего, и будет в этом некая высшая справедливость. Ведь давно сказано, что если боги хотят наказать человека — а боги-то знают, что наказывать их обоих есть за что — они лишают человека разума.
Весь этот фантастический клубок совершенно невероятных мыслей и чувств навалился на него таким пугающим грузом, что он и впрямь испугался — выдержит ли его бедная голова, и без того изрядно измученная событиями последних недель, всё это? Как вообще бороться с подступающим безумием? Спокойненько разложить по полочкам события и постараться, не торопясь, оценить их, классифицировать, приклеить к ним этикетки? Только не для этого случая. Наоборот, чем дольше будешь присматриваться к содержимому полочек, тем быстрее выскользнет из его черепной коробки вконец измученный и затюканный здравый смысл. Какие этикетки можно наклеить на простенький факт, что твоя жена изменяла тебе с тобой же? Всё это было так абсурдно, что он громко рассмеялся. И почувствовал, что чуть-чуть отполз от края пропасти, пока еще отделявшей его от психушки. Смех, оказывается, прекрасное средство от безумия…
Уже засыпая, он с ужасом подумал, что вдруг во сне к нему явится Танюшка. Как он посмотрит ей в глаза, если, конечно, во сне люди смотрят друг другу в глаза.
А явилась к нему во сне вовсе не Танюшка, а Галя, и ласкали они друг друга с молодым бесстыдным неистовством, отчего чужие трусы, что были на нем, стали совсем мокрыми.
И проснулся он разбитым, с тяжким чувством душевного беспорядка, от которого, похоже, избавиться будет совсем не просто.
— Прочтите всё внимательно, не торопитесь. Данные паспортов, названия активов и адрес вашей недвижимости мы проверили и перепроверили, об этом не беспокойтесь, Петр Григорьевич. Проверьте еще раз саму суть завещания, что и кому. — Ананий Исакович внимательно посмотрел на клиента, и Петру Григорьевичу показалось, что взгляд старого нотариуса был понимающий, а потому и печальный. — Всякое завещание — вещь серьезная, а ваше втройне, и не только из-за стоимости вашего наследства, а потому что оно касается и людей и вашей компании.
— Всё правильно, друг мой.
— И вы действительно хотите, чтобы это завещание было именно таким? Я уже спрашиваю вас не как нотариус, а просто как ваш старый знакомый.
Петр Григорьевич смог только медленно кивнуть, потому что злобно-торжествующая боль вдруг с незнакомым еще остервенением пронзила его внутренности.
— Что с вами, Петр Григорьевич? Вам плохо? Может, налить стакан воды?
— Спасибо… сейчас отпустит. — И действительно, боль отступила. Наверное, чтобы собраться с новыми силами.
— Ну, слава богу, я уже думал вызывать скорую…
— Скорая, Ананий Исакович, увы, не поможет…
Нотариус понимающе и потому печально кивнул.
— Распишитесь, пожалуйста здесь и вот здесь, где отмечено галочкой. Спасибо. И с этой минуты ваше завещание вступает в силу со всеми, разумеется, условиями, которые в нем оговорены.
— Спасибо. Вот деньги. И маленькая просьба: попросите кого-нибудь из ваших сотрудников позвать моего водителя. Он в машине. Синий «лексус», он прямо у вашего входа стоит. Пусть он поднимется сюда и поможет мне добраться до машины.
Вот, собственно, и всё. Напряжение последних дней медленно, как воздух из пробитой шины, выходило из него. Но оно же, похоже, и заставляло его двигаться и действовать. Потому что теперь у него оставалось лишь одно желание: оказаться в своей постели и закрыть глаза. Ничего больше не удерживало его на этой грешной земле, и впервые он почувствовал, что действительно не боится смерти, что даже не прочь тихо уплыть туда, где нет болей и забот. Где не нужно тратить последние капли сил на бесконечную жизненную суету. Он и отплывал, чувствуя, как один за другим рвутся с тихим печальным треском швартовы, что удерживали его суденышко у пристани…
Он по звуку шагов понял, что в кабинет вбежал Костя.
— Шеф… Хотите, я донесу вас до машины? — И столько было страха в Костином голосе, что Петр Григорьевич почувствовал, как слезы собираются у него на глазах.
Он лежал в своей кровати и думал о том, что все-таки зря он сказал Гале и о приближающейся смерти, и о завещании. Человеком она была по существу довольно простым, но зато обладала поразительным чувством такта, прямо звериным чутьем каким-то. Не сказал бы ей ничего, сидела бы она сейчас около него и, может, даже положила бы ему сейчас руку на лоб. И от руки исходило бы спокойствие. А теперь… Она ж понимает, что теперь все ее проявления чувств будут казаться фальшивыми. Купленными и оплаченными. За пять миллионов долларов целая комната плакальщиц тут же набежала бы. В кровь передрались бы, кому положить руку на лоб умирающему. Так бы завыли хором, что весь дом сбежался…
Чего уж говорить. Сам виноват во всем. Купил себе красивую бабу и считал, что она уже за одно это с утра до вечера лить слезы от умиления должна. Ну, да ладно… Поздно спохватился. А что чудилась она ему расчетливой затаившейся хищницей, выжидающей своего часа, так этим, похоже, он подсознательно сам себя оправдывал. Не смог дать ей ни близости, ни нежности и за то корил не себя, а ее. Так было удобнее, так уж устроены люди-человеки. Что говорить…
Как там, интересно, этот с бородкой. Этот… Дурак, это ж я. Какую ж, однако, глупость он сделал, что, так сказать, раздвоился. Нужно было бы просто переселиться в тело аналитика. Заснуть с этим дурацким шлемом на голове в хибарке удельнинского гения, заснуть Петром Григорьевичем Илларионовым и проснуться тем же Петром Григорьевичем, только в другой шкуре, помоложе и поздоровей. А так с этим двойником расщепилось его «я» на две части. И не поймешь кто есть кто. Во всяком случае, он-то уж точно не здоровый байбак с бородкой. Байбак-то, поди, дрыхнет сейчас преспокойно в квартире аналитика, а он терзает себя вещами, на которые ответа нет. Нет, что ни говори, а человеческое самосознание, свое «я» — куда более тонкая вещь, чем кажется с первого взгляда. И ни на каком калькуляторе на две идентичные половинки его не разделишь… Ну, да ладно, долго хоть ломать голову над этим не придется. Как это в дурацком каком-то стишке? Ага: недолго мучилась старушка в высоковольтных проводах, ее обугленная тушка с тех пор на птиц наводит страх…
Сон как назло не приходил, спасительный сон, в котором только и можно было теперь жить, потому что явь быстро становилась мучительным кошмаром. И все-таки Галя вошла к нему. Но почему-то не одна, а шла она под руку с Ананием Исаковичем, нотариусом, и оживленно о чем-то говорила с ним. Что могло значить только одно — он все-таки заснул. Потому что Ананий Исакович — человек порядочный, и профессиональная этика никогда не разрешила бы ему обсуждать с кем-нибудь завещание своего клиента, даже с вдовой. Но позвольте, почему вдовой, когда он еще… Надо сделать Ананию выговор… Впрочем, зачем? С нотариусом все дела он уже закончил, как, впрочем, и со всеми остальными. Кроме себя, кроме себя…
Часть вторая ПОСЛЕ
9
Петр Григорьевич медленно обвел взглядом собравшихся в его кабинете сотрудников.
— Уважаемые коллеги, — сказал он, — я собрал вас, чтобы сообщить о серьезных изменениях, которые очень скоро коснутся всех нас. — Ишь ты, заметил он, как все напряглись. — Дело в том, что я тяжело болен… Раньше в некрологах в таких случаях писали: после тяжелой и продолжительной болезни… У меня, коллеги, к сожалению, не гастрит, а рак, и рак, вышедший, так сказать, на финишную прямую и рвущийся к ленточке. — Он слабо улыбнулся и поднял руку. — Не надо ничего говорить. Мы все взрослые люди и всё понимаем. И я в ваших чувствах не сомневаюсь. Потому что старался по мере сил быть справедливым. А если ненароком кого и обижал подчас, прошу прощения. Главное, что вы должны усвоить, — это то, что болезнь и мой уход с поста ни в малейшей степени не должны коснуться компании. Поэтому я хотел представить вам нового президента компании, который с сегодняшнего дня будет руководить «РуссИТ». Ишь ты, опять заметил Петр Григорьевич не без злорадного удовлетворения, как они все уставились на Юрия Степановича и как сам Юрий Степанович непроизвольно приосанился и выпрямился в своем кресле.
— Мы с новым президентом провели не один час, обсуждая все дела компании. А компания сейчас переживает важнейший период. Или мы с помощью нашего бывшего Вундеркинда, а ныне Якова Борисовича Свирского сделаем прыжок буквально в заоблачные высоты ИТ-бизнеса, или так и останемся маленькой провинциальной компанией, так сказать, отверточным производством, собирающим компьютеры из импортных деталей. Учитывая всю важность работы руководимой им лаборатории, я своим последним приказом назначаю его вице-президентом «РуссИТ» по исследованиям и внедрению новых идей в производство.
Все повернулись к Яше, который сидел, не шелохнувшись. Молодец, подумал Петр Григорьевич, хватило у него ума не превращать этот торжественный — как ни крути — момент в балаган. А то от него всего можно было ожидать. Мог, например, вскочить, заложить по-наполеоновски руку за борт пиджака и начать галантно раскланиваться направо и налево, плавно поводя перед собой воображаемой треуголкой.
— А президентом компании станет хорошо знакомый вам человек, — Петр Григорьевич посмотрел на своего зама и заметил с едва скрываемым злорадством, как тот, уже не сдерживаясь, начал расплываться в улыбке. — Это наш молодой, но достаточно подкованный в ИТ-технологиях Евгений Викторович Долгих, прошу любить и жаловать. Как когда-то говорили в подобных случаях: король умер, да здравствует король!
На мгновенье тишина в кабинете стала такой физически ощутимо плотной, что, казалось, она должна была тут же взорваться. Она и взорвалась оживленными голосами, недоуменными взглядами на Евгения Викторовича, мгновенной бледностью Юрия Степановича, который молча встал и, пошатываясь, вышел из кабинета. Один только новый вице-президент, казалось, нисколько не удивился, подошел к новому президенту и с улыбкой пожал ему руку.
— Вот, собственно говоря, и всё, коллеги, для чего я вас собрал сегодня. Думаю, вы все это не раз еще будете обсуждать между собой. Желаю всем успехов. Евгений Викторович, задержитесь, пожалуйста, на минутку.
Когда они остались вдвоем, Петр Григорьевич подошел к новому президенту и улыбнулся ему:
— Ну, как ты на новом месте и в новом тельце? Спал-то хоть хорошо?
— Сны только мучили…
— Привыкнешь. Я о другом. Я вчера два раза звонил Семену Александровичу. Сам не знаю почему, но так мне вдруг захотелось услышать его аканье и бэканье… И оба раза никто не отвечал. На него это не похоже. Гудки есть, а он не отвечает. Сегодня утром позвонил опять, а мне: абонент временно недоступен. Что-то я разволновался, сам не знаю почему. То ли мне хотелось еще раз поблагодарить старика…
— То ли?
— Не знаю, просто не знаю. Знаешь что, давай подъедем к нему. Что-то на душе у меня неспокойно.
— Когда?
— Да чего откладывать? Он у меня из головы не выходит. Поедем сегодня.
— Едем.
Через час с небольшим «лексус» остановился у дома Семена Александровича, и сердце Петра Григорьевича, Петра первого, сжалось от нехорошего предчувствия. Что-то было не так. Ржавой проволочной петли на калитке не было, она валялась на траве. Сама калитка вообще была открыта. Петр первый и Петр второй вылезли из машины и вошли в грязный дворик. В грязи валялись обломки дискет. Вот почему мобильный его не отвечал: на дверях висел замок, а на нем скрепленная зловещим сургучом печать. Зато стекло в маленьком оконце было разбито.
— Вы к Семену Александровичу? — послышался с улицы женский голос, и на участок вошла средних лет женщина с крашенными в ярко-оранжевый цвет волосами, в джинсовой куртке поверх байкового в крупных цветах халата, а за ней толстенький мужичок, крутивший на пальце ключи от автомобиля. — Умер он, болезный. Я соседка его, Прасковья Сергеевна. Вчера рано утром, часов, наверное, в пять проснулась от собачьего воя. Это собачка Семена Александровича выла. Я ее по голосу знаю. Корлис он ее звал. Такое уж имя придумал. Он вообще-то человек был со странностями, но очень добрый. Лет двадцать мы соседствуем, я еще совсем девчонкой была, когда мы сюда приехали, и за все годы, верите, слова от него грубого не слышала. Ни я, ни муж мой Володя, и уж подавно сынок наш Сережка. Покойный его очень даже любил… Ну, я халат накинула и пошла посмотреть, не случилось ли чего. Собака меня встретила, выть сразу перестала, взяла так за подол осторожненько зубами и потащила в дом. Попробовала — дверь не заперта. Вошла — и сердце прямо остановилось. Семен Алексаныч лежит на полу. Я склонилась и сразу поняла, что преставился уже он — не дышит. Ну, я кинулась домой, разбудила Володю, вызвали мы скорую и милицию. Вроде так это делается в таких случаях, насмотрелись, слава богу, на «Федерального судью» по телевизору.
Смотрю, а на столе два конверта лежат, и на обоих написано: Прасковье Сергеевне и Владимиру Ивановичу Чувыриным. Это наша фамилия, стало быть. Я конверт открыла, а там написано… даже не написано, а напечатано этим… ну, как его… принтером. У Семен Алексаныча много всяких этих приборов было… Читаю, а у самой, верите, так слезы и брызнули. Вот это письмо. — Женщина вытащила его из-за пазухи и стала читать: — Уважаемые Прасковья Сергеевна и Владимир Иванович! Когда вы будете читать эту записочку, я буду уже мертв. Спасибо вам за многолетнее доброе соседство, за то, что столько раз выручали меня всякой мелочью: то соль кончится, то хлеб забуду купить, то еще чего-нибудь.
Теперь к делу. Родных у меня не осталось, жил, как сыч, один. Поэтому оставляю вам во втором конверте двадцать пять тысяч рублей, чтобы вы отвезли меня на Еврейское кладбище в Малаховке…
— Почему еврейское? — перебил соседку Семена Александровича Петр первый. — Он же, как я думал…
— Мы и сами понятия не имели, что он из евреев. Мы все звали его Запруда. Думали, это фамилия у него такая, а оказалось, он Запрудер. Это, оказывается, такая фамилия у евреев есть. Но вы дальше слушайте. Дальше он пишет: «Можете отвезти сами, а лучше закажите похоронную машину. На кладбище я обо всем сам договорился…»
— Как это «сам договорился»? — удивился Петр второй. — Он, что…
— Оказалось, он там у них действительно еще неделю назад был. И им деньги оставил. Такой вот человек был… Необычный, что ли. Но и это еще не всё. Он написал, что составил завещание, по которому домик этот с участком отходит нам. Ну, сам-то домишко ничего не стоит, на него дунь посильнее — развалится. Но участок — это дело другое. Тут у нас в Удельной земля, конечно, не такая дорогая, как на Рублевке. Там, пишут, не знаю уж, врут или не врут, врут, наверное, сотка по сто тысяч стоит, да не рублей, а долларов… Но и у нас за такой даже невеликий, прямо скажем, участочек, ого сколько отвалят! У нас, знаете, местных почти и не осталось, мы да Семен Алексаныч, а так все московские, вон хоромы какие себе понастроили. Они-то, видно, копейки не считают, как мы. А Семен Алексаныч… Не знаю уж можно ли так об еврее сказать, я человек верующий, православный, но он прямо-таки святой человек был. Теперь, как только законный срок выйдет — там сколько-то ждать надо, — так и войдем, как это, Володя, называется?
— В права собственности.
— Во-во. Только одно, написал Семен Алексаныч, ставлю вам условие.
— Какое? — настороженно спросил Петр второй.
— Купить на вырученные деньги Сережке нашему хороший компьютер и учить его как следует. Он-то видел, что сынок у нас растет головастенький.
— А окно почему разбито? — спросил Петр первый.
— Так то ж Россия. Народу-то интересно, что там есть и чего утащить можно. Да только зря старались, ничего там такого ценного нет. Вот только, видите, вытащили целую коробку этих… дискет и со зла по двору разбросали… Сережка попробовал несколько этих дискет в свой проигрыватель вставить, говорит, одни цифирьки мелькают, и больше ничего.
Участок и впрямь был усеян разбитыми дискетами, будто правоохранительный бульдозер старательно давил здесь контрафактную продукцию, демонстрируя неукротимую решимость властей бороться с интеллектуальным пиратством. А что, валяющиеся в грязи разбитые дискетки с записями чьей-то памяти — чем не символ хрупкости человеческого бытия, печально подумал Петр первый.
— Еще вам чего скажу… Собака его лежит и лежит, как будто пустой дом сторожит. Сережка мне говорит: «Мам, давай собачку себе возьмем, куда она денется теперь. И нашему Степке — это мы так свою собачонку прозвали — компания будет». Жалостливый он, Сережка наш. Ну, я говорю этому Корлюсу: пойдем к нам жить, пойдешь? А он, представляете, посмотрел на меня так… ну, чисто человек… и — верите — покачал головой и отбежал. Никогда не видела, чтоб собачка такими глазами смотрела. Чисто человек…
— Петь, — пробормотал Петр второй, — может, подъедем на кладбище, а? Всё ж таки мы ему…
— Обязательно, — кивнул Петр первый. — Едем.
— Хотите, Володя вам дорогу покажет? Хоть отсюда и не очень далеко до Малаховки, но поворотов много. Адрес кладбища — Касимовское шоссе, три. Кажется, три.
— Три, — подтвердил Владимир Иванович. — Я вам покажу. Поеду вперед на своем «жигуленке» — вы за мной.
— Не беспокойтесь, у нас в машине навигатор есть…
— Это как?
— Карта высвечивается, и по нужному адресу стрелка ведет, все повороты заранее указывает.
— Гм, это ж надо! Ну езжайте тогда… Фамилия, значит, у него Запрудер. Они вам могилку покажут.
Администратор кладбища вышел к ним в ермолке, надетой наискосок, как берет у десантника, и видно было, что он только что в спешке нацепил ее.
— Добрый день, — поздоровались оба посетителя хором, а Петр второй добавил: — Хотелось бы посмотреть на могилку Семена Александровича Запрудера. Мы его друзья, но только сейчас узнали, что он умер… Как мы понимаем, его похоронили у вас совсем недавно.
— Да, — кивнул администратор и поправил ермолку. — Я его еще и потому запомнил, что он за несколько дней до этого привез деньги на камень для могилы матери, как он сказал, семьдесят пять тысяч рублей. С виду не скажешь, что у него даже десять рублей в кармане были. М-да, но на кладбище чего хочешь увидишь. Вынул преспокойненько из кармана пачку денег и говорит: здесь семьдесят пять тысяч. А потом вдруг добавил… как бы походя: «Я у вас тоже на днях буду…» Я говорю: приходите, приходите, мы всегда рады посетителям. Тут хоть и кладбище, но живые люди его только украшают.
— Это уж точно, — кивнул Петр первый.
— Почему я запомнил его — он мне отвечает, мол, прийти-то в прямом смысле этого слова, боюсь, не смогу, поскольку буду уже там… — и показал пальцем куда-то вверх, — так что, точнее сказать, меня привезут… Позвольте, говорю. Вы так точно знаете, что… Я, говорит, много чего знаю, много больше, чем полезно для здоровья. — Верите, у меня даже мороз… как бы… по коже. Так он это серьезно сказал и объяснил, что хотел бы лежать рядом с матерью. Что ж, на кладбище всякое услышишь. Рядом так рядом, тем более что за похороны он заплатил сам. Представляете?
Похороны вообще дело невеселое, как вы сами понимаете, но эти были совсем грустные. И провожали покойного всего два человека, соседи его, как они мне объяснили. Всё озирались, наверное, непривычно им всё здесь показалось. Они ведь православные, я сразу понял, когда они перекрестились. А крестов у нас, как вы понимаете, нет. У нас, евреев, с крестами отношения особые… Вы простите, что я так много болтаю, на кладбище ведь рад каждому живому человеку… Глупость, конечно, говорю, но вы сами понимаете… Только, как я уже сказал, всего двое его соседей и провожали его в последний путь. Ну, и собака его. Соседи эти ее сразу признали. Как она сюда из Удельной прибежала — не знаю. Конечно, мы собак на кладбище не пускаем, тут не место для лая и беготни, но собачка эта… как бы сказать… трогательно так смотрела на покойного… Так что провожали этого еврея в последний путь двое православных и собака. Простите меня за болтовню…
Так показать вам могилку? Может, вы хотите цветочек положить, цветочный киоск у входа.
С букетом гвоздик в руках Петр Григорьевич и Евгений Викторович шли за администратором. Погода стояла вполне кладбищенская: дождя еще не было, но в воздухе чувствовалась влага, и печальные сентябрьские облака плыли совсем низко.
— Теперь ты понимаешь, — задумчиво сказал своему спутнику Петр Григорьевич, — что старик имел в виду, говоря о лебединой песне?
— Понимаю… — тихонько сказал Евгений Викторович. — Вот уж никогда не думал, что буду когда-нибудь чьей-то лебединой песнью. Невеселая, прямо скажем, песня… Знаешь, мне почему-то кажется, что старик не просто чувствовал приближение смерти. Он ее звал, хотел. И нетрудно понять почему…
— Вот могилка, — сказал администратор. — Видите, мы уже и камень приготовили новый. Надпись еще, правда, не сделали. Вы не смотрите, что у нас столько могил как бы заброшенных. И евреев, видно, меньше стало — уехали многие. А кто остался, дети часто хоронят их и в крематориях, и на других кладбищах…
— А какая будет надпись? — спросил Петр Григорьевич. На мгновенье почему-то вдруг страстно захотелось ему отмотать жизнь хоть немножко назад. Может, было бы лучше просто умереть, как умирают все люди…
— Надпись очень скромная. Я сразу понял, когда увидел его, что человек он скромный, и никаких там стихов и цитат из Торы не будет. На камне матери будет просто выбито: Цецилии Анатольевне Запрудер от сына. И даты жизни. А на его камне и того проще: просто имя, фамилия и даты рождения и смерти. Знаете, я, между прочим, заметил, что те, кто хотел бы лежать рядом со своими родителями, люди, как правило, добрые…
— Замечательный был человек, — пробормотал Петр Григорьевич.
— Знаете, — согласился администратор, — я тоже так считаю. И ведь сразу не скажешь. Если честно, я сначала на него подумал, что он бомж.
— А был он, — задумчиво сказал Евгений Викторович, — настоящий гений, хоть и непризнанный.
— Вы так думаете? Еврейский гений? — оживился администратор.
— Насчет еврейского не совсем уверен, был он, скорее, гений общечеловеческий.
— И никто этого не знает?
— Кроме нас — никто.
— Что делать, с евреями это бывает…
— А что случилось с этой собакой? — вдруг неожиданно сам для себя спросил Петр второй. Не выходил почему-то Корлис у него из головы. И не мог понять почему. Может, взять его себе, промелькнула у него мысль. Да нет, наверное, не стоит этого делать…
— Да ничего. Не желает уходить отсюда, будто сторожит покой своего хозяина. Песик тихий, деликатный, мы его и не гоним. Я несколько раз замечал, как он приходил на могилу хозяина и подолгу сидел около нее. Мы даже устроили ему будочку около цветочного киоска. Знаете, я, конечно, старый дурак, но я собачку эту понимаю. У нас с женой одна дочь. Сонечка. Уехала в Израиль вот уже почти двадцать пять лет назад, а оттуда потом с мужем — она там вышла замуж тоже за русского, я хочу сказать, еврея из России — переселилась в Новую Зеландию, представляете, где это — в самом низу карты. Они оба врачи. У нее уже две мои внучки родились. Видел их только на фотографии. Сколько раз она меня туда звала…
— И чего ж вы не едете? — спросил Петр первый.
— Я ж вам говорю, что понимаю эту собачку. И я, как она, никак не могу уйти отсюда — здесь моя Люся похоронена…
На обратном пути и Петр первый, и Петр второй молчали почти всю дорогу до Москвы.
— Пора ехать, — сказал Андрей Стычкин своему новому шефу Якову Борисовичу Свирскому. — У вас встреча с президентом в этом ресторане на Пушкинской в час, а время уже четверть первого.
— Сейчас иду, — кивнул Вундеркинд.
Никак не мог привыкнуть новый сотрудник компании к возрасту своего шефа. Это ж надо, еще двадцати четырех нет, а уже вице-президент. А как же выслуга лет, улыбнулся он сам себе. Привыкай, бывший мент, к гражданской жизни. Андрей с гордостью осмотрел новую «ниссан теану», которую он же посоветовал шефу, когда зашла речь о покупке новой машины. Красавица… Он включил радио. Какой-то мужской голос пел: какая боль, какая боль… При чем тут боль? Конечно, он всё еще продолжал скучать по товарищам, порой ловил себя на том, что привычным жестом проверяет, на месте ли пистолет, которого уже давно нет, и смотрит на своих бывших коллег со странной смесью зависти и сочувствия к ним, бедолагам…
— Поехали, — сказал вице-президент, выходя из лаборатории, которая занимала уже целое зданьице, пусть совсем маленькое, но все-таки здание. Растешь, Вундеркинд, сказал сам себе Яша. Он вдруг вспомнил сценку из фильма-балета по Чехову «Анюта» с Максимовой и Васильевым. Очень ему нравилась сценка, когда перед мужем Анюты один за другим падают от почтения его воображаемые сотрудники. А что, надо привыкать. Вице-президент. Ходить надо, задрав нос, на людей не смотреть, на поклоны отвечать в лучшем случае легким движением бровей. Когда он был совсем маленьким, лет, наверное, в десять, он заявил отцу, что решил стать военным, поскольку до этого он прочел в книге о Наполеоне, что плох тот солдат, который не носит в своем ранце жезл маршала. А поскольку, решил он, ранец у него уже есть, дело оставалось совсем за малым. Отец долго смеялся, и Яша даже обиделся. И чего смешного…
— Понимаешь, сына, — сказал отец, — ты слишком добрый для этой профессии. Тебе и муху, которая бьется о стекло окна, жалко. Сам видел, как ты одну такую бедолагу вчера пытался направить на путь истинный…
Конечно же, отец был прав. Он почти всегда прав, потому что никогда не пытался навязать ему какие-то свои взгляды и решения.
— Так куда мы едем, Андрей? У меня название этого ресторана из головы выскочило.
— Костя мне всё растолковал. Итальянский ресторан «Ми пьяче» около Пушкинской площади во дворике. Сказал, где припарковаться. Так что всё будет в порядке, Яков Борисович.
— Это, конечно, хорошо, что есть где припарковаться. Но, боюсь, так у нас дело не пойдет.
— О чем вы, Яков Борисович? — перепугался Стычкин.
— Не могу я быть Яковом Борисовичем, — засмеялся вице-президент, — когда мой водитель, телохранитель, помощник и вообще мудрый советчик зовется просто Андреем. Свобода, равенство и братство, как говорили в свое время французы. Так что выбирайте: или я становлюсь для вас просто Яшей, или вы сообщаете мне свое отчество…
— Викентьевич.
— Отличное отчество. И вы тогда для меня Андрей Викентьевич. Понятно я говорю?
— Вполне. Я вам, Яков Борисович, тогда такой компромисс предлагаю: на людях я к вам обращаюсь только Яков Борисович, а наедине: О, мой повелитель.
— Отличная идея, Андрей Викентьевич. А если серьезно, мне это обращение очень нравится. О, мой повелитель. Скромненько и со вкусом.
Андрею в этот день всё улыбалось: и то, что шеф оказался не надутым ослом, а своим веселым парнем, хотя и не без странностей, ученым это, наверное, полагается по званию, и то, что накануне купили они с Иркой в «Снежной Королеве» на Войковской потрясающую для нее дубленочку, от которой глаз нельзя было отвести, то есть не только, конечно, от дубленки, но и от Иришки, которая расцеловала его за подарок так, что у него голова закружилась, и от того, что в маленьком дворике около ресторана оказалось свободное местечко, и Андрей ловко въехал в него задним ходом под писк сигнала, который указывал расстояние до препятствия. Спасибо Косте, что уговорил их с женой. Спасибо Ирине и ее умной головке, которая всё правильно рассудила. Когда провожали его товарищи по отделению, Иван, его напарник сказал: везет же некоторым, и жена такая, и работа такая…
— Андрей, поскольку мы приехали минут на пятнадцать раньше, и разговор у меня с шефом, надо думать, будет не очень коротким, ты свободен как минимум часа на два. У тебя деньги есть?
— В каком смысле?
— В прямом. Вдруг захочешь поесть, держи пятьсот рублей.
— Да господь с вами, о, мой повелитель, я и сыт, и обут, и одет, и пока никуда не пойду, потому что от запаха кожи в этой машинке я просто балдею. И еще пару раз проштудирую инструкции.
— Ну, смотри.
Яша вошел в ресторан. Евгений Викторович очень расхваливал этот ресторан, говорил, что здесь его все знают. А вдруг он тоже приехал заранее?
— Скажите, — спросил он у строгого вида девушки, скучавшей у пустого еще гардероба. — Евгений Викторович еще не приезжал?
— Кто-кто?
— Евгений Викторович.
Девушка едва заметно пожала плечами, явно давая понять, что никакого Евгения Викторовича она не знает, а если этот молодой человек надумал клеить ее, то придумал бы что-нибудь поумнее.
— Да вы подождите своего товарища. На втором этаже уютнее. Вот сюда, по лестнице.
На всякий случай он спросил и у официанта, который усадил его за столик на двоих:
— А Евгений Викторович еще не приезжал?
— Кто?
— Евгений Викторович.
— Простите, я не знаю, кто это.
Может, подумал Яша, в лицо-то, наверное, они его знают, а имени не знают.
— Ну, с такой чеховской мягкой русой бородкой и такими же волосами. Он их всё время откидывает назад движением головы.
— К сожалению, — покачал головой официант, — не знаю. Вот меню. Будете заказывать или подождете товарища?
— Подожду, конечно, тем более он тут, как он мне говорил, всё меню наизусть знает. А пока, чтобы не скучать, принесите мне что-нибудь выпить.
— Аперитив? Хотите «Кампари»?
— С удовольствием.
В зале было прохладно и тихо. «Кампари», который он пробовал первый раз в жизни, оказался вполне пристойным напитком. И вообще, оказывается, иметь своего водителя вовсе не так глупо. Был бы сам за рулем, даже пива стакан по нынешним суровым временам было бы страшно выпить.
Гм, а все-таки странно, что никто здесь, оказывается, никакого Евгения Викторовича не знает. А ведь он как будто бы совсем не хвастун…
С самого детства была у Яши забавная черта — что он понять сразу не мог, то мысленно складывал в какой-то ящичек в голове, где непонятки и лежали, дожидаясь своего решения.
Наверное, это у него от папы. Папа всегда был человеком любознательным, бесконечно читал разные популярные книжки, от всяких там невидимых миру связях всего живого в природе до последних физических открытий. Наверное, он был рожден для того, чтобы стать ученым, но в те далекие времена у отделов кадров были свои высшие соображения относительно того, чем должен заниматься беспартийный еврейский юноша. Хорошо хоть дали возможность окончить Автодорожный институт. Хотя и по дорожно-строительной части карьера у отца тоже так и не сложилась. И не только из-за пятого пункта или отсутствия партбилета. Был он, как любил ему объяснять за бутылкой пива его коллега и единственный товарищ, человеком для дорожных работ неудобным. Ведь деньги на строительстве и ремонте дорог прокручивались огромные, лились, можно сказать, обильным потоком, и не напиться из этого асфальтового потока мог только совсем уж ленивый, глупый или болезненно честный. Что, собственно, было одним и тем же. Ленивым, терпеливо объяснял коллега — а отец потом со смехом передавал всё сыну — Борис Свирский безусловно не был, а вот болезненной честностью страдал в тяжелой форме. И хотя эта болезнь совершенно незаразна, она, тем не менее, представляла для коллег определенное неудобство.
Может, это папа от мамы заразился такой болезнью, думал полушутя-полусерьезно маленький Яша. Сколько он себя помнил, мама всегда читала. Читала не просто, а, казалось, жила тем, что вычитывала. А вычитывала она, судя по всему, вещи мудрые и благородные, думал маленький Яша. Потому что прямо горело всё в ней от каких-то подслеповатых машинописных страничек, которые она приносила домой и читала их всю ночь. На ночь дали, виновато объясняла она Яше, подслеповато щуря глаза под толстыми стеклами очков.
Была у Яши еще одна забавная привычка: он всегда легко зрительно воображал всё то, о чем думал. Вот рассказывал, например, учитель в школе об электронах, и он тут же ясно видел, как они бегут, расталкивая друг друга по проводам. А потом, в институте, когда он познакомился с ними поближе, они уже не представлялись такими безликими и торопливыми. Он их чуть ли не в лицо знал, сам смеялся он над собой. И легко видел мысленно их замысловатые путешествия по проводникам, скачки по туннельным переходам, внезапную стройность их шеренг, когда проводник охлаждался до низких температур, и как эти шеренги быстро маршируют без всякого сопротивления, не мешая друг другу… Но зрительные образы касались не только науки. Так же было и с родителями и с маминым, например, бесконечным чтением. Вот отец говорит матери, да хватит, Зиночка, ложись спать и гаси свет. А мама ни в какую. И вот отец силой затаскивает ее в кровать, целует, а она всё никак не может оторваться от листков. Он ее целует, а она читает.
Потом листки сменили толстые журналы, от которых мама по-прежнему никак не могла оторваться. К временам перестройки Яша был еще совсем крохой, но уже умел кое-как читать и успевал прочесть хотя бы названия всех этих романов и повестей, которые обрушились на страну после того, как прорвало несокрушимую, казалось, цензурную дамбу, которую столько лет любовно, как бобры — свои плотинки — строили и постоянно подправляли власти. «Жизнь и судьба» Гроссмана, «Чевенгур» Платонова, «Дети Арбата» Рыбакова, Солженицын — не было им числа.
Папа говорил ему:
— Это наше счастье с тобой, что мама не родилась лет на пятьдесят раньше. Иначе быть бы ей пламенной большевичкой с маузером на боку или на худой конец с прокламациями, спрятанными под кожаной тужуркой. Или эсеркой.
— А что лучше, пап?
— Всё хуже. Это были фанатики, по крайней мере, в то время.
— А что такое фанатик?
— Это человек, который уверен, что только он знает истину и готов огреть ближнего своего дубинкой по голове, чтобы ему было легче засунуть туда эту истину.
— А для чего это ему? Они что, все убийцы?
— Не-ет, сынок. Просто убийца это человек вполне естественный. Он тебя норовит укокошить из-за денег, из мести или просто потому, что ты ему мешаешь. А фанатик готов тебя засадить в тюрьму или даже отправить на тот свет для твоей же пользы, чтобы тебе было хорошо и чтобы ты понял истину. Ведь еще сотни лет назад инквизиторы сжигали еретиков на кострах для их же, как они уверяли, пользы, для спасения их бессмертных душ.
— Как это может быть, пап? Как можно убивать человека, чтобы ему было лучше?
— Я ж тебе объясняю, что потому он и фанатик, что несокрушимо уверен в своей правоте.
Так с тех пор и побаивался Яша фанатиков.
В зал вошел Евгений Викторович, нашел глазами Яшу и улыбнулся.
— Давно ждете? — спросил он, с облегчением усаживаясь за стол.
— Да нет, несколько минут.
— Дел невпроворот. Вот уж никогда не мог представить себе, что у президента сравнительно небольшой компании может быть столько дел. Удивительно еще, что находятся желающие протирать штаны и портить нервы на такой работе. Да что желающие, — улыбнулся он, — вы обратили внимание, какое лицо было у Юрия Степановича, когда Петр Григорьевич объявил о моем назначении?
— Не было у него никакого лица.
— То есть?
— Он не только потерял самообладание, он и лицо потерял.
— Это верно. А как вы, наш бывший Вундеркинд, а ныне вице-президент? В ислам еще не перешли? — Евгений Викторович заметил недоумевающий взгляд собеседника, мгновенно осекся и поспешил отвлечь Яшино внимание от вопроса. — Вы догадываетесь, почему я пригласил вас в ресторан для разговора, а не к себе в кабинет?
— Очевидно потому, что здесь меньше шансов, что нас кто-нибудь будет подслушивать.
— Совершенно правильно. Но давайте сначала сделаем заказ. Выбирайте что вашей душе угодно, но могу рекомендовать в качестве антипасто…
— Что это?
— Это по-итальянски закуски. Здесь очень вкусное прошутто. Это такая пармская копченая ветчина, прозрачная как бумага. Это, друг мой, не ветчина, а произведение искусства. Каждый окорок выдерживается около двух лет, представляете? И не каждой свинье выпадает честь превратиться со временем в прошутто. Ее заслужить еще нужно. Прошутто с дыней — это, поверьте мне — одно из высших достижений итальянской культуры. Это, дорогой Яша, Леонардо да Винчи итальянской кухни.
— Уломали, — засмеялся Яша. — Так и быть. Как не потрафить президенту компании?
— А второе выбирайте сами. И креветки здесь превосходные, и рыба, и мясо. И, само собой, паста. Например, паста с беконом, как это вам?
— С энтузиазмом.
— А пить будем «Кьянти». Вино хоть и не слишком изысканное, но для нашего заказа подойдет отлично.
— Как прикажете, господин президент.
Прошутто и впрямь оказалось божественным. С такой едой можно было не беспокоиться о потере смысла жизни. Может, поэтому-то и не превращались итальянские интеллектуалы в русских мятущихся интеллигентов, отягощенных совестью и чересчур тяжелой и обильной кухней.
— Яша, — спросил Евгений Викторович, — я понимаю, что пить за флэш-компьютер еще рано, но скажи мне, как идут дела?
— Вообще-то совсем неплохо. В принципе, компьютер уже существует и работает именно так, как мы и предполагали, но по частям, так сказать…
— То есть?
— Пока мы еще не собрали все его компоненты в один корпус. Как говорят в таких случаях, архитектура компьютера еще не готова. Над этим и бьемся.
— Но финиш-то видно?
— Вполне. Без юношеского щенячьего оптимизма, нам нужно еще месяца три-четыре, и можно будет устраивать презентацию с подачей гостям шампанского.
— Прекрасно, Вундеркинд ты наш ненаглядный. Знаешь, почему я тебе верю? Глаза у тебя смешливые и непочтительные, но честные. Теперь ближе к тому, ради чего я пригласил тебя. Тебе ведь не надо объяснять, что сулит компании этот продукт. Но это понимают и другие, которые хотели бы, чтобы он обогатил не нас, а их. Вполне понятное человеческое желание, но нас оно никак не устраивает. Главный охотник за нашим флэш-компьютером — это наш достопочтенный господин Фэн Юйсян. Человек умный, расчетливый и решительный. Не остановится ни перед чем для достижения своих целей. Он уже пробовал ускорить уход Петра Григорьевича…
— Из компании?
— Из жизни. Когда он был в больнице, его пытались отравить, и лишь по счастливой случайности план этот сорвался. Как-нибудь я расскажу тебе об этом поподробнее. Потом, когда он летал за границу, за ним пытались следить… Теперь наши противники наверняка понимают, что Петру Григорьевичу осталось не так много времени. И поскольку господин Фэн наверняка предпочел бы получить контроль над компанией и нашим новым продуктом без старомодной стрельбы и средневековых ядов, а вполне мирным и юридически чистым способом, мне кажется, что он через своих людей попытается уговорить меня продать ему компанию. Меня или супругу Петра Григорьевича, как только она станет его вдовой. Он, скорее всего, уверен, что свои акции Петр Григорьевич завещает именно ей, а не какому-то типу, только что перебравшемуся из Томска в Москву, то есть мне. Но поскольку, как я уже сказал, человек он, безусловно, умный, он вполне может допустить мысль, что и я, и вдова Петра Григорьевича можем отказаться от предложенной сделки. Тогда остается сам флэш-компьютер. То есть ты и твоя команда. Ты уверен в своих ребятах? Потому что перед, скажем, десятком-другим миллионов рублей, а то и побольше, вообще устоять трудно, а в молодости так и видишь, как они превращаются в прекрасные машины, просторные квартиры и восхищенные глаза какой-нибудь девушки или жены.
— В общем, скорее уверен, чем не уверен…
— Тогда я хотел бы тебе предложить один небольшой план. Ты наверняка слышал, что такое полиграф?
— Детектор лжи?
— Он самый. Надо устроить проверку твоих сотрудников на таком полиграфе.
— А вы уверены, Евгений Викторович, что эта штуковина действительно работает?
— Говорят, процентов на восемьдесят она не врет. Но дело не в этих процентах. Можно сделать так, чтобы кто-нибудь из твоей команды отказался проходить проверку…
— Ага, кажется, понимаю, что вы имеете в виду…
— Допустим, Свистунов вдруг решает, что проверка оскорбляет его в лучших чувствах гражданина и демократа, ну и так далее. И об этом становится известно — об этом мы уж постараемся. Например, я могу вызвать его к себе, предварительно что-то рассказав секретарше Анне Николаевне…
— А что, она…
— По-моему, да. Хорошая знакомая Юрия Степановича, назовем это так, со всеми вытекающими отсюда вероятностями.
— Понимаю. Значит, мы постараемся поймать господина Фэна, так сказать, на живца. Так?
— Совершенно верно. Но это же значит, что ты, мы должны быть уверены в своем живце. Я назвал Свистунова, но это может быть и Исидор Исидорович, и кто угодно из твоей команды. Еще раз повторяю, я самого высокого мнения об уме и проницательности господина Фэна, поэтому игра предстоит совсем не простая. И я вовсе не исключаю и такой возможности: он может предположить, что с ним ведут игру и уж тогда не мы, а он будет вести эту игру. Подумай об этом, Яша. Вся надежда на тебя…
— Служу компании, ваше превосходительство.
— Вольно, господин поручик. Знаешь, Яша, я всё хотел тебя спросить, ты правда ездил в США в эту Силиконовую долину? Мне Петр Григорьевич только говорил, что тебя приглашали, когда ты еще был студентом. Я спрашиваю еще и потому, что нельзя исключить, что наш друг господин Фэн пригласит наше, так сказать, слабое звено в США или Канаду…
— Почему Канаду?
— Он же гражданин Канады, и компания его находится в Ванкувере.
— Знаете, Женя, ничего, что я обращаюсь столь фамильярно к такому высокопоставленному лицу? Смеюсь, конечно. Это только когда мы вдвоем. На людях я готов умереть за компанию и вас с криком «За президента!». А насчет Силиконовой долины, я, конечно, слышал о ней еще мальчишкой в школе. И представлял ее в виде целой страны с замками, в которых сидят правители: Билл Гейтс, Стив Джоббс и другие рыцари круглого стола. Ну, не в рыцарских доспехах, конечно, и без копий в руках. А оказалось, что нет никакой такой страны или даже долины не существует. Это ведь чисто условное название ряда городков в районе Сан-Франциско в Калифорнии, Пало-Альто и других, где начали селиться и работать выпускники и преподаватели Стэнфордского университета, которые избрали своей специальностью электронику. Мне поездку туда устроил паренек, который учился у нас в Физтехе и который, наверное, что-то слышал обо мне и решил выслужиться перед своим начальством — он работал тогда в компании АМД — и уговорил их пригласить сопляка из Москвы, предложить ему стипендию до конца учебы в две тысячи долларов в месяц при условии, что после получения диплома он должен перебраться к ним. Что такое для них каких-нибудь двадцать пять тысяч в год, если средняя зарплата в этой долине сто сорок пять тысяч в год, то есть двенадцать тысяч долларов в месяц. Это, кстати, для нас такие невероятные деньги, а для американцев просто довольно приличная зарплата, поскольку и налоги там совсем другие, и за дом выплачивай, за машину, медицинскую страховку и так далее. И без услуг юриста ничего сделать нельзя, впечатление такое, что даже повернуться нельзя без составления договора. А когда россиянин видит присланный юристами почасовой счет — они считают по количеству часов, затраченных ими, иди, проверь, — он тут же в обморок падает.
А для московского студента, пускающего слюни при виде Макдональдса, поскольку при его доходах и какой-нибудь бигмак — это лукуллов пир, для него две тысячи долларов в месяц, шестьдесят тысяч рублей — это вообще заоблачные снежные вершины благосостояния. Финансовый Эверест.
Я когда летел в США, то понимал, конечно, что в Сан-Франциско торжественный караул для встречи самого господина Свирского не построят, оркестра не будет, фотографировать и вручать цветы в аэропорту не станут, но когда я увидел, что никто меня особенно и не ждал, потому что никто меня там не знает, я и подумал: а для чего, собственно, попу гармонь? Особенно для некрещеного и не умеющего играть на гармони. Я, конечно, о себе. Оказаться среди тысяч таких же амбициозных индусов, а их там, между прочим, может, больше всех, среди китайцев, русских и бог знает кого еще, не говоря уж о самих американцах, и начать карабкаться вверх, как муравей по сухой веточке, под косыми взглядами конкурентов… Зачем, когда мне и дома хорошо, где для кого-то я даже Вундеркинд и, самое главное, где живут мои родители, которых бросать мне никак не хотелось, а они, в свою очередь, в Америку не рвались и по возрасту — все-таки уже не дети — и с английским у них не очень… Вот я и решил: останусь-ка я лучше дома. А тут как раз и судьба подоспела в лице бедного Петра Григорьевича… Жаль его, изумительный мужик, лучшего хозяина и во сне себе не вымечтаешь… Хотя сама эта Силиконовая, она же Кремниевая долина произвела на меня сильное впечатление.
— Чем же?
— Не знаю уж почему, не из-за почвы же в штате Калифорния, но буквально бьют там из-под земли фонтаны творческой мысли и энергии. Не случайно ведь процентов девяносто, если не больше, всех открытий, изобретений и разработок в области информационных технологий делается именно в Америке. Это ведь один наш сатирик любит потешаться над тупыми «америкосами», как он их называет. Но почему-то полмира стоит в очередях за рабочими визами, чтобы оказаться среди тупых американцев и никто почему-то пока не рвется к нам. Так что туп-то на самом деле наш славный сатирик. Хотя, пожалуй, и не так уж и туп: при всем своем пылком патриотизме живет он почему-то в соседнем прибалтийском государстве, которое еще двадцать лет назад было частью СССР. Ну, да бог с ним…
— Да не порть ты себе аппетита этим дурачком. Как тебе этот ресторанчик?
— Ми пьяче. По-моему, это ведь по-итальянски значит «мне нравится». Спасибо.
— Не за что. Подумай о всей этой затее с полиграфом. Может, что-нибудь еще более интересное придумаешь. Можешь оставаться, выпей кофе. Если захочешь. Рекомендую капуччино, они его здесь отменно варят, а я помчался. Еще полно дел сегодня. И как, интересно, другие президенты управляются, например, президент Медведев. Тем более, хозяйство у него чуть побольше нашего «РуссИТ». Ну, Вундеркинд, пока. На тебя вся надежда.
Яша медленно пил капуччино и думал вовсе не о плане, предложенном Евгением Викторовичем, он-то как раз был вполне понятен, а о странном каком-то своем ощущении, которое возникло при разговоре с новым президентом компании. Да нет, думал он, всё, что он говорил, вполне разумно и никаких вопросов не вызывало и вызвать не могло. И всё же, всё же… Что-то ведь зацепило его внимание. Как какой-нибудь ястреб кружит над землей, выглядывая себе цель для броска вниз, так и он всё перебирал и перебирал детали разговора с Женей, высматривая, что могло привлечь его внимание. Ястреб, ничего себе сравненьице ты себе подобрал, Яшенька. Тоже мне ястреб… И тем не менее… Ястреб или курица — это уже потом видно будет. Итак, начнем с первой странности: Женя уверял, что тут в ресторане все его прекрасно знают. Оказалось, никто его ни по имени, ни в лицо не знает. Это он точно видел. На хвастуна Женя никогда не походил, да и глупо хвастаться вещами, которые тут же легко могут быть опровергнуты. В высшей степени ничтожная и вместе с тем значительная деталька паззла, который он пытался составить в цельную картинку. И в которой не было бы царапающих внимание противоречий.
Но это было еще не всё, продолжал он свой медленный, но дотошный анализ. Новый президент спросил его, не перешел ли он в ислам. Это ведь Петр Григорьевич шутливо предлагал ему перейти в ислам, когда он сказал, что не может остановить свой выбор на одной девушке из тех, за кем ухаживал. Привирал он, конечно, Петру Григорьевичу. Шутливо, но привирал. Никакой девичьей очереди перед ним не выстраивалось. Но дело не в этом. Странно было, что тяжело больной человек, знающий, что время его отмерено, станет вдруг говорить преемнику, которого он решил поставить после себя во главе компании, такой вздор. Яшин мозг, всегда охотно подсовывающий ему наглядные картинки, тут же нарисовал сцену, в которой Петр Григорьевич, с трудом подавляя стон, наклоняется к главному аналитику и говорит: «И главное, Евгений Викторович, не забудьте узнать, не перешел ли наш Вундеркинд в ислам. Это очень и очень важно для компании…»
Ну никак нельзя было представить себе такой картины. Никак. Не получалось. Пустяк? Конечно, пустяк. Как ученый, пусть еще молодой и сопливый, но все-таки ученый, он знал, что все открытия делаются тогда, когда какой-то пустяк вдруг нарушает строгую картину гармоничного мира. С пустяков всё и начинается. И масштаб ученого в сущности и определяется тем, насколько ясно он видит несовершенство предлагаемой картинки и насколько точно определяет, что и где нарушает гармонию.
Но и это было еще не всё. Главное, пожалуй, было в том, как быстро и разительно изменился Женечка. Да, конечно, должность меняет человека, но не в одночасье же и не так радикально. Только что был этот парень из Томска таким… как бы поточнее выразиться… услужливым мягким человеком, похожим на большого щенка, который так и норовит лечь на спину, чтобы продемонстрировать свою услужливость. И вдруг стал пусть и вежливым и улыбчивым, но, безусловно, жестким человеком, никак на щенка не похожим. Гм… И вообще, если бы закрыть глаза и не видеть Евгения Викторовича, можно было бы подумать, что перед ним Петр Григорьевич, только говорящий голосом Жени. Чушь какая…
Ну, большого открытия на Женечке не сделаешь, на Нобеля явно не потянет, но паззл всё равно должен быть сложен так, чтобы все детали были на своих местах. Непонятно, непонятно… Что ж, надо думать.
Он вышел из ресторана. Андрей открыл ему дверцу:
— Куда, Яков Борисович?
— В лабораторию.
— Едем. Тут, между прочим, кто-то уж очень пристально нашу «теану» разглядывал.
— А кто это?
— Понятия не имею. Нет, он не подходил, ничего не спрашивал, даже делал вид, что наша машина его совершенно не интересует, но я-то видел, как он присматривался и к самой машине и к номерам. Ну, я понимаю, если б ездили мы на каком-нибудь болиде Формулы Один, а таких «ниссанов», как наш, теперь в Москве хватает, так что явно у него какой-то другой интерес был.
— А какой он из себя?
— Среднего роста, примерно метр семьдесят пять — семьдесят семь. Лет тридцати пяти, может, чуть моложе. На преступника не похож, но и на выпускника МГУ или Сорбонны тоже не тянет. Одет был в синюю курточку на молнии.
— Спасибо, сразу виден наметанный глаз.
— Ну, я все-таки почти десять лет в милиции прослужил. Никогда не думал, что брошу вот так в одночасье, сам, по доброй воле.
— Может, жалеешь?
— Иногда, признаться, и жалею. Это ведь… как вам объяснить…
— А и не объясняй, и так всё понятно. Не зря ведь говорят, что бывших ментов не бывает.
10
Фэн Юйсян сидел в своем кабинете, откинувшись на спинку вращающегося кресла и прикрыв глаза. Он гордился тем, что был человеком гармоничным, что всю свою сознательную жизнь следовал заветам великого учителя китайцев Конфуция. Он и был учителем, чья мудрость нисколько не потускнела за те две с половиной тысячи лет, которые прошли после его смерти. И не случайно китайцы зовут его просто Цзы — учитель.
И учение его о главных качествах, которые должны отличать благородного мужа от малого человека, как он называл людей мелких, корыстных и непросвещенных, было для него не просто подспорьем на жизненном пути. Оно давало жизни смысл, а душе — гармонию. Главное для благородного мужа — это гуманность — Жэнь, следование нормам жизни и правопорядка — Ли, и И — верность долгу и справедливости.
Но почему-то особенно созвучным его душе и сердцу было такое высказывание Учителя: «Не печалься, что тебя никто не знает, но стремись к тому, чтобы заслужить известность». Да, его, владельца небольшой инвестиционной компании, пока что мало кто знал. Но пути человеческие запутаны, как звериные следы на лесной тропинке, и вполне может быть, что к нему известность придет через далекую холодную Москву… У старшего брата жизнь в Малайзии складывалась куда проще, чем у него. Он быстро усвоил негласное соглашение между тремя главными этническими группами страны: армия, полиция и государственная служба — это вотчина малайцев, медицина, преподавание, наука и розничная торговля достались индусам, а бизнес — китайцам. И за несколько лет стал крупным бизнесменом в текстильном бизнесе.
И еще примером для него всегда был его высокочтимый отец. Еще в Гонконге он был одним из основателей сети рыбных ресторанов «Флоата Сифуд». И уже в Ванкувере открыл вместе с двумя партнерами огромный, на тысячу человек, китайский рыбный ресторан «Флоата Сифуд» — самый большой в Канаде. И это в возрасте, когда люди уже уходят на покой. И если и покидают иногда дом, то только для того, чтобы проделать на воздухе несколько упражнений у-шу Да, никогда он не гнался за известностью, ни дома в Гонконге, ни здесь в Ванкувере, она сама медленно, но верно настигала его, и сегодня в свои без малого восемьдесят лет он один из самых известных и уважаемых китайцев не только в Ванкувере, но и во всей Канаде.
Единственной, пожалуй, серьезной ошибкой в жизни Фэна была женитьба. Когда он привел высокую, почти на полголовы выше его, рыжеволосую Кэтлин знакомиться с его высокочтимыми родителями, они ни словом, ни взглядом не дали понять младшему сыну, что, может быть, следовало бы ему лучше жениться на китаянке. Хотя он и догадывался об их тщательно скрываемых опасениях. Конечно, китайцы, которые издавна селились в разных странах, никогда не боялись контактов с иными культурами. Слишком длинную и славную историю и культуру своей страны несут в себе сыны Поднебесной, чтобы бояться чужеродных обычаев и чужой культуры. И всё же уж очень не походила шумная и своевольная ирландка Кэтлин на идеал китайской жены. Тех, кто совсем еще недавно, как вспоминают старики, пылинки сдували со своих мужей и не только не ревновали их, сами были готовы найти мужу любовницу, дабы был он почитаем и уважаем в обществе. И находили. Тогда, в пылу влюбленности он этого не замечал или не хотел замечать, что, в сущности, одно и то же. Тогда влюбленность — этот враг Ли, то есть принятым нормам, — ослепляла его. Но когда она начала проходить, было уже поздно. Уже родилась его дочь, которую по настоянию матери назвали Сьюзан. Кажется, только что он держал в руках это крошечное тельце, а сегодня она уже студентка Университета Британской Колумбии и мечтает о карьере психоаналитика. И давно уже стала для него таким же далеким и непонятным человеком, как и ее мать, с которой он развелся четырнадцать лет назад…
Чтобы прервать поток невеселых мыслей о дочери, которые в последние годы все чаще и чаще навещали его, он решил еще раз проверить, нет ли сообщений из Гонконга. На самом деле, это должно было быть сообщение из Москвы от Юрия Степановича, но осторожность никогда не могла быть излишней, и он договорился с ним еще в Москве, что тот будет посылать свою электронную почту для него не прямо в Ванкувер, а в Гонконг на адрес его гонконгского партнера. А тот уже переправит ее в Канаду.
Ну, наконец-то. У вас одно новое сообщение — высветилось на мониторе. Юрия Степановича он считал грубым варваром, которым если что-то и движет, то в основном жадность. Как учит Цзы: «Благородный муж постигает справедливость, малый человек постигает выгоду». Истинно так. Но другого человека, который так бы знал дела «РуссИТ», как Юрий Степанович, не было. В конце концов, это ведь он уговорил его купить пакет акций этой маленькой никому неведомой компьютерной компании. И следует отдать должное его проницательности — с этого-то и началась терпеливая охота за контроль над самой компанией. А теперь, когда в этой далекой, холодной и странной Москве может появиться действительно ценный приз — принципиально новый компьютер, теперь, когда цель приблизилась и становилась уже ощутимо-реальной, теперь, когда выходил он на финишную прямую, ему требовалось всё его терпение, чтобы не промахнуться в решающий момент. Не печалься, что тебя никто не знает, но стремись к тому, чтобы заслужить известность…
Новости из Москвы были многообещающими. Этот упрямый осёл Петр Григорьевич умирает, в компании новый президент, какой-то человек из Томска, который был у них аналитиком, а уж с ним — Юрий Степанович был в этом уверен — договориться будет гораздо проще. Это тем более важно, что дела в их новой лаборатории идут хорошо, и реальность флэш-компьютера сомнений уже не вызывает. Ну а если и новый президент тоже заупрямится, надо будет уговорить вдову… Да, можно уже смело назвать ее вдовой, как уверяет Юрий Степанович, потому что жизнь Петра Григорьевича подходит к неизбежному концу.
Что ж, надо срочно лететь в Москву. Тем более теперь, перед самым финишем, потому что полагаться на одного этого Юрия Степановича было бы не слишком разумно. В конце концов, разве не этот варвар уже дважды провалил задания, которые он давал ему? Фэн Юйсян снял трубку и позвонил в авиакомпанию, услугами которой всегда пользовался.
— Вы просили меня зайти? — хмуро спросил Юрий Степанович, входя в кабинет нового президента. Он и всегда старался не сутулиться, одевался подчеркнуто строго, и никто никогда не видел его без галстука. В офисе ходили даже слухи, что он не снимал галстука даже когда спал с секретаршей президента Анной Николаевной, а то, что он спал с ней, сомнений ни у кого не вызывало. Теперь же ко всему его строгому и недоступному виду добавилось еще и оскорбленное самолюбие, и выглядел Юрий Степанович поистине устрашающе.
— Садитесь, друг мой, — улыбнулся Евгений Викторович, — разговор у нас может получиться непростым.
— Евгений Викторович, давайте отбросим политесы. Не стану скрывать, ваше назначение было для меня не только полной неожиданностью, оно просто оскорбило меня до глубины души. После всех лет, которые я отдал «РуссИТ», я имел все основания полагать, что Петр Григорьевич изберет своим преемником именно меня. Вы, безусловно, достойный человек и хороший специалист, причем я говорю вам это не просто из вежливости, но ваш опыт и мой просто несоизмеримы. Вы только-только приехали из Томска, а я варюсь в нашем бизнесе двенадцать лет. Это, образно выражаясь, джунгли, в которых я знаю и все дороги, и тропинки, и тупики, и охотников, и жертв, и способы охоты, а вы знакомы с ИТ по статейкам в журналах… Поэтому я готов написать заявление об уходе. Могу сделать это прямо сейчас.
— Ценю вашу прямоту, но все-таки мне бы не хотелось расставаться с вами.
— А мне не хотелось бы работать под началом, простите за стариковскую прямоту, неопытного мальчика. Я могу идти?
— За мальчика спасибо, это, в сущности, прекрасный комплимент. Вы можете уделить мне еще несколько минут?
— Слушаю вас.
— Юрий Степанович, перед вами дилемма…
— У меня нет никаких дилемм, я всё решил. Надеюсь, я выражаюсь понятно? — Голова Юрия Степановича гордо откинулась назад, и он посмотрел на президента с испепеляющим сарказмом.
— Еще раз повторю: перед вами дилемма. Или вы делаете то, что я предлагаю вам, или…
— Мне уже начинает надоедать повторять вам одно и то же. Никаких или. — Юрий Степанович встал и направился к двери.
— Я бы на вашем месте не торопился. Или вы примете мое предложение, или запись одного интересного разговорчика будет сегодня же вывешена, как выражаются блоггеры, на нашем сайте, и ваша репутация, по крайней мере, в мире информационных технологий, будет практически уничтожена.
Юрий Степанович круто повернулся и уставился на президента компании.
— Что за вздор? Чушь собачья! Какой разговорчик? Или ваше новое положение так на вас подействовало…
— Судите сами. — Евгений Викторович нажал на кнопку проигрывателя, и голос Юрия Степановича начал инструктировать ЮЮ, как проследить за Петром Григорьевичем во время его поездки в Лондон. После небольшой паузы он начал выговаривать ЮЮ за проваленное задание. — Ну как? Узнаете? Добавлю лишь, что Петр Григорьевич давно догадался о вашей игре. С того самого времени, когда с подачи нашего высокочтимого господина Фэна вы начали настаивать на продаже ему компании. Иначе не я бы сидел на этой стороне стола, а вы. А я бы стоял перед вами и нервничал…
Юрий Степанович медленно опустился в кресло. Каким-то таинственным образом галстук его вдруг впервые за годы работы в компании опустился на несколько сантиметров, обнажив пуговицу воротника, а сам накрахмаленный воротничок мгновенно обмяк.
— Черт с вами, я готов продать свои акции «РуссИТ».
— Э нет, дорогой мой, так просто вы не отделаетесь.
— Что вы хотите сказать?
— То, с чего начал. Перед вами дилемма: или вы делаете то, что я предложу вам и остаетесь и с вашими акциями и с вашей должностью в компании, или мы начинаем войну, причем начинаем с атаки на вашу репутацию.
Юрий Степанович несколько минут сидел в полном молчании.
— И что же я должен делать?
— Вот это уже слова не мальчика, но мужа. Вы должны стать моим союзником в схватке с достопочтимым господином Фэном. Причем он должен оставаться в полной уверенности, что вы с ним. Он предлагал вам какие-нибудь блага за вашу помощь?
— Да.
— Какие же?
— Ну, то, что после перехода компании к новым владельцам я сохраню должность генерального директора.
— Не густо, между прочим. Честно говоря, я даже не понимаю, чем вас так соблазнил наш китайский друг. Может, это просто любовь? Шучу, шучу. Ваша ориентация, по крайней мере, сексуальная, вне подозрений. Ну допустим, продал бы Петр Григорьевич ему компанию — вам-то что? Ну, получили бы вы энную сумму и что дальше? Что бы вы делали с деньгами? Начали бы что-нибудь свое? Так вы же прекрасно знаете, что из каждых десяти новых начинаний в нашей области девять преотличнейшим образом разоряются. Или, может быть, вы просто купили бы домик в деревне, как та милая бабушка в очках в тонкой оправе на пакетах молока, и посадили бы на огороде редиску и зеленый лук? И потом откуда в вас такая уверенность, что новые китайско-канадские владельцы оставили бы вас у руля компании? Что, у китайцев нет своих хороших компьютерщиков-менеджеров? Да в одном только их Логитеке, например, таких можно не один десяток найти.
— А как вы… эта запись?
— Видите ли, ЮЮ в отличие от вас умеет считать. Впрочем, его профессия обязывает. Один неверный шаг — и ты снова на зоне. К тому же, дорогой Юрий Степанович, есть еще одно обстоятельство, которое может неожиданно усложнить вам жизнь…
— О чем вы?
— Конечно, никаких прямых доказательств вашей связи с попыткой отравления Петра Григорьевича в больнице нет. Но представьте себе, что наш уважаемый ЮЮ вдруг — я говорю чисто гипотетически — захочет рассказать, кто оплачивал заказ… А? Это ж сколько слоев грязи придется с себя отскабливать, чтобы как-то очиститься. А? Боже, какие заголовочки в Интернете: генеральный директор крупной компании обвиняется в попытке отравления своего президента. Настоящий пир для блоггеров… Строго между нами, я могу вам сообщить, сугубо конфиденциально, разумеется, что медсестра, которая в последнюю минуту отказалась сделать Петру Григорьевичу смертельный укол, буквально через несколько минут была насмерть сбита машиной. Причем, заметьте, дорожно-транспортное происшествие, как это называется на официальном языке, было какое-то странное. Мало того что водитель сбил девушку, он еще тут же подал назад и переехал несчастную… Но и это еще не всё. Выяснилось, что жених этой медсестры, в которого она была влюблена, был наркоманом, и через несколько дней его нашли мертвым. Причина смерти — передозировка. Какие увлекательные совпадения, друг мой Юрий Степанович, просто детектив какой-то. Что с вами, налить вам водички, вы плохо себя чувствуете?
Юрий Степанович с трудом поднял голову и посмотрел на Евгения Викторовича. И такая была в этом взгляде ненависть, настоянная на страхе и изумлении, что, казалось, серый костюм президента «РуссИТ» должен был тут же вспыхнуть.
— Вам доставляет удовольствие мучить пожилого человека?
— Вот вы и пожилым вдруг стали. Нет, мучить я вас не собираюсь, я вообще по природе не мучитель. Я просто хочу, чтобы дилемма, стоящая перед вами, была предельно ясна.
— По-моему, вы уже говорили о дилемме…
— Ну и прекрасно. Я даже, признаться, и не надеялся, что мы так быстро найдем общий язык. А оказалось, что людям, которые далеко не самого лучшего мнения друг о друге, договориться легче, чем двум святым. И знаете почему? Эгоисты свято блюдут свою выгоду, и уж одно это делает их характеры пластичными. А святые — это люди высоких принципов, а потому непрактичные. Принципы ведь, что гири на ногах. Наверное, друг мой, это и объясняет, почему эгоистов много, а святые давно занесены в Красную книгу. Прямо по Дарвину — выживание наиболее приспособленных. Но не будем отвлекаться. Повторю. Вы продолжаете свое сотрудничество с достопочтимым господином Фэном, но обговариваете со мной каждый свой шаг. Вы не знаете, когда он собирается в Москву?
— Скоро должен быть. Я послал ему е-мейл с сообщением, что Петр Григорьевич уже не президент, что он умирает, и что с новым президентом, человеком совсем другого склада, договориться, скорее всего, будет проще. В крайнем случае, можно будет прийти к соглашению с вдовой.
— Очень благородно с вашей стороны. Петр Григорьевич еще жив, а вы уже хотите с его вдовой договариваться. Итак, вы принимаете мои условия?
Юрий Степанович молча кивнул.
— Ну и хорошо. Позвольте только еще раз подчеркнуть, что, скрупулезно выполняя условия нашего маленького соглашения, вы получите куда больше, чем от службы нашему вежливому китайцу. Помните это, друг мой. Не хочу вас обидеть, но если хоть одна живая душа узнает об этом разговоре, включая, разумеется, и Анну Николаевну — чего вы так вздрогнули, друг мой, любви, как известно, все возрасты покорны — если хоть одна живая душа узнает… А чтобы ее, любви, порывы были благотворны, она должна быть уверена, что всё по-старому…
Юрий Степанович выскочил из кабинета президента как ошпаренный. Даже не взглянул на Анну Николаевну, которая с испугом посмотрела на него. Вот мерзавец, клокотало у него всё внутри, думает, прижал его. Не годишься еще, мальчишка сопливый, со мной тягаться. Ну подожди, выскочка, мы еще посмотрим на чьей улице будет праздник. Не на словах, а настоящий, с фейерверком и духовым оркестром… И кто пойдет во главе оркестра…
Петр Григорьевич закрыл глаза. Сегодня боль, казалось, решила отдохнуть от своих инквизиторских трудов в его теле, и, если не считать слабости, он чувствовал себя не так уж плохо. Вообще он пришел к выводу, что есть отличный способ отодвинуть от себя гнетущий страх приближающейся смерти. Надо просто перейти на другой счет времени. Надо забыть слова «завтра», «на той неделе», «зимой» и тому подобные грубые единицы счета. Это даже не счет, а какое-то безумное расточительство. Почти то же самое, что считать на века или геологические периоды. Считать надо на мгновенья. Как это поется в известной песне? Есть только миг между прошлым и будущим… как там дальше… именно он называется жизнь. Очень, в сущности, верно. Конечно, если б можно было остановить эти мгновения… Кстати, кто это сказал: остановись, мгновенье, ты прекрасно? Кто его знает… Увы, стрелу времени не остановить, и от нее не спрячешься ни под рыцарскими доспехами, ни под современным бронежилетом. А жаль до слез, потому что мгновенье действительно было почти прекрасным. Дышать без боли — это ж острейшее наслаждение. Он вздохнул. И действительно, наслаждение. Печальное, но наслаждение. А может ли наслаждение быть печальным? Может, может, усмехнулся он. Наверное, все настоящие наслаждения должны быть одновременно и печальны, потому что, как и всё на этом свете, они не вечны. Да что там не вечны, эфемерны как бабочки, вся жизнь которых укладывается в один день.
На стене напротив его кровати висела узкая и длинная старинная японская картина, на которой петух, разумеется, японский же, распустил роскошный хвост и собирался что-то клюнуть, не обращая ни малейшего внимания на куда более скромно разукрашенную курочку, которая смотрела на него с почтительным испугом. Хотя видел Петр Григорьевич этот хвост каждый день, с того самого момента, когда Танюшка с гордостью показала новое приобретение и торжествующе объявила, что это середина девятнадцатого века, каждый раз из перьев хвоста на него смотрели разные рожицы. Вот и сегодня уже знакомый старичок, который иногда надолго пропадал, уходил куда-то, надо думать, по своим делам, опять выглянул на него из-за разноцветного веера хвоста и, казалось, даже подмигнул: мол, жив ты еще, оказывается. Если петуху было как минимум уже полтора века, то и старику должно было быть никак не меньше, и он-то имел полное право подмигивать Петру Григорьевичу.
— Петенька, — спросила Галя, осторожно приоткрыв дверь, — я вдруг почувствовала, что ты не спишь… Дать тебе что-нибудь?
— Спасибо, солнышко, — сказал Петр Григорьевич и вдруг заметил, что плечи жены вздрогнули, и она закрыла лицо ладошками. — Что с тобой?
— Ни… ничего, Петенька. Спасибо тебе.
— За что же?
— Ты… никогда еще не называл меня солнышком…
— Правда? Выходит, был круглым дураком, и чтобы хоть чуточку поумнеть, пришлось вот…
— Петенька, Петюша родненький, это я во всем виновата. Я, я! Почему я всегда была такой… как сказать… как бы скованной… каждый шаг рассчитывала и просчитывала… А надо было просто быть тебе верной собакой. Хочешь, я лягу на коврик, как пес, около твоей кровати и буду только слушать твое дыхание…
— Ты не собака, ты солнышко мое, а это, при всей моей любви к собакам, согласись, не одно и то же. Спасибо тебе…
— За что же, Петенька? — всхлипнула Галя.
— За всё. И не плачь, а то я завою не как просто собака, а старый больной пес… Я, пожалуй, подремлю немножко, а ты позвони пока Евгению Викторовичу… Что ты так смотришь на меня?
— Я… не знаю, как ему звонить.
— Господи, ты что, мой рабочий телефон не помнишь? Или ты забыла, что он теперь президент компании?
— Да, Петенька… Прости, я совсем уже ничего не понимаю, что говорю. Что ему сказать?
— Пусть приедет сюда утром, мне нужно с ним поговорить, а такие разговоры лучше вести не по телефону.
— Хорошо, Петенька, сейчас позвоню.
Галя вышла из спальни. Счастливые мгновенья жизни без боли прошли, будто их и не было, и острый клюв снова принялся ковыряться в его внутренностях. Ну что ж, так, может, в чем-то и лучше, решил Петр Григорьевич. Потому что враг должен быть на виду. Когда он исчезает — а надолго, к несчастью, боль уже давно не покидала его — никогда не знаешь, что враг надумал… Он вдруг в который раз почувствовал острую досаду: ну зачем, зачем он решил раздвоиться, почему он должен умирать в жалких потугах борьбы с леденящим душу страхом смерти, а его двойник, который, выходит, был с самого начала не им, а кем-то другим, может наслаждаться жизнью и не думать о мгновениях? Зачем он решился на преступление, которое ничего, в конечном счете, ему, его «я» не дало? Жадность и глупость. Пора уж бросить играть с собой в прятки. Слепая жадность и непроходимая глупость…
Галя подошла к телефону, который стоял на тумбочке в ее спальне у кровати. Голова ее шла кругом, и кровь то и дело приливала к лицу, заставляя его пылать. Почему ей всегда так не везло в жизни, почему она теряет мужа именно сейчас, когда ее сердце вдруг растопилось, и она со всем жаром нерастраченных за все эти годы чувств потянулась к мужу. Пусть немолодой, пусть сухой, пусть больной, но стал он вдруг не неприступным Петром Григорьевичем, а просто Петенькой. Ее Петюшей. Господи, и как только она могла изменять ему с этим мальчишкой, да еще подчиненным мужа? Зачем? И то, что стало с Петенькой… Это она, окаянная, наверное, виновата во всем. Она, она. Будь он проклят со своей дурацкой бородкой, со своими признаниями в любви и своими ласками. О, господи…
Она с трудом набрала номер и вдруг услышала Женин голос. Сердце ее внезапно остановилось. Она с трудом пробормотала:
— Евгений Викторович, это Галина Дмитриевна. Муж просил вас прийти к нему завтра…
— Галя…
— Галина Дмитриевна, — поправила она Женю и с треском бросила трубку на аппарат. О, господи…
Когда Яшина мать Зинаида Исаковна в первый раз вошла в новый коттедж сына, в котором скудные его пожитки лежали еще не разобранные на полу, а весь дом пах свежеструганым деревом, она долго протирала носовым платком толстые стекла своих очков, потом снова водрузила их на нос и подозрительно спросила сына:
— И ты хочешь сказать, что это всё твое?
— Да, маманя, именно так.
Любил Яша мать скорее не как маму, а как младшую сестренку, которой нужно многое прощать и которую нужно опекать, потому что несмотря на свои пятьдесят пять лет была она во многих вещах наивна, как школьница первого класса. Прямо хоть бант ей белый на голову завязывай.
— И ты хочешь сказать, что этот дворец куплен на честно заработанные деньги?
— Именно так. Первоначальный взнос был оплачен компанией, а я теперь выплачиваю остальное по частям. Это, Зинаида Исаковна, называется красивым и зловещим словом «ипотека». Ипотека, картотека…
— И сколько ты должен платить каждый месяц?
— Домик, прямо скажем, не самый дешевый. Кажется, что-то около двадцати с чем-то тысяч.
— Рублей?
— Именно так, маманя. Не тугриков же.
— И ты хочешь сказать, что можешь платить по двадцать тысяч в месяц?
— Еще остается на пару бутылок пива, бензин для моей «субару импресы» и одну девицу по имени Оля. Перечисляю расходы по степени их важности для меня.
— Странно всё это, Яша. Очень странно…
— Что, маманя? То, что Оля идет за пивом и бензином?
— Не юродствуй. Ты же знаешь, я не люблю твоего ёрничанья. Я о другом. Тебе еще нет двадцати пяти, твоему отцу на тридцать лет больше, а он так и не заработал ни на собственный домик, ни на машину…
— Ты хочешь добавить, и ни на свою Ольку?
— Перестань, Яша. Я не люблю такие разговоры. Я, конечно, не знаю, за что тебе платят такие деньги. Надеюсь не за то, что ты печатаешь по ночам на цветном принтере тысячерублевые купюры, но то, что твой отец, честный инженер, не зарабатывает и толики того, что имеешь ты, это позор для государства, в котором мы живем. И то, что большая часть людей так легко мирится с этим, это двойной позор для тех, кого Пушкин называл «дворовые толпы измученных рабов».
Яша обнял мать и поцеловал ее в ухо.
— Боец ты наш непреклонный. Наша несостоявшаяся эсерка. У папы есть роковой дефект. Он честный человек, а это качество мешает всем. Поэтому-то большинство его коллег ездят на хороших машинах, записанных на кого-нибудь еще, живут в хороших квартирах и имеют белокурых наташек вдоволь.
— Перестань, Яша, хватит. С тобой невозможно нормально разговаривать. Единственное, что я могу тебе сказать, это то, что ты уже обуржуазился.
— Да, маманя, каюсь. Буржуазюсь почем зря. Может, папа приедет вечером?
— Как он доберется сюда? От электрички это же километров пять, не меньше.
— Я могу послать за ним Андрея.
— Какого Андрея?
— Своего водителя-охранника, маманя.
— Яша, мне не нравится, когда ты издеваешься надо мной.
— Упаси боже, Зинаида Исаковна. Так послать?
— Нет, папа сегодня не сможет. Я только что разговаривала с ним по мобильному.
— Хорошо, мамочка. Ко мне скоро придут Свистун и Исидор Исидорович…
— Господи, что за клички такие…
— Готовить ничего не надо. Нам просто нужно поговорить. Если захочешь почувствовать себя хозяйкой, можешь нарезать колбасы и что там еще в холодильнике. Кальте плате — холодное блюдо — величайший вклад немцев в мировую культуру. Во всяком случае не меньший, чем вклад бородатого выкреста…
— О ком это ты?
— Как о ком, о Карле нашем Марксе.
— Ну, знаешь, я никогда не была правоверной марксисткой, но ты уж как-то слишком…
— Слишком что? Непочтителен? Не стану спорить, такой ли он был великий экономист, потому что он ухитрился сделать такие предсказания, которые мало кому из ученых удавались.
— Что ты имеешь в виду?
— То, что буквально все его предсказания, от относительного и абсолютного обнищания трудящихся до роли прибавочной стоимости, попали пальцем в небо. Хотя так капитально заблуждаться — для этого тоже талант нужен. А насчет бородатого выкреста — это просто констатация факта. Ну, бороду-то его все видели на миллионах плакатов Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, а то, что он, внук поколений раввинов, возненавидел евреев за то, что его родные не захотели содержать его всю жизнь и пришлось присосаться к богатенькому Энгельсу, — это тоже научный факт. Впрочем, маманя, прости, я о Марксе могу часами разговаривать. Бог с ним, с бородатым атеистом. Мы, по-моему, говорили о кальте плате нам для закуски. Но если ты предпочитаешь припасть к сосцам своего Интернета, не стесняйся, иди и припади, мы управимся сами.
После того как в самом начале девяностых поток запрещенной долгие годы литературы в конце концов иссяк, а на телевидении сериалы со стрельбой и шоу-бизнес с силиконовыми грудями, голыми девичьими пупками и круглыми попками принялись неуклонно выдавливать всякие дискуссионные передачи на поздние часы, а то и просто сгонять их с экранов, Зинаида Исаковна начала терять всякий интерес к жизни страны. Ее неукротимый общественный темперамент не находил ни подпитки, ни точки приложения. Как-то Борис даже зло пошутил: ты, Зин, вступила бы хоть в какую-нибудь оппозицию. Ну, не хочешь к Жириновскому, может, попросишься к Зюганову?
И тут с помощью Яши она открыла для себя Интернет. Сначала она никак не могла научиться искать всякие там интересные сайты, не говоря уже о том, чтобы самой посылать в сеть свои взгляды и комментарии. Но постепенно освоилась и даже придумала себе псевдоним, дабы не выглядеть совсем уже белой вороной в веселом и совершенно не признающем авторитетов сообществе блоггеров и твиттеров. Муж и сын так часто называли ее эсеркой за непреклонность взглядов, что псевдоним Мария Спиридонова пришел ей в голову сам собой.
Поэтому она лишь сказала сыну, что колбаса, буженина и хлеб нарезаны и поставлены в холодильник вместе с несколькими бутылками пива и поспешила к Яшиному ноутбуку с модемом для беспроводной связи. Компьютерной сети в его еще строящемся коттеджном поселке не было. А нужно было обязательно прочесть оживленную дискуссию, вызванную статьей одного писателя-историка, который утверждал, что Россия обречена на скорый развал и последующий хаос. Да и самой послать в сеть несколько едких замечаний по поводу доморощенных Кассандр, явно испытывающих мазохистский оргазм от всяких страшилок. Себя пугать, как известно, куда проще, чем работать.
Когда трое друзей устроились на кухне, Свистун ловко откупорил бутылку пива и начал разливать его по кружкам.
— А скажите мне, мои маленькие бедные друзья, — спросил он, — почему в России мы так любим сидеть на кухне?
— Нет у нас среднего класса, — вдумчиво ответил Исидор Исидорович, — мы как начали сидеть внизу в людской у господ, а потом на совковой кухне, так и сидим.
— Разумно, — важно кивнул Свистун.
Яша внимательно посмотрел на живот друга и помощника и вздохнул. Похоже было, что Свистун уже на четвертом или пятом месяце беременности.
— Слушай, Свистун, я вот смотрю на твой животик и думаю: а жилетка у тебя есть?
— Пока нет, не скопил еще на жилетку.
— Копи, сынок, копи. А когда купишь себе тройку с жилеткой, я подарю тебе золотые карманные часы с золотой же цепочкой. И будешь ты солидным господином с респектабельным брюшком под выпущенной золотой цепочкой и, может быть, возродишь прекрасную моду ношения карманных часов в жилетном кармашке. А теперь к делу, анфан де ля патри…
— Это что, дети родины? — подозрительно спросил Исидор Исидорович.
— Точно не знаю, вроде бы. Вы, ребятки, знаете, что такое полиграф?
— Детектор лжи?
— Он самый. Президент издал приказ: всем нам пройти испытание на полиграфе.
— На предмет, не продались ли мы конкурентам? — спросил Свистунов.
— Приблизительно, — кивнул Яша.
— И в чем проблема?
— В том, что один из вас должен возмутиться нарушением его гражданских прав или просто обидеться на недоверие и отказаться от испытания на полиграфе… Свистун, у тебя есть гражданские права?
— Черт их знает, не помню, сейчас посмотрю в бумажнике.
— Ты читал когда-нибудь Ле Карре?
— Не-а. А кто это? Или что?
— А Форсайта или там де Милля? На худой конец, Акунина? О Пелевине и не спрашиваю.
— Не-а…
— А ты вообще что-нибудь читаешь?
— Не-а.
— Молодец, невежество полезно для здоровья, это по тебе видно. А теперь шутки в сторону и слушайте внимательно. Вы прекрасно понимаете, какие бабки может принести владельцу патента наш флэш-компьютер. Это сотни миллионов долларов, а то и больше. Петр Григорьевич, а теперь и новый президент компании прекрасно знают о попытках заполучить наше изобретение.
— Со стороны кого? — спросил Исидор Исидорович.
— Я сам всех деталей не знаю. Если персонифицировать угрозу — это наш Юрий Степанович.
— Вот уж не думал, — покачал головой Свистунов.
— И правильно делал, потому что он лишь представлял интересы крупного акционера Фэн Юйсяна…
— Китаец?
— Сразу и не скажешь. Он канадец, живет в Ванкувере, где у него инвестиционная компания, а родом он из Гонконга. Чьи еще интересы там вплетены — я не знаю. Равным образом я, естественно, не владею всей той информацией, которой владеет Петр Григорьевич и теперь вот новый президент. Знаю лишь, что они не хотят сидеть сложа руки и ждать, пока оппозиция нанесет удар. Поэтому-то и возник план под кодовым названием «полиграф».
— Значит, проверки на полиграфе не будет? — облегченно спросил Исидор Исидорович.
— Вот видишь, уже чувствуется, что у тебя совесть нечиста.
— Прошу оформить явку с повинной: вчера дважды поминал имя господне всуе и возжелал жену ближнего своего.
— Прочтешь три раза Отче Наш. И больше не греши, сын мой. Но давайте серьезно. Полиграф привезут, чтобы всё выглядело самым правдоподобным образом. И когда станет известно, что кто-то из нас отказался пройти испытания и что начальство решает, что делать с этим человеком, оппозиция, скорее всего, попытается войти с ним в контакт. Ну а что Евгений Викторович намеревается делать дальше — это уже детали плана, которого я просто не знаю. Если вы не возражаете, давайте решать, кто из нас станет живцом для господина Фэна.
— Давайте я, — кивнул Свистунов. — Может, сброшу пару-тройку килограммов от волнения, а то никак не похудею. Да и потом талант во мне обнаружился, — он обезоруживающе развел руками, — драматический. На Гамлета еще не замахиваюсь, но эту-то роль сыграю. Как тогда в кабинете у Евгения Викторовича.
— Ну и отлично. Родина тебя не забудет.
— На родину особых надежд у меня нет, а вот если бы ты, Вундеркинд, принес еще бутылочку пива, я бы понял, что ты меня ценишь и уважаешь.
— Ценю. Уважаю. Несу.
11
Утром Галя тихонечко, чтобы ненароком не разбудить мужа, подошла к двери его спальни. Слава богу, всё было тихо. Кажется, спит. Она облегченно вздохнула и подумала: «Я как маленькая, всё мне кажется, что если чего-то очень захотеть, да еще крепко зажмуриться, то всё выйдет так, как нужно». А так нужно было ей, чтобы судьба не отнимала у нее то, что подарила ей после стольких лет поисков и унижений, когда она судорожно пыталась найти себе немножко счастья. Господи, ну для чего Петенька говорил ей о цене квартиры и о том, что она станет состоятельной вдовой. Не нужна ей никакая квартира и никакие деньги не нужны. Пусть больной, но только чтобы можно было обнять Петюшу и сказать: мой, только мой, и больше ничего на свете и не нужно. Вылечит, выходит, вынянчит. Да, страшная болезнь, но есть же случаи, когда живут с ней долгие годы, а то и просто выздоравливают…
Она никак не могла найти себе места и опять подошла к двери, будто кто-то подталкивал ее в спину. Всё тихо. Может, все-таки приоткрыть осторожненько дверь, посмотреть, нужно ли ему что-нибудь. Она открыла дверь и почувствовала, как сердце ее останавливается от смертельного ужаса — так страшно свисала Петина рука с края кровати, не висят так руки у живых. И стоял в комнате тонкий, но уже ощутимый запах смерти. Она сделала усилие и подбежала к кровати.
— Петенька, — прошептала она, — Петенька, ты спишь? — Зачем? Ведь знала уже, чувствовала, что нет его, что ушел Петя, бросив свое только что найденное солнышко. И закричала страшно, завыла, как кричали и выли тысячи ее предков: — Пе-е-тя!
Ноги ее подкосились, и она рухнула на колени, схватив в руки его уже холодную руку и прижавшись к ней лбом. — Пе-е-тенька, проснись, умоляю тебя!
Не проснется, не посмотрит на нее с улыбкой, не скажет «солнышко»… Что делать, кому звонить, кого звать? Да и кто поможет… Никто.
Через несколько минут она собрала силы и набрала номер мобильного телефона Евгения Викторовича.
— Слушаю, — послышался знакомый голос, который столько раз заставлял ее сердце биться быстрее.
— Это Галя. Петр Григорьевич умер. — Сказала и замолчала, потому что и горло сжала судорога, и потому что сказать больше было нечего.
Молчал и Евгений Викторович. Да и что спрашивать, подумал он, как умер? Как все умирают, когда появляется Великий Уравнитель. Будь то могущественный император или последний нищий, у него хватает места для всех.
— Сейчас приеду, Галина Дмитриевна, — сказал он наконец. Понял инстинктивно, что сейчас была она не Галя для него, а Галина Дмитриевна.
Вот и нет больше оригинала, остался только он, копия. И он внезапно понял, как нелегко будет копии стать оригиналом. Ведь был он, в сущности, тем, что в мире художников называют фальшак. И знает об этом только он один. И Костя, конечно. И большой вопрос, сумеет ли он вынести такую ношу. Ведь даже Гале ничего нельзя будет сказать. Нельзя сказать, что не потеряла она мужа, что он через несколько минут будет стоять перед ней. Муж и любовник в одном лице. Этого он ей никогда не скажет, потому что в это поверить нельзя, потому что это совершенно невозможно и к тому же может убить ее. Сам еле удержался на краю безумия…
Фэн Юйсян снял с ленты выдачи багажа свой чемоданчик и поискал глазами тележку. Тележек, как и следовало ожидать, видно не было, зато десятки пассажиров тщетно высматривали их. Русские всегда остаются русскими, и сколько они не будут перестраивать свое Шереметьево, всё равно что-нибудь да забудут. Варвары собственно потому и варвары, что не в состоянии рассчитать того, что нужно делать. А когда знают, что нужно сделать, сделать сами этого не могут. Что для более цивилизованных стран совсем неплохо, потому что можно продавать русским то, что сделать совсем не хай тек, от кроссовок до водопроводных кранов или футболок. Хорошо хоть, что на его чемоданчике колесики, и можно не метаться в поисках тележки, а преспокойно катить его за собой.
У выхода он посмотрел на толпу встречающих, большинство из которых держало в руках таблички с именами тех, кого они ждали. Ага, вон и табличка с его именем. Держал ее в поднятой руке элегантный молодой человек с модной короткой бородкой, одетый в черное кашемировое пальто.
— Добрый день, — кивнул Фэн встречавшему, — я Фэн Юйсян.
— Здравствуйте, — приветливо улыбнулся человек в пальто. — Вы говорите по-русски? Можно и по-английски.
— Я немножко говорю по-русски.
— Прекрасно, господин Фэн. Дайте мне, пожалуйста, ваш чемодан. Отсюда до парковки, где я оставил машину, совсем недалеко. Меня, кстати, зовут Александр. Можно просто Саша.
Нет, зря он так огульно… Все-таки Россия меняется, думал китаец, украдкой рассматривая встретившего его человека. Его старинный знакомый в Москве, который рекомендовал Сашу как специалиста по самым деликатным поручениям, заметил, что гонорары его вполне соизмеримы с мировыми ценами на подобные вещи, но что человек он надежный.
Саша, похоже, догадывался, о чем думает его новый знакомый, потому что вдруг тонко улыбнулся и заметил:
— Похоже, на Западе с трудом осознают, что Россия уже не та страна, к образу которой все привыкли. И медведи, оказывается, действительно давно уже не ходят по московским улицам, и киллеры в малиновых пиджаках и с квадратными подбородками давно уже почили в бозе.
— Что такое «почили в бозе»?
— Это на церковно-славянском значит умерли. Вот я и говорю, что почти все они отдали богу душу, пав жертвой конкурентных разборок. А взамен медведей выстроились километровые пробки. А вместо малиновых пиджаков… — Он усмехнулся, не закончив фразы.
— Проявились элегантные молодые люди, — продолжил с улыбкой Фэн Юйсян, — со знанием английского.
— Вы очень проницательный человек, господин Фэн, — усмехнулся Саша, открывая багажник серенькой неброской «короллы». — Совсем еще недавно мне бы полагалось ездить только на черном бумере…
— Что такое бумер?
— Это большой БМВ, обязательно черного цвета, семьсот сороковой или лучше семьсот шестидесятый. Порядочному человеку моего круга ездить на чем-нибудь другом было просто западло…
— Простите?
— Западло — это… ну, скажем, крайне неприлично, нельзя. А сегодня стиль другой. Скромность украшает эксперта. В вашу гостиницу, господин Фэн? «Балчуг-Кемпински», сколько я помню.
— Я смотрю, вы уже кое-что знаете о моих привычках.
— Да, сэр. Ведь не только клиент выбирает меня, я тоже должен выбирать, с кем можно иметь дело. С вашего разрешения, господин Фэн, и, конечно, к вам это не относится, должен заметить, что иные мои клиенты находятся в куда более сложных отношениях с Уголовным кодексом, чем я.
— Прекрасная предусмотрительность, дорогой Александр. Теперь с вашего разрешения о деле.
— Слушаю, господин Фэн.
— Вполне может случиться, что никаких резких… скажем так… шагов не понадобится, и я смогу договориться об интересующем меня деле самым что ни есть мирным и цивилизованным образом. На это я и рассчитываю, потому что по опыту я знаю, что деньги — это куда более могущественное оружие, чем пистолет с глушителем. Хотя, конечно, иногда приходится прибегать и к крайним формам доведения своей точки зрения до упрямцев. Понимаете, Саша, о чем я говорю?
— Вполне.
— И тогда могут понадобиться и… более активные действия. Всё это решится в течение нескольких дней. Но так или иначе, я должен знать, что в любой момент могу рассчитывать на вас.
— Очень хорошо, господин Фэн. Наш общий друг сообщил вам о моих гонорарах?
— Нет. Он лишь сказал, что они весьма… крутые.
— Вы и это словечко знаете. Прекрасное слово. А крутые или не очень — это ведь понятия относительные. Мои услуги в режиме, так сказать, ожидания стоят тысячу долларов в день. Оплата того, что вы называете активными действиями, обговаривается отдельно в зависимости от сложности задания и связанного с ним риска.
— Недешево, дорогой Саша.
— Что делать, что делать. Инфляция, сэр, да и доллар позеленел от неуверенности в завтрашнем дне.
— Вы правы… Мне связываться с вами через нашего общего знакомого или прямо с вами?
— Лучше прямо, потому что при каких-то обстоятельствах время может стать решающим фактором, а он может и не ответить. Вот номер моего мобильного.
Китаец посмотрел на карточку, на которой было написано «Екатерина Громушкина. Менеджер по продажам».
— И что это должно означать?
— То, что вы видите. Осторожность не мешает никогда, особенно людям, которым приходится рассчитывать каждый свой шаг. Екатерина Громушкина — это, с вашего разрешения, тоже я.
— Понимаю. Хорошо. Вот три тысячи долларов задатка, Саша.
— Спасибо, сэр. А вот и ваш «Балчуг», сейчас подъедем.
— Саша, могу ли я сделать вам комплимент?
— Ради бога, сэр, особенно если это бесплатно.
— Вы очень обходительный и… как бы это сказать… четкий молодой человек и уже этим выгодно отличаетесь от многих ваших соотечественников.
— Спасибо, господин Фэн, стараюсь. Мне эти качества могут понадобиться. У меня ведь образование экономиста-аналитика. Но мечта моя — поступить в Лондонскую школу экономики. Прошу, сэр. Всего наилучшего и желаю вам хорошо провести время.
Евгений Викторович подъехал к своему дому — да, мысленно он всё еще называл его своим — и хотел было привычным движением вытащить ключ от подъезда из кармана, но вовремя вспомнил, что ключа у него не было, а если бы и был, всё равно он не должен был воспользоваться им.
Он нажал на кнопку домофона и сказал вахтерше:
— Я к Петру Григорьевичу Илларионову.
— Он вас ждет? — подозрительно спросила вахтерша, которую все в подъезде звали Цербером. Впрочем, ее злые прищуренные глаза напоминали скорее не Цербера, а надсмотрщицу в концлагере. Некоторые жильцы даже уверяли, что она когда-то служила в женской колонии. Может, и сами ее там видели. С внутренней, так сказать, стороны.
— Да, — ответил Евгений Викторович. Замок щелкнул, и он вошел в подъезд своего дома. Своего, да не своего. Только сейчас он почувствовал, как соскучился по родной квартире.
Он кивнул Церберу и прошел к лифту. Все эти маленькие мыслишки о Цербере и родной квартире на самом деле лишь скрывали смутные какие-то чувства, которые давили на него. Да, конечно, он знал, что Петя умирает, да не только Петя, это ведь и он тоже умирает. И умер после Галиного звонка.
Он позвонил в дверь, и Галя почти сразу же открыла ему. Лицо ее было заплакано, а глаза пустыми. Она молча смотрела на него, словно не узнавала, потом медленно сказала каким-то чужим голосом:
— Петя умер… — В ее глазах мгновенно набухли слезы и медленно покатились по щекам. — Петя умер, — повторила она, — я не знаю… я не знаю, что делать…
— Галина Дмитриевна, что можно сказать в таких случаях… — Очень важно было, в который раз повторил он себе, не назвать ее случайно Галей. — Что тут скажешь… Вы не представляете… что значил для меня Петр Григорьевич… вы не можете себе представить степени, до которой я был привязан к нему…
Галя подняла глаза и уставилась на Евгения Викторовича. Казалось, она пыталась понять, что он говорит, что значат его слова, но не понимала.
Бедняжка, думал Евгений Викторович, ну, конечно же, всё, что он бормотал, могло в ее сознании звучать лишь как издевка и над покойником, и над ней. Раскрыть бы сейчас объятия, взять ее в руки и прошептать: глупая, не бойся, это же на самом деле я, твой Петя… Господи, не хватает еще полностью лишиться разума в эту минуту. Самому лишиться и ее лишить.
— Где он? — спросил Евгений Викторович просто для того, чтобы снова выиграть хоть несколько секунд. Где он, как где, в своей, конечно, то есть моей, то есть нашей спальне перед японским петухом с распущенным хвостом.
— Там, — медленно, с трудом кивнула Галя, показывая на спальню.
Он вошел и увидел висящую мертвой плетью высохшую руку Пети, себя. Глаза его были закрыты. Значит, он умер во сне. Вряд ли Галя могла закрыть ему глаза. Для этого же тоже требуется мужество. Закрыть чужие глаза. Навсегда. Петин нос за те несколько дней, что он не видел его, еще больше заострился. Ну что, мой оригинал, отмучился ты… Спасибо тебе за мою жизнь. Не знаю только, смогу ли я радоваться ей, как когда-то ты, мы радовались тысячам маленьких вещей, из которых, в сущности, и состоит жизнь. Наверное, нужно нагнуться и поцеловать покойника. Это почему-то было нелегко. Не потому, что он боялся прикосновения к покойнику. Нет. Наверное, потому, что он никогда не целовал сам себя.
Он нагнулся и прикоснулся губами к уже холодному лбу.
— Галина Дмитриевна, вам не нужно ни о чем думать. Мы всё сделаем сами. Подите, лягте хоть на несколько минут. На вас лица нет.
— Я никуда не пойду, я хочу быть около мужа, — неожиданно твердо сказала Галя и села в кресло, не сводя взгляда с покойника.
Господи, пронеслось в голове у Евгения Викторовича, какой же все-таки дурак был Петя, я, мы. Как мы не видели, что она на самом деле его, меня, нас любила… просто боялась мужа…
Он вытащил мобильный — почему-то не хотелось ему сесть за Петин телефон — и начал звонить. Ему уже приходилось хоронить — что-что, а в девяностых стало это для большинства бизнесменов делом почти каждодневным — и он знал, что умереть-то проще пареного, а вот собрать все документы, найти местечко на кладбище, организовать пристойные похороны — это такие хлопоты, что если бы самим покойникам пришлось этим заниматься, многие еще и подумали бы лишний раз, прежде чем отбрасывать копыта.
Не забыть бы позвонить Косте, напомнил он себе, вот уж кто действительно любил Петю, предан ему был больше, чем самому себе. Он набрал Костин мобильный.
— Костя, это Евгений Викторович. Петр Григорьевич умер. Да, сегодня ночью… Я знаю, кем он был для тебя, а ты — для него… Не спорь, был ты ему не просто близким человеком, а родной душой. Ведь после того, как сын ушел в монастырь, он остался совсем один… Ну а потом и с Галей, — он посмотрел на вдову, но она, казалось, не слышала, о чем он говорил. — Приезжай сейчас. Галине Дмитриевне нужно помочь, ты даже не представляешь, скольких это требует хлопот оформить смерть… Машина в гараже? Хорошо. Приезжай. Я у Галины Дмитриевны. Буду пока обзванивать всех, кому положено… Приезжай.
Он посмотрел на Галю. Она по-прежнему сидела в кресле, не спуская глаз с мужа, словно всё еще ждала, надеялась, что вдруг он все-таки откроет глаза и с трудом улыбнется ей сквозь привычную боль.
Как хотелось ему раскрыть объятия и взять ее в руки, защитить, укрыть, успокоить. Нет, нельзя. Вон сколькими условиями и запретами, оказывается, обрастает обман…
— Галина Дмитриевна, разрешите, я сделаю вам чашку кофе. Вы ведь, кажется, пьете по утрам кофе?
— Что? — непонимающе спросила Галя. — Кофе? А, да, да. Сейчас я встану и пойду на кухню.
«Не надо! — хотел он крикнуть. — Я ж знаю, где кофе и как включить кофеварку Сейчас я всё сделаю. Нельзя. Этого нельзя, того нельзя, в том не проговориться, в этом не подставиться…»
Долго ли он сможет жить в этом дьявольском лабиринте запретов и тупиков, кто знает.
Гроб несли Костя, Андрей, Вундеркинд и Свистунов. Евгений Викторович и вдова шли за ними, и он осторожно поддерживал Галю под локоть. Каждый шаг давался ей с трудом, и она, сразу постаревшая от слёз и черного костюма, медленно плелась за гробом — вот-вот сама упадет. А за ними по дорожке кладбища шли сотрудники компании и просто знакомые Петра Григорьевича, пришедшие проститься с ним. Никогда не думал, отметил Евгений Викторович, что у него на похоронах будет столько народа. Народ всё солидный. Купечество, ничего не скажешь. Среди провожающих он заметил даже Гургена Ашотовича, которого не сразу узнал без его больничного халата. Лицо у него было скорбное, как того требовали обстоятельства, но вместе с тем и удовлетворенное, как у человека, честно выполнившего свой долг.
Евгений Викторович посмотрел на коричневый лакированный гроб. Вот и говори, что прогресс у нас забуксовал. Ведь только вчера, кажется, хоронили в наспех сколоченных из плохо оструганных досок ящиках, которые и гробом-то назвать было стыдно. Да еще неряшливо обтянутых выцветшим кумачом. Он вспомнил, как хоронили Гену, погибшего во взорванном «мерседесе», в котором по чистой случайности Петра Григорьевича в эту минуту не оказалось. Хороший был парень Гена. На кладбище он тогда стоял у самого гроба и всё пытался догадаться, что значили белые буквы на тыльной стороне ткани, просвечивавшие сквозь кумач. Слово «слава» он разобрал, а вот кого именно славил ветхий кумач, так и не понял, то ли КПСС, то ли весь советский народ.
А теперь несли Петра Григорьевича в таком красивом гробу — наверное, итальянский, — что просто грех закапывать его в землю. Господи, что за вздор лезет ему в голову, а может, это и не вздор, а просто цепляется его сознание за всякие мелочи, лишь бы не дать подхватить себя мутному потоку чувств, который несся сквозь него. Была в этом потоке и странная печаль, будто умер не его двойник, не оригинал, а он сам, и немножко стыдное облегчение от того, что не нужно будет больше путаться в каждой мысли о себе среди бесконечных местоимений: он, я, мы. Нет больше оригинала, осталась лишь копия, и надо теперь учиться воспринимать себя всерьез, а не как фальшак.
А вот и подготовленная могила, тоже новомодная, высокотехнологичная — окруженная хромированными поручнями, с которых при помощи маленькой лебедочки можно тихо и пристойно, без мата опустить гроб в землю. А то, что, судя по цене и по красоте, гроб, скорее всего, был итальянский, хромированные поручни, можно ручаться, были «мейд ин Чайна», так мы уже привыкли, что и картошка молодая на прилавках тоже уже «продыос оф Франс». А гробовщики если еще и отечественные, то уже не пьяненькие мужички в телогрейках, которые того и гляди потеряют равновесие и сами рухнут в могилу, а одетые в чистые комбинезоны менеджеры по захоронению, которые приехали на работу в своих «шевроле» или «дэу» и ходят вызывающе трезвые хотя бы потому, что на обратном пути могут и зацапать гаишники.
Октябрьский холодный ветерок нес по дорожке уже давно опавшие и потому жестяно-шуршащие листья, дождя не было, но воздух был перенасыщен влагой, и темно-серые тучи плыли совсем низко над головой, словно заходили на посадку в какой-то невидимый аэропорт неподалеку.
Кто-то коснулся руки Евгения Викторовича, и он увидел, что гроб уже стоял на специальном столике подле могилы. Надо было сказать несколько слов — ведь он президент компании, и хоронят не только основателя «РуссИТ», а еще и человека, который оставил его своим преемником. На какую-то долю секунды Евгению Викторовичу вдруг захотелось крикнуть: братцы, да ведь это и меня тоже хоронят сегодня, а Петр Григорьевич с вами… Но успел, удержался. Что им сказать? Кажется, мысленно он уже давно отрепетировал слова, которые надлежало ему сейчас произнести, но почему-то все они разом выскочили у него из головы, и она была пуста и гулка. Он вздохнул и начал говорить, надеясь, что одно слово зацепит другое, оба потащат за собой третье и так далее.
— Друзья мои, коллеги, о нашем Петре Григорьевиче можно говорить или очень долго или ограничиться несколькими фразами. Потому что он был замечательным человеком. Наша жизнь последних двух десятилетий, казалось, всё время толкала его в наезженную колею нашего отечественного бизнеса — укради, обмани, убеги. Он выбрал другой путь, куда более тяжелый и у нас в стране не проторенный — путь созидания. Отсюда и наш «РуссИТ». И память о нем сохранится в нас, пока существует компания. И еще долго люди будут открывать дверь его кабинета, подсознательно надеясь, что увидят там человека умного, проницательного, готового всегда прийти на помощь. Я могу лишь обещать вам, что сделаю всё, чтобы не разочаровать их. Прощай, Петр Григорьевич.
Он отошел в сторонку — хорошо хоть не разрыдался, удержался все-таки, хотя слезы так и душили его. Себя ведь, если разобраться, хоронил. Он встал рядом с Галей, которая смотрела на него и, словно заведенная, медленно кивала головой.
— Петр Григорьевич был человеком мечты, — сказал Яша, — потому что он лишь казался иногда сухим руководителем, а на деле он до последнего своего дня оставался большим ребенком. Поэтому когда я поделился с ним планами создать новый тип компьютера, он не выгнал меня, не высмеял: американцы, мол, такого не сделали, а ты кто такой, чтобы сделать? Он просто спросил: это реально? И когда я ответил, что да, он лишь спросил, сколько нужно денег для создания прототипа. И вот сегодня в эту печальную минуту я могу сказать вам, что Петр Григорьевич не ошибся, доверившись нам, а точнее, своей мечте. Флэш-компьютер практически сделан, и к Новому году мы уже изготовим прототип. И я думаю, вы согласитесь со мной, что назвать новый компьютер нужно Петр Первый. И аналогия с императором вполне уместна, и имя Петр еще более уместно, и уж тем более слово Первый, потому что это первый в мире прибор такого типа.
Спасибо, дядя Петя. Раскрою вам секрет: так наша команда ласково называла между собой президента компании. Спасибо, дядя Петя.
Что-то хотел сказать Костя, но губы его задрожали, в глазах появились слезы, он тяжело вздохнул и отошел в сторону.
После того как Петра Григорьевича похоронили, все медленно побрели к выходу. О том, что поминки состоятся позже, когда вдова сможет немножко прийти в себя, все уже знали и шли со слегка разочарованным видом, который непроизвольно появляется всегда, когда печалит русскую душу мысль о несостоявшейся дармовой выпивке.
Костя подошел к Евгению Викторовичу, который по-прежнему держал под руку Галю:
— Евгений Викторович, Галина Дмитриевна, я отвезу вас домой. Я хочу сказать, к… Галине Дмитриевне.
— Спасибо, Костя. И вообще пока оставайся поближе к ней, ты ж видишь, в каком она состоянии. Галина Дмитриевна, садитесь. — Евгений Викторович открыл дверцу «лексуса». Галя молча села на заднее сиденье.
Самое трудное начнется, когда они остановятся у дома. Оставить Галю одну было совершенно невозможно. Остаться с ней — еще труднее. И для нее, и для него. Оставалось одно: довериться моменту, довериться инстинкту.
— Галина Дмитриевна, — спросил он, когда «лексус» остановился около дома, — у вас с собой ключи от двери подъезда?
Она молча кивнула, достала из сумочки ключи и послушно протянула их Евгению Викторовичу.
— Похоронили? — спросил их Цербер, когда они вошли в холл.
— Похоронили, — ответил Евгений Викторович.
— Мир праху его, — вздохнула Церберша, — хороший был человек. — В ее всегда подозрительных глазках надзирательницы концлагеря мелькнуло на мгновенье почти человеческое участие. Кто бы мог подумать…
Они поднялись на лифте на третий этаж, и Евгений Викторович открыл дверь квартиры. Теперь уже квартиры только Гали.
— Галина Дмитриевна, — тихо сказал Евгений Викторович, — отдохните немножко. Я… пока побуду с вами. Поймите… я… просто не могу вас оставить… не думайте…
Галя вдруг обняла его за шею и громко зарыдала. Рыдания раскачивали ее, и он крепче прижал ее к себе, чтобы она не упала. Жаль было эту такую красивую и такую несчастную женщину. Жаль и жалостью мужа, который жалел о каких-то сухих без любви и тепла прожитых с ней годах, и жалостью Женечки, который так любил эту несчастную взрослую женщину, которая в глубине оставалась обиженной жизнью девчонкой.
— Галочка…
Она вдруг отпрянула и уставилась на него. Лицо ее дрожало. Глаза опухли и покраснели от слез.
— Женя, — медленно сказала она, — я вижу, ты мучаешься… Ты ни в чем не виноват. Виновата только я, я, я.
— Нет, Галочка, ты не виновата ни в чем. Наоборот, под самый конец жизни, в самые трудные дни ты скрасила ему существование. И стала солнышком для него… А что не стала им раньше… Жизнь ведь запутанная вещь. И какую-то вину чувствовал он перед первой своей женой Таней, хотя никак в ее смерти виноват не был, и разница в годах давала себя знать… Человек Петр Григорьевич был самолюбивый и ему трудно было смириться со своей… неадекватностью, что ли… Но если разобраться, ты любила только его, потому что когда ты была… со мной… я чувствовал, что душа твоя не со мной, а с ним…
Галя смотрела на него почти со страхом.
— Женя, я никогда не могла представить себе…
— Что?
— Что ты так всё понимаешь… Это правда, что ты говоришь?
— Правда.
Нет, он не ошибался, она действительно была в свои тридцать пять совсем девочкой, потому что она по-детски судорожно вздохнула и спросила:
— Значит, мне не нужно ненавидеть тебя?
— По-моему, нет.
О боги, как же хотелось Евгению Викторовичу крикнуть: я не Женя, я Петя твой, и не бояться нам надо друг друга, а держать друг друга в руках! Нельзя, нельзя. Защелкнулся капкан на нем и теперь уже не отпустит до самой смерти. И жить ему — если, конечно, сумеет жить — с болью и тяжестью металлических капканьих зубов, вонзившихся в него.
— Спасибо, Женя. Значит… значит, не такая я уж тварь…
— По-моему, совсем не тварь. Ты самое светлое солнышко на свете.
Ну и что, что опять так рыдала Галя, слезы нужны человеку. Что-то там они, говорят, выводят из организма. Особенно в такие трудные минуты.
— Сейчас я сделаю кофе.
— Спасибо, ты же не знаешь, где у нас что на кухне. Ты же никогда не был здесь.
И снова щелкнула пружина капкана. Поди, объясни, что он эту квартиру знал куда лучше Гали.
— Разберусь.
Через несколько минут, когда он вышел из кухни с двумя чашечками кофе в руках, он увидел, что Галя заснула в кресле.
Он поставил кофе на телефонный столик, осторожно взял ее на руки и отнес на кровать. О, боги…
Яша долго лежал без сна, никак не приходил к нему обычно такой послушный сон. Жаль, жаль было Петра Григорьевича. Всем он ему обязан, начиная от флэш-компьютера до того, что не остался он в Силиконовой долине, тысяч за десять, если не больше, километров от Москвы, от мамы-эсерки и чересчур честного отца. И без Свистуна и Исидора Исидоровича. А лежит вместо этого в своем — в своем! — коттедже, вдыхает запах сосны на своих — своих! восьми сотках и древесный запах стен — своих стен! Вот уж никогда не думал, что запах дерева может быть таким сладостным. Возможно, это потому, что и дом, и дерево и запах были его собственными. Воистину, святое слово.
Вдыхает, но не спит. Потому что всё время мучил его никак не складывавшийся паззл. Иногда паззл отступал куда-то в самые дальние запасники мозга и совсем, казалось, не беспокоил его, а иногда, как сейчас, вдруг снова вылезал на поверхность. И забыть о странностях, подмеченных им у нового президента компании, не мог, и объяснить их не мог. А это не просто раздражало, несложенный паззл зудил его мозг с визгом бормашины и не давал думать ни о чем другом. Ну и что, пробовал не раз уговаривать он себя, ну, странности, не поддающиеся объяснениям. Ну и что? Что, всё остальное в мире уже объяснено? От Большого Взрыва до темной материи, сводящей с ума астрофизиков. От загадок человеческого мозга до тайны счастья. Всё ясно и выбито на скрижалях? Чего ты уцепился за какую-то ерунду? Или у тебя больше нет проблем, от наилучшего и самого компактного варианта архитектуры флэш-компьютера до театральной постановки, намеченной президентом. И всё же, всё же… Ну зачем, зачем ему было врать, что в этом итальянском ресторанчике его все знают? Для чего? Похвастаться перед ним? Смешно. И как может хвастаться более или менее разумный человек вещами, которые тут же оказываются легко опровергнутыми очевидными фактами. Да и сами факты были какими-то совершенно нелепыми: с одной стороны, никто в этом «Ми пьяче» Евгения Викторовича явно не знал, с другой — он же действительно знал меню чуть ли не назубок. Вспомнить только его гимн ветчине прошутто… Все эти тонкости действительно мог знать только знаток итальянской кухни. Странно…
И еще более нелеп был шутливый вопрос о переходе Яши в ислам. Уже потом, восстанавливая в памяти все детали того разговора в ресторане, Яша вспоминал, что Евгений Викторович и сам, похоже, испугался этого вопроса, потому что как бы сразу осекся.
Но ведь Евгений Викторович явно не дурачок. Убогий дурачок такого плана с детектором лжи не придумает. Это ходы вполне на интеллектуальном уровне покойного Петра Григорьевича… Получается странная раздвоенность. С одной стороны, Петр Григорьевич и Евгений Викторович хорошо знали меню ресторана. С другой — никто там Евгения Викторовича в лицо не знал, хотя он утверждал обратное… Он опять вползал в дурацкое кольцо Мёбиуса, у которого одна поверхность незаметно переходила в другую. Нужны дополнительные данные. Ну, хотя бы можно было спросить у Кости, бывал ли Петр Григорьевич в «Ми пьяче». Это сделать совсем не трудно, хотя Костя не любит прошутто и как будто не собирается перейти в ислам… И почему-то у Кости на голове была клетчатая накидка, как она там называется у мусульман… Кажется, куфия. А этот вздор уже значил, что он засыпает. Только не концентрироваться на самом засыпании, а то эта зыбкая граница бодрствования и сна не терпит вглядывания. Лишний раз взглянешь, подумаешь, что засыпаешь, — и сон тут же отступит. Отступит, приступит, наступит…
В девять утра Яша уже звонил Косте:
— Костя, доброе утро, это Яша, он же, с вашего разрешения, вице-президент «РуссИТ». Я вас не разбудил?
— Господь с вами, господин вице-президент, — рассмеялся Костя, — вы не только не разбудили меня, вы даже скоро меня увидите. Я уже на полпути к вашему сосновому раю, нужно поговорить.
— Чудесны дела твои, господи, я как раз думал о том, чтобы спросить у вас об одном деле.
— Потерпите немножко, господин вице-президент. Помните, как говорил Петр Григорьевич? Никогда не говори сейчас того, что можешь сказать позже. Может быть, ты еще передумаешь. Несказанное всегда интереснее сказанного. Больше вариантов. Кофе будет, шеф?
— За «шефа» спасибо. Принимаю это как комплимент. Ты же так Петра Григорьевича звал. Бегу ставить кофе.
Когда Яша разлил кофе по двум разномастным чашкам, Костя спросил:
— Теперь можешь спрашивать. Что ты хотел спросить?
— Скажи, Петр Григорьевич часто бывал в итальянском ресторане «Ми пьяче» около Пушкинской площади?
— А в чем дело? — Костя бросил подозрительный взгляд на вице-президента, и Яша отметил про себя странную настороженность начальника службы безопасности фирмы.
— Да так, потом как-нибудь объясню. Так бывал?
— Не просто бывал. Ему этот ресторанчик очень пришелся по вкусу. Несколько раз всё меня уговаривал подняться с ним. Но у меня правило: сохраняй дистанцию. И между машинами и между людьми, особенно когда ты на работе.
— Спасибо, Костя…
— А все-таки для чего это тебе?
— Да так, ничего. Какие у тебя дела?
— Евгений Викторович просил передать, что наш китаец, судя по всему, или уже в Москве или вот-вот пожалует. И вся эта затея с полиграфом может оказаться довольно полезной. Завтра утром Свистунов должен появиться в офисе. Анна Николаевна сегодня позвонит и скажет, что шеф назначил ему встречу на десять утра. И ровно в десять шеф начнет распекать его за отказ пройти испытание на детекторе лжи. Предупреди его, что Евгений Викторович неплохой актер, и разнос будет в высшей степени правдоподобный. И громкий.
— Что значит громкий?
— То и значит. Важно, чтобы крики слышала Анна Николаевна.
— Так она…
— Скорее всего, да. Не забывай, что я все-таки начальник службы безопасности и кое-что знаю. В частности, что она спит с нашим многоуважаемым Юрием Степановичем и во сне видит, как он бросает законную супругу и переезжает к ней.
— Ну что ж, спасибо за информацию.
— Это еще не всё, ради чего я приехал.
— Слушаю.
— Скажи, Вундеркинд, а можешь ли ты со своими ребятками приспособить какой-нибудь маячок, чтобы он в случае необходимости был у Свистуна, и мы могли бы отслеживать его перемещения?
— Да и делать ничего не надо. Не знаю еще как работает наш российский ГЛОНАСС, но с ДжиПиЭс сталкивался. Очень точная система, между прочим, местонахождение объекта определяется с точностью до метра-двух.
— Ты не совсем понимаешь, о чем я говорю. Если дело дойдет до того, что наш уважаемый акционер господин Фэн захочет побеседовать со Свистуном в укромном местечке, допустим, где-нибудь на даче, его помощники — надо думать, не совсем уж круглые лопухи — вполне могут захотеть проверить, нет ли на нем спрятанного диктофона или чего-нибудь еще подозрительного. В том числе и маячка. Противника лучше переоценить, чем недооценить. Я это еще в Чечне хорошо усвоил. Сколько там наших ребят полегло от того, что не все это помнили… Да что б эти бородачи что-нибудь соображали в боевых действиях? Да никогда. Это тебе не зад кверху задирать, молясь Аллаху. А соображали. Да еще как. И бесстрашны так, что никак мы не могли понять, откуда это у них, от ненависти к нам или от стремления побыстрее попасть в свой мусульманский рай.
— Значит, ты хочешь, чтобы мы переделали маячок так, чтобы хотя бы при поверхностном осмотре его нельзя было обнаружить?
— Именно.
— Надо посмотреть. Костя. Думаю, что-нибудь можно попробовать сделать.
— С богом, Вундеркинд.
— Скажи, Костя, — задумчиво спросил Яша, — а Свистуну опасность не будет угрожать?
— Не боись. Для того-то и нужен маячок, чтобы мы всё время были около места встречи. Если место встречи изменить нельзя, то уж контролировать его мы просто обязаны.
12
Свистун подошел к Анне Николаевне. И чего я, дурак, никогда в самодеятельности не участвовал, думал он, знал бы сейчас, как изображать испуг. Он на всякий случай шмыгнул носом и попытался пригладить ладонью вихры волос.
— Анна Николаевна, как там президент? — испуганно спросил он. — А то вы вчера звонили, что он вызывает меня к десяти.
— Вообще-то озабоченный какой-то, Олег Игнатьевич. Я как всегда ему кофе заварила, он утром любит кофе покрепче, Петр Григорьевич тоже любил. Принесла, а он даже не посмотрел в мою сторону, спасибо не сказал. Сейчас я спрошу, можно ли вам зайти. — Она щелкнула тумблером внутренней связи и спросила: — Евгений Викторович, к вам Свистунов из лаборатории.
— Пусть зайдет, — рявкнул президент так, что Анна Николаевна вздрогнула и испуганно откинулась на спинку своего вращающегося креслица. Она с сочувствием посмотрела на посетителя, вздохнула и едва заметно пожала плечами, ну что тут сделаешь, сам видишь, в каком он настроении.
Свистунов робко, бочком, вошел в кабинет.
— Евгений Викторович, доброе утро, вы меня вызывали?
— А, борец за гражданские свободы, — хмуро сказал президент, поднял глаза от бумаг, которые лежали на столе, посмотрел на Свистунова и вдруг хитро подмигнул ему. Свистунову сразу стало легко и весело, и предстоявшая сцена уже не казалась тягостной, а наоборот забавляла его. — Рассказывай, — загремел президент, — чем же тебя так оскорбил обыкновенный детектор лжи? А? А может, дело вовсе не в твоей аллергии, черт тебя возьми, на нарушения каких-то там прав, а в том, что ты просто боишься проверки? Я вообще заметил, что люди особенно цепляются за высокие принципы, когда совесть не чиста и есть, чего скрывать. Чего ты молчишь? Может, тебе действительно есть чего бояться? Ну! Выкладывай, что ты так уперся!
— Да нет, Евгений Викторович… я… я, Евгений Викторович, хотел…
— Я догадываюсь, что я Евгений Викторович. Ты мне все-таки объясни, почему ты отказался от испытаний! Ты же знаешь, что компьютер почти готов, что кое-кто за него не только какими-то паршивыми и придуманными правами пожертвовал бы, мешок бабла выложил бы. А ты вдруг со своими правами! Никого проверка на полиграфе не ущемляет ни в каких правах, а у него, видите ли, аллергия на них! — Евгений Викторович снова подмигнул Свистунову. — Ну, долго будем в молчанку играть, а? Эх, старого доброго КГБ на вас нет, они бы вам быстро разъяснили, где у кого какие права. Съездил бы следователь разок-другой по морде, и ты, выплевывая выбитые зубы, сразу увидел бы, у кого какие права. Идите, Свистунов, и подумайте еще раз. Или вы пройдете проверку, или мы вынуждены будем просто уволить вас. Сидеть и думать, что у вас там действительно на уме — это, простите, не наша забота. Да и времени на детсадовские уговоры у нас уже нет. Всё. Идите.
Свистунов вышел из кабинета. Раздраженный голос Евгения Викторовича скомандовал из динамика внутренней связи:
— Анна Николаевна, сделайте мне, пожалуйста, кофе.
Анна Николаевна сочувственно посмотрела на Свистунова, который совсем по-детски тер скатанным в комок платком глаза, и он понял, что связь, наверное, и не выключалась, и Анна Николаевна слышала всю сцену в кабинете. Он горестно вздохнул и, опустив голову, побрел к выходу. Ну и Свистун, думал он о себе, изо всех сил стараясь не расплыться в гордой улыбке, кто бы подумал, что у тебя еще и актерский талант прорежется. Ну, в Художественный, может, и не взяли бы, но в любом сериале уж точно бы сыграл.
— Юрочка, — позвонила во время обеденного перерыва Анна Николаевна Юрию Степановичу, — может быть, ты зайдешь ко мне вечерком?
— Аня, — раздраженно ответил он, — я же просил тебя не звонить мне в офис даже по мобильному. По-моему, я это доходчиво объяснил.
— Я знаю, знаю, мой милый, но мне что-то нужно тебе срочно рассказать…
— Что? Что ты соскучилась?
— Не шути так. Нет, сегодня шеф устроил настоящую взбучку Свистунову… Ну, этому полненькому из лаборатории… Интересен не факт взбучки, на то и начальство, чтобы давать взбучку, а вот из-за чего…
— Хорошо, Анюта, — сказал Юрий Степанович внезапно потеплевшим голосом. — Часов в семь или в половине восьмого.
— Хорошо, Юрочка. А может быть, ты останешься… Я приготовила твои любимые картофельные драники со сметаной.
— Я бы с удовольствием… но… жена, ты же понимаешь, мы сто раз обсуждали всё это с тобой. Вот когда…
— Я понимаю, милый.
Юрий Степанович снял пальто, и Анна Николаевна, даже не подставив привычно щеку для поцелуя, тут же аккуратно повесила его на плечики. Господи, подумал Юрий Степанович, какое счастье, что у него хватает ума успешно защищаться от Аниных картофельных драников и неукротимой страсти к плечикам и пластиковым мешкам на молниях, в которых все ее вещи висели в шкафу. Иногда ему казалось, что останься он у нее на день, она, нафаршировав его драниками, засунула бы его в большой пластмассовый мешок и повесила на прочных деревянных плечиках в шкаф.
— Так что там случилось? — спросил он. — За что он ругал Свистунова?
— Ты представляешь, за то, что парнишка отказался проходить испытание на… сейчас вспомню, как это называется… ага, полиграфе.
— А при чем тут полиграф?
— Он отказался из-за того, как я поняла, что это, по его словам, нарушает его гражданские права.
— Ничего не понимаю. А для чего сама проверка-то?
— Евгений Викторович сказал, что сейчас, когда работа над новым компьютером подходит к концу, многие бы отдали всё, чтобы узнать, как он устроен. Поэтому-то он решил проверить всех сотрудников лаборатории. Не появились ли у кого-нибудь из них подозрительные контакты.
Юрий Степанович почувствовал зуд охотника. Он еще не совсем понимал, кто здесь на кого и за чем охотится, но зуд положительно был, даже до кончиков пальцев доходил. И похоже было, что не зря он тогда говорил этому выскочке, что в отличие от него знает всё об ИТ-бизнесе. Может быть, не зря он говорил себе, что еще неизвестно, на чьей улице будет настоящий праздник, кто будет запускать фейерверк и кто будет заказывать музыку.
Да, конечно, у выскочки была эта дурацкая пленочка, это его козырь, тут не поспоришь, но какое это может иметь значение, когда «РуссИТ» сменит хозяина и даже неизвестно в таком случае, как компания будет называться. Да и будет ли она вообще. Ведь не сама компания нужна Фэну, а патенты. Уж от такой услуги, от такого поистине царского подарка китаец отказаться не сможет. Такое ему и во сне не снилось. Надо только подумать, как обезопасить себя, какие условия поставить Фэну и как их оформить, чтобы ни один комар, даже китайский, носа не подточил. А то ведь ищи потом ветра в поле. Простите, достопочтенный Юрий Степанович, скажет он, вежливо покачивая блестящей лысиной, а вы-то здесь при чем? Договаривались? Что-то я не помню, чтобы мы с вами о чем-то договаривались, вы меня очевидно с кем-то спутали… Нет уж, теперь и мы ученые, хоть Конфуция вашего не знаем, лаптем щи хлебать не будем. Так-то, досточтимый господин Фэн.
Молодец, Анюта, в припадке благодарности подумал он, вот уж кто не продаст и не предаст.
— Ань, знаешь, может, я и правда рискну. Останусь на ночь. Конечно, старая дура будет ворчать, но, может, оно и к лучшему. Сейчас позвоню ей, а то она все морги обтрезвонит. — Он хмыкнул. — В тщетной надежде, что я уже там, с номерком на ноге… К этому всё шло…
— Правда? — просияла Анна Николаевна. — Я прямо как чувствовала, выстирала и нагладила твою пижаму. На кровати разложена. А вдруг, думаю, останется сегодня…
— Давай твои божественные драники. Капля чего-нибудь такого крепенького у тебя найдется?
— Для вас, Юрий Степанович, в этом доме всегда найдется то, что вам сейчас нужно. Коньяк или водочки? Есть еще горилка с перцем.
— Не будем обижать братьев малороссов, какие б там политические споры не велись, ставь, мать, горилку…
Ну что ж, силки расставлены. Кто в чьи попадет, он ли в Фэновы или Фэн — в его — это уже другой вопрос. Чьи силки лучше замаскированы, лучше расставлены и в лучших местах. Сейчас остается только ждать. Ждать и думать о Гале. Как он удержался тогда, когда нес ее после похорон на руках к ее кровати, удержался от того, чтобы прижать ее к себе и нащупать пальцами ее позвонки, этого знать не дано никому. Хорошая баба, баба в самом лучшем смысле этого слова. И как Петя, я, мы сразу этого не поняли, не почувствовали этого. И нужны были какие-то импульсы, оставшиеся от Женечки при пересадке мозгов, чтобы почувствовать ее естество, почувствовать ее скрываемую сексуальность, страх перед жизнью, столичной жизнью, которая представала перед этой простой, в сущности, девчонкой из Рыбинска, надо думать, далеко не самой лучшей своей стороной. У каждой столицы есть изнанка, а Москва, как ему порой казалось, была одной сплошной изнанкой. Попробуй не потеряться в ней и не потерять себя. Немудрено, что Галя была так скована с мужем. Был он для нее, похоже, последним спасательным кругом в этом опасном и холодном жизненном море. И смертельно она боялась выпустить его из рук. Потому что выпустишь — и уж точно не выплывешь. Хоть на панель иди. Да и там-то тоже, наверняка понимала она, никто никого не ждет с хлебом-солью. Особенно в тридцать пять. Там своя конкуренция и своя иерархия.
И сейчас она, бедняжка, должна испытывать этот страх остро, как никогда. Она-то наверняка понимает или как минимум смутно догадывается, какая охота может начаться за ней сейчас, когда она, одинокая красивая молодая женщина, осталась хозяйкой роскошной в несколько миллионов долларов квартиры в центре Москвы. И как ей помочь? Конечно, самое простое было бы ему вернуться на место перед японским петухом, место, которое Петя освободил для него. Строго говоря, на свое место к своему петуху. Самое простое и самое невозможное. Потому что Галя всё равно будет подсознательно считать себя в таком случае предательницей. И это предательство опять станет непроходимой ничейной полосой в их жизни.
Наверное, как и в случае с силками, надо ждать. Ну а возвращаясь к господину Фэну, он, надо думать, начнет с меня. Старый упрямец Петр Григорьевич не захотел продать ему компанию, какие-то, наверное, думал китаец, чисто русские таинственные сантименты удерживали его. Основатель и всё такое. Но почему бы не сделать это неопытному человеку из Томска? У него-то сантиментов Петра Григорьевича быть не должно, прикидывал наверняка хитрый ванкуверский лис. Вопрос мог упереться только в цену, но похоже, что достопочтенный господин Фэн не остановится ни перед чем, чтобы только заполучить компанию и — главное — флэш-компьютер. То-то будет он неприятно разочарован…
Юрий Степанович позвонил Фэну в гостиницу. Интересно, как это ему удается каждый раз останавливаться в одном и том же номере? Они что, держат его для него круглый год? Чушь какая-то лезет в голову. И всё равно не хотелось ему идти в гостиницу. И не потому, что ожидал от новоиспеченного президента «РуссИТ» какой-то сверхъестественной хитрости в виде наблюдения за гостиницей. Хотя всё может быть. Кто бы мог подумать, что этот томский лопух на деле окажется эдаким расчетливым и безжалостным интриганом. Ни на йоту не лучше покойного Петра Григорьевича. И все-таки не стоит демонизировать этого томского гаденыша. Ну, повезло ему с этим мерзавцем ЮЮ, который продал томичу пленочку, но не его ж это заслуга, так уж просто получилось.
А не хотелось ему, наверное, идти в гостиницу по другой причине. В номере хозяином был китаец, посмотрите в окно на Красную площадь, какой сказочный вид, налить вам бурбона, очень рекомендую и тэ дэ и тэ пэ. Лучше им пройтись по набережной Москвы-реки до Театра эстрады. На нейтральной, так сказать, почве. Лишить китайца с его Конфуцием его вежливо скрываемого превосходства. При котором он был хозяин, а Юрий Степанович — гость.
Фэн согласился с предложением прогуляться, и теперь они медленно шли по набережной. По серой совсем уже осенней неприветливой воде торопливо проплыл явно пустой речной прогулочный трамвайчик, словно торопился занять удобное местечко на зимней стоянке. Октябрьские скучные облака, наоборот, плыли совсем медленно. Уж им-то точно некуда было спешить. Время наступало самое облачное.
Юрий Степанович ждал, что сейчас его спутник спросит о том, как обстоят дела в компании, но господин Фэн шел молча, наверное, ожидая с чисто восточным терпением, когда заговорит Юрий Степанович. Восточное терпение явно брало верх, потому что Юрий Степанович не выдержал и сказал:
— Господин Фэн, у меня есть для вас весьма важное сообщение.
— Слушаю вас, достопочтенный Юрий Степанович.
Ишь ты, почему-то рассердился Юрий Степанович, «достопочтенный», дает мне понять, как нужно обращаться к нему. Черта с два, теперь мы на равных, лысый ученик Конфуция, и лебезить я перед тобой не собираюсь.
— Думаю, даже не думаю, а уверен, что в случае, если Евгений Викторович упрется и не захочет принять ваше предложение о продаже, и вдова не захочет, есть совсем другой подход, куда более обещающий.
— Слушаю вас, друг мой.
Вот уже и другом стал. Какой прогресс. Подожди, дружок, сейчас я ухвачу тебя за одно место и мы будем говорить как деловые люди. Юрий Степанович чувствовал, что заводил себя, собирая волю в кулак. Почему-то безумно тяжело было ему разговаривать с китайцем. Или это его надраенная блестящая лысина так на него действовала? Гипнотизеры ведь, говорят, пользуются всякими блестящими штучками, чтобы усыпить пациента. Ладно, господин Фэн все-таки не Кашпировский какой-нибудь, чтобы усыплять его.
— Понимаете, господин Фэн, — не досточтимый, а просто господин Фэн, — мне бы хотелось обговорить условия, на которых я буду готов поделиться с вами своей эксклюзивной, — он голосом подчеркнул слово «эксклюзивной», — информацией.
— Вполне разумно.
— Допустим, вы обещаете мне золотые горы…
— Что значит «золотые горы»? Это такое выражение?
— Это такое выражение, но учитывая все обстоятельства, моя информация может действительно оказаться золотой.
— Я весь внимание, досточтимый Юрий Степанович.
— Это я весь внимание, — ухмыльнулся Юрий Степанович. Кажется, я перехватываю инициативу, теперь только не упустить ее.
— Мне кажется, мы уже обсуждали с вами условия нашего сотрудничества. И сейчас и в будущем. Вы не только останетесь генеральным менеджером компании. У вас же, как вы мне говорили, есть пакет акций компании, и вы должны быть, прежде всего, заинтересованы в том, чтобы компания, а стало быть, и ваши акции стоили во много раз больше, чем сейчас. Так ведь?
— Так. Но ведь и в том случае, если компания останется в руках нынешнего владельца, но уже с новым продуктом, с которым можно выходить на любой рынок, стоимость акций всё равно увеличится.
Фэн Юйсян с трудом подавил раздражение и брезгливость. Вот уж когда слова Конфуция были как никогда уместными: благородный муж постигает справедливость, малый человек постигает выгоду.
— Не хочется обижать вашу прекрасную страну, достопочтенный Юрий Степанович, но неужели вы верите, что сможете выйти на мировой рынок так, как это умеют делать мои соотечественники? Что-то я нигде не видел товаров, особенно в мире информационных технологий, с лейблом «сделано в России». Зато практически всё, от мышек и клавиатуры до последних моделей ноутбуков, делается в Китае.
— И тем не менее сейчас почему-то не я жду от вас китайских секретов, а вы — наших.
— Ну, не будем превращаться в националистов. Мы ведь с вами прежде всего бизнесмены. Итак, что же вы хотите сказать мне?
— Мы, господин Фэн, начинаем ходить по кругу. Знаете, раньше в старой России старообрядцы…
— Кто это?
— Отделившиеся от основного православия сторонники старой веры. Среди них было много крупных купцов, и все они отличались высокой честностью. Пишут, что они заключали миллионные сделки без всяких юристов и договоров, просто скрепив их рукопожатием.
— А, понимаю. Еврейские торговцы бриллиантами в Антверпене и Нью-Йорке тоже ограничиваются рукопожатием.
— Правда? Евреи? Гм… Вот уж никогда не подумал бы… Но я к чему? К тому, что мы всё ходим кругом да около… И всё равно, прежде чем я поделюсь с вами своей информацией, я бы хотел знать, как и чем вы заплатите мне.
Китаец повернул лицо к Юрию Степановичу и тоненько засмеялся.
— Знаете, вы мне сейчас напоминаете мальчишку, который зажал в одной ручонке игрушку, а другую, открытую, протягивает товарищу. Нет, ты мне первый дай, нет, ты мне… Давайте так, мой друг. Вы хоть намекните, о чем идет речь.
— Я вам уже намекал. Речь идет о том, чтобы вы заполучили компанию, точнее, тот продукт, который, как нетрудно догадаться, вас собственно и интересует.
— Допустим. И чего же вы все-таки хотите? Знаете, это, как я заметил, чисто русская черта, когда продавец никак не может решить, что он хочет, и начинается бесконечное топтанье на месте: да я не знаю, да сколько дадите, да сколько не жалко. Потом, правда, выясняется, что хочет продавец нелепо высокую плату, а то и вообще продавать ничего всерьез не намерен.
— Хорошо, господин Фэн. Не будем топтаться на месте. Я хочу пять миллионов долларов, которые вы переведете в указанный мной банк, а также обязательство купить мой пакет акций в «РуссИТ» по рыночной цене.
— Прекрасно, уважаемый Юрий Степанович, прекрасно. Вопрос только в том, что мы, впрочем, как и большинство людей, не любим покупать кошку в мешке.
— Не кошку, — с тихим бешенством прошипел Юрий Степанович, — а кота.
— Пускай будет кот, — вежливо улыбнулся Фэн Юйсян и хихикнул, почему-то прикрыв рот ладонью.
— Мы гуляем уже с полчаса, дошли до Большого Каменного моста, но на самом деле так и не сдвинулись с места. Хорошо, — вдруг решился он, — скажу вам лишь то, что речь идет о возможности сотрудничества с одним из непосредственных создателей флэш-компьютера.
— Это уже что-то, мой достопочтенный друг. Давайте договоримся так. Я попробую уговорить президента компании или вдову покойного президента, если, конечно, она — владелица контрольного пакета акций компании — принять наше предложение. Меня и моих коллег такой строго юридический путь устроил бы больше всего. И я, честно говоря, не вижу никаких разумных причин, которые бы заставили их отказаться. Но если они все-таки откажутся, мы вернемся к вашему предложению. Мы сможем составить договор, хотя, боюсь, это будет непростой задачей. Согласны?
— За неимением лучшего варианта, — вздохнул Юрий Степанович. Черт с ним, пускай пробует договориться с Евгением Викторовичем, посмотрим, что у него получится. А уж тогда-то сам приползет ко мне…
Яша вернулся с двумя чашками кофе в спальню. Оля, надев очки, внимательно читала журнал «Мир компьютеров». Одеяло сползло на пол, и она лежала в одной маечке, которая не доходила ей до пупка. Увидев его, она просияла:
— Ну, господин вице-президент, вам повезло.
— В чем же, госпожа аспирантка?
— Я обожаю, когда мне подают кофе в постель. Хотя больше теоретически, потому что на самом деле никто мне кофе в постель никогда не подавал. А то я уже обдумывала вопрос о том, не обвинить ли вас в сексуальном домогательстве. Секшуал харассмент. Вы успешно домогались меня три раза…
— Но, сударыня, мне показалось, что это вы домогались меня.
— Да, но это вы вынудили меня домогаться вас своими домогательствами меня.
— Сударыня, мне трудно сосредоточиться на таких высоких материях, когда вы лежите передо мной в таком сексуально провокационном виде с обнаженным… обнаженной… Это ничто иное, как типичный секс харассмент, хотя агрессивной стороной выступает женщина. И кто вас научил разговаривать с потенциальным работодателем с обнаженным… обнаженной…
— Это матушка моя. Говорила мне, когда я заявила, что поступаю на мехмат: доченька, хочешь превзойти все науки — превосходи, но главное, работай не головой, а чем тебя господь действительно наградил. То есть… задницей, которая для науки нужна больше, чем что-либо еще. Ну, и… Матушка моя не ошиблась в оценке моих способностей.
— Гм, я как-то до сих пор считал задницу чем-то вполне утилитарным, седалищем в первую очередь. Стулом, который всегда с тобой. Скромность, конечно, украшает молодую женщину, но ведь вы считаетесь в информатике одним из юных восходящих светил, и всё свести к попке… Что-то я не могу вспомнить случая, когда карьера светила основывалась бы на размерах его задницы. И вообще, знает ли кто-нибудь из историков науки размеры задницы, например, Ньютона или Эйнштейна.
— Не знаю, не знаю, господин вице-президент. Я могу отвечать только за свою задницу, а она почему-то вызывает живейший интерес у аудитории, когда я стою у доски или тем более наклоняюсь.
— Ольга, я делаю вам официальное предложение.
— Замуж не пойду.
— А на работу? Пятьдесят тысяч на время испытательного срока…
— Вы уже, кажется, испытывали меня. Три раза испытывали. И судя по нечленораздельным звукам, которые вы издавали, испытания я, по всей видимости, прошла.
Яша рассмеялся, раскрыл объятия, и Ольга ловко вспрыгнула ему на руки, опрокинув его на кровать. Потом она поцеловала его в ухо и нежно-доверчиво положила голову на плечо.
— Яш, а правда тебя здесь Вундеркиндом прозвали?
— Правда.
— Значит, ты уже со всеми в компании переспал?
— Боже, как изящно сформулирована грубая лесть. Кто бы мог подумать: такое юное существо и такая изощренная лесть!
— Для лести и любви, мой потенциальный работодатель, юный возраст не помеха, важны призвание и талант. А теперь выйди, мне нужно одеться.
— Какая логика! Лежать голой на глазах работодателя — пожалуйста, а одеться — это интим.
— Одеться, Яков Борисович, — не раздеться, для этого нужно сосредоточиться.
Удивительная девчонка, думал Яша, выходя с подносом из спальни. Как будто их две в одной. Цепкий математический ум, вполне может быть, что из нее действительно выйдет крупный ученый в области информатики. И в этом же теле совершенно раскованная, чтобы не сказать бесстыжая, бестия. Это уже не двуликий бог Янус, покровитель дверей и всех входов и выходов, а…
Он вдруг замер, стоя с подносом в руках. Два человека в одном. Это же как раз та формула, которая лучше всего подошла бы для Евгения Викторовича. Два человека в одном. Русая шевелюра с бородкой от аналитика Женечки, всё остальное — от Петра Григорьевича. Тогда понятно, почему в итальянском ресторане никто не знал Евгения Викторовича, зато Петра Григорьевича они-то точно знали. Костя ведь подтвердил, что шеф, как он называет его, любил это место. Если допустить на мгновенье, что в этом человеке с бородкой есть и другой человек, а именно покойный Петр Григорьевич, тогда всё становится на свои места, и паззл отлично складывается. С одним маленьким «но». Это же невозможно. Невозможно, точнее, возможно, невозможно. А возможно, и возможно. Мысль, конечно, соблазнительная, помогающая ответить на все загадки, но нелепая.
Ольга вышла из спальни, облизывая свеженакрашенные губы. Она была причесана, на ней была элегантная кофточка, но джинсы она почему-то держала в руках.
Яша покатился со смеха.
— Опять будете домогаться? Ладно, я уже готов смириться с вашими домогательствами, но я категорически против вашего, сударыня, появления в лаборатории без брюк, джинсов, юбки, комбинезона, байкового халата или на худой конец сари. Вас устроит такое требование?
— Я подумаю, господин вице-президент.
Евгений Викторович посмотрел на Галю и отметил про себя, что выглядела она уже немного лучше. Конечно, еще печальна, конечно, казалось, что она разучилась улыбаться. Но время и молодость брали свое. Она была очень привлекательна: великолепные серые глаза, слегка загорелое чуть скуластое лицо, чувственные губы. И не только губы. Он вдруг вспомнил, как первый раз увидел ее пять лет назад в офисе одной компании. Когда был просто Петром Григорьевичем и меньше всего думал о смерти и раздвоении личности. Она не кокетничала, не строила ему глазки, она просто посмотрела на него, посмотрела чуть внимательнее и дольше, чем полагалось бы смотреть на посетителя секретарю генерального директора строительной компании — «РуссИТ» обустраивал тогда новое помещение, и Петру Григорьевичу рекомендовали для строительных и ремонтных работ эту компанию. Взгляд этот был, наверное, и оценивающим, и заинтересованным. Но главное, вспомнил он, было не во взгляде, не в стройной ее фигуре, а в каком-то животном магнетизме, который исходил от нее. Как называются вещества, подумал тогда Петр Григорьевич, которыми самки насекомых приманивают подслеповатых самцов? Феромоны, что ли. О, вокруг нее эти феромоны просто роем роились. И как всякий здоровый мужик — а тогда, в свои пятьдесят семь Петр Григорьевич был еще вполне здоров — он автоматически представил себе эту женщину в постели. И там она в конце концов и оказалась, еще до того, как они поженились.
Но то ли потому, что прошло слишком мало времени после гибели Танюшки, то ли потому, что что-то всё время разделяло их, но так и не сложились у них действительно близкие отношения. И разница в возрасте, разумеется, давала о себе знать, и что-то еще. Может быть, подсознательно побаивался он ее постоянно скрываемой чувственности, может, боялся, чувствовал, что вышла она за него не по любви, а потому что искала опору в жизни — кто знает.
Зато теперь, когда стариковскую подозрительность Петра Григорьевича легко уносила прочь сила молодого тела и скачущие от нетерпения гормоны Евгения Викторовича, когда не память ума — она ведь была стерта — а память тела постоянно напоминала ему, как остро они были счастливы с Галей в те короткие мгновения, когда могли провести вместе часок-другой, теперь, казалось, ничего не мешало им. Увы, только казалось. И не потому, наверное, что Галю еще сдерживала боязнь предательства — ведь в последние дни, похоже, они с мужем в конце концов начали находить друг друга. И пусть совсем ненадолго стала она ему солнышком. Дело, наверное, было и в том, что Евгению Викторовичу тоже мешало чувство вины. Чувство греха. Ведь ограбил, убил же. Крути не крути, а куда деться от этой мысли. Она как какая-то зловещая опухоль словно приняла вахту у той опухоли, что убила Петра Григорьевича. И всё чаще он начал задавать себе вопрос: а стоила ли вообще игра свеч? И сможет ли он радоваться жизни, лишив ее другого ни в чем не повинного человека?
— Галина Дмитриевна, — сказал он, — мне нужно поговорить с вами.
— Слушаю… — она на секунду замешкалась, но тут же решилась, — Женя…
Вот он и стал, наконец, для нее Женей. Впору искать себе нового чудотворца из Удельной, чтоб стер из его памяти память об убийстве. Увы, настоящие чудотворцы объявления в газеты или Интернет не дают. Да и нет их. А если б и были, то всё равно не помогли бы ему, потому что это было бы еще одним убийством. Убийством памяти об убийстве. Опять, одернул он мысленно себя. Рефлексии, бесконечные рефлексии, отравляющие душу русского человека, точнее, интеллигента. Может, для классической русской литературы, для Достоевского и Толстого, это мучительное самокопание и было необходимо, но и оно же, похоже, лишило русскую интеллигенцию воли к жизни, простой радости бытия, и подготовило страну к семнадцатому году. Немудрено, что так азартно многие из них кинулись в объятия марксистов-ленинистов-сталинистов. Нужен им был кто-то, кто освободил бы их от мучительных и иссушающих душу сомнений и вопросов. Вот тогда-то и отпал у них вопрос о смысле жизни. Стало не до поисков смысла жизни. И для тех, кто писал доносы на соседей и коллег, и для тех, кто судил, и для тех, кого судили.
Евгений Викторович вздохнул. Хорошо хоть, что сам он, скорее всего, вовсе и не интеллигент, разве что в вопросе самоедства.
— Женя, вы что-то хотели сказать?
— Ах да… Простите, Галина… — Он вопросительно посмотрел на нее.
— Галя.
— Да, Галочка, друг мой единственный.
— Спасибо, Женя. Вы не представляете, как мне нужен друг. Я ведь теперь совсем одна. Сирота казанская… — Галя попробовала улыбнуться, но не смогла. Никак губы ее в улыбку не складывались. Она посмотрела на Евгения Викторовича и слегка пожала плечами извиняющимся жестом.
— Галя, мне трудно говорить с тобой…
— Почему?
— Мне не говорить с тобой хочется, а прижать тебя к себе, защитить, успокоить.
— Спасибо, Женя.
— На этих днях с тобой, скорее всего, захочет встретиться господин Фэн…
— Кто это?
— Это китаец, точнее, канадец китайского происхождения. Он наш крупный акционер. Он хочет купить нашу компанию.
— Как купить?
— В самом прямом смысле этого слова. Он хочет стать ее единственным владельцем.
— Почему?
— Да потому, что он настоящий хищник. Вежливый, хорошо воспитанный хищник. Если такие хищники бывают. И чует добычу. А добыча — это новый тип компьютера, который мы разрабатываем. Ты ведь слышала об этом. Хочет купить подешевле, зная, что заработает на покупке столько, что и произнести страшно.
— Но я-то для чего ему?
— Со мной он уже говорил. Я категорически отказался, и теперь он попробует уговорить вас… тебя. Он ведь думает, что ты, как вдова, получила по наследству контрольный пакет акций.
— Нотариус ничего мне не говорил об акциях. Петя завещал мне эту квартиру со всем, что в ней, свой «лексус» и, по-моему, сколько-то там денег, точно даже не помню сколько…
— Я знаю. Но господин Фэн этого не знает и надеется уговорить тебя продать ему компанию.
— Я не хочу с ним встречаться. Это Петина компания.
— Я попытался отговорить его, но когда человеку чего-то очень хочется, он не слушает возражения.
— Хорошо, Женя. Если ты говоришь, что нужно, значит нужно.
— Спасибо, друг мой. Можно, я тебя обниму?
— Я думаю, можно. Как ты считаешь, это ведь не очень большое предательство Пети?
— Думаю, нет. Ты ведь не продаешь компанию, наоборот, защищаешь ее от посягательств.
Евгений Викторович нежно обнял Галю, и пальцы его медленно спустились по ее позвонкам вниз. Галя непроизвольно выгнула спину, и серые ее глаза внимательно и испытующе посмотрели на Евгения Викторовича. Она прерывисто, совсем по-детски вздохнула и прижалась всем телом к нему.
— Теперь слушай внимательно. Скорее всего, он позвонит в ближайшие дни, возможно, завтра и будет, я думаю, просить о встрече. По телефону о таких вещах не говорят. Наверное, лучше всего пригласить его сюда.
— Он говорит по-русски? А то я ведь по-английски едва ли десять слов могу пробормотать.
— Еще как.
— Что-нибудь приготовить нужно?
— Ни в коем случае. Предложи ему что-нибудь выпить. Виски у тебя в доме есть?
— Есть, Женя, всё есть. Кроме, — она вздохнула, — Пети…
— Хорошо. Обязательно договорись с Костей, чтобы он был здесь во время приема.
— С Костей? А это… опасно?
— Нисколько не опасно, но всё равно мне будет спокойнее. Можешь представить его как водителя и охранника Петра Григорьевича.
— Хорошо. Мне самой Косте позвонить?
— Позвони сама и скажи, что это я рекомендовал такой расклад. Он поймет. Как-никак он наша служба безопасности. Да к тому же он относится к тебе с уважением. Для него всё, что было у Петра Григорьевича, — свято. Он очень любил своего шефа, как он всегда звал Петра Григорьевича.
— Я знаю, Петя мне говорил, что он самый преданный и близкий ему человек. Если честно, я раньше даже немножко ревновала, дура.
13
— Господа, уважаемые рыцари плаща и кинжала, — торжественно сказал Яша, обводя суровым взглядом Костю, Свистуна и Исидора Исидоровича, — мы присутствуем сегодня при важном историческом событии — мы испытываем новый миниатюрный маячок, созданный нашей лабораторией по заказу службы безопасности компании. Скажу сразу, что задача, поставленная нам Константином Пантелеймоновичем, — Яша почтительно кивнул в сторону Кости, — казалась нам достаточно простой, но очень быстро Исидор Исидорович, который взялся разработать и изготовить маячок, столкнулся с рядом трудностей. Либо маячок оказывался слишком громоздким, либо сигнал его был слишком слаб, чтобы можно было надежно зафиксировать его. В какой-то момент Исидор Исидорович даже предложил мне вскрыть нашего дорогого коллегу Свистуна, для которого этот прибор и конструировался, и вшить ему маячок куда-нибудь в брюшную полость. В крайнем случае, уверил он меня, если и туда маячок вставить не удастся, всегда можно выкинуть какую-нибудь свистуновскую деталь вроде печени или чего-нибудь подобного.
— Не-а, я без печени несогласный, — возмутился Свистун.
— Вас, коллега, не спрашивают, — строго одернул его Яша. — Тем более что Исидор Исидорович в конце концов нашел довольно нестандартное решение задачи и радикально миниатюризировал маячок. Настолько, что стоит подумать над тем, чтобы продать его конструкцию нашим доблестным чекистам. А если денег у них не будет, можно предложить ее и вражеским разведкам. Константин Пантелеймонович, не доставайте, пожалуйста, мобильный и не звоните в ФСБ. Шучу, господа, шучу. А теперь шутки в сторону. Исидор Исидорович, показывайте свой товар.
— Слушаюсь, мон женераль, — Исидор Исидорович отдал Яше честь и поставил на стол портфель, стоявший у его ног.
— Ничего себе портативный маячок, — покачал головой Костя, — в таком портфеле можно и небольшую радиостанцию носить.
Исидор Исидорович укоризненно посмотрел на Костю своими маленькими вороньими глазками и достал из портфеля кроссовку.
— Если не ошибаюсь, дорогой герр Штирлиц, — спросил он у Свистуна, — вы носите обувь сорок третьего размера?
— Да, а откуда… — начал было спрашивать Свистун, но Исидор Исидорович оборвал его:
— От верблюда. Позвонил Константину Пантелеймоновичу, у него в его службе безопасности, оказывается, на всех нас обширнейшее досье, от размера обуви до половой ориентации.
— Ну, ребята, — покачал головой Костя, — с вами не соскучишься. Может, организуете свой КВН? Вы хоть когда-нибудь серьезно разговариваете? А то я никак не могу привыкнуть к вашему стилю. Удивительно, что вы еще находите время что-то делать в своей лаборатории.
— Нам шутка строить и жить помогает, — торжественно пропел Яша и кивнул. — Всё, теперь к делу. Исидор Исидорович, показывайте. И куда же Свистун должен в этой кроссовке засунуть маячок?
— Он уже там, — с достоинством ответил Исидор Исидорович и раскланялся с присутствовавшими. — Можете убедиться.
Свистунов покрутил в руках кроссовку, засунул в нее руку, развел руками:
— Не вижу.
— Что и требовалось доказать, господа присяжные заседатели. Господин Свистун, не соблагоизволите ли вы надеть эту замечательную кроссовку. Вот вам и ее пара, а то будете хромать в одной кроссовке, и это может показаться подозрительным. Не бойтесь, не бойтесь, ваше превосходительство, эти кроссовки не кусаются.
Свистун надел кроссовки.
— Что дальше?
— Идите, идите, молодой человек, — строго сказал Исидор Исидорович, — сходите домой, проверьте, не забыли ли вы выключить утюг…
— У меня нет утюга, — печально сказал Свистун.
— Теперь видите, почему нас презирают в Европе? У человека даже своего утюга нет. А человека без утюга и человеком-то назвать нельзя.
— Господа, я просил вас быть серьезнее. Тем более что в случае успешного выполнения задания я обещаю в качестве награды выделить из своего фонда деньги на утюг для нашего безутюжного коллеги.
— Так я пошел, — сказал Свистунов, направляясь к двери. — Утюга у меня действительно нет, а вот выключил ли я утром плиту, нужно проверить.
Исидор Исидорович достал всё из того же портфеля небольшой мониторчик, похожий на смартфон, включил его и протянул Косте. — Смотрите, вот он движется. Видите?
— Потрясающе, — восхищенно развел руками Ко-стя. — Ребята, вы просто гении.
— Не надо так, — скромно потупился Исидор Исидорович, — это не они. Это я гений. Лучше следите за Свистуном. По-моему, сигнал четкий и достаточно сильный.
— И на каком же расстоянии мы сможем следить за ним?
— Теоретически на любом, даже если наш друг вдруг окажется на Огненной Земле или в Царевококшайске. Это же технология ДжиПиЭс. Наш ГЛОНАСС тоже уже работает, у меня просто не было времени испробовать его. Другое дело, что миниатюрная батарейка сможет прослужить всего час или полтора максимум. Тут уж ничего не поделаешь.
— А куда ты все-таки засунул его в кроссовке? — спросил Костя.
— В каблук.
— Позволь, но в кроссовках каблуки обычно литые…
— А я его и не снимал. Снял стельку, выдолбил углубление и вставил в него маячок. Вот и всё.
— Спасибо, ребята. Значит, так: когда и если Свистунов отправится на встречу с Фэном, он должен надеть эти кроссовки. А как включается маячок?
— От давления. Тем более что давит наш Свистун на всё, по чему он ходит, с силой около восьмидесяти пяти или даже девяноста килограммов, — пояснил Исидор Исидорович. — Правда, я его давно не взвешивал, но не похоже, чтобы он похудел, скорее, наоборот.
— Отлично. Значит, договариваемся так: как только Фэн вступит со Свистуновым в контакт и назначит время встречи, вы тут же предупреждаете меня. А мы с Андреем будем контролировать встречу. Монитор я беру себе?
— Конечно.
Всё вышло так, как Евгений Викторович и предупреждал ее. Господин Фэн предложил встретиться там, где ей удобнее, где-нибудь в ресторане или у него в гостинице, но она настояла, чтобы он приехал к ней и даже послала за ним Костю. И вот он стоит перед ней, почтительно полупоклонившись. Голова у него была безволосая и сияюще отполированная. Галя поймала себя на мысли, что, наверное, в его лысину можно смотреться, как в зеркало.
— Уважаемая Галина Дмитриевна, позвольте поблагодарить вас за то, что вы столь любезно согласились встретиться со мной. И выразить свое глубокое соболезнование по поводу кончины вашего супруга. Я всегда считал покойного Петра Григорьевича незаурядным и талантливым человеком и был о нем самого высокого мнения.
— Спасибо, господин Фэн. Садитесь, пожалуйста. Позвольте предложить вам чашечку кофе? Может быть, вы хотите что-нибудь выпить?
— О, не беспокойтесь, госпожа Илларионова. Я не буду злоупотреблять вашим гостеприимством. — Разрешите, я сяду? А то вы, русские говорите, что у ног нет правды. Так?
— Почти, — улыбнулась Галя. — Не у ног, а в ногах. Садитесь, садитесь, господин Фэн. Я вся внимание. — И чего Женя так пугал ее этим Фэном? Очаровательный китаец или канадец, кто он там. Она и не знала, что на свете есть еще такая старомодная галантность. — Так, может быть, чашечку кофе?
— Спасибо, я тронут вашей любезностью.
— Черный или с молоком? Сахар?
— Черный, высокочтимая Галина Дмитриевна, с одной ложечкой сахара.
— Костя, — крикнула она Косте, который был в кухне. — Поставь, пожалуйста, кофе. Господину Фэну черный с одной ложкой сахара, мне с молоком. — Она повернулась к гостю. — Вы замечательно говорите по-русски. Как вам удалось так выучить русский язык? Он ведь очень трудный.
— Не спорю, очень трудный. Мой высокочтимый отец в свое время настоял, чтобы я учил русский. Я еще был совсем ребенком, мы жили в Гонконге, и папа нашел русскую эмигрантку, уже очень немолодую женщину, которая и занималась со мной. Она утверждала, что она княгиня. Почему-то большинство русских эмигрантов утверждали, что они князи.
— Князья, с вашего разрешения.
— Спасибо, да-да, конечно, князья. Теперь я думаю, что она не только учила меня, но и сама с удовольствием вспоминала русский. Вряд ли в Гонконге ей приходилось много говорить на родном языке. Поэтому-то мой русский немножко… старомодный.
— Что вы, — улыбнулась Галя, — наоборот. Сейчас, знаете, у нас говорят на таком варварском языке, со всякими такими словечками вроде прикольно, клево…
— Как вы говорите? Прикольно? Это значит приколоть?
— Прикольно значит клево, — рассмеялась Галина и поймала себя на том, что смеется впервые после смерти Пети. — Это всё словесная шелуха, и не засоряйте себе ею голову. Вот ваше кофе, — она сняла с подноса, внесенного Костей, чашечку и протянула ее посетителю.
— Спасибо. Прекрасный кофе… Но не будем пробираться в кустах…
— В кустах? — удивилась Галя.
— Простите, Галина Дмитриевна, — тоненько хихикнул китаец и испуганно прикрыл рот рукой. — Это я спутал с английским выражением beat about the bush. Ходить кругом да около. Простите, я просто под таким впечатлением от вашего гостеприимства, от этой элегантной квартиры… совсем растерялся, старый дурачок…
— Не кокетничайте, господин Фэн, — улыбнулась Галя. Так покойно ей было с гостем, так приятно слушать его. А может, потому Женя и предупреждал ее о коварстве этого акционера, что он умел казаться приятным собеседнику.
— Высокочтимая Галина Дмитриевна, мне даже неловко говорить с вами о делах, мне бы просто хотелось смотреть и смотреть на вас. Я настолько старше вас, что решусь даже сказать, что вы очаровательная женщина.
— Теперь я вижу, господин Фэн, что вы просто смеетесь над бедной вдовой.
— О нет, трижды нет! И не говорите, что вы бедная. Вы не должны, просто не имеете права быть бедной.
— Я постараюсь, — улыбнулась Галя, теперь уже догадываясь, к чему ведет китаец, и получая даже удовольствие от игры.
— А я со своей стороны готов сделать всё, чтобы вы даже в шутку не употребляли слово «бедная».
— И как же вы это сделаете, господин Фэн?
— Теперь, когда нашего высокочтимого Петра Григорьевича нет с нами, я бы советовал вам продать компанию вашего мужа. Понимаете, мир информационных технологий страшно конкурентен. Сегодня какой-то продукт пользуется спросом на рынке, производитель стремится побыстрее расширить производство, вкладывает миллионы долларов, а тут неожиданно появляется что-то еще, и вы остаетесь наедине с непроданным товаром и хищными кредиторами. Я не хочу вас пугать, но то же самое может случиться и с «РуссИТ». Зато если бы вы решились продать компанию, доставшуюся вам от Петра Григорьевича, сегодня можно получить неплохую цену. Скажем, миллионов двадцать-двадцать пять. Эти деньги можно было бы поместить в Канаде, где я живу, в надежные государственные бумаги, и вы были бы обеспечены на всю жизнь. Мало того, если бы вдруг вы решили переехать в Канаду, я мог бы помочь вам. И не только с въездной визой, но и с натурализацией. Моя семья ведь приехала в Канаду из Гонконга, и мы прошли через все эти формальности. Поверьте мне, прекрасная страна, добрый приветливый народ. И гораздо спокойнее, чем соседняя Америка. Многие даже утверждают, что Канада лидирует в списке наиболее удобных для жизни стран.
— Вы так… живописуете Канаду…
— О, это истинная правда, Галина Дмитриевна! — пылко воскликнул китаец. — Смею уверить вас, что это даже не правда о Канаде, а крошечная часть правды.
— Я никогда не была в Канаде, — вздохнула Галя, — я вообще мало где была. Мой муж несколько раз брал меня с собой во время поездок в Европу, но это были коротенькие деловые поездки. Два-три дня обычно.
— Поверьте, мое предложение вполне серьезно. Достаточно всего лишь одного вашего слова, и мы сможем договориться.
Господин Фэн широко улыбнулся, и Галя заметила, что лысина его уже не просто блестела, отражая свет от торшера около его кресла, она засияла от какого-то внутреннего света.
— Я бы рада, господин Фэн, обдумать и, может быть, даже принять ваше предложение, но есть одно «но»… — Галя внутренне улыбнулась. А что, она, похоже, и не такая уж дура и вполне справляется с заданием Жени и даже получает от игры удовольствие.
— Никаких «но» существовать не может, — твердо сказал Фэн, в первый раз, заметила Галя, забыв свои высокочтимые обращения.
— Увы, если бы так… Дело в том, высокочтимый господин Фэн, что мой покойный муж был невысокого мнения о моих познаниях в мире бизнеса и завещал мне только эту квартиру и немножко денег…
— Вы хотите сказать, что он не оставил вам контрольного пакета акций? — недоверчиво спросил Фэн. — Как странно…
— Я ж говорю вам, что Петя, Петр Григорьевич был невысокого мнения о моих деловых качествах. Еще кофе?
— Благодарю вас. — Китаец посмотрел на часы. — Боюсь, мне нужно спешить, Галина Дмитриевна. До свидания.
— До свидания, господин Фэн. Может быть, вы хотите, чтобы мой водитель отвез вас?
— Не беспокойтесь, — сказал Фэн и вышел. Он быстро спускался по лестнице, даже не вызвав лифт. Нужно было успокоиться. В глубине души он, наверное, и не рассчитывал, что купит у вдовы компанию. Это было бы слишком просто, чтобы быть возможным. И что, собственно, случилось? Конечно, если бы у него не было запасного варианта, предложенного ему этим идиотом Юрием Степановичем, можно было забыть о всех его планах насчет покупки или на худой конец контроля над «РуссИТ». И если быть уж совсем честным с собой, он сразу почувствовал, когда Юрий Степанович таскал его по набережной и торговался с ним, что это и есть самый реальный вариант. Конечно, лучше было бы идти строго законным и юридически чистым путем, но Учитель говорит, что социальные нормы Ли могут меняться в зависимости от обстоятельств. К сожалению, в этой варварской стране легче купить нужного человека, чем заключить юридически чистый договор о какой-либо покупке.
Он достал мобильный и набрал номер менеджера по продажам Екатерины Громушкиной.
— Громушкина слушает вас, — послышался женский голос.
— Я бы хотел поговорить с Сашей.
— Как вас зовут?
— Фэн Юйсян.
— Секундочку, господин Фэн. — Через несколько секунд уже мужской голос сказал: — Слушаю вас, господин Фэн.
— Нам нужно встретиться, Саша. Вы можете приехать ко мне в гостиницу «Балчуг-Кемпински»?
— Когда вам удобно?
— Чем быстрее, тем лучше. Я буду ждать вас в фойе минут через сорок.
— Хорошо, господин Фэн.
Один четкий человек в этой нелепой стране, и тот… не хотелось Фэну заканчивать эту фразу. Потому что и тот… кто? Бандит? Лучше не знать. Но очень четкий и очень осторожный. Госпожа Громушкина… это ж надо придумать. Он увидел такси и поднял руку.
Накрапывал мелкий осенний дождь, и Александр стоял у входа в гостиницу, раскрыв большой старомодный черный зонт. Настоящий зонт, который в наши дни увидишь только в Сити в Лондоне, отметил господин Фэн. Он же говорил, что мечтает об учебе в Англии. Начал вполне благоразумно — с зонтика.
— Погуляем несколько минут, господин Фэн, — Саша чуть отвел от себя зонтик, давая понять, что места под ним хватит на двоих.
— Хорошо, Саша. Боюсь, что, пришло время действовать.
— С вашего разрешения, господин Фэн, я с самого начала не сомневался, что так оно и случится.
— Почему? — спросил китаец и подозрительно посмотрел на спутника.
— Разница в менталитетах, господин Фэн. На Западе, как я понимаю, бизнесмен пытается решить свои проблемы строго юридическим путем и лишь в крайних случаях прибегает к нарушению закона. У нас всё наоборот. У нас гораздо привычнее, да и проще нарушить закон, и лишь в редких случаях прибегают к юридическим ухищрениям. Мы ведь до сих пор предпочитаем жить не по закону, а по понятиям. Итак, господин Фэн, я весь внимание.
— Здесь существует сравнительно небольшая компания, работающая в области информационных технологий «РуссИТ». Похоже, что им удалось сконструировать довольно интересный компьютер, и я со своими канадскими партнерами хотели бы приобрести эту компанию. Основатель компании о продаже ее не хотел и слушать, но недавно он умер, и я рассчитывал, что новый президент и вдова окажутся более сговорчивыми. Обманывать я их не собирался, это совершенно не в моих правилах, и цену предлагал вполне разумную, до двадцати пяти миллионов. Увы, я лишний раз убедился, как трудно иметь дело с вашими соотечественниками… надеюсь, я не оскорбляю ваши чувства, Саша?
— Нисколько, господин Фэн. Между прочим, если бы вести с ними дела было легче, боюсь, я бы остался без работы.
— Вы не лишены чувства юмора.
— То, чего нам здесь, увы, часто не хватает. Итак…
— К счастью… для меня, естественно… один из создателей компьютера оказался на грани увольнения. Он отказался пройти испытания на детекторе лжи. И по моей информации он был бы готов к сотрудничеству с нами.
— В какой форме? Чертежи? Отъезд за границу?
— Я с ним еще не разговаривал, и все эти детали нужно будет решить уже после встречи с ним, точнее, наверное, во время встречи. Поскольку разговор может получиться долгим и сложным, я плохо представляю себе встречу здесь в гостинице или где-нибудь в ресторане…
— Понимаю. Для таких встреч у меня есть домик в одной подмосковной деревушке. Сейчас осенью, дачный сезон уже кончился, и там практически никого нет. Горожане разъехались, а местных жителей уже давно почти нет: кто спился, кто уже умер. Целиком по Дарвину — выживание наиболее приспособленных. Удобнейшее место для неспешного разговора.
— Прекрасная идея, Саша. Тем более что я теперь все время повторяю себе: с этими русскими никогда ни в чем нельзя быть уверенным заранее. Но будем надеться, что этот человек окажется разумным и сговорчивым. Обычно я привык к тому, что за пять миллионов долларов люди быстро становятся сговорчивыми.
— Пять миллионов? Прекрасный аргумент в споре, господин Фэн. И надеюсь, что деньги сделают свое дело, и мне не придется…
— Нет, нет, Саша, — испуганно дернулся китаец. — Никакого… скажем так, насилия. Этого мне еще не хватало…
— Эти тонкости вас касаться не должны, господин Фэн. Я просто стараюсь учесть все варианты встречи. Думаю, что правильнее всего было бы мне поговорить с этим человеком, а когда я буду убежден, что он всё понял, вы сможете приехать и уже договориться с ним обо всех деталях.
— Вполне разумно.
— Тогда о моих деталях, то есть о плате. Если всё обстоит именно так, как вы говорите, моя работа будет стоить пятьдесят тысяч.
— Я думал…
— Если вам дорого, господин Фэн, я, к сожалению, вынужден буду отказаться. Я ведь не торгуюсь. В моем маленьком бизнесе все стороны должны быть довольны друг другом. Я ведь обеспечиваю транспорт, помощников, плачу за дом и так далее. Но я вас понимаю, если вас эта цена не устраивает, мы можем сейчас же вернуться в Балчуг и пожелать друг другу всего наилучшего.
— Нет, нет, дорогой Саша, — торопливо сказал Фэн. — Я принимаю ваши условия. Но еще раз прошу вас — никакого насилия.
— Боже упаси, господин Фэн, какой толк от мертвого разработчика.
— Пожалуйста, даже не шутите на эту тему.
— Я понимаю вас, господин Фэн. Вы, видно, очень порядочный и мягкий человек, — кивнул Саша, и Фэн искоса бросил на него быстрый взгляд: уж не подтрунивает ли над ним этот элегантный молодой человек с модной короткой бородкой. Но Саша оставался серьезен, и Фэн облегченно вздохнул. Оказаться бы быстрее в родном Ванкувере и заняться действительно интересными вещами — продвижением на мировой рынок нового компьютера. О, это уже была бы его работа. Кто знает, может быть, та чайка, которая столько лет назад приветливо кивнула ему на балконе гостиницы, когда он впервые приехал в Ванкувер в поисках новой родины, уже тогда понимала, что перед ней не просто еще один из множества китайцев, которые хлынули тогда из Гонконга в Канаду. А человек, которому его терпение и судьба приуготовили великое будущее. Как говорил Учитель: не печалься, что тебя никто не знает, но стремись к тому, чтобы заслужить известность.
Дождь усилился, и в лужицах на тротуаре начали пузыриться дождевые капли. Но было не холодно, широкий зонт в твердой Сашиной руке надежно защищал его, и Фэн почувствовал прилив обычного своего душевного спокойствия, которое так пощипали и упрямец президент «РуссИТ» и глупенькая вдова Петра Григорьевича.
Всё будет хорошо, твердо сказал он себе. Всё, что ни делается, всё к лучшему в этом лучшем из миров. И то, что этот липкий и глупый Юрий Степанович в конце концов нашел слабое звено в компании, и то, что ему попался человек, который шел теперь рядом с ним и держал зонтик в твердой руке… Всю свою жизнь Фэн Юйсян гордился тем, что умел по незначительным, казалось бы, деталям разбираться в характере людей, с которыми ему приходилось встречаться, и почти всегда находить с ними общий язык. И то, что он потерпел такую огорчительную неудачу с новым президентом «РуссИТ» и вдовой Петра Григорьевича, немало огорчило его, можно сказать, даже выбило его из его привычного состояния спокойной веры в себя. И только теперь он почувствовал, что все будет, в конце концов, хорошо.
— Значит так, дорогой Саша, вы ожидаете моего звонка… Я хочу сказать, — улыбнулся он, — госпожа Громушкина. Я сообщу имя человека, с которым нам предстоит встретиться, и вы тут же начинаете действовать. Так?
— Так, господин Фэн. Обычно я требую со своих клиентов двадцать пять процентов договорной суммы в виде аванса. Округляя его в меньшую сторону, пусть будет десять тысяч. Разумеется, наличными. Можно и в рублях. Тогда это будет триста тысяч. Мы, к сожалению, еще не достигли уровня, когда можно было бы принимать оплату… назовем их деликатными, дел, кредитными карточками. Кэш, как называют наличные в цивилизованном мире.
— Да, но, боюсь, у меня нет столько наличных…
— Кредитные карточки, надеюсь, у вас есть? — не без легкой иронии спросил Саша.
— Да, конечно. Мастеркард, Америкэн Экспресс, Виза, Дайнерс клаб…
— Можете тогда воспользоваться банкоматом. В крайнем случае, если банкомат не выдаст вам нужной суммы, любой банк вам поможет. Не буду сейчас торопить вас, подвезете аванс, когда сообщите мне имя нужного нам человека. Очень надеюсь, что вы меня не подведете. А то, знаете… — Он улыбнулся, и улыбка получилась такой зловещей, что Фэн невольно вздрогнул. — Договорились?
— О, да-да, конечно.
— Отлично, господин Фэн. Мы пришли. Жду вашего звонка.
— Спасибо, Саша. Я думаю это произойдет в ближайшие дни.
— Жду. Всего вам наилучшего.
— До свидания.
— Спасибо, Галочка, — сказал Евгений Викторович и обнял ее за плечи, — Костя мне рассказывал, как блестяще ты сыграла свою роль. Блеснула еще одна грань в твоих талантах.
— Женя, ты всё смеешься надо мной, — улыбнулась Галя и, откинув голову, внимательно и испытующе посмотрела на него. Так, как когда-то посмотрела на Петра Григорьевича, впервые увидев его и почувствовав его интерес к ней. Он почувствовал, как напрягается, как молодые гормоны весело пришпоривают его: вперед, вспомни, как тебе было хорошо с ней, как прижимал к себе, чувствуя жар ее возбужденного и такого податливого тела. Медленно, осторожно, он прошелся пальцами по ее позвонкам, ощупывая каждый из них, с сожалением оставляя их, чтобы спуститься к следующему. Это был их пароль, условный стук в дверь. Галя выгибалась под его прикосновениями. Пароль был принят. Он поднял ее на руки и понес к кровати. Он не мог понять, почему он покачивается. То ли из-за ее пышущего жаром тела или от возбуждения. Господи, пронеслось у него в голове, если бы Петя, я, мы… если бы…
Он бережно опустил ее на постель и с трудом разделся, так он был возбужден. Еще мгновенье, и он начнет с того, что они всегда делали, когда оставались одни. Но в эту самую секунду что-то вдруг щелкнуло в его мозгу. На краденом теле едешь, пронеслась в его голове гадко-холодная мыслишка, далеко ли на нем ускачешь… И словно не было никакого возбуждения, словно не было только что никакой свирепой эрекции, которая гнала его вперед к постели и прекрасной страстной женщине, с которой так сладостно они любили друг друга. В том-то и дело, вдруг отчетливо произнес какой-то голос, не поймешь, то ли его, то ли чей-то еще. То был настоящий человек, влюбленный в настоящую женщину. А теперь… Женщина была та же, и смотрела на него с испуганным недоумением, а вот Евгений Викторович, Женя, был уже другой. Был ведь это не настоящий ее любовник, а фальшак. И не нужно было никаких сложных экспертиз, чтобы определить, не подделка ли. Подделка, подделка. Элементарнейшая подделка. Фальшак, как говорят музейщики. Никчемный в сексуальном отношении человек, решивший въехать в половой рай на чужих гормонах. И чем яснее он понимал, что и в новом теле он в постели превращается в немощного Петра Григорьевича, тем безысходнее казался ему тупик, в который он забрел. Конечно, сколько-то времени можно откупаться от нее «солнышком» и якобы понятной обоим мыслью о том, что это все-таки предательство того человека, с которым она прожила почти пять лет, что время всё лечит и подобными заклинаниями… Но он-то чувствовал, боялся, знал, что ничего время не вылечит, и ни в чем не повинный покойный Петр Григорьевич будет всё время лежать третьим в их кровати, превращая ее из ложа любви в камеру пыток. Умнее-то всех оказался удельнинский гений Семен Александрович. Уж он-то знал, что не сможет жить с таким грузом. С убийством, да, с убийством, друг мой, привыкай к этому слову. И он-то спел свою лебединую песнь, заплатив высокую цену за преступную гениальность, и спит сейчас спокойно на своем еврейском кладбище рядом с матерью. А он…
Даже не поворачивая головы, Евгений Викторович прекрасно видел Галю. Телом, затылком чувствовал ее опечаленный взгляд. Уж кто-кто, а она-то знала, что значат эти внезапно разжатые объятия, это чувство тягостной неловкости, когда и спросить ничего нельзя, потому что любой вопрос может показаться оскорблением. Вот отчего Петя, я, мы всё пытались выискивать в ней и скованность, и отстранение, и холод. Себя пытались оправдывать, всё цеплялись за это жалкое оружие импотентов. Бедная Галя, она-то в чем виновата? И как ей объяснить, что произошло и что, увы, скорей всего, и будет происходить? Нельзя даже представить себе. Нет уж, единственное, что он может сделать для этой, в сущности, верной, доброй и красивой женщины — это ни за что и никогда даже не пытаться затягивать ее в болото безумия.
— Галочка, — печально сказал он, — ты ни в чем не виновата. Ты должна понять, что это целиком моя вина…
— Не мучай себя, Женя. Никто ни в чем не виноват. Ты не только дал мне силы не сойти с ума, когда Петя даже не хотел смотреть в мою сторону, и мне казалось, что я какая-то предательница, которая не хочет, не может понять состояние мужа. Ты и теперь верный друг, а это, поверь, в миллион раз важнее для меня, чем просто трахнуться с кем-нибудь. Я ведь теперь, — невесело ухмыльнулась она, — богатая вдовушка. Могу выстраивать любовников в очередь. Чтоб номерки писали на руках химическим карандашом, как писали когда-то в очереди за колбасой, мне мама рассказывала. У нас в Рыбинске вообще жрать нечего было. Картошкой где разжиться — уже была удача…
— Храни тебя господь, солнышко, — сказал Евгений Викторович, и Галя посмотрела на него почти с испугом. Наверное, произнес он слово «солнышко» совсем так же, как Петя. Как я…
— Садитесь, Оля, — Исидор Исидорович открыл дверцу своей «гран витары». — Оля, я не ошибся?
— Нет. Я действительно Оля. Ольга Игнатьевна Филева.
— Яков Борисович попросил меня подбросить вас до Москвы. Я еду в офис.
— Спасибо. С кем имею честь?
— Меня зовут Исидор Исидорович. Что вы так на меня смотрите? В миру я был Игорем Сидоровым и очень страдал от того, что ничем не выделяюсь. Ни внешностью, ни именем. А потом, как-то подписав статью «И. Сидоров», превратился сначала в Исидорова, а потом уже коллеги сделали меня Исидором Исидоровичем.
— И что? — спросила Оля. — Помогло?
— Еще бы! Сидоровых много, а Исидоров Исидоровичей на всей территории Российской Федерации, как я выяснил, всего один. Очень зауважал себя. А когда посмотрел в зеркало и увидел, что мои маленькие черные глазки к тому же блещут, оказывается, умом, я просто влюбился в себя.
— И что, со взаимностью?
— До гробовой доски, — улыбнулся Исидор Исидорович. — А вы… просто к господину вице-президенту изволили приезжать или будете у нас работать?
— Не знаю еще, Яков Борисович действительно звал меня, но я бы хотела сначала представить себе, что у вас за атмосфера и что я могу у вас делать. Ну, не считая, разумеется, принятия поклонения и восхищения мужской части вашей лаборатории.
— Боже, Ольга Игнатьевна, я уж и забыл, что на свете бывают такие скромницы. — Они посмеялись, и Исидор Исидорович спросил: — А вообще-то у вас специальность какая-нибудь есть?
— Я аспирантка мехмата МГУ и специализируюсь на теоретических проблемах миниатюризации в информатике.
— О, это уже совсем близко к нам.
— К сожалению, я чувствую, что захожу в тупик. То есть не сама я, мне до тупика еще далеко, а всё наше неуемное стремление к миниатюризации. Уменьшить-то любой носитель информации уже не фокус, скоро можно будет на рисовом зернышке записать всю Британскую энциклопедию, а вот как работать с этим зернышком без мощных микроскопов и манипуляторов — вот в чем проблема. А то ведь в одной какой-нибудь крошечной паршивой хромосомке информации хранится столько же, сколько ее в четырех тысячах толстенных томов. Представляете, какие библиотеки мы таскаем на себе? Куда там Ленинке. А ведь начиналось-то всё с гигантских вычислительных машин. Помните, американский ЭНИАК, построенный в сорок шестом году, занимал несколько комнат и потреблял энергии что небольшой городок. А сегодня любой ноутбук, да что ноутбук, нетбук или даже карманный коммуникатор во много раз мощнее и быстрее своего громоздкого предка. Но пальцы-то человеческие не уменьшишь, и глаза не увеличишь. И сегодня уже трудно управляться с маленькими клавиатурами. Вот я и боюсь, что вскоре нам придется не столько уменьшать размеры наших приборов, сколько уменьшать размеры людей.
— Прекрасная мысль, Ольга Игнатьевна… Я б в бактерии пошел, пусть меня научат. Только у них, бедных, и рук-то нет. И цивилизацию они, боюсь, вперед не двинут. Назад — пожалуйста, но вперед…
— Вы абсолютно правы. К тому же, Исидор Исидорович, меня мучает еще одна мысль. Совсем уж непрактичная. Почему, для чего человеческий мозг может содержать такие невообразимые объемы информации? Природа ведь никогда ничего бессмысленного и лишнего не создает. Потому-то для создания простейших организмов, не говоря уже о высокоразвитых, ей потребовались миллионы и миллионы лет бесконечных проб и ошибок. Представляете, в моей бедной головенке может храниться единиц информации больше, чем всех элементарных частиц во всей Вселенной. Может быть, кажется мне иногда, мы носим в себе потенциальные вселенные, и не в миллиардах световых лет от нас надо искать их пределы, а в своих головах…
— Ничего себе гипотезы, Ольга Игнатьевна… Ой, боюсь нелегко вам будет замуж выскочить.
— Это почему же, Исидор Исидорович?
— Ну, с проблемой борща еще можно как-то справиться, всякие там полуфабрикаты… Но лежать в одной кровати с целой Вселенной — это ведь не всякий сможет выдержать.
— А я Вселенную оставлю в прихожей.
— Прекрасная мысль, Ольга Игнатьевна, — улыбнулся Исидор Исидорович. — Глядя на вас, никогда не подумал бы, что вас интересуют такие вопросы… А если серьезно, действительно, идите к нам. У нас очень демократичная атмосфера. Всеми делами в лаборатории управляет Великий Визирь Яков Борисович и двое визирей отцов-основателей. Некто Свистунов по прозвищу Свистун и ваш покорный слуга. Никаких тебе споров, никаких обсуждений — всё, повторяю, очень демократично. У нас сотрудников даже не секут и не сажают в карцер. Практически гражданское общество в пределах одного коллектива. Идите к нам, а? Как вам удобнее, довезти вас до метро или по какому-то адресу?
— Спасибо, Исидор Исидорович, метро меня вполне устроит. И спасибо большое. Было очень приятно познакомиться с вами.
— Фамилия нашего друга Свистунов, — сказал Фэн, набрав на своем мобильном телефоне номер Громушкиной-Саши.
— Спасибо, — ответил Саша. — Поразительное совпадение, будем считать это хорошим предзнаменованием. Название деревушки, где мы устроим вам встречу, Свистуха. Свистунов и Свистуха. Специально не придумаешь. Как только я с ним переговорю, и мы назначим время встречи, я тут же позвоню вам, и вы к условленному времени должны быть готовы. Я пришлю за вами машину.
— Спасибо, дорогой Александр, — с чувством сказал Фэн Юйсян. Хоть один четкий и надежный человек в этой какой-то раздражающе-зыбкой стране. Быстрее бы закончить эту затянувшуюся эпопею. Он поймал себя на том, что думал о Ванкувере даже с какой-то нежностью.
— И пожалуйста, господин Фэн, не забудьте о наличных. Кредита, увы, предоставить вам я не смогу.
— О, всё будет в порядке. Я получил в банке всё, что нужно было.
— Отлично.
— Господин Свистунов? — спросил Саша. Узнать номер мобильного сотрудника лаборатории оказалось совсем нетрудно.
— Слушаю.
— Вам удобно разговаривать?
— В каком смысле?
— Никто вам не мешает? Я имею в виду лишнюю пару ушей.
— Да нет как будто тут только мои собственные. Немножко оттопыренные, но как будто мои.
— Прекрасно. С вами очень хотел бы встретиться один человек…
— Что за человек и по какому вопросу? — подозрительно спросил Свистун. Он нисколько не волновался, скорее даже чувствовал облегчение от того, что ожидание, наконец, подошло к концу. После сцены, разыгранной в кабинете Евгения Викторовича, у него даже появился вкус к небольшим театральным этюдам. Ничего не поделаешь, подвел он как-то мысленно итог своему новому увлечению: драматический талант требует выхода на сцену.
— Человек чрезвычайно заинтересованный в вашем сотрудничестве.
И чего там говорят о какой-то системе Станиславского, подумал Свистунов. Зачем? Когда есть талант, никакой системы, оказывается, и не надо.
— Сотрудничестве? Не понимаю, — дурашливо переспросил он и тут же напомнил себе: только не переиграть и не выглядеть совсем уже полным идиотом. А то, чего доброго, решат, что с таким дебилом не стоит связываться.
— Именно в сотрудничестве. У моего клиента сложилось мнение, что в компании вас не ценят так, как вы, безусловно, того заслуживаете. Ну а раз так, мы готовы щедро оценить ваши знания.
— Щедро? — неуверенно спросил Свистун.
— О, да. Более чем щедро. Речь идет о кругленькой сумме.
— Насколько кругленькой? — оживился Свистун.
— Это вы решите уже при встрече с моим клиентом, но я полагаю, что можно смело говорить о сумме с шестью нулями…
— Рублей?
— Ну зачем же рублей? Доллар пока еще довольно привлекателен, что бы ему ни предрекали.
— Выходит, миллионов тридцать рублей, так, что ли?
— Совершенно верно.
Свистун присвистнул, и человек, говоривший с ним, рассмеялся.
— Добрые предзнаменования всё умножаются. Мало того что встреча моего клиента с вами, господин Свистунов, состоится в деревне Свистуха, вы к тому же только что и присвистнули. Вас устроит, если мы встретимся с вами завтра часов в семь вечера?
— Устроит. А как я найду эту вашу Свистуху?
— А вам и не надо ее искать. Приезжайте к метро Савеловская, пройдите под мостом к высокому зданию напротив вокзала, где находятся редакции нескольких журналов и там вы увидите серую «тойоту короллу». Номер я вам не называю, я сам подойду к вам. Я думаю, что смогу вас узнать. Всё понятно?
— Да вроде всё… Как вы сказали, шесть нулей? Гм, а что… Очень интересно. Обязательно приеду.
Свистун ухмыльнулся. Всё вроде сыграно отлично. Немножко он, наверное, получился придурковатым, но это вполне укладывается в схему. Уперся, дурачок, в какие-то там гражданские права, которых никто в России толком не знал, не видел и которыми мало кто интересовался, а как дошло дело до денег, клюнул сразу же. Выходит, правильно уперся, если прямо насильно навязывают ему вполне пристойное бабло.
Теперь надо, как договаривались, сообщить о разговоре Косте и Яше.
Костя и Андрей сидели в маленьком «ситроенчике» Андрея, припаркованном недалеко от редакционного здания. «Лексус» был бы слишком заметен. Хотя было уже темно, осторожность никогда не помешает. План был простой: следовать на достаточном расстоянии за машиной, в которой повезут Свистуна, контролируя на всякий случай ее движение и по пеленгатору. Узнать, где была эта Свистуха, оказалось совсем несложно. Была такая деревушка километрах в пятидесяти от Москвы по Дмитровскому шоссе. Теоретически могла где-нибудь найтись еще какая-нибудь деревня с похожим названием, но сам тот факт, что встретить Свистуна должны были в самом начале Дмитровского шоссе, уже говорил в пользу той Свистухи, что они накануне нашли на карте в Интернете. А уж у поворота к Свистухе после моста через канал будет стоять еще и машина с двумя бывшими сослуживцами Андрея. Получить по пять тысяч за поездку по Дмитровскому шоссе и обратно — тоже не каждый день случается.
Оружия у них не было, не считая травматических пистолетов, но Костя был уверен, что никакого оружия и не понадобится. В конце концов, это ж не разборка бандитская. Свистун для Фэна, как он думает, это золотая жила. Да он сам уж как-нибудь позаботится, чтобы волосок с него не упал. И они будут практически рядом на случай какого-то непредвиденного развития событий.
Ага, вон и Свистун идет, оглядываясь по сторонам. Есть контакт. К нему подошел человек, и оба сели в незаметную машину. Похоже, «тойота».
Маячок работал исправно, и белая точка поползла, как они и рассчитывали, по Дмитровскому шоссе. Теперь нужно позвонить Якову Борисовичу и президенту и доложить, что всё идет, как говорят военные, в штатном режиме, и оснований для беспокойства за Свистуна никаких нет.
14
Когда встретивший Свистуна человек открыл дверцу машины, он увидел на заднем сидении еще одного человека, который коротко кивнул и подвинулся, освобождая место.
— Это у меня такой эскорт? — спросил Свистун, почувствовав почему-то легкое беспокойство. Игра игрой, но в душе россияне давно уже стали стреляными воробьями. Скольких дурачков завозили вот так куда-нибудь подальше… Чушь какая, одернул он себя. Зачем Фэну причинять ему какой-то вред? Как раз наоборот. Чтоб отогнать нелепые страхи, он спросил: — Если это эскорт, почему тогда такая скромная машина? Требую «бентли» или в крайнем случае «мерседес». А если серьезно, вы действительно мой эскорт?
— Так точно. Приказано доставить вас в целости и сохранности. А в таких случаях лучше перестраховаться, чем недостраховаться. Я вообще считаю, что пере- лучше, чем недо-. — Человек с короткой модной бородкой легонько засмеялся и сел рядом с водителем, а Свистун устроился сзади.
— А с кем я должен встретиться? — спросил Свистун. Надо всё время что-то спрашивать их, сказал он себе, я же не знаю, куда и к кому меня везут. Так будет естественнее. Он чувствовал, что играет правильно, хотя к естественному актерскому — тем более любительскому — волнению примешивалась странная тревога.
— С тем, с кем вы будете иметь дело. Мы, как вы правильно определили, ваш эскорт. Просто выполняем задание.
— Но все-таки… как-то это… ну, как сказать, я даже не знаю ничего: куда мы едем и с кем мне встречаться. Я ж все-таки не заключенный, которого отправляют куда-то по этапу. И то он уже знает свой приговор. Я ж согласился на встречу по доброй воле и хотел бы все-таки знать, черт побери, куда меня везут. А то завезете в лес и…
— И что? Снимем с вас кроссовки?
— Кроссовки не кроссовки, но, согласитесь, ехать неведомо куда как-то неуютно. Что, нет?
— Скоро узнаете, — коротко бросил человек с бородкой, обернувшись к нему с переднего сидения. — Я, к сожалению, не имею права объяснять вам что-либо еще. Понятно, я надеюсь?
В голосе бородатого прозвучал металл, и Свистун обиженно замолчал. Движение на шоссе в это вечернее время было сравнительно свободным, машина уже миновала ряд высоких новостроек на выезде из города с редкими освещенными окнами — кризис чувствовался и здесь, и дома стояли почти пустыми — выбралась за пределы Кольцевой дороги и прибавила скорость. Он откинул голову на спинку сиденья и прикрыл глаза. Салон машины пах пылью и въевшимся в обивку сидений табачным дымом. Конечно, интереснее было бы поговорить с его молчаливым эскортом, он уже входил во вкус игры, ну да черт с ними, успокоил он себя. Не хотят — не надо. Наиграется еще с самим китайцем. А вот и он — идет под ручку с Яшей, но почему с Яшей… да это, кажется, вовсе и не Яша… глупость какая-то… а кто…
Он задремал и открыл глаза, когда машина остановилась. Судя по затекшей шее, он проспал всю дорогу. Всё вокруг было не по-городскому тихо и темно. Где-то не очень далеко на столбе горела слабенькая лампочка, которая ничего не освещала, а наоборот делала осеннюю явно сельскую темноту еще более густой, почти физически плотной. Лениво лаяла вдали собака, лаять ей, похоже, совсем не хотелось, но раз уж положено, тут ничего не поделаешь, работа такая, есть-то надо. Лай, казалось, как и свет от одинокой лампочки на столбе вяз в темноте.
— Приехали, господин Свистунов. Идите за мной.
Свистун вылез из машины и поежился. Было холодно и накрапывал дождь. Бородатый подошел к крошечному участку перед небольшим домиком, подсвечивая себе карманным фонариком, на ощупь открыл калитку и поднялся на крылечко. Он зажег свет, и они вошли в полупустую комнатку. От промозглой сырости Свистун поежился. М-да, это, конечно не те подмостки с бархатным занавесом, на которых мечтает раскланиваться с рукоплещущей аудиторией начинающий актер, но ничего не попишешь… Человек, который молча просидел всю дорогу рядом со Свистуном, нес в руке чемоданчик.
— Ничего не забыл? — спросил бородатый.
— Всё взял, как вы приказали.
— Утюг взял?
— В чемоданчике.
Система Станиславского стремительно проваливалась в тартарары. Что-то было не так. Совсем не так, как они рассчитывали. Ужасающе не так. Сердце Свистуна забилось так, что, казалось, вот-вот выскочит из груди. Какой утюг? Для чего утюг? И почему он так испугался этого простенького слова? В голове у него вдруг пронеслась сценка, когда в лаборатории проверяли действие маячка и его послали домой проверить, выключил ли он утюг, которого у него не было. Как там всё было весело, покойно, как по-домашнему они дурачились, какой забавной казалась вся эта затея со встречей с Фэном… Ну что ты запаниковал, одернул он сам себя, Костя с Андреем ведь должны быть рядом… В конце концов, мало ли для чего людям нужен утюг. Ведь не гильотину же, черт побери, они привезли с собой. Спокойно, Свистун, спокойно. Но спокойствие никак не хотело возвращаться. Вместо него по пищеводу то и дело поднимались жгучие приливы страха, похожие на тошнотворную изжогу. Для чего все-таки им утюг…
Бородатый вдруг повернулся к Свистуну и широко улыбнулся. Улыбка была веселой и дружелюбной, и Свистун почувствовал, как голова у него начала медленно вращаться. Если бы у бородатого вдруг появился второй нос или третий глаз, он бы не был так ошарашен. Улыбка пугала еще больше утюга. По отдельности два этих слова были вполне привычны, нейтральны и даже по-домашнему уютны, но, соединившись вместе в этой сырой холодной комнате, они почему-то сразу приобрели какой-то зловещий смысл.
— Утюг пока не включай, успеем еще перед приездом китайца, а займись пока нашим гостем. Камеру включишь позже, когда он будет готов, — приказал бородатый своему помощнику с чемоданчиком.
Молчаливый головой показал Свистуну на топчан:
— Раздевайтесь и ложитесь.
— Ложиться? — с трудом выдавил из себя Свистун. Вернее, не спросил, а прокаркал чужим сдавленным голосом. — В каком смысле?
— В прямом. Когда вы стоите, да еще трясетесь, мне трудно работать.
— Ребята, товарищи, господа, — взмолился Свистун, с трудом подавляя желание плюхнуться на колени, — Христа ради объясните мне, что вы собираетесь делать со мной. И что значит, когда он, то есть я, будет готов? Это что, конец? Но почему? Умоляю вас… Я всё… Вы только скажите, что вам нужно… — Так не хотелось умирать. Так вот, на ровном месте, ни за что ни про что… За что? Почему? Для чего? Что это? Какая-то чудовищная нелепая ошибка. И утюг… они, наверное, будут пытать его, он читал о таких штучках… И он не выдержит, он всё расскажет… он открыл было рот, чтобы закричать, но голос уже пропал окончательно, и он только проскрипел нечто нечленораздельное.
— А кроме Свистунова или Свистуна вас как зовут? — спросил бородатый.
— Что? Меня?
— Вас, конечно.
— А… Олег.
— Олег, дорогой, не волнуйтесь вы так, словно барышня перед первыми родами. Ничего плохого с вами не случится.
— Как это не волнуйтесь, а утюг? А для чего мне ложиться, да еще голому? Разве голых гладят? Это что, какой-то страшный розыгрыш?
— Одетых тоже, между прочим, не гладят. А насчет розыгрыша — да, можно сказать, это розыгрыш. Но направлен он вовсе не против вас. Вот, смотрите, это мое удостоверение. Капитан ФСБ Колокольцев Семен Пантелеевич.
— Правда? — пробормотал Свистун. Может, это уже глюки начались? Один глюк в другом. Фээсбэ в утюге. Будь проклят момент, когда согласился он на это… эту…
— Хочешь, перекрещусь, — засмеялся капитан.
— Господи, — заморгал глазами, чтобы не разреветься, Свистун. — Вот уж никогда не подумал бы, что можно испытывать такой восторг при виде офицера ФСБ.
— Ну вот и я дождался признания в любви. А то в нашем ведомстве это не часто бывает. Работа уж такая. Так что можешь смело испытывать восторг. Сейчас ты снимешь рубашку, и мой коллега сделает тебе при помощи театральной краски и грима очень натурально выглядящий след от раскаленного утюга на животе. Ну и пару кровоподтеков на лице. Для большего эффекта. Может, профессиональный гример и поморщился бы от такой работы, но для этой развалюшки, для этого света и той аудитории, что мы ожидаем, вполне сойдет.
Всё еще ничего не соображающий Свистун стянул рубашку и лег на топчан. Оказывается, страх мгновенно не исчезает. Вытекает понемножку, как вода из горлышка опрокинутой бутылки, только что не булькает. Но вытекает, вытекает, освобождая место для острой радости избавления от опасности. Наверное, солдаты, возвращающиеся живыми после боя, тоже чувствуют нечто подобное, думал Свистун, радуясь уже тому, что он может думать.
Гример вытащил свои краски и кисточки и принялся за его живот. Прикосновение кисточки было щекотным и даже приятным, особенно сейчас, когда кожа живота чувствовала мягкое прикосновение вместо ожога от раскаленного утюга.
— Теперь слушай меня внимательно, дорогой Олег. Как ты уже должен был догадаться, мы, то есть моя организация, уже следим некоторое время за попытками господина Фэна заполучить ваш новый компьютер. Как мы получили информацию о том, что происходит в вашей лаборатории, это уже другой вопрос. Оставим пока его без ответа. Главное для нас — да и для вас — это то, чтобы ваш флэш-компьютер остался в стране. Конечно, у нас, как ты знаешь, рыночная экономика. Или, во всяком случае, считается, что она должна быть такой. И никто не должен и не имеет права препятствовать сделкам между частными предпринимателями, включая и зарубежных. Но, во-первых, речь идет не о честной сделке, а о попытке любой ценой заполучить себе этот компьютер. Это уже вполне подпадает под определение экономического шпионажа. А во-вторых, слишком уж много мы всего потеряли за последние лет двадцать пять. А что не потеряли, то продавали за гроши. Которые к тому же чаще всего бесследно исчезали на пути в государственный карман. Какой там Кио, ни одному иллюзионисту такие фокусы не снились. А то, что несмотря ни на что все-таки чудом попадало в этот карман, исчезало уже в нем, потому что и карман был дырявым.
Когда господин Фэн приедет сюда вместе с известным тебе Юрием Степановичем, он увидит, как выглядит человек, с которым пришлось изрядно повозиться, прежде чем он согласился продать изобретение. Всё это будет сниматься скрытой камерой. Для чего, наверняка думаешь ты. Потерпи немножко, и ты сам поймешь наш замысел.
И позволь извиниться перед тобой за то, что пришлось так долго держать тебя в неведении. Это была и страховка от провала операции и создание условий, когда противник будет полностью ошарашен тем, что он меньше всего ожидал увидеть. А теперь позвони своим товарищам и успокой их. Вань, давай быстрее. По моим расчетам китайца с Юрием Степановичем привезут сюда минут через двадцать.
Веди себя естественно, Олег. Как должен вести себя человек, которого изрядно потрепали, пока он не согласился на то, что требовали от него. Не стесняйся в выражении чувств, прежде всего ко мне, это ж я руководил экзекуцией. И они будут вполне натуральными. Понятно?
— Более чем. Хотя не ругаться хочется, а вытянуться и гаркнуть молодцевато: так точно, товарищ капитан.
— Ну и прекрасно. Я ведь тоже, как ты понимаешь, отнюдь не режиссер-профессионал. Будем импровизировать вместе. Помни только, что мы должны дать достопочтенному господину Фэну возможность проглотить наживку как можно глубже, чтобы выплюнуть ее, образно выражаясь, он не мог… А вот, кажется, и они.
С улицы донесся звук автомобильного мотора, который тут же прекратился. Дверь открылась, и в избушку вошли Фэн Юйсян и Юрий Степанович в сопровождении незнакомого человека.
Китаец увидел встававшего с топчана Свистуна и с ужасом посмотрел на Сашу.
— Что это, Саша? — растерянно спросил он. — Что это значит? Ничего не понимаю. Я же специально просил обойтись без всякого насилия. Я несколько раз предупреждал вас, что меньше всего хочу каких-нибудь противоправных действий. Только этого мне не хватает…
— Понимаете, господин Фэн, — смутился Саша, и Свистун подумал, что играет он, пожалуй, не хуже его самого, — этот молодой человек… ну, как это сказать поделикатнее… Ну, пришлось ему немножко растолковать, кто здесь есть кто и что есть что. Но ничего страшного… Зато…
— Заткнулись бы! — крикнул Свистун. Теперь, когда страхи, ужасы и изумление немножко поосели, он чувствовал пьянящий восторг от избавления от опасностей и уже получал удовольствие от игры, как тогда в кабинете Евгения Викторовича в самом начале этой эпопеи. И даже снизошло на него нечто похожее на вдохновение.
— Кто вы? — повернулся он к Фэну. — Это вы хотели, чтобы я передал вам чертежи? Это вы господин Фэн?
— Поверьте, господин Свистунов, я ни на секунду не мог себе представить, что Саша так… грубо… Простите меня. Меньше всего я…
— Вам эти издевательства будут стоить кое-что, вы уж не сомневайтесь.
— Поверьте, меньше всего я…
— Если раньше эта… — Свистун с ненавистью посмотрел на капитана, — эта сволочь говорила о миллионе долларов, то теперь меньше, чем за полтора я делать ничего не буду.
Этот варварский сумасшедший мир действительно полон варваров, подумал Фэн Юйсян, вот уж действительно, как учит Цзы, малый человек постигает только выгоду. Единственное, что они понимают.
— Не волнуйтесь, господин Свистунов, сумма в полтора миллиона долларов вполне разумна, и я согласен, на нее. По вашему выбору эти деньги можно положить на ваш счет, который мы откроем на ваше имя в любом устраивающем вас банке, или предоставить вам на эту сумму акции новой нашей компании, которая будет выпускать и продвигать на мировые рынки флэш-компьютер. А если вы захотите переехать на постоянное место жительства в Канаду, мы поможем вам с оформлением всех необходимых документов. У вас, разумеется, могут быть свои планы, но я бы очень советовал вам не отмахиваться от этого предложения и как следует подумать над ним. — Фэн Юйсян очевидно почувствовал себя спокойнее, потому что голос его обрел обычную уверенность. — Не говоря уже о куда более комфортной и цивилизованной жизни, — китаец выразительно обвел глазами убогую полупустую комнатку, — вы стали бы научным руководителем нашей компании. С соответствующим окладом, который пока что в вашей стране может только присниться. Причем я готов подписать с вами договор, как только вы предоставите нам чертежи изобретения. И еще раз прошу вас простить нас за столь… грубое обращение с вами. Смею вас уверить, досточтимый господин Свистунов, что всё происшедшее с вами — это лишь чрезмерное усердие нашего Саши. Чрезмерное и грубое.
— Грубое, — покачал головой Свистун. — Ничего себе словечко… Это вот, — он показал подбородком на след от ожога утюгом на животе, — это грубое? Да я визжал, как поросенок, которого начинают жарить живьем. И морду разукрасили, подонки… Ладно, — он с ненавистью посмотрел на капитана, — я тебе эти штучки еще припомню. А чертежи… Я сначала хотел взять их с собой, а потом засомневался, а вдруг их просто отберут, а самого меня если и не укокошат, то просто вышвырнут, как котенка, ищи потом ветра в поле. Или в суд подавай. Так, мол, и так, хотел обокрасть компанию, в которой работаю, а обокрали, выходит, самого. Чертежи готовы, как только договор будет подписан, я вам их и передам. Хоть завтра. И не забудьте, господин Фэн, не миллион, а полтора, и скажите спасибо, что я ни черта не смыслю в ценах, а то содрал бы с вас раза в два больше.
— Когда вы сможете передать чертежи, достопочтенный господин Свистунов?
— Да чего тянуть, я ж сказал, давайте завтра. Только не здесь, у меня с этой халупой уже возникли неприятные ассоциации. Давайте где-нибудь в другом месте.
— Прекрасно. Давайте завтра утром. Вы сможете подъехать к гостинице, в которой я остановился? «Балчуг-Кемпински». Если хотите, Саша может вас подвезти.
— Нет уж, извольте, только не ваш Саша. А то у меня и с ним отношения как-то не очень сложились. — Он посмотрел на капитана с ненавистью. — Подъеду сам. Буду в фойе к десяти.
— Отлично.
— Ну что ж, достопочтенный господин Свистунов, в таком случае мы можем возвращаться в Москву.
— Скоро поедем, господин Фэн, я жду наших общих знакомых, — сказал Саша.
— Каких знакомых? — Китаец подозрительно посмотрел на Сашу. — Не понимаю, о ком вы говорите…
— А вот, кажется, и они, — расплылся в улыбке капитан и распахнул дверь.
В комнату вошел Евгений Викторович и с приветливой улыбкой обвел глазами присутствовавших. — Доб-рый вечер, господа. Боже, какая неожиданная встреча, — улыбнулся он китайцу — вот уж кого я меньше всего ожидал встретить.
Фэн Юйсян на мгновенье закрыл глаза, но тут же снова открыл их. Лицо его словно посерело, напряглось, но сохраняло внешнее спокойствие.
— Значит… — начал было он, но замолчал и несколько раз кивнул, словно отвечая своим мыслям.
— Именно, так, господин Фэн, — сказал Евгений Викторович, — именно так. Но вы же бизнесмен и к тому же философ, как я понимаю. Всегда выигрывать нельзя. Так уж получилось, что на этот раз выиграть довелось мне.
— А Саша… — Фэн посмотрел на капитана.
— Саша, с вашего разрешения, это капитан ФСБ Колокольцев. Представьтесь, господин капитан.
— Капитан Колокольцев, господин Фэн. Вот мое удостоверение.
— А… Свистунов… этот след от ожога…
— Театральная постановка, которая, разумеется, снималась, — улыбнулся Евгений Викторович. — Можно посмотреть вашу запись, товарищ капитан?
— Конечно, это не качество «Аватара» в 3D, но тем не менее все можно прекрасно разобрать и вполне приемлемо в качестве доказательства для суда. Коля, — кивнул он помощнику, — покажи нам запись на своем ноутбуке.
— Не нужно, — покачал головой китаец. — Значит, и ваши рассказы о желании поступить в Лондонскую школу экономики тоже…
— Разумеется, господин Фэн.
— Что ж, могу вас только поздравить с отличной игрой. Вы были более чем убедительны.
— Спасибо, господин Фэн. Я искренне тронут вашим одобрением, — усмехнулся капитан. — Могу я сообщить о нем своему начальству?
— Конечно.
— Приятно все-таки находиться в обществе культурных людей, — улыбнулся Евгений Викторович, — никаких криков, попреков и упреков. Поэтому давайте обсудим ситуацию чуть подробнее. У вас, достопочтенный господин Фэн, довольно простая дилемма.
— А точнее?
— Выбор продолжения этой милой встречи зависит целиком от вас. Вариант первый: вы отказываетесь смотреть правде в глаза…
— Как это смотреть правде в глаза? Разве у правды есть глаза?
— Это просто такое выражение. Принимать ситуацию такой, как она есть. В таком случае мы вынуждены будем подать на вас в суд за попытку подкупа нашего сотрудника господина Свистунова и вообще за попытку экономического шпионажа. Свидетельств у нас, как вы понимаете, предостаточно. Показания самого нашего сотрудника Свистунова, показания капитана Колокольцева, он же просто Саша, киносъемка. Ну и, возможно, показания Юрия Степановича, который вывел вас на Свистунова. Он ведь не только потерял деньги, которые мечтал заработать на этой небольшой элегантной операции, не только потерял место генерального менеджера в нашей компании, он еще может тоже предстать перед судом. И, возможно, пойдет на сотрудничество со следствием, чтобы хоть как-то облегчить свою участь. Видите, — он кивнул в сторону молчавшего Юрия Степановича, — он уже задумался.
Конечно, суд не будет заинтересован, чтобы любыми способами засадить вас за решетку, дорогой господин Фэн. Эдак мы всех зарубежных инвесторов распугаем, которые и без того относятся к нам, скажем прямо, достаточно настороженно. И, увы, не без оснований. Но так или иначе, обвинительный приговор более чем вероятен, и огласка приведет к тому, что у вас называется «потерять лицо».
Это, как я сказал, один из вариантов решения той дилеммы, что стоит перед вами. Но есть и второй вариант.
— Какой же? — Фэн Юйсян внимательно посмотрел на Евгения Викторовича ничего не выражающими покерными глазами.
— Он может показаться вам несколько неожиданным…
— Неожиданного сегодня я видел столько, что, боюсь, досточтимый господин президент, вряд ли вы сможете еще раз удивить меня.
— Вы прекрасно держите удар…
— Что это значит?
— Это выражение из бокса. Человек, который может выдержать удар соперника и устоять на ногах.
— Благодарю вас, — церемонно наклонил голову китаец. — Вы очень любезны.
— Не торопитесь, вы еще не слышали того, что я хотел бы предложить вам в качестве второго решения вашей дилеммы. Я хотел бы отказаться от каких-либо юридических и тем более уголовных претензий к вам. Мало того, я готов предложить вам место генерального представителя нашей компании «РуссИТ» за рубежом, который возглавил бы продвижение нашего нового продукта, который так вас заинтересовал.
Фэн Юйсян помолчал, а затем усмехнулся:
— Я всегда считал вас, русских, странными людьми. Вы часто буксуете в простых ситуациях и вдруг выдвигаете самые парадоксальные идеи. С одной стороны, никак не можете изготовить, например, собственные краны для ванной — не самое, согласитесь, высокотехнологическое изделие. С другой — посылаете ракеты в космос. Скажите, господин президент, вы говорите всё это серьезно или просто хотите таким образом сделать выигранную вами у меня партию еще более унизительной для меня?
— Боже упаси. У меня немало грехов. Но садистом я никогда не был. Поверьте, это просто вполне здравый расчет. Вы правы, мы многого не умеем, в частности, торговать, как следует, так уж сложилась наша история. Как и почему — это сложный вопрос, и его можно обсуждать годами. Но я как президент «РуссИТ» заинтересован не в исторических экскурсах, а в том, чтобы выйти с нашим новым продуктом на мировые рынки информационной технологии. Где конкуренция, как вы прекрасно знаете, свирепая. По нашим расчетам наш новый компьютер, который обещает быть и более мощным и быстродействующим, и более компактным, и более энергосберегающим, и обладать еще некоторыми инновациями, о которых я пока умолчу, будет готов к Новому году, и мы сможем представить его специалистам. Одновременно мы бы представили вас, дорогой господин Фэн, как нашего нового вице-президента, отвечающего за продвижение товара на зарубежный рынок. В случае успеха нашего продукта мы могли бы выйти на мировые биржи с IPO. Видите, мое предложение не столь уж странно, как вы сначала подумали. Тем более что у вас есть пакет акций нашей компании, и вы, естественно, заинтересованы в том, чтобы стоимость их основательно выросла.
Ну, и еще одна деталь. Похоже, что время, когда на бизнесменов, имеющих дело с Россией, смотрели как на сумасшедших или агентов спецслужб, прошло или, скажем более осторожно, проходит. И ваша репутация, дорогой господин Фэн, нисколько не пострадает в случае, если вы примете наше предложение. Думаю, что о вас будет написана не одна статья, и вы дадите не одно интервью.
Это и есть второй вариант решения вашей дилеммы. Выбор за вами, дорогой господин Фэн.
— Простите, господин президент, я все-таки не совсем понимаю, как вы можете доверять человеку, который…
— О, если бы бизнес, и не только он, делался одними лишь ангелами, мир был бы совсем другой. Но все мы, увы, не ангелы. Далеко не ангелы. Скажу вам больше, — улыбнулся Евгений Викторович, — с простыми смертными иметь дело проще. Они менее принципиальны и руководствуются своей выгодой, а это, согласитесь, уже неплохой фундамент для любого сотрудничества. Итак, жду вашего решения.
Фэн Юйсян закрыл глаза. Удивительное дело, думал он, но, оказывается, и среди варваров встречаются люди, которые инстинктивно приближаются к истинам, которые две с половиной тысячи лет назад поведал своим ученикам великий Учитель Конфуций. Впервые за время, когда он имел дело с русскими, Фэн Юйсян почувствовал уважение к… кому? Врагу или партнеру? Выбора, пожалуй, не было, и не потому, что эта хитрая русская лиса загнала его в угол. А потому, что предложение было слишком хорошо, чтобы отказаться от него. Ну что ж. Проигрывать нужно с достоинством. Но, строго говоря, вообще проиграл ли он? Может быть, этот человек со светлой бородкой и прав, и никакого проигрыша по существу нет. Наоборот, как учит Цзы, следование «ли» из собственных интересов не является грехом. Справедливый человек следует принципам «ли» так, как это правильно с точки зрения «чжи» — здравого смысла, благоразумия, мудрости и рассудительности. Не печалься о том, что тебя никто не знает. Но стремись к тому, чтобы заслужить известность.
В голове у Фэна пронеслись заголовки сообщений средств массовой информации: китаец из Канады продвигает на рынки новейший русский компьютер. Мир ИТ заинтригован сообщениями из Москвы и Ванкувера…
— Господин Фэн, — спросил Евгений Викторович, — правильно ли я понимаю смысл улыбки, которая только что промелькнула на ваших губах?
— Правильно, господин президент.
— Отлично. Тогда я попрошу всех оставаться на своих местах. — Евгений Викторович вынул из кармана мобильный телефон и набрал номер. — Костя, несите, мы ждем.
«Неужели осталось еще что-нибудь, что могло его удивить после того, что произошло», — думал Свистунов. Он поймал себя на мысли, что смотрит на Евгения Викторовича как на человека, который знает всё и может всё.
В избушку вошли Костя и Андрей. Один нес несколько бутылок шампанского, другой — бокалы.
— Евгений Викторович, — спросил Свистунов, — можно один вопрос?
— Один можно. Вы сегодня его вполне заслужили.
— Вы привезли шампанское с собой. Значит, вы с самого начала не сомневались, что господин Фэн согласится…
— Конечно. Умный человек не мог не согласиться, а неумного я и уговаривать бы не стал. Господа, прошу всех, кто не за рулем, поднять эти бокалы за нового сотрудника нашей компании. Итак, друзья мои, предлагаю выпить за нашего нового сотрудника, нового вице-президента «РуссИТ» достопочтенного господина Фэн Юйсяна.
Может быть, впервые за свою жизнь Фэн Юйсян поднял бокал с шампанским с таким удовольствием. А что, может быть, это и есть наилучший вариант осуществления его планов. И президент прав, сотни изданий, и электронных и бумажных, будут полны сообщениями о его новом назначении. И не нужно больше зависеть от таких проходимцев, воистину малых людей, как Юрий Степанович, и не нужно рассовывать чудовищные взятки для осуществления своих планов. А с этим президентом вполне можно работать. Сделать такое щедрое и в высшей степени неожиданное предложение мог только незаурядный человек. Не печалься, что тебя никто не знает, но стремись к тому, чтобы заслужить известность. Вот уж где воистину сверкает мудрость Цзы. Теперь известность сама шла к нему.
— Знаете, Евгений Викторович, — сказал он, — если бы я не боялся обидеть ваши чувства, я бы сказал, что у вас ум и душа китайца.
— Я и не подумаю обижаться. Знаете, не в самые лучшие времена для моей родины, наши безумные вожди вбивали нам в голову, что мы лучше всех, и всё хорошее родилось только в СССР. Теперь-то мы уже понимаем, что истинный признак величия — это умение и готовность учиться у других. За наше общее процветание.
Шоссе было совсем свободно, и «лексус» плавно плыл к Москве. Азарт охоты, азарт игры быстро проходил, и уже ставшая привычной депрессия медленно вползала в Евгения Викторовича каким-то темным холодным туманом и сжимала сердце. Для чего вся эта суета, если не было в нем радости жизни, если так быстро кончался завод пружины. Да, убив человека, он приобрел отличное молодое тело. Но для чего оно, если это тело всё больше опутывалось мрачной депрессией? Вот уж воистину бесплатного сыра не бывает, и за всё надо платить. А цена, оказывается, такова, что сделка и гроша ломаного не стоила…
— Евгений Викторович, — сказал Костя, — вы меня, конечно, простите, но я все-таки не пойму, как вы можете забыть, что этот китаец организовывал покушение на Петра Григорьевича?
— А я и не забываю.
— Тогда как же…
— Видишь ли, Костя, решения, которые мы принимаем, могут определяться нашими чувствами или холодным расчетом. Так уж устроен мир, что и в бизнесе, и в политике решения в основном диктуются умом, а не сердцем. И вообще, наверное, вся цивилизация — это история того, как люди учились сначала думать, а потом действовать. Далекие наши предки, надо думать, особенно раздумьями себя не утруждали, и чуть что хватались за дубину, копье или чем там еще они решали споры.
Конечно, китаец наш человек жестокий, настоящий охотник в джунглях бизнеса. Но как только разум и расчет подсказывают ему наиболее выгодный ход, он этот ход и делает. Иначе был бы бизнес сборищем плачущих от умиления ангелочков, а не хищников в деловых костюмах. И, к сожалению, друг мой Костя, надо признать, что психология хищника человеку куда понятнее и естественнее, чем призыв возлюбить ближнего своего как самого себя и отдать ему последнюю рубашку.
— Всё это, Евгений Викторович, так, но всё равно я никак не могу забыть, что Фэн хотел Петра Григорьевича убить.
— А ты и не забывай. Я ж не прошу тебя возлюбить его как самого себя. Просто используй его для пользы компании. Андерстэнд?
— Иес, сэр.
15
— Костя, это Евгений Викторович. Я звоню из дома. Ты очень занят сегодня вечером?
— О чем вы говорите, шеф. Что я должен сделать?
— Приезжай ко мне домой и предупреди родителей, что, скорей всего, переночуешь у меня. В холодильнике пять бутылок пива, на закуску макрель горячего копчения и долгий разговор.
— Слушаюсь, шеф. Когда я должен приехать?
— Когда сможешь. Жду тебя.
Костя приехал через полчаса и вопросительно посмотрел на Евгения Викторовича.
— Садись и чувствуй себя как дома. В полном смысле этого слова. Потому что разговор, о котором я тебя предупреждал, жизненно важен в полном смысле этого слова, по крайней мере, для меня. Это не общие рассуждения о нравах бизнеса, которыми мы вчера с тобой развлекались по дороге в Москву. Беру быка сразу за рога, хотя не уверен, кто кого одолеет: он — меня или я — его… Скажи, Костя, только постарайся быть предельно честным со мной: кто я для тебя?
— В каком смысле, Евгений Викторович?
— В самом прямом. Но я, конечно, говорю не о том, что я президент компании «РуссИТ», в которой ты возглавляешь службу безопасности.
— Простите, я не совсем улавливаю…
— Тогда я спрошу тебя несколько иначе. Кто я для тебя: Евгений Викторович Долгих, семьдесят седьмого года рождения, уроженец города Томска, или Петр Григорьевич Илларионов, сорок восьмого года рождения, уроженец Москвы? Только, повторяю, постарайся быть абсолютно откровенным, причем не столько со мной, сколько с самим собой. Подумай, пока я разолью пиво и нарежу эту рыбину. Есть мы ее будем руками, так что нам не до политеса. Ни с рыбкой, ни с тем, о чем я хотел поговорить.
«Господи, — думал Костя, — ну как я могу объяснить то, что сам как следует не понимаю? И не смогу, наверное, понять никогда».
— Понимаете, умом я всё понимаю и всё помню. Я знаю, что разговариваю сейчас с Петром Григорьевичем в его, так сказать, новом обличье. Но знать — это одно, а чувствовать — совсем другое. Я, конечно, несу сейчас околесицу, но как вы просили, я стараюсь вывернуть душу наизнанку и посмотреть, что там…
— Тогда постарайся представить себе, что Петр Григорьевич вовсе не умер, он просто загримировался под Евгения Викторовича, приклеил эту вот бородку, — Евгений Викторович подергал себя за русую бородку, — и надел парик. Понимаешь, что я хочу сказать?
— Понимать-то понимаю, но… не знаю, как это выразить… Всё равно вы… — Костя печально покачал головой. — Вы — это не Петр Григорьевич. Уже тогда, когда мы возвращались из Удельной после… после всего этого… и Евгений Викторович, я хочу сказать, конечно, не сам Евгений Викторович, он ведь… если называть вещи своими именами, его уж не было… И вот я поймал себя на том, что мне было как-то неприятно, когда вы, так сказать, новый Петр Григорьевич обратился к старому моему шефу, шефу и ангелу-хранителю, как-то… ну, что ли, запанибрата. Глупо, конечно…
— Нет, почему же, Костя, совсем не глупо. Я сам довольно быстро почувствовал, что мы, то есть копия и оригинал, сразу начали как-то отдаляться друг от друга, расплываться в разные стороны. Я еще вспомнил, как читал когда-то, что много миллионов лет назад на Земле существовал один материк, который потом распался на части, и эти части начали отдаляться друг от друга. Почему так — не знаю. Ведь когда покойный Семен Александрович объяснял эту процедуру, он ничего не говорил о том, что и копия и оригинал быстро начнут расходиться, а не останутся одним Петром Григорьевичем. Если и мне быть честным до конца, я вообще не очень-то верил, что вся эта процедура возможна. Я думал, я знал, что скопировать человека невозможно. Но оказалось, что главная опасность в невозможном — это то, что невозможное может оказаться возможным. Ты догадываешься, почему я затеял этот разговор с тобой?
— Как вам сказать… Наверное, потому, что я единственный человек, который знает вашу тайну.
— Это верно, Костя. Но есть и еще одно соображение. Ты помнишь, как ты решил, что я хочу воспользоваться твоим телом?
— Помню.
— И до этого ты стал мне настоящим сыном, потому что своего сына я потерял. Или он меня потерял — не в этом дело. В монастыре он дальше от меня, чем если бы он был на Луне. А уж после того, как ты пригорюнился тогда, сидя за рулем «лексуса» и думая, что я посягаю на тебя, твое тело, ты стал для меня самым дорогим человеком на свете. Я абсолютно уверен, что ты был предельно честен и действительно был готов умереть за меня. Вместо меня. Поэтому-то я и затеял этот довольно сумбурный и, наверное, тягостный разговор. Больше мне поговорить не с кем. Мне, Костя, скверно на душе, очень скверно, потому что теперь я знаю, что никогда не смогу спрятаться от одного маленького, но свирепого в своей прямоте и настырности фактика: я убил человека. Ни в чем не повинного Евгения Викторовича. Убил ради спасения своей жизни. И мало того что убил его. Я в теле Жени теперь как в капкане, как в ловушке, из которой никогда не выбраться. Ты скажешь, не я первый убил, и не я последний. Убивали наши далекие пращуры, убивали всегда, убиваем и мы. Тысячами, миллионами. Оптом, так сказать, и в розницу. Но мне от этого не легче. Я ведь, Костя, всю жизнь был вполне нормальным человеком, то есть я совесть свою особенно не напрягал, и она меня не мучила. А тут вдруг выяснилось, что сидит она во мне как некий рудиментарный орган, который вдруг становится вовсе не рудиментарным, а очень даже важным. Как внезапно воспалившийся аппендикс. Вот-вот лопнет и заразит весь организм. И не дает мне покоя. Не только не дает мне быть довольным собой и жизнью, но просто-напросто мешает мне жить. Спать не дает. Дышать не дает. Вцепился в душу мою как клещ, которого не вытащишь и не стряхнешь. Спроси меня про такую ситуацию лет десять, двадцать тому назад, я бы только пожал плечами. Жизнь, сказал бы я, не роман Достоевского. Это его герои мучились угрызениями совести. Ну, может, еще кое-кто из несчастных русских интеллигентов мыкался. Тем более что советская власть быстро ликвидировала совесть как буржуазный предрассудок. Быстро и эффективно: половину населения заставили писать доносы на ближнего, а вторую половину — сторожить посаженных. И стала наша российская жизнь без стыда и совести куда как проще. И сложнее, и страшнее. Кое-что, конечно, изменилось за последние годы. Доносы писать и стучать на ближнего своего перестали, приоделись, пересели в собственные машины, засыпаем друг друга эсэмэсками, но совесть пока так всерьез и не вернулась. То ли не производится она в нашем отечестве, то ли спроса на нее нет, то ли импорт ее не налажен, потому что пошлина высокая. Шучу, Костя, но не очень.
Потому что даже покаяться мне не дано. Ни в суде, ни в церкви. И не только потому, что нет во мне веры. Никто не поверит, что я говорю правду. Вы говорите, что убили Евгения Викторовича, простите, вы же и есть Евгений Викторович, а Петр Григорьевич Илларионов спокойно почивает в своей законной, так сказать, могиле. Так что, дорогой, вам лечиться надо в психушке, а не каяться. Понимаешь, Костя, о чем я говорю?
— Теоретически, да…
— Что значит теоретически?
— Я могу представить ваше состояние, но ведь представить — не то же, что почувствовать…
— Это верно, — вздохнул Евгений Викторович. — И не дай бог кому-нибудь чувствовать то, что чувствую я. В какие-то напряженные моменты, вроде операции с нашим другом Фэном, душевная боль как будто отступает. Но, видно, только для того, чтобы перевести дух и снова приняться за меня.
Я знаю, что ты не можешь помочь мне, как бы ты того ни хотел. Но человеку всегда кажется, что когда он поделится своей болью с кем-нибудь еще, ему станет чуть легче. Эгоизм, конечно, но… Ладно, друг мой Костя, давай поговорим о более конкретных вещах. Вот листок бумаги с цифрами. Запомни их так же крепко, как ты помнишь свое имя. А бумажку сожги.
— А что это?
— Ты помнишь нашу поездку в Цюрих?
— Конечно.
— Как называется банк, куда я ездил?
— Не знаю…
— «Драйконигбанк». Банк трех королей на улице с тем же названием. Запомни. В нужный тебе момент ты можешь прийти в банк, назвать вот эти цифры и стать обладателем довольно крупной суммы. Причем вопросов никто никаких задавать тебе не будет, даже имени не спросят — это основа швейцарского банковского бизнеса. Денег там на счету миллионов тридцать — тридцать пять долларов. Курсы валют и доходность вкладов ведь колеблются. В ячейке сейфа в подвале, куда тебя проведут, тебя будет ждать неплохая нумизматическая коллекция, которую дирекция банка оценит у экспертов. Думаю, что она стоит несколько миллионов. Ты всё понял?
— Позвольте, но при чем тут я? Ведь это ваши деньги.
— Я не хочу набиваться на жалость и сострадание, дорогой Костя, но у меня ощущение, что долго я гражданскую войну со своей совестью вести не смогу. Чтоб вести гражданскую войну нужно, как минимум, либо быть абсолютно уверенным в своей правоте, либо люто ненавидеть противника. Ничего этого в душе у меня нет. Поэтому, боюсь, вести такую войну долго не смогу. А еще точнее, и не хочу. Потому что преступник не должен наслаждаться плодами своих злодеяний. Так что, когда меня не будет…
— Господь с вами, Евгений Викторович, что вы говорите!
— Боюсь, господь явно не со мной. Я его помощи не заслужил.
— Но…
— Никаких «но», мы ж договаривались быть честными друг с другом. Как ты распорядишься деньгами — это ты будешь решать сам. Впрочем, надеюсь, что эти вопросы мы еще несколько раз обсудим.
— Евгений Викторович, я категорически…
— А я еще более категорически заявляю, что этот вопрос решен и закрыт. Больше мне эти деньги оставлять некому. И больше никто о них не знает. Всё. Давай о другом. Пока я еще могу как-то скрывать от других свое состояние, я останусь президентом нашей компании. Но как я уже постарался объяснить тебе, я вовсе не уверен, что продержусь долго. Так что давай обсудим чисто деловой вопрос: кто, с твоей точки зрения, может занять место президента? Тем более что компания на пороге настоящего рывка и вполне может превратиться в крупного игрока в коммуникационных технологиях, если не в мире, то уж в России точно.
Не скрою, прежде всего я подумал о тебе…
— Вы что, смеетесь?
— Нисколько.
— Но у меня же нет никакого специального образования. Я же всего-навсего бывший мент.
— А я бывший челнок, который в начале девяностых пёр на себе из Турции клетчатые тюки с ширпотребовским барахлом. Нагружен был, как осел, даже высморкаться рук не хватало. А до этого был рядовым инженером, который с тех пор давно уже забыл, что такое логарифмическая линейка. Тем более что пользоваться компьютером всё равно удобнее. Это Вундеркинд со своей командой настоящие создатели того, чем мы хотим торговать. Мы в лучшем случае просто менеджеры. Кое-чего поднахватавшиеся, но всё равно менеджеры. Так что дело не только и не столько в специальном образовании, а в чутье на нужных людей и в умении доверять им. Ладно, оставим пока тебя в покое. Пока. Кого еще ты видишь в кресле президента?
— Яша, боюсь, и не потянет и не согласится.
— Почему?
— У меня такое ощущение. И дело не только в возрасте и не в том, что для всех них, и Свистуна, и Исидора Исидоровича, и тем более новых их сотрудников, работа — это как бы игра. Для творческого человека, как я представляю себе, будничная работа всегда будет в тягость. А руководить компанией — это тысячи будничных дел: и как идет строительство нового лабораторного и производственных корпусов, и не воруют ли строители, и кадровые вопросы, и финансы…
— Это ты верно говоришь, Костя. А кого ты видишь еще?
— Никого, Евгений Викторович. Хоть зови обратно Юрия Степановича. Был бы он чуть умнее и порядочнее…
— Если бы… Если бы у бабушки было то, что есть у дедушки, она была бы не бабушкой, а дедушкой. Ладно, будем думать. Только я прошу тебя выкинуть раз и навсегда из головы всю эту шелупонь вроде «да где уж нам бы выйти замуж, да я всего-навсего бывший мент» и тэ дэ.
Теперь достань из холодильника вторую макрельку и налей еще пива, а то у меня руки трясутся. И знаешь почему? Потому что то, о чем я хотел еще поговорить с тобой, материя столь же невероятная, сколь и деликатная. И чтобы сразу же не вляпаться в неловкую ситуацию, ответь мне, пожалуйста, на такой вопрос. Ты все еще не женат?
— Нет.
— А кто-нибудь у тебя есть?
— Ну, вообще-то, да, но…
— Что «но»?
— Эта женщина, о которой я говорю, оказалась совсем не такой, за кого себя выдавала. Оказалась просто маленькой довольно злобной хищницей. Мама моя, надо отдать ей должное, увидела это с самого начала. А вы что, нашли мне невесту? — улыбнулся Костя.
— Кто знает, кто знает. Всё может быть. Теперь слушай внимательно. Потому что это куда более странная и запутанная ситуация. Это тебе не президента для «РуссИТ» подыскать. У Петра Григорьевича, может быть, ты видел, догадывался, домашняя жизнь с Галей не складывалась. Ему тоже всё казалось, что она хищница, что ведет себя безупречно специально для того, чтобы не к чему было придраться. Но в последние недели жизни он вдруг увидел, что она его действительно любит, действительно жалеет. А ведь по большому счету, друг мой Костя, это в миллион раз более мощный клей для брака или, скажем, фундамент для любви, чем игра юношеских гормонов. Он словно посмотрел вдруг на нее совсем другими глазами и увидел то, что до этого не хотел видеть. Увидел красивую чувственную женщину, которая набила себе немало шишек в жизни и надеялась на семейное счастье с человеком, которого она и уважала, и любила, как могла. Но было уже поздно. Она лишь скрасила его последние дни.
Теперь, Костя, я перехожу к самому невероятному. Петр Григорьевич уже практически не спал с Галей еще задолго до болезни. Тут, наверное, сыграл свою роль и возраст — а Петр Григорьевич был человеком гордым и боялся оказаться… скажем, неадекватным — и копившаяся усталость, потому что он фактически тащил всю компанию сам на себе, и болезнь… Всего не перечислишь. Галя же женщина молодая, ей нет еще тридцати пяти, чувственная, как я сказал, и она сошлась с… Догадываешься, с кем?
— Нет.
— С Евгением Викторовичем. Надо отдать им должное. Свои редкие встречи они скрывали так удачно, что никто ничего о них не знал, включая и самого Петра Григорьевича.
— Тогда откуда вы…
— Вот я и перехожу к самой невероятной части рассказа. Когда я стал Евгением Викторовичем…
— Теперь понимаю. Она…
— Ничего ты не понимаешь. Помню, как я первый раз приехал в эту съемную квартирку Евгения Викторовича, где мы сейчас сидим с тобой, и когда я стал рассматривать его мобильный, я случайно наткнулся на Галин телефон, наивно спрятанный за буквой «Г». И всё понял. Знаешь, почему?
— Да нет…
— Тело, мое новое тело, тело Евгения Викторовича, чужое, строго говоря, краденое тело подсказало мне. В теле ведь живет, по-видимому, своя память. И не стану скрывать, эта память тянула меня, толкала к ней. Но я знал, что Галя тогда проводила дни и ночи у постели умирающего мужа, и любое напоминание о Евгении Викторовиче было бы ей тягостно. А потом похороны. А потом, оставшись с ней наедине, я почувствовал, что влечение Жени к ней исчезло, словно между ними, то есть между нами, стала стена. Не из кирпичей, а покрепче. Ни ей, ни мне не хотелось обкрадывать память Петра Григорьевича. И к тому же мучила и мучает меня совесть, я тебе уже говорил. Мало того что убил, спать еще при этом с той, кого убитый любил… Не мог ничего с собой сделать. Ну никак не мог. Я знаю, что всё, что я говорю, должно звучать бредом, но бред это или не бред, ничего с собой сделать не могу.
Я твердо знаю, что никогда не смог бы быть с ней. Да и не хочу этого. Но при этом я нежно люблю ее. Не сексуально, это осталось, наверное, в погибшем Жене. А по-человечески, по-братски, что ли.
Сейчас Галя словно потерянная душа, заблудившийся котенок. Жизнь у нее еще до встречи с Петром Григорьевичем складывалась не самым лучшим образом. Она не знает, что делать, как жить. Не финансово, нет. Петр Григорьевич оставил ей прекрасную большую квартиру в самом что ни на есть эксклюзивном районе Москвы. Она и во времена кризиса стоит миллионы. А тем более после. Ну и кое-какие деньги. Так что дело не в деньгах. Она одна на белом свете, и этот белый свет, видно, не раз представал перед ней не в самом своем приглядном виде. При этом она чудная баба. С почти нетронутым запасом нежности и преданности. Поверь мне, я был бы счастлив быть с ней, но этого, как я попытался объяснить тебе, не может быть. И из-за памяти о Петре Григорьевиче, и из-за убитого нами, мною Жени. И из-за того, что тайна, когда приходится взвешивать слова двадцать четыре часа в сутки — это далеко не лучший фундамент для человеческой близости. Самое странное, что тело Евгения Викторовича поняло это куда быстрее, чем кора больших полушарий моего неизвестно чьего мозга. И отказалось быть просто придатком к его члену. А потом я и умом понял всё это. И теперь я как отец ей. Я просто не могу бросить ее на произвол судьбы. Представляешь, какая начнется охота за красивой бабой, стоящей несколько миллионов долларов? Очередь выстроится. Ну что ты так смотришь на меня? Я ведь тебя не сватаю. Я просто прошу тебя быть, стать ее покровителем, советчиком, опорой. Причем с самого начала вас будет объединять то, что и ты и она оба были искренне преданы Петру Григорьевичу. Чего ты молчишь?
— Я не знаю…
— И хорошо, что не знаешь. Знал бы ты все ответы, был бы наперсточником, который всегда знает, под каким наперстком что лежит и кого как лучше лохануть. Завтра позвони ей, спроси как она, не нужно ли ей что-нибудь. Спроси, хочет ли она ездить на «лексусе» или, может быть, ей хочется какую-нибудь другую машину. У нее ведь права есть. Да ты и сам знаешь, как разговаривать с женщиной, не маленький. Ну а дальше… Это уж как получится. Может, со временем и проскочит искра. А может, и нет, зато будет у нее верный друг, надежная опора и умный советчик. Не красней и не раскланивайся, мы же договорились быть друг с другом честными.
И самое главное — ты очень поможешь мне. Мне жить было бы легче, зная, что она в безопасности. И уж тем более умирать…
— Евгений Викторович, — взмолился Костя, — не смейте так говорить. Я слышать эти слова не желаю.
— Спасибо, сынок. Ничего, что внешне мы примерно одного возраста. В душе я глубокий старик. Шестьдесят два года Петра Григорьевича и лет, по-моему, тридцать с чем-то Жени. Итого под сотню. И клянусь, Костя, я эти годы чувствую…
Ты родителей предупредил, что можешь остаться у меня?
— Да.
— Вот и прекрасно… Если я не ошибаюсь, ты говорил мне, то есть, конечно, Петру Григорьевичу, что отношения у тебя с родителями самые теплые.
— Да, Евгений Викторович. Я вообще человек везучий. И что Чечню прошел целым, и что родители такие, и что судьба свела меня с Петром Григорьевичем.
— Даст бог, Костя, я еще дождусь, когда ты познакомишь Галю со своими… А теперь давай спать. Завтра тяжелейший день.
Яша сидел в своем крошечном кабинетике в лабораторном корпусе, когда в дверь постучали.
— Входите, — буркнул Яша, отодвигая от себя ноутбук и стопку исписанных листков.
— Добрый день, Яков Борисович, — поздоровалась с ним Ольга Филева, входя, точнее втискиваясь в кабинет.
— Олечка, вот не ожидал тебя увидеть…
— Мы разве на «ты»? — сухо спросила Ольга.
— Мне казалось, — смутился Яша, — что после того, как мы…
— Вы имеете в виду то, что провели вместе ночь? Боюсь, у вас несколько старомодные понятия, дорогой Яков Борисович. Секс — это ведь как рукопожатие, которое вовсе не означает близкого знакомства. Пожав друг другу руки, люди ведь не переходят автоматически на ты. Простое представление друг другу.
— Боже, Ольга Игнатьевна, каким глубоким старцем я себя чувствую, — пригорюнился Яша, — отстал, безнадежно отстал. Только что меня в шутку называли вундеркиндом. Какой кинд, вундералте, скорее. Итак, Ольга Игнатьевна, чем могу служить?
— Вот это уже слова не мальчика, но мужа, — важно кивнула Ольга. — Вы разрешите присесть?
— Буду польщен, сударыня.
— Яков Борисович, я, конечно, всего-навсего аспирантка, тема диссертации которой весьма далека от информатики, но я давно балуюсь программированием. И, мне кажется, у меня получилась довольно забавная компьютерная программка, которая позволяет компьютеру распознавать голос пользователя и выполнять команды, поданные этим голосом.
— О, фройляйн Филева, боюсь вас разочаровать, но таких программ, сколько я знаю, не один десяток.
— Совершенно верно, герр Свирский. Точнее, двенадцать, с которыми я могла познакомиться.
— Тогда…
— Некоторые люди утверждают, что вы не лишены способностей и обладаете быстрым умом. Не Ландау, конечно, и не Фейнман, но тем не менее так говорят. По-видимому, это большое преувеличение. Потому что вы могли бы легко догадаться, что такая гордая и независимая девушка, как я, никогда не стала бы вас беспокоить только для того, чтобы показать свою образованность в ИТ-технологиях. Моя программа в отличие от других не просто выполняет голосовую команду, она сама выбирает наилучший путь для решения предложенной задачи, используя все данные, которые заложены в ее память.
Я подумала, что если в вас еще живо чисто детское нетерпеливое любопытство, вы захотите тут же проверить, как работает мой продукт. Чтобы не тратить время на его загрузку в ваш ноутбук — а программа довольно большая, — я принесла свой ноутбук с уже установленной программой. Если вам угодно, герр Свирский…
— Битте, фройляйн Филева, их варте…
— Гут, герр Свирский. — Ольга вынула из большой сумки ноутбук и поставила его на стол.
— Начинай, мой маленький, — сказала Оля.
— Это мне? — спросил Яша.
— Найн, это я своему ноутбуку. Видите?
Крышка ноутбука сама по себе откинулась, показались пушистые облака заставки, а затем на мониторе появились привычные каждому пользователю иконки.
— Мой маленький, что делать робкой девушке, пришедшей к суровому работодателю для предложения своих услуг?
— Сударыня, какая форма ответа устроит вас больше, — спросил компьютер голосом Ольги, — письменная или устная?
— Устная.
— Прекрасно. Язык? Я спрашиваю о языке, потому что я слышал немецкое слово.
— Русский, мой маленький.
— Благодарю вас, сударыня. Робкая девушка должна прежде всего произвести благоприятное впечатление.
— Каким образом?
— Зависит от характера работодателя. Можно приятно улыбаться и кокетничать, а можно продемонстрировать свои познания в области, в которой бы хотела работать робкая девушка.
— Мой маленький, ты немножко знаешь мой характер, что ты рекомендуешь мне?
— Глубокие познания, которые должны сопровождаться по возможности приятной улыбкой. Ни в коем случае не чмокайте работодателя в щеку, как вы это делаете со мной, когда вам нравится мой ответ, сударыня.
— Спасибо, мой маленький. Отдохни немножко.
— Скажите, Ольга Игнатьевна, а я могу задать вашей программе вопрос?
— Разумеется. Только с моего разрешения, потому что она автоматически анализирует голосовой спектр собеседника и игнорирует голос, который не вписан в программу.
— А что значат слова «мой маленький»?
— Это и дополнительный пароль и чувства матери к созданному ею… скажем, существу, потому что порой мне кажется, что программа начинает жить своей жизнью. — Мой маленький, ты должен ответить на вопрос, который сейчас тебе задаст мужской голос.
— Слушаюсь, сударыня.
— Как мне обращаться к вам? — спросил у ноутбука Яша. — Я же не могу назвать вас «мой маленький».
— Совершенно верно. Нейтральное обращение ко мне ПОФ. Это сокращение от слов «Программа Ольги Филевой».
— Благодарю вас, ПОФ. Скажите, каков характер вашей хозяйки и создательницы?
— Подождите несколько секунд, я должен взвесить ряд трудно сопоставимых данных. По-моему, характер у нее нелегкий, но замечательный.
— Благодарю вас, ПОФ. Прекрасный ответ, и я рад, что ваш ответ полностью совпадает с моим собственным мнением. Я могу выключить вас?
— Нет, это прерогатива моей создательницы.
Яша молча посмотрел на Ольгу, которая внимательно наблюдала за ним.
— Я потрясен, Ольга Игнатьевна. Беседа с вашим маленьким обрушивает на человека целый поток чувств, мыслей, планов. Насколько я знаю, ничего похожего в мире нет. И вообще она пугающе приближается к искусственному интеллекту. Она так и просится в наш новый компьютер. Считайте, что вы уже в штате. Повторяю, я восхищен. И опечален.
— Почему же, Яков Борисович?
— Не стану скрывать от вас, вы произвели на меня сильнейшее впечатление еще тогда, когда я и понятия не имел о ваших занятиях программированием. И мне казалось… мечталось… чудилось, что… между нами… ну, вы понимаете… Но теперь это всё, увы, кажется совершенно невозможным.
— Почему же? — спросила Ольга.
— Любить любую женщину непросто. Умную — тем более. Это настолько банально, что даже не нуждается в объяснениях. Любить талантливую еще труднее, а обнять такого гения… такую гению… и вовсе невозможно. — Яша громко всхлипнул.
— Вы в этом уверены? — надменно спросила Ольга.
— Боюсь, что да.
— Тогда, как настоящие ученые, на звание которых мы скромно претендуем, мы должны проверить эту гипотезу экспериментально. — С этими словами Ольга начала снимать всё со стола.
— Что вы делаете?
— Мы должны проверить, возможен ли секс между нами.
— Как, прямо на столе? — с трудом подавляя смех, спросил Яша.
— Прямо на столе. Потому что на полу у вас, к сожалению, нет места, — сурово заявила Ольга.
— Но люди могут увидеть…
— Пусть видят, чем занимается в рабочее время вице-президент компании. — Ольга, казалось, не делала никаких движений, но каким-то таинственным образом курточка ее сама по себе оказалась лежащей на стуле вместе с кофточкой, и две ее небольшие грудки смотрели на Яшу с презрительным вызовом.
— Так гибнут репутации, — всхлипнул он, заключая Ольгу в объятия. Но тут же внезапно замер и спросил: — Ольга Игнатьевна, а если добавить к компьютеру крохотную веб-камеру, сможет ли ваша программа узнавать пользователя?
— Сможет, герр Свирский, сможет, я уже прикидывала. Но в данный момент, — строго добавила она, — я бы попросила вас не отвлекаться. И пожалуйста, не смейтесь так громко, а то сюда сбежится вся лаборатория…
Странное какое-то было у него состояние, отметил про себя Костя. Нет, не потому, что мог завтра лететь в Цюрих и пересчитывать свои миллионы. Они как раз никакого отношения к его состоянию не имели. Миллионы эти Петра Григорьевича лежали в банке и ровным счетом ничего в его жизни не меняли. Что три миллиона, что тридцать, что сто тридцать — ну никак эти цифры не соотносились с ним и никакого касательства к нему не имели. Дело было в другом. Первый раз в жизни Костя взглянул на себя со стороны. Первый раз подумал о себе не «я», а «он». А то ведь живешь по инерции, и думаешь по инерции, и видишь всё по инерции. И не видишь себя по-настоящему. А тут вдруг увидел, увидел в тот самый момент, когда Евгений Викторович заговорил о том, что он может стать президентом компании. Увидел себя и четко понял, что никаким президентом он не станет. И не только потому, что не хочет. Он еще и не может. Он не ведущий, он ведомый. Это не значит хороший или плохой, просто такой. Вот в нем, допустим, сто семьдесят восемь сантиметров роста. А для какого-то дела, скажем, баскетбола, нужно как минимум сто девяносто, а желательно и побольше. Значит, это не для него. Не убивается же он от того, что не может танцевать в балете Большого или играть главную роль в каком-нибудь фильме. И даже успокаивать себя не нужно, потому что не было в нем туго взведенной пружины неудовлетворенных амбиций. Не было, и всё тут.
Поэтому-то так было ему хорошо с Петром Григорьевичем. И не только потому, что он спас его от почти верного срока и взял на работу к себе. И относился как к сыну. А потому еще, что был он у Петра Григорьевича ведомым. Вот Петр Григорьевич — он был ведущим. Всякое у его шефа в жизни бывало, сам ему рассказывал, и взлеты и падения, и синяки, и шишки, и шипы, и розы. Но был при этом он всё равно ведущим. А он, Костя, ведомым.
Ну а непривычное его состояние — это, наверное, потому, что идешь словно в тумане и вдруг пелена спадает и видишь всё вокруг с непривычной четкостью и ясностью. Что ж, лучше знать себе подлинную цену, чем питать иллюзии. Да и вообще, были ли у него какие-то иллюзии в отношении себя? Да нет, пожалуй…
А с Галиной Дмитриевной — тут дело было святое. Раз просил его Евгений Викторович, другими словами, сам покойный Петр Григорьевич, как-то помочь ей, что ж, ради Петра Григорьевича он однажды собрался даже жизнь отдать. Это святое.
Он вытащил из кармана мобильный и позвонил вдове покойного шефа.
— Галина Дмитриевна, — сказал Костя и неожиданно для себя сообразил, что сердце его отчего-то билось так, словно он пробежал марафонскую дистанцию, — это Костя…
— Как хорошо, что вы позвонили…
— Правда?
— Правда, истинная правда.
— Галина Дмитриевна…
— Может быть, просто Галя? А то я вас всегда звала просто Костей. Ну, как к супруге вашего начальника вы, наверное, и должны были обращаться по имени-отчеству, но теперь… Галя. Согласны?
— Согласен, Галя… У меня к вам просьба.
— А именно?
— Можно я приглашу вас пообедать со мной?
— Ой, конечно. А то я сижу одна как сыч в четырех стенах.
— Часа в два?
— Хорошо. А где…
— Я заеду за вами, и мы, если вы не возражаете, поедем в любимый ресторанчик Петра Григорьевича около Пушкинской площади.
— Спасибо, Костя, — вздохнула Галя. — А как мне одеться?
— В каком смысле?
— Я уж и не помню, когда мы с Петей были в ресторане. Может, нужно как-то специально одеться?
— О чем вы. Вы и в домашнем халате выглядите нарядно.
— Это шутка или комплимент?
— Ни то, ни другое.
— А что же?
— Сухая констатация факта, Галя.
— Спасибо.
— При чем тут спасибо, эдак мы только и будем делать, что кланяться и благодарить друг друга. Значит, в два.
— Жду вас.
— Дети мои, — торжественно сказал Яша и обвел глазами сотрудников лаборатории. — Дети мои, к вам обращаюсь я… А если серьезно, я попросил вас собраться вот по какому поводу. Кто-нибудь из вас знаком с Олей Филевой?
— Я имел честь подвезти ее до города, — сказал Исидор Исидорович.
— И какое у тебя сложилось о ней впечатление?
— В высшей степени незаурядное существо.
— Это еще мало сказано. Она хулиганка, конечно, врожденная бунтарка и эпатажница, но чистой воды гений.
— В какой области, господин вице-президент? — спросил Свистунов. — А то вся лаборатория обсуждает ее внешность, манеры и ваш загорающийся взгляд, когда речь заходит о ней. Некоторые даже говорят, что своими глазами видели, как вы начинаете дымиться и искриться. И даже запах серы чувствовали.
— Не скрою, дети мои, я поражен, точнее, даже уязвлен ею в сердце, но ради официального сообщения о своей влюбленности я бы не собрал вас. Я поражен ею и в голову.
— Какая меткость, одним махом двух убивахом: в сердце и голову… — покачал недоверчиво головой Свистунов.
— Скепсис твой, дорогой мой соратник, вполне понятен. Но против каждого скепсиса есть факты. А факты вкратце таковы. Ольга принесла программу, созданную ею, которая меня просто потрясла. Она не только выполняет голосовые команды, она выбирает из имеющихся в памяти баз данных наиболее важные для выполнения команды, сама выбирает алгоритм решения задачи и выполняет задание. Мало того что программа выполняет голосовые команды, она и отвечает голосом. Голосом программистки, конечно, но как… Ловишь себя на том, что просто беседуешь с живым существом. Если говорить о чем-то похожем на искусственный интеллект, то это именно такой случай. И непонятно, то ли компьютер пользуется только готовыми фразами, вписанными в программу, то ли спонтанно составляет новые.
Как вы сами прекрасно знаете, к тому же само понятие интеллект довольно расплывчато. Это касается как естественного, так и искусственного интеллекта. Как я себе представляю, умный человек в наиболее общепринятом смысле этого слова — это человек, наиболее адекватно реагирующий на ситуацию, будь это вопрос о самочувствии или призыв идти на баррикады. Если на вопрос о самочувствии человек просто кратко отвечает, как он себя чувствует, — это признак нормы. Если на этот же вопрос человек начинает длиннейший рассказ с перечислением всех своих недугов за последние десять лет с цитированием по памяти анализов мочи, крови и т. д. — это уже знак того, что пред нами глуповатый зануда. Умным его не назовешь, но все же каким-то интеллектом он обладает. Но если на всё тот же вопрос человек ответит, что Колумбия находится в Южной Америке, это будет однозначно означать, что выбор ответа неадекватен и что перед нами человек, интеллект которого крайне ограничен или в интеллекте которого произошел сбой.
Если же взять интеллект какой-нибудь идиотки, которая занята в основном сидением перед телевизором и переживаниями героев и героинь наивно-глуповатых сериалов, мы увидим, что в лучшем случае ее ответ на какой-нибудь вопрос или ситуацию будет взят из очередного сериала. Или из рекламных роликов. Вы этого достойны или розовый цвет — и пятен нет. Поэтому считать ее обладательницей интеллекта можно с большой натяжкой. Если сравнить ее примитивные реакции с такими мощными интеллектами, как, скажем, у вас, друзья мои, то разница между ними огромная. Ваш ответ, как правило, трудно предсказуем.
Так что по сравнению с нашей гипотетической телезрительницей, эдакой современной Эллочкой-людоедочкой, вполне может быть, что искусственный интеллект уже почти достигнут. У меня во всяком случае мурашки по спине бегали, когда я беседовал с ПОФ.
— А это что такое? — спросил Исидор Исидорович.
— Сокращение от «Программа Ольги Филевой». Теперь представьте себе на секунду, что эта программа встроена в наш новый компьютер, да еще с миниатюрной веб-камерой, которая сможет узнавать пользователя, если его фото хранится в памяти компьютера. Представляете себе, какое впечатление произведет такая машина на покупателя? Да, мы-то знаем, что наш флэш мощнее, быстрее и компактнее других ноутбуков, но все эти данные чисто технические, а покупатель часто прежде всего реагирует на нечто сразу видимое, необычное, осязаемое. Ну, например, как сенсорные экраны в айфонах и айподах Эппла и многих других продуктах ИТ.
Сейчас я продемонстрирую вам работу ПОФ, и мы начнем думать, как эффективнее использовать программу на нашей машине. Я думаю, все согласны, что наш компьютер должен работать на платформе Виндоус. И потому, что огромная часть пользователей во всем мире, да и у нас, пользуются именно этой платформой, и потому, что у нас просто нет времени на разработку своей платформы. Это ведь титанический труд, и для нашего крошечного по масштабу ИТ-гигантов «РуссИТ» просто непосильный. А конкуренция такова, что мы должны как можно раньше запатентовать наш продукт. Согласны?
— Разумеется. Кстати, а почему сама госпожа Филева отсутствует? Может быть, она так скромна, что ей тяжело бы было выслушивать ваши комплименты, Яков Борисович? — спросил Исидор Исидорович.
— Ну, болезненной скромностью она, как я сумел убедиться, не страдает. Просто у нее сегодня экзамен какой-то или что-то вроде этого. Не забывайте, что она аспирантка мехмата МГУ. Сейчас я пытаюсь уговорить ее перейти к нам в штат. В крайнем случае, на полставки. Всё, дети мои, за работу. И помните, что если наша машина не будет готова к Новому году, я твердо обещал президенту, что мне, к сожалению, придется сделать себе сеппуку.
— Это что, бонус такой?
— В каком-то смысле, да. Во всяком случае, для самурая. Сеппуку это по существу то же, что харакири. То есть, вскрытие себе живота. А для него вскрыть себе живот — это высокая честь.
— Не дай бог, господин вице-президент, вы сначала добейтесь прибавки нам в зарплате, — твердо сказал Исидор Исидорович, — а потом уже делайте себе эту самую сеппуку.
— Спасибо на добром слове, друг мой, — важно сказал Яша. — Оно ведь, как известно, и кошке приятно.
— Кошки, господин вице-президент, зарплату нам не устанавливают и уж подавно не делают себе харакири.
— Всё, юные бандиты, за работу.
16
— Евгений Викторович, — сказал Яша, усаживаясь напротив президента, — у меня к вам небольшой, но важный разговор.
— Слушаю, Яша.
— Похоже, что сразу же после презентации о нашем флэш-компьютере заговорит весь мир.
— Это почему же? Я не сомневаюсь, что ваша машина действительно хороша и даже в чем-то революционна, но чтобы о ней заговорил весь мир…
— Понимаете, ко мне пришла аспирантка мехмата МГУ Ольга Филева и принесла программу, которая просто потрясла меня.
— Вот уж не думал, что тебя что-то может потрясти.
— Я говорю серьезно. Во-первых, она позволяет пользователю общаться с компьютером голосом. И машина не только понимает то, что от нее хотят, она еще и отвечает тоже голосом. То есть возникает нечто вроде вполне интеллектуального голосового общения, то есть беседы. Над проблемой возможности создания искусственного интеллекта у компьютера вот уже не первое десятилетие бьются лучшие умы в нашей области и пока что не одержали ни одной настоящей победы. И никто даже не может сформулировать, что такое интеллект вообще и у компьютеров в частности. Я вам не готов еще однозначно ответить, как близко в философском смысле подошла программа Филевой к решению этой проблемы. Это вообще материал Нобелевской премии. Но практически она очень похожа на ИИ.
— ИИ?
— Искусственный интеллект. У меня, во всяком случае, при общении с программой возникало ощущение, что я беседую с чем-то гораздо большим, чем просто набор записанных программистом команд и алгоритмов. И смею вас уверить, что такое же чувство возникнет у любого человека, который возьмет в руки ноутбук с этой программой. Вот почему я говорю о впечатлении, которое произведет наша машина. Причем я уже начал обдумывать, как устроить презентацию наиболее эффективно. Я обещал вам, что машина будет готова к Новому году. И думаю, что выполню это обещание. Я торжественно обещал своим сотрудникам сделать себе харакири, если не уложимся в срок. Как у нас с деньгами?
— Сколько тебе нужно? Не на харакири, конечно, это как раз недорого, нужен только хороший нож, а на само твое чудо.
— Премия Филевой, премии всей команде, доводка прототипов до кондиции, устройство самой презентации. Я имею в виду банкетный зал в хорошем ресторане, его оформление, угощение человек на сто — сто пятьдесят, печать и рассылка приглашений и т. д. Сугубо приблизительно миллионов пять.
— Рублей?
— Рублей. Можно в любой конвертируемой валюте. Например, в японских иенах или долларах Новой Зеландии.
— Нет проблемы, Яков Борисович. Знаешь, почему я так верю тебе?
— Лицо такое честное?
— Почти. Глаза у тебя смешливые и непочтительные, но очень честные. Иди с богом, сын мой, и работай.
Было поздно, решил Яша, наверное, не меньше часа ночи. Он зажег лампу на тумбочке у кровати. Так и есть. Четверть второго. Сна не просто не было, даже сама мысль о сне казалась нелепой. Как это вообще происходит, что люди засыпают? Мысли и впечатления должны перед погружением в сон замедляться, густеть, спотыкаться, образно выражаясь, и замирать в оцепенении. Но сейчас они и не думали спотыкаться и присаживаться отдохнуть. Они неслись, как пришпоренные. Четкие, яркие, совершенно неподвластные сну. Не случайно, наверное, подумал он, бурный поток обычно не замерзает.
Он думал об Ольге и никак не мог свести в одно целое два, да что два, скорее три таких странных и не похожих друг на друга существа, что жили в ней: озорная, поразительно бесстыжая девчонка, нежная и пылкая женщина и потрясающий интеллект. Господи, хватит ли у него сил, мужества, таланта, чтобы быть с ней. Если, конечно, она этого захочет. В чем он совершенно не был уверен. Обычно, когда на пляже мужчины видят красивую женщину, они инстинктивно втягивают животы, стараясь казаться атлетичнее и привлекательнее. Быть рядом с Олей значило бы не только постоянно втягивать живот, образно выражаясь. С ней нельзя было бы сутулиться, тоже образно выражаясь, с ней нельзя было быть небритым и говорить банальности. С ней трудно было представить себя задумчиво ковыряющимся между пальцами ног или блаженно рыгающим после обеда или тем более уютно портящим воздух. Другими словами, с ней нельзя было бы быть обычным человеком. Нужно было бы соответствовать ей. Двадцать четыре часа в сутки. Хотел бы он этого? Наверное, да. Во всяком случае, пока — да. Смог бы — вот в чем был вопрос. Большой изогнутый дугой хвостатый вопрос. Хотя где-то в самом уголке сознания копошилась надежда, что и Оля-то тоже вряд ли способна делать замечательные открытия или заниматься хулиганским сексом двадцать четыре часа в сутки. И она должна иногда рыгнуть после сытного обеда, поковырять в носу или ушах и даже испортить воздух. Надежда эта нисколько не снижала привлекательность Оли. Наоборот, она делала ее ближе, желаннее и привлекательнее. Наверное, подумал Яша, это и есть один из признаков влюбленности.
Он думал о новой машине с ее встроенной программой, о революции на рынке информационных технологий. От одного этого сама идея бессмысленного сна казалась абсурдной. Какой может быть сон с обычно дурацкими сновидениями, когда явь куда увлекательнее и необычнее.
Он думал о том, как легко ему работалось с Евгением Викторовичем, как быстро он согласился с просьбой о деньгах. И зачем-то объяснил, почему так верит ему. Глаза у тебя смешливые, непочтительные, сказал он, но очень честные.
Яша вдруг почувствовал, как сердце его забилось. Почему? Он что, уже окончательно спятил? Разве может его сердце колотиться от шутливого комплимента? Тогда почему же… почему? Слова были знакомыми. Вот в чем дело. Ну, конечно же. Когда он только начинал работать в «РуссИТ», Петр Григорьевич как-то произнес именно такие слова. Он вспомнил этот момент с предельной четкостью. Да, именно эти слова. Но тогда…
Неведомая сила, словно пружиной вытолкнула его из постели. Ведь он уже сталкивался с такими странностями. Когда Евгений Викторович вдруг говорил что-то такое, что мог сказать только покойный Петр Григорьевич. И тогда он уже пытался найти какое-то объяснение странностям в словах и поведении Евгения Викторовича. Как он, например, пытался понять, почему вдруг новый президент компании, человек, безусловно умный и незаурядный, будет хвастаться тем, что в ресторане «Ми пьяче» его все знают, когда на самом деле его там никто в глаза не видел. Именно тогда в мозгу его образовался некий паззл, который никак не хотел складываться, потому что для складывания его в ясную картинку требовалось одно небольшое абсурдное допущение. А именно, что Евгений Викторович и есть покойный Петр Григорьевич. Что, безусловно, было абсурдом. Но тем не менее допущение было. Потому что представить себе, как президент компании «РуссИТ» Петр Григорьевич Илларионов вызывает к себе аналитика компании и говорит: а знаете, у Яши Свирского глаза смешливые и непочтительные, но очень честные, было никак не меньшим абсурдом… Безусловно, не меньшим.
И говоря о глазах, как раз глаза Евгения Викторовича были отнюдь не смешливы. Были они наоборот печальны, даже в момент, когда должны они были сиять от успехов. Как, например, при успехе всей этой операции с китайцем. Или даже сегодня, когда он рассказывал об Олиной программе.
И чем больше Яша пытался найти какое-нибудь более или менее разумное объяснение паззлу президента, как Яша давно уже назвал для себя загадку Евгения Викторовича, тем четче он видел, что никакого объяснения не было. Кроме одного, но абсурдного. Но бывают ведь случаи, когда самые, казалось бы, абсурдные вещи оказывались реальными…
В эту секунду он отчетливо понял, что не успокоится, пока не расскажет обо всех своих сомнениях самому Евгению Викторовичу.
Решение это, столь же нелепое, как и сам паззл, сразу же успокоило хаос мыслей и чувств, крутившихся у него в голове, и мысль о сне уже не казалась нелепой. Тем более что в комнате появился двуглавый дракон с головами Петра Григорьевича и Евгения Викторовича. Все четыре глаза у него были печальны, он это ясно видел. Что было странно, потому что дракон вел под руку Олю Филеву, причем она была абсолютно голая. Вот это уже точно был сон, решил Яша. Она, конечно, непредсказуема, но чтобы вот так спокойно прогуливаться голой под ручку с двухголовым драконом — это было уж слишком. Он спал.
Евгений Викторович сидел в своем кабинете и размышлял, не пришло ли время воспользоваться своей договоренностью со швейцарским банком и взять часть денег оттуда в виде займа. Или, может быть, имеет смысл создать совместно с банком компанию для продвижения новой машины на европейской рынок. Вопрос был непрост и требовал обдумывания.
В кармане у него тренькнул мобильный, но пока он доставал его, он уже сообразил, что звук был не его мобильного, а телефона старшего аналитика, который он нашел, когда первый раз приехал на Флотскую. Он никому не смог бы объяснить, почему не только оставил себе этот телефон, которым не пользовался сам и по которому ему никто не звонил, начиная с «Г» — Гали и до знакомых аналитика, которых оказалось на удивление мало. Но со странным упорством он постоянно подзаряжал его и носил с собой. Может быть, как память о человеке, которого он убил.
— Слушаю, — сказал он.
— Женечка, — послышался немолодой женский голос, — здравствуй, сынок. Что-то ты совсем нас забыл…
Это была мать. Звонок, которого он подсознательно боялся больше всего. Сердце его заколотилось, а на лбу мигом выступила испарина. Что сказать ей, как? Сказать «не звоните больше, вашего сына давно нет в живых, потому что я его убил и завладел его телом»? Он никогда бы не смог этого сделать. Ни губы, ни язык никогда не смогли бы выдавить из него такие чудовищно жестокие слова.
Он вдруг почувствовал странную тошнотворную слабость. Голова была пуста. И вдруг откуда-то, из самых глубин его памяти, о существовании которых он и не подозревал, тихо всплыло, поднялось наверх к сознанию незнакомое слово «ма».
— Что ты, ма, как я могу забыть… — можно ли сказать «вас»? А вдруг отца давно нет в живых? И опять, как только что случилось со странным словом «ма», откуда-то возникло морщинистое хмурое лицо с невесело опущенными крылышками седеньких усов. И прежде чем он успел мысленно рассмотреть его, он уже знал, хотя знать не мог и не должен был, что это лицо его отца. Ну, то, что старика зовут Виктор он знал хотя бы потому, что отчество у него было Викторович. А отчество отца? Нет, не знал, и знать не мог…
— Что ты, ма, — повторил он и почувствовал, как почему-то потерял четкость и расплылся раскрытый еженедельник, который лежал перед ним на столе. — Как я могу забыть вас… Просто, просто такое было сложное у меня время…
— Что-нибудь случилось, сынок? Не томи…
— Случилось, но ничего плохого. Скорее, наоборот…
— Как это?
— Меня сделали президентом.
— Как президентом? У нас же президент…
— Президентом компании, в которой я работал. И сразу столько обязанностей, проблем, сразу судьба стольких людей стала зависеть от меня… Ты себе представить не можешь.
— И как же ты справляешься? Наш Женька — и президент, — голос матери звучал так тепло, так по-домашнему, столько чувств, оказывается, может уместиться в несколько слов: и любовь, и материнская гордость, и боязнь за своего сына, и сомнения…
— Справляюсь помаленечку. Ма, ты могла бы сделать для меня одну вещь? — начав задавать вопрос, он еще не знал, что хочет спросить, и на краткое мгновенье испугался, что сейчас должен будет придумать что-нибудь или замолчать. Но к величайшему своему изумлению в следующую секунду он уже знал, что попросит сделать мать.
— Конечно, сынок, много у нас нет, Юльке помогаем сколько можем, но если тебе нужны деньги… У тебя долги? Или тебе пришлось заплатить за это… ну, чтобы стать, как ты называешь, президентом?
— Не угадала, ма, — рассмеялся Евгений Викторович и вдруг сообразил, что смеется впервые за долгое время, что тяжесть, которая так настойчиво гнула его к земле, исчезла. Отступила куда-то. — Нет, ма, денег мне не нужно. Наоборот…
— Как это наоборот?
— А так. Ты можешь тихонько, чтобы он не заметил, взять сберкнижку отца и продиктовать мне номер его счета, номер сберкассы, ну, всё, что там на первой страничке. Только отцу не говори.
— А зачем, Женечка, может, ты все-таки что-то скрываешь от нас? Так ты не бойся, что сможем… ты же знаешь… отец, правда, так обижен на тебя, что ты не звонишь, но виду не подает… Ты ж его знаешь. И мне запретил звонить тебе. Задрал, говорит, нос, на что ему два старика. А я терпела, терпела, вот и не выдержала — позвонила тебе.
— Ты, ма, не волнуйся. Когда увидимся — всё расскажу. И звони и по этому телефону, что ты сейчас набрала, и по другим. Записывай. Это еще один мобильный, а этот через секретаря.
— Какого секретаря?
— Моего. Была Анна Николаевна, да пришлось уволить ее. Теперь Людмила Ивановна.
— Женечка, я что-то не пойму, правду ты говоришь или все шутишь? Это что, ты правда начальник?
— Ну, не очень большой. Скорее начальничек. Всего под твоим сыном человек около двухсот трудятся. Но не будем отвлекаться. Ты сможешь найти сберкнижку отца?
— Конечно. Она всегда на комоде под лебедем.
— Лебедем?
— Видишь, ты, оказывается и правда зазнался. Забыл про хрустального лебедя, которого ты мне подарил на день рождения. А вот и сберкнижка. Диктую…
Евгений Викторович записал данные.
— Спасибо, ма. — Евгений Викторович хотел было сказать, что теперь будет звонить чаще, но сообразил, что не знает номер телефона родителей. Господи, как же, оказывается, нелегко быть Штирлицем двадцать четыре часа в сутки. Двадцать четыре часа начеку. — А телефон у вас тот же?
— А какой же еще?
— А я звоню, звоню, попадаю всё не туда. Повтори мне номер. — Он быстро записал номер. — Только отцу не говори, что я спрашивал про его сберкнижку.
— А почему, Женечка?
— На днях узнаете. Когда отец обычно платит за квартиру?
— Сейчас соображу. Пенсии у нас перечисляют обычно числа десятого, а отец платит пятнадцатого. Ты ведь его знаешь, он человек четкий. Если я чего не на положенное место положу, такой скандал закатит. Ну, спасибо, сынок, за добрые вести, а то и отца ослушаться боялась, и за тебя всё волновалась, как ты там, почему не звонишь.
— Спасибо, ма. Целую.
Евгений Викторович откинулся в кресле и закрыл глаза. Веселящее облегчение, что неожиданно снизошло на него во время звонка, не проходило, и он впитывал его всем телом. Он даже пошевелиться боялся, чтобы не спугнуть давно забытого умиротворения. Но все-таки, почему ему вдруг стало легче дышать? Только оттого, что он поговорил с матерью? С чьей матерью — это ведь тоже было не совсем ясно. Нет, может быть, потом он постарается проанализировать свои чувства и источник поднявшихся на поверхность сознания слов и знаний. Но не сейчас. Жалко было бы потерять промелькнувшее ощущение душевного спокойствия, которое и без того уже начало отступать под привычным грузом тихого отчаяния.
Он открыл сейф, выгреб почти все наличные — чуть больше миллиона рублей, и попросил секретаря отправить перевод на миллион рублей на сберкнижку отца.
Виктор Тихонович Долгих взял сберкнижку, жэковский счет — совсем охренели они, что ли, это ж надо такие суммы требовать — паспорт и отправился в сберкассу. Еще не было и середины октября, а снег валил вовсю, и морозный ветер так и кусал за уши. А еще пишут о глобальном потеплении. По погоде в Томске этого не скажешь. Как была Сибирь, так и осталась Сибирью.
Шел он не спеша, стараясь ставить ноги поувереннее. После микроинсульта, перенесенного год назад, всё время было у него ощущение, что вот-вот голова закружится, и он упадет, поскользнувшись. А это, предупреждал его врач, не дай бог, належишься с переломом. В старости кости плохо срастаются. В старости всё легко ломается и плохо срастается. Он шел по их Горшковскому переулку и думал, что если зима опять будет снежной, а чистить будут так же плохо, как всегда, засыплет их трехэтажный домик в один прекрасный день так, что и не вылезешь на свет божий. На углу, где переулок впадал в проспект Фрунзе, на котором была сберкасса, порывы ветра завивали маленькие снеговые буранчики.
Не нравилось Виктору Тихоновичу всё, что окружало его и вообще всё, что происходило в стране. Потому что порядка стало меньше. А точнее, не стало его вовсе. Раньше всё было на своих местах. И порядки, и вещи, и люди. Если был он замдиректора автобусного парка, значит, отвечал он и за автобусы, за их техсостояние, за водителей. А теперь что… А и не поймешь что. Частные какие-то маршрутки появились, черт знает, кого за руль сажают, одной рукой руль крутят, другой на ходу деньги собирают. А то и вообще руль не держат. Выручка-то важнее. Вот и давят народишко почем зря.
А вот и сберкасса. Хоть здесь повезло — очереди никакой. Он поздоровался с девушкой — да какая Марина девушка, ей, поди, уже под сорок, сидит здесь, наверное, лет сто — протянул книжку и сказал:
— Мариночка, пять тысяч мне, пожалуйста.
Марина забарабанила маникюром по клавишам компьютера, потом вдруг остановилась, глянула на Виктора Тихоновича, позвала своих коллег, и вот уже три операционистки склонили три одинаково выкрашенные в цвет волос известной певицы головки и стали смотреть в компьютер. Чего они там не видели? Раньше компьютеров никаких не было, по карточкам всё разносили, а работали вроде и побыстрее, чем сейчас. Ну, слава богу, управились. Он взял книжку, пересчитал деньги, хотя чего там считать, пять бумажек по тысяче, их и так видно. Теперь можно было заплатить за квартиру. Он открыл книжку, чтобы посмотреть, сколько у него оставалось на счету. Что за чертовщина, какие-то цифры длинные в графе приход. Виктор Тихонович очки старался надевать пореже — у него была теория, что чем больше зрение напрягаешь, тем больше глаза тренируются. Но на этот раз пришлось залезть в карман пиджака и нацепить очки на нос.
Что за глупость, совсем девки работать отучились, всё напутали, дурехи. Он твердо помнил, что у него на счету было двенадцать тысяч с чем-то, плюс пенсия за октябрь, минус пять тысяч, которые он только что снял. Итого должно быть около тринадцати тысяч, а они чего понаписали — один миллион тринадцать тысяч двести одиннадцать. Вот дуры. А еще пишут: пересчитывайте свои деньги, не отходя от окошка кассы.
Он вернулся к Марине, которая почему-то начала улыбаться ему. То хмурая всегда как сыч, а то вдруг заулыбалась.
— Мариночка, у вас, наверное, машина сбилась, насчитала тут мне лишний миллион. А то возьму и сбегу с ним.
— И бегите на здоровье, только жену не бросайте. В крайнем случае, можете меня прихватить. Деньги-то ваши.
— Как мои? Миллион-то не мой.
— Может, он раньше и не ваш был, а теперь ваш, зачислен на ваш счет. Я еще подумала, может, вам лучше такие деньги не на текущем держать, а положить на какой-нибудь срочный, вон их сколько разных, и накопительный, и подарочный, целый список на стене. И процент совсем другой. А то, хотите, можно часть денег в валюту перевести. Курс вон надо мной. Хотите в доллары, хотите, в евро, а можно и в иены или, скажем, швейцарские франки.
— Марин, я что-то на старости совсем ума решился. Объясни: зачем мне иены? Пойдешь за молоком в магазин и не знаешь, сколько иен за бутылку полуторапроцентного платить. Шучу, конечно. Но вообще-то, откуда у меня миллион? Я вроде ни в каких лотереях не играл. И на телевидении миллионером с Дибровым не стал. И в «Минуте славы» первое место не занимал. Откуда ж деньги?
— Это перевод вам. Мы всё проверили. Всё ж такие суммы не каждую минуту переводят. Всё честь по чести, всё правильно, Виктор Тихонович. Перевод из Москвы, а от кого и за что — про это нам не известно.
— Так куда же жаловаться?
— Да господь с вами, зачем же жаловаться? И на что жаловаться? Что много? Или мало?
— Да нет, Мариночка. Я даже в толк никак не возьму. Так это что значит, что перевод и правда мне?
— Вам-вам. Не мне же… Так что поздравляю вас, Виктор Тихонович.
— Спасибо, Мариночка…
Ну и ну, думал Виктор Тихонович, возвращаясь домой. Кто ж это мог ему из Москвы миллион рублей прислать. Чудны дела твои, господи. Ну, говорили по телевизору, что ветеранам к празднику что-то там подарят. Но не миллион же. И не ему, потому что ветераном он не был. Он и родился, когда война только-только кончилась. Что ж это выходит, от Женьки, что ли? Так опять не получается, ему, он говорил, приходится и за квартиру платить, и вообще в Москве, говорят, цены на все безумные.
На улице почему-то стало заметно теплее… Не только уши больше не щиплет, просто хоть раздевайся. Вот Даша-то удивится. Не поверит, решит, что я совсем уже тронулся. А я ей книжечку под нос, смотрите сами, решайте сами, Дарья Олеговна.
Не заметил, как оказался дома. Давно уже не скакал с такой скоростью.
— Да-аш, — крикнул он с порога жене.
— Что, Витюша?
— Я даже не знаю, что и подумать…
— А ты не думай, с каких это пор ты думать стал? Говори, что там стряслось.
— Не стряслось, а натряслось. Натряслось мне на сберкнижку миллион рублей. Можешь ты себе такое представить? Я всю голову изломал — откуда?
— Откуда деньжишки? Из леса, вестимо, отец, слышишь, рубит, а я отвожу.
— Ты всё шутишь…
— А мне что, плакать? Я уж и список составила, что нужно купить. Начнем, конечно, с коляски для Егорки.
— Даш, не издевайся. Ты что, знаешь, откуда деньги?
— От кого — знаю. От Женьки нашего, а вот что пришлет такие бабки, как теперь говорят, этого, конечно, и вообразить себе не могла. Думала, ну, может, тысяч десять или пятнадцать…
— А откуда ты… ты что, с ним разговаривала?
— Разговаривала, отец. Ты уж не дуйся. Просто время у него было такое, объяснил он мне, что не до звонков было. Так что этот подарок, считай, как бы извинение перед нами.
— А он, что, инкассатора ограбил? — спросил Виктор Тихонович, стараясь не рассмеяться. Давно уже не было у него на душе так хорошо.
— Подымай выше, отец. Твой сын теперь президент компании. Я-то, старая дура, когда с ним разговаривала, всё допытывалась, может тебе, говорю, деньги нужны, а то в Москве… Садись обедать, а потом пойдем…
— Куда?
— Шопинг делать, понял, старый?
Им повезло, и Костя сразу нашел место для машины во дворе ресторана. Он выскочил из «лексуса» и галантно открыл дверцу для Гали. На ней было длинное черное кашемировое пальто. Такая она была красивая, что у него даже сердце екнуло. Хорошо хоть, что не остановилось.
— Спасибо, Костя, — сказала она и улыбнулась. Костю словно током ударило. Может потому, подумал он, что никогда не видел Галиной улыбки. И сама была она хороша, а улыбка так просто необыкновенная. И веселая, и сдержанная одновременно, потому что, наверное, она еще в трауре и стесняется улыбаться.
Они поднялись на второй этаж, и официант усадил их за столик на двоих.
— Правда, Петр Григорьевич любил это место?
— Очень.
— А я вот даже и не знала об этом ресторане. И почему он меня никогда не приглашал сюда? Да и вообще, он меня ресторанами не баловал… И вообще, Костя, он меня… как бы это выразить… он мне никогда ничего не рассказывал. Я никогда не приставала к нему с всякими расспросами… я вообще, если честно, очень боялась Петра Григорьевича. Всё мне казалось, что что-то я не так делаю. Что необразованная я, просто дурочка какая-то провинциальная…
— Галя, если б вы знали, как он вкалывал… Это ж тысячи проблем всё время на твою голову сыплются. То одно, то другое. Решишь одни, а тут и новые валятся. Бизнес и за границей вещь, надо думать, нелегкая, а уж у нас и говорить не приходится. Ходьба по минному полю. Шаг в сторону — бац, и нет тебя. Он вам рассказывал, что на него покушались, что машину, в которой он должен был ехать, взорвали вместе с водителем?
— Господи, — испугалась Галя, — ужас-то какой. Ничего этого я и не знала. А водитель?
— По кусочкам собирали, рассказывал мне Петр Григорьевич. А вы знали, что он вдове ежемесячно посылал деньги?
— Нет. Я ж говорю, что жила с ним вроде бы под одной крышей, а на самом деле в разных мирах. Он в своем большом, а я в маленьком: кухня, ну, днем в фитнес-центр сбегаю. Знаете, — улыбнулась она, — так мне хотелось, чтобы Петр Григорьевич никогда не видел меня эдакой распустехой. Костя, я чувствую, вы Петра Григорьевича очень любили. Скажите мне, он со всеми был такой замкнутый?
— Да нет, Галя. Он мне много о себе рассказывал, о том, как начинал бизнесом заниматься, как сначала ездил челноком в Турцию и пёр оттуда на себе всякий ширпотреб.
— А обо мне говорил что-нибудь?
— Нет. Никогда. Не знаю уж почему. Он ведь был не только умным человеком, но и гордым. Да… И деликатным. Он для меня… Знаете, я ведь к нему не просто хорошо относился. Он ко мне как к сыну… И от тюряги спас…
— Господи, Костя, вы такой человек — и вдруг тюрьма. А за что?
— Это долгая история, как-нибудь потом расскажу. Только не думайте, я совершенно ни в чем виноват не был, только после Чечни и милицейской школы начал работать. Наивный был, вот и мешал всяким проходимцам. И он не только меня от зоны спас, к себе на работу взял, заставил английский учить. Да что говорить, просто повернул мою жизнь.
— Я, Костя, мужа тоже очень любила. Только сейчас понимаю, как любила. Но очень всё время робела. Рядом с ним всё казалась себе эдакой чуркой неотесанной. И чем больше старалась ему понравиться, тем, наверное, большей дурой казалась…
— Зачем вы так…
— Я ж только школу кончила в Рыбинске, а потом сбежала оттуда. Как-нибудь расскажу почему. Ну а в Москве одной провинциальной девчонке приходилось порой ох как не сладко. Всякое бывало. И голодная целыми днями ходила, и колготки не на что было купить, дырки на них штопала. Иногда такое одиночество охватывало, такой страх… И глупостей тоже понаделала. От страха и неуверенности. Чудом не спилась и на панели не оказалась.
Спроси меня сейчас, как годы пролетели, — я и ответить не смогу. Как в тумане. А уж когда Петр Григорьевич за мной ухаживал и предложение сделал, я, Костя, так старалась не разочаровать его, так старалась… Он мне казался таким мудрым, таким далеким — я порой от почтения просто немела, когда с ним разговаривала.
Господи, думал Костя, глядя на Галю, как всё сложно и нелепо в этом мире устроено. И для него Петр Григорьевич был не просто отцом, а высшим авторитетом. И почему у него с женой так всё не сложилось… Была бы такая женщина его, такая красавица, такая открытая, такая добрая, такая незащищенная, такая несчастная, он бы… И так остро захотелось ему прижать ее к себе, защитить, охранить, успокоить, что буквально заставлял себя сдерживаться.
Наверное, что-то почувствовала в эту минуту и Галя, потому что вдруг замолчала и посмотрела на Костю долгим испытующим взглядом и неуверенно улыбнулась.
— Костя, а есть мы что-нибудь будем?
— Будем, будем, Гал… — Он на мгновенье запнулся, потом решился: — Галочка…
— Спасибо, Костя, — очень серьезно сказала Галя. — Вы и не представляете, что вы сейчас делаете для меня…
— Вы имеете в виду заказ? Так мы еще меню не посмотрели.
— Нет, Костя, я не о меню. Но у меня такое ощущение, что всё вы понимаете, о чем я. А меню… закажите сами, вы, наверное, лучше меня в них разбираетесь.
— Честно говоря, не очень, но попробуем. Вы мне только скажите, что вы пить будете?
— А вы?
— Я за рулем. Знаете, теперь с этим строго.
— Тогда и я ограничусь соком.
Костя подозвал официанта и отметил про себя восхищенный взгляд, который тот бросил на Галю. Восхищение это было ему и приятно и немножко пугало. С такой женщиной чувствуешь себя на людях как, наверное, чувствуют себя звезды на ковровой дорожке какого-нибудь фестиваля.
Официант слегка улыбнулся мудрой улыбкой знатока человеческих душ, какая бывает только у официантов и работников загсов, и сказал:
— Разрешите принести вам антипасто…
— А что это? — по-детски спросила Галя.
— Это закуски. Потом…
— Несите всё, — сказал Костя и сам засмеялся своей купеческой удали.
— Всё не нужно, Костенька, — взмолилась Галя, — я ж не смогу вылезти из-за стола.
Ничего, я вас на руках отнесу.
Нет, не зря, видно, так нравился Петру Григорьевичу этот ресторан. Давно уже не было ему так трепетно-хорошо на душе.
17
— Евгений Викторович, — сказал Яша, наливая президенту пива в высокий стакан, — спасибо, что вы так неожиданно быстро согласились приехать ко мне домой.
— Так ты, Вундеркинд, ведь держишь сейчас всех нас за одно место. Сделает твоя команда машину такой, какой ты мне ее обрисовал, станем все мы миллионерами и начнем к яхтам присматриваться и раздавать интервью налево и направо по всем вопросам, от экологии до археологии. А не сделаешь, пойдем по миру, подайте Христа ради. И ведь не подадут. Можешь не сомневаться: не подадут. Грошика не отстегнут. Ухмыльнутся только плотоядно, так им, выскочкам, и надо… Коллеги ведь, товарищи по цеху. А стало быть, враги и завистники. Так что я не только в твой сосновый парадиз, куда угодно примчался бы…
— Я не о том.
— А о чем же, господин вице-президент? О вашей гениальной новой сотруднице? Разбила ваше черствое сердце?
— Я смотрю, вы всё знаете… Нет, еще не разбила, но трещину уже сердце дало. Но я совсем-совсем не о том…
Что-то, наверное, в Яшином голосе насторожило Евгения Викторовича, потому что он долго и внимательно посмотрел на него.
— А о чем же?
— Евгений Викторович, я отдаю себе отчет, что скорей всего вы подымете меня на смех. Это в лучшем случае. А в худшем пошлете меня подальше, и если не туда, где дядя Макар телят не гонял, то только потому, что кто-то же должен довести проект флэш-компьютера до ума.
— Ничего себе предисловьице…
— Евгений Викторович, просить у вас прощения я не смогу, тем более что вы его, скорей всего и не дадите. Я просто хочу объяснить вам, почему затеял этот тягостный разговор. Дело в том, что моя голова устроена довольно нелепо. И не улыбайтесь, пожалуйста, я вовсе не кокетничаю. Мой мозг устроен по принципу репейника — если что-нибудь прицепится к нему, я не могу успокоиться, пока не определю, что именно зацепилось.
— И что же твоя голова зацепила?
— Постараюсь объяснить. Хотя отдаю себе отчет, что звучать всё это будет предельно глупо. Но идиоты потому и идиоты, что не умеют нормально воспринимать мир. Дело в том, что порой мне кажется, будто я разговариваю не с вами…
— А с кем? — очень серьезно спросил Евгений Викторович.
— С Петром Григорьевичем.
— Это вполне естественно. Во-первых, не забывайте, что я долго работал в компании Петра Григорьевича аналитиком и многое перенял у шефа. Он ведь был для нас не только настоящим лидером, он для меня был, кроме того, и непререкаемым авторитетом.
— Разумно. Всё это я уже не раз говорил сам себе.
— Не понимаю.
— Как вы думаете, просто ли говорить такие вещи, которые я собираюсь вам высказать, в лицо президенту компании, в которой я работаю и с которым так много для меня связано? Вещи странные, непонятные и, возможно, даже оскорбительные для президента. И рисковать выставить себя в лучшем случае круглым идиотом или даже сумасшедшим. Естественно, что я постоянно искал контрдоводы всем своим подозрениям. Но настал момент, когда доводы стали брать очевидный верх над контрдоводами. Просто стало невозможно обороняться против них: прут и прут. Я понимал, что нужно было бы забыть обо всех своих подозрениях, что участь правдолюбца всегда сомнительна, а часто и просто незавидна, потому что правдолюбец раздражает всех. Большинству ведь правда не нужна. Да что там не нужна. Бегут от нее, как черт от ладана. Но что делать, если паззл никак не складывался, и я ничего не мог с этим поделать. Ни с паззлом президента, как я назвал его, ни с собой.
— Но что же все-таки мешало тебе, Яша, сложить паззл, если твои доводы были такими весомыми? — спросил Евгений Викторович, зачем-то внимательно рассматривая свой пивной стакан на свет.
— То, что основное и необходимое допущение было абсурдно. А я ведь не Тертуллиан…
— Кто это?
— Был такой ранний христианин. Если не ошибаюсь, жил он в четвертом веке. Объясняя свою веру, он произнес бессмертные слова: верую, потому что абсурдно.
— И в чем же был абсурд? Я не о твоем Тертуллиане. С ним-то как раз всё совершенно понятно.
— В том, Евгений Викторович, — почему-то печально сказал Яша, — что вы — это не вы.
— А кто я?
— Вы задаете мне этот вопрос не потому, что хотите услышать ответ. Вы его знаете, и знаете, что знаю и я.
— Тогда, Яков Борисович, почему?
— Да потому, что вы не знаете, что делать…
— Вообще или с тобой, Вундеркинд?
— Со мной. И выгнать меня нельзя, и промолчать нельзя, и открыться нельзя, дорогой Петр Григорьевич. Именно Петр Григорьевич. И слово «дорогой» я произношу без малейшей иронии, потому что я относился к нему и отношусь с величайшим почтением. Я слишком многим ему обязан.
— Итак, Яков Борисович, что же вы все-таки хотите сказать, и что не получается в вашем паззле?
— А я уже всё сказал. Для всех передо мной сейчас сидит президент «РуссИТ» Евгений Викторович Долгих, приятный человек с красивой чеховской бородкой и русой шевелюрой, который до своего нового поста, на который он был назначен смертельно больным основателем и президентом компании Петром Григорьевичем Илларионовым, работал старшим аналитиком.
— А для тебя? — очень серьезно спросил Евгений Викторович.
— Для меня вы — Петр Григорьевич Илларионов, который умер от рака поджелудочной железы и которого мы совсем недавно похоронили. Как это может быть — не знаю. Кто это сделал — не знаю. Но то, что я разговариваю сейчас с покойным Петром Григорьевичем, для меня очевидно.
— И как же ты пришел к столь… парадоксальному заключению?
— О, паззл, как все знают, складывается из кусочков. Кусочки на первый взгляд не подходят друг к другу, но если сложить их правильно, получается вполне осмысленная картинка. Ну вот, скажем, один из кусочков. Помните, когда мы были с вами в итальянском ресторане «Ми пьяче»?
— Да, и что там тебя так поразило? Я помню, что просвещал тебя о божественном происхождении пармской ветчины прошутто.
— Прошутто, как и жена Цезаря, вне подозрений. Меня поразило другое. Вы сказали, что в этом ресторане вы всех знаете, и все вас знают. Вы-то действительно знаете. Хотя бы что такое прошутто. Но вас-то никто там не знал. Ну зачем, снова и снова спрашивал я себя, умный и безусловно незаурядный человек станет хвастаться перед таким сосунком, как я, что его все знают в каком-то ресторанчике, когда его там никто не знал и в глаза не видел. Тем более — и это было очевидно — что такие вещи проверяются без малейшего труда.
Решение могло быть только одно. Если допустить, что Петр Григорьевич стал вами, я имею в виду внешне, и на минутку потерял бдительность, всё становилось на свои места. Все в «Ми пьяче» знали Петра Григорьевича, но никто не знал Евгения Викторовича. Или вот еще. Как-то Петр Григорьевич, когда брал меня в компанию, объяснил мне, почему он это делает. Он сказал, что глаза у меня смешливые и непочтительные, но честные. А совсем недавно вы, то есть Евгений Викторович, сказали мне буквально то же самое. Во-первых, само слово «смешливые» не столь уж употребительно. Но главное, спрашивал я себя, можно ли предположить, что умирающий от тяжелой болезни Петр Григорьевич, мучимый и мыслью о приближающейся смерти, и болями, и заботами о будущем компании, станет призывать к себе своего преемника и шептать ему, собирая последние силы: а у Яши Свирского глаза смешливые и непочтительные, но честные. Абсурд стопроцентный.
— Послушай, Яша, — вдруг улыбнулся Евгений Викторович, — ты кроме там всяких таблиц логарифмов книжки какие-нибудь читал?
— Какую-то книжку, помню, читал. Очень большое впечатление произвела. А, вспомнил: наша Маша громко плачет, уронила в воду мячик. Тише, Машенька, не плачь, не утонет в речке мяч.
— Не, Яш, я о более серьезной литературе. В которой описывается, например, как преступник порой испытывает странное облегчение от того, что признается в преступлении.
— Вы это к чему?
— К тому, Яша, что я испытываю сейчас то, что, наверное, должен испытывать человек, который тащил на себе тяжеленный тюк и может наконец сбросить его с плеч… Еще бутылка пива у тебя есть?
— Еще три.
— Тогда хватит для чистосердечного признания. Явки с повинной, правда, не получится. Не к кому являться и никто всё равно не поверил бы такой явке и такой повинной. Разве что в психушку снарядили бы. А признаться тебе я могу. И поверь мне, испытываю при этом огромное облегчение. Поймешь ли ты меня, сумеешь ли простить — это уже другой вопрос. Налей себе полный стакан и слушай внимательно. Это долгая история. И начинается она с того момента, когда мой лечащий врач сообщил мне диагноз. Обрати внимание на слова «мой лечащий врач» и «сообщил мне диагноз». Это ведь уже чистосердечное признание. Потому что подразумевает, что болен был я, Петр Григорьевич Илларионов. Итак, диагноз окончательный и бесповоротный. Рак поджелудочной железы в четвертой стадии с множественными метастазами. Неоперабельный. А умирать, Яша, не хотелось…
Когда Евгений Викторович закончил свой рассказ, они оба долго молчали.
— Одного я тебе еще не рассказал, — задумчиво добавил Евгений Викторович. — Когда жажда жизни, слепая эгоистичная жажда жизни склонила меня к принятию предложения Семена Александровича, я и представить себе не мог, что чем больше времени будет проходить после убийства — если называть вещи своими именами, это ведь было самое хладнокровное убийство, — тем больше я буду страдать от содеянного. Не хочу показаться тебе позером, но поверь, не раз и не два я серьезно обдумывал вопрос, не проще было бы покончить с собой. Совесть-то тоже иногда становится похожей на злокачественную опухоль — растет и растет, и никак от нее не избавишься. Нет от нее действенных медикаментов. И что делать, Яша, я не знаю. И вот я смотрю в твои смешливые, но честные глаза и хочу прочесть в них еще один приговор. Пусть тоже окончательный и бесповоротный.
— Ну, Евгений Викторович или Петр Григорьевич, я вообще по натуре не судья, и уж подавно не судья вам. И в судьи вообще не гожусь. Я как-то читал, что в древней Иудее членами Верховного суда — Синедриона могли быть только женатые мужчины и отцы семейств. Считалось, что они лучше знают цену человеческой жизни. К тому же в день рассмотрения тяжелых преступлений члены Синедриона не имели права есть мяса. А я и не женат, и детей у меня нет, и утром на завтрак я съел бутерброд с колбасой. Хотя есть ли в этой колбасе мясо, я не уверен.
Конечно, расцеловать вас за то, что вы сделали с Евгением Викторовичем, я не могу. Да вы бы и не поверили в искренность такого поцелуя. Но и морали вам читать не стану. Потому что совсем не уверен, что сам не поступил бы при подобных обстоятельствах так же. А то мы ведь любим поучать: если вы честный человек, вы бы лучше вышли на Красную площадь в сталинские времена с плакатом или — еще лучше — повесились. При этом сам поучающий, как правило, и не почешется, когда нужно совершить куда менее смелый поступок, чем отправиться на расстрел или в ГУЛАГ. Чего тут говорить, вы всё сами понимаете. Но если все-таки вы бы стали настаивать на том, чтобы я вынес вам приговор, извольте: пожизненное заключение, но условное. Потому что искупить преступление вы лучше сможете не в тюрьме — даже если бы какой-нибудь суд и смог осудить вас, — а в своей душе. Строго говоря, можно быть самому себе судьей куда более строгим, чем судья в мантии. А пожизненный приговор потому, что отбывать вы будете наказание всю жизнь. Добавлю лишь, что никакого отвращения или презрения к вам я не испытываю. Наоборот: жалость и симпатию. Почему — не знаю. То ли я сам такой же, то ли потому, что вы так глубоко переживаете содеянное и так страдаете. А то ведь девяносто девять процентов людей прекрасно с собой уживаются, чего бы они ни сделали. Совесть вообще вещь редкая, а у большинства тех, у кого она есть, она, эта совесть, безразмерная и отлично растягивается.
Но сейчас я вам скажу нечто, что, как я полагаю, может иметь прямое отношение к этому приговору.
— Что, Яша? — с трудом спросил Евгений Викторович.
— Этот трагический гений…
— Семен Александрович?
— Да. Вся эта операция по переносу сознания от одного человека к другому, в данном случае от Петра Григорьевича к настоящему Евгению Викторовичу, происходила, как вы только что мне рассказали, наложением на голову какого-то прибора, который вы называете шлемом?
— Да.
— Когда весь этот чудовищный паззл начал складываться у меня в голове в абсурдную, но единственно возможную картинку, я проторчал не один час в Интернете, стараясь понять, как работает человеческая память. Я ведь не нейрофизиолог, да и они, как я быстро понял, знают далеко не всё. Ох как не всё. Очень многое, как и следовало ожидать, изучено плохо, понято еще хуже, но твердо установлено, что человеческая память, которая, собственно, и составляет самосознание, наше «я», состоит из памяти двух типов. Из памяти в виде электрических зарядов, циркулирующих через синапсы между миллиардами нейронов, и долговременной памяти, хранящейся в некоторых молекулах. Вообще ведь строение и работа мозга — одна из величайших загадок Вселенной, и познана нами едва-едва. А может быть, еще меньше. А я, как уже сказал, так вообще полнейший профан. И тем не менее я подумал, что ваш удельнинский гений работал только с электрическими зарядами, совершенно не трогая долговременную память, скрытую в молекулах. Хотя бы потому, что если электрические заряды мозга хоть чуть-чуть, но изучены, то долговременная память, хранящаяся в молекулах, — это вообще терра инкогнита.
— И что это может значить?
— То, что на самом деле ваше «я» состоит сейчас из двух частей — «я» покойного Петра Григорьевича и «я» Евгения Викторовича. По всей видимости — это я говорю как полнейший невежда — наше текущее, так сказать, операционное «я» сложено в основном из электрических зарядов. Тех, с которыми работал ваш Семен Александрович. А долгосрочную память, закодированную в молекулах мозга, он не трогал. Наверное, потому, что не знал, как это сделать, и не умел. И без того он сделал то, что больше сделать никто в мире не смог бы.
— И что всё это может значить?
— Не знаю, если говорить честно. Но могу лишь предположить, что время от времени информация, спрятанная в молекулах мозга, тоже будет подниматься на поверхность. Скорей всего, это будет процесс спонтанный и от ваших осмысленных усилий не зависящий. Что вы так задумались?
— Ты, кажется, как всегда прав. Меня это даже пугает.
— Что вы хотите сказать?
— Недавно по мобильному, который принадлежал настоящему Евгению Викторовичу, позвонила его матушка. Я в первую минуту растерялся. И вдруг назвал ее «ма». Не мама, заметь, не мамуля и не мамочка, а именно «ма». То есть употребил слово, которое Петр Григорьевич не употреблял никогда. Слово интимно-семейное. Которое мог знать только Евгений Викторович.
— Как она на него отреагировала?
— Восприняла его естественно. Очевидно, что оно для нее было совершенно естественно. Ее сын Женя Долгих, надо думать, часто употреблял это слово. Мало того, я вдруг вспомнил, как выглядит отец. Не абстрактный образ отца, а конкретный физический облик моего отца, я имею в виду отца Евгения Викторовича. И коротко, почти под машинку, стриженные волосы с проседью, и обвисшие седенькие усы, и хмурый вид — краткий портрет Виктора Тихоновича Долгих.
— Вот видите, Евгений Викторович. Кажется, я был прав, а это уже совсем другая картина…
— В чем же? Вундеркинд? — В голосе Евгения Викторовича в первый раз за разговор мелькнула надежда.
— Я абсолютно уверен, что ваша долговременная молекулярная память будет всё больше и чаще вылезать на поверхность.
— То есть я буду опять понемножку становиться Женей Долгих?
— Не сомневаюсь. И оставаться при этом в большой степени Петром Григорьевичем. Как уживутся эти два «я» в одном человеке, в каких они будут отношениях, в каких пропорциях — это уже совсем другая история. Люди ведь на самом деле редко… как бы выразиться… однообразны. Большинство несут в себе разные начала. Они как бы состоят из разных людей. Вот я вам рассказывал об Ольге Филевой. Я насчитал в ней как минимум человек пять. И озорная хулиганка-эпатажница, и нежная страстная женщина, и трусливая девочка, прячущая за своим хулиганством ужас перед людьми, и мощнейший интеллект. И всё в одной девице.
И еще одна вещь, с вашего позволения. Амнезия, то есть потеря памяти, штука достаточно распространенная. Посмотрите хотя бы программу «Жди меня» на телевидении. Столько там таких случаев… Врачи, как я вычитал в том же Интернете, кое-как пытаются восстанавливать временно потерянную память. И что-то им порой удается сделать. Но какие-либо медикаментозные методы я бы на вашем месте сразу же отверг. Слишком в вашем случае всё зыбко, неопределенно, непонятно. С другой стороны, я почти что уверен, что ваши контакты с вашим прошлым, с родителями, родным городом, знакомыми с детства людьми и вещами вполне могут активизировать вашу дремлющую молекулярную память.
— Яша, ты не представляешь, что ты делаешь для меня…
— Ничего особенного, господин президент, просто стараюсь выслужиться перед вами. А если серьезно, мне, как ни парадоксально, легче, чем вам сформулировать ваше положение. Да, конечно, чужая душа, как известно, это потемки. Но и своя часто не светлее. Ведь когда всматриваешься в собственную душу, разобрать, что в ней, ох как непросто. И темно в ней, ничего толком и не увидишь, и не любит она, когда ее рассматривают. Вы, Евгений Викторович, считали себя убийцей. Кое-кто живет с этим вполне мирно. А кто-то даже и гордится. А кто-то страдает. У вас появляется надежда.
— Какая?
— Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Просто хотите, чтобы я сформулировал свои мысли еще раз. Так вот, у вас появилась надежда, что якобы убитый вами человек вовсе и не убит. Или, скажем, не совсем убит. Даже Уголовный кодекс различает убийство и попытку убийства. Другими словами, вы перестаете быть убийцей, прежде всего в собственных глазах. Ведь Женя Долгих жив. Пусть он еще не совсем оправился, но человек, помнящий, как он всю жизнь звал маму, в покойники никак не годится. И цель у вас появляется. Кроме, разумеется, других, о которых я сейчас не говорю.
— Какая цель, Вундеркинд?
— Выходить Женечку Долгих. И его вам жалко, и себя тоже. И желательно, чтобы он ужился в одной голове или душе — кому что больше нравится — с Петром Григорьевичем. Тем более что никуда они деться друг от друга уже не смогут никогда. А что, я думаю, я даже уверен, что они вполне могут даже обогатить друг друга. Женечке явно не хватало хватки и решительности Петра Григорьевича, а Петру Григорьевичу молодого энтузиазма аналитика.
— Раз вы всё знаете, скажите, о чем я сейчас думаю. Держу пари на пять бутылок лучшего французского коньяка, что не знаете.
— «Курвуазье» или «Наполеон» — я к своему стыду их не различаю — вещь, конечно, хорошая, но я даже и пытаться не буду догадаться, что вы там в своей запутанной голове держите.
— И правильно делаете. Потому что я думал о том, чтобы назначить вас по совместительству главным психотерапевтом и психоаналитиком компании.
— Не-а, в аналитики не пойду.
— Но почему же? Всё лишняя копеечка.
— Вон вы что с одним аналитиком сделали…
Оба засмеялись, и Яша разлил остатки пива по стаканам.
18
— Господа, — обратился к присутствовавшим Евгений Викторович, — мы пригласили вас сегодня на презентацию нашего нового компьютера, который мы назвали Петр, модель один, в память о недавно умершем основателе и руководителе «РуссИТ» Петре Григорьевиче Илларионове. Между собой мы называем модель Петр Первый. Без его настойчивости, энтузиазма и уверенности, что наша стародавняя российская убежденность, будто трудом праведным не наживешь палат каменных, уже начинает устаревать, не было бы ни самой компании, ни тем более столь интересного продукта как наш Петр модель один.
И конечно же я должен воздать должное нашему исследовательскому отряду под руководством Якова Борисовича Свирского. Без него и его замечательных сотрудников Олега Свистунова, Игоря Сидорова и нашей новой восходящей звезды Ольги Филевой никакого прорыва в информационной технологии подобного тому, что воплощен в нашей новой машине, просто не было бы.
Мы столь твердо уверены в успехе нашей машины, что уже создали дочернюю компанию в Канаде. Она будет продвигать ее на мировом рынке. Позвольте вам представить достопочтенного господина Фэн Юйсяна, нашего нового вице-президента, который любезно согласился возглавить ее. — Фэн встал и, слегка улыбнувшись, наклонил голову.
Господа, мы пригласили в этот банкетный зал наших коллег по информатике, представителей мощных корпораций, по праву гордящихся своими достижениями, и журналистов. Спасибо за то, что вы пришли. Мы нисколько не заблуждаемся насчет того, что вы сейчас о нас думаете. Ну-с, что там эти провинциальные карлики придумали, хватает же у некоторых наглости и самонадеянности… Ладно, так и быть, посмотрим, как люди пытаются любой ценой привлечь к себе внимание. Хоть посмеемся над ними и выпьем шампанского. И ваши вежливые улыбки, уважаемые гости, лишь подтверждают мою догадку. К тому же считается, что мы, русские, традиционно стремимся не столько к тому, чтобы обойти конкурентов, сколько к тому, чтобы они не обошли нас. Другими словами, не столь важно выстроить себе новый дом, приятнее, чтобы сгорел дом у соседа. Даю слово, что ваши дома мы сегодня поджигать не будем. Шучу, разумеется, но как вы знаете, в каждой шутке есть доля правды. И тем не менее…
Перед вами стоят три принципиально новых ноутбука. Чтобы не спутать их с контрольными машинами разных компаний, которые стоят рядом с ними, мы наклеили на крышки наших машин большие красные буквы «П М О», то есть Петр, модель один.
Чем отличается наш продукт? Во-первых, в нем отсутствуют жесткие диски, а используется лишь флэш-память. Машина стала на двадцать процентов легче, работает при этом на треть быстрее, чем ее стандартные аналоги, и потребляет при этом на двенадцать процентов меньше электроэнергии.
Я вижу, господа, как ваши улыбки становятся еще и скептическими. Это прекрасно, потому что если бы мир верил всем утверждениям производителей, мы давно стали бы вечно молодыми и жили бы в раю.
Но и это не всё. Вы прекрасно осведомлены о многолетних попытках создать компьютерный искусственный интеллект. Увы, то, что еще в далекие времена, когда великий Норберт Винер закладывал основы кибернетики, казалось вопросом всего нескольких лет, оказалось поистине неприступной крепостью. Примерно так же, как с созданием термоядерного реактора. Мы не утверждаем, что создали искусственный интеллект, это было бы смехотворно. Но программа нашей сотрудницы Ольги Филевой заставляет пользователя порой думать, что он общается не просто с рядом заранее записанных в ней команд, а с чем-то гораздо более интересным. Впрочем, всё это вы сейчас увидите сами.
Господа, я понимаю, что ваше внимание сейчас раздваивается между батареями шампанского, которое вы видите на буфетных столиках, и которое, как вам кажется, уж наверняка не обманет ваших ожиданий, — это ведь «Мумм», а не что-то самодельное, вроде этих трех ноутбуков, что мы вам сегодня представляем. Потерпите немножко. Смею вас уверить, что вас не разочарует ни шампанское, ни машины.
На стене вы видите также три динамика. Они просто усиливают голос наших компьютеров, потому что, как вы прекрасно знаете, получить достаточно громкий звук в маленьких тоненьких ноутбуках практически невозможно.
Кто из вас хотел бы первым отправиться в тест-драйв?
— С вашего разрешения, господин президент, я готов рискнуть, — снисходительно улыбнулся один из наиболее известных журналистов, пишущих об информатике. Известен он был главным образом своей независимостью и безжалостной язвительностью. — Что мне нужно делать, чтобы быть потрясенным вашим продуктом? — снисходительно улыбнулся он Евгению Викторовичу. — Может быть, сначала основательно заняться вином?
— Прекрасная мысль, но все-таки я бы просил вас для начала просто подойти к любому из наших трех ноутбуков.
Журналист сделал несколько шагов по направлению к столу, на котором стояли ноутбуки.
— Добрый вечер, Сергей Трофимович, — приятным женским голосом произнес компьютер, и крышка его сама по себе открылась. — Судя по тону вашего голоса, вы сегодня не в самом лучшем расположении духа, но тем не менее позвольте представиться: Петр, модель один дробь один.
— Рад познакомиться. Вот только не пойму, как Петр может говорить женским голосом. Надеюсь, с ориентацией у вас проблем нет?
— Увы, Сергей Трофимович, у меня нет ни пола, ни, стало быть, какой-нибудь сексуальной ориентации. Ваша же ориентация общеизвестна.
— Прекрасный ответ, Петр. Если бы все наши эстрадные звезды были столь откровенны…
— Не могу комментировать, не знакома с ними.
— И слава богу. Ну, давайте начнем с простейшего задания. Собираюсь купить себе электронную книгу. Что вы можете посоветовать?
— Выбор довольно велик: Е-букс, Орсио, Сони, Киндл и еще двенадцать моделей по цене от восьми до двадцати одной тысячи рублей. Все работают по принципу так называемых электронных чернил. Вес от ста сорока до трехсот десяти граммов. Рекомендую подержать их в руках и посмотреть, что вам больше подходит. Если хотите, я могу сделать вам распечатку моделей и магазинов.
— Спасибо, с вами действительно приятно общаться. Но это ведь всего-навсего банальный прейскурант, пусть и в голосовой форме. Не бог весть какое достижение. Попробуем что-нибудь более интересное. Скажите мне, как вы определили, что перед вами Сергей Трофимович Будников, а не кто-то другой?
— Маленькая веб-камера дает изображение, которое я сравниваю с теми, что заложены в мою память. А вы занимаете в моей базе данных одно из первых мест.
— Уже приятно. Но вообще, конечно, это уже достижение, потому что распознавание лиц — очень и очень непростая задача.
— Благодарю вас, услышать комплимент вообще приятно, а из ваших уст вдвойне — это кое-что да стоит.
— Почему?
— У вас репутация безжалостного киллера.
Гости с удовольствием зааплодировали, то ли находчивости машины, то ли репутации журналиста.
— Скажите, — обратился безжалостный киллер к Евгению Викторовичу, — а как вы достигаете такой гибкости в заранее, как я полагаю, записанных ответах вашей программы?
— Не думаю, Сергей Трофимович, что мне стоит сейчас пускаться в подробное обсуждение нашей программы. Скажу лишь, что мы подали документацию на получение одиннадцати патентов на наш флэш-компьютер, из которых шесть относятся к программе Ольги Филевой. Прошу, господа, может быть, кто-нибудь из вас хотел бы поподробнее познакомиться с нашим продуктом.
Место журналиста попытались занять сразу несколько человек, и президенту «РуссИТ» пришлось выстраивать очередь к каждому из трех компьютеров. Всё шло даже лучше, чем можно было надеяться, и Евгений Викторович подошел к Яше, сидевшему со своей командой за столиком.
— Ну что вам сказать, дети мои. Хоть заказывай памятные стелы. Здесь жили и создавали свои электронные шедевры Яков Свирский, Игорь Сидоров, Олег Свистунов и Ольга Филева. Оля, вы чем-то недовольны?
— Почему вы упомянули меня только четвертой?
— Это грубая ошибка. Типичный пример мужского шовинизма. Мы закажем вашу отдельную статую — хотите с горном, какие любили ставить в парках в советские времена — и установим у входа в лабораторию. Хотите?
— Очень. Можно и с горном, главное — чтоб фигура была хорошая, как у меня. И чтоб трусы были не слишком длинные, а то жалко прятать такие ноги, как у меня.
— Договорились. А то можно сделать, так сказать, скульптурную ню. Вместо одежды будете прикрываться ноутбуком. Найдем хорошего скульптора, и будете сами позировать ему. Яша, ты не возражаешь?
— Возражаю. Раздевать моих сотрудников — это, согласитесь, не совсем правильно.
— Боже, какая провинциальность, — вздохнула Ольга. — Речь ведь идет не о том, чтобы все сотрудники лаборатории ходили голыми. А статуя себе — это, согласитесь, волнительно.
— Ольга, сегодня вы хозяйка и триумфаторша. Хотите, мы закажем расписать потолки и стены лаборатории вами и остальными сотрудниками. Будут приезжать из разных стран посмотреть на уникальные фрески.
— А что, это идея. Надо подумать.
— Яша, — Евгений Викторович повернулся к вице-президенту, — можно тебя на пару слов?
Они отошли в сторонку, и Евгений Викторович обнял Вундеркинда.
— Яша, я в вечном долгу перед тобой. И за то, что сейчас здесь происходит, и за то, что ты сделал лично для меня. Сегодня я вдруг вспомнил, что у меня есть сестра и ее зовут Юля. Позвонил матери и спросил, как там Юля. Причем назвал ее не просто Юля, а Юлька, как я, очевидно, всегда звал ее. И представляешь, получил от матери полный отчет. Оказывается, у меня даже есть племянник Егорка, человек уже немолодой, у него уже третий зуб прорезался.
— Всё будет хорошо, Евгений Викторович. Всё будет хорошо. Одного боюсь…
— Чего же? — встревоженно спросил президент «РуссИТ».
— Того, что вскоре мне придется называть вас, без свидетелей, конечно, двойным именем, например, Виктор-Петр. Или Петр-Виктор…


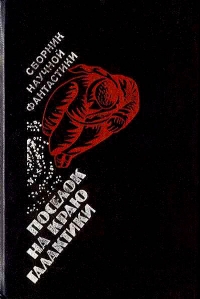
Комментарии к книге «Чужое тело, или Паззл президента», Зиновий Юрьевич Юрьев
Всего 0 комментариев