Фантастика 1965, выпуск 1 сборник
От редакции
В сборниках “Фантастика, 1965” наряду — с произведениями уже известных писателей читатель познакомится со многими новыми именами в научной фантастике. Помимо художественных произведений, в наших сборниках будут печататься письма наших читателей — мысли и впечатления людей различных профессий о научной фантастике, а также рецензии на вышедшие научно-фантастические книги.
Оформление художника И.Снегура
ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ “МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ” 1965 г.
В.САПАРИН Чудовище подводного каньона
1
Агапов уверял, что, если бы он не находился тогда на Луне, Калабушева не отправили бы в самый глубокий каньон на дне Индийского океана.
— Это один из величайших упрямцев в солнечной системе! — говорил он горячо. — Если бы вы дали себе труд обратиться во Всемирное справочное бюро и попросили перечислить наименее подходящих людей для столь ответственной экспедиции, то Калабушева назвали бы в первом десятке.
Те, кто готовил экспедицию, пожимали плечами: Калабушев был не только самым знающим, но просто единственным специалистом по морским змеям на нашей планете. Никто, кроме него, не интересовался полуфантастическими видениями, которые представлялись глазам пьяных или перепуганных матросов в далекую эпоху парусного флота. А он, как ярый коллекционер, собирал на протяжении всей жизни эти легендарные истории, выкапывая их из старинных книг и газет, изучая давно забытые архивы. Вряд ли Всемирная кибернетическая библиотека с ее миллиардами отсеков, в электронную память которых вот уже третий год вводились все основные сведения, добытые человечеством за предыдущие века, располагала хотя бы тысячной долей тех данных, которые находились в распоряжении Калабушева. И только он один мог сказать, что в его шкафах, набитых фотокопиями собранных со всего света документов, представляло хоть видимость научной ценности, а что следовало отнести к чистейшей фантазии. Но и он мог ошибаться. Этот упрямец верил в существование морских змеев, несмотря ни на что.
Конечно, если бы налицо имелся еще хотя бы один знаток морских змеев, комиссия могла думать, кого из них посылать. Но выбора не было. Не послать же Калабушева в экспедицию, право на участие в которой он заслужил более чем кто-либо другой на свете, было бы слишком жестоко и несправедливо.
Но так или иначе, а сейчас уже поздно было рассуждать, почему в экспедицию отправили именно Калабушева, Когда споры поутихли, председательствующий академик Лавров перешел к главному:
— Сейчас мы должны решить, собственно, не менее важный вопрос: кого послать на розыски Калабушева?
Все почему-то посмотрели в мою сторону. До этого момента; я полагал, что меня пригласили в качестве эксперта-глубоководника. И действительно, в ходе прений мне было задано несколько специальных вопросов.
Но теперь от меня ждали чего-то другого.
— Что скажете, капитан? — подбодрял меня Лавров.
— Экспедиция более ответственная, — сказал я, — чем та, первая. Калабушев мог не найти своего морского змея — особой трагедии не произошло бы. Не найти Калабушева — совсем другое дело.
— Мы это понимаем, капитан, — прищурил глаз Лавров.
— Я не отказываюсь, — сказал я. Меня немного раздражал его прищуренный глаз. — Вопрос в том, кто лучше подготовлен для такого дела. Его и надо отправить. Мы не должны повторить ошибки с Калабушевым.
— Какие у вас отводы?
По традиции человек, получающий ответственное задание, обязан назвать недостатки, если они у него есть, которые могут помешать выполнению задания.
— Отводов нет, — возразил я, — но соображения есть. Прежде всего я не верю в существование вашего знаменитого чудовища. Я облазил едва ли не все самые глубокие дыры Мирового океана и, могу вас заверить, ни разу не встречал ни морского змея, ни “Летучего голландца”.
— Но в существовании Калабушева вы не сомневаетесь?
Глаз Лаврова оставался прищуренным, и это действовало мне на нервы.
— А вам предстоит искать именно Калабушева, а не змея, — докончил Лавров. Он отвечал мне на моего “Летучего голландца”.
— Насколько я понимаю, Калабушев и змей должны быть где-то вместе, — пробормотал я. — Повадок же змея я не представляю.
— Никто из глубоководников не верит в морского змея, так же как и вы. Но вы один из опытнейших глубоководных асов. Это же спасательная экспедиция.
— Тогда, — сказал я, — переведем разговор на деловую основу. Если вы поручаете операцию мне, я берусь в течение двух часов подобрать экипаж, на который…
— Экипаж? — перебил меня Лавров. — Ни о каком экипаже не может быть и речи. Вы пойдете один.
Я внимательно оглядел лица сидевших в креслах. Нет, это не та компания, которая собирается, чтобы разыгрывать на досуге бывалых капитанов.
— Вопреки всем правилам?! — поразился я. Я покачал головой. Только что во всех деталях обсудили, к чему привело отступление от правил при организации экспедиции Калабушева, как тут же планируют новое крупнейшее нарушение!
Было чему удивляться.
— Все очень просто, капитан, — сказал Агапов. — Калабушев пошел на “Скате”. Никто не знает, в какую он забился щель, от него никаких сигналов. Значит, разыскивать его надо тоже на корабле-малютке. Скажем прямо: вам придется, может быть, путешествовать не только под водой, но и под землей.
Да, я уже слышал, конечно, о лабиринтах Тумберлинка.
И версию о том, что это катакомбы, опустившиеся под воду.
Может быть, там, где-нибудь в двадцать пятом колене, и обитает морской змей. Вполне возможно. Никто не добывал еще в странных норах, словно пробуравленных кем-то в подводных скалах. Кроме разве Калабушева. Тот, конечно, мог наплевать на все запреты.
— Но ведь “Скат” двухместный, — сказал я. Не то чтобы я боялся. Но соблюдение некоторых элементарных правил входит в кровь и плоть старых глубоководников. Мы не мальчишки.
— Второе место может понадобиться кому-то из спасаемых, — просто сказал Лавров.
Я понял теперь их мысль. Они считали, что “Скат” Калабушева застрял в подводно-подземной ловушке. Вытащить судно на буксире, вероятно, не удастся. Значит, видимо, придется осуществлять “пересадку” пассажиров.
— Кто напарником с Канабушевым? — спросил я.
— Титов.
Титова я знал. Абсолютно уравновешенный человек. Спокойный до флегматичности. Отличный “компенсатор”, если можно так выразиться, для Калабушева. Данную ему инструкцию ни за что не нарушит, ни против одного пункта не пойдет, хоть взорвись все вокруг.
— Кто начальником из них?
— Калабушев.
Положительно мне суждено сегодня без конца удивляться странностям комплектования этой экспедиции.
— Калабушев не имел морального права соглашаться! — сказал я горячо.
— Почему? — удивился Лавров. — Ведь он действительно своего рода специалист.
— Но вы-то, вы! — настаивал я. Теперь я разделял возмущение Агапова. — Вы как могли согласиться на назначение Калабушева?
— А надо было начальником экспедиции назначить Титова? — Лавров смотрел на меня холодно и испытующе. Сейчас он начнет припирать меня к стенке. Я уже слышал, что он владеет искусством доказательств не хуже, чем чемпион мира по классической борьбе всеми ее приемами. — Первый раз, — в голосе Лаврова послышался оттенок удивления, — первый раз я отправил бы экспедицию, начальник которой не верит в ее цели, совершенно к ним равнодушен и не знает ни на гран предмет исследования. Вот это уж действительно было бы отступлением от всех правил!
Я промолчал.
Титов, конечно, хороший глубоководник. Но его специальность — гидроакустика. Резон в рассуждениях Лаврова есть…
— Известные биологи-глубоководники оказались занятыми. — Лавров угадал мою мысль. — Из свободных ни один не подходил ни по характеру, ни тем более по технической квалификации.
Да, уж Титов мастер глубокого плавания, ничего не скажешь. Конечно, если уж начали с Калабушева, остальное вытекало одно из другого. Все сходилось к Калабушеву, точнее, к морскому змею, в существование которого он упрямо верил.
— Ведь путешествие не считалось опасным, — заметил Лавров. — Никто не поручал им обследовать Тумберлинк. Просто крейсирование вдоль каньона — и все. Что произошло, никто не знает.
— Скажите, — спросил я Лаврова напрямик, — а вы сами верите в этого…
Лавров улыбнулся.
— Я понимаю ваше недоумение. В двадцать первом веке — и вдруг старые матросские сказки. Но, видите ли, сказки это или нет, может окончательно выясниться именно в нашем веке. Парадокс? Никакого парадокса. Зоологи до сих пор спорят о некоторых представителях даже сухопутной фауны, были они или нет. А когда в прошлом веке ученые обнаружили кистеперую рыбу, они не хотели верить своим глазам. Считалось, что последние лятимерии вымерли несколько десятков миллионов лет назад, уступив место другим видам. А потом поймали еще несколько лятимерии. Что же, вы думаете, ископаемые рыбы стали возрождаться? Ничего подобного. Наука расширяла поиск — и больше лятимерии стало попадаться на глаза ученым. Вспомните, что океаны во всей их толще начали обследовать сравнительно не так давно, а объединить свои усилия так, как это теперь делают ученые всей Земли, раньше они тоже не могли.
— Но морских змеев что-то до сих пор не попадалось, — заметил я.
— Их, этих змеев, может быть, всего один или два, — серьезно сказал Лавров. — И вот где-то в последнем убежище их нашли.
— Раньше они почему-то чаще попадались на глаза, — сказал я. — И не стеснялись людей. Если верить сочинениям, которыми набиты шкафы Калабушева.
— Калабушев считает, что морские змеи — глубоководные существа, — все так же серьезно разъяснял Лавров. — А на поверхность выносились их трупы. Волнение, ветер и воображение людей придавали им облик живых. Потом их съедали птицы и рыбы. Существа вымирали, и поэтому их перестали встречать. Но, возможно, одна пара осталась.
— Я лично…
— Я ученый, — сухо прервал меня Лавров. — Мне нужны факты. А всякие “верю” или “не верю” не область науки.
— Не гарантирую, что доставлю вам сюда морского змея, но Калабушева разыскать постараюсь.
Моя задиристость не очень их удивила. Они, должно быть, уже знали кое-что обо мне.
— Отлично, — сказал Агапов. — Я всегда считал, что правильный выбор состава экспедиции — половина ее успеха. Когда вы собираетесь отправиться, капитан?
— Через пятнадцати, минут после того, как вы ответите мне на последний вопрос, — Говорите, — Что вам известно о характере Калабушева? Ведь вы его как будто хорошо знаете.
— Понимаю. Я должен сказать то, что может облегчить ваши поиски.
— Вот именно. Я должен представить себе, как бы поступил в том или ином случае Калабушев. Как поступил бы человек моего склада, я представляю. Как поступит Титов, я знаю точно. Про его действия я могу рассказать точнее, чем про свои. Таким образом, в уравнении одно неизвестное, от которого зависит все. Я не психолог, но мне придется заняться психологией.
— Трудно сказать, как поступит человек в неожиданных обстоятельствах, — в раздумье сказал Агапов. — Известно одно: он очень упрям. К змеям у него страсть коллекционера. Представляете, на что способен такой человек, если ему представится реальная возможность пополнить свою коллекцию, допустим, самое маленькое — фотографией настоящего змея! Или хотя бы чего-то неизвестного нам, что принимали за змея. Что сказать еще? Он бесстрашен. Не знаю, не является ли это в данном случае осложняющим обстоятельством. По профессии он спелеолог.
— Спелеолог! — Я потер лоб. Этого еще не хватало!..
Я вспомнил опубликованную недавно статистику Контроля безопасности. Из нее вытекала, что по количеству несчастных случаев спелеологи занимают одно из первых мест среди других исследователей природы. Они залезают в такие тараканьи щели, где ничтожный сдвиг глубинкой породы может привести к опасным последствиям. Основная причина, пояснял представитель Контроля безопасности, большинства происшествий — в нежелании исследователей укреплять пещеры и подземные ходы до первого проникновения туда людей.
Те, с кем что-то случалось, как правило, хотели сначала изучить открытую ими полость земли в нетронутом виде, в каком ее создала природа. А потом уже они собирались пробивать запасные выходы, оборудовать комфортабельные штольни, ставить подпорки и защитные сетки. Далее, помнится, излагались советы Контроля безопасности, как сочетать требования науки и условия безопасного пребывания людей под землей. Дошли ли только эти здравые рекомендации до Калабушева?
— Все ясно, — сказал я. — Я отправлюсь немедленно.
— На аэродроме ждут, — сказал академик Лавров.
В эпоху парусного флота, когда морские змеи встречались так же часто, как непредугаданные штормы и штили, всякое порядочное описание морского путешествия начиналось с характеристики судна.
“17 июня 1741 года я ступил на палубу “Сидонии”, — читал я в одной из фотокопий, пачкой которых снабдили меня на дорогу. — “Сидония” представляла собой прелестную трехмачтовую шхуну водоизмещением в 500 тонн, с такими искусными обводами носовой части, что они вызывали восхищение у каждого настоящего моряка”.
Я решил, что не стоит нарушать эту традицию. Тем более что некий юный герой, ступивший на палубу прелестной “Сидонии”, спустя некоторое время получил возможность собственными глазами разглядывать морского змея, что, возможно, предстоит и мне.
На “палубу” “Ската” я ступил на суше. Неспециалисты-глубоководники, возможно, не знают, как выглядит и что представляет собой “Скат”. Ничего похожего на известные всем автоматические драги — огромные машины, ползающие по дну океанов и подбирающие руду, похожую на рассыпанную картошку. Мало сходства и с глубоководными исследовательскими или тем более туристскими суднами, изображениями которых пестрят страницы журналов. Ни подавляющих воображение размеров, ни могучих горизонтальных и вертикальных винтов, ни струйных аппаратов, действующих по принципу реактивного движения. Ни, замечу тут же, комфорта внутри.
Представьте себе геометрически правильный шар из прочного материала диаметром около двух метров. Шар, как планета Сатурн, опоясан плоским кольцом, вытянутым в одном направлении этаким эллиптическим блином. Блин толще там, где он примыкает к шару и совсем тонкий по краям.
Вот, в сущности, и все. Если не считать, конечно, тысячи дополнительных устройств. Не всякий заметит, что прозрачный шар двойной, то внутри наружного шара находится внутренний. Внутренний шар и есть та гондола, в которой я сижу. Он так сбалансирован по центру тяжести, что мое сиденье и пустующее кресло напарника, все приборы и рукоятки управления занимают одно и то же положение в пространстве независимо от того, как ведет себя наружная оболочка со своим блином. “Скат” может плыть хоть “вверх животом”, я этого даже не замечу. Что касается того, что я назвал “блином”, то это и обводы судна, и его двигатель, и движитель, и осязающее устройство. Гибкое, словно мускулистое, “туловище” может принимать самую различную форму, изгибаться, совершать колебательные движения частично или целиком — словом, плыть естественно и непринужденно.
С точки зрения маневренности лучшего глубоководного аппарата свет еще не видел. Предназначенный для детальных обследований горных хребтов и долин, узких каньонов и кратеров подводных вулканов, он по безопасности не имеет себе равных. Сколько я ни плавал в глубинах, я ни разу не видел, чтобы какая-нибудь живая рыбина, пусть самая крупная и неуклюжая, застряла бы где-нибудь в каменной подводной ловушке. А “Скат” последней модели по своей чувствительности к окружающей среде и техническому оснащению превосходит любую самую ловкую и сильную владычицу подводного царства. Для Калабушева избрали правильное судно.
“Скат” может легко удрать от любого морского змея или парализовать его электрическим зарядом, если бы это понадобилось.
Итак, я сидел в кабине, а “Скат” был подвешен к вертолету, который мчал нас в отдаленнейший район Индийского океана. Я предпочел занять место в кабине еще на аэродроме. Конечно, самозадраивающиеся устройства срабатывают и в воздухе и в воде, но посадка “всухую”, во-первых, отнимает меньше времени, и, во-вторых, что там ни говори, более надежна. Я не хотел рисковать тем, что какой-нибудь винт не займет нужного положения из-за пустячной причины вроде тряски и автоматы откажутся погружать “Скат”. Мне это ничем не грозило, но Калабушеву и Титову пришлось бы дожидаться меня гораздо дольше. Опыт видавших виды глубоководников в том и заключается, что они учитывают тысячи мелочей, до которых не всегда доходят “мозги” приборов.
Я подумал о Титове и Калабушеве. Калабушев бесстрашен.
Но мне представлялось, что его бесстрашие или его мужество, не знаю, как лучше назвать, — бесстрашие одержимого. Вывести же Титова из состояния душевного равновесия почти невозможно.
Почти?.. Гм… Меня стали одолевать сомнения. В самом деле. Титов всегда находился в окружении глубоководников, людей, владеющих собой и не фантазеров. С партнером типа Калабушева он встретился впервые. И вот они заперты вдвоем в тесной кабине. Что произойдет, если “кремень” Титов будет подвергаться в этих условиях воздействию “огнива” Калабушева? Какие искры высекутся? Мне приходилось видеть людей, которые уже в пожилом возрасте впервые принимали участие в охоте. Иные с иронической улыбкой брали в руки ружье, но после первого же выстрела вдруг совершенно преображались. Не мог ли азарт коллекционера или охотника овладеть и Титовым?
Перебирая врученную мне пачку фотографий, я стал пристально разглядывать ту, из-за которой, собственно, и разгорелся весь сыр-бор. Ее передала телекамера, спущенная на длинном тросе с борта надводного исследовательского судна.
Прямо на меня, то есть прямо на камеру, смотрела морда какого-то чудовища. Три глаза на лбу сверкали холодно и бездумно. Взгляд существа, стоящего на низкой ступени развития, действующего без всякого проблеска сознания, рефлекторно, словно автомат. Страшный взгляд, от которого мороз подирал по коже. Широко раскрытая пасть, свидетельствующая о развитой функции хватания, могучий капкан с неровными, грубо выделанными зубьями. О размерах пасти судить трудно, так как неизвестно, с какого расстояния сделан снимок.
От такого зверя можно прийти в ажиотаж, даже не будучи зараженным одержимостью Калабушева. Легко представить, что ощутили бы разведчики, если бы они встретились с подобным чудищем лицом к лицу.
Я перевернул фото. На обороте краткая выписка из научного протокола. Телекамера передала снимок. Затем — это наблюдали на экране на борту судна — раскрытая пасть вдруг резко придвинулась к камере, мелькнул сверкнувший в луче света зуб, наблюдатели увидели что-то похожее на глотку, и наступил мрак. Трос, к которому была привязана камера, натянулся, как леса, когда попадается крупная рыба. После десятиминутной борьбы, во время которой трос то наматывали на барабан лебедки, то спускали, чтобы ослабить натяжение, он оборвался, и чудовище, заглотившее камеру, исчезло. Судя по размерам камеры, существо, с такой легкостью расправившееся с ней, должно быть не маленьким.
Биологи ничего похожего не видывали и не описывали в своих трудах. Разгорелись споры, в которые неожиданно вмешался Калабушев. Увидев фото, которое передавали по земному телевидению, он “опознал” в незнакомом чудовище морского змея. В доказательство он привел несколько тысяч письменных, запротоколированных свидетельств и рисунки художников прошлых веков.
Одно из “доказательств” находилось в моих руках, в той же пачке фотокопий. Трехглазое чудище с раскрытой пастью гналось за утлым суденышком, удиравшим на всех парусах.
На корме один из матросов стоял на коленях и простирал руки к небу. Туловище змея скрывалось в воде, над поверхностью выступали только похожие на горбы верхушки толстых колец. Это не совсем сходилось с версией Калабушева насчет того, что морские змеи на поверхность поднимались только мертвыми, зато “портретное сходство” почти полное.
— Капитан, вы не заснули? — окликнули меня.
С экрана на меня смотрел улыбающийся Агапов.
— Все в порядке. Пытаюсь построить какую-нибудь правдоподобную версию. Не вести же поиски наобум!
— Попробуйте, — ободрил меня Агавов. — Я специально прилетел с Луны, чтобы участвовать в разгадке. И выслушал уже по крайней мере десяток гипотез. Ваши соображения особенно интересны.
— Я исхожу из самого крайнего предположения, — сказал я. — Случилось что-то такое, что заставило забыться даже такого человека, как Титов. Командиром судна оставался все же Титов, и по инструкции он мог не подчиниться Калабушеву, если бы тот потребовал от него, допустим, неразумных действий. С другой стороны, Титов, если бы он и предпринял что-то выходящее за обычные рамки, непременно информировал бы заранее о своем решении судно, крейсирующее на поверхности. Вывод один: он не успел этого сделать. Произошло внезапно что-то такое, что разом вывело из строя Титова.
— Например, “Скат” налетел на подводную скалу из-за ошибки локатора?
— Тогда бы автоматы передали на поверхность сигнал бедствия.
— Значит…
— Логически рассуждая, — вздохнул я, — приходим к выводу, что Титова вывело из строя не какое-то физическое препятствие, а чисто психологический фактор.
— Не хотите ли вы сказать, что Титов мог, попросту говоря, психануть?
— Нет. Просто Титов мог чему-нибудь очень сильно удивиться. На миг. А секунду спустя, когда он вполне овладел собой, действовать оказалось поздно.
— То есть они встретились со змеем?
— С чем-то глубоко поразившим Титова.
— И это “что-то” реагировало первым и первым напало на “Скат”.
— Не так просто, — сказал я. — Автоматы сработали бы. И, уж во всяком случае, картина того, что произошло, лежала бы сейчас у нас в руках в виде катушки с магнитной записью. А мы не получили даже фото.
Разговор оборвался.
Сквозь нижнюю часть кабины я видел поверхность океана.
В полосе, ограниченной плавучими радиомаяками, шли огромные грузовые корабли плавных, обтекаемых форм, один за другим, словно в кильватерном строю, не оставляя ни полоски дыма. Картина, мало похожая на фотокопии, которые я продолжал держать в руках. Мы пересекали Великую трансокеанскую дорогу, связывающую порты — конечные станции трансконтинентальных железных дорог. Товарные составы продолжали путешествовать морем, чтобы потом снова стать на рельсы.
Потом внизу снова распростерлась водная пустыня. Мы приближались к району, лежащему в стороне от морских шоссе.
Прямо под нами прошло стадо китов. Его пасли пять крошечных корабликов, которые могли нырять и даже плыть под водой не хуже своих подопечных. Четыре кораблика-пастуха шли по бокам стада, а пятый замыкал шествие. Я знал, что они создают в воде электрическое поле, которое не дает китам выйти за пределы заграждения.
Впереди плыли “вожаки” — механизированные макеты животных, за которыми тянулось все стадо. Сколько я ни смотрел, я не мог отличить настоящих китов от имитации. Головные киты, настоящие или искусственные, спокойно рассекали воду, ударяя мощными хвостами, иногда играя, показывали широкую спину или уходили под воду, выбрасывая по возвращении на поверхность высокий фонтан, — и все это совершенно одинаково. Остальные, обыкновенные киты, шли за ними.
Китам, наверно, казалось, что они просто плывут. На самом же деле стадо перегоняли на пастбище, богатое планктоном.
И вот, наконец, небольшое судно, стоящее на месте. Исследовательский корабль “Искатель”.
— Приготовиться! — говорит Агапов.
Меня сбрасывают аккуратно, по всем правилам. Я падаю, как семя вяза, — чуть планирую, касаюсь поверхности воды почти горизонтально и тону. Через минуту включаю двигатели. Тело “Ската” начинает шевелиться, и тут же появляется акула.
Такой красотки я не встречал еще ни разу. Когда она делала первое кольцо и проходила перед моими глазами, мне показалось, что ее туловище будет тянуться без конца.
Не думайте, что я не имел дела с акулами. Но о таких экземплярах ходят только легенды. Акула, видимо, основательно проголодалась — нападать на, китов, защищенных электрическим током, не так-то просто, и “Скат” заинтересовал ее отнюдь не с точки зрения чистой любознательности.
За кого она приняла плывущее в воде, работающее всем туловищем “существо”, не берусь судить, но, едва описав второй круг, бросилась на мой корабль.
Акула впилась в самый край “Ската”, словно собиралась отхватить от него кусок. Но совсем тонкая кромка плавника “Ската” прочнее стали. Я включил ток. Серповидная пасть разжалась, длинное туловище перевернулось вверх брюхом, и “тигр глубин” стал всплывать, как бревно.
— Примите трофей, — сообщил я наверх. — Сгодится для музея.
— Держите корпус под током, — посоветовал Агапов.
Он уже высадился с вертолета и находился на борту “Искателя”. Мое местопребывание автоматически отмечалось там на экране, снабженном шкалой глубины. Я подумал о том, как же надводные наблюдатели ухитрились потерять след Калабушева и Титова? Ведь на экране виден не только мой “Скат”, но и контур дна, вычерчиваемый локатором.
“Скат” опускался на дно, делая колебательные движения то в одну, то в другую сторону. Потом я перевел корабль на снижение по крутой спирали. Само собой разумеется, что мое кресло находилось все время в горизонтальном положении, и я мог спокойно наблюдать за окружающей обстановкой. “Блин”, окаймляющий кабину, постепенно сплющивался, уменьшая объем с повышением глубины. Это тоже была одна из хитростей его устройства.
Вода темнела и темнела, и я, наконец, включил свет. Длинная и тощая рыбина с выпученными глазами подошла почти вплотную и уставилась на огонь.
Последние километры я странствовал в полном одиночестве. Время от времени я проверял связь. И на ультразвуке и на тех радиоволнах, что проходят через воду, аппаратура действовала безотказно. Я видел на экране лицо Агапова почти без искажений. Он смотрел на меня внимательно и настороженно.
Что же все-таки подстерегло Титова? Я снова подумал о Титове, потому что он управлял “Скатом”. Внезапный приступ болезни? Он был абсолютно здоров — его проверяли перед спуском. Потом приборы сообщили бы о любых существенных изменениях в его организме. Я сижу, откинувшись в кресле, всматриваюсь в мерцающий туман, за которым начинается стена мрака, мурлычу что-то под нос, а наверху, на палубе “Искателя”, знают, как бьется у меня пульс, слышат мое дыхание и исследуют меня все время так, словно я нахожусь в клинике у докторов.
Локаторы запищали: на всех экранах появились скалы; они окружили кабину, словно собирались ее раздавить. В тот же миг донный локатор сообщил, что мой “Скат” сейчас ляжет на грунт. Очевидно, я попал в яму, углубление среди скал. Не очутился ли в таком же колодце “Скат-1”? Нет, приборы доложили бы об этом.
Осторожно маневрируя, я выбрался из ловушки.
— Что там? — спросил Агапов. Он наблюдал за мной непрерывно. На его экране неразличимы те детали дна, которые вижу я.
— Порядок, — отвечаю я, ведя “Скат” между почти отвесными стенками.
— Не спешите, — советует Агапов. — Исследуйте каждый метр.
На миг мне приходит в голову почти фантастическая мысль. А что, если где-нибудь на дне лежит корабль, затонувший в стародавние времена? И “Скат-1” проскользнул в открытый люк, а потом застрял в полуразрушенном трюме.
Металлическая обшивка корабля не пропускает радиоволн, отсюда перерыв связи. Но нет! Эта версия отпадает: Титов не полез бы в трюм, не поставив в известность “Искатель” и не получив согласия. А Калабушеву незачем было толкать Титова на столь рискованные действия. Разве только что змееведу померещился в зияющей дыре затонувшего корабля хвост морского змея.
Я выбрался на относительный простор. Передо мной лежал каньон, узкий и глубокий. Я решил идти над самым дном.
Локатор рисовал на переднем экране картину ущелья до его поворота. Прожектор, который я включил, пронизывал толщу воды на несколько десятков метров. Я различал далекие и близкие тени.
Слева лежала густая тень. Я приблизился и, посветив, увидел, что стенка каньона здесь как бы подмыта: внизу образовалось что-то вроде желоба.
— Поищу в щели! — сказал я Агапову.
Тот не ответил. Я взглянул на экран: изображение исчезло. Приборы, контролирующие связь, показали: связь не действует.
Аппаратура не могла выйти из строя. Приборы, следящие за ее состоянием, докладывали: все в исправности. Будь иначе, они давно подняли бы панику.
Машинально поднял я глаза вверх. В затруднительных случаях мы иногда ищем почему-то решение на потолке.
И увидел ответ. Скалы, нависшие над моим “Скатом”, отсекали его от внешнего мира. Ни ультразвук, ни радиоволны прямого распространения не доходили до “Искателя”. Для наблюдателей там, на борту, я исчез — с экрана и из всех каналов связи. “Искатель” должен был подвинуться правее от моего курса вдоль каньона, и связь моментально восстановилась бы. Прежде чем лезть сюда, мне следовало договориться о маневре связи с “Искателем”. Сейчас я должен немедленно выйти из желоба, и меня тотчас же увидят и услышат.
Не ту же ли ошибку совершил Титов? Я сделал непростительный мелкий промах, но он помог мне разгадать причину возможного неожиданного перерыва связи со “Скатом-1”.
Объяснение оказалось на редкость простое. К сожалению, подобные элементарные глупости случаются и с опытными глубоководниками.
Я протянул руку к рычагу управления “Скатом” и… замер. Впереди, в самой глубине каньона, шевелилось и изгибалось какое-то длинное тело. Во всяком деле я люблю точность, но сколько я ни старался как можно хладнокровнее прикинуть на глаз размеры чудовищного существа, почти заполнившего каньон, у меня никак не получалось меньше ста метров. Я бы не поверил никому, кто попытался бы рассказать мне о чем-то подобном, но не верить своим глазам я не Мог.
Я тотчас снял руку с рычага. Прежде чем выводить “Скат” из желоба-укрытия, следовало кое-что обдумать. Я попробовал смерить расстояние до “змея” — буду называть его так — с помощью локатора, а заодно поточнее определить его размеры. Но луч локатора упирался в нависшие скалы: я ведь все еще находился в желобе.
Со своего бокового кресла, только сильно наклонившись вправо и прижав лицо к прозрачной стенке кабины, я мог с полной отчетливостью видеть лениво шевелившееся чудовище.
2
Я невольно подумал: хватит ли у моего “Ската” тока, чтобы оглушить такую могучую тварь? А если змей сам заряжен электричеством, как это бывает у обитателей морских глубин, тогда что? Какой силы разряд способен обрушить он на “Скат”? Ведь эхо должна быть настоящая электростанция, по сравнению с которой электрохозяйство “Ската” — сущие пустяки.
Взглянув еще раз на змея, я увидел нечто такое, отчего кровь застыла у меня в жилах. Змей изогнулся, и я заметил странное утолщение почти в самой середине его туловища.
Случалось ли вам видеть, как змея заглатывает лягушку?
Пресмыкающееся, захватив жертву в пасть, которая у него шире туловища, натягивается на заглоченную добычу, словно чулок. При взгляде на змею видно, где находится сейчас несчастная лягушка и как она в результате судорожных толчков туловища подвигается все ближе к желудку змеи.
Вот такая же картина была сейчас передо мной. Исполинский змей, видимо, заглотал что-то с трудом поместившееся в его туловище. Самое страшное заключалось в том, что это “что-то” имело овальную форму и размеры “Ската”.
Я раздумывал всего одну минуту. Надо немедленно атаковать и взрезать любым путем его брюхо, пусть меня потом проклянут все биологи за то, что я не позаботился сохранить никем не виданную диковину в живых. Подкрасться к чудовищу как можно ближе и напасть на него, прежде чем оно заметит меня! Ведь оно может и просто удрать…
Осторожно я стал подвигаться вперед. В каньоне действовало течение, как это бывает на глубинах, и оно несколько затрудняло мои маневры. Во время одного из таких маневров я потерял змея из поля зрения.
Каньон делал изгиб. Я осторожно подвигался к повороту.
Только я просунул нос “Ската” в закоулок, как увидел прямо перед собой огромную открытую пасть.
Как ни коротко длилось мгновение, я успел различить три холодных глаза, глядевших на меня, не моргая, неровные зубы, вспыхнувшие в свете прожектора… Затем пасть бросилась на меня.
Я успел нажать кнопку электрозащиты. Это не вызвало никакой ответной реакции. Локаторы жалобно пищали, крича об опасности со всех сторон, о замкнутости пространства, в котором я очутился. Я дал резкий в сильный задний ход.
Пройдя не больше трех метров, “Скат” уперся гибким и упругим плавником в какое-то препятствие. Оно не поддавалось нажиму. Еще два толчка с разгону — и тот же результат.
Тогда я выключил двигатель. Что мне еще оставалось делать? “Скат” тотчас же понесло вперед, или, вернее сказать, внутрь хода, в котором я находился. Локаторы показывали близкие стены со всех сторон, а в свете фонаря я различал неясные пятна на темном фоне. Пятна двигались, а корпус “Ската” вздрагивал от непрерывных толчков. Толчки напоминали мне глотательные движения. Как только это “что-то” проглотившее мое судно не подавится мною и моим “Скатом”! Во всяком случае, пока что “внутри” было не так уж тесно.
Не успел я это подумать, как ход, по которому судорожными толчками продвигался “Скат”, вдруг сузился. Стенки теперь почти обжимали кабину. Но мелкими рывками судно пропихивалось дальше. Мне показалось, что мой путь не прямой, а с поворотами или изгибами. “Может быть, эта бестия выписывает своим туловищем сейчас восьмерки”, — подумал я.
Я не испытывал страха. Если даже меня на самом деле проглотил змей, я всегда успею взрезать “его” изнутри с помощью ультразвукового ножа. И тогда он может глотать меня снова, пока ему не надоест или до его тупой башки не дойдет, в чем тут фокус. Хватательные движения у него, конечно, чисто рефлекторные, он набрасывается на любое движущееся тело, подобно пружине, сорвавшейся с замка. Непонятно только, почему на “Скате-1” не воспользовались ножом?
Может быть, с Титовым что-то приключилось, а Калабушев не знает, как управлять инструментом? Или этот упрямец решил поселиться в морском змее, лишь бы тот не погиб для науки? А возможно, ему пришла в голову мысль дождаться, пока змея не поймают и не оперируют по всем правилам хирургии, под наркозом, наложив аккуратненькие швы!
Ну нет, на такую жертву я не способен. Я брался отыскать Калабушева, а не пополнять рацион морского змея, каких бы размеров тот ни достигал и какую бы ценность для науки ни представлял. Но, может быть, эта первобытная бестия бронирована и не разрезается ни изнутри, ни снаружи слабым лучиком ультразвука? В конце концов “Скат” не конструировался для борьбы с таким противником.
Серия мелких толчков заставила “Скат” неприятно завибрировать. Во время одного из толчков я нечаянно выключил свет. В следующее мгновение “Скат” проскочил узость, а я увидел впереди…
Мне захотелось ущипнуть себя. Впереди я увидел светящееся пятно. Оно было довольно правильной круглой формы.
Пятно быстро приближалось. Я узнал… “Скат-1”.
Да, “Скат-1”, зажатый чем-то похожим не то на мускулы, не то на ткани, почти наполовину утопленный в чем-то, высовывался краем диска мне навстречу. Кабина светилась. Внутри, словно в фантастическом аквариуме, виднелись две движущиеся тени.
Так состоялась наша встреча. Я немедленно включил свет, и меня тотчас же заметили.
Я не мог подвести свою кабину вплотную к кабине Калабушева — Титова, и очень жаль.
Вверху и внизу у каждой кабины имелись люки, закрытые крышками, небольшие, но достаточные, чтобы пролез человек. Если бы я мог расположить свою кабину прямо над кабиной “Ската-1” или под ней, они закрепились бы наглухо и образовали один корабль с двухэтажной рубкой. Мы свободно общались бы и могли даже плыть, не разъединяясь: движители-плавники работали бы в такт, в общем ритме.
Правда, в тесном помещении, где мы находились, такая “двойка” не обладала бы хорошея проходимостью, но в нашем положении, может быть, лучше как раз увеличение масштабов. А объединение усилий существенно сыграло бы в нашу пользу.
Вообще, когда ты не один, это уже в сто раз лучше. Я подогнал свой “Скат” вплотную к ребятам. Мы отрегулировали освещение, чтобы хорошо видеть друг друга. Титов, коренастый и низкорослый, сидел в кресле, чуть вобрав голову, с обычным своим спокойным видом. Калабушев приветствовал меня восторженно, подняв обе руки. Это, был блондин с очень светлыми волосами и какой-то плоский в телосложении. Идеальная фигура для спелеолога. Проскользнет там, где мы с Титовым застрянем, словно пробка, запихнутая в бутылку.
— Как дела? — спросил я.
Связь между нами действовала отлично.
— Мы тебя ждали, — сказал Татев. — Я все гадал, кто придет к нам.
Достаточно было на него взглянуть, чтобы понять: он ни минуты не сомневался, что помощь прибудет, и просто ждал ее. С ним все было ясно.
— А вам как нравится обстановка? — поинтересовался я у Калабушева.
— Изумительно! — воскликнул он. — Можно только мечтать.
По лицу его расплылась блаженная улыбка.
“Так, — подумал я. — Тут тоже ясно”.
— Ну, а что вы скажете насчет змея? — задал я третий вопрос.
Титов молча пожал плечами.
Калабушев безнадежно махнул рукой.
Я помолчал немного. Мне не очень хотелось выглядеть дураком в их глазах. Но не померещилось же мне все то, что произошло!
— Как же будем выбираться? — спросил я.
Титов снова пожал плечами.
— Тем же способом, — заметил он спокойно, — ты вытащишь нас за хвост — и все.
— Даже жалко расставаться, — с огорчением произнес Калабушев. — Но мы еще сюда вернемся, — утешил он себя, — Ну что ж, за хвост так за хвост, — сказал я. Мне нужны были какие-то решительные действия. — Не будем откладывать.
Я развернул свой “Скат” таким образом, что его “нос” лег на “хвост” “Ската-1” (вообще-то понятия “нос” и “хвост” для “Скатов” довольно относительны). Мы включили присосы, и наши корабли образовали одно целое. Хвост моего “Ската” заработал вовсю. Но “Скат-1” засел крепко. Мой “Скат” вертелся и изгибался, как ерш на крючке, а “Скат-1” стоял, как на мертвом якоре.
— Действуй и ты, — бросил я Титову.
Он включил свою машину. Теперь поднялась такая возня в таинственных, темных недрах, что любое существо, если бы мы находились внутри него, почувствовало бы толчки.
Однако все вокруг оставалось непоколебимым, как гора.
Я впервые совершенно отчетливо ощутил, что мы находимся в подземном ходе внутри подводной горы. “Скат-1” от совместных усилий двух машин начал выскальзывать из своих зажимов и, наконец, вышел на свободу.
Мы решили плыть, не расцепляясь. Опыт показал, что это надежнее, чем действовать поврозь. А конструкторы предусмотрели и такой вариант: два или даже три “Ската” могли идти цепочкой. Более продуманной и безопасной конструкции подводного судна я еще не видел.
— Пошли к выходу, — оживился Титов.
Но тут гидрофоны донесли какой-то странный шум. Потом нас качнуло. Затем все успокоилось. Но что-то вокруг изменилось.
— Нет течения, — сказал Калабушев.
Действительно, течение, все время тянувшее “Скаты” куда-то в глубь хода, приостановилось.
— Обрушились своды, — сказал Калабушев. Он показал в направлении входа.
— Надо разведать, — предложил Титов.
Больше ничего не оставалось делать. Мы двинулись осторожно, готовые отскочить назад в случае внезапной опасности.
— Как вас занесло сюда? — спросил я Титова.
— Именно занесло, — сказал он сокрушенно. — Понимаешь, мы шли вдоль каньона, а в стенке — с правой стороны — все попадались какие-то отверстия. Одно из них показалось нам похожим на голову змея, вернее, на пасть, как она была сфотографирована телекамерой. Мы остановились, чтобы разглядеть получше. Я даже выключил двигатель. В этом и была ошибка. Течением нас затянуло, словно проглотило. Так неожиданно, что я со всего размаха треснулся головой о стенку кабины. Когда пришел в себя, вижу: сидим в какой-то щели, как клин в дереве.
— Я попытался включить двигатель, — пояснил Калабушев, — и дал передний ход. Ну и вогнал “Скат” в ловушку.
Мы продвигались почти беспрепятственно. Только два раза совсем ненадолго застревали в узостях. Прошлый раз их вроде не было. Но вот нос моего “Ската” уперся во что-то.
— Мы у самого выхода, — сообщил Калабушев. Он помнил все повороты и ориентировался в почти полном мраке вполне уверенно.
— Выключим свет, — предложил Калабушев, — осмотримся.
Мы погасили огни. Первые две или три минуты я ничего не видел. Полный мрак. Потом начали выступать неясные очертания каких-то выступов и впадин. Вспыхнули и налились светом несколько ярких точек и, словно глаза неведомых хищников, уставились на нас. Возникли слабо мерцающие пятна.
Все вместе напоминало картину Млечного Пути где-то в районе Угольного Мешка.
— Это мы зажгли иллюминацию, — пояснил Калабушев. — Вон как зафосфоресцировало.
Во время движения “Ската” я из своей освещенной кабины различал только отдельные пятна и словно протягивающиеся ко мне толстые щупальца. Сейчас я мог ориентироваться лучше. Мы находились в пещере, наполненной водой.
Минут через шесть — семь, когда глаза привыкли к темноте, она обрисовалась бледными контурами.
Мне все стало ясно. Я попался на ту же приманку, что и Калабушев с Титовым. “Скат-2” так быстро втянуло в подземный ход, что мое воображение, раздраженное только что виденной картиной гигантского змея, создало впечатление, что тот же или новый змей набросился на меня. Я не думал, что у бывалых глубоководников могут так расшалиться нервы!
Сейчас, когда нас захлопнуло, словно в мышеловке, создалось по-настоящему опасное положение. Инструкция недаром решительно запрещала и Титову и мне без особого разрешения входить в лабиринт Тумберлинка. Для меня основанием для входа в лабиринт могло служить лишь очевидное доказательство того, что именно в данном месте “Скат-1” проник внутрь подводной горы. Но я должен был получить подтверждение, что мне позволено идти в подземную разведку. Мы оба нарушили инструкцию, и оба ненамеренно. Правда, благодаря этим совпадающим обстоятельствам я, собственно, и нашел так быстро “Скат-1”. В общем все обошлось бы хорошо, если бы мы вышли из владений Плутона во владения Нептуна.
Но нас отделяла от океана каменная стена. Наши ультразвуковые ножи против нее, разумеется, бессильны. Конструкторы “Скатов” готовили ведь подводные суда, а не горнопроходческие комбайны.
— У тебя нет взрывчатки? — спросил Титов.
— Увы, — развел я руками.
— Ваше счастье, — прокомментировал Калабушев. — Сводам может надоесть держать тяжесть горы, и она осядет; легкая дрожь — и камеры нет. Вас тоже. Вы что, не знаете капризов пещер?
— Это похуже, чем если бы нас проглотил гигантский змей, — подумал я вслух.
— Какой же должен быть змей, чтобы нас проглотить! — пожал плечами Титов.
— Змей должен быть метров шестьдесят, если не больше, — задумчиво сказал Калабушев. — Тот, о котором вы говорили, — пояснил он. О змеях он, вероятно, мог разговаривать в любой обстановке.
Титов не из тех людей, что тратят много времени на сожаления о случившихся неприятностях. По выражению его лица я догадывался, о чем он думал. Все мы, глубоководники, воспитаны на аксиоме: нет безвыходных положений. Правда, сейчас практического подтверждения обнадеживающей аксиомы я пока не видел.
— Закрыт главный вход, — сформулировал я задачу в самом общем виде, — но, может быть, есть запасный?
— Течение, — сказал Титов.
— Куда-то течение вело, — согласился Калабушев. — Ветер в пещере — значит, есть второй выход. Течение — то же самое.
В той же связке, но только мой “Скат” стал задним, мы двинулись обратно. Сиденья, кресла и приборы в “Скатах” перемещались вместе с внутренней сферой и могли принять любое положение. Мы просто перевернулись внутри “Скатов”.
Снова перед нами узости. Снова расширения. Я не очень хорошо разбирался в этих выступах и провалах. Но спелеолог Калабушев все узнавал. Думаю, что если бы не он, мы с Титовым застряли бы еще не один раз. Там, где ход расширялся, в пещерах оказывались какие-то узкие щели, углубления, которые можно было принять за ходы, попадались тупики. Течения, которое помогло бы ориентироваться, сейчас не было.
Вот мы попали, наконец, в то место, где я нашел “Скат-1”.
Мы сделали остановку.
Титов включил светоискатель — тонкий луч обежал рваное отверстие по контуру, выхватывая зубцы и выступы. Несколько зубцов Титов спилил ультразвуковой пилой. Потом осторожно повел “двойку” в отверстие. Первую кабину даже не царапнуло. Титов включил передний плавник и вытянул через “горлышко” мой “Скат”.
Мы очутились в довольно просторной полости в недрах земли. Широкая, а главное, высокая, она тянулась метров на сто пятьдесят. Не меньше часа мы потратили на тщательное ее обследование, пока не убедились, что выхода нет.
— Но ведь течение входило сюда! — сказал Титов.
— Для воды есть и выход, — возразил Калабушев. — Нет выхода для нас.
— Посмотрим вое дыры, через которые вода выходила, — предложил я. — Может быть, какую-нибудь удастся расширить.
Конечно, течение помогло бы нам отыскать все дырочки в подземном сите. Но Калабушев не зря имел специальность спелеолога. В конце концов он нашел под самым потолком узкую горизонтальную щель. Мы промерили ее ультразвуковыми локаторами: она шла, все время сужаясь, метров тридцать. О том, чтобы расширить эту глубокую трещину в толще пород, не могло быть и речи. Проскользнуть в нее не сумел бы человек даже в легком водолазном костюме. Словом, мы оказались закупоренными прочно и основательно — с обоих концов подземного хода.
— Самое скверное, — сказал Титов, — то, что нас не найдут: ведь вход завален.
— Да, разумеется, — спокойно подтвердил Калабушев. — Нет главного признака — скалы в форме развернутой пасти.
Упоминание о пасти змея вызвало в моем воображении вихрь картин.
— А я видел змея, — сказал я. — Перед тем, как попал в эту дыру.
Мы сидели сейчас лицом друг к другу. Титов и Калабушев повернули свою кабину. Получилось как бы маленькое совещание.
Калабушев взглянул на меня чуть испытующе. Он хотел уяснить: решил ли я вдруг разыгрывать товарищей в такой неподходящей обстановке? Или в моих словах заключался упрек ему: ведь мы очутились здесь в конечном счете из-за его убежденности в существовании змея.
Титов воспринял мои слова иначе. Он, видимо, решил, что я хочу приободрить их. Какая-то разрядка для нервов, отвлечение мыслей на короткое время были действительно необходимы. Он охотно включился в “игру”.
— И здоровый он был? — произнес он, откидываясь в кресле и приготавливаясь слушать занятные байки.
— Да метров сто, — сказал я, понимая, что получается в общем-то ужасно глупо. Мне не верят. И кто не верит? Те, кто, собственно, и разыскивали змея!
— Ну, что это за змей! — усмехнулся Титов. — Вот однажды…
— Должен вас предупредить, — вмешался вдруг Калабушев. — Что бы вы сейчас ни придумывали, вряд ли вам удастся превзойти “очевидцев”, чьи рассказы занимают особый, отдельный шкаф в моей коллекции. Собирая материалы о морском змее и сортируя их, я выделял самые несолидные “свидетельства”, самые бесшабашные истории, рассказанные пьяными матросами, в особый раздел под наименованием “Чистый бред”.
Меня разобрала досада. “Ты всю жизнь мечтал о встрече с морским змеем, — подумал я, — ты единственный человек, который верил в его существование, ты отправился специально на его поиски — и безрезультатно. И ты же высмеиваешь меня, единственного человека, который его видел”. Но что я мог сделать? Мне оставалось подождать с рассказом о змее до более благоприятного момента. Но будет ли такой момент?
Я посмотрел на узкое лицо Калабушева. Он сосредоточенно думал. Теперь я понял секрет его мужества. Он просто привык к опасным ситуациям. И все. Спелеологи тоже понимают, почем фунт лиха. Сейчас он находился в привычной для него обстановке и привычно обдумывал положение.
— Есть какой-нибудь способ связаться с поверхностью? — спросил Калабушев. — Или с глубоководными судами, которые, конечно же, рыщут сейчас по каньону?
— Ультразвук не пробьет скалу, — сказал Титов.
— Радиоволны не пройдут сквозь гору, — заявил я. — Там пласты металлических руд. Кроме того, у нас направленный луч. Мы поддерживаем связь, так сказать, в пределах прямой видимости. Нащупать корабль вслепую почти безнадежно.
— Мы, спелеологи, пользуемся проволокой связью, — сказал Калабушев. — Под землей это надежнее.
— “Скат” не для спелеологических исследований, — заметил я. — Но вы же отправились в глубь лабиринта, — возразил Калабушев. — Значит, должны были выбросить буй и сматывать с катушки кабель — элементарное правило.
Я не стал объяснять, что в тоннеле очутился нечаянно.
Сейчас было не до того.
— Значит, нужен провод, — рассуждал между тем Калабушев. — Кабельная связь. По крайней мере до каньона.
Он помолчал.
— Выходит, нужно искать, — заключил Он. — Ну что ж, за работу. — И деловитым тоном добавил: — Я думаю, нам лучше расцепиться.
— Где вы думаете искать кабель? — оторопело спросил я.
— Да здесь же, где же ему еще быть!
Титов пристально посмотрел на Калабушева.
— Вы думаете, что кто-то оставил его здесь?
— Не кто, а что, — возразил Калабушев.
— Что же? — спросил я. Калабушев не переставал меня удивлять.
— Течение, конечно, — сказал Калабушев. — И, увидев наши недоумевающие физиономии, добавил чуть нетерпеливо: — Куда же, по-вашему, девалась телевизионная камера, которая сфотографировала “пасть змея”? Пасть поглотила ее, то есть течение втянуло ее в тот самый проход, где находимся мы. Камера в яйцевидном корпусе. Значит, течение может катить ее до тех пор, пока не встретится слишком высокий порог или слишком узкая щель. И то и другое — в этом зале. Следовательно, здесь и нужно искать.
Нет, что там ни говори, а спелеологи — толковые люди.
Мы нашли камеру через полчаса. Я нащупал ее локатором.
Металл отозвался пронзительным писком в наушниках, едва я коснулся его невидимым лучом.
От камеры тянулся тонкий трос. Но самое для нас важное: в каком месте он оборвался? По теории вероятностей скорее на более длинном отрезке, чем коротком. Тогда конец его должен выходить из-под земли. Теперь оставалось проверить теорию, Я присосал камеру плавником. Затем включил внутренние проводники, по которым в плавник передавались электрические заряды. Эти проводники я, в свою очередь, подсоединил к антенне “Ската”. У меня дрожали руки, но я старался не спешить. Внимательно глядя на стрелки, отрегулировал емкость. И вот он, решающий момент!
Едва я произнес: “Говорят “Скат-1” и “Скат-2”. Перехожу На прием”, — как гул голосов, усиленных бортовой аппаратурой, ворвался в обе кабины: “Где вы? Слышим хорошо. Что с вами? Отвечайте! Сообщите обстановку! Слушаем вас!” На правах старшего в группе я коротко обрисовал наше положение. Постарался как можно точнее описать места, где должен находиться вход в коридор. Уж тут я показал, на что способен бывалый глубоководник! Я перечислил столько примет, что Калабушев буквально раскрыл рот.
— Однако вы наблюдательны, — произнес он, взглянув на меня серьезно. Видимо, до сих пор он полагал, что я умею только управлять “Скатом”. Возможно также, что наши “шутки” насчет морского змея подорвали авторитет глубоководников в его глазах.
Вот тут-то я и решил поразить его окончательно. Описав во всех деталях подводную обстановку, я счел нужным предупредить спасателей о морском змее. Я доложил — сухо, кратко, деловито — о внешнем виде и примерных размерах морского змея. При этом я скосил глаз на Калабушева. Лицо его выражало крайнее удивление. Титов же смотрел на меня просто как на сумасшедшего. Он столько плавал в глубинах Индийского океана, что верил в морского змея не больше, чем в Змея-Горыныча из детских сказок. Титова я понимал отлично, но тем большее удовольствие доставило мне изумление Калабушева.
На борту “Искателя” после моего сообщения наступила пауза.
— Ладно, капитан, — сказал, наконец, Агапов. — Держитесь! Сейчас вас вызволим.
Он передал еще несколько деловых указаний, мо о змее даже не упомянул.
“Так, — сказал я сам себе, — там тебе тоже не верят”.
На миг я ощутил положение Калабушева, который Одни на протяжении двадцати лет верил в существование морского змея, а остальные, слушая его, только пожимали плечами.
Вот что значит быть упрямцем! Упрямство Калабашева вызвало у меня уважение.
“Хорошо, — решил я. — Тем сильнее будет аффект, когда я покажу снимки в магнитной записи, В моих руках документальное доказательство”.
Я вдруг испугался, что, может быть, аппаратура не сработала и я так и останусь в глазах Калабушева, Титова и всех людей величайшим лгуном на свете. Обуреваемый нетерпением, я тут же включил маленький контрольный экран для проверки качества записи и, приложив ладони к лицу, чтобы не мешал посторонний свет, прокрутил катушку.
На экране возник в миниатюре каньон, а через несколько секунд в него вползло сверху длинное извивающееся тело. Еще несколько кадров — и огромный морской змей с утолщением посредине туловища заплясал на фоне каньона. Я даже невольно отодвинулся: настолько сильное впечатление производила картина.
— Отлично! — воскликнул я громко, выключив катушку.
Я повеселел. А глядя на меня, повеселел и Титов.
— А здорово ты их! — подмигнул он мне. — Вот это розыгрыш! Я бы так не посмел…
Ему снова все стало ясно. Он был хороший товарищ.
Мы услышали звуки работающего бура, которые хорошо передавались по воде, затем что-то вроде серии слабых взрывов. И веселый голос в динамике произнес:
— Ну, вылезайте из норы.
Сцепившись в “двойку”, мы направились к выходу.
По дороге я не утерпел и спросил Калабушева, что он думает о змее, которого я видел. Он отвечал уклончиво и, между прочим, сообщил, что при длительном пребывании в пещерах у людей, впервые очутившихся в подземном мире, иногда возникают не то чтобы видения, а как бы картины в мозгу, которые в первый момент трудно отличить от действительности. Я возразил, что наблюдал змея до того, как очутился в подземном мире. Он в тех же осторожных выражениях заметил, что даже у него, излазившего самые дикие щели планеты, иногда во время пребывания под землей спутывается хронология впечатлений.
“Ну ладно, — подумал я. — Осталось немного ждать”.
Когда мы со всеми мерами предосторожности подтянулись к выходу, то увидели широкое рваное отверстие.
Признаться, я вздохнул свободнее, когда мой “Скат” очутился в глубоководных просторах океана. Нет, пещеры не для меня. От этого ощущения многих тонн земли над собой можно заболеть и галлюцинациями.
С наслаждением расправлял я мышцы рук и ног, точно гора давила меня там, внутри, своим весом. Мы расцепились и собирались всплывать на поверхность рядышком друг с другом. Метрах в пятидесяти глубоководный “Краб”, освободивший нас из плена, подсвечивал нам лучами своих прожекторов. Я в порядке, так сказать, праздничной иллюминации тоже включил полный свет. С удовольствием оглядывал я теснину каньона и окружающую местность.
Оглянувшись назад, я вдруг увидел… Я трижды ущипнул себя. Потом отвел глаза и посмотрел снова… Огромный длинный змей, извиваясь, плыл прямо на меня. Может быть, его привлек свет? Отливающий серебристыми боками, он отчетливо был виден на фоне темной горы.
— Змей! — закричал я. — Змей!
Меня услышали и на “Скате-1” и на “Крабе”. Все прожекторы устремились в ту сторону, куда показывала моя рука. Света было брошено столько, что змей сразу утонул в сияющем тумане. Но вот он повернулся и стал виден еще лучше, чем минуту назад.
— Бросьте, капитан! — сказал недовольным тоном Агапов. — Это уже не остроумно…
Титов покачал головой. Калабушев посмотрел на меня, как доктор на пациента. “С такими нервами нечего лезть в подземелья”, — говорил его вид.
Происходило что-то ужасное! Никто не видел змея, кроме меня. Я же различал его отлично. Во всех деталях. Он плавно скользил вдоль склона горы и сейчас как-то особенно живо шевельнул хвостом. Я включил камеру. Надо думать, современная съемочная аппаратура не страдает галлюцинациями!
Пока я возился со съемкой, “Скат-1” приблизился ко мне вплотную и взял меня на буксир.
После этого я получил приказание — да, приказание! — передать управление “Скату-1”. А когда я это. выполнил — дисциплина у глубоководников в крови, — “Скат-1” потащил меня наверх.
На борту “Искателя” мне предложили переодеться, напоили горячим молоком и уложили в постель. Агапов минут через десять навестил меня и внимательно выслушал рассказ о змее. Сказал, что просмотрит магнитную запись.
— Отдохните, — сказал он. — Через час у нас будет совещание по первым итогам. Вы в состоянии принять участие?
— Конечно, — сказал я. — Никаким особым лишениям не подвергался. Час покоя — чисто формальный. Я могу идти сейчас на любую глубину.
— Хорошо, хорошо…
Я лежал и старался не думать о недавних происшествиях.
Полагается давать полный отдых всему организму в час покоя. Поэтому я думал о разных пустяках. Незаметно я заснул.
Когда спустя час я вошел в кают-компанию, все были уже в сборе. Человек пятнадцать столпились вокруг стола и рассматривали что-то лежавшее на обыкновенной тарелке. Агапов держал в руке лупу.
— Ага! — сказал он, увидев меня.
— Что это? — полюбопытствовал я.
— Ваш змей, — сказал Агапов.
Меня пропустили к столу.
На тарелке лежала какая-то ниточка. Что-то похожее на волос. Волос был изогнут в форме вопросительного знака.
— Не узнаете? — Агапов протянул мне лупу.
Я поднес ее к волосу и узнал… змея — серебрящиеся бока и вздутие посредине туловища. Хвост шевельнулся от качки, и мне показалось, что змей ожил.
— Водоросль. Прилепилась к наружной сфере вашего “Ската”, — сказал Агапов.
Кто-то привел латинское название.
— Свободный конец колыхался от течения, — обернулся ко мне Титов. — Мельтешил у тебя перед глазами. Ну и перед объективом камеры, конечно. Проектировалась же эта бестия на дальний фон горы. Смещение масштабов.
— Типичный случай, — разъяснил Калабушев. — В моей коллекции насчитывается сотни две клятвенных, данных под присягой заявлений людей, которые стали жертвой такого же оптического обмана.
Я стоял словно оглушенный. Типичный случай! Обыкновенный оптический обман!
— Что ж, капитан, — сказал Агапов, открывая или продолжая совещание, — вы свое дело сделали. Задание — разыскать “Скат-1”, — можно считать, выполнено.
— Конечно, — сказал я, — если не считать, что находка сделана против моей воли, что я способствовал, вероятно, обвалу у входа своими неосторожными действиями и что если бы не находчивость Калабушева…
— Хватит! — решительно перебил меня Агапов. — Только что мы слушали, как сокрушался ваш коллега Титов, который считает себя виновным в том, что “Скат-1” попал в ловушку. Разумеется, вы проанализируете ваши действия и, надо думать, в следующее погружение пойдете обогащенными опытом. Но не надо забывать, — добавил он, — что и вы не сказали еще последнего слова в поисках. Мы облазили бы все норн, прослушали бы всю гору и распилили бы ее хоть пополам, чтобы извлечь вас за те две недели, на которые рассчитаны аварийные запасы кислорода и продовольствия на борту “Скатов”. То, что вы, капитан, исчезли в теле горы, мы определили по характеру обрыва связи с вами.
— История, — покрутил головой Титов. — А что, — обратился он к Калабушеву, — вы по-прежнему верите в морского змея?
— А почему я должен не верить? — спокойно возразил узколицый спелеолог. — Прибавилось еще одно ложное свидетельство к сотням старых. Нет научного доказательства, но нет и научного опровержения.
— Ну, вы действительно упрямец!
— Что собираетесь поделывать, капитан? — обратился ко мне Агапов. — Мы тут собираемся предпринять одно…
— Знаете, — сказал я, — мне бы давно пора в отпуск. Я все откладывал, но вот…
— Отлично, — перебил меня Агапов. — Блестящая идея! Куда вы хотите?
— Вы говорили, что на Луне очень интересно? — спросил я Агапова. — Вы, кажется, были на обратной стороне?
— Да, но там плохая связь с Землей. Норой по целым неделям…
— Отлично, — сказал я. — Меня вполне устраивает. Сейчас соберу свой походный чемоданчик, и если вы подкинете меня к ближайшему космодрому…
Я вовсе не хотел слушать, как вся планета будет смеяться надо мной.
Конечно, никто не станет злорадствовать или хотя бы подтрунивать над глубоководником, которому в силу чисто оптического обмана померещился морской змей в нашем просвещенном веке. Но ведь чувство юмора у людей есть. Я уж лучше пережду немного на обратной стороне Луны, а через неделю человечество наверняка будут занимать другие темы.
Уже находясь на Луне, я узнал, что Калабушев нашел своего морского змея. Два дня спустя они с Титовым совершили новый спуск в каньон и в соседней подводной пещере обнаружили целый выводок гигантских глубинных рептилиеподобных существ. Им разрешили — с соблюдением всех предосторожностей — заход в пещеру и даже отлов парочки змеев с помощью специальных сетей. Остальных решили не трогать, только оградили решетками все выходы из пещеры и наставили туда телекамеры, чтобы наблюдать чудовищ в естественной для них обстановке. Змеи оказались не такими уж огромными, как тот, что померещился мне, но все же достигали метров тридцати в длину — достаточно, чтобы наводить ужас на матросов какого-нибудь утлого парусника. Плавали они, извиваясь, как пиявки. На спине выделялся зубчатый вырост, и подобия плавников выдавались около головы — не то недоразвитая форма, не то, наоборот, рудиментарные остатки прежних органов. Самое удивительное, что у змея было действительно три глаза.
Я узнал об этом из “Лунной газеты”, которую забросили на обратную сторону планеты-спутника ракетной почтой. Газета посвятила событию две полосы пухлого номера, снабдив репортажи большущими фото. В общем это и оказалось то событие, что отодвинуло в тень приключения некоего капитана-глубоководника. Я мог возвращаться к выполнению своих обязанностей.
Нет, но все-таки каково?!
А.ДНЕПРОВ Интервью с регулировщиком уличного движения
— Одну минутку.
— Я вас слушаю.
— Вы прошли на красный свет.
— Простите, я дальтоник. Для меня все равно, какой свет.
— Но вообще-то вы свет видите?
— Конечно.
— В таком случае вы не могли не заметить, что горел верхний свет, а это значит красный.
— Это логично. Но…
— Что?..
— Дело в том, что я, как бы вам объяснить… часто путаю верхний свет с нижним.
— Вы что-то крутите.
Регулировщик приготовился получать штраф.
— Вы когда-нибудь смотрели на матовое стекло фотоаппарата?
Регулировщик небрежно улыбнулся.
— А как вы думаете?
— Там изображение перевернуто.
— Это знает любой школьник.
— Человеческий глаз — линза.
Регулировщик насторожился.
— Ну и что?
— В глазу изображение тоже перевернуто…
— Да, но…
— Ведь правда глаз — линза?
— Правда…
Регулировщик неуверенно повертел карандашом.
— Тогда непонятно…
— В том-то и дело… У большинства людей, то есть почти у всех, изображение, перевернутое в глазу, еще раз переворачивается в мозгу.
— Удивительно. А ведь правда, изображение должно быть перевернутым…
— Так вот у меня оно такое. Перевернутое.
Регулировщик застыл с открытым ртом.
— Значит вы все видите…
— Да. Будьте добры, не заденьте моего лица своими ботинками.
Регулировщик сделал шаг в сторону.
— Значит, для вас я…
— Да, вы стоите вверх ногами.
— Боже праведный, вот несчастье!
— Нисколько, я привык.
Регулировщик задумался, потом хитро улыбнулся.
— Все это, приятель, вы придумали, чтобы не платить штраф!
— Но ведь глаз — линза?
Регулировщик задумался.
— Вот что. Пойдемте, пусть разберется начальство!
Они пошли. Регулировщик внезапно остановился.
— А вам при вашем зрении не трудно ходить?
— Как сказать. Мне надоело видеть ноги вверху. И дорогу вверху. От этого болит шея.
Начальник выслушал сделанный шепотом доклад регулировщика.
— Чепуха. Такого не может быть. Скажите, где моя голова?
— Вон там, внизу.
— Ничего подобного, вы сами показываете пальцем вверх!
— Для вас это верх, а для меня — низ.
— Гм-м. Значит, вам кажется, что вы ходите вверх ногами?
— Нет. Это вам кажется, что вы ходите вверх головой. У меня все нормально, как в учебнике физики.
— Послушайте! Если вам поверить, то вы исключение из правила.
— Ничего подобного, это вы исключение из правила. Господи, опять ваши ботинки возле моего лица. Прошу вас…
— Хорошо, я отойду… Я каждый день чищу ботинки. Еще вопрос. Как вы пьете и едите?
— Как? Обычно, как все. Из стакана и из ложки.
Начальник возликовал.
— Если б все было так, как вы рассказываете, то любая жидкость лилась бы мимо вашего рта!
— Ну, знаете! Тогда, простите, вам неизвестен закон тяготения.
— То есть?
— Жидкость никогда не выльется из-за своей тяжести.
— Куда она, по-вашему, притягивается?
— Вон туда, вверх.
— Вы снова показываете вниз!
— Я уже вам объяснял…
— Ах да…
Начальник был сообразительном, образованным человеком.
Он вытащил из кармана газету.
— Ну-ка, почитайте, что здесь написано.
— “Атнеднопсеррок огешан илисорпоп ым”…
— Вы читаете с нижнего правого угла, справа налево вверх??
— А как же иначе?
— И вам все это понятно?
— Конечно. Мой мозг сразу же поворачивает текст как надо.
— Зрение не переворачивает, а текст переворачивает? Странно.
— Ничего странного. Может быть, это своего рода компенсация за мою физическую нормальность.
— Вы считаете это нормальным — видеть все вверх ногами?
— Повторяю, именно это и есть нормально. А вот то, как видят остальные…
— Значит, по-вашему, мы ненормальные: Но нас ведь большинство!.
— Ну, это еще не аргумент.
Регулировщик задал мучавший его вопрос:
— Скажите, а вы не пытались приспособиться ко всем…
— Что вы имеете в виду?
— Ну, чтобы низ стал верхом и так далее?
— О, конечно, конечно. В молодости.
— И что вы для этого делали?
— Занимался акробатикой. Пытался ходить на руках. Как йог, часами стоял на голове.
— Ну и как?
— Просто мне несколько раз наступили на руки. Простите, опять ваши ботинки…
Начальник и регулировщик умолкли.
Затем регулировщик сказал:
— Я вас немного провожу. Осторожно, здесь у нас, наверху, то есть на вашем низу, болтается люстра. Слишком низко. Не заденьте ее ногами. А вообще-то очень странный случай. Гм. Что вы видите, когда идете со мной? Ах, вы уже говорили. Ботинки. Знаете, я, между прочим, цингу диссертацию. Вы бы мне могли помочь. Редкий случай в практике. Вы бы не разрешили мне как-нибудь зайти к вам? Просто потолковать поподробнее…
— Отчего же, пожалуйста. Запишите адрес.
— А как вас лучше разыскать?
— Я живу в семиэтажном доме, на последнем этаже. Лучше всего заходить с крыши, через второе окно от правого угла…
Регулировщик исчез в темноте…
И.ВАРШАВСКИЙ В атолле
— Мы теперь можем сколько угодно играть в робинзонов, — сказал папа, — у нас есть настоящий необитаемый остров, хижина и даже Пятница.
Это было очень здорово придумано — назвать толстого неповоротливого робота Пятницей. Он был совсем новый, и из каждой щели у него проступали под лучами солнца капельки масла.
— Смотри, он потеет, — сказал я.
Мы все стояли на берегу и смотрели на удаляющегося “Альбатроса”. Он был уже так далеко от нас, что я не мог рассмотреть, есть ли на палубе люди. Потом из трубы появилось белое облачко пара, а спустя несколько секунд мы услышали протяжный вой.
— Все, — сказал папа, — пойдем в дом.
— А ну, кто быстрее?! — крикнула мама, и мы помчались наперегонки. У самого финиша я споткнулся о корень и шлепнулся на землю, и папа сказал, что это несчастный случай и бег нужно повторить, а мама спросила, больно ли я ушибся. Я ответил, что все это ерунда и что вполне могу опять бежать к берегу, но в это время раздался звонок, и папа сказал, что это, вероятно, вызов с “Альбатроса” и состязание придется отложить.
Звонок все трещал и трещал, пока папа не включил видеофон. На экране появился капитан “Альбатроса”. Он по-прежнему был в скафандре и шлеме.
— Мы уходим, — сказал он, — потому что…
— Я понимаю, — перебил его папа.
— Если вам что-нибудь понадобится…
— Да, я знаю. Счастливого плавания.
— Спасибо! Счастливо оставаться;
Папа щелкнул выключателем, и экран погас.
— Пап, — спросил я, — они навсегда ушли?
— Они вернутся за нами, — ответил он.
— Когда?
— Месяца через три.
— Так долго?
— А разве ты не рад, что мы, наконец, сможем побыть одни и никто нам не будет мешать?
— Конечно, рад, — сказал я, и это было чистейшей правдой.
Ведь за всю свою жизнь я видел папу всего три раза и не больше чем по месяцу. Когда он прилетал, к нам всегда приходила куча народу, и мы никуда не могли выйти без того, чтобы не собралась толпа, и папа раздавал автографы и отвечал на массу вопросов, и никогда нам не давали побыть вместе по-настоящему.
— Ну, давайте осматривать свои владения, — предложил папа.
Наша хижина состояла из четырех комнат: спальни, столовой, моей комнаты и папиного кабинета. Кроме того, там была кухня и холодильная камера. У папы в кабинете было очень много всякой аппаратуры и настоящая электронно-счетная машина, и папа сказал, что научит меня на ней считать, чтобы я мог помогать ему составлять отчет.
В моей комнате стояли кровать, стол и большущий книжный шкаф, набитый книгами до самого верха. Я хотел их посмотреть, но папа сказал, что лучше это сделать потом, когда мы полностью осмотрим остров.
Во дворе была маленькая электростанция, и мы с папой попробовали запустить движок, а мама стояла рядом и все время говорила, что такие механики, как мы, обязательно что-нибудь сожгут, но мы ничего не сожгли, а только проверили зарядный ток в аккумуляторах.
Потом мы пошли посмотреть антенну, и папе не понравилось, как она повернута, и он велел Пятнице влезть наверх и развернуть диполь точно на север, но столб был металлический, и робот скользил по нему и никак не мог подняться.
Тогда мы с папой нашли на электростанции канифоль и посыпали ею ладони и колени Пятницы, и он тогда очень ловко взобрался наверх и сделал все, что нужно, а мы все стояли внизу и аплодировали.
— Пап, — спросил я, — можно, я выкупаюсь в океане?
— Нельзя, — ответил он.
— Почему?
— Это опасно.
— Для кого опасно?
— Для тебя.
— А для тебя?
— Тоже опасно.
— А если у самого берега?
— В океане купаться нельзя, — сказал он, и я надумал, что, наверное, когда папа таким тоном говорит “нельзя” там, на далеких планетах, то ни один из членов экипажа не смеет с ним спорить.
— Мы можем выкупаться в лагуне, — сказал папа.
Право, это было ничуть не хуже, чем если бы мы кутались в настоящем океане, потому что эта лагуна оказалась большим озером внутри острова и вода в ней была теплая-теплая и совершенно прозрачная.
Мы все трое плавали наперегонки, а потом мы с папой ныряли на спор, кто больше соберет ракушек со дна, и я собрал больше, потому что папа собирал одной рукой, а я двумя.
Когда нам надоело собирать ракушки, мы сделали для мамы корону из веточек коралла и морских водорослей, а папа украсил ее морской звездой.
Мама была похожа в ней на настоящую королеву, и мы стали перед ней на одно колено, и она посвятила нас в рыцари.
Потом я предложил Пятнице поплавать со мной. Было очень забавно смотреть, как он подходил к воде, щелкал решающим устройством и отступал назад. А потом он вдруг отвинтил на руке палец и бросил его в воду, a когда палец утонул, Пятница важно сказал, что роботы плавать не могут.
Мы просто покатывались от хохота, такой у него был при этом самодовольный вид. Тогда я спросил у него, могут ли роботы носить на руках мальчиков, и он ответил, что могут.
Я стал ему на ладони, и он поднял меня высоко над головой, к самой верхушке пальмы, и я срывал с нее кокосовые орехи и кидал вниз, а папа ловил.
Когда солнце спустилось совсем низко, мама предложила пойти к океану смотреть закат.
Солнце стало красным-красным и сплющилось у самой воды, и от него к берегу потянулась красная светящаяся полоса. Я зажмурил глаза и представил себе, что мчусь по этой полосе прямо на Солнце.
— Пап, — спросил я, — а тебе приходилось лететь прямо на Солнце?
— Приходилось, — ответил он.
— А там от него тоже тянется такая полоса?
— Нет.
— А небо там какого цвета?
— Черное, — сказал папа. — Там все другое… незнакомое и… враждебное.
— Почему? — спросил я.
— Я когда-нибудь расскажу тебе подробно, сынок, — сказал он, — а сейчас идемте ужинать.
Дома мы затеяли очень интересную игру. Мама стояла у холодильника, а мы угадывали, что у нее в руках. Конечно, каждый из нас называл свои любимые вещи, а каким-то чудом оказывалось, что мы каждый раз угадывали. Поэтому ужин у нас получился на славу.
Папа откупорил бутылку вина и сказал, что мужчинам после купания совсем не вредно пропустить по рюмочке.
Он налил мне и себе по полной рюмке, а маме — немножко.
“Только чтобы чокнуться”, — сказала она.
После ужина мы смотрели по телевизору концерт, и диктор перед началам сказал, что этот концерт посвящается нам.
Мама даже покраснела от удовольствия, потому что она очень гордится тем, что у нас такой знаменитый папа.
Они передавали самые лучшие песни, а одна певица даже пропела мою любимую песенку о белочке, собирающей орешки. Просто удивительно, как они об этом узнали.
Когда кончился концерт, папа сказал, что ему нужно садиться писать отчет, а я отправился спать.
Я уже лежал в постели, когда мама пришла пожелать мне спокойной ночи.
— Мам, посиди со мной, — попросил я.
— С удовольствием, милый, — сказала она и села на кровать.
В открытое окно светила луна, и было светло совсем как днем. Я смотрел на мамино лицо и думал, какая она красивая и молодая. Я поцеловал ее руку, пахнущую чем-то очень приятным и грустным.
— Мама, — спросил я, — почему это запахи бывают грустные и веселые?
— Не знаю, милый, — ответила она, — мне никогда не приходилось об этом думать. Может быть, просто каждый запах вызывает у нас какие-то воспоминания, грустные или веселые.
— Может быть, — сказал я.
Мне было очень хорошо. Я вспоминал проведенный день, самый лучший день в моей жизни, и думал, что впереди еще восемьдесят девять таких дней.
— Ох, мама, — сказал я, — какая замечательная штука жизнь и как не хочется умирать!
— Что ты, чижик? — сказала она. — Тебе ли говорить о смерти? У тебя впереди такая огромная жизнь.
Мне было ее очень жалко: еще на “Альбатросе” ночью я слышал, как они с папой говорили об этой ужасной болезни, которой папа заразился в космосе, и о том, что всем нам осталось жить не больше трех месяцев, если за это время не найдут способа ее лечить. Ведь поэтому экипаж “Альбатроса” был одет в скафандры, а мы никуда не выходили из каюты, и в океане, вероятно, нам нельзя купаться, раз эта болезнь заразная.
И все же я подумал, что когда люди так любят друг друга, нужно всегда говорить только правду.
— Не надо, мамочка, дорогая, — сказал я. — Ведь даже если не найдут способа лечить эту болезнь…
— Найдут, — тихо сказала мама. — Обязательно найдут. Можешь быть в этом совершенно уверен.
И.ВАРШАВСКИЙ Решайся, пилот!
Марсианка шла, чуть покачивая бедрами, откинув назад маленькую круглую голову. Огромные черные глаза слегка прищурены, матовое лицо цвета слоновой кости, золотистые губы открыты в улыбке, на левом виске — зеленый треугольник — знак касты Хранителей Тайны.
Климов вздрогнул. Он все еще не мог привыкнуть к загадочной красоте дочерей Марса.
— Простите, не скажете ли вы мне, где я должна зарегистрировать свой билет?
Она говорила певучим голосом на космическом жаргоне, проглатывая окончания слов.
— Налево, пассажирский зал, окно номер три.
— Спасибо! — Марсианка тряхнула серебряными кудрями и, бросив через плечо внимательный взгляд на Климова, пошла к двери. Палантин из бесценных шкурок олле небрежно волочился по полу.
“Шлюха! — с неожиданной злобой подумал Климов. — Искательница приключений! Навязали себе на шею планетку с угасающей культурой. Страшно подумать, сколько мы туда вбухали, а что толку? Разве что наши девчонки стали красить губы золотой краской. Туристочка!” Он себя отвратительно чувствовал. От сердца к горлу поднимался тяжелый, горький комок, ломило затылок, болели все суставы.
“Не хватало только, чтобы я свалился”.
Он проглядел расписание грузовых рейсов и направился в пассажирский зал.
В углу, под светящейся схемой космических трасс, группа молодых парней играла в бойк — игру, завезенную космонавтами с Марса. При каждом броске костей они поднимали крик, как на футбольном матче.
“Технические эксперты, всё туда же”, — подумал Климов.
Он толкнул вертящуюся дверь и зашел в бар.
Там еще было мало народу. Чета американцев, судя по экзотическим костюмам со множеством застежек и ботинкам на толстенной подошве — туристы, пила коктейли, да неопределенного вида субъект просматривал журналы.
Ружена — в белом халате с засученными рукавами — колдовала над микшером.
— Здравствуй, Витя! — сказала она, вытаскивая пробку из бутылки с яркой этикеткой. — Ты сегодня неважно выглядишь. Хочешь коньяку?
Климов зажмурил глаза и проглотил слюну. Рюмка коньяку — вот, пожалуй, то, что ему сейчас нужно.
— Нельзя, — сказал он, садясь на табурет, — я ведь в резерве. Дай, пожалуйста, кофе, и не очень крепкий.
— Ничего нового?
— Нет. Что может быть нового… в моем положении?
Он взял протянутую чашку и поставил перед собой, расплескав половину на стойку.
Ружена подвинула ему сахар.
— Нельзя так, милый. Ты же совсем болен. Пора все это бросать. Нельзя обманывать самого себя. Космос выжимает человека до предела. Я знала людей, которые уже к тридцати пяти годам никуда не годились, а ведь тебе…
— Да, от этого никуда не спрячешься.
Американец поднял голову и щелкнул языком. В дверях стояла марсианка.
— Бутылку муската, крымского, — бросила она, направляясь к столику у окна.
— Ну, я пошел, — сказал Климов, — мне еще нужно в диспетчерскую.
— Я сменяюсь в двенадцать. Заходи за мной, проводишь домой. Может быть, останешься, — добавила она тихо, — навсегда?
— Зайду, — сказал Климов, — если освобожусь.
“Если освобожусь, — подумал он. — Что за чушь! От чего тебе освобождаться, пилот второго резерва? Ты сегодня будешь свободен, как и вчера, и как месяц назад, как свободен уже три года. Никто тебя никуда и никогда не пошлет. Тебя терпят здесь только из сострадания, потому что знают, что ты не можешь не приходить сюда каждый день, чтобы поймать свой единственный шанс. Приходишь в надежде на чудо, но чудеса бывают только в сказках”.
У дверей он столкнулся с толстым низеньким человечком в униформе международного космодрома.
— Как дела, Витя?
— Отлично!
— Самочувствие?
— Великолепное.
— А мы тут совсем зашились с грузовыми перевозками. Заходи к концу смены, поболтаем.
— Зайду, — сказал Климов, — обязательно зайду. К концу смены.
Он еще раз прошел по пассажирскому залу и сел в глубокое низкое кресло под репродуктором. Очередной автобус привез большую группу пассажиров, и зал заполнился оживленной толпой.
Климов машинально взял со столика проспект туристских рейсов.
РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ НА ЛУНУ, ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ. В ПУТИ ПАССАЖИРЫ ОБСЛУЖИВАЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ЭКСКУРСОВОДАМИ-КОСМОЛОГАМИ, ТУРИСТСКИЕ ЛАЙНЕРЫ ВЕДУТ САМЫЕ ОПЫТНЫЕ ПИЛОТЫ.
“Самые опытные, — подумал он. — Каждый из них еще ходил в коротких штанишках, когда я сделал свой первый рейс на Луну. А сейчас… Самые опытные! Что ж, видно, действительно пора кончать эту комедию. Ружена права. Сейчас, пилот, ты пойдешь в диспетчерскую и скажешь, что завтра… Потом ты зайдешь за Руженой, и больше не будет ни этого томительного ожидания чуда, ни вечного одиночества. Зачем ты берег свое одиночество, пилот? Для дела, которому служишь? Тебе больше нет места там. Теперь тебе на смену пришли самые опытные, те, кто еще сопливыми щенками носил на школьных курточках памятные жетоны с твоим портретом. Ну, решайся, пилот!”
Диспетчер — девушка в новенькой, с иголочки форме и значком Космической академии на груди смерила его колючим взглядом серых глаз.
— Почему вы не на месте? Только что отправили в больницу второго пилота с ноль шестнадцатого. Кроме вас, никого в резерве нет. За три дня — двенадцать внеплановых рейсов. Сможете лететь?
“Вот он, твой единственный шанс, пилот!”
— Смогу.
— Бегите скорее в санчасть. Ваше дело уже там. Первый пилот — Притчард. Вы его найдете в пилотской. Старт через сорок минут. Счастливого полета!
— Спасибо!
Климов закрыл за собой дверь и прислонился к стене.
“Ноль шестнадцатый, рейсовый на Марс. Бегите скорее в санчасть. Нет, дудки! Пусть бегают самые опытные, у них не бывает сердцебиений”.
Он сделал несколько глубоких вздохов и начал подниматься по лестнице, останавливаясь на каждой ступеньке.
— Фамилия?
— Климов. Второй пилот с ноль шестнадцатого.
— Раздевайтесь!
Непослушными пальцами он начал расстегивать китель.
— До трусов.
…Десять оборотов, двадцать, тридцать… сто. Все быстрее вращение центрифуги, все медленнее и слабее толчки сердца.
Невообразимая тяжесть давит на живот, сжимает легкие. Тупые, тяжелые удары по затылку. Рот жадно ловит воздух.
Сто двадцать. Огненные круги бешено вращаются перед глазами, рвота поднимается из желудка и комом застревает в горле. Сто тридцать. Невыносимая боль в позвоночнике. Сто тридцать пять. О, чудо! Невесомость. Он парит в свободном полете. Черная бездна усеяна звездами, — синими, красными, фиолетовыми. Какое блаженство! Если бы только так не жал загубник кислородного аппарата. Какой болван придумал эти новые скафандры…
— Спокойно, Климов! Глотайте, глотайте. — Врач вынул у него изо рта ложку и взглянул на часы, проверяя пульс.
— Сколько вам лет?
— Там написано… пятьдесят два.
— Вы же давно имеете право на пенсию. Какого черта…
— Я не могу.
— Глупости! — он подошел к столу и открыл личное дело. — С моей стороны было бы преступлением выпустить вас в полет. Ничего не поделаешь, батенька, возраст есть возраст. Сколько лет вы летаете?
— Тридцать… из них три — в резерве.
— Вот видите, — он перелистывал послужной список, — две аварии за последние пять лет, а до этого… постойте! Вы что, и есть тот самый Виктор Климов?!
— Тот самый.
Врач тихонько свистнул.
“Решайся, пилот! Это твой последний шанс”.
— Один рейс. Очень прошу вас…
— С кем вы летите?
— Первый пилот — Притчард.
— Хорошо, — помедлив мгновение, он поставил размашистую подпись на путевке, — я поговорю с ним, чтобы он вас щадил, особенно на перегрузках. Счастливого полета!
— Спасибо!
— Минутку! Вы помните наш уговор? Последний рейс. А вот — таблетки. Без особой надобности не принимайте. Так помните?
— Помню.
— Простите, вы Притчард?
Широкоплечий верзила, расправлявшийся с полукилограммовым бифштексом, поднял рыжеволосую голову.
— Угу.
— Виктор Климов. Назначен к вам вторым пилотом.
Притчард исподлобья бросил на него взгляд. Уважение пополам с жалостью. Самые опытные всегда смотрели на него таким взглядом.
— Очень приятно. Садитесь. Что вы будете есть?
— Спасибо, я никогда не ем перед стартом.
— Напрасно. Может быть, кофе?
— Я уже пил.
Первый пилот молча жевал.
“Начальство, — подумал Климов, — сосунок, а начальство”.
— Вы летали на шестой серии?
Климов замялся.
— Вообще не приходилось, но я прошел курсы переподготовки.
— Великолепно. — В голосе Притчарда было все, что угодно, кроме восторга.
— Старт в двадцать три тридцать, — сказал он, отодвигая тарелку. — Сейчас объявят посадку. Я пройду, оформлю документы, а вы пока проверьте укладку груза.
— Я не должен присутствовать при посадке?
— Нет, там Рита, она справится.
Объявили посадку, и пассажиры устремились к выходу на летное поле.
Климов зашел в бар.
— Я улетаю на ноль шестнадцатом.
— Ох, Витька! — радостное выражение на лице Ружены быстро смежилось тревожным. — Да разве ты можешь такой?!
— Ерунда. Врач сказал, что я вполне в форме.
— Ну, поздравляю! — Она перегнулась через стойку и неловко чмокнула его в щеку. — Буду ждать.
— Прощай.
— Подожди, Витенька, — она торопливо расстегнула халат и оторвала пуговицу от блузки. — На счастье!
Благодарить не полагалось.
У служебного выхода он небрежно показал дежурному путевку.
— Летите, Климов?
— Лечу, вторым пилотом на ноль шестнадцатом.
— Вторая площадка налево.
Климов вышел на поле. Вдали, за железобетонной оградой, высилась стальная громада стартовой башня с устремленной ввысь ракетой.
Он поднял голову и посмотрел на маленькую красноватую звездочку в небе.
“Тебе здорово повезло, пилот!” — Рука нащупала в кармане пуговицу и судорожно сжала ее. У подножия башни высокая, тонкая стюардесса усаживала пассажиров в лифт. Климов взглянул наверх и направился, к траву.
Он уже был на высоте грузового отсека, когда вновь почувствовал тяжелый, горький комок в трудя. Прислонившись к перилам, он взглянул вниз и сжал зубы, чтобы побороть головокружение. Только этого не хватало. Неужели боязнь высоты?! Он поднял взгляд вверх, и вид мерцающих звезд неожиданно принес облегчение…
Грузовой отсек был забит до отказа. Путаясь в многочисленных оттяжках креплений, Климов ползком пробрался в кормовую часть. Кажется, все в порядке, можно идти в кабину.
— Вот черт! — Выбираясь через люк в тамбур, он ударился головой об один из оцинкованных ящиков, укрепленных по стенам. — Однако, загрузочка выше нормы!
После полумрака грузового отсека матовый свет плафонов салона казался нестерпимо ярким. Последние пассажиры усаживались в кресла. Стюардесса разносила на маленьком подносе розовые пилюли стартового наркоза.
Идя по проходу, он увидел марсианку. Она посмотрела на него внимательным, изучающим взглядом и насмешливо улыбнулась.
Первый пилот был уже на месте. Климов сел в свое кресло и застегнул ремень. Притчард вопросительно на него посмотрел.
— Все в порядке, но мне кажется, что загрузка превышает допустимую для кораблей этого класса.
Притчард хмыкнул.
— Не беспокойтесь. Есть разрешение инспекции.
В двери появилась голова стюардессы.
— Все! Двадцать шесть пассажиров.
— О’кэй!
Притчард включил микрофон, но вдруг передумал и вновь щелкнул тумблером.
— Слушайте, Климов. Вы ведь опытный астролегчик. Еще в академии я изучал ваши полеты… Вам нечего меня стесняться… Мне говорил врач… Может быть, стартовый варкоз?
— Чепуха! Я себя отлично чувствую.
— Как знаете. — Он нагнулся к микрофону. — Я ноль шестнадцатый, прошу старт.
— Ноль шестнадцатый, даю старт! — раздался голос в динамике.
…пять… четыре… три… два… один… старт!
Стрелка указателя ускорения медленно тронулась с места и, нерешительно задержавшись на какое-то мгновение, стремительно двинулась дальше.
Климов почувствовал на себе взгляд Притчарда и улыбнулся слабой, вымученной улыбкой. Затем, выждав немного, вытащил из-за обшлага таблетку и отправил ее в рот налитой свинцовой тяжестью рукой.
Первый пилот внимательно глядел на щит приборов.
Прием допинга на взлете и посадке был категорически запрещен уставом.
Действие таблетки сказалось мгновенно. Теперь вибрация и тяжесть не казались такими мучительными.
Притчард передвинул маленький рычажок на пульте.
Стрелка указателя перегрузки пошла вниз.
— Я ноль шестнадцатый, — сказал он в микрофон, — старт благополучный, курс на заправочную станцию.
— Я вас слышу, ноль шестнадцатый, — отозвался голос. — Старт благополучный, заправочная готова вас принять.
Плавное торможение, две вспышки бортовых дюз, и корабль повис в магнитной ловушке заправочной станции.
“Ловко это у него получилось, — подумал Климов, — ай да самый опытный!” Притчард отстегнул ремень.
— Послушайте, Климов. Заправка продлится около трех часов. На взлете вы мне абсолютно не нужны. Набор второй космической — это не шутка. Отправляйтесь спать. Две таблетки снотворного. Через двадцать часов меня смените.
— Да, но…
— Выполняйте распоряжение! При такой автоматике я могу подремать здесь. Ясно?
— Ясно.
В синем свете ночных ламп лица пассажиров казались мертвенно-бледными. Они лежали навзничь в откинутых креслах, скованные стартовым наркозом. На переднем сиденье, скорчившись, спала стюардесса.
Климов прошел в крохотную каюту экипажа и, сняв ботинки, лег на диван. У изголовья, на столике, лежала коробочка со снотворным.
“Выполняйте распоряжение”…
Он вздохнул и одну за другой принял две таблетки.
“А все-таки тебе здорово повезло, пилот”, — усмехнулся он, закрепляя спальные ремни.
Климов проснулся от странного щемящего чувства тревоги. Несколько минут он лежал на спине с закрытыми глазами, не в силах побороть действия снотворного.
“Который час? — он отстегнул ремни, рывком сел и взлетел к потолку. Держась за скобы на переборке, осторожно спустился вниз и взглянул на часы. — Черт знает что! Проспал!” Прошло тридцать шесть часов с тех пор, как Притчард отослал его в каюту. Проспал вахту. Позор! Нечего сказать, хорошо начинается его служба на ноль шестнадцатом!
Он нагнулся, натянул ботинки с магнитными подошвами и, волоча ноги, с видом провинившегося мальчишки поплелся в рубку.
Чета американцев, расстегнув ремни, дремала в креслах.
Юные эксперты снова сражались в бойк, Оглашая кабину веселым ржанием. Марсианка, морщась от стука магнитных костей, сосала тюбик с ананасным кремом. Стюардесса порхала между креслами, убирая остатки завтрака.
Климов открыл дверь рубки.
— Простите, Притчард. Я знаю, что это свинство, которому нет оправдания.
— Бросьте, Климов. Я рад, что вы хорошо выспались. Корабль на курсе. Можете дремать здесь, в кресле, а я прилягу. Когда вас сменить?
— Когда угодно. Я, кажется, выспался на всю жизнь.
— Хорошо, — первый пилот взглянул на часы, — я, пожалуй, тоже приму таблетку.
…Нет ничего более спокойного, чем вахта в свободном полете. Климов откинулся в кресле и закрыл глаза, прислушиваясь к монотонному пощелкиванию курсографа. Ну вот, он снова в космосе. Теперь, вероятно, надолго. Пилотов, назначенных из резервов, редко снимают после первого рейса. Во всяком случае, несколько рейсов ему обеспечено, а там…
Два взрыва один за другим рванули корпус корабля.
Погас свет. В темноте Климов нащупал кнопку аварийного освещения, и рубка осветилась скупым светом маленькой лампочки, укрепленной над пультом.
Во внезапно наступившей тишине стук часового механизма курсографа казался ударами набата. На плавной кривой курса виднелся крохотный всплеск. От него кривая чуть заметно отклонялась влево. Этого было достаточно, чтобы корабль пролетел мимо цели на расстоянии миллионов километров. Нужно немедленно исправить курс. Две-три вспышки из бортовых дюз, и тонкая кривая на бумажной ленте вновь ляжет посередине красной черты, вычисленной со скрупулезной точностью электронными машинами на Земле.
Он нажал педаль маневрового двигателя левого борта… Тишина. Магнитные подошвы больше не притягивались полом, и он двигался по проходу нелепыми скачками, провожаемый встревоженными взглядами пассажиров.
Между дверью, ведущей в тамбур, и комингсом переборки лежал иней. Климов прижался ухом к изоляция двери и услышал тонкий свист. Там, за этой дверью, была чудовищная пустота, именуемая космосом. Он взглянул на шток автоматического клапана, установленного на трубе, подающей воздух из регенерационной станции в кабину. Клапан закрыт. Это могло означать только одно: разрыв трубопровода.
— Что-нибудь серьезное, кеп? — спросил американец.
— Нет. Микрометеорит пробил обшивку и навредил проводку. Через два часа все будет исправлено. Вот только обед, вероятно, запоздает.
Еще бы! Ведь все запасы продовольствия находились там, за этой дверью.
“Два часа, — он бросил взгляд на анероид. — Давление в кабине на пять миллиметров ниже нормального. Через два часа они начнут задыхаться, если только запас кислорода в аварийных баллонах…”
— Два часа, и все будет в порядке, — повторил он, направляясь в кабину.
— Притчард! — Первый пилот спал, раскинув руки. Тяжелое дыхание вырывалось из полуоткрытого рта. — Притчард!
Он тер ему уши, хлопал по щекам, массировал грудную клетку.
— Проснитесь, Притчард!
Тщетно. Сейчас действие снотворного могла парализовать только инъекция энцекардола.
— Рита!
В дверь просунулось бледное, как гипсовая маска, лицо стюардессы.
— Аптечка у вас?
— Она в тамбуре, сейчас принесу.
— Не нужно.
— Я думаю…
— Идите на место! Я буду в рубке. Включите поглотители углекислоты. Кислород расходуйте очень экономно. Никого не подпускайте к двери, ведущей в тамбур.
— Хорошо.
“Ну, решайся, пилот!” Собственно говоря, решать было нечего. Кислорода в баллонах оставалось примерно на четыре часа. Нужно либо, задраив дверь из кабины в рубку, выбраться наружу через аварийный люк и попытаться проникнуть в кормовой отсек, либо… Двадцать шесть пассажиров.
Скафандр — в шкафу. Немного великоват, но ничего не поделаешь. Он закинул руку за спину, чтобы защелкнуть карабин шлема, и почувствовал режущую боль в левой половине груди. Не нужно делать резких движений. Теперь укрепить на груди кислородный баллон и пристегнуть к поясу трос. Не забыть маневровый пистолет. Проклятье! Ни троса, ни пистолета на месте не оказалось. Очевидно, все снаряжение для вылазок в космос хранилось в кормовом отсеке. Ладно, выхода нет. Он проверил герметичность шлема и начал отвинчивать стопор аварийного люка.
Стремительный шквал прижимает тело к полуоткрытому люку. Со взрывом лопнули лампочки плафонов. Черная пластмасса пультов быстро покрывалась толстым слоем инея.
Он бросил взгляд на дверь, ведущую в кабину, и распахнул люк…
За свою долгую жизнь космонавта Климову не раз приходилось покидать кабину в полете, и всегда при этом он испытывал ни с чем не сравнимое ощущение величия космоса. Однако сейчас ему было не до высоких эмоций. Тонкий плотный слой льда осел на петлях, не давая закрыть люк.
Упершись ногами в обшивку, он изо всех сил тянул его на себя.
— Сволочь! — Неожиданно крышка подалась, и, кувыркаясь через голову, Климов начал стремительно удаляться от корабля. Он вытянул руки и ноги. Вращение немного замедлилось, но черный провал бездны между ним и ноль шестнадцатым неуклонно увеличивался.
“Люк!! Никто не знает, что люк открыт. Даже если Притчард проснется до того, как в кабине кончится кислород… Стоит только распахнуть дверь…” В отчаянии он барахтался в пустоте, сжимался в комок и рывком расправлял беспомощное тело.
“Если бы был маневровый пистолет… Болван! Что толку думать о том, чего нет… Кислород!” Он перевел рычажок обогрева баллона в крайнее положение и, выждав подходящий момент, резко открыл вентиль продувания.
“Стоп!.. Еще раз… Стоп!” Все ближе громада корабля, все меньше давление кислорода в баллоне.
“Довольно! — Протянутые пальцы почти касаются спасительного леера. — Неужели мимо?! Последний раз! Есть!” Сейчас он цепкой хваткой держит металлический прут.
Крышка люка совсем рядом. Он накладывает стопор и, сжав от напряжения зубы, затягивает что есть силы маховик. Только бы хватило кислорода!
Медленно перебирая руками, Климов движется вдоль корабля. Ага! Вот она, зияющая дыра с рваными краями! С трудом он протискивает туловище внутрь. Так и есть! Взорвались эти чертовы ящики в тамбуре. Он нагибается и в свете шлемового фонарика различает дыру размером в кулак в трубопроводе, подводящем регенерированный воздух в кабину. Края ее затянуты льдом. Сноп белых снежинок фонтаном вздымается вверх. Слава богу! Регенерационная станция работает. Он подходит к двери, ведущей в машинный отсек, и кладет на нее руку. Чуть ощутимая вибрация от работающих компрессоров похожа на биение сердца.
Нужно торопиться. И так слишком много драгоценного воздуха выброшено в космос. Сначала — пластырь на трубу, затем заняться кабелем. Заплату на обшивку — после…
— Витя! — Ружена уже сняла халат. Костюм из мягкой серой ткани плотно облегал ее стройную фигуру. — Пойдем, милый! Ноль шестнадцатый на Марс уже улетел. Теперь до утра ничего не будет. Мы еще успеем на автобус. Посмотри, на кого ты похож! Пошли! Примешь ванну, выпьешь чаю с малиной. Завтра я выходная, проваляешься весь день в постели.
“Ну, решайся, пилот!”
— Нет, — сказал он, скользнув взглядом по расписанию рейсов, — я буду ночевать в общежитии. Завтра в семь утра нужно быть здесь к отлету маршрутного на Луну. Ведь я — в резерве, мала ли что может случиться.
Борис ЗУБКОВ, Евгений МУСЛИН Вечная машина
Кто придумал, будто для человека, сраженного недугом, весь мир замыкается в четыре бледно-голубые стены больничной палаты? Неправда! Для прикованного к постели бедолаги мир очищается от назойливых мелочей, становится необозримо велик и чист до прозрачности. Сейчас все, что рядом со мной, чисто и прозрачно — и моя собственная рука, и шкафчик с термометрами, и стакан с горьковатым лекарством. Вся больница — чистота до прозрачности. Кстати, мои врачи не говорят “больница”, они любят слово “лечебница”. Будто бы меня можно лечить и вылечить.
Опять эта боль… Она начинается в одной точке тела, расширяется, захватывает все его уголки…
Я мечтал подарить людям бессмертие вещей… С чего все началось? Забыл. Неужели и память моя заболела? Жаль.
Кто-то говорил: “Наше “я” — это синтез памяти”. Если я не помню, значит я не существую…
Вспомнить бы самое начало. Начало… Наверное, там, в холодной мастерской во время войны. Я работал слесарем по ремонту оборудования на текстильной фабрике. От сверлильного станка отходил всегда с окровавленными пальцами.
На то, чтобы стащить шкив с вала, тратил весь свой рабочий день… А кой тебе годик? Пятнадцатый миновал… Станки — на них ткали одеяла для госпиталей — выходцы из прошлого века. Калеки, издыхающие от хронического голода на запчасти. Мы приносили в мастерскую обглоданные, искромсанные детали и в сотый раз пытались вернуть обезображенным кускам металла утерянную форму. Мы строгали их, колупали зубилами и плакали от суровой неподатливости металла, от морозов в мастерской минус пять, от скудной военной пищи — столовая кормила сладковатой болтушкой с пышным названием “суфле” и зелеными котлетами из свекольной ботвы.
Быть может, именно тогда, когда с тупым отчаянием я взирал на изношенные детали, а цеховой мастер, стоя за моей спиной, ждал чуда обновления, тогда и зародилась где-то в крошечном уголке мозга Идея. Потом много лет она дремала, свернувшись тугим пружинистым комочком. Развернулась, когда я уже работал в проектном институте.
…Проектировщики в белых халатах. Окна в два человечьих роста. Бригада рабочих непрерывно моет стекла — покончит с последним окном, начинает мыть первое. Так все время и моют, институт огромный. Где ты, полутемная мастерская?
Я тоже в белом халате, но мысленно роюсь в земле городских улиц — проектирую кабельные трассы. Нас, “подземщиков”, каждодневно ругают. И за дело. Там, на улицах, не успевают засыпать одну траншею, уже копают другую, рядом. Мы отшучиваемся, говорим, что работаем по принципу “не рой ямы ближнему своему”. “Ближние” — это другие кабельщики, газовики, телефонщики. Тогда и началось самое главное! Какойто мудрец додумывается прокладывать кабель в трубах. Положив обойму труб про запас, можно затаскивать в них новые кабели, заменять старые. Никаких лишних раскопок, никаких ям. Крайне современно. Полгода мы проектируем эти трубы, строители терпеливо укладывают их. Потом разражается страшный скандал: кабели прилипли к трубам! Попытались для пробы вытащить пару кабелей, а вытянули одни медные жилы, оболочка осталась в трубе. Прилипла! Кусок злополучной трубы привезли в институт. Собрался консилиум, не хуже, чем сейчас собирается возле моей постели. Подошел и я.
Внутри труба покрыта чем-то блестящим, как масло. Попробовал пальцем — так просто, для солидности, будто что-то про себя соображаю — и оторопел. Поверхность оказалась твердая, гладкая, будто полированная. Меня это сразу как-то необъяснимо поразило. Почти дурно сделалось. Как будто у меня в руках громадная находка, только ускользает она, и чувствую — сейчас все рассеется, останется лишь грустное ощущение потери. Вот когда проснулась дремавшая столько лет Идея! Я видел, что в дрянной, заскорузлой трубе скрывалась вечная молодость машин, скульптур, памятников, небоскребов, мостов. Секрет вечной жизни вещей, секрет самообновления металла.
Участники консилиума разошлись, я схватил кусок трубы и утащил на свой стол. Вечером я исцарапал, изрезал, исковеркал серебристую пленку перочинным ножом. Нож сломался, но царапины все же получились. Для отвода глаз насыпал в трубу земли из цветочного горшка, воткнул в землю какой-то цветок. Это была моя первая лаборатория. Она умещалась на подоконнике рядом с чертежным столом. Терпение, терпение! Я ждал три месяца. Опять был вечер, когда я трясущимися руками выколотил землю из трубы в корзину для бумаг. Блестящий слой залечил раны! Царапины исчезли… Какие-то неизвестные доселе микробы наращивали тончайший налет металла, в точности повторяющий форму поверхности трубы.
Раны металла залечивали микроорганизмы. Я нашел их. Случайно или не случайно? Сколько таких неслучайных случайностей знает любая наука! И микробиология полна ими. Говорят, что пенициллин обнаружили в заплесневевшей чашке, содержимое которой лишь по недосмотру не выбросили в помойное ведро…
Я проштудировал “Селекцию микробов” Петрова и кое в чем уже разбирался. “Эта книжка небольшая томов премногих тяжелей”… Кажется, Фет… Сколько стихов он написал? Сто, двести, тысячу… А что застряло в моей памяти?..
Итак, я нашел их в ржавой трубе. Именно там, в заурядной, удивительной, дрянной и драгоценной трубе. Откуда принесли ее к нам в институт? Никто не помнил. Где откопали?
В поселке Строителей или у Новых домов? На Проектируемом проезде? Весь город взрыхлен строителями.
Я так трясся над этим уникальным куском бурого металла, что сделал специальный термостат — там, в гараже.
Как раз в это время мой друг продал свой “Москвич”. И у него осталось автомобильное стойло под названием “кирпичный гараж”. Там я оборудовал свою лабораторию. Каждый первооткрыватель первым делом открывает свою лабораторию. Благодаря щедрости друга я получил четыре неоштукатуренные стены и пару длинных полок со следами бензина и машинного масла. Вперед! Первые микробиологи делали прививки морским свинкам при помощи деревянной щепки. Я тоже первый в своем роде.
Очень скоро я убедился, что в серебристом налете скрывались микроорганизмы десятков различных видов. Из этой живой смеси необходимо было выделить малюток лишь одной породы и приручить их. Я был как укротитель на манеже цирка. Алле, гоп! Удар хлыста, и… ничего за этим ударом не следует. Пустое сотрясение воздуха. Львы и медведи — нечто весьма осязаемое. Даже слепой может отличить бурого медведя от белого. И даже микроскоп не подсказывал мне, где бактерии одного вида, где другого. Иногда брала верх порода честных строителей. Тогда опыт удавался. Я ликовал. Крошки-строители добывали молекулы металла из пыли, носившейся в воздухе, из остатков смазки, из ржавчины… Они строили и строили, наращивая из крупинок тончайшие слои металла. С идеальной точностью они возвращали обезображенному куску металла потерянную форму. Таинство обновления свершалось непрерывно, бесшумно и точно. Я уже видел, как миллионы машин, запрятав в свое нутро колония бактерий, работают вечно, не боясь износа, царапин, ржавчины. Мир вещей, не знающих тлена и распада. Вечно юные статуи, всегда живые двигатели, навеки незыблемые мосты и башни…
Рядом с малютками строителями приютилась другая порода — безобразников и хулиганов. Иногда эти маленькие анархисты оттесняли в сторону строителей, и опыты давали дичайшие результаты. Бактерии наращивали на металле безобразные наросты, мохнатые иглы, бесформенные нашлепки.
Скульптор-абстракционист сгорел бы от зависти, глядя на их упражнения. Споры бактерий носились в воздухе гаража и, оседая на чем попало, тут же давали всходы. Как они мне досаждали! Однажды они проникли в замой гаража и срастили ключ с замком. Пришлось “разбирать” замок зубилом и кувалдой. В тот же вечер, дома, я обнаружил, что не могу вылезти из собственной куртки. Застежка “молния” превратилась в нечто похожее на хребет рыбы, все звенья застежки слились друг с другом. Испорченная куртка — пустяк. Хуже было, когда сзади меня раздался оглушительный взрыв, зазубренный кусок металла просвистел над головой и вонзился в деревянную полку. Это бактерии разорвали изнутри огнетушитель — они разрослись внутри него, раздавили стеклянные баллоны с пенообразующими веществами и одновременно залепили отверстие для выхода пены.
Взрыв… Вероятно, тогда споры бактерий особенно густо заполонили воздух лаборатории. Но и до взрыва все кругом пропиталось ими. Бутерброд, который я ел, воздух, которым я дышал… Они проникли в меня и теперь ведут внутри безжалостную работу. В человеческом организме найдутся любые металлы. Даже золота полграмма наберется. Мне кажется, что я чувствую, как бактерии собирают воедино молекулы железа и никеля, устилают металлом вены и артерии. Они путают обмен веществ и, созидая, разрушают. Сколько перед нами незримых врагов!.. Когда эпидемия чумы косила жителей Афин, один Сократ остался здоров. Может быть, философ уже тогда знал тайну врачующих прививок? Все ли мы знаем про мир мельчайших сегодня? Но вдруг рядом со мной живет современный Сократ. И надеюсь. Надежды — сны бодрствующих. Утешительно… Боль… опять все кругом темнеет от боли.
Меня лечит Ростислав Георгиевич. Милый доктор старомодного обличья. Галстук свалялся трубочкой, очки в “школьной” оправе, то есть в самой уродливой, какую только можно изобрести. Его авторучка подтекает и обернута тряпочкой.
Но все равно на пальцах синие пятнышки. Каждый день Ростислав Георгиевич является ко мне с какой-то новой и совершенно оригинальной медицинской идеей. Ободряет? Вероятно. Я узнаю, что где-то доктор Икс рекомендует при гипертонии… поменьше дышать, а доктор Игрек вылечил неизлечимых шизофреников, совершив с ними альпинистское восхождение на Эльбрус, и будто где-то в Австралии некий профессор по цвету глаз распознает сорок четыре болезни. Таким образом он, видимо, вселяет в меня надежду, что и мою болезнь поможет раскусить некий медицинский гений. Надежды — сны бодрствующих…
Несмотря на всяческие странности, Ростислава Георгиевича все уважают, а больные говорят шепотом: “Он творит чудеса”. Хорошее, добротное чудо в моем положении оказалось бы очень кстати.
Последние дни Ростислав Георгиевич напускает на себя вид таинственный и секретный. Но маленькие хитрости его наивны и легко разгадываются. Весь секрет заключается в том, что сегодня меня будет смотреть “светило микробиологии”. Светило вынесет приговор. Окончательный, обжалованию не надлежит…
Я уже сталкивался с одним таким “светилом”. Он давал отзыв на мое открытие. Это тоже был приговор. Суровый и несправедливый…
Полгода я возился в гараже-лаборатории, пока решился официально заявить о своем открытии.
Как я писал тогда в заявке на изобретении? Кажется, так: “Предлагается способ самообновления или самовосстановления любых металлических частей, деталей и узлов машин, механизмов, зданий и сооружений. Способ отличается тем, что с целью постепенного и непрерывного наращивания мономолекулярных слоев металла применяются бактерии, открытые и выделенные в чистом виде автором заявки и названные им Терра Террус…” Официальное косноязычие. Я вызубрил эту прекрасную формулировку…
Светило микробиологии написал отзыв на мое предложение. Он увильнул от сути дела, его не зацепила идея вечности вещей. Он смотрел со своей колокольни. Он нудно и непререкаемо изложил пункты и подпункты, по которым выходило, что я чуть ли не злонамеренный отравитель. Он доказывал, что было бы преступной неосторожностью поселить рядом с людьми неизвестную доселе расу микробов. Необходимы предварительные массовые эксперименты на животных.
Необходимо проследить, не будут ли Терра Террус оказывать вредное влияние на потомство подопытных обезьян в четвертом поколении! Практическое воплощение в жизнь моей Идеи откладывалось на пятьдесят, сто, может быть, сто пятьдесят лет. Страх перед новым, не более того. Но вот ведь я заболел? Глупости. Всякая техника опасна для неумейки.
И швейной машинкой можно изувечить себе палец. Моя болезнь — глупая случайность. А светило — трус! Я так и сказал ему. Пришел уговорить его хотя бы смягчить убийственный отзыв. Но не выдержал, сорвался, наговорил кучу дерзостей. Губы задрожали, покраснел, даже ногами топал.
“Светило” тоже покраснел и затопал ногами. Разругались насмерть…
Кто из нас прав? Прогресс техники — всегда риск. Автомобиль пытались запретить, полагая не без основания, что он распугает лошадей и от этого восседающим в каретах и на извозчиках последует великое членовредительство. На паровоз оволчились врачи, суля пассажирам судороги и расстройство всего тела, как следствие быстрой езды и тряски. Даже невинный телефон и тот в свое время считали губительным для здоровья. Ни автомобили, ни паровозы, ни телефоны запретить не удалось. И никакому “светилу” не запретить мое открытие. Мы еще поборемся. Если… если я когда-нибудь еще смогу с кем-то бороться.
Ростислав Георгиевич старается лечить меня. Добрый доктор Айболит! Добился визита ко мне “светила микробиологии”. Интересно, кто это “светило”? Знаю ли я его фамилию по статьям и книгам?..
…Медсестрички засуетились. На больничном горизонте восходит “светило”… Вот оно приближается. Это мое “светило”! Тот самый, на которого я топал ногами и кричал:
“Трус! Консерватор!”
Благодарю вас, Ростислав Георгиевич, за приятный сюрприз.
Обезьяна стала человеком, когда приняла вертикальное положение. Я в горизонтальном положении — я повержен, я не прав, уличен в легкомыслии и невежестве. “Светило” возвышается вертикально — он торжествует, он прав и непогрешим. Что он говорит? Нет, не говорит. Произносит!
— Вы доставили нам массу хлопот. От меня потребовали, чтобы я решил, как поступить с вашим гаражом, извиняюсь, с вашей лабораторией.
— Как поступить с моей лабораторией? В каком смысле?
— В единственно возможном. В смысле — уничтожить. Но как? Сжечь? Где гарантия, что бактерии не возродятся из пепла? Продезинфицировать? Но чем? Сулема для них — это все равно, что глоток нарзана. Интересно, что бы вы предложили?..
— Не знаю.
— Обстоятельный ответ. Благодарю вас, коллега.
Сколько яда в слове “коллега”!
— Вы, конечно, все же придумали способ уничтожения лаборатории?
— Не сомневайтесь, придумал. Мы обнесли гараж со всех сторон сплошным высоким забором и вылили сверху пятнадцать самосвалов бетона. Теперь там огромная бетонная глыба, из которой вашим Терра Террус не выбраться. А внутрь лаборатории для страховки брошена ампула с радиоактивным кобальтом. Я предупреждал, что самодеятельная возня с неизученными микроорганизмами чревата последствиями, выходящими из-под контроля…
— Я уже не нуждаюсь в лекциях.
— Учиться никогда не поздно.
Как он банален! Скоро он уйдет?..
— Я не буду проверять ваш пульс. Это обязанность Ростислава Георгиевича. Я займусь Терра Террус. Постараюсь сделать все, что в моих силах. До свидания.
Он сделает все, что в его силах… Какая великолепная, стандартная, обнадеживающая и холодная формулировка! Он сделает все, что в его силах. Ради кого? Ради недоучки, осмелившегося проникнуть в науку, которую он считает своей личной собственностью? Ради чего? Нет, он, разумеется, добропорядочный человек. Разве у меня есть повод сомневаться в этом? Он сделает все, что в его силах. Но с какой душой?
Он вызовет к себе свободного лаборанта… А лаборант бывает свободным только, если он плохой лаборант. Он попросит к себе свободного сотрудника. А свободный научный сотрудник бывает только, если его голова свободна от пауки. Он поручит им “разобраться” с Терра Террус. Заместителю — у него есть заместитель — скажет: “проследи”. И успокоится — он сделал все, что в его силах, — поручил, обязал, проследил.
Я могу ликовать и лежать спокойно…
Сестричка, сестричка, подойди ко мне! Начинается приступ…
Почему за окнами пламя? Солнце заходит… Отблески желтой звезды светят сейчас не только Земле. Я мог бы подлетать сейчас к другой планете… Багровые языки за стеклами иллюминатора. Зловонные вихри обжигают стекла. Клочья ядовитых туманов ищут людей, укрывшихся за тонкой металлической обшивкой. Но все спокойны. Нас охраняют полчища Терра Террус. В молекулах их тел атомы кислорода заменены атомами кремния, и малютки могут наслаждаться прохладой тысячеградусных температур. Они живут на обшивке нашего корабля. Сейчас раскаленные вихри слизывают миллиарды огнестойких крошек. И тут же им на смену рождаются миллиарды миллиардов новых. Они размножаются с чудовищной поспешностью. Потоки огня не в силах побороть размножение живых огнеупорных частиц. Впервые испытывается живая защита космических кораблей…
Как далеко ты залетел! Вернись на Землю. Туда, где корявая кожа Земли изрезана сухими морщинами. Великая сушь, засуха пыльная, заскорузлая. Плуги стремительно режут серую земную корку. Нет, не плуги, два стальных крыла вспарывают землю, режут гигантскую борозду канала.
Вглубь — на метры, вширь — на десятки метров. Управляемый по радио каналопроходец обгоняет птицу. Натиск на земные пласты так скор, что вылетающие из-под плуга осколки валунов шипят, падая на влажную землю, — осколки раскалены. А в микронеровностях стальных ножей — колонии Терра Террус. Они жадно выбирают из земли атомы железа и тут же прикрепляют их к металлу, непрерывно восполняя потери.
Стальным крыльям не грозит разрушение, это работает вечный плуг…
Мечты, мечты…
Мою лабораторию превратили в глыбу бетона. Надгробный камень, воздвигнутый на обломках мечты.
Сегодня Ростислав Георгиевич печален. Не находит слов ободрения. “Светило” взошло на нашем больничном небосклоне и скрылось. Не торопится. Десятые сутки делает все, что в его силах…
Я хотел бы подарить Ростиславу Георгиевичу чугунную собачку. Маленькую, дешевую фигурку. Но она уникум.
Единственная в мире и теперь — увы! — неповторимая.
Фигура собачки стояла на столе в гараже. Старенькая статуэтка, одна лапка отломана. И эта лапка выросла заново!
Я сам видел это! Каким-то неведомым чутьем Терра Террус ощущали направление граней обломанных кристалликов чугуна и достраивали их. Когда статуэтка рождалась из огненного расплава, ее пронизывали силовые линии земного магнитного поля, в ней возникали силы натяжения, давления, сдвига микрочастиц, слипавшихся в одно целое. Металл остыл, но запечатлел и сохранил следы этих сил. Теперь микробы-строители шли по незримым следам, двигались вдоль замерзших силовых линий. Они достраивали скульптуру, создавая исчезнувшее, восстанавливая потерянное.
Все прошлое человечества записано в металле. Коринфская бронза, сиракузские монеты, медали хорезмшаха, мониста славян, орудия века бронзы… Картины писали красками с примесью свинца и железа, надписи на мраморе вырубали металлическим клином, книги печатали металлическими литерами… Всюду куски металла, его следы, его оттиски, его пыль и пятна. Все это можно восстановить — изуродованные фанатиками статуи, стертые надписи, истлевшие рукописи, помрачневшие картины. Забытые цивилизации восстанут 66 из пепла. Малюткам строителям предстоит большая жизнь…
Ничего им не предстоит. Они замурованы в глыбе бетона.
“И опять был день. И опять была ночь”.
А когда только что кончился очередной приступ взошло “светило”. Он подошел ко мне. Какие у него странные глаза!
Какие у него воспаленные, безумные глаза!..
— Мои глаза? Не обращайте внимания. Я не спал одиннадцать суток. Принимал дианол. Сильное возбуждающее. Потребуется полгода пренеприятных процедур, чтобы выгнать его из организма. Никогда бы не решился начинять себя такой дрянью, если бы не спешка. Ростислав Георгиевич сказал, что вы протянете не больше трех недель. Извините, я присяду к вам на постель. От этого дианола сердце работает, как бешеное. Мы сделали восемьсот сорок два опыта. Восемьсот сорок третий оказался успешным. Мы нашли антитела, убивающие ваших бурых тварей. Опасность заражения для человека вообще оказалась ничтожно малой. Вам просто не повезло. Во всяком случае, любая домашняя кошка с точки зрения микробиологии представляет значительно более грозную опасность, чем ваши вечные машины… Все спасено!
— У вас запущенный случай, но считайте, что все уже позади. Выздоровление ваше — теперь только вопрос времени. Я не буду извиняться за тот кусок бетона, в который я превратил вашу лабораторию. Люди важнее лабораторий. А пока они — увы! — не вечны. Кстати, я хотел поговорить с вами именно об этом. Мне кажется, что микробы, подобные вашим Терра Террус, могут внести нечто принципиально новое в медицину. Представьте себе, что мы заставим их как бы самообновлять некоторые ткани нашего организма. На первых порах это могла бы быть костная ткань…
Может быть, вечными станут не только машины?
Борис ЗУБКОВ, Евгений МУСЛИН Бунт
По ледяной пустыне шел голый человек. След босых ног печатался на снегу четко, как в рисованном фильме, и воздух, отдыхавший от вчерашней метели, стоял неподвижно над каждым следом, не пытаясь разрушить его хрупкие границы.
Цепочка ямок, выдавленных ногами человека, позволяла восстановить его путь, проделанный за последние сутки. Он шел день и ночь, не отдыхая, с ритмичностью механизма, делая в час по крайней мере три с четвертью мили, с каким-то сверхъестественным чутьем обходя многочисленные и глубокие трещины, скрытые под шапками снега.
Двигаясь вдоль восточной границы ледника Бирдмор, он держался сто семьдесят пятого градуса восточной долготы, направляясь в центральную и самую суровую область антарктического материка.
Ярко-оранжевая набедренная повязка туго обвивала его туловище, а на поясе висел шар, покрытый сетью мелких граней. Шар висел на человеке тяжело и властно, словно ядро каторжника. Сходство это дополнялось тем, что шар был прикреплен к поясу, сплетенному из трех довольно массивных цепочек. Ядро, или, точнее, многогранник из освинцованной пластмассы, — единственное снаряжение путника. И впереди — он знал это — его не ждали склады с традиционным пеммиканом, галетами и противоцинготным снадобьем.
Впереди только льды. На горизонте они почти черны, рядом — ослепительны. Но человек смотрит на них, не мигая.
И так же, не мигая, переводит взгляд на солнце. Безжизненное солнце, обглоданное по краям оранжевым туманом. А кругом закоченевшее море острой граненой ряби. Ледяная рябь словно мчится и стекается к одной точке горизонта. Там, именно из этой точки, торчат вверх и врозь серые перья облаков.
Их пять. Кажется, поднялась предостерегающе гигантская рука с растопыренными пальцами и грозит опуститься, прихлопнуть и ледяное море и человека. Но он идет и лишь очень редко сбивается с мерного шага. А когда сбивается, по всему его телу пробегает волна судороги, он вздрагивает и убыстряет шаг, будто кто-то невидимый, но сильный подгоняет и сердится на непредусмотренную заминку. Только мысли путника неподвластны ничему. И мысли текут вспять, возвращаясь к чему-то исходному…
В тот день он отвез семью к брату. Брат работал препаратором в Рольстонском национальном парке, а малышу так необходимо подышать во время каникул хвойным воздухом.
Тем более что брат никогда не имел ничего против детишек, которых у него самого была целая куча.
Итак, Генри Кейр оставил сына и Моди у брата, а сам возвращался в раскаленный город. Была суббота, и автострада представляла собой сплошной поток разноцветных машин.
Неожиданно из-за группы белых пихт выскочил бизон. Бизоны были гордостью и приманкой Рольстонского национального парка. Животное ударило передними копытами об асфальт и остановилось. Генри резко затормозил. Тут же услышал у себя над головой дикий скрежет. Это на крышу его автомобиля громоздились, сминая друг друга, ехавшие сзади машины.
Еще он услышал хруст собственных костей и… легкое позвякивание ложечкой о край стакана. Женщина размешивала что-то розовое в стакане, стоящем на столике рядом с его кроватью.
Между этими двумя звуками лежало двухнедельное беззвучное и черное беспамятство.
— Моди! — позвал Кейр.
Женщина обернулась. Незнакомая женщина, запеленатая в белый халат. Кейр, еще плохо воспринимая все окружающее, отвернулся. Он лежал неподвижно, боясь почувствовать, что стал калекой. Нигде ничего не болело. Быть может, наркотики заглушают боль? Генри продолжал лежать, не шевелясь, до тех пор, пока все тело его не онемело. Но вместе с проникающим ощущением скованности пришло чувство, что тело это существует, по-прежнему подвластно Генри Кейру и что каждый мускул хотя и занемел, но так же существует и готов действовать. Сознание освобождалось от дремоты. Этого момента, видимо, ждали. Широкая застекленная дверь бесшумно отодвинулась, в комнату вошел, как и можно было ожидать, некто с наружностью заурядного провинциального врача.
Он положил руку, пахнущую лекарствами, на лоб Генри. Рука неожиданно оказалась тяжелой и вдавила голову в подушку.
— Мы проснулись, — сказал провинциальный врач с профессиональным льстиво-бодрым нажимом. — Мы чувствуем себя превосходно. Наша психическая структура абсолютно нормальна. Мы готовы встретить правду лицом к лицу. Не так ли, мистер Кейр? Я не начинаю со слов утешения. Оставим их для трусливых. Будем уважать друг друга. Уважение к пациенту — залог успеха. Вы современный человек, мистер Кейр, и должны любить технику. Вас не испугают некоторые медицинские новинки. Не должны испугать!
Он отбросил одеяло и, чуть надавив пальцами на лоб Генри, заставил его повернуть голову так, чтобы тот увидел…
На краю постели громоздился спрут. Выпуклая никелированная коробка выпустила из себя тонкие красные трубки, гофрированные шланги, жгуты разноцветных проводов. Жгуты и шланги чуть заметно шевелились. Теперь, когда с него скинули одеяло, Генри понял причину неисчезающего чувства скованности. Он был прикован к постели. Металлические браслеты в нескольких местах обнимали его руки и ноги. Грудь представляла из себя почти бесформенную груду бинтов. Трубки и шланги спрута вонзались в эту груду. У Генри сладко закружилась голова. В комнате потемнело. Дальний край постели, где лежали скованные ноги, вытянулся и поплыл вверх. Сквозь стену из ваты он услышал еще несколько фраз:
— Автомобильный руль слишком жестко закреплен. Осколки ребер проникли в область сердца… Функциональные нарушения.
Генри потерял сознание. Потом многодневно трудились над ним белые халаты. Без особого участия, без любопытства все, вероятно, отрабатывалось заранее на десятках обезьян, на тысячах морских свинок, на земляных червях. Когда вечером особенно тщательно измеряли температуру, щупали ультразвуком прошлые операционные раны — значит, завтра новый шаг. Еще один шаг к тому, что из тебя вычеркнут все человеческое и заменят тоже чем-то живым, но отталкивающе инородным. Однажды рядом с операционным столом он увидел крохотную обезьянку, распластанную в наркотическом сне. Беспомощное, выбритое наголо, до синевы тело. Только лапы в мохнатых перчатках. Наверняка в тот день скальпель коснулся ее первым, и крохотный комочек, вырезанный из обезьяньей плоти, заменил что-то в теле Кейра. Заменил… что именно? Кусок нерва или раздробленную кость? Так или иначе, он превращался в химеру, в тройной сплав тикающих приборов, человеческого сознания и органов, украденных у жителей зоопарка.
Находились ли рядом еще такие же полулюди? Или для других процесс превращения в живой прибор кончался агонией, жизнь обрывалась под ударом дефибриллятора, старавшегося в последний раз электрическим разрядом подстегнуть сердце?
Операции отнимали одну частицу человеческого за другой, пока все не заменил Шар.
Как инвалида учат обращаться с костылями, так Генри учили обращаться с Шаром. Подробную инструкцию следовало вызубрить и помнить всю жизнь. Собственно, вся жизнь и заключалась теперь для Кейра в Шаре. Сам Шар не нуждался в Кейре. Он жил своей жизнью. Ячейки и микропоры Шара хранили сложную цепь мельчайших живых существ. Цепь начиналась с микроорганизмов, которые существовали полностью за счет радиоактивного распада изотопа цезия. Организмы следующей ступени питались радиоактивными малютками и строили первичные белки. Еще более высокоорганизованные микробы поглощали белковые остатки второй ступени, углекислый газ и, производя кислород, отдавали его непосредственно в артерии Кейра. Четвертая ступень поставляла Кейру высокоэнергетические питательные вещества, пятая — ферменты, необходимые для усвоения продуктов четвертой ступени. И так далее. Все умещалось в Шаре. Культуры приборов были уникальны, Шар стоил миллионы. Это было чудо, и, как всякое чудо, противоестественно.
Когда Шар заменил пищу и воздух, кожное дыхание оказалось излишней роскошью. Кейра заставили окунуться с головой в липкую жидкость, наполнявшую цилиндрический бассейн. После этой процедуры все тело оказалось обтянутым пластической пленкой, сверхпрочной, сверхупругой, сверхизолирующей, сверх… сверх… сверх… Какие там еще прекрасные свойства имела эта новая кожа? Он забыл, хотя ему все объясняли. Ему многое объясняли. Человек обязан уметь обращаться с машиной, ему доверенной. Тем более, если эта машина — он сам. В детстве Генри любил маисовые оладьи с яблочным повидлом. Теперь нос и рот залепила замечательная сверхпрочная пленка. Он не может вдохнуть в себя аромат яблок, цветов, свежего теста. Он не нуждается больше в обычной пище, обычном воздухе. Ура тебе, заботливый Шар! Ты вдуваешь кислород в артерии и силу в мускулы! А как быть с ароматом яблок? Где он? Исчез вместе с голодом, вкусом, жаждой. Лишь где-то в закоулке мозга валяются объедки ощущений. Зачем они теперь тебе? Выколоти их из головы, бей себя по черепу, выбритому до блеска, залитому сверхпрочным пластиком. Сквозь него даже удары воспринимаются тупо, как сквозь подушку… Что делают без него Моди и малыш? Мальчик тоже любит маисовые оладьи с яблочным повидлом. У него пухлые губы, а верхняя чуть оттопыривается. Это все из-за того, что он дышит ртом. Слабенький мальчик. Но воздух Рольстонского парка пойдет ему на пользу…
…С юго-востока летит снежная пыль. Где кончается белизна облаков, где начинается белизна снега? Взгляд не находит горизонта, и от этого кружится голова. Снова пошли наледи, сверху изгрызенные солнцем, снизу вздыбленные ветром. Словно сам дьявол, готовясь к полуночному чаепитию, сбросил на дно необъятной белой чаши глыбы подтаявшего ноздреватого сахара. Где-то в напряженной памяти проснулся инстинкт жажды. Генри не нужно воды. Это он знал твердо. И все же вековечный инстинкт жажды рисовал перед ним кубики льда в запотевшем бокале, графины с водой, жестяные кружки, водопроводные краны и снова кубики льда. Лед и вода…
Он хотел облизать губы, но они зашиты, чтобы порывы ветра не проникали в остатки уже ненужных легких. Жажда бессмысленна. Что еще можно отнять у него, если отнята простейшая радость утоления жажды?
Нет, кое-что осталось, кое-что…
Сегодня утром он проснулся радостный, он вспомнил во сие что-то хорошее. Он понял, что все же обманул своих хозяев, обвел вокруг пальца, подсунул им недоброкачественную деталь собственного тела. Он тихо издевался над ними, еще не сбросив с себя дымку утреннего сна. Все это, оттого что происходило в полусне, придавало слишком большое значение его мелочной, в сущности, победе. Даже не победа, уловка.
Он сумел сохранить чисто человеческий дар — умение плакать. Можно плакать над своей судьбой и радоваться плачу.
Пусть это унизительное торжество, но слезы — привилегия человека, машина не знает горькой влаги утрат и сожалений.
Когда Кейр вылез из-под нависшей ледяной глыбы, где он ночевал, стряхнул колючий снег и проснулся окончательно, он понял, что его глубокое торжество не стоило и ломаного гроша. Как мог забыть он подслушанный краем уха спор! Тогда кто-то из хирургов настаивал на сохранении его слезных желез. Другой голос возражал, доказывая, что глаза целесообразнее также залить прозрачной пластмассой, тем более что Кейр страдает дальнозоркостью, а пластмассе легко придать форму линз, компенсирующих этот недостаток. Кейра быстро увели в другой кабинет — надо было снимать очередную энцефалограмму… Итак, в споре победил первый, Кейру оставили слезы. И он никого не обманул. И его никто не обманывал.
Просто слезная жидкость надежнее пластмассы. Вот и все…
А звери, плачут ли они? Черепаха, например, может плакать? Несколько раз ему разрешали посещать террариум с подопытными животными. В качестве развлечения. Его удивило, что звери ничем не пахнут. В цирке, за кулисами, куда он проталкивался вместе с малышом, чтобы тот поглазел на крохотных пони и слонов в ярких попонах, там всегда стоял пронзительный и тревожный запах зверья. А здесь — стерильная свежесть. Он тяжело вдохнул в себя воздух и… ничего не вдохнул, ничего не почувствовал, только ноздри, затянутые пластиковой пленкой, вздрогнули по привычке. Забыл — смог забыть! — что за него дышит Шар.
Да, черепаха плакала. Морская зеленая черепаха, старая и морщинистая, с обкусанными ластами. Ее звали Чо-ка.
А ласты ей обкусали рыбы, когда она совершала заплыв в триста миль, стремясь достичь бухты Тортугеро. Тысячи черепах, преодолевая пассаты и ураганы, плывут ежегодно издалека и отовсюду к берегам черепашьей бухты, чтобы отложить яйца в черный песок Тортугеро. Их зовет туда инстинкт, держать точный курс помогает крохотный ориентирующий орган — магнитный компас, сотканный из живых клеток. Генри породнили с Чо-ка. Ее заставили отдать Кейру этот компас. Пересадка ориентирующего органа удалась, и в Генри вселили таким образом чуждый человеку инстинкт магнитной ориентации…
…За несколько часов мертвого сна под ледяной глыбой все вокруг изменилось. Серые облака порыжели, часть их отсекает теперь черная непроглядная тьма, часть светится, пропуская багрово-оранжевые лучи. Льды, которые рядом, почернели, а на горизонте словно расплавились в огненную магму. Центр кипящего блеска где-то там, в ослепительно белой точке. Эта точка притягивает взгляд и манит. Может быть, его зовет к себе магнитный полюс планеты? Живой компас, пересаженный от Чо-ка, привязал его к магнитным линиям, он словно чувствует их неосязаемую упругость кожей лба и затылка. Непривычность ощущений пугает, несмотря на предварительные тренировки в лагере у ледника Бирдмор.
Какой-то другой житель террариума облагодетельствовал Генри, передав ему с куском своей плоти чутье на тончайшие нюансы тепла и холода. Сейчас это помогает Кейру безошибочно находить почти бездонные трещины, замаскированные слежавшимся снегом: над трещинами снег чуть теплее. Таким способом ему гарантирована безопасность.
Безопасность — ради чего? Ради кого он должен беречь себя? Малыш и Моди больше не существуют. То есть они существуют, но отдельно от Кейра, всякая связь между ними разорвана самым надежным и умелым образом. Он должен был согласиться на это. К тому времени его тело изменилось настолько, что он не узнавал сам себя. Он оказался чужд самому себе. Так каким же он покажется Моди? Сможет ли он поцеловать малыша губами, одетыми в холодную пластмассу? Благодаря всесильному Шару он наверняка переживет Моди и даже малыша. Долгие годы будет для них живым призраком, реальной химерой, добровольным пугалом. Его подменили. Теперь подмену следует довести до конца. Так ему предложили, и он согласился. Впереди — церемония собственного погребения. Или почти погребения. Но все же, пусть в последний раз, он увидит семью.
…Над просторным холлом первого этажа клиники нависал длинный и узкий балкон. С одной стороны на него выходили двери рентгеновских кабинетов, а со стороны холла балкон закрывал лист толстого стекла. Сюда и привели Кейра. Ярко освещенный холл — место действия. Темный балкон — для единственного зрителя.
Очень скоро появились Моди и мальчик. Милый малыш, ты хорошо выглядишь, загорел. Лето, проведенное в Рольстонском парке, пошло тебе на пользу. Отлично! Это ничего, что сейчас ты немного напуган непривычной обстановкой. Ты быстро успокоишься, ты еще так мал. Не волнуйся, малыш. Вот и Моди говорит тебе несколько успокаивающих слов. Толстое стекло не пропускает звуки. Но хорошо видно, как шевелятся ее губы. Она одергивает на себе жакет и нервно ломает пальцы. Генри чувствует, что сердце его колотится все чаще, все тревожнее. Сердце, каждое биение которого со дня катастрофы подчиняется только электронному кардиостимулятору, бесшумному механизму, вживленному под кожу. Значит, это сердце, которое принадлежит ему только наполовину, способно все же страдать и отчаиваться? Впрочем, чему он удивляется?
Сейчас в крови много адреналина, конструкция кардиостимулятора предусматривает реакцию на адреналин, соответственно изменяя ритм сердцебиения. Ах, как все просто!
Зачем холл осветили так ярко? Неужели они не понимают, что горе любит полумрак и тень? Кейру сейчас легче, чем Моди, — он в темноте. Ему не надо думать о том, как выглядит его горе со стороны, при свете. Наконец-то! Внизу появился третий участник церемонии. Тот самый, с обликом провинциального врача. Профессиональный утешитель держит в руках большую круглую коробку. Генри знает, что в коробке. Пепел.
Его фальшивый пепел! Сейчас Моди в сочувственно-вежливых, даже проникновенно-скорбных словах сообщают о постигшей ее тяжелой утрате. О том, что было сделано все, что в их силах, но что… увы! Мы сочувствуем вашему горю… И так далее, и тому подобное. Держите пепел вашего мужа…
Моди берет коробку. Зачем-то отдает ее мальчику. Ах вот что, ей надо найти платок в сумочке. Коричневая сумочка с темно-красной окантовкой. Подарок к десятой годовщине их свадьбы. Теперь она пытается засунуть в сумочку эту коробку.
Ну что ты, Моди, разве она уместится в сумочке? Какая ты смешная и неловкая! Осторожнее, рассыплешь пепел… И зачем ты кричишь? Генри все равно не слышит твоего крика. Оп только видит твои губы…
Но не тот день, когда он увидел беззвучный крик Моди и малыша, застывшего с круглой коробкой в руках, с коробкой, наполненной фальшивым пеплом, а другой день, наступивший чуть позже, окончательно убедил Кейра, что к прошлому нет возврата, что впереди только рабство. Рабство без оков, тюрьма без решеток. Тюрьмой стало его собственное измученное тело. Собственное ли? Кому принадлежит оно теперь?
Скоро — он ждал этого с минуты на минуту — придет время расплачиваться с теми, кто нанимал гениальных хирургов, покупал драгоценные сыворотки и зверинцы экзотических тварей. А пока с ним не смели или не хотели говорить откровенно. Зыбкая полуправда-полуложь иногда баюкала, иногда оглушала, точь-в-точь как порция наркотиков, которые — он догадался — вводили в него почти регулярно. И все же он узнал правду…
Вечером того дня Генри не смог уснуть. Это случилось впервые. Все время пребывания в клинике он спал много и глубоко, и даже часы бодрствования походили на сон — какая-то наркотическая дрянь вкрадчиво и настойчиво овладевала им. Но сейчас он не спал. Только глаза была запорошены и болели, как после бессонной ночи. Но сознание работало ясно и тревожно. Эта инстинктивная тревога подняла его с постели (идеально гигиеническая кровать — голубые простыни, приятные для глаз, и гуттаперчевый матрац с изменяемой по желанию степенью упругости). Он уже привычно почувствовал тяжесть Шара, прикованного к поясу, и шагнул к двери (под ногами сверхгигиеничный пол с постоянной электризацией, благодаря чему достигнуто идеальное пылеотталкивание). Дверь скользнула бесшумно и упруго (все в клинике упруго и бесшумно). Стены коридора светились тихим зеленоватым мерцанием. Кто-то негромко, но резко произнес: “Спеле требует глаза…” Пахнуло холодным воздухом, видимо говоривший открыл дверь в глубине коридора. Тот же голос, удаляясь и совсем тихо повторил: “Спеле…” Опять порыв воздуха — дверь захлопнулась. Все стихло. Но и тишина знает свои шорохи.
В ушах у Генри вместе с шорохом тишины прошелестело: “Спеле… Спеле… Спеле…” Он поднял плечи и вдавил в них голову, чтобы заглушить эти звуки. Вместо них он услышал стон и быстрое, быстрое бормотание. Похоже, будто магнитофон запустили на высшую скорость. Ничего нельзя понять: “ра-ра-ра, бу-бу-бу, ра-ра-ра…” Но бормотала не лента магнитофона, а человек.
Дверь соседней комнаты распахнута настежь. Открыта!
Непостижимо! Генри еще не видел в клинике ни одной хотя бы неплотно прикрытой двери (идеальные запоры и уплотняющие прокладки — в большинстве отсеков здания поддерживается избыточное давление воздуха, не допускающее проникновения спор микроорганизмов). Войти? Почему он спрашивает себя? Разве он не свободен во всем, кроме Шара? Всего-навсего еще несколько шагов. В комнате соседа было темно, но когда Генри пересек порог, свет вспыхнул. Здесь стояла такая же сверхгигиеничная кровать, но нелепо повернутая, косо перегородившая комнату. На ней лежал кто-то закрытый с головой синей простынью.
Кейр нагнулся и осторожно откинул простыню с головы лежащего. Тот сразу же, будто автоматически, подняв руку, и неприятно белые, мягкие, словно бескостные, пальцы ощупали лицо Генри.
“Слепой, — понял Кейр. — Бледен, как непропеченные оладьи. Видно, его давно не выносили на солнышко”.
Рука соседа нащупала Шар и задержалась на нем.
— Это мне знакомо, — с усилием, но очень ясно произнес сосед. — Я видел такие шары. Когда мог видеть. Не у всех нас они есть…
— У кого — у нас?
— У тех, кто попал в эту клинику. Разве ты не знаешь? Агенты выезжают почти на каждую катастрофу. Отбирают тех, кто годится. Годятся не все. Только абсолютно здоровые.
— Почему здоровые? После аварий остаются калеки. Только калеки, вроде меня…
— Я сказал — здоровые. Пустяковые повреждения не идут в счет. И ты был здоровым. Обычным! И я. В любой больнице нас выписали бы через неделю. Залепили царапины пластырем и выписали…
— Но они сказали мне… — Кейр начинал понимать.
— Что собрали тебя по кусочкам? Они всем так говорят. Потом появляется Шар, и все кончено. От Шара не отвяжешься, как нельзя отвязаться от собственной головы.
— Врешь! — полушепотом закричал Кейр. — Ты врешь, пугаешь! Ты просто завидуешь мне, что я хоть вижу. Я был калекой, ты понимаешь это? Совсем калекой. Они меня вылечили, и я благодарен им!
— Перед смертью люди позволяют себе такую роскошь — не лгать. Они вылечили тебя? Ты слеп, а не я. Меня они тоже лечили. Где мои глаза, ты не знаешь? Они лежат в холодильнике и ждут меня. Как будущая награда за все, что я должен был сделать. Остатки глазных нервов законсервированы. Вот здесь…
Он дотронулся белыми пальцами до уголков глаз.
— Но зачем им все это? Зачем?
— Меня прозвали Спеле. Это значит — Пещера. Меня сделали таким, чтобы я работал в пещерах. Нюхал, щупал, слушал — слепые это делают лучше зрячих. И темнота пещер их не пугает, не действует им на нервы. Для них весь мир пещера, они привыкли. Понял? Придумано отлично. От тебя они тоже что-нибудь потребуют… Ты же им так благодарен…
Спеле запнулся, несколько раз тяжело и хрипло вздохнул и быстро что-то забормотал. То самое “бу-бу-бу”, что Генри слышал еще в коридоре.
— Что с тобой, дружище? Перестань! Ты бредишь… Перестань! Я здесь… Да перестань же ты!
В отчаянии Генри натряс Спеле за плечи. Тот смолк и снова тяжело вздохнул.
— М-мм… Еще одна их выдумка. Операция горла. Слепому, сам понимаешь, писать трудно. Да и долго. А руки? Если пишешь, руки заняты. А слепой не может писать и смотреть одновременно. Ведь он смотрит руками. Значит, надо говорить, говорить, говорить… Все, что нащупал, говори, все, что услышал, говори. Аппарат записывает. Аппарат всегда с тобой, вроде твоего Шара. Но человек говорит медленно. Так они считают. Меня учили говорить быстро, еще быстрее, еще… Потом сделали операцию. Что-то с голосовыми связками. Теперь меня можно завести на любую скорость. Как магнитофон. Я сам завожусь. Я привык, мне теперь трудно говорить, как все. Как обычные. Если бы ты знал, как трудно… А глаза, где они?.. Мне обещали вернуть их перед смертью. Может быть, они думают, что я не вынесу еще одну операцию. Эту операцию я вынесу. Последнюю… Позови кого-нибудь! Почему никто не идет? Позови… Нет, уходи! Если тебя найдут здесь, нам не поздоровится. Уходи, уходи!..
Он ушел. Опустошенный, отчаявшийся, бессильный. До встречи со Спеле он думал, что он один такой — с Шаром.
Казалось, что исключительность положения служила посмертной гарантией на сочувствие и внимание. Ну что же, гарантия осталась — гарантия для подопытной мыши на внимание экспериментаторов. Все же, если таких, как он, много — это хорошо. Тяжелая ноша, разделенная на сто частей, уже не тяжела. Нет, это не утешает. Душевный груз не делится на части. Таких, как он, много… Ободряет это или уничтожает?
Если их много, значит они пытаются соединить свои силы. Это ободряет. Если их много, значит каждый уже пытался и обессилел. Это уничтожает надежду.
Сколько их? Десять, сто, тысяча? Поиски точного отпета почему-то казались ему чрезвычайно нужными и важными.
Он получил ответ, когда увидел “библиотеку”. Небольшой зал действительно смахивал на помещение библиотечного каталога. Или на музей. Или на колумбарий. В каждом ящике “каталога” тикало сердце. Да, их было много. И все надежно отделены друг от друга металлическими стенками ячеек.
Разумеется, Генри никогда бы не смог проникнуть в “библиотеку”, если бы не его побег.
Он решил бежать из клиники. В конце концов даже самые тяжкие увечья не исключают из списков свободных граждан.
Только не стоит пытаться рассуждать на эту тему с врачами и администраторами клиники. Проникновенная беседа кончится шприцем с какой-нибудь дрянью.
Побег казался легким делом. Серое, очень длинное, приземистое здание клиники своим крылом выходило в небольшой парк. Парк широкой дугой огораживала высокая решетка, но ворота никогда не закрывались, и никто их не охранял.
Беспечность смахивала на западню. Но за решеткой были улица, город, жизнь. Правда, гулял Кейр всегда в другом парке, закрытом со всех сторон бетонными стенами вивария и лабораторного корпуса. Зато три раза в неделю, по вечерам, его приводили на балкон, тот самый, с которого он наблюдал церемонию передачи пепла. Там он ждал вызова в кабинет на очередное прощупывание сердца кимографической аппаратурой. Сложность аппаратов требовала тщательной подготовки, и ждать приходилось пятнадцать — двадцать минут.
В понедельник он будто невзначай сошел с балкона на несколько ступенек вниз по лестнице, ведущей в холл. В среду рискнул достичь середины лестницы и вернулся никем не замеченный. В пятницу спустился в холл и пересек его туда и обратно. Никто не остановил его, неярко освещенный холл оставался безлюдным. В следующий понедельник Генри толкнул наружную дверь холла, страшась обнаружить скрытые запоры. Дверь легко поддалась и открылась настежь, словно приглашая в парк.
Еще через день Генри спустился по лестнице и вышел в парк. Это заняло всего сто двадцать секунд, их можно было сосчитать по биениям сердца. Пока его хватятся, пройдет еще восемьсот секунд. Он подошел к воротам, протянул вперед руку с растопыренными пальцами, будто нащупывая уже почти осязаемую свободу, и… рухнул на сизый асфальт дорожки.
Очнулся Кейр в “библиотеке”. Кожаная кушетка, на которую его положили, была совсем низкая, так что лежал он почти на полу и стены комнаты нависали над ним. От пола до потолка, всплошную, кроме узкой двери, по стенам этажами поднимались небольшие ящики, помеченные красными цифрами и буквами на черных дверцах. В каждом ящике приглушенно тикало, и эти звуки наполняли комнату до краев.
Возле кушетки стоял все тот же, как его прозвал Кейр, Великий Утешитель. Речь у него была приготовлена заранее.
— Прискорбный случай, мистер Кейр! Мы все сожалеем о случившемся. Печальное недоразумение! Тот, на кого была возложена обязанность предупредить вас, допустил непростительное легкомыслие и примерно наказан. Теперь мне поручили все объяснить. Дело в том, что ваш кардиостимулятор не является… как бы это пояснить… автономной системой. Ритм работы вашего сердца зависит от импульсов кардиостимулятора, а его работа, в свою очередь, зависит от сигналов, посылаемых отсюда, с центрального пункта. Скажем проще: когда перестает тикать тут, — кивок в сторону ящиков, — перестает тикать здесь, — Великий Утешитель постучал пальцем в грудь. — К сожалению, у наших пациентов наблюдаются психические срывы, приступы меланхолии, заставляющие их куда-то бежать и скрываться. Столь неразумный уход из-под врачебного контроля чреват неприятностями для уважаемого пациента. Только для его блага мы вынуждены прибегать к острым мерам. Небольшие, строго контролируемые перебои в сигналах здесь — и легкий обморок там, у пациента. Одним словом, пытаться бежать бессмысленно…
Слова журчали, свинцовые и невесомые. Как всегда, полуправда-полуложь. Все извинения и благо пациента — ложь.
То, что он навеки привязан к одному из этих тикающих механизмов, — правда.
Кейр не успел даже поинтересоваться, в какой именно ячейке заключено его “сердце”. Дюжие санитары вытащили Генри вместе с кушеткой в коридор.
…Облака взметнулись с горизонта, касаясь белыми перьями ореола вокруг солнца. Небо и льды соединились в одну кричащую голубизну.
Истекает вторая неделя с того момента, как Генри покинул базовый лагерь “Пингвин” у ледника Бирдмор. Испытание всех бионических, биологических, химико-механических систем Шара и его самого в условиях, где жизнь обычного существа практически невозможна, — этим он должен был вернуть свой долг, заплатить гонорар, расплатиться сторицей за все, что сделали с ним помимо его воли. Если испытания пройдут успешно, ничего не лопнет, не расплескается, не замерзнет, не застрянет в чертовом Шаре, в пластиковых венах, в фильтрах и системе питания, он вернется невредимым и получит заслуженный отдых. Сверхгигиеничная постель, наркотики.
Сам шеф не погнушается пожать его руку, обтянутую холодной пленкой. Какая честь!
Разве ради этих побрякушек он согласился на такую суровую и мрачную экскурсию? Да провались они все в тартарары вместе со своими шприцами и фильтрами! Он ушел из-под их контроля хоть на несколько дней — вот главное.
Ушел, чтобы никогда не вернуться. Разумеется, обычный побег невозможен. Если геликоптеры не найдут Кейра в одном из контрольных пунктов маршрута, они прекратят передачу радиосигналов для кардиостимулятора и сердце замрет на полутакте. Возможен побег только туда, откуда никто не возвращается. Ради этого он идет по ледяной пустыне, оттягивая решающий шаг, чтобы продлить ощущение мнимой свободы.
Он кончит все сам! Без их помощи. Без посредничества электронной трухи, которой его набили. Сам! Он идет к своей цели, а не ради чужих соображений. Шаг вперед — его шаг.
Он идет, не они! Сам! Он придет, куда захочет! Кончит все, где захочет. Сам! Шаг вперед — его шаг.
А вдруг не его? Вот чудовищная мысль! Если шаги и мысли так же не принадлежат ему? Вдруг они тоже под контролем? Вспомни, что истекает вторая неделя, а ты все еще не решился кончить ледяной поход. Ты упрямо идешь вперед и только рассуждаешь о последнем шаге. Почему? Тебя лишили воли. Они управляют не только сердцем, но и рассудком. Череп расколот надвое. Одна часть твоя — докажи, что если не тело, то хоть разум твой свободен. Другая часть управляема ими — вырви ее у них. Преодолей всех и себя, пока не поздно. Разве их замыслы известны до дна? Может быть, через час, через минуту уже будет поздно. Они расправятся с тобой, их воля восторжествует. Сделай последний шаг сам. Признайся, ты уже все давно и хорошо обдумал. Сверхъестественным чутьем, которым тебя так милостиво одарили, ты найдешь под снеговым куполом самую бездонную, самую уютную, самую иззубренную, самую благодетельную расщелину и бросишься туда вниз головой.
…За черно-синим гладким языком ледяного подтека Кейр отыскал то, что хотел. Он сделал три с половиной шага по зыбкому снежному настилу, его тело и Шар продавили настил, и вместе с колючими глыбами смерзшегося снега он обрушился в свистящую бездну…
Две пары сильных рук в мягких рукавицах подхватили его на лету. Подхватили и подняли к солнцу. Только отдыхая в их объятиях, он почувствовал, как смертельно устал. Тело ныло, боль стискивала мускулы. Нестерпимо яркими красными пятнами опускались и поднимались геликоптеры. Его несли по черному льду, с трудом протиснули в люк. Осторожнее, он устал и болен. Свист винтов не тревожил, а баюкал.
Весь недолгий обратный путь Генри спал, хотя и во сне закипала боль. И все же ветер высвистывал победный марш.
Он среди друзей! Их улыбки не куплены, участие не поддельно.
Теперь Генри несут на корабль. Белоснежные простыни холодят, как льдинки. Он вытягивает безмерно утомленное тело так, что хрустят кости, и не может проснуться. Снова все во сне, но отчетлива радость. Пусть расступаются айсберги — он плывет к Моди и мальчику!
Меркнет свет в белой каюте, и Генри неожиданно просыпается. За тонкой переборкой шелестят голоса. Шелестят о нем, о повторении эксперимента, прерванного на середине.
Лжецы! Трусы! Он мог поверить… Не друзья, а бездушные лицемеры вырвали его из ледяной трещины. Опять стерильная тюрьма клиники, только плавучая… Кружится голова, сокрушающие спазмы скручивают тело. Безумная тревога разливается в воздухе. Он уже испытал такое во время магнитной бури. Бесплотные линии магнитного поля впиваются в мозг. С каждым новым облаком заряженных частиц, летящих от солнца, замирает и падает сердце. Бедная черепаха Чо-ка, подарившая ему живой компас, неужели и она так страдала? Тревога растет, становится осязаемой. Тепловым сверхчутьем он ощущает приближение громадной ледяной горы. Сквозь плотный туман инфракрасные лучи доносят о надвигающемся айсберге. Странно, он чувствует глыбу льда не холодной, но раскаленной. Пышущая жаром, она уже нависает над кораблем. Почему не бьют тревогу? Ах да, магнитная буря! Локаторы захлебнулись в каше силовых линий. Пусть тонут лицемерные крысы. Он отправит их на дно! Он!..
Рассыпались миллиарды пронзительных огней. Ледяная пила разодрала тело. Генри лежал на дне пропасти. Буря и спасение, разочарование и радость — лишь предсмертные видения. Он лежал, вытянувшись во весь рост, в ледяной могиле, зажав в руке клочок черного лишайника. Пластмассовые губы улыбались.
Глан ОНАНЯН Цель
Будет встреча с братьями по разуму!
(Сердце беспокойное, замри!) —
Пусть рисуют их совсем по-разному
Мыслящие жители Земли.
Человек придет к межзвездной пристани
Метагалактических глубин,
На приборы взгляд направив пристальный,
Скажет он: “Я в мире не один!”
Поколений древними заветами
Люди освятили эту цель.
Мир тебе, далекий мир неведомый,
Разума чужого колыбель!
Юрий ИОФЕ Мальчишки
Близок день: в пустоту пространства,
Тяготение преоборов,
Уплывет межпланетный транспорт
На разведку других миров.
За космическим океаном
Выйдя на берег в первый раз,
Селенитам и марсианам
Кто-то глянет в глубины глаз.
И, убитый не скучным гриппом,
Не осколком земной войны,
Захлебнется предсмертным хрипом
На гранитных полях Луны…
Я слежу из окошка часто,
Как мальчишеский двор звенит.
Может статься, вон тот, глазастый,
Поведет звездолет в зенит.
Или этот, герой с рогаткой,
Командир голубиных стай,
Ошарашит простой разгадкой
Самых древних и темных тайн.
Потому, уходя со сцены,
Постепенно сходя на нет,
Я приветствую нашу смену,
Покорителей новых планет!
1957 г.
Юрий ИОФЕ Земное небо
Раскаленный небосвод высок.
Хоть бы тучка с носовой платок!
Но повсюду видится одно
Ярко-голубое полотно.
И не верится, что там, за ним,
Этим небом, близким и земным,
Черный холод вечности застыл
С мертвыми пылинками светил.
Почему стремится человек
От прохладных полноводных рек,
От привольных плодородных нив
В пустоту, простертую над ним?
Что в пространство увлекает нас?
Жар созвездий? Или мерзлый газ?
Или упоительный секрет
Бытия неведомых планет?
Даже если нам не повезет,
Пыль удушит, умертвит азот,
Сплющит тяжесть, сдавят холода…
Все равно отправимся туда!
1960 г.
НОВЫЕ ИМЕНА
Аркадий ЛЬВОВ Мой старший брат, которого не было
Мне было тогда двенадцать лет. Двенадцать с половиной.
Грязный мартовский лед, не лед даже, а просто слежавшийся, утоптанный снег только что сошел, и плиты черного вулканического туфа под моими ногами были чисты, как черные камни, обкатанные морем. Я не знал, как называются черные камни, обкатанные морем, но плиты под моими ногами были вулканической породы — это я знал точно. Это в Одессе все знают точно.
Оранжевое солнце, больше гигантского купола Успенского собора, смотрело мне прямо в глаза, и, когда я закрывал утомленные глаза, передо мною играли лиловые, пламенные и зеленые кольца. Кольца наплывали друг на друга, по раньше пли позже все они растворялись, уходя в черноту справа от меня. Я не могу объяснить, почему они уходили именно вправо, а не влево или вниз. Наверное, есть у них какой-то свой закон. Дворовый пес Бобка, этой весной вдруг ощенившийся сразу шестью щенками, стоял рядом, жмурясь на закатное оранжевое солнце. Я закрыл Бобке глаза поплотнее, чтобы он тоже увидел, как играют цветные кольца. Но Бобке не понравились цветные кольца: увернувшись, он слегка пощупал меня клыками.
— Нет, — сказал я, — ты сделаешь, как тебе велят.
— Нет, — сказал Бобка и, пощупав меня еще разок, только уже не слегка, побежал в дровяной погреб, к своим щенятам.
Это было обидно: значит, Бобке совсем не нравятся пламенные кольца.
Но почему? До этого случая наши вкусы всегда совпадали. Я говорю не обо всем, я говорю лишь о том, что мне никогда не надоедало, что я готов был делать всю жизнь без устали и что, по глубокому моему убеждению, было настоящей жизнью, потому что, когда тебя заставляют, это уже не жизнь.
Мы с Бобкой слонялись по городу, простаивали у витрин, и нам было безразлично, что в этих витринах — колбаса, конфеты, будильники, плюшевые медведи, парусиновые туфли на резиновом ходу или плащи под огневыми буквами в руках у Буратино: “Дети, тети и дядья, плащ нам нужен от дождя…” В теплые дни мы с Бобкой ходили на Массив. Массив — это пляж между портом и Ланжероном. На Массиве нет песка, там одни плиты, всегда зеленые и скользкие, потому что просыхают они только в штиль. А штиля у наших берегов почти никогда не бывает.
От Массива в море уходят деревянные сваи. Я не знаю, кто и для чего поставил эти сваи. Может, рыбаки крепили к ним сети или баркасы, а может, начали строить что-то большое и передумали.
Сваи всегда окружены цветными, отливающими на солнце синевой, как чешуя скумбрии, кольцами. Эти кольца — от нефти и керосина, которые оставляют за собою огромные танкеры и морские трамваи.
Мы с Бобкой по три часа подряд рассматривали эти кольца. У них своя жизнь, совсем не похожая на нашу. Они растут, вытягиваются, ощупывают друг друга, сливаются или, наоборот, двоятся — и все это на глазах.
Бобка всегда следит за ними, склоняя голову то влево, то вправо. Он всегда так, когда бывает очень заинтересован или удивлен. Он и на котов так смотрит, если те не бегут от него, задрав хвосты, а станут как вкопанные и уставятся — глаз в глаз.
Почему же Бобке не понравились пламенные кольца, которые еще ярче тех, из керосина и нефти?
А может, он не увидел их, эти кольца? Может, у него просто боль была, когда я нажал ему на глаза, а колец вообще не было?
Но как же это? Значит, глаза у него не такие, как у меня, и он не видит того, что вижу я? Постойте, но если я вижу кольца, значит они есть. А если он не видит? Значит их нет?
А невидимые следы? Собака чует их, а человек нет. А если бы не было собак, тогда что? Тогда мы ничего не знали бы об этих следах и считали, что их нет? Хотя не то: мы просто не думали бы о них, потому что нельзя же думать о том, чего нет и что даже названия не имеет. Бога вот нет, но он хоть название имеет. А тут ведь и названия никакого не было бы.
А микробы и атомы? Ну, их-то никто не видит — ни человек, ни собака, ни птица. Это понятно: они очень маленькие.
Хотя нет, это тоже непонятно. Когда я летел на самолете и смотрел вниз, коровы были маленькие, как телята в мультфильме. А если подняться выше, то и вовсе не увидишь их.
Значит, если бы люди всегда находились на такой высоте, они даже не знали бы, что есть такие животные — коровы?
А каким же видит меня Бобка? Тоже, наверное, с четырьмя лапами, как у него. И вообще, может, только сами люди видят себя такими, людьми, а собаки видят нас по-своему, куры — по-своему, пауки и пчелы — по-своему?
А один раз, когда я нырял за крабами, мне вдруг показалось, что я осьминог. И даже на берегу, хотя было солнце, и люди, и рядом лежал Бобка, мне все равно казалось, что я осьминог и глазищи у меня здоровенные и страшные, как у осьминога. Бобка всегда смотрит мне в глаза, а в этот раз воротил морду, как от карбида или спички.
Когда мама узнала про осьминога, она сказала, счастье еще, что это не ишак какой-нибудь или баран, но вообще, конечно, надо ожидать и того и другого.
— Зина, это пройдет, — объясняла маме тетя Оля, наша соседка. — Это переломный возраст. Сколько ему? Двенадцать? Ну, у каждого по-разному. У моей Таньки регулы начались в десять.
— Бог с вами, Оля, так то совсем другое.
— Почему другое? У девочек так, а у мальчиков так.
— Но у других дети как дети.
— Зина, — взмолилась тетя Оля, — это же природа.
— Да, — вздохнула мама, — природа. Отец его тоже был с фантазиями. Даже с фронта он почти каждый день писал, что видит и слышит меня постоянно и может расписать весь мой день по минутам, как будто я рядом, совсем рядом.
Папу своего я не видел. Папу убили десятого мая в австрийском городе Линц, а я родился три месяца спустя, в августе сорок пятого. Но папа часто снится мне. Раньше часто, а теперь не очень — теперь, когда я присматриваюсь к папе, почти всегда оказывается, что это не папа, а мой старший брат. И мне никогда не бывает это удивительно, хотя никакого брата у меня нет. И еще: когда вместо папы появляется мой старший брат, я не злюсь и досада не берет меня. Наоборот даже.
Но так бывает только ночью, а днем не так. Днем папа — всегда папа, и это не имеет значения, что он обязательно заслоняет собой кого-то другого. Кого? Иногда мне кажется, его — моего старшего брата.
Сейчас я опять думаю о папе, и у меня такое чувство, будто должна появиться рука, рука остановит уходящее солнце, остановит кольца, я открою глаза — и увижу пану.
Я открыл глаза и увидел его. Нет, не папу — папу убили тринадцать лет назад в Австрии. Я увидел нашего нового соседа, который живет на первом этаже, — человека со странностями. Это моя мама о нем так говорит: человек со странностями. А тетя Оля поправляет: “Скажите лучше — просто идиот. Вчера я повесила сушить белье во дворе, а он взял и перерезал веревку”. — “Оля, — напоминает моя мама, — но он же просил вас не заслонять ему окно”. — “Я вас не понимаю, Зина, — кипятится тетя Оля, — что, у него руки отвалятся, глаза выпадут, если белье немножко повисит перед его окном? Пусть хоть посмотрит на белоснежную простыню — он же спит на голом матраце”. — “Да, — соглашается в конце концов мама, — он очень странный человек”.
Странный человек стоял рядом и смотрел на меня. Просто так: стоял и смотрел. Я даже оглянулся: нет ли кого за мной, позади? Нет, позади никого не было — это он на меня смотрел.
Зачем? Так смотрят только немые дети.
— Солнце заходит, — кивнул он, кивнул просто, как будто мы уже целый час разговариваем.
Я тоже мог сказать, что заходит солнце, но к чему? Он видит, я вижу, все видят — к чему же говорить об этом?
— А утром солнце другое, — сказал он. — Тебе не кажется это странным?
Нет, это не казалось мне странным.
— Утром и вечером углы склонения солнца над горизонтом тождественны. Равные, значит. А ты в каком классе? А-а, в пятом, ну ничего. В пятом, значит, — повторил он, — в пятом. Это хорошо, что в пятом. Ну ладно, я пошел.
Он не попрощался со мной, оп сказал только эти слова: “ну, я пошел”, — и сощурил глаза, как будто у него сердце схватило. Мама всегда так, когда у нее. сердце схватывает.
Но она еще руку кладет на грудь, а он нет — только глаза сощурил.
Но они у него другие, не похожие на мамины. Я уже видел такие глаза, я видел их много раз, даже вот перед самым его приходом видел. Но где? Ведь я все время здесь, у ворот, я никуда не уходил, ни с кем, кроме пего, не разговаривал.
Где же я видел эти глаза?
За уроки я сажусь в девять — раньше не получается. Был бы отец — все было бы по-другому. Это мама говорит тете Оле, а тетя Оля каждый день объясняет мне, что нельзя быть сволочью, что надо щадить родную мать, потому что две мамы никому не даются. Даже королям.
Я знаю, что две мамы никому не даются. Но почему они не понимают, как это противно — делать уроки! Чуть сядешь — сразу чесотка нападает. Волосы даже чешутся: подергаешь — пройдет, а потом опять. И так час, два, три, в общем пока уроки, делаешь.
Где же я видел эти глаза? Может, у него и видел? Нет, его глаза передо мной, а те, другие, где-то сзади, я затылком их чувствую. И голова тяжелеет от них, повернуть даже трудно бывает. Ну, не то чтобы очень трудно, а вроде сила какая-то дополнительная нужна, вроде резина тугая держит тебя, а ты ее растягиваешь. Когда у меня после гриппа шея болела, тоже так было — я голову вперед, а резина ее — назад. Запрокинешь — сразу легче становится.
Задачу сегодня нам дурацкую задали. Про сапоги. Сколько штук сапог нужно заготовить для городка, третья часть обитателей которого — одноногие, а половина остальных ходит босиком?
Разве бывают такие города, где каждый третий житель — одноногий? Значит, и дети там одноногие есть, и женщины.
Я за всю свою жизнь только один раз видел мальчика без ноги: под трамвай, наверное, попал. А женщины ни разу не видел. Без руки одну видел, а без ноги — нет, ни разу.
Если вечером задача не получается, лучше отложить ее на утро. Утром все понятнее. А если и утром не получится, можно на перемене скатать. Или просто сказать: забыл тетрадь дома. За тетрадь, которую забыл, двойку не поставят. Мама плачет, когда я приношу двойки. Раньше она возмущалась, всплескивала руками, кричала, что разбойники и палачи — ангелы по сравнению со мной, а теперь просто плачет. Сядет за стол, уткнется в скатерть лбом, руки опустит — и плачет.
Мне, когда я смотрю на нее такую, убежать хочется. Совсем. В Африку — к верблюдам, антилопам, зебрам. У нас в зверинце есть верблюды, антилопы, зебры. Они добрые, они руки мне лижут. И вдаль смотрят, на юг, где солнце. А зебры плачут — я видел у них слезы. Слезы были черные, как черные полосы, которые у зебры под глазами и на спине.
А задача не получается. По-моему, эту задачу никто не решит. Если бы хоть известно было, сколько людей в городке, тогда другое дело. А так ничего не известно: одна треть — одноногие, половина остальных босиком ходит. А одна треть от чего? Половина от чего?
Наверно, я пропустил что-то, когда условие списывал. Точно, пропустил. У меня бывает так: все списал как надо, а потом, смотришь, чего-нибудь не хватает.
Ладно, утром пораньше встану, еще попробую. Хотя утром всегда досада берет, что вечером не сделал, но раз не получается, зачем ломать зря голову.
Диван у меня хороший, я люблю свой диван. И одеяло люблю, и подушку. Неприятно только, когда пододеяльник новый и простыня новая. Особенно накрахмаленные. Все вроде чужое, холодное в этот вечер, даже диван.
Мама спит. А может, не спит, может, дремлет. Но все равно, спит или дремлет, она упирается подбородком в грудь и обхватывает себя руками, как будто защищается от чего-то.
И еще ноги подбирает, так что делается совсем маленькой.
Как старушка. Маме — тридцать семь, в три раза больше, чем мне. А мне кажется, что я старше мамы, что я никогда не рождался, что я всегда был и все было такое же, как теперь, — солнце, и люди, и деревья, и наша комната. Я читал про гигантских звероящеров, что они могли бы свободно заглянуть в окно третьего этажа с мостовой.
Против нашего окна — каштан. Его ветки царапаются в стекла. Днем не слышно, а ночью слышно. Бывает, и ветра нет, и птицы не садятся, а он царапается, стучит, возится всю ночь напролет.
И сейчас возится, и я не могу заснуть. Отчего это он возится? Может, от соков, которые в нем ходят? Или ему просто хочется так — стучать в окно? Но деревья не могут хотеть, у них нет мозга. У кого нет мозга, тот не может хотеть.
А червь? У него ведь тоже нет мозга. И у гусеницы нет, и у медузы. Один раз при мне медуза всосала в себя краба, и я сквозь ее зонт, синий с розовыми жилками, видел его. Он был неподвижный, с растопыренными клешнями и лапками, как заспиртованный в банке.
Медузы бывают огромные — с ведро, с бидон. Они похожи на собачьи грибы: тоже с одной ногой, но очень толстой и растрепанной внизу, как будто на одной ноге целая дюжина стоп.
Если бы они умели танцевать, они танцевали бы на этой своей одной ноге с дюжиной стоп. И был бы у них город одноногих, и все они, одноногие с двенадцатью стопами, были бы босые, потому что в воде не нужны туфли. Только в скалах они надели бы туфли, чтобы не пораниться. В скалах пораниться — это запросто, и хоть как зажимай рану, а кровь хлещет и вьется бешено, будто змея, которой отрубили голову.
За буйком есть скалы — в том месте, где вода чернильно-синяя, почти черная. Я не люблю это место, я боюсь его.
А они тащат меня туда. Зачем они тащат меня? Я же сказал им, что не хочу туда, что боюсь. А они тащат. “Ну, не надо, я же прошу вас: не надо. Я же честно сказал: мне страшно”.
А они смеются, они ничего не понимают, они не люди.
Ох, как гадко они смеются! Нет, это люди, переряженные одноногие люди, и они хотят утопить меня. И они утопят меня, они утопят меня…
Когда они зажали мне рот, закрыли глаза и я перестал дышать, кто-то схватил меня за волосы и дернул, так дернул, что все те, переряженные, разлетелись маленькими серебристыми рыбешками и я увидел, что это фиринки, которые боятся всего на свете, даже морских коньков, даже мидий. И мне сразу стало легко дышать.
Я проснулся. Горела настольная лампа. Мама спала, обхватив себя руками. Было без пяти минут одиннадцать. Значит, прошло всего пять минут, а мне совсем не хотелось спать, и я точно знал, что проснулся для того, чтобы решать задачу, и, самое главное, решение уже было готово в моей голове.
В городке двенадцать жителей, одна треть их — одноногие. Значит, им нужно четыре сапога — по одному на человека. Половина остальных, то есть четыре жителя из восьми, ходит босиком, а четверым обувающимся нужно восемь сапог.
Всего, значит, двенадцать: четыре плюс восемь — двенадцать.
Стало быть, число сапог равно числу жителей.
А что, если жителей триста, тысяча или пять тысяч? Ведь таких городков, где двенадцать жителей, не бывает. Я пересчитал, и опять получилось то же: в первом городке — триста сапог, во втором — тысяча, в третьем — пять тысяч.
Значит, при таком условии, как в задаче, число сапог всегда будет равно числу жителей.
Я хотел разбудить маму и сказать ей: “Послушай, какую трудную задачу я решил”. Я даже руку на плечо ей положил, чтобы растормошить. И раздумал.
Я лег. Настроение у меня было хорошее. Очень хорошее, как тогда, в июне, когда я наловил за день двадцать девять бычков. В городе, на Ласточкиной, Гаванной, Дерибасовской, все смотрели на меня и удивлялись: “Киты прямо, а не бычки. Продашь, мальчик, а?” — “Нет, — говорил я, — не продаются. Не продаются. Не продаются”.
И так я до самого вечера ходил по городу, и прохожие оглядывались на моих бычков и просили уступить хоть полвязки.
Может, все-таки разбудить маму и рассказать про задачу?
— Мама, — я три раза подергал ее за плечо, прежде чем она услышала, — мама, проснись.
Она смотрела на меня испуганно, потому что не проснулась еще, хотя глаза ее были открыты.
— Мама, ты спишь в одежде. И в туфлях.
Она долго, с остановками, раздевалась и стелила постель.
За это время я мог двадцать раз вспомнить про задачу, но теперь мне уже не хотелось этого, теперь у меня было такое чувство, как будто кто-то большой и сильный все видел, все слышал и все знает про меня, и про бычков, как я ходил с ними целый день по городу, и про задачу, и про то, почему я хотел разбудить маму.
На следующий день все получилось по-моему; в классе только три человека решили задачу.
— И ты? — удивился Николай Иваныч.
— Да, — сказал я.
— Сам? Без посторонней помощи?
— Сам.
Николай Иваныч пожал плечами.
— Ну, иди к доске.
Я записал на доске решения для двенадцати, для трехсот и для пяти тысяч жителей. И в конце сказал: очевидно, при любом населении города число жителей и число сапог при данном условии будут тождественны. Равны, значит.
— Нет, — сказал Николай Иваныч, — эту задачу ты не сам решил, теперь у меня нет сомнений: ты слова чужие говоришь.
Когда я что-нибудь хорошее сделаю, учителя обязательно но верят мне. Раньше я обижался, а сегодня — нет, ничуть.
— Пожалуйста, Николай Иваныч, я могу решить еще десять, еще тысячу таких задач, если надо.
— Хорошо, — сказал Николай Иваныч. — В тридцать восьмом году Петров был втрое старше своего сына, а в пятьдесят шестом — вдвое. По скольку лет им было в тридцать восьмом году?
— Пятьдесят четыре и восемнадцать. А теперь — семьдесят два и тридцать шесть.
— Чудеса, чудеса, — повторил Николай Иваныч. — Да ты, брат, просто талант. Как это у тебя получилось?
— Не знаю. Просто умножил восемнадцать на три, чтобы втрое больше было, а потом прибавил по восемнадцати.
— Ну, это случайность, — поморщился Николай Иваныч. — Хотя нет, сначала мы имеем три части и одну, потом, присобачив к ним по единице, получаем четыре и две. И никакой тебе алгебры.
— Еще, еще, — закричали ребята, — пусть еще решит!
— Ладно, — согласился Николай Иваныч. — В одном ящике хранятся тридцать три пары белых носков и двадцать одна пара черных. Повторяю: тридцать три пары белых и двадцать одна пара черных. Дело происходит ночью, в комнате погас свет. Сколько нужно извлечь носков, чтобы наверняка получить пару одноцветных?
Николай Иваныч еще не успел закончить условие, а у меня уже был готов ответ — три. Я ничего не решал, я даже не думал и запоминал, сколько было носков, я просто почувствовал это число — три.
— Три, — сказал я, и ребята захлопали, а Николай Иваныч закрыл глаза и стал протирать веки.
Потом, когда ребята успокоились, он сказал мне:
— Подумай хорошенько и запиши на доске подробно решения, которые ты проделал устно.
Я думал, думал, по ничего придумать не мог, потому что никакого хода решения у меня не было, а просто сразу появлялся готовый ответ.
— Но ты же чувствовал что-нибудь при этом?
На этот вопрос я тоже ответить не мог, потому что ничего такого не чувствовал. Наоборот, в это время я даже вообще не чувствовал и не думал — все вроде останавливалось во мне, а ответы я просто вспоминал, как будто все эти задачи уже слышал прежде.
Вечером мы с Бобкой опять стояли у ворот. Солнце спряталось за куполом Успенского собора, и оно было такое огромное, что купол не мог закрыть его. Потом я увидел солнце в Бобкиных зрачках: солнце было черное, блестящее, а небо вокруг него голубое, почти настоящего голубого цвета. Я поднял Бобку за передние лапы и стал глядеть ему в глаза, а он отводил голову то влево, то вправо, чуть только мы встречались взглядами. Тогда я присел и стиснул Бобкину голову руками. Теперь в его глазах можно было рассмотреть все — и солнце, и купол, и деревья, и даже ветки деревьев. Но смотреть на меня Бобка не хотел: глаза его были скошены в сторону, веки и ноздри подрагивали, как будто его обкуривали папиросным дымом.
Сейчас прикажу ему: смотреть! В глаза смотреть! В глаза.
— Боб!
Я еще ничего не приказал, я только хотел поймать его взгляд, а он вдруг стал скулить и рваться изо всех сил, так что повалил меня наземь, на чугунную плиту с молнией.
Подымаясь, нет, даже еще раньше, лежа на этой чугунной плите с молнией, я увидел его, нашего соседа, человека со странностями. Он ничего не сказал про мою возню с Бобкой, он только смотрел на меня, точь-в-точь как вчера: просто смотрел. А потом, когда я поднялся и стряхнул пыль, повторил вчерашние слова:
— Заходит солнце.
— Заходит, — сказал я.
— Ты понял, почему утром и вечером солнце разное?
— Потому что дома в городе разные и тени в разные стороны падают: утром сюда, а вечером гуда.
— Туда — это в сторону моря, на восток.
— А в море солнце утром и вечером одинаково? А в пустыне? В пустыне?
— В пустыне я не был. И в море, далеко от берега, тоже не был.
Он задумался. Он думал о чем-то своем, это я видел по его глазам: они были далекие, как глаза льва, который всегда смотрит поверх людей. Я уже раз двадцать ходил в зоопарк, и еще не было случая, чтобы лев смотрел в глаза человеку: люди остаются где-то внизу.
— В пустыне, — это он не мне говорил, это он просто вслух рассуждал, — бывают миражи. Грандиозные, феноменальные миражи. Миражи губят людей. Природа забавляется, а люди гибнут.
Почему люди гибнут в пустынях, я знаю давно: в пустынях нет воды. Но почему природа забавляется? И как? Природа не может забавляться, у природы нет мозга.
— Ты прав, — сказал он, — природа не умеет забавляться. А ты читал о мираже?
— Читал, но не понял. Понял только, что люди видят то, чего нет.
Он рассмеялся. Это он в первый раз смеялся, человек со странностями, и глаза у него стали добрые и лицо, и я увидел, что он совсем молодой, ну, лет двадцать семь, как моему папе на фотографии, где он с мамой двадцать первого июня сорок первого года, в субботу — двадцать первого июня.
— Нет, — сказал он, — люди видят то, что есть, но не там, где есть.
— Где же оно на самом деле?
— На, самом деле оно в другом месте.
— И там, в другом месте, его тоже видят?
— Тоже. — Он уже не смеялся, он опять задумался, только в этот раз он смотрел на меня, прямо на меня. — Именно там видят правильно. То, что есть, видят.
Вечером, в пять минут двенадцатого, я учил стихотворение Пушкина “Зимнее утро”. Стихи были про вьюгу, про мутную луну, про белый снег и чернеющий лес, но ничего этого я не видел: все время меня окружало что-то желтое, знойное, зыбкое.
Стихи распадались, это были уже не стихи, а просто случайные, бессмысленные слова, окрашенные в желтое.
Желтые слова круглились, сливаясь в огромное желтое пятно, окрашенное синим.
“Это шар, — объяснил я себе, — нет, не шар, а глобус, и желтое пятно па глобусе — Сахара, самая большая в мире пустыня”.
Потом на этом желтом пятне появились жирафы, львы и антилопы. Они были нарисованы. Я люблю карты по географии, где нарисованы звери. Но глобуса с картинками я еще никогда не видел. А этот глобус был с картинками, с огромными желтыми, как пески Сахары, картинками. А потом, среди этих нарисованных зверей, я вдруг увидел себя, увидел, как подбирается ко мне из-за бархана лев, и я хотел предупредить себя об опасности, но тут же подумал, что не надо зря пугать того меня, который в песках, потому что лев не настоящий, а нарисованный. И тут лев прыгнул и непонятно почему перелетел через меня, зарывшись мордой в песок, а я побежал, и бежал изо всех сил, и думал, что, как ни далеко море, надо добежать, потому что львы не умеют плавать, и море — это мое спасение.
И сразу, только я подумал о море, появилось море, но это было не Средиземное, не Красное, это было наше, Черное море — в том месте, где на Большом фонтане патриаршая дача с фуникулером.
Я крикнул: “Не прыгай, здесь высоко, здесь скалы!” Но было уже поздно. Я услышал эти слова в воздухе и успел еще подумать, что надо бы спланировать, но какая-то сила толкала меня в спину, и я врезался в скалы, и сразу, как только я врезался, скалы забились в красном, и это красное выло сиреной, как пожарные машины, когда они спешат на пожар.
И меня не стало. Я совершенно точно знал, что меня уже нот, но человеческая рука судорожно тискала мой затылок и волокла меня из красного. Я чувствовал боль в затылке и удивлялся: “Как же это — меня нет, а я чувствую боль в затылке? “И вдруг я увидел солнце, оно било мне прямо в глаза, потому что я лежал на песке лицом к небу. Я был счастлив, я опять вернулся к жизни, и хотя в моем возвращении было что-то недостоверное, облегченное, как всегда во сне, когда совершается физически невозможное — полет в воздухе, прыжок через трехэтажный дом с плавным спуском, — я чувствовал себя освобожденным, наконец, от смерти, которая только что еще была действительностью и вдруг перестала быть действительностью, потому что все прежнее, сопряженное с ней, было сновидением: и глобус с ожившими львами, и погоня, и красное, воющее сиреной, и боль в затылке, которого нет.
— Проснись, — сказала мама, — разденься и ляг в постель: утром доучишь.
— Почему “проснись”? Я не спал.
У меня на самом деле было такое чувство, будто я не спал, а вернулся откуда-то издалека, даже не очень-то издалека, потому что время, которое мне понадобилось на возвращение, было чересчур коротко.
— До Стамбула, — сказал я, — теплоходом двое суток. А самолетом час. Черное море — маленькое.
Мама посмотрела на меня удивленно, покачала головой и приказала немедленно раздеваться и еще чтобы уроки я делал только днем и не смел сидеть до полуночи.
— Нет, — сказал я маме, — пока не выучу уроки — не лягу.
А она подошла сзади и, расстегивая на мне пиджачок, стала приговаривать:
— Это с лодырями бывает. Бывает.
— Нет, — сказал я опять, — пока не выучу, не лягу.
И еще до того, как мама, отступив, пощупала мой лоб, я знал, что она сейчас отступит, пощупает мой лоб и скажет: “Хорошо”. И повторит: “Хорошо, но имей в виду — уже четверть двенадцатого”. А потом ляжет, прикроет глаза рукой, как будто свет мешает ей, и будет наблюдать за мной “в щель между пальцами.
— Свет мешает, — голос у мамы был сонный, — безумно хочу спать. Я еще днем хотела. Весной у меня всегда так: день и ночь спала бы.
Я улыбнулся: это было очень забавно, как мама старается уверить меня, что просто очень хочется спать и ничего другого, никакого беспокойства, никакой тревоги.
А потом, когда я сказал маме: “Ты спи, спи!”, мне показалось вдруг, что она совсем еще маленькая, совсем еще ребенок, который спрятался за дверью и кричит: “Меня нету!” — и думает, что одурачил всех, потому что взрослые после этих слов бросились искать его и хотя нашли, но сначала долго искали, в холодильник и телевизор даже заглянули.
— Спи, — сказал я еще раз, — спи.
— Угу, — ответила мама, и я чувствовал, как мама засыпает, как легко ей становится, как расслабляются шея, руки, ноги.
В комнате было очень тихо. Потрескивали обои, тикали часы, жужжал счетчик. Звуки витали в тишине, как пылинки в воздухе, не загрязняя его.
Через три минуты я выучил стихотворение. Я не знаю, как это получилось, потому что прежде мне нужно было не меньше часа, чтобы выучить такое стихотворение. А читать его твердо, без запинки, я мог только через день или два.
А теперь я даже не повторял его про себя, я просто захлопнул книгу и больше не думал о нем и вообще ни о чем не думал.
Мне было очень приятно, как ранним летом на пляже в Крыжановке: над головой бурый глинистый обрыв, над обрывом солнце, а вокруг никого — только песок, галька, черные пупырчатые мидии в зеленой тине да обкатанные мазутом щепки, которые море выбрасывает на берег.
Откуда эти щепки? Может, от разбитых в бурю судов? Может, они побывали у крымских, кавказских или турецких берегов, эти щепки?
Один рыбак говорил мне, что это просто дрянь, которую люди сбрасывают в море, а море — не земля, море не любит грязи.
Не знаю, может, он говорил правду, этот рыбак, только я всегда думаю о разбитых парусниках, когда нахожу эти щепки. И о людях, которые в последний раз видели солнце и знали, что видят его в последний раз.
Я тоже два раза тонул — оба раза из-за судороги. Но когда становилось очень плохо и я чувствовал, как ухожу от солнца, у меня обязательно появлялось ощущение, будто кто-то очень сильный выталкивает меня из воды. В первый раз это был папа, а во второй — мой старший брат.
Я и раньше думал о нем, о своем старшем брате. Но раньше он был далеко, а теперь почти всегда рядом. И, даже уходя, остается где-то рядом, и я знаю, что стоит мне только позвать его — он придет на помощь. А потом опять уйдет — уйдет, не сказав ни слова.
Я выключил свет, укрылся поплотнее одеялом и поджал, сколько мог, ноги. Звенели бубенчики, искрился на солнце снег, синела подо льдом речка, и стыли на, морозе голубые сосны. Сосны были огромные, как эвкалипты, и удивительно спокойные. Спокойные и добрые, как слоны, которые греются со своими детенышами на солнце.
Мой брат был где-то рядом. Тепло, которое я чувствовал, это было его тепло. Оно обтекало мои плечи, затылок и ложилось плотно, как компресс на грудь.
Мы с братом никогда не разговариваем. Нам незачем говорить, потому что он всегда точно знает все мои мысли, все мои желания и всегда со мной заодно. Я никогда не называю его по имени, он без имени, он просто мой брат. Мой старший брат.
Я засыпал, а брат стоял рядом. Он был задумчив и серьезен, и мне казалось, что он чем-то озабочен.
А потом, когда я заснул, он быстрым шагом пошел по пескам, и я побежал за ним. Он знал, что я бегу за ним, но не останавливался, а все ускорял шаг и, наконец, побежал.
Я хотел крикнуть ему: “Остановись!” Но я не мог кричать, потому что воздух был очень горячий и обжигал язык, а он все бежал, и вдруг я понял, почувствовал, что он бежит к тем вот пирамидам на горизонте. Они были далеко, они были бесконечно далеко, эти пирамиды, которые все время, сколько ни бежали мы, оставались на горизонте.
И тут меня поразила страшная мысль: мы никогда не добежим до пирамид, потому что они на горизонте, а горизонт настичь невозможно. И опять, как в прошлый раз, когда я убегал от льва, внезапно появился обрыв, тот самый обрыв, с которого я прыгнул в море.
Все повторилось точь-в-точь, только красного не было. Вернее, оно появилось, но почти сразу исчезло: я лежал на берегу лицом к солнцу и разводил руки, как при искусственном дыхании. Я не мог понять, почему мне так легко двигать руками, — ведь только что я тонул, и это неестественно, чтобы человек, который только что тонул, с такой легкостью двигал руками. Я видел, как делали искусственное дыхание женщине, захлебнувшейся в шторм. Она была неподвижна, она была страшная и безобразная, эта женщина с синим лицом, пока изо рта у нее не хлынула вода. И потом еще долго после этого она не могла даже присесть без чужой помощи.
А мне вот легко, и я лежу просто потому, что хочется полежать, а если надо будет встать, я встану и пойду и пройду сколько надо, хотя бы с Фонтана на Пересыпь. И мой брат, который стоит рядом, прислонившись к обрыву, тоже знает это, и ни о чем дурном он уже не думает, потому что я жив, потому что в этот раз ему удалось спасти меня.
Так вот почему он был озабочен тогда — он не сумел спасти меня в тот, прошлый раз, хотя знал заранее, что я буду тонуть в скалах, где красное. Он знал — и все-таки не сумел.
Проснулся я в семь часов.
— Рано, — сказала мама, — ты можешь поспать еще с полчаса.
Но мне не нужны были эти полчаса, потому что семь часов — это мое время.
— Странно, — сказала мама, — раньше у тебя своего времени не было. Двоек, наверное, нахватал? А?
— Нет, — сказал я.
Я знал, что мама верит мне, только всякий раз, едва я поворачивался спиной, она останавливалась и тревожно разглядывала меня. Я чувствовал на себе этот ее взгляд, но делал вид, что ничего не замечаю, хотя я ненавижу эту привычку подсматривать из-за угла.
Из дому мы выходим с мамой вместе. Прощаясь, она задает мне всегда один и тот же вопрос: “Может, тебе дать еще денег на булочку?” И сама же отвечает: “Дура я, как будто не знаю, что все равно он на пистоны истратит их”.
Это правда: я покупаю на эти деньги, пистоны, потому что на пистоны мама денег не дает, пистоны, говорит она, просто выброшенные деньги.
— На, вот тебе деньги на булочку, но я, дура…
— Нет, — сказал я, — мне не нужны деньги.
А она стала насильно заталкивать их в карман моего пальто, так что прохожие даже оглядывались на нас. И тогда, чтобы мама успокоилась, я показал ей неистраченные деньги.
— Так много? Откуда?
Сначала я думал, это показалось мне — страх в маминых глазах, — а потом, когда она опять открыла их, я убедился: да, это страх.
— Не беспокойся, — сказал я, — это не ворованные.
— О чем ты говоришь? — ужаснулась она. — Как ты мог об этом подумать?
Я хотел сказать ей, что не надо строить штук, что я уже не маленький и очень хорошо все понимаю, но почему-то ничего этого не сказал, а просто попросил не задерживать меня, потому что скоро звонок и я могу опоздать в школу.
Мама поцеловала меня в лоб. По пути в школу я хорошенько растер лоб пальцами.
На уроке арифметики Николай Иваныч опять устроил мне допрос: реши-ка эту задачу, а теперь эту, а теперь вон эту.
А потом, когда я решил все задачи, он велел мне вспомнить, не бывало ли со мной ничего такого… ну, скажем, чтобы разные примеры или задачки сами собою решались в моей голове. Или вот еще: чтобы числа, просто какие-нибудь числа, вдруг ни с того ни с сего появлялись у меня перед глазами.
— Нет, — говорю, — ничего такого не было. Наоборот, когда надо было решать задачи или примеры, я всегда думал о чем-то другом.
— А теперь?
— Теперь? Теперь, по-моему, ни о чем.
Ребята стали смеяться, а Николай Иваныч подошел ко мне, положил руку на плечо и приказал еще раз хорошенечко подумать.
— А лучше всего вот что: реши-ка еще одну задачу и проследи, как получается решение.
Прошло минут пять, но я все никак не мог взять в толк что к чему. Два раза Николай Иваныч повторял условие, а у меня дело ни с места.
— Что это с тобой? — удивился учитель.
— Не знаю, — говорю, — но я не могу одновременно решать задачу и следить за ее решением.
— Ладно, — согласился Николай Иванович, — решай, как прежде.
Через минуту, а может, и раньше задача была готова.
Пока я был занят решением, Николай Иваныч очень внимательно следил за мной, и хотя его лицо было почти рядом, в тот самый момент, когда получился ответ задачи, мне вдруг показалось, что оно мгновенно переместилось сюда откуда-то издалека, что там, вдали, оно было маленьким, а теперь стало большим, как в увеличительное стекло.
— Хорошо, очень хорошо, — повторял Николай Иваныч, — очень даже хорошо. А нет ли у тебя такого ощущения, будто кто-то другой решает задачу, а тебе выдает готовый ответ? Нет, ничего такого не было: просто все происходило само собой. Только прежде, когда я решал задачи, у меня всегда было чувство неуверенности, а теперь я твердо знал, что все правильно. И еще одно: кто-то очень большой и сильный доволен мною. Я понимал, что этим большим и сильным был мой старший брат, но иногда почему-то казалось, что это не брат, а другой человек, с которым я не то встречался, не то ездил куда-то очень далеко, хотя из Одессы я никогда не выезжал.
Не знаю почему, но мне не хотелось рассказывать об этом ни нашим ребятам, ни учителю и вообще никому.
— Ладно, Женя, — это учитель меня впервые по имени назвал, а так все называют меня по фамилии: Линьков. — Я вижу, у тебя тайна есть.
— Нет, Николай Иваныч, никакой тайны у меня нет.
Я говорил очень спокойно и сам удивлялся, откуда у меня такое спокойствие, потому что прежде я всегда волновался, когда хотел что-то скрыть. А теперь вроде все изменилось, вроде я стал сильнее и старше. Мне даже показалось, я стал выше ростом, но это, конечно, ерунда — за несколько дней человек вырасти не может.
Вечером мама жаловалась тете Оле, что со мной творятся странные вещи, что каждую ночь я кричу со сна, а днем как-то странно смотрю на нее и от этого моего взгляда на душе у нее становится нехорошо.
— Оленька, — говорила мама плачущим голосом, — я чувствую, должно произойти что-то нехорошее.
— Оставьте, Зина, — шумела тетя Оля, — вечно у вас какие-то предчувствия. Дитя растет, все растут, и мы с вами когда-то росли. Вспомните себя: вы были лучше? Вы не были лучше.
— Ну при чем тут лучше, — досадовала мама, — я говорю совсем о другом: мальчик изменился. Я перестала понимать его. Раньше он не хотел делать уроки, обманывал меня на каждом шагу, но я все это знала: и когда он не сделал уроки, хотя уверял, что сделал, и когда он обманывал меня, и когда хотел просто что-то скрыть. А теперь мне трудно смотреть ему в глаза. Я стараюсь делать вид, что ничего не изменилось, а он смотрит на меня такими чужими глазами, что становится холодно под ложечкой.
— Может, — тетя Оля заговорила шепотом, и я услышал — только последние слова, — …как вы думаете, а?
— При чем тут девочки, — возмутилась мама, — он еще с Бобиком наперегонки бегает.
Потом возмутилась тетя Оля, потом опять мама, и так они еще целый час болтали обо мне, но я уже не слушал, потому что неинтересно тыщу раз слушать одно и то же.
В воскресенье я проснулся в семь часов. Было ровно семь — только что у соседей, за стеной, пропинало радио: пи-и, пи-и, пи. Раньше по выходным дням я просыпался в десять и до двенадцати валялся в постели: мама сдирала с меня одеяло, вырывала из-под головы подушку, звала первоклассника Гришку, чтобы устыдить меня, но мне вовсе не было стыдно, а Гришке нравилась эта наша кутерьма, и он делал мне знак глазами — лежи, мол, а я посижу.
Но сегодня все было наоборот: я не понимал, как это мама может еще спать, хотя уже так поздно — семь часов. Я тихонько убрал постель, сделал на лестничной площадке зарядку и вернулся в комнату.
— Где ты был? — спросила мама.
— Зарядку делал.
— Зарядка — это полезно, — пробормотала мама, — но почему на лестнице?
— Чтобы не разбудить тебя.
— А-а, — протянула мама, — понятно. А который час?
Я повернул часы циферблатом к маме, но она даже не глянула, потому что и без того знала, который час, а все эти разговоры затеяла для того лишь, чтобы увериться, будто ничего особенного не происходит.
После завтрака я вышел во двор. Никого, кроме Бобки, во дворе не было. Бобка подполз ко мне на брюхе, опрокинулся на спину, задрал кверху лапы и стал ждать, пока я пройдусь у него под мышками пальцем или носком туфли.
Нет, сегодня Бобка зря ждал, сегодня у меня не было настроения возиться с ним. Слоняясь без толку по двору, я как будто впервые увидел наш дом, увидел, какой он старый, увидел людей, которые жили здесь сто лет назад и черпали воду из колодца в углу двора, потому что водопровода в нашем доме еще не было.
Остановившись посреди двора, я смотрел в небо — мартовское небо без облаков, без птиц. Мне ничего не хотелось.
Я думаю, ничего, потому что я перебрал в уме множество всяких вещей — и те, которые можно есть, и те, с которыми играют, — но ни на одной из них не хотелось мне остановиться. Они были мне ни к чему, они были пустые и бессмысленные.
Я постоял у водослива — под землей гудела вода, хотя снег давно уже стаял, а дождей еще не было. Эта вода шла со всех этажей нашего дома. Потом я постоял в парадном, где мраморная лестница и паркетный иол. Здесь, говорят, до революции жил хозяин дома полковник Котлярювский. Старуха Малая еще помнит его, она говорит, при Котляровском у нее было четыре комнаты, а теперь — одна. Ему не надо было убегать в Париж, говорит она, он был хороший. Он был за советскую власть. А один раз она вдруг спросила у меня, помню ли я его. Я рассмеялся, а она сказала: “Ты, набитый дурак, уходи из моего дома, уходи”.
Во дворе было по-прежнему тихо. На первом этаже окна были закрыты ставнями, и только полоски желтого света между створками говорили о том, что люди уже не спят. Во всех окнах были эти полосы, лишь у него, у нашего соседа, человека со странностями, было темно.
И опять у меня появилось это неприятное чувство, когда ничего не хочется, когда носишься с одного места на другое, а остановиться невозможно, потому что так и толкает тебя изнутри: “Иди. Иди”.
Пристроившись на сухих камнях, Бобка лакал воду из лужи возле дворового крана. Эта лужа почти никогда не просыхала и была постоянным водопоем для собак, кошек и воробьев. Случалось, воробей прилетал сюда навсегда: нот сбивал его, наполненного водой, лапой в воздухе. Несколько перьев — вот и все, что оставалось от воробья. А через несколько минут прилетали другие воробьи и суетились радостно, как ни в чем не бывало.
Я открыл кран, хотя воды в луже было достаточно. Брызги летели на Бобку, и он все время подозрительно скашивал глаза на струю. Я закрыл воду. Но мне почему-то стало неприятно, что вот пришлось закрыть воду. И тогда я снова открыл кран и смотрел, как наполняется лужа, как дрожит струя, как отрываются от нее капельки воды и летят в разные стороны, так что заранее и не угадаешь, куда именно.
Напор воды все время менялся, и струя то напрягалась, то слабела. Когда струя слабела, мне почему-то становилось не по себе, как будто это не струя воды слабела, а человек или какое-то другое живое существо, которое надо поддержать, которому надо помочь.
Я бы мог простоять так целый час, но вдруг ни с того ни с сего меня потянуло на фонтан, на дачу Ковалевского, к обрыву, где патриаршая дача с фуникулером. Ни у нас во дворе, ни потом в трамвае я не думал о том, зачем ехать на Большой фонтан, если море здесь, рядом — Ланжерон, Массив, Отрада. Нет, я совершенно точно знал, что мне хочется именно туда, на фонтан.
Шестнадцатая станция — конечная остановка восемнадцатого трамвая. Дальше, на дачу Ковалевского, можно проехать девятнадцатым, который идет через мост по улице Амундсена.
Я люблю эту дорогу — пыльную, тесную улочку, пересеченную оврагом. Овраг начинается где-то очень далеко в степи и обрывается в скалах, у самой воды.
В туман мне всегда представляется, что с той стороны, где степь, — горы, самые высокие на земле горы. У подножья этих гор, на берегу океана, живут бородатые люди, суровые, безмолвные. И собаки здесь не такие, как у нас в городе, — собаки тоже суровы и молчаливы. И самое удивительное, туман не ослепляет их — ни собак, ни людей, — хотя даже протянутая рука бесследно растворяется в сыром, тяжелом воздухе. Никто из здешних не боится этого тумана. А мне страшно, потому что исчезает все, и я боюсь провалиться в пропасть, которая везде, кроме того клочка земли, что подо мной.
Вдали, над морем, туман стоял стеной.
Серая стена на горизонте казалась неподвижной, но небо и море мутнели, сникая в белесой дымке, газово-зеленой на востоке и почти черной на севере, у горизонта.
По оврагу я спустился к морю. Патриаршая дача была далеко справа, и дорога к ней вела через скалы, беспорядочно наваленные на берегу и в воде. В каменном лабиринте вода была густой и синей, как синие медузы. И колыхалась она, как медузы: лениво, немощно, по сто раз натыкаясь на одну и ту же преграду.
Я перебирался со скалы на скалу, цепляясь руками и ногами за скользкие, обкатанные морем выступы. Выступы, покрытые плесенью, были влажны, хотя уже недели две не было ни шторма, ни даже стоящего наката.
Между Фонтаном и патриаршей дачей земля врезается в море мысом. Мыс этот, собственно, уже не берег, а просто отдельные скалы, которые просматриваются только в тихую солнечную погоду. В этих скалах полно крабов, которые часами млеют на солнце, и юрких пугливых фиринок, обнаруживающих себя мгновенными серебристыми всплесками.
Туман приближался к берегу. Унылый, тягучий звон звукового маяка насыщал берег тоской и тревогой. Мне захотелось бежать отсюда, подняться по твердой земной тропинке туда, наверх, где люди. Но я не бежал, я даже не пытался бежать, я даже не сделал шага в сторону, потому что надо было идти вперед — через скалы.
Потом страх у меня прошел, совсем прошел. То есть не прошел, а стал другим — я чувствовал, что опаздываю. Это было глупое, бессмысленное чувство: сегодня, в воскресенье, мне некуда было опаздывать. Но я торопился, потому что не торопиться я не мог, потому что какая-то сила, которая была везде — и в скалах, и в море, и в тумане, — толкала меня, не позволяя ни остановиться, ни даже хорошенько осмотреться.
И я шел вперед — ползком, на четвереньках, бегом и опять ползком. Хотя туман быстро густел, я очень отчетливо видел каждую скалу и заранее знал, где можно будет пробежать, а где проползти или подтянуться на руках.
У поворота скалы круто поднялись кверху, а затем внезапно оборвались. Прежде здесь не было обрыва, прежде здесь была глыба хрупкого ракушечника, облепленного сверху зеленой глиной. Но ракушечной глыбы больше не было — море опрокинуло ее, раздробило в куски и теперь дробило эти куски на кусочки, которые рассыпались в воде, как песочные сухарики.
Обойдя провал, я выбрался на покатую скалу, которой начинался новый ряд скал; этот новый ряд был последним — за ним открывался песчаный берег, тянувшийся километра на полтора к западу. Берег был пуст, берег был мертв.
Он не нужен был мне, этот берег. Нужное было где-то здесь, в скалах. Я спустился вниз, вода заплескивала мне ноги, но я стоял неподвижно, цепенея в ледяном мартовском море, а потом… потом я преодолел страх и обернулся.
Он лежал здесь, под скалой, и все было так, как я представил себе: правая нога подтянута, руки свисают набок, вправо, и голова тоже набок, вправо. Из правого виска, повернутого к песку, сочилась кровь. Набегая, вода смывала кровь и уносила ее в море.
Я подергал его за руку, оттянул на скалки, чтобы вода не заливала его, а он не приходил в себя, он был без сознания, наш сосед, человек со странностями.
Туман уже не наступал, туман был здесь. Пропитывая скалы, он растворял их, он лишал их контуров, превращая в ничто. Но я видел их по-прежнему отчетливо — и те, что были здесь, рядом, и те, что были наверху.
Нужно было взобраться туда, наверх, чтобы позвать людей.
А если шторм, если буря? Нет, уходить нельзя. Надо кричать, надо просто кричать.
Я кричал, я кричал, пока мог кричать, но проклятый туман делал с моим голосом то же, что он сделал с морем, небом и скалами.
А потом я перестал кричать, я положил ему под голову свою шапку и, прислонившись к обрыву, смотрел в туман.
Я ни о чем не думал, я смотрел в туман, который съел землю, съел людей, съел мой голос.
Сначала, когда появилось солнце, я был удивлен. Не солнцем, потому что солнце должно было появиться, а туманом, которого вдруг не стало. Я хотел спросить, где же туман, кто убрал туман, но спрашивать было не у кого, во все стороны тянулись пески, желтые, как желтые тюльпаны, и небо по горизонту тоже было желтым. Желтое — это цвет жизни. Нет, сказал я, жизнь — это голубое и зеленое. Желтое вздохнуло, пошло волнами, и в этих волнах колыхались предметы, огромные, как город. Но всякий раз, когда я пытался рассмотреть их, они вдруг исчезали бесследно, и я никак не мог понять, куда же это они исчезают, если все вот здесь, передо мной. А потом я понял, что это сон, что во сне часто бывает такое — предметы появляются и пропадают неожиданно, как внезапный, бестолковый страх, тупо ударяющий изнутри, как рожа, вдруг мелькнувшая в беспорядочном нагромождении линий.
Проснувшись, я сказал себе, что самое главное теперь — не заснуть, что ступать по пескам надо твердо, всей ступней, что идти надо все время на юг, и там, на юге, будет голубое и зеленое.
Я шел все время на юг, пока не наткнулся на огромную стену, перегородившую реку. Так вот она какая, великая Садд аль-Аали, подумал я, она больше самых больших пирамид, и даже пирамида Хеопса, которую сто тысяч человек строили тридцать лет, — не более чем могильная насыпь рядом с Садд аль-Аали.
Да, но ведь она еще не построена, как же я могу видеть ее? Нужны еще годы, чтобы закончить ее, нужны дороги со стороны Нубийской пустыни, не верблюжьи тропы, а широкие бетонные дороги для сорокатонных “МАЗов”. И я здесь для того, чтобы строить эти дороги и эту плотину Садд альАали, равной которой нет в мире. И тогда я приказал себе: проснись, африканское солнце уморило тебя, проснись.
Проснувшись, я увидел настоящий Нил, не голубой, а желтый, и на том месте, где только что высилась Садд аль-Аали, не было ничего, кроме желтой воды. Возле воды копошились люди с лопатами. На голове у этих людей были огромные пробковые шлемы, и всякий раз, когда надо было что-то записать или нарисовать, они снимали шлемы и делали на них пометки. Они торопятся, объяснял я себе, они археологи, скоро здешние земли затопят навсегда, и они боятся упустить что-то важное. Что-то очень важное.
И вдруг меня охватила тревога: надо немедленно узнать, что же оно такое, это важное? Ведь я все время помнил о нем, я все время думал о нем. И вдруг забыл. Разве о важном можно забыть? О важном нельзя забыть, важное не позволит забыть о себе.
И я помчался на север — туда, где осталось самое важное.
Я мчался с такой быстротой, что песок взвивался столбом не только сзади и по сторонам, но даже впереди. И так я все время бежал, окруженный столбами песка, и песок забивал мне дыхание.
И вдруг опять появились они, огромные желтые кошки, — сначала одна, а затем две, три, пять, и, наконец, их стало так много, что я сбился со счета. Не надо считать, говорил я себе, надо только бежать, потому что еще минута — и они настигнут тебя. Кого тебя? Почему тебя? Это же меня, меня самого они настигнут! Нет, не меня, а тебя. Его.
— Кого его? — закричал я. Его нет, есть только я, и сейчас они схватят меня, желтые кошки. Они обязательно схватят меня, если не произойдет чудо, как тогда, в первый раз, когда появился обрыв и под обрывом — море.
Я слышал их дыхание — ровное, спокойное, как во сне, я видел их глаза, устремленные в одну точку, я видел, как набегает слюна у них в пасти, и от этого их спокойствия мне стало невыносимо тоскливо, и силы оставили меня: я упал, я падал мучительно долго, а потом меня понесли волны моря — мягкие, ласковые, теплые. Они были очень ласковые и добрые, эти волны, они баюкали меня, и откуда-то издалека названивали тонкие, как нити серебрящейся на солнце паутины, струны: “Спи, спи, спи”.
Я засыпал, я почти не дышал, так легок был мой сон, и вдруг опять появились желтые кошки. Они спокойно ступали по волнам, они приближались не торопясь, потому что знали: он спит, он не убежит, ему некуда бежать.
— Да, — сказал я ему, — тебе некуда бежать: они все заодно — и львы, и волны, и струны, которые усыпили тебя.
И мгновенно, едва я произнес эти слова — нет, даже еще раньше, когда я говорил эти слова, — меня пронизал страх: он — это я. Это меня преследуют львы, это меня укачивают волны, это во мне звенят струны.
Значит, все, думал я, значит, смерть, значит, нет выхода.
Но самое удивительное, в это же время я точно знал, что выход будет, что я непременно останусь в живых, потому что какая-то смерть уже была и дважды такой смерти быть не может.
Он возник из ничего, нет, не возник, он просто находился все время рядом, мой старший брат, а я почему-то не замечал его. Как всегда, он не смотрел на меня, как всегда, он видел что-то такое, чего я не видел, и потому был спокоен. Но почему же он не помогает мне, зачем он медлит? Я хотел крикнуть ему: “Помоги!” Но крик застревал у меня в горле и мешал дышать. И так всякий раз — крик застревал у меня в горле, и каждый глоток воздуха казался мне последним.
И вдруг меня поразила страшная мысль: откуда же воздух, если я на дне моря! Вот скалы — черные, синие, оранжевые; в этих скалах желтые кальмары с гигантскими щупальцами, которые вьются надо мной. Чтобы спастись, я должен укрыться в скалах: в скалах кальмар не достанет меня.
Но кальмар опередил меня — он разбросал скалы, и теперь ему нужно сделать последний рывок. А я не могу уже ничего, потому что воздуха здесь, на дне моря, нет, а без воздуха — человеку смерть.
И я закричал. Никогда еще в жизни я не кричал так — челюсти срослись у меня, губы задубели, шея вздувалась и синела с фантастической быстротой. И в тот последний миг, когда кальмар, взметнувшись, сделал последний рывок, ослепительно сверкнуло солнце, и могучие, как хобот слона, руки моего старшего брата схватили меня и швырнули на берег.
Потом эти руки нажали мне на грудь — и я выплеснул из себя воду. Воды было невероятно много. Я смотрел и не мог понять, как в человеке может уместиться столько воды — целый пруд, целое озеро зеленой воды с тиной.
— Ты жив, — сказал он, — ты жив, Саша. Я уже целую вечность трясу тебя.
— Женя, меня зовут Женя.
— Женя? — удивился он. — Да, да, Женя. А где же Саша? Туман, смотри, какой туман, Саша.
— Женя.
— Женя, — опять поправился он и еще сказал, что с этим пора кончать.
Я хотел спросить, с чем этим, но он уже встал и первый вскарабкался на скалу и оттуда, со скалы, подал мне руку. Я ухватился за его руку — она была очень сильная, еще никогда я не держался за такую сильную руку. Мне не хотелось отпускать ее, но прыгать по скалам, держась за руки, нельзя. И так мы шли: он — впереди, я — за ним.
А потом ему вдруг стало плохо, и если бы я не схватил его за руку и не потянул назад, на себя, он свалился бы в расщелину. Позже он говорил мне, что я спас его. Потому что расщелина была глубокая, с двухэтажный дом, а главное — с ребристыми, как колотый гранит, стенами.
На улице Амундсена туман был не такой густой, как там, на берегу. Я даже свободно мог прочитать вывески — “Парикмахерская”, “Одрыбкооп”, “Аптека”, — хотя мы все время шли по трамвайной колее.
— Небо чистое, — сказал он, — когда пройдет туман, будет солнце. Ты любишь солнце?
— Все любят.
— Все, — согласился он, — но не все одинаково.
Когда мы пришли на Фонтан, туман быстро отступал к морю, будто клубы зеленого газа, распираемые изнутри и гонимые ветром.
— В городе тумана нет… — он помедлил, а затем произнес уверенно, очень уверенно: — Женя.
Мы сели в машину. Он сказал, что все мальчики любят машины и мы поедем в город машиной.
— Папа, наверное, часто катает тебя?
— У меня нет папы, я никогда не видел своего папу, его убили на войне. В городе Линц, в Австрии.
— Я не знал, что твой отец погиб, — сказал он, — но это очень странно… хотя, нет, ничего странного: просто я был невнимателен — я ведь знал, что у тебя нет отца. Еще раньше знал.
— Сказали?
— Нет, Женя, никто ничего не говорил мне. Ты же знаешь, в нашем доме все считают, что я со странностями. Со странностями — это почти то же, что псих.
Он вдруг рассмеялся, и я сказал ему, что знаю, отчего он такой, со странностями.
— Ну? — он даже привстал, надвигаясь на меня.
— У вас несчастье.
Он смотрел на меня очень внимательно. Но, как тогда у ворот, он не видел меня, потому что думал о чем-то своем.
А потом вдруг хлопнул себя по колену.
— Пора с этим кончать, — теперь он смотрел прямо в глаза мне, — пора, Женя.
Он уже не горбился, не норовил забиться в угол поплотнее, он сидел свободно, не напрягаясь, и лицо у него было спокойное, ясное, и у меня появилось Чувство, что вот, наконец, я увидел лицо и глаза моего старшего брата. Я хотел спросить, не кружится ли у него голова, я хотел сказать, что это еще ему повезло там, в скалах, потому что можно было разбиться насмерть, но он улыбнулся и кивнул мне: помолчи немного, я сам все расскажу.
С десятой станции мы свернули на Окружную улицу, а по Окружной, через Дмитриевку, — на Черноморскую дорогу.
И вот оттуда, с того места на десятой, где мы свернули к Дмитриевке, до самого города, до самого нашего дома, он говорил. Раза только два-три он спросил: “Ты слушаешь?” — а так всю дорогу говорил безостановочно, как будто ему и не нужно было, чтобы кто-то слушал его. Но самое удивительное — почти все, что он рассказывал, я уже вроде бы однажды слышал. Или даже не слышал, а видел, но забыл, где именно видел.
Я не ошибся — у него и вправду было несчастье: в прошлом году, двадцать третьего июня, утонул его брат Сашка.
Море было очень спокойное, Сашка ловил в скалах, которые возле фуникулера, крабов, а он дремал на берегу. Потом, когда солнце стало прижигать ему спину, он позвал Сашку, чтобы тот набрал воды в бутылку и слил ему па спину. Сашка не отвечал, и он еще раз окликнул его, но Сашка и теперь не ответил, и тогда он бросился к скалам.
Минут через десять он нашел Сашку под скалой, которая вся ушла под воду, как только он высвободил Сашкину голову. Два часа, три часа, пять часов он откачивал Сашку, но Сашки больше не было. А он говорил себе: это неправда, этого не может быть, чтобы Сашки не было. И потом, когда Сашку похоронили, он все равно говорил себе: это неправда.
И каждую ночь он видел Сашку: Сашка вдруг исчезал в скалах, вода в скалах становилась красной, а он нырял, он ворочал скалы — и вдруг появлялся живой Сашка. Но сколько он ни пытался заговорить с ним, с этим живым Сашкой, ничего не получалось, и постепенно он свыкся с этим Сашкиным молчанием, потому что важно было только одно — Сашка жив, а все остальное ерунда.
Целыми днями напролет он думал только о Сашке. Нет, он работал, как всегда, очень напряженно, очень сосредоточенно, но перед глазами у него все время был Сашка — его брат. Случалось, они переходили вдвоем дорогу перед трамваем или автобусом — и он с силой одергивал Сашку, чтобы тот не угодил под колеса. А дома, когда вещь оказывалась не на месте, он вдруг окликал Сашку, чтобы сделать ему выговор.
Месяца через три у Сашки вдруг появился голос. Но это был не тот, прежний, настоящий голос, а чужой — ну, как бы это сказать? — вроде заимствованный или, вернее, живший отдельно от Сашки: однообразный, нашептывающий и неестественно спокойный.
На улице и на работе этого голоса не было — он появлялся только дома, среди ночи, и, самое скверное, надо было отчаянно вслушиваться, чтобы понять его, чтобы в звуках его появился смысл.
День ото дня становилось труднее, и, наконец, он почувствовал, что не может зайти в свою комнату, где прежде они жили с Сашкой.
Через месяц он переехал в наш дом.
В первые дни здесь, на новом месте, он чувствовал себя лучше, а главное — не стало голоса. Но вещи, которые он перевез, понемногу наполняли комнату Сашкой. Конечно, можно было избавиться от этих вещей, можно было купить другие, но в том-то и дело, что он не считал себя вправе уйти от этих вещей, что он не хотел уходить от них.
А потом, когда ему предложили ехать в Египет, на строительство Асуанской плотины, он уже видел Сашку не иначе как в песках Сахары; все вокруг было желтым, как желтые тюльпаны, и огромные желтые львы преследовали Сашку, а он бежал от них к морю, как будто в море было спасение. Сны повторялись из ночи в ночь, и почти всегда одно и то же: Сашка убегает к морю, потому что море — это спасение.
Это было мучительно, это было невыносимо: даже во сне он сознавал нелепость перестановки — место гибели становится местом спасения!
Но, как ни тяжело было ночью, еще тягостнее было днем, когда внезапно его охватывало желание уступить снам и действительность отступала под натиском видений.
“Я не выдержу, — твердил он себе, — это безумие, и я ничего не могу сделать, чтобы предотвратить его, и никто ничего не может”. Время исчезло, прошлое вытесняло настоящее, чтобы занять его место. Но ведь это даже было и не прошлым, это было просто чудовищно переделанная снами действительность: изрезанная в лоскутья, она перешивалась заново без всякой связи с этой действительностью. Вернее, вопреки ей. Да, да, именно так: вопреки.
И вот, когда, казалось, все выходы уже забиты, когда в начале каждой дороги уже просматривался ее тупик, он увидел меня.
Я стоял у ворот, я смотрел на солнце, прикрывая глаза рукой, и до того я был похож на его брата, что он оцепенел.
Сашка! “Все, — сказал он себе, — начинается”. И даже потом, когда оцепенение прошло, долго еще в ногах и затылке держался у него страх.
Нет, он ошибся, не очень я был похож на Сашку, только глаза у нас были одного цвета — голубые, как голубая вода.
И еще манера смотреть одинаковая: вроде бы один только предмет и есть на свете — тот, что перед глазами.
Но происходила странная и непонятная вещь: со временем я и вправду все больше и больше походил на Сашку.
И чем упорнее он думал о Сашке, тем чаще видел меня.
Но прежнего страха уже не было, теперь он не боялся наваждений, наоборот, иногда ему даже казалось, что все чересчур реально. Правда, сны оставались прежними, но только по видимости прежними, потому что Сашка вроде замещался кем-то и спасение его не только не вызывало протеста, но становилось абсолютно необходимым. Теперь, наблюдая погоню львов за Сашкой, он уже не приходил в отчаяние: после первого приступа страха обязательно появлялось море, вернее, сначала мысль о нем, а затем уже само море. И в море было спасение. Сашка был очень одаренный мальчик. Особенно в математике. Без всяких усилий он решал самые головоломные задачи. И вот что удивительно: однажды ночью у него вдруг опять появилось ощущение, будто Сашка решает с фантастической легкостью задачи, и впервые за много месяцев он почувствовал в себе ту сосредоточенность, ту ясность и точность мысли, которую называют волей. И как в те далекие дни, когда Сашка был еще жив, он явственно ощутил нити, связывающие его с людьми и вещами. Эти нити были невидимы, неслышимы, неосязаемы, но внезапно, как воздух в мгновенных порывах ураганного ветра, они давали о себе знать толчками. Толчки бывали разные — плавные, как волна, резкие, как выпад фехтовальщика, упорные, как муравей, волокущий ношу. Но почти всегда, независимо от силы и характера, они вызывали чувство уверенности и твердости.
Время от времени нити пропадали бесследно, как серебристая точка в полуденном небе, как зеленая ящерица в зеленой траве. Но это у него случалось ненадолго — до первой встречи со мной. И хотя мы почти никогда не разговаривали при встречах, у него обязательно появлялось то ощущение предельной уплотненности мысли, которое прежде, когда Сашка был жив, оставляло его очень редко. А может, и вовсе не оставляло, может, только слабело порою.
В последние три — четыре недели он очень много думал об Асуане. Но теперь он уже не корил себя за трусость, теперь он твердо знал, что поездка в Египет — это не бегство, не уход от страшных воспоминаний, а долг инженера. Ну, все равно как долг врача. Или, скажем, не врача, а просто человека посильнее, который обязан помочь слабому.
Все было хорошо. Во всяком случае, много лучше, чем раньше, до переезда в наш дом. Но вчера, в субботу, на него с прежней силой вдруг навалилась тоска, и сегодня, еще до рассвета, он помчался сюда, на дачу Ковалевского, к скалам у патриаршего фуникулера.
— Нет, это невозможно объяснить, — шептал он, но шепот его был горячее и громче крика, — меня охватила страшная ненависть к этому куску берега. И самое мучительное, я отчетливо сознавал, что давно уже, задолго еще до Сашкиной гибели, ненавидел этот берег с фуникулером, и только какое-то чудовищное ослепление, какое-то удивительное, загадочное помрачение мысли начисто заглушило во мне тот минимум проницательности… не проницательности, а пророчества, без которого человеку нельзя. Я прыгал со скалы на скалу, я что-то высматривал, хотя высматривать было нечего — туман уже стер и скалы, и море, и небо. А потом… потом не знаю, что случилось: я вдруг почувствовал, что лечу. Я знал, что могу разбиться насмерть, но страха у меня не было. Совсем не было — только удивление и досада. И еще мысль о плотине Садд аль-Аали. Это очень странно, это непонятно, но это именно так — последняя мысль была о ней, плотине Садд аль-Аали. И я увидел ее поразительно ясно, как будто она была здесь, передо мною, залитая солнцем и окруженная голубой водой Нила. Потом он ударился. Ощущение было такое, будто кто-то изнутри нанес ему молотом, туго обернутым в тряпки, удар.
Он знал, что теряет сознание, он знал, что здесь, в скалах, это очень опасно, но он ничего не мог сделать, чтобы сохранить сознание. Мы считали с ним, и получалось, что так, без сознания, он пролежал часа два, пока вдруг какой-то отчаянный крик, очень далекий, из ослепленной солнцем пустыни, где люди в пробковых шлемах копошились в песке, не ударил его, но опять-таки не извне, а изнутри.
— Это кричал ты, — произнес он очень уверенно, когда я рассказал о плотине Садд аль-Аали, о львах, которые преследовали меня, и о том, как старший брат спас меня.
И еще он сказал, что все это видел тоже, хотя в общем здесь много непонятного, потому что как же человек без сознания может видеть? Ну как?
Что я мог ответить ему? Только одно: не знаю. Но ведь он и сам понимал, что я не знаю.
Потом он сказал, что завтра уезжает. В Египет. А вечером я должен к нему зайти, обязательно должен: он покажет мне свою комнату, свои книги, и, если мне захочется, я могу пользоваться этой комнатой и этими книгами — ключ будет храниться у меня. Целый год у меня, до возвращения его в Одессу.
— И еще, — добавил он, — думай обо мне, упорно думай. Лучше по вечерам, когда заходит солнце. Теперь март, и там, в Египте, тоже будет заход — мы на одном меридиане.
З.ЮРЬЕВ Финансист на четвереньках
Глава 1 ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Всю свою жизнь Фрэнк Джилберт Гроппер меньше всего был расположен к философскому восприятию жизни. Для этого у него было слишком мало времени и слишком много денег. Теперь же, в эти теплые майские дни, все изменилось.
Впрочем, времени, строго говоря, у него было еще меньше, чем когда-либо, а денег — больше. Но изменился масштаб времени и покупательная способность его денег.
Гроппер закрыл глаза и откинулся в кресле-качалке. Солнечные лучи, проходя сквозь листву деревьев, трепетали на его лице. Он вспомнил последний разговор с профессором Клеем из клиники Мэйо. Профессор ловил очками в тяжелой роговой оправе блики от яркой лампы и за этими бликами прятал глаза. В голосе его звучал хорошо поставленный оптимизм.
— Знаете, профессор, — перебил его Гроппер, — в конце концов откровенность — такой же товар, как подтяжки или политические взгляды. Согласен, что товар более редкий, особенно в наше время, и соответственно более дорогой, особенно когда на него есть покупатель. Но я ведь не торгуюсь из-за гонорара. Прошу вас ничего не скрывать от меня. В моей профессии предпочитают иметь дело с фактами, а не с надеждами, если даже надежда предпочтительнее.
— Тяжело выносить приговор, — ответил профессор, — когда знаешь, что он окончательный и апелляция бессмысленна… Да и к кому апеллировать? Безнадежный рак желудка, метастазы… Может быть, месяц, может быть, два.
Он поднял рентгеновский снимок. Ноготь, указывающий на серое пятно, был коротко острижен и наманикюрен. “Перст божий с холеными ногтями, — подумал Гроппер. — Впрочем, какая разница осужденному, чья именно рука подписывает приговор. Чисто секретарская работа. Вердикт вынесен в гораздо более высоких инстанциях”.
— Я вам сочувствую, — улыбнулся он профессору, — но мы с вами живем не в древнем Китае. Там, говорят, врачам платили, только пока пациенты были здоровы. Мы же, слава богу, верим в прогресс и платим врачам больше всего именно тогда, когда не можем выздороветь…
Гроппер открыл глаза. Клетчатый шотландский плед сполз с колен, и ему стало зябко. Холод проникал в него не снаружи, он шел откуда-то изнутри. Можно было храбриться у профессора Клея — блеф всегда был его оружием, — но он боялся смерти и знал, что скоро умрет. Он привык к диаграммам и графикам, и серое пятно на рентгеновском снимке обладало реальностью агонии. Вернее, это был не страх, а невыносимо жгучая досада. Он не жалел своего тела. В шестьдесят восемь лет оно напоминало ему старый, много раз ремонтированный автомобиль — еще передвигается, но удовольствия от езды не получаешь. Он уже давно устал прислушиваться к зловещим стукам и хрипам в моторе — синкопированному аккомпанементу старости.
Но страшно было подумать, что и водитель — его голова, его мозг — тоже попадет на свалку вместе с разбитым кузовом.
Всю жизнь его мозг работал, как изумительная вычислительная машина. Он вводил в нее понятие “тысяча долларов”, и машина выбрасывала точный рецепт, как превратить его в две тысячи. В двадцать девятом году его голова, подобно невероятно чувствительному сейсмографу, ощутила первые микроскопические толчки приближавшегося биржевого краха, и “черную пятницу” он встретил во всеоружии, надежно превратив все ценные бумаги в наличность.
Он никогда бы не смог точно определить, что это были за толчки, но он обладал способностью чувствовать приближающуюся опасность руками, спиной, всем телом, всем своим существом. Наверное, когда-то, тысяч пятьдесят лет тому назад, так определял крадущуюся во тьме леса угрозу его какой-нибудь далекий предок. За эти пятьдесят тысяч лет охотничью палицу сменил телефон, а медвежью шкуру — дакроновый костюм. Но рефлексы остались теми же…
А потом, с тех пор как тридцать с лишним лет тому назад десять миллиардов клеток его мозга решили, что сухой закон в Соединенных Штатах обречен, Гроппер окончательно привык доверять своей голове. Тогда он вложил все свои деньги в шотландское виски — в миллионы бутылок: в четырехгранные “Джонни Уокер”, в массивные “Баллантайн”, в круглые “Хейг”. Стеклянная артиллерия была приведена в полную боевую готовность, и, как только сухой закон был отменен, одновременный залп из миллионов горлышек по американскому рынку принес ему два с лишним миллиона долларов.
Такой мозг нельзя было не любить — он был чудом природы, совершеннейшим аппаратом по изготовлению денег. Гроппер никогда не был промышленником. Он всегда парил в высших финансовых сферах, куда могли подниматься лишь самые изощренные умы. Он парил, используя восходящие и нисходящие потоки, выжидая момент, когда можно камнем броситься вниз и вонзить когти в еще трепещущее тело конкурента.
Как они просили тогда, в тридцать шестом, в Чикаго, хоть на месяц отсрочить платежи! Он мог бы, конечно, отсрочить их и на год и на два, но тогда у него бы не оказалось сорока акров драгоценной городской земли, купленной у них за бесценок. Нет, не драгоценной. Драгоценность — это нечто постоянно ценное, а стоимость этих акров росла вместе с городом. Три года, пока ему принадлежал участок, он чувствовал себя отцом, у которого растет прекрасный сын. Он продал сына в тридцать девятом, когда в Европе началась война. Дитя принесло ему почти полтора миллиона.
Сила каждой машины кроется в ее специализации. Голова Гроппера была высокоспециализированной машиной. Ее работе не мешали эмоции — у него их не было. Он кончил колледж и, разумеется, слышал такие слова, как любовь, жалость, дружба, благородство, самопожертвование. Но если он и знал эти слова, то скорее с точки зрения орфографии, смысл же их был для него несколько туманен и бесконечно далек, как смысл математических абстракций. Пожалуй, даже меньше.
Ибо в математике есть холодная логика, эмоции же — нелогичны. Они вносят хаос. Эмеция — убежище слабых.
Он не раз предавал и продавал партнеров, и когда они, нищие и раздавленные, приходили к нему со словами упрека и мольбой о великодушии, он приказывал не пускать их. Пять минут бессмысленного разговора были бы кражей его времени — его собственности, а он не любил, когда его пытались обокрасть.
Но при этом он всегда испытывал чувство величайшей гордости самим собой. Он казался себе полубожеством, прекрасным и непобедимым.
Ему приходилось быть и медведем, и быком, что на биржевом жаргоне значит играть на понижении и повышении курсов акций, но подсознательно он всегда считал себя орлом.
Иногда он думал, что если бы ему пришлось выбирать фамильный герб, он выбрал бы орла.
Он никогда не задумывался над тем, для чего он делает деньги. Процесс накопления стал для него таким же естественным и необходимым, как процесс изготовления нити шелкопрядом, как строительство сот пчелами. И вот теперь его мозг, мозг Фрэнка Джилберта Гроппера, должен остановиться, распасться, исчезнуть, как подставная фирма с несуществующими активами. Из-за какого-то вульгарного рака не менее вульгарного желудка он, Гроппер, должен умереть, должен оставить свои великолепные финансовые заповедники для банды бездарных браконьеров. Страшна была не смерть. Страшно было сознание, что останутся другие.
О, если бы можно было всех заставить умереть вместе с собой!..
Он почувствовал, как по щеке, нагретой солнцем, медленно, как бы выбирая направление, неохотно поползла слеза, и там, где она проложила тонкую влажную дорожку, он ощутил холодок. Скоро промозглый холод фамильного склепа в его имении Риверглейд заменит этот холодок.
“Да, — подумал Гроппер, — трудно стать философом за два месяца до смерти. Все равно, что влюбиться под дулом пистолета”. Он поправил плед на коленях и откинулся на спинку качалки.
Чуть слышно скрипнул песок дорожки.
Внезапно он услышал слабое собачье повизгивание и открыл глаза. Прямо перед ним сидел небольшой коричневый бульдог с кожаным ошейником на толстой шее и внимательно смотрел на него.
Гроппер протянул руку, чтобы взять с широкого подлокотника кресла звонок и позвать старого Джейкоба, но собака, как бы читая его мысли, отрицательно помотала головой, подняла лапу в белом чулке и несколько раз помахала ею.
На мгновение Гроппер забыл о профессоре Клее. Собака опустила лапу и принялась тщательно разравнивать перед собой дорожку, как это делают на пляже, желая написать что-нибудь на песке. Потом начала старательно что-то выписывать неуклюжими печатными буквами.
Гроппер несколько раз открыл и закрыл глаза. В голову пришла было мысль о том, что он уже умер. Но его представления о рае или аде как-то не совсем совпадали с дрессированными собаками. Тем более что ни рожек дьявола, ни нимба святого на бульдоге заметно не было. Тем временем на дорожке возникли слова: “Сэр, прошу вашего внимания…” Гроппер привык мыслить рационально. В конечном счете биржа обладает мистикой и собственной необъяснимой волей лишь для непосвященных профанов, приносящих свои скудные сбережения на ее алтарь. Для него биржа, а с нею и все, что ей подчинялось, были сложным и вместе с тем простым учреждением, основанным на самом элементарном в мире законе: “кто — кого”. Она приучила не верить в чудеса.
И вот на шестьдесят восьмом году жизни, за месяц — два до смерти, он впервые увидел нечто непонятное, мистическое. Собака, время от времени отрываясь от работы, чтобы взглянуть на него печальными бульдожьими глазами, продолжала писать.
Почему-то из всего, что она написала, больше всего Гроппера поразила запятая после слова “сэр”. Должно быть, потому, что сам он никогда не снисходил до запятых и так давно не писал собственноручно, что вообще почти забыл, как это делается.
Но еще более странным казалось то, что собака почему-то не походила на собаку. То есть это была безусловно собака, небольшой коричневый бульдог с типичной бульдожьей мордой, с широкой грудью и массивными лапами в белых чулках. Но в самих движениях лапы, старательно выводившей на песке дорожки неловкие буквы, было нечто человеческое…
Гроппер читал: “Не пугайтесь. Речь идет о вашей жизни…” Финансист спросил почему-то шепотом:
— Простите, гм… вы дрессированная собака?
Бульдог энергично помотал головой, и Гропперу показалось, что он улыбнулся.
Собака сделала несколько шагов по направлению к креслу-качалке, и Гроппер увидел у нее на ошейнике крошечную записку. Он протянул руку, и бульдог, утвердительно кивнув головой, вытянул шею. Он взял записку, собака тщательно стерла лапой написанное на песке, кивнула ему и побежала прочь.
До сих пор Гроппер со своей фантазией финансиста мог представить себе судьбу в виде стремительно падающей стоимости акций, мертвой хватки грозного конкурента, в виде телеграфного сообщения о войне или мире, наконец, в виде рентгеновского снимка желудка с серым облачком рака.
Но в виде странного дрессированного бульдога…
Гроппер развернул записку. На плотном листке бумаги было написано:
“Мистеру Фрэнку Джилберту Гропперу Риверглейд Дорогой сэр!
Надеюсь, что податель сего, обычно довольно избалованный и глупый пес, за те два часа произвел на вас определенное впечатление. Я никогда не любил цирковых эффектов, но мое предложение, касающееся вашего здоровья и жизни, настолько фантастично на первый взгляд, что я избрал этот способ для привлечения вашего внимания.
Если вы хотите жить, а я склонен думать, что это так, завтра в четыре часа дня вы должны быть у мотеля Джордана.
К вам подойдет человек. О дальнейшем — на месте.
Проследите, чтобы вас никто не сопровождал. Возьмите старый “шевроле” своего садовника. Наденьте темные очки.
С уважением Б.”.
На мгновение Гропперу захотелось скомкать бумажку, как он комкал и бросал письма, тысячи писем от тысяч людей, всю жизнь что-то хотевших от него, от его денег — от продажи участков на Луне до основания новой веры. Но бульдог…
Гроппер посмотрел на дорожку, на затертые буквы, которые он только что читал… Бред.
Нет, нельзя разрешать себе надежду. Неоправдавшаяся надежда для приговоренного означает еще одну смерть. Только ослы могут тянуться за клоком сена, привязанным к оглобле. Он вспомнил, как бульдог, перед тем как убежать, улыбнулся ему. Теперь он готов был поклясться, что это была действительно улыбка, обнадеживающая улыбка!
Он протянул руку, взял колокольчик и позвонил. Из дому вышел старый Джейкоб.
— Сэр?
— Приготовьте завтра к двум часам машину.
— “Роллс”, сэр?
— Нет, ваш старый “шевроле”.
— Да, сэр, но…
— Ваш старый “шевроле”. Я поеду один.
— Да, сэр, но врачи…
— Вы, кажется, решили подыскать себе новое место?
— Слушаюсь, сэр…
Глава 2 ЧТО ТАКОЕ ГРОППЕР!
Ворота гаража были распахнуты. Из глубины, казавшейся чернильно-темной по сравнению с залитой солнцем дорожкой, доносилось мурлыканье старого Джейкоба. Блез Мередит, секретарь Гроппера, подошел к гаражу. Старик тщательно протирал куском замши ветровое стекло зеленого “шевроле”.
— К невесте собрались, Джейкоб?
— Ах, мистер Мередит, вы все шутите.
— Для чего же вы так надраиваете свою калошу? Я уж забыл, когда вы последний раз выводили ее из гаража.
Садовник таинственно подмигнул.
— Это для мистера Гроппера., — Для мистера Гроппера? Ваш “шевроле”? Старик уже лет пять ездит только на своем “роллсе”.
Мередит кивнул на черный лоснящийся кузов лимузина.
Рядом с “шевроле” он казался огромным и угловатым.
— Это верно, мистер Мередит. Только на этот раз мистер Гроппер велел мне заправить мой “шеви”. Сказал, что поедет сам и чтобы я никому ничего не болтал.
— Сам? Без шофера?
— Я у него то же спросил, мистер Мередит. Лучше бы не спрашивал. Мистер Гроппер не любит, когда его расспрашивают.
— Ничего, ничего, Джейкоб. Вы отдохните, я уж вам помогу.
— Спасибо, мистер Мередит, вы всегда были добры ко мне.
Старик вытер руки о выцветшие рабочие брюки, протянул замшу Мередиту и, прихрамывая, вышел из гаража.
Секретарь проводил его взглядом, выглянул из ворот, осмотрелся вокруг и, убедившие что никого поблизости нет, распахнул дверцу “шевроле”. Потом достал из кармана небольшую плоскую коробочку и засунул ее под сиденье. “Пожалуй, лучше закрепить ее проволочкой, — подумал он. — А то, если старик резко затормозит, она может выскочить. Ну, кажется, все в порядке”. Мередит взял замшу и, насвистывая, принялся полировать машину.
По обеим сторонам шоссе со зловещей регулярностью возникали яркие многометровые щиты. Успев крикнуть водителю, что покрышки “Гудрич” лучшие в мире, что “Тэнг” — лучший в мире напиток для завтрака, что Первый национальный банк — лучший в мире, они молча уносились назад.
Творцы рекламы, элегантные молодые люди с Мэдисон-авеню в Нью-Йорке, знают свое дело. Они не рассчитывают, что водитель бросит руль и в экстазе вопьется взглядом в описание достоинств пасты для бритья “Пальмолив”. О нет, они давно усвоили, что в мозг потребителя надо проникать так же, как взломщик проникает в номер люкс отеля “Уолдорф Астория” — незаметно, не привлекая внимания Вы свободный человек. Можете читать рекламу, можете и не чихать. Но метровые буквы помимо вашей воли просочатся в мозг, притаятся там, и в нужный момент, не задумываясь, вы купите почему-то именно покрышки “Гудрич”, именно напиток “Тэнг” и откроете счет именно в Первом национальном банке. В том, разумеется, случае, если у вас есть деньги. Если нет, вы представляете для Мэдисон-авеню такой же интерес, как антарктические пингвины. Впрочем, даже меньший, ибо пингвины фотогеничны и отлично подходят для рекламы крахмальных сорочек.
У мотеля Джордана стояло несколько машин: маленький запыленный “фольксваген”, два “форда” и серый “рэмблер”.
Пахло сухим зноем и бензином. Из прикрытого жалюзи окна доносился раздраженный мужской голос: “Но я ведь тебе ничего не обещал…” Не успел Гроппер остановиться, как из “рэмблера” вышел элегантно одетый человек.
— Мистер Гроппер? Езжайте за мной.
Машина резко взяла с места, и на мгновенье финансиста обуял страх. Ему представилось, что он не сможет догнать ее, она исчезнет за первым же поворотом, исчезнет навсегда. У него потемнело в глазах, словно их прикрыли чем-то непрозрачным, тем рентгеновским снимком с серым облачком.
Он в панике нажал акселератор, и колеса “шевроле” испуганно пробуксовали на месте.
Но серый “рэмблер” не думал исчезать. Он замедлил ход, а потом шофер, убедившись, что за ним следуют, снова прибавил скорость. Один раз Гроппер чуть не врезался в него, когда тот притормозил перед поворотом. “Еще не хватало аварии”, -подумал он, вытирая лоб.
Через полчаса они подъехали к небольшому уединенному дому. Гроппер, испытывая ощущение странной нереальности происходящего, очутился в просторном холле. В углу на вытертом коврике лежал коричневый бульдог с массивными лапами. Он поднял голову и лениво зарычал, будто нехотя полоскал рот.
— Это был он? — кивнул в сторону собаки Гроппер. — У меня в саду он вел себя приветливее.
— Как вам сказать? — ответил его спутник. — Строго говоря, это был не Джерри. Хотя с другой стороны… А вот и шеф.
В холл быстро вошел немолодой полный человек в черном костюме, делавшем его похожим не то на священника, не то на банковского клерка. Пухлые щеки рдели румянцем любителя недожаренных бифштексов и хорошего виски, но серые глаза смотрели холодно и настороженно. Румянец мог принадлежать кому угодно, от преуспевающего коммивояжера до сенатора, но глаза — только настоящему бизнесмену. Гроппер слишком хорошо знал этот взгляд, цепкий и мгновенно оценивающий, чтобы ошибиться. Такие люди улыбаются и смеются только лицевыми мускулами. Они улыбаются складками у глаз, но не глазами.
— Добрый день, мистер Гроппер. Беллоу. Профессор Беллоу. Мы с вами уже встречались.
— Простите, не припоминаю.
— Ну как же, — изобразил улыбку профессор, — я был вчера у вас в Риверглейде. Очаровательное место. Вы сидели в кресле-качалке. На коленях у вас был шотландский плед. На правом подлокотнике стоял звонок. Вы ещё спросили меня, не дрессированная ли я собака.
Профессор весело потер руки, но глаза его по-прежнему не улыбались.
— За пятьдесят два года жизни мне задавали уйму вопросов, но никто еще никогда не спрашивал меня: не дрессированная ли я собака? Впрочем, настоящий джентльмен никогда не должен удивляться, даже когда его принимают за бульдога.
И этом, собственно, вся разница между бульдогом и джентльменом. Ведь бульдог, если принимать его за джентльмена, будет несколько удивлен.
Очевидно, у каждого человека есть определенный запас эмоций, и когда расход какого-нибудь чувства резко возрастает, на время запас может полностью иссякнуть. Гроппер, мысленно фиксируя чудовищность разговора, нисколько при этом не удивлялся. Он уже не мог бы удивиться, даже если бы профессор Беллоу на его глазах превратился в таракана, стал на задние лапки и принялся отплясывать “твист” или “мэдисон”.
Профессор между тем опустился в кресло, жестом пригласив Гроппера сделать то же.
— Вы должны простить меня, мистер Гроппер, за небольшую мистификацию, но это был единственный способ поговорить с вами. Насколько мне известно, к вам в Риверглейд ежедневно является не менее десятка просителей, которых немедленно отправляют обратно. Кроме того, ваша изгородь такова, что пролезть через нее может только собака, и то лишь целеустремленная. Теперь о деле. Мистер Гроппер, вы когда-нибудь задумывались над тем, что вы такое?
— Смотря с какой точки зрения…
— Я отвечу за вас. Все последние шестьдесят восемь лет, точнее шестьдесят шесть с половиной или шестьдесят шесть, потому что вы начали осознавать себя года в полтора-два, вы были не кем-нибудь, а Фрэнком Джилбертом Гроппером. Дело в том, что ваше “я”, ваша индивидуальность менялась со временем, но никогда не прерывалась. Вы ложились спать, ощущая себя Гроппером, и просыпались Гроппером. Причем заметьте, что неповторимость вашего индивидуального “я”… Простите меня за лекторский тон, но ничего не поделаешь… Так вот ваша неповторимость кроется не в вашем теле, не в сердце, легких, прямой кишке или печени. И даже не в физиологическом устройстве мозга. Все это, так сказать, массовое производство. Ничего по-настоящему индивидуального, как костюм за двадцать долларов в магазине готового платья, нет. Только в том, чем заряжен ваш мозг, что он таит в себе, и кроется ваше “я”. Вы — это удостоверение личности, лежащее в бумажнике. Бумажник, будь он из дешевого пластика за доллар или крокодиловой кожи из магазина Тиффани за сорок долларов, — это только бумажник. Переложите его в чужой карман, и он станет чужим бумажником. И даже удостоверение само по себе тоже не индивидуально, пока на нем не будет написано: “Фрэнк Джилберт Гроппер”.
Теперь я перехожу к сути моего открытия. Каждая из десяти с лишним миллиардов клеток человеческого мозга несет в себе определенный электрический заряд. Распределение этих зарядов, их, так сказать, мозаика и является главным. Это ваша визитная карточка. Это вы, только вы, начиная от вашей привычки вырывать пальцами из подбородка несуществующие волоски и кончая умением выгодно вложить деньги. Только распределение электрических зарядов в клетках мозга определяет весь комплекс знаний, привычек, ассоциаций, памяти, умений, способностей, эмоций человека. Если точно скопировать каким-либо образом вот эту электрическую мозаику вашего мозга, мы получим нечто вроде зашифрованной магнитофонной ленты под названием “мистер Фрэнк Джилберт Гроппер на сегодняшний день”. Но если очистить чей-то другой мозг от его собственной мозаики, как бы электрически разрядить его, и зарядить вашей мозаикой, мы тем самым возьмем новый бланк удостоверения личности и напишем на нем ваше имя.
— Я сохраню ощущение своего “я”, останусь собою, но получу новое тело? — быстро сказал Гроппер, не теряя ощущения сказочности.
— Совершенно точно, — утвердительно кивнул профессор. — Причем такое устройство уже создано мною. Вчера у вас в Риверглейде был не бульдог Джерри. Это был я в его теле. Конечно, собачий мозг значительно меньше по объему человеческого, и мой мозг, моя электрическая мозаика уместилась в нем не полностью. Преподавать кибернетику в Гарварде, стоя на задних лапах, я бы не смог. Но, как вы видели, я вполне справился с орфографией. Помощник отвез меня в машине, и я пролез сквозь изгородь. Сам Джерри в это время, пока у него был разряжен мозг, напоминал однодневного щенка. Он был во власти только безусловных рефлексов, полученных им при рождении.
— И вы уверены, что можете переставить мой мозг, или как вы там это называете, в новое тело?
— Совершенно верно. Ваше старое тело вместе с желудком и всеми метастазами скоро умрет, а вы… Видите ли, мистер Гроппер, своим открытием я делаю наше общество более совершенным, законченным. По моим сведениям, у вас что-то около сорока миллионов долларов. Вы можете купить себе практически все. Любовь красивой женщины, друзей, причем, пока у вас есть деньги, и женщина и друзья будут верны вам. Хотя, насколько я знаю, вы предпочитали не тратиться на такие пустяки. Во всяком случае, вы можете купить лучшую одежду, дома, автомобили, яхты, леса, озера. Поселяясь в разных местах, вы фактически можете даже купить себе лучший климат и погоду. Вы можете купить себе сенаторов и конгрессменов, и, пока у вас есть деньги, они будут верно служить вам. Вы можете нанять лучших косметологов, и они сделают вашу кожу упругой и гладкой. За деньги вам изготовят великолепные парики.
Вы можете купить себе услуги самых лучших врачей, и, пока возможно, они будут поддерживать ваше здоровье самыми лучшими лекарствами. Вы можете купить себе священников, и они обеспечат вам самую чистую совесть и, если угодно, самое лучшее место в раю.
Единственное слабое место нашего общества — это смерть.
Смерть вносит в наше общество элемент социализма, то есть общества, где деньги перестают играть главную роль. Но божество не может быть акционерной компанией с ограниченной ответственностью. Божество или всемогуще, или оно перестает быть божеством. Я хочу сделать доллар настоящим божеством, всемогущим божеством. Я хочу, чтобы богатый человек был бессмертным, чтобы он мог купить себе жизнь там, где бедный обречен на смерть. Прошу прощения, я несколько увлекся, но суть вам ясна. Вы заплатите мне двадцать миллионов долларов и станете бессмертным.
— Двадцать миллионов? Вы шутите, мистер Беллоу.
— Если вы предпочитаете умереть с сорока миллионами, чем жить с двадцатью, боюсь, что нам не о чем разговаривать. Кроме того, на рынке бессмертия спрос, как вы сами отлично знаете, пока превышает предложение. И цены соответственно диктует продавец, а не покупатель. В конце концов, уплатив мне двадцать миллионов долларов, вы впервые по-настоящему почувствуете себе цену. Причем заметьте, я великодушен. Я не требую у вас всех ваших денег, ибо, обретя бессмертие и не имея денег, вы можете прийти к выводу, что игра не стоила свеч. Земное бессмертие в отличие от небесного требует солидной финансовой базы. Какой смысл ускользнуть от смерти, чтобы потом подыхать с голоду в очередях на бирже труда? К тому же шестьдесят восемь лет — а ведь сознание ваше не помолодеет от нового тела — возраст, когда трудно менять привычки, особенно привычки миллионера… Впрочем, мы с вами деловые люди. Не будем притворяться, что меня огорчит ваша смерть, а вас — мое затруднительное финансовое положение. Если бы вы корчились в агонии, я не~ протянул бы вам и кружки воды, и, если бы я пришел к вам за куском хлеба, вы прогнали бы меня. Но я продавец, а вы покупатель, причем в той редкой комбинации, когда вам позарез нужно купить мой товар — бессмертие, а мне — продать его. — Профессор весело улыбнулся. — Но простите, хороший коммивояжер не должен философствовать.
— А откуда я знаю, что все это не жульничество?
— О сэр, все предусмотрено. Мы проделаем небольшой опыт и, если он вам покажется убедительным, обсудим детали. Только учтите, что тело для себя вам придется добывать самому. Пока что у нас, к сожалению, нет законной торговли бедными людьми, хотя это было бы логично. Бедные могут продать свой глаз или скелет после смерти, но целиком себя продать они пока не могут. Что делать, наше общество все еще отягощено предрассудками. Итак, вы согласны на небольшой эксперимент?
— Мне нечего терять, — сказал Гроппер.
Глава 3 ЭТО КТО ТАМ В КРЕСЛЕ, Я!
Лаборатория помещалась в подвале. Когда-то здесь был гараж, и бетонные стенки все еще источали едва уловимый запах бензина. Окон не было, и на секунду Гропперу показалось, что он спускается в склеп, откуда ему никогда не выйти.
Он вздрогнул и огляделся. В углу стоял странного вида аппарат с торчащим спереди колпаком, наподобие фена для сушки волос в дамских парикмахерских. Профессор, склонившись над аппаратом, оживленно говорил:
— Видите ли, мистер Гроппер, как только мне пришла в голову идея этой штуки, я тут же ушел из Гарвардского университета, где я работал в лаборатории бионики. Согласитесь, что такую идею жаль делить с кем-либо. Коллектив хорош, пока не запахнет большими деньгами. Деньги действуют на коллектив, как мощный растворитель: он моментально растворяется и распадается на составные части — столько-то индивидуальных карманов. А я по натуре не благодетель. Меня огорчает зрелище чужих разинутых карманов. Лучше пускай мои коллеги разинут рот, глядя на мои карманы. Кроме того, как я уже сказал, у нас все еще существует уйма моральных, политических и религиозных предрассудков…
Щелкнул тумблер, на зеленоватых экранчиках осциллографов заметались яркие зайчики.
Профессор кивнул на своего помощника.
— Посмотрите внимательно, мистер Гроппер, это мой коллега Кристофер Хант. Осмотрите тщательно его костюм. Отличный ворстед, модный покрой. Мистер Хант одевается только у братьев Брукс. Двести долларов за костюм. Каково, а? Посмотрите на ботинки, носки. Нет, нет, я не рекламирую по совместительству костюмы. Просто через несколько минут вы увидите все эти вещи с другой точки зрения. Итак, Крис, вы согласны одолжить свое тридцатисемилетнее тело, здоровое, весом в сто восемьдесят фунтов, ростом в пять футов десять с половиной дюймов присутствующему здесь одному из крупнейших финансистов нашей страны мистеру Фрэнку Джилберту Гропперу?
— Шеф, вы торжественны, как агент по продаже недвижимости при заключении контракта на девяносто девять лет.
— Согласитесь, Крис, что примерка бессмертия — довольно необычная церемония.
Мозгу Гроппера всегда был присущ ярко аналитический характер. Он пропускал сквозь себя факты, выбирал нужные, нисколько не заботясь об их эмоциональной окраске. Думая, он чувствовал при этом примерно то же, что рыболовная сеть, задерживающая в своих ячейках рыбу. Но сейчас он потерял способность думать. Он весь одеревенел, напрягся, распираемый жаждой жизни. Он уже верил в возможность невозможного, и чем невозможнее, нереальнее казалась цель, тем жарче была его вера.
Перед его мысленным взором хаотически проносился длинный список фирм, в которые были вложены его деньги: “Дженерал дайнемикс”, “Боинг”, “Локхид”, “Алкоа”, “Бетлехем стил”… Он видел главный зал нью-йоркской фондовой биржи, слышал потрескиванье тикеров, из которых выползали ленты с так хорошо знакомыми цифрами…
— Прошу вас, мистер Гроппер, не бойтесь. Сядьте сюда, в это кресло. Так. Вставьте голову в фиксатор. Отлично. Крис уже готов. Внимание! Начинаем.
Гроппер почувствовал, как будто кто-то невидимый начал быстро и ловко стирать резинкой нарисованную его мысленным взором картину.
Биржевой зал тускнел, вернее не тускнел, а по частям растворялся, исчезал. Взмахнув бумажными лентами, испарились тикеры. Стали прозрачными стены. Он ощутил странную легкость полета… Он… кто он?.. Калейдоскоп перед глазами продолжал бледнеть. Осталась одна яркая цепочка. Она порвалась, мигнула в последний раз, и он перестал существовать…
— Как вы себя чувствуете, мистер Гроппер? — послышался голос Беллоу. Профессор с улыбкой откинул фиксатор, и Гроппер, ворочая слегка онемевшей шеей, встал.
— Что-нибудь не получилось? — автоматически спросил финансист.
— Напротив, все в порядке.
Гроппер обернулся. Первым его ощущением было ощущение водителя, пересевшего из старого, полуразбитого, дребезжащего автомобиля в новый мощный лимузин. Каждое нажатие на педаль акселератора немедленно вызывает пугающенепривычный взрыв энергии в двигателе.
Старое, больное тело Гроппера, к которому он так привык, со всей сложной системой болей и физических ограничений, вдруг повернулось легко и свободно.
Гроппер взглянул на свои руки. Это были чужие руки.
Смуглые, с короткими рыжими волосками, с незнакомым золотым перстнем. Ногти были коротко острижены. На мизинце видна была крошечная заусеница. Гроппер надавил на нее ногтем большого пальца другой руки. Стало больно. Ему, Гропперу, стало больно от чужой заусеницы. Он нагнул голову и увидел на себе серый ворстедовый костюм. Знакомый материал. Он только что где-то его видел. Ага, на помощнике профессора, на этом Кристофере, как там его. Серый ворстед.
Как называется такой цвет? Ага, цвет древесного угля.
— Послушайте, профессор, — сказал Гроппер и вздрогнул.
Голос его звучал странно, хотя и не казался незнакомым.
— Где ваш помощник?
Беллоу весело засмеялся:
— Видите ли, о Крисе сейчас нельзя говорить в единственном числе. Частично он находится вот здесь, — профессор похлопал рукой по металлическому сферическому кожуху на аппарате, — сдал, так сказать, свой мозг в камеру хранения, частично же он некоторым образом в вас.
— Во мне? — крикнул Гроппер.
— Вот зеркало, повернитесь.
Из дешевого, в деревянной раме зеркала, в правом верхнем углу которого амальгама отделилась от стекла и застыла тусклыми блестками, на Гроппера смотрел помощник профессора. В отлично сидящем темно-сером костюме. От братьев Брукс, вспомнил Гроппер. Лицо казалось спокойным, лишь зрачки ярко блестели от волнения. Гроппер сделал шаг навстречу зеркалу, и Кристофер тоже шагнул вперед. Нерешительно, осторожно Гроппер поднял руку. Кристофер ответил тем же. Шестидесятивосьмилетний финансист, президент четырех банков, член правления двадцати трех компаний, обладатель сорока миллионов долларов, человек, пожать руку которого считали за честь министры, высунул язык. Язык был ярко-розовый.
Кристофер Хаит, тридцати семи лет, никому не известный помощник никому не известного профессора, в свою очередь, выставил язык знаменитому финансисту. Гроппер показал ему фигу. Хант выставил ему другую. Гроппер сказал:
— Убирайтесь к черту!
Человек в зеркале незамедлительно открыл рот. По всей видимости, он произнес те же самые слова.
Значит, человек в зеркале — это и есть Гроппер? Фрэнк Джилберт Гроппер, обреченный на смерть через каких-нибудь два месяца?..
Со всей силой, на которую он был способен, Гроппер надавил себе на желудок, на то место, которое вот уже несколько месяцев с какой-то торжествующей готовностью незамедлительно отзывалось острой, грызущей болью. Вместо боли он ощутил непроизвольно напрягшиеся мышцы живота. Боли не было.
— Так, значит, это я?! — во весь голос заревел Гроппер. — Значит, это все-таки я?? Это я, я, я? Я, Гроппер? Фрэнк Джилберт Гроппер?!
— Сейчас мы это окончательно установим. Бедняга Крис ни черта не смыслит в ценных бумагах. Не мудрено. Всю свою зарплату он тратит на одежду. Еще бы, платить по двести долларов за костюм! Допустим, у меня есть свободных двадцать-тридцать тысяч долларов. Куда бы мне их вложить?
Гроппер мгновенно пришел в себя и подозрительно покосился на профессора. Одно лишь упоминание о деньгах всегда заставляло его автоматически настораживаться.
— Видите ли, мистер Беллоу, я обычно воздерживаюсь от подобных советов.
— Браво, сэр! После такого ответа можете не сомневаться, что вы — это вы. Глупый Крис, если бы он, конечно, знал, наверняка поделился бы со мной своими секретами. Итак, вы согласны?
Финансист повернулся лицом к профессору. В углу, в кресле, сидел Гроппер. У него закружилась голова. Он шагнул вперед. Человек в кресле, откинувшись на спинку, улыбался.
Из угла рта сочилась слюна. Глаза сияли глубочайшей пустотой. Гроппер никогда не поверил бы, что человеческие глаза могут быть так чудовищно пусты и бессмысленны.
Гроппер протянул руку. Человек в кресле захныкал.
Он хныкал точь-в-точь как грудной ребенок с голосовыми связками старца.
— Это кто там в кресле, я?
— Да, да, — сказал Беллоу. — Это вы. Вернее, ваше тело. Обратите внимание на идиотский взгляд. Прошу прощения за выражение, но это так. Когда мы разряжаем кору больших полушарий мозга, остаются лишь безусловные рефлексы грудного ребенка. Это существо в кресле будет охотно брать грудь, плакать по ночам, ходить под себя и улыбаться кормилице. И то, кстати, не сразу. Если бы он был здоров, через год, возможно, он начал бы проситься на горшок и делать первые шаги. Впрочем, не исключена вероятность, что в вашем возрасте научиться этому труднее…
— Послушайте, профессор, — сказал Гроппер, — я вам верю. Но для чего рисковать еще раз? Быть может, оставим меня в моем нынешнем… так сказать… обличье? Мне нравится ваш помощник, вернее его тело. Я чувствую себя в нем, как в хорошо сшитом костюме. Скажу откровенно, мне не хочется вылезать из него.
— О, я предвидел такой вопрос, — ухмыльнулся профессор. — Но, во-первых, у меня нет чека на двадцать миллионов и ни малейшей уверенности, что я их получу. Во-вторых, вы сами не смогли бы получить и цента, так как в глазах всех бы были бы не Фрэнком Гроппером, а Кристофером Хантом. В-третьих, мне нужен помощник.
— Я понимаю, но поговорим серьезно. Деньги я вам гарантирую. Что же касается вашего помощника, скажите прямо, по сколько вы его оцениваете? Я заплачу.
— Но…
— Все равно мне нужно будет где-нибудь купить тело, а это, — Гроппер показал себе на грудь, — я уже, как вы сказали, примерил.
— Дело не в Ханте, в конце концов за определенную сумму я согласился бы отправить его в рай. Просто я слишком хорошо изучил вашу биографию и почему-то не нашел в ней ни одного примера верности своему слову. Я вам не верю, как, впрочем, и вы мне. Когда я буду иметь деньги…
— А если я… — Гроппер вскочил и бросился на Беллоу, стараясь схватить его за горло.
Профессор ловко отскочил, и в руках у него тускло блеснул похожий на пистолет предмет.
— Я подумал и об этом, мистер Гроппер. Я ведь изучил вашу биографию. Дверь лаборатории заперта, и вы не знаете комбинации замка. Кроме того, у меня в руках гидравлический пистолет-шприц с сильным наркотиком. Если я нажму спуск, через секунду вы потеряете сознание.
— Вы деловой человек, Беллоу.
Впервые за все эти фантастические часы и минуты он почувствовал, что имеет дело с человеком, похожим на него самого. Это успокоило его. В мире без эмоций царит логика, элегантная цепочка нолей, вытянувшаяся от первой цифры до слова “доллар”. За кольца этой цепочки можно держаться, не боясь, что они разорвутся. А у двадцати миллионов семь нолей… Они соединяли его и профессора золотой пуповиной.
Они были родственниками, они могли доверять друг другу…
Пока, во всяком случае…
Только эта мысль дала ему силы снова сесть к аппарату и покорно вытянуть шею, словно он клал голову на плаху.
Через несколько минут Гроппер услышал голос профессора!
— Встаньте, откиньте фиксатор!
Гроппер выпрямился. Облако привычной боли и слабости плыло у него перед глазами. Тупо ныл живот. Липкая испарина клеем смазывала лоб. Дрожали руки. Больной, умирающий старик, проснувшийся после сна, в котором его тело звенело молодостью и силой. Ему не хотелось просыпаться, как не хочется просыпаться и терять сон о жизни осужденному на казнь. Это слишком — помахать перед носом жизнью, ощущением здорового, такого всемогущего тела и снова засунуть умирать в кишащий метастазами истлевший мешок. Он почувствовал, как расплылись очертания лаборатории, и догадался, что у него на глазах слезы. У него не было сил встать.
Он сидел, прижимая привычным жестом руку к животу, и смотрел, как Беллоу, кряхтя от натуги, подтащил к аппарату Ханта и вставил в фиксатор его голову. Пожалуй, первый раз в жизни Гроппер смотрел, как его обкрадывают, и ничего не мог поделать. И как обкрадывают…
— Терпение, сэр! — сказал Хант, вставая. — У вас будет упаковка еще лучше моей. Видите, это абсолютно надежно.
— Теперь дело за вами, — добавил Беллоу. — Ищите тело. С вашими деньгами и в нашей стране, слава богу, это будет не слишком трудным делом. Двадцать миллионов разделите на несколько частей. Положите деньги и акции в сейфы различных банков и привезите ключи. Наличных не надо. Это слишком рискованно. Лучше подпишите чеки на часть суммы. Мне незачем вам говорить, но все это должно быть сохранено в абсолютной тайне. Вот мой номер телефона. Когда все будет готово — дайте знать. Сядете в машину — убедитесь, что никто не следит за вами. А то ваши наследники вряд ли придут в восторг, если узнают о том, что здесь замышляется… До свидания, сэр. Сюда, пожалуйста.
Глава 4 Я НЕ ФИЛАНТРОП
Патрик Кроуфорд включил электрическую бритву. “Ремингтон” сердито зажужжал. Патрик подпер языком левую щеку — он всегда начинал бритье с левой половины лица — и поморщился. Уже давно он так скверно не выглядел: пухлые мешочки под глазами, сетка красных прожилок на белках глаз.
Ну, кто там еще?
В дверях стоял Блез Мередит.
— Сэр, у меня не больше пятнадцати минут. Старик не любит, когда меня не оказывается под рукой. Я сказал, что должен навестить сестру. Придется заехать к ней на секунду.
Старик может проверить, действительно ли я был у нее. Эти дни он страшно подозрителен.
— Ну что у вас там, выкладывайте.
— Ваша штучка, мистер Кроуфорд, что вы мне дали прошлый раз, очень помогла. Мне удалось ее засунуть под сиденье “шевроле”…
— Почему “шевроле”? — спросил, внезапно заинтересовавшись, Кроуфорд. — Старик ведь всегда ездит на своем черном катафалке.
— В том-то и дело, сэр. Он специально поехал не в “роллсе”, чтобы не привлекать внимания. Поехал сам, без шофера.
— Сам, без шофера, в его состоянии? Не может быть.
— Я вам уже сказал, сэр, что я засунул эту штуку под сиденье. Как вы ее называете? Ага, наводчик. Это что, кстати, крошечный передатчик?
— Да.
— Так вот, я обождал минут пять после того, как старик выехал, и двинулся за ним. Эта штука пищала как оглашенная в моем приемнике, и я понял, что “шевроле” не далее мили от меня. Я все время старался не отставать от него, но и не приближаться. Один раз на развилке мне показалось, что он свернул направо. Я тоже свернул, но не проехал и двухсот ярдов, заметил, что писк в приемнике ослабевает. Пришлось вернуться и взять левее. У мотеля Джордана, это на тридцать четвертой дороге, сэр, старик остановился. К нему подошел человек, ждавший его в сером “рэмблере”, и обе машины повернули вправо. Старик остановил машину у небольшого домика типа ранчо. Это милях в двадцати от мотеля Джордана. Пробыл он там часа полтора. Выходя, несколько раз огляделся по сторонам. Я спрятал машину за холмиком и следил за ранчо в бинокль. Можете не сомневаться, он меня не заметил.
— Кто там живет?
— В том-то и дело, сэр, что удалось узнать очень мало. Каких-то два типа. Говорят, ученые. Купили ранчо с полгода назад за двадцать тысяч. Почти не якшаются с местными жителями. Говорят, что работают над каким-то изобретением в области радио.
— Гм, а как выглядел Гроппер, когда вышел от них?
— Я вам уже сказал, что он несколько раз огляделся, прежде чем сесть в машину. Я бы сказал, что он был возбужден.
— Возбужден?
— Как вам объяснить, мистер Кроуфорд? Он как-то двигался энергичнее, чем в последнее время… Может быть, держался прямее, что ли…
— Как он вел себя дома? После того, как вернулся?
— Заперся в кабинете на несколько часов. Никого не звал. Несколько раз звонил по телефону.
— Куда?
— В том-то и дело, сэр, что он звонил сам. Обычно он просит меня соединять его. Правда, потом я позвонил на подстанцию. У меня там знакомая девушка. Похоже, что он звонил в Нью-Йорк и в Сан-Франциско.
— Кому?
— Пока еще не узнал, сэр.
— За те деньги, что я вам плачу, Мередит, вы могли бы снабжать меня более точными сведениями.
Мередит взглянул на собеседника. Краска медленно заливала его лицо.
— Сэр, я бы мог сказать об этом…
— Простите меня, Мередит. Вы же знаете, как я нервничаю. Скажите мне, как по-вашему, что это все значит?
— Я бы сказал так, сэр. Я работаю у мистера Гроппера вот уже восемь лет. Я знаю его лучше, чем себя. Не мудрено, потому что сам себя уволить я не собираюсь, Гроппер же может это сделать в любую минуту. А двести долларов в неделю на улице не валяются. В общем, мистер Кроуфорд, со стариком что-то происходит. С тех пор как стало известно о его болезни, я никогда не видел его таким оживленным.
— Хорошо, Мередит. Благодарю вас. Как только я получу деньги, можете не сомневаться, я выполню наш уговор. Тридцать тысяч будут ваши. Если, конечно, меня не проведут за нос. Но я не филантроп. Кроме меня, у Гроппера нет ни одного наследника, и если старик вздумает выкинуть какую-нибудь штуку… Следите за ним в оба, Мередит. Профессор Клей сказал мне, что нет и одного шанса из тысячи, что старик протянет больше двух месяцев… До свидания, Мередит. Жду ваших звонков.
Патрик Кроуфорд добрил вторую щеку, вставил в рот сигарету и затянулся. Что задумал старик? Что за странная поездка? И это возбуждение? Дядюшка никогда не испытывал к нему особой любви, последний раз они виделись три года тому назад, и старик наотрез отказался одолжить ему каких-нибудь десять тысяч. Скупая скотина! Хорошо, что ему пришло в голову подкупить этого Мередита. По крайней мере он в курсе того, что происходит в Риверглейде. Конечно, Гроппер не из тех людей, что завещают свои деньги на благотворительность, а он, сын его покойной сестры, единственный прямой наследник. Старый болван, правда, несколько раз говорил, что ему следовало бы бросить все и заняться делом…
Сигарета погасла, а Кроуфорду не хотелось вставать, чтобы протянуть руку за зажигалкой. Он с отвращением бросил окурок в угол.
Но что все-таки значит эта поездка? Внезапно в голове у него промелькнула тревожная мысль, и он покрылся холодной испариной. А что, если эти два типа — врачи? Что, если они вылечат Гроппера? Конечно, профессор Клей говорит, что ни операция, ни любое из известных средств не могло бы даже оттянуть смерть. Но кто знает? Может быть, все-таки у этих шарлатанов есть какой-нибудь новый препарат?
Патрик Кроуфорд вскочил и принялся шагать по комнате.
Как он сразу не понял? У этих двух с ранчо нет патента, отсюда вся секретность. Они не врачи, они ученые. Открыли какой-нибудь чудодейственный препарат и решили отхватить основательный куш. Без проверки, без официального разрешения. А чем они рискуют? Кто знает, что они лечили его?
А если поможет? Черт возьми, он уже полгода живет в долг, рассчитывая на наследство. Нет, нет, рисковать нельзя. Сорок миллионов долларов не та сумма, которой можно рисковать.
Наверняка Гроппер снова поедет туда.
Куда девалась эта чертова зажигалка? Кроуфорд взял сигарету, нашарил спички и вдохнул пахнущий ментолом дым.
Кажется, становится ясным, что нужно сделать.
Глава 5 МОЖЕТ БЫТЬ, ВОЗЬМЕТЕ ВСЕХ ШЕСТЕРЫХ!
Фрэнк Гроппер задремал только под утро. Ночь была бесконечной. Боль в животе терзала, пилила, строгала, долбила.
Она отступала на несколько минут, чтобы отдохнуть и снова наброситься на него. Моментами боль представлялась Гропперу живым существом, почему-то остро ненавидящим его и сладострастно, изощренно пытавшим его тело.
Когда он открыл глаза, во рту был кислый металлический вкус желчи и крови. Если бы не сознание, что осталась лишь одна ночь, он бы нашел способ расправиться с притаившимся в кишках палачом. Он бы надул его, обвел вокруг пальца, как не раз делал с людьми. В кабинете, в нижнем правом ящике письменного стола лежит маленький пистолет со звучным и элегантным названием “беретта”. Выстрел из “беретты” приносит, должно быть, смерть легкую и элегантную, как сам пистолет. Пуля из “смит-вессона” делает свое дело солидно и основательно. “Кольт” дает смерть деловитую и профессиональную. Судорожный вздох, два — три непроизвольных сокращения мускулов, и все. Укус пули из дамского браунинга вызывает смерть коварную и мучительную…
Гроппер встряхнул головой, отгоняя мысли о смерти. Почему он должен думать о смерти в канун своего воскрешения?
Финансист позвонил и начал торопливо одеваться. Предстояла поездка в Нью-Йорк, а сил было мало. Но ничего, на сутки энергии ему хватит. Он не будет беречь ее. Он выложится весь, как боксер в двенадцатираундовом бою. Тем более что предстояла победа над небывалым противником — судьбой, а приз… Такой приз никогда еще не манил ни одного спортсмена.
Он стоял перед зеркалом и завязывал галстук. Худые морщинистые пальцы казались непомерно большими, а лицо с ввалившимися глазами — непривычно маленькими. Бог с ними, какое ему дело до его лица и рук, до всего его высохшего, больного тела? Он не испытывал ни малейшей жалости к нему, подобно тому как никогда не жалел поношенные костюмы и старые шлепанцы.
Гроппер вообще никогда не привязывался ни к вещам, ни к людям. Привязанность лишила бы его какой-то доли свободы, захватила бы частицу его мозга. Он жил в мире без чувств и эмоций, в холодно мерцавшем мире денег. Они были для него всем, и он испытывал к ним сложное чувство, в котором были и нежность, и привязанность, и верность, и любовь.
Он еще раз взглянул на свое изображение в зеркале, вспомнил, как глядел в другое зеркало глазами Ханта, пожал плечами и спустился вниз по лестнице.
— Мистер Гроппер? — Джек Спарк встал, опираясь на край огромного письменного стола костяшками пальцев. — Сенатор Харкнес горячо рекомендовал мне вас и просил сделать вам маленькое одолжение. Садитесь, сэр.
Гроппер осторожно опустился в глубокое кожаное кресло.
И стол, и кресло, и весь кабинет — все источало уверенность солидного бизнесмена в себе, все пахло респектабельностью.
Казалось, что кабинет и его обстановка ненавязчиво, но громко шептали: “Посмотрите, как хорошо идут дела у моего хозяина. Вот за меня, за английский ковер на полу, уплачено наверняка не меньше пятисот долларов, а за меня, за бронзовую антикварную лампу, — раза в три больше”.
Но внушительнее всего выглядел сам владелец кабинета.
Высокий, грузный и широкоплечий, с жесткими чертами лица без возраста и тусклым серебром в коротко подстриженных волосах, он стоял у письменного стола уверенно и твердо.
Так стоят у столов только президенты крупных корпораций.
Гангстер подвинул Гропперу коробку с толстыми длинными сигарами в металлических футлярчиках.
— Итак, мистер Гроппер, вы просили подыскать молодого здорового человека, от тридцати до сорока лет, приятной внешности, безусловно не негра, не мексиканца, не итальянца, не еврея. Неженатого, не имеющего родственников, бедного. Этот человек должен быть доставлен вам и передан завтра в девять часов вечера в условленном месте связанным, с кляпом во рту — упаковка менее элегантная, чем у французских духов, но куда более надежная.
— Совершенно верно, — кивнул Гроппер. Сердце его сжалось, и он почувствовал в груди сосущую пустоту.
— Вы понимаете, мистер Гроппер, ваша просьба была нелегкой. Куда проще было бы организовать автомобильную катастрофу с участием любого указанного вами лица. Но сенатор Харкнес очень просил меня оказать вам любезное содействие, и вот…
Спарк открыл ящик письменного стола и ловким движением профессионального шулера безукоризненным веером рассыпал на столе с полдюжины фотокарточек обратной стороной кверху.
— Это ваш выбор. Присмотритесь внимательно и выберите.
— И вы можете доставить мне любого из них? — тихо спросил Гроппер.
— Так же верно, как то, что в момент передачи вы вручите моему человеку чек на семьдесят пять тысяч долларов. Смотрите, выбирайте. У нас, слава богу, свободная страна, и каждый имеет право выбирать то, что ему нравится, или, чтобы быть точным, то, что ему по карману.
Джек Спарк беззвучно засмеялся.
— Вы понимаете, мистер Гроппер, обычно мы не занимаемся подобного рода вещами, так сказать, розничной торговлей. Мы — слишком большая организация для выполнения индивидуальных заказов. Но я рад услужить вам, сэр. Не знаю уж, зачем вам эти мальчики, это не мое дело, хотя мы свято храним профессиональную тайну, куда надежнее врачей и священников. Но послушайте, мистер Гроппер, может быть, вы возьмете всех шестерых? За одного — семьдесят пять тысяч, за шесть — скидка. Всего триста тысяч. Негры или, скажем, пуэрториканцы стоили бы дешевле, но вы просили англосакса.
— Благодарю вас, мистер Спарк, — криво усмехнулся Гроппер, — надеюсь, что в ближайшие лет тридцать больше одного мне не потребуется. А это сравнительно скоропортящийся товар.
Гроппер впился взглядом в карточки. Они лежали перед ним глянцевым веером, белые прямоугольнички в лотерее судьбы. Вряд ли кому-нибудь приходилось делать такой выбор. Люди могут выбирать жену, президента, автомобиль, профессию, но собственное тело… С ним не разведешься, его но переизберешь, не сменяешь на новую модель, не переменишь.
По классификации экономистов можно сказать, что это товар длительного пользования. Но сколь длительного? В конце концов все в руках судьбы. Быть может, в каком-нибудь из этих молодых здоровых тел уже слегка нарушился механизм воспроизводства клеток и где-то в глубине, незримо и медленно, зреет опухоль?
Он закрыл глаза и трепетно наугад вытащил карточку, как тянут карту из колоды при крупной игре. На него смотрели веселые, чуть лукавые глаза. Волосы над открытым лбом были разделены косым пробором. Чуть тронутые улыбкой губы.
Твердый подбородок. “Что ж, — подумал Гроппер, — такой должен нравиться женщинам. Не знаю, не знаю. Наивное лицо. Глупец, наверное. Впрочем, какое мне дело до того, кто он и что он из себя представляет. В конце концов это просто товар, за который я плачу деньги. Пройдут годы, и его лицо станет таким же известным стране, как лицо Фрэнка Гроппера”.
— Ну вот и отлично, мистер Гроппер. Сейчас посмотрим, кто это. Ага, некто Джеймс Брайтон Блэквуд. Тридцать один год, баптист, без малого шесть футов. Автомеханик. Из Омахи, штат Небраска. Уехал в отпуск. Холост.
“Ну что ж, — подумал Гроппер, — надо привыкать к этому имени. Блэквуд. Джеймс Блэквуд, а можно придумать себе и другое. Придумывают же имена для купленных яхт”.
— А вы уверены, что он здоров?
— До сих пор, похищая кого-нибудь, мы не требовали врачебного удостоверения о здоровье. Но, судя по тому, как он брыкался, парень здоров как бык.
— Благодарю вас, мистер Спарк, вы даже не представляете, что вы сделали для меня.
— Господи, да, право же, не о чем говорить, сэр, такие пустяки.
— Значит, завтра в девять часов вечера в условленном месте. Я приготовлю чек.
— Благодарю вас, сэр.
Черный “роллс-ройс” плавно катил по дороге. Мощные и вместе с тем мягкие амортизаторы впитывали в себя все неровности шоссе, и казалось, что машина плывет по густому вязкому маслу.
Яркие пучки света от фар скользили по асфальту, время от времени выхватывая из темноты яркие рекламные щиты и дорожные указатели.
Влез Мередит, сидя за рулем, размышлял, куда и зачем они едут и что за странный пластмассовый ларец, обернутый в несколько слоев прозрачного полиэтилена, покоится на коленях у Гроппера. Мысленно он обдумывал, что скажет завтра этой свинье Патрику Кроуфорду.
Старый Джейкоб, сидя на заднем сиденье, не думал ни о чем. Он просто дремал, положив на колени усталые руки с узловатыми от артрита пальцами.
Фрэнк Джилберт Гроппер думал о том, что сорок миллионов долларов — не сорок долларов и распорядиться ими за несколько дней так, чтобы не вызвать подозрений, было чудовищно трудным делом. На шее, чуть холодя сухую костлявую грудь, висела связка ключей от сейфов в тринадцати различных банках страны. Он один знал, к какому сейфу в каком банке подходит каждый ключ. Эта информация была намертво спрятана в его мозгу, без нее ключи не стоили и пяти центов. Кроме того, его цепкая профессиональная память хранила комбинации замков еще шести сейфов.
— Замедлите ход и у столба с табличкой “42 мили” сверните налево, Мередит, — сказал Гроппер.
Еще десять минут езды по неровному полю, и он приказал остановиться.
— Джейкоб, Мередит, — тихо сказал он, — достаньте из багажника лопаты, я сам положил их туда, вот фонарь. Выкопайте вот у этого тополя яму. Дерн снимите осторожно. Землю выбрасывайте на брезент.
Лопаты глухо ударили в податливый грунт. Работали молча. Мередиту вдруг почудилось, что они копают могилу.
Он искоса бросил взгляд на ларец в руках у Гроппера и криво усмехнулся. Для гроба маловат. Что, что там? Почему они копают яму вдали от дороги? Для чего? Если старик хочет закопать что-то ценное… Надо запомнить место. Он поднял голову. Машина стояла на опушке леса. Деревья неровным зазубренным частоколом чернели на темном небе. Если стоять спиной к дороге, это будет, пожалуй, единственный тополь, отбившийся от своих сородичей…
Когда яма была готова, Гроппер сам опустил в нее ящик.
— Здесь миллион долларов, — сказал он, криво усмехаясь, — надеюсь, что вы его не выкопаете без меня. Очень надеюсь…
Мередит и Джейкоб молча закидывали яму. Так же молча все уселись в машину. Мотор мягко заворчал.
Они отъехали, должно быть, миль двадцать, когда Гроппер вдруг тронул Мередита за плечо.
— Стойте!
“Роллс-ройс”, качнувшись, остановился.
— Что это там, на шоссе? — спросил Гроппер.
— Ничего не вижу, дорога пуста, — ответил Мередит, подумав, что старик начинает галлюцинировать. Из головы у него не выходил пластмассовый ящик. Миллион долларов!
Почему он сказал об этом вслух? И таким странным голосом?
Ну конечно же, он сошел с ума! Мередит сжал зубы, чтобы не рассмеяться. Миллион долларов. Час, чтобы добраться до Риверглейда, еще полчаса, пока Гроппер уснет, час на обратную дорогу. Два с половиной часа — и он миллионер!
Он, Блез Мередит, миллионер! С каким удовольствием он пошлет их всех к черту, особенно этого Кроуфорда! Миллион долларов! Джейкоб, конечно, ничего не понял. Вряд ли он сообразит, что нужно сделать. Нет, на этот раз он финиширует первым. Хватит стоять на обочине и следить за гонками.
Он, он придет первым.
— Послушайте, Мередит, Джейкоб! Пойдите и посмотрите, что это там на шоссе! Я же ясно вижу, там что-то лежит, вон ярдах в двадцати от машины.
Блез Мередит и старый Джейкоб вылезли из машины и осторожно пошли вперед в ярком свете фар. Темнота стояла по обе стороны, как стенки коридора. Их тени плоскими великанами качались перед ними на сером асфальте. Дорога была пуста. Мередит пожал Плечами.
Внезапно они услышали рев мотора и инстинктивно обернулись. В этот момент тяжелый бампер “роллс-ройса” ударил их обоих. Падая, Мередит в какую-то ничтожную долю секунды успел увидеть женщину с откинутыми назад руками на серебряном радиаторе с буквами “RR”. “Куда она…” — мелькнуло у него в голове, и больше он уже никогда ни о чем не думал.
А женщина на серебряном радиаторе “роллса” молча стремилась вперед, и Фрэнк Джилберт Гроппер, вытирая платком лоб, позволил себе то, что не позволял уже несколько лет: закурил сигарету и глубоко затянулся. Две человеческие кегли, сбитые им только что с такой легкостью, предвещали выигрыш всей партии. Могли ли эти двое, простой садовник и простой секретарь, даже мечтать о такой аристократической смерти — погибнуть под колесами самой дорогой в мире машины, за рулем которой сидел миллионер… Гроппер усмехнулся и прибавил скорость.
Физически, своими руками, он убил первый раз в жизни.
Но в своем оффисе при помощи телефона он проделывал это не раз и теперь чувствовал себя как после дня работы — тело тихо гудело приятной усталостью.
Глава 6 МИСТЕР ГРОППЕР, ГДЕ ВЫ!
Фрэнк Гроппер был терпеливым человеком. Он умел ждать. Уметь ждать, напружинившись для точно рассчитанного прыжка, — главное качество хищника. Ждет в зарослях тигр, следя желтыми ромбовидными зрачками за приближающейся косулей; ждет, раздувая шею, королевская кобра, уставясь немигающими глазами на жертву; ждет финансист, вглядываясь в ползущую из телетайпа ленту с последними биржевыми курсами.
Фрэнк Гроппер умел ждать. Всю свою жизнь он ждал, пока кто-нибудь, зазевавшись, не сделает неосторожного шага.
И тогда звонили телефоны, судорожно щелкали телетайпы, брокеры сбивались с ног. В мире семизначных цифр разыгрывалась древняя драма охотника и добычи, хищника и жертвы.
Правда, здесь не лилась кровь и не слышен был хруст костей.
Но законы были те же, что и законы джунглей. И когда Фрэнк Гроппер брался за телефонную трубку, чтобы сказать конкуренту: “Вы кончены”, в его глазах сострадания было не больше, чем в глазах кобры. И когда он, урча, высасывал из жертвы последние доллары, он испытывал такие же угрызения совести, какие испытывает тигр после обеда косулей.
Но теперь, пожалуй, впервые за много лет, он не мог ждать. До девяти оставалось еще пять минут, но он чувствовал, как от невыносимого напряжения вот-вот, трепыхнувшись в последний раз, остановится сердце. Серая желеобразная масса, называемая мозгом, перестанет снабжаться кислородом, и одна за другой миллионы и миллиарды мельчайших клеток — нейронов — начнут задыхаться. Через пять минут нечто бесконечно драгоценное для него, называемое Фрэнком Джилбертом Гроппером, перестанет существовать.
Сидя в машине, он чувствовал, как страх, подобно гигантскому вакуумному насосу, откачивает воздух из его груди и мягко и тошнотворно сжимает сердце.
Внезапно скрипнули тормоза, протестующе взвизгнули шины, и рядом остановился желтый “бьюик”. Распахнулась дверца, два человека быстро вытащили связанное тело и молча положили его на заднее сиденье “роллса”. На мгновение Гроппер увидел знакомое лицо с волосами на косой пробор, мужественный подбородок. Глаза, широко открытые от боли и отчаяния, взглянули на финансиста с немым криком. Сильные руки напряглись в еще одной попытке освободиться, но веревки были крепки.
Гроппер молча протянул чек.
— Благодарю вас, сэр, — сказал один из двух. — Если хотите, я могу его легонько стукнуть, на полчасика он успокоится.
— Нет, нет, что вы, — испугался Гроппер. — Он здоров?
— Как лошадь, — усмехнулся гангстер. — Два раза пришлось поправлять веревки. До свиданья, сэр.
Желтый “бьюик” выбросил из-под задних колес облачко мелкой гальки и умчался с ревом.
Гроппер отер со лба пот, еще раз взглянул на искаженное болью лицо — почти уже его лицо — и нажал на стартер.
Единственное, чего он теперь боялся, — это автомобильной катастрофы. Он никогда раньше не думал о проносящихся мимо машинах, но сейчас каждая пара немигающих фар, отраженная в зеркальце “роллса”, наполняла его ужасом.
А вдруг какой-нибудь кретин зазевается на мгновение и врежется в него… Ему представилось, как трещит металл и сжимает его, его тело, лежащее там, на сиденье.
Когда “ролле” подъехал к ранчо, у него не было сил выйти из машины…
* * *
— Сколько, вы говорите, весит этот Блэквуд? — спросил профессор Беллоу, с трудом втаскивая вместе с помощником связанное тело в лабораторию. — Чертовски тяжелый парень. Поздравляю, мистер Гроппер, вы, кажется, нашли себе отличное тело. Оно, правда, судя по веревкам и кляпу, особенного энтузиазма от знакомства с вами не испытывает, но ничего, еще пять минут, и можно будет его, простите, вас, развязать. Кстати, мистер Гроппер, вы посмотрели, на улице никого нет? Никто не следил за вами?
Гроппер пожал плечами: — Совсем темно. По-моему, никого нет.
— Ну и отлично. Прошу вас, сэр. Сейчас я закреплю фиксатор, держите голову ровно. Не волнуйтесь, это же не гильотина, а в некотором смысле как раз наоборот — родильный дом.
Снова, как в прошлый раз, Гроппер почувствовал, как кто-то быстрыми незаметными взмахами резинки стирает его сознание. Так погружаются в сон. Он видел перед собой лицо с кляпом во рту. Еще несколько минут, и это лицо станет его лицом. Но почему оно бледнеет, становится расплывчатым и прозрачным? Лицо, лицо, лицо, почему кляп? Почему лицо? Чье это лицо?.. Почему оно исчезает совсе…
Наверху, над лабораторией, послышался треск взламываемой двери. Профессор и Хант вздрогнули и в ужасе уставились на вход в подвал.
— Немедленно откройте! — послышался крик. — Все равно вам не уйти отсюда!
— Быстрее, — сказал Беллоу, — дверь дубовая, она выдержит. Давайте этого парня. Нужно успеть. Это двадцать миллионов долларов.
В дверь стучали чем-то тяжелым. Она трещала, но не поддавалась. Старые дубовые двери не любят, когда их ломают.
Бульдог Джерри, упершись передними лапами в стул, оглушительно лаял.
Хант напрягся и с трудом поднял связанное тело. Послышался сухой дробный треск, и на дубовой панели, словно пробуравленные невидимым сверлом, одна за другой появились дырочки. Хант почувствовал легкий толчок, и ему показалось, что тело в его руках стало тяжелее.
— Бросьте его! — крикнул профессор. — Разве вы но видите? По щеке связанного человека текла струйка крови. Похоже было, что кто-то начал закрашивать его лицо красной акварелью.
— Бросьте вы этого парня, он же мертв! — Беллоу, нагнувшись, кинулся к Гропперу, вытащил его голову из фиксатора и швырнул финансиста на пол. Потом начал лихорадочно обшаривать его. Вот один чек, еще один, третий. Проклятье, старая хитрая лиса не подписала их! До последней секунды боялся, что его надуют. Под его руками на шее Гроппера звякнула связка ключей. Беллоу сорвал их и сунул в карман.
Дверь чем-то таранили. Должно быть, столом из холла.
Дубовая панель трещала. С потолка мелкой белой порошей сыпалась штукатурка.
— Профессор, мы можем уйти отсюда через гараж, — прошептал Хант, — пойдемте.
Беллоу пристально посмотрел на него.
— Двадцать миллионов долларов, — тихо сказал он.
Хант чуть заметно улыбнулся.
— Нет, шеф, лучше не думайте об этом. Я вешу на пятьдесят фунтов больше вас, я сильнее вас и, кроме того… — Он вынул из кармана пистолет-шприц. — У меня, дорогой шеф, пока нет ни малейшего желания превращаться в Гроппера, если это даже и даст вам двадцать миллионов долларов. Может быть, наоборот, вы изъявите желание…
Он медленно поднял шприц.
— Не делайте глупостей, — сухо сказал Беллоу. — Даже если вам удастся превратить меня в Гроппера, вы один не сможете вынести меня отсюда. Наркотик действует минимум в течение часа. Столько дверь не выдержит. Глядите.
Дверь уже заметно прогибалась под гулкими тяжелыми ударами.
— Кроме того, Крис, вам бы никогда не удалось восстановить машину без меня. Кстати, через сколько срабатывает взрывное устройство под аппаратом после включения рубильника?
— Через тридцать секунд. Они найдут здесь только груду металлического мусора. Пойдемте, профессор.
Внезапно он посмотрел на Джерри. Бульдог отчаянно лаял.
Он то делал несколько коротких шажков по направлению к двери, то отскакивал назад.
— Джерри! — крикнул Хант и схватил бульдога.
— Быстрее, — прошептал Беллоу. — Христа ради, быстрее!
Вдвоем они засунули голову извивающейся собаки в фиксатор. Беллоу щелкнул тумблером. Вспыхнула индикаторная лампочка. Одна из петель двери сорвалась, и верхняя половина уже начала отходить от рамы. Удары посыпались с удвоенной силой.
— Все! — крикнул Хант и схватил бульдога под мышку.
Трясущимися руками он отпер дверь, ведущую в подвал, протолкнул в нее Беллоу и нажал рубильник. Теперь запереть дверь. Так. За стеной грохнул взрыв, и тут же послышались крики.
— Держите собаку крепче, она стоит двадцать миллионов долларов! — задыхаясь, крикнул Беллоу, и они выбрались во двор. “Рэмблер” стоял ярдах в ста. Они побежали. Бульдог укусил Ханта за палец, и он выругался.
Сзади, из темноты, слышался топот и хриплое дыхание.
Тонко, по-комариному, пропела пуля. Хант споткнулся и упал.
Бульдог выскользнул из его рук и растворился в темноте.
— Быстрее, Крис, мы его найдем потом! — крикнул Беллоу и рванул дверцу машины. — Садитесь за руль вы.
“Рэмблер” рванулся вперед. Только бы выскочить на дорогу.
Крис включил третью скорость и всей тяжестью ноги вдавил в пол акселератор. “Рэмблер” подпрыгнул, что-то негодующе застучало в моторе, и стрелка спидометра дернулась вверх. Сорок, пятьдесят, восемьдесят пять миль в час.
— Можно еще? — спросил Беллоу.
— Это все, на что он способен.
Сзади заколебался неровный свет, призрачно осветил дорогу по сторонам. Беллоу обернулся. Два ярких глаза, не мигая, глядели им в спину.
— Нажмите еще, Крис. Они нас нагоняют.
— Не могу, это все.
“Рэмблер” ревел на предельной скорости. Легкая машина, казалось, вот-вот оторвется от земли и подымется вверх, но позади уже слышалось завывание мощного мотора.
— Держитесь крепче, профессор. Упритесь руками в панель.
— Что вы хотите делать, Крис? Ради бога…
Хант изо всех сил надавил на тормоз. Шины, оставляя каучуковый след на шоссе, негодующе взвыли. Машина сзади тоже тормозила. Но было уже поздно. Раздался треск, и фары погасли.
Крис включил первую скорость и дал газ. На мгновенье им показалось, что машины намертво сцепились между собой, но послышался пронзительный скрежет металла, “рэмблер” дернулся, освободился и рванулся вперед.
— Старый трюк, но они не ожидали его от нас. Теперь они постоят на шоссе, — усмехнулся Крис. — У них разбиты фары и разорван радиатор. Проедем вперед, вернемся по параллельной дороге и найдем этого чертова бульдога.
— Гроппера, вы хотите сказать? Вы отдаете себе отчет, Крис, что во всех Соединенных Штатах Америки один этот бульдог знает, к каким сейфам в каких банках подходят ключи, которые я снял у старика с шеи?
Всю ночь, пока не забрезжил призрачный серый рассвет, они осторожно бродили по окрестностям ранчо. Близко к дому подойти они не осмелились: в окнах горел свет, и оттуда доносились голоса. Вскоре голоса стихли, но появились две полицейские машины с вращающимися на крыше прожекторами.
— Как по-вашему, профессор, кто это был там?
— Не знаю, думаю, что кто-то шпионил за нами. Во всяком случае, потом они тоже удрали и прислали полицию.
Они продолжали бродить по окрестным полям, спотыкались в темноте, падали и все время тихо звали:
— Гроппер, мистер Гроппер, где вы?
— Не слишком ли изысканное обращение для бульдога? — криво усмехнувшись, спросил Хант.
— Перед собакой, которая стоит больше, чем бюджет иной страны, я готов сам встать на четвереньки, — ответил Беллоу. — К тому же за последние сорок лет, проведенные на бирже, Гроппер как-то не привык отзываться на свист и команду “сюда!”. Я даже склонен полагать, что он не сразу освоится со своим новым положением.
Один раз им подумалось, что они нашли его. В темноте мелькнули две зеленоватые точки. Они бросились вперед, но это была кошка. С сердитым фырканьем она шмыгнула в сторону.
Бульдога они не нашли. И когда стало рассветать, они решили уйти, опасаясь, что их заметят.
Беллоу то и дело оглядывался назад, надеясь на чудо.
Но Фрэнка Джилберта Гроппера, президента четырех банков, члена правления двадцати трех компаний, обладателя сорока миллионов долларов, не было. В это время он спал в канаве, положив тяжелую голову на вытянутые лапы…
Глава 7 ВООБЩЕ-ТО ЭТО ДЯДЯ
После двух — трех стаканов сухого мартини Патрик Кроуфорд обычно становился необычайно добрым, но только по отношению к самому себе. Все в себе казалось ему необыкновенным: черты лица — мужественными и значительными, ум — глубоким и проницательным, характер — несгибаемым, литературные способности — выдающимися.
Если в такие минуты под рукой находилась какая-нибудь поверхность, достаточно гладкая, чтобы выполнять роль зеркала, будь то оконное стекло или очки собеседника, Кроуфорд погружался в благоговейное созерцание своего отражения, из которого его могли вывести лишь чрезвычайные обстоятельства, например, необходимость протянуть руку еще за одним стаканом.
Не мудрено поэтому, что телефон трезвонил по меньшей мере минут пять, прежде чем он оторвал взгляд от хромированной поверхности кофейника, в котором, пусть вытянутое и сплюснутое, но все равно невыразимо прекрасное, отражалось его лицо.
Нетвердыми шагами он подошел к телефону и взял трубку.
Торопливый голос сказал:
— Мистер Кроуфорд? Это. Джо Джеффи. Старик прибыл на ранчо в половине двенадцатого. В машине у него был кто-то связанный. Когда мы вломились, оба врача удрали, и нам не удалось их догнать, только покалечили машину.
— Гроппер? Где Гроппер? — крикнул в трубку Кроуфорд, внезапно трезвея.
— Старик здесь. Спятил он, что ли, слова от него не добьешься. Связанный парень мертв. Мы позвонили в полицию и сейчас сматываем удочки. Не забудьте чек. Мы свое дело сделали. До завтра.
Патрик Кроуфорд медленно положил трубку. Если бы эти два шарлатана лечили старика успешно, они бы не удрали, как крысы. И этот связанный парень…
Он, он единственный наследник сорока миллионов долларов, самый богатый писатель Соединенных Штатов Америки!
Он им теперь покажет!
Кроуфорд поднял глаза к потолку. Слова полузабытой молитвы сами пришли откуда-то из глубины детских воспоминаний: “Патер ностер куй эст…” Он уже давно перестал быть верующим католиком, но стремление кого-то поблагодарить за близкую смерть близкого человека заставило вспомнить о боге. Господь добр, он ниспосылает свою благодать на чистых сердцем, если даже в слепоте своей они бредут по болоту безверия. Кроуфорд опустился на колени и помолился за сорок миллионов.
Ему хотелось броситься в машину и помчаться туда, на ранчо, чтобы самому взглянуть на Гроппера, но здравый смысл взял верх. Полиции могло бы показаться странным, что он знает, где именно сейчас находится его дядя.
Спать в эту ночь Кроуфорд не мог. Не помогли и две таблетки люминала. Постель казалась жесткой, а подушка горячей до такой степени, что жгла голову. Он вертелся до тех пор, пока процесс погружения в сон не начал казаться ему странным, фантастическим, едва ли вообще когда-нибудь осуществимым.
Он налил себе в стакан джина, плеснул вермута и уселся в кресло.
Утром позвонили из Риверглейда, и кто-то, назвавшийся лейтенантом Мак-Грири, попросил его немедленно приехать.
Когда Кроуфорд въезжал в Риверглейд, он увидел два полицейских “шевроле”. У ворот стоял полицейский.
— Вам что, приятель? — лениво спросил он.
— Я… меня вызвал сюда по телефону лейтенант. Меня зовут Патрик Кроуфорд.
— А-а, — протянул полицейский, и Кроуфорду показалось, что он вытянулся перед ним. — Идите вон туда.
— Спасибо, я знаю. Ведь это дом моего дяди.
Патрик Кроуфорд окинул взглядом трехэтажный, в колониальном стиле дом. Вот она, эта минута! Он входит в Риверглейд не для того, чтобы клянчить у этого старого скупердяя подачку. Он входит сюда хозяином, почти хозяином.
Он с трудом удержался от торжествующего смеха, усилием воли превратив его в гримасу скорби.
Лейтенант Мак-Грири встретил его у входа. Он был вежлив, предупредителен и почтителен. Сиянье гропперовских миллионов трепетало в воздухе.
— Вы ведь единственный наследник и самый близкий родственник, мистер Кроуфорд? — сказал лейтенант, пропуская его вперед. — Прошу вас взять себя в руки. Мне хотелось бы предупредить вас, что ваш дядюшка, гм… как бы это выразить… не совсем… собран, что ли… Впрочем, вы сейчас его увидите. Я узнал ваш телефон у старой Кэлси, у кухарки. Больше в доме никого нет.
— А секретарь? Влез Мередит? И садовник Джейкоб?
— Мисс Кэлси утверждает, что оба они уехали позавчера вечером вместе с Гроппером и с тех пор не возвращались. Гроппер вернулся один. Я склонен думать, что они и не вернутся.
— Почему?
— Потому, что сегодня утром их нашли мертвыми на шоссе в двадцати милях от Хиллсайда. Похоже, они были сбиты какой-то машиной.
— Сбиты ночью, на шоссе? Что они там делали?
— Боюсь, мистер Кроуфорд, что “почему” у нас пока что гораздо больше, чем “потому что”. Еще раз прошу вас взять себя в руки, вот ваш дядюшка, мистер Гроппер.
Лейтенант Мак-Грири открыл дверь, и Кроуфорд увидел Гроппера. Старик сидел в кресле и жалобно плакал, неловко, странными неуверенными движениями тер себе лицо, глаза.
Плач был жутким. Финансист ревел надтреснутым старческим фальцетом, захлебываясь и заходясь, как грудной младенец. Под носом обладателя сорока миллионов долларов то и дело вздувались и беззвучно лопались пузыри. Внезапно Гроппер без видимой причины успокоился и принялся, причмокивая, сосать палец. На светлом ковре у его ног расплывалась темная лужица. Резко запахло мочой.
— Дядюшка, — тихо позвал Кроуфорд. Финансист снова заревел. Крупные детские слезы катились по седой щетине щек.
— Мистер Гроппер, что с вами? — еще раз позвал его Кроуфорд, но Гроппер начал быстро сучить ногами и руками.
Правая крахмальная манжета его рубашки отстегнулась и торчала из рукава серого костюма. Внезапно крик снова затих, старик засунул в рот большой палец правой руки и заснул. Из уголка рта медленно сочилась слюна.
— Мистер Кроуфорд, — сказал лейтенант Мак-Грири, — я должен спросить вас официально, узнаете ли вы мистера Фрэнка Джилберта Гроппера, шестидесяти восьми лет, постоянно живущего в Риверглейде?
— Боже мой, конечно, нет, — ответил Кроуфорд. — То есть вообще-то это дядя, но… в таком состоянии… Он помешался?
— Это установит врач, который будет здесь через полчаса, мистер Кроуфорд. Но я вам должен сказать, что это вполне возможно.
— Почему?
— Как раз на это “почему” я могу вам ответить. Его нашли около полуночи в пустынном ранчо милях в шестидесяти отсюда. Кроме него, в комнате обнаружен труп связанного человека лет тридцати. Похоже, что стреляли через дверь, потому что она была выломана и в ней насчитали с два десятка пулевых пробоин. В комнате нашли также обломки какого-то электрического аппарата непонятного назначения. Когда, мы вошли в ранчо, мистер Гроппер мирно спал на полу.
— Спал?
— Да, он был, по всей видимости, в таком же состоянии, что и сейчас. Как себя чувствовал ваш дядюшка в последнее время?
— Я знаю, что он был тяжело болен, у него рак желудка. Но он все время занимался делами, причем вполне успешно, насколько я знаю. Обождите, я сейчас позвоню в его главную контору в Нью-Йорк. Меня там знают. Может быть, мы выясним что-нибудь.
— Позже, мистер Кроуфорд, а сейчас пойдемте, мне нужно с вами поговорить, — сказал лейтенант, открывая дверь.
Глава 8 ФИНАНСИСТ СТАНОВИТСЯ НА ЧЕТВЕРЕНЬКИ
Сон Фрэнка Гроппера был неглубок. Одно сновидение вплеталось в другое. Ему снился огромный, с небоскреб телетайп, установленный под открытым небом, в поле. Из аппарата ползла гигантская змея, чешуйчатые узоры которой складывались в цифры. Вдруг змея изгибалась и становилась диаграммой биржевого курса, еще изгиб — и ее тело спиралью укладывалось в раму с надписью “индексы Доу-Джонса”. Змея разевала рот и, облизываясь раздвоенным длинным языком, скрипуче говорила: “Вот вы и прозевали, мистер Гроппер, нужно было продавать стальные, а вы купили!” Стало холодно. Гроппер протянул руку, чтобы натянуть сползшее одеяло, но одеяла не было. “Наверное, свалилось на пол”, — подумал он и свесил руку с кровати. Рука больно ударилась о что-то твердое.
— Черт побери! — пробормотал финансист и открыл глаза.
Прямо перед его носом, в блекло-сером свете утра лежали две собачьи лапы. Лапы были коричневые, массивные, а нижняя часть их казалась одетой в белые чулки с неровными краями. “Знакомые лапы, знакомые чулки”, — подумал Гроппер и поднял голову, чтобы рассмотреть собаку. Почему-то ему представилось, что собака должна быть бульдогом.
Собаки не было. За лапами ничего не было. Была лишь трава. По сухому стебельку деловито полз муравей с белой личинкой в челюстях.
— Господи, — пробормотал Гроппер и услышал глухое собачье ворчание. Он протянул руку, чтобы потрогать лапу, но руки в поле зрения не появилось. Зато лапа поднялась с земли и застыла в воздухе.
— Боже мой, — снова сказал Гроппер и снова услыхал собачье ворчанье. Он вскочил на ноги. Земля, вместо того чтобы отступить от его глаз на привычные пять с лишним футов, осталась совсем близко от лица, в каком-нибудь футе.
Он видел каждую травинку, колеблемую утренним ветерком, каждый комочек земли, пробуравленный муравьиными ходами, чувствовал странные, незнакомые запахи. Наверное, запах земли, травы, ветра, утра.
Он хотел поднять руку, чтобы потереть лоб и рассеять видение, но почувствовал в руках тяжесть, будто он стоял на четвереньках и опирался на них. Он нагнул голову, чтобы посмотреть на свои ноги, но снова увидал упирающиеся в землю собачьи лапы. Он сделал шаг вперед, и лапы тоже шагнули вперед. Он напрягся и оторвал от земли руки.
Стоять на ногах было почему-то неудобно, непривычно. Зато он мог поднять руки — это были лапы, коричневые собачьи лапы в белых чулках…
И вдруг, подобно фейерверку, который взрывается ярчайшей гроздью света в чернильном небе, он вспомнил…
Он подходит к аппарату. Перед тем как вставить голову в фиксатор, он бросает взгляд на связанное тело. Блэквуд.
Волосы на косой пробор. Сильный подбородок и недоуменный вопрос в глазах… Темнота. Провал.
Кто-то сжимает его шею, и его тащат, тащат куда-то.
Он задыхается и сжимает зубы. Чьи-то проклятия. Тонкий свист, человек, тащивший его, падает. Он вырывается из рук и бежит, бежит, бежит. Темно, он почти ничего не видит, трава — или это были ветви деревьев? — хлещет его по глазам. Он мчится и чувствует, как встречный ветер холодит его нос. Сердце бьется ровно, как мощный мотор, тело ритмично то сжимается, то распрямляется в сильных прыжках.
Он ни о чем не думает, ничего не понимает, ничего не осознает; древний инстинкт несет его по полю, в зыбкой тьме ночи. Панический страх смерти, страх перед сжимавшей горло рукой уступает место опьянению свистящим воздухом, запахами ночи, упругим прикосновениям земли, от которой он отталкивается в каждом новом прыжке.
Он падает в канаву. Тычется головой в мягкую глину и засыпает…
И вот Фрэнк Джилберт Гроппер, в 1929 году одним из первых почувствовавший приближение великого краха и тем положивший начало своей финансовой империи, он, великий чародей биржи, непревзойденный альпинист, который привык одинаково успешно преодолевать ущелья спадов и кризисов и редкие пики бумов, он, Фрэнк Джилберт Гроппер, стоит в сером свете утра в поле, и трава колышется вровень с его глазами. Он стоит и старается не понять того, что уже понял. Он — собака, он — коричневый бульдог с белыми чулками на лапах, который как посланец судьбы первый раз предстал перед ним в Риверглейде неделю тому назад.
Он — Джерри, бульдог.
Президент четырех банков и член правления двадцати трех компаний поднял массивную морду и завыл. Глухой, низкий звук возникал где-то глубоко в его собачьей гортани и медленно, с трудом, вырывался из пасти. Он выл в темноте, и вой, подобно дыму из трубы в безветренный день, растекался по полю — вой волка, насыщенный отчаянием человека. Потом он бросился на траву и забил по земле лапами.
Из круглых бульдожьих глаз выкатились две слезинки.
В этот момент другой Гроппер, шестидесятивосьмилетний младенец-идиот с пустыми глазами, пускал слюни в счастливом сне.
* * *
Гроппер не мог сказать, сколько он пролежал на земле в оцепенении, может быть минуту, может быть час, но солнце уже взошло, когда он встал на ноги (он еще не научился думать о себе собачьими терминами, и ноги в его сознании еще не стали лапами). Он жив, он ощущает себя Фрэнком Джилбертом Гроппером, и, хотя он — бульдог, ничего еще не потеряно. Почему профессор Беллоу не мог превратить его в человека, в его собственного человека, которого он честно купил на честно заработанные деньги? И временно перенес его сознание в тело собаки? Что ж, наверное, на то были причины. Он их узнает, ничего еще не потеряно. В конце концов это даже забавно — побыть денек — другой в собачьей шкуре — эдакий маскарад, где нельзя даже при желании снять костюм и маску до назначенного срока. Ведь лучше быть живой собакой, чем умирающим человеком.
Он хотел ощупать себя, и мозг, человеческий мозг отдал приказ обеим рукам провести ими по бокам, похлопать по плечам, груди, ощупать ноги. Но, пройдя по нервным волокнам, приказ попал в мышцы собачьих ног. Гроппер не мог поднять их. Несколько минут он стоял дрожа. В нем боролись безусловные рефлексы собаки и сознание человека.
Ему показалось, что у него вспотел от напряжения лоб, и он хотел залезть рукой в карман, чтобы взять платок.
Но снова передние лапы, прежде чем он осознал, что у него нет ни кармана, ни платка, отказались выполнить желание человека.
“Да, — подумал Гроппер, — нельзя торопиться. Надо помнить, всегда помнить о том, что случилось”. Машинально он собрался почесать у себя в затылке и вдруг с ужасом сообразил, что делает это не рукой, а задней лапой. Задней лапой!
Нет, нет, ничего. Это ненадолго. Ничего страшного.
Что-то там профессор говорил, будто мозаика человеческого мозга не полностью вмещается в собачий. Интересно, потерял ли он что-нибудь из своего “я”? Как это проверить?
Финансист снова улегся, вытянул лапы и принялся производить инвентаризацию своего духовного мира. Прежде всего деньги. Он мысленно произнес про себя наименования всех банков, куда он тайно, в сейфы, переправил свои капиталы.
Первый национальный, “Чейз”, Первый городской… отлично, в голове у него весь список. Номера сейфов, замки, комбинации цифр… Гроппер даже тявкнул от удовольствия и, на этот раз уже не отдавая себе отчета в странности движения, почесал задней лапой за ухом.
Отлично, отлично. Что еще? Он вспомнил главные компании, в акции которых вкладывал деньги: “Дженерал дайнемикс”, “Дженерал электрик”, “Алкоа”… Великолепно, он помнит их все. Что еще? Перспективы?
Превосходно, он все это помнит и знает. Мозг работает спокойно и без усилий. Его имение Риверглейд, контора в Нью-Йорке, контора в Чикаго, в Лос-Анжелосе. Он все знает.
Позавчера, глядя на две фигуры в свете фар, на широкую спину Мередита и сгорбленную старого Джейкоба, он спокойно вдавил в пол акселератор. Фигурки упали под ударом радиатора, как куклы. Сколько лет прослужил у него Джейкоб? Пожалуй, лет тридцать, но нельзя, чтобы кто-нибудь знал, где лежит закопанный его резервный миллион.
Он знает все, все помнит. Больше как будто и нечего было проверять. Профессор Беллоу солгал, весь его мозг великолепно уместился в собачьей голове. Весь, целиком.
Гроппер встал, отряхнулся всем телом и не спеша побежал в сторону ранчо, откуда несло дымком. Он втянул носом воздух, и мир как бы обернулся к нему незнакомой стороной. Запах дыма был не просто сладковатым запахом дыма. Он представлял собой целый сплав запахов, и Гроппер чувствовал, обонял и узнавал его каждую составную часть.
Так, должно быть, опытное ухо музыканта слышит весь оркестр и каждый инструмент в отдельности.
Этот теплый запах — резина. Другой, непривычный, живой, — должно быть, люди. А вот знакомый запах — горячего мотора и бензина.
У самого здания он притаился в кустах. Двое полицейских, прислонясь к машине и покуривая, неторопливо беседовали. Гроппер отметил про себя, что собачий слух значительно превосходит человеческий: полицейские стояли ярдах в двадцати и говорили вполголоса, но он слышал даже их дыхание, будто к его ушам были прижаты наушники.
— Говорят, здесь жили каких-то два типа, ученые, что ли. Испарились как дым. Недавно звонили, что нашли какую-то машину недалеко от Хиллсайда. Серый “рэмблер”. Разбиты задние фонари и бампер. Наверное, их машина.
— А что шеф говорит про этого парня, связанного, с пулей во лбу?
— Кто его знает, кто это. Красивый парень.
— Да, темное дело.
— Не говори.
— А ты слышал, говорят, что идиот, который пускал слюни в кресле, — это Гроппер?
— Гроппер с Уолл-стрита. Фрэнк Гроппер. Говорят, у него куча денег.
— Что ты хочешь, финансист! Посидел бы он на нашей зарплате…
— Гляди, бульдог в кустах. Дай-ка я всажу в него пулю. Пари на бутылку виски, что попаду в него с первого выстрела.
— Смотри-ка, эта тварь понимает, что ты говоришь. Ладно, брось…
Фрэнк Гроппер снова несся по траве, с ужасом ожидая выстрела. Лишь отбежав с полмили, он улегся на траве и задумался.
Всю жизнь его подстерегали опасности. Компаньоны могли предать его, конкуренты — съесть.
Теперь опасностей стало куда больше, да и привыкнуть к ним солидному финансисту на склоне лет было нелегко.
Любой может пхнуть ногой, бросить камень. Живодер того и гляди загонит в свой грузовичок. А то, не успеешь оглянуться, налетит другой пес, и на шестьдесят восьмом году жизни полетит из тебя шерсть… Впрочем, почему на шестьдесят восьмом? Сколько живет в среднем собака? Лет четырнадцать? Так что ему, судя по всему, не больше шести лет.
Мысль показалась ему забавной, и он засмеялся, но услышал вместо привычного смеха лишь повизгивание.
Что делать, что делать? Допустим даже, что он мог бы добраться до Нью-Йорка. Кстати, как? Встать на обочине шоссе и поднять лапу? Не может же бульдог войти в Первый городской банк Нью-Йорка, кивнуть менеджеру, пройти в зал сейфов, стать на задние лапы, набрать нужную комбинацию и уйти прочь, унося в зубах саквояж коричневой кожи с двумя миллионами долларов.
А если бы даже перед ним сейчас лежал, прямо здесь, на этой муравьиной куче, миллион долларов? Что тогда?
Мысль о том, что деньги, такие знакомые листки плотной бумаги, “зеленые спинки”, как он ласково называл банкноты в один доллар, могут при каких-то обстоятельствах оказаться бесполезными, показалась ему кощунственной, и он тряхнул головой, отгоняя наваждение.
Нет, аккуратные пачки долларов не могут оказаться ненужными. Один он знает, где они лежат, сорок миллионов долларов. Только в его мозгу замурована эта информация, ради которой тысячи людей пошли бы на обман, на преступление, на убийство. Они бы унижались перед ним, перед собакой, ползали на брюхе подле его ног, норовя поцеловать в лапу, прикоснуться к обрубку хвоста.
И это прекрасно знают Беллоу и Хант. Плевать ему на их мысли и чувства. Двадцать миллионов долларов на улице не валяются. Они найдут его и сделают человеком, даже если им придется выкрасть для него тело прямо из Капитолия.
Может быть, отправиться к кому-нибудь из близких?
Но у него не было близких. Нет, он не знал ни одного человека, который не задушил бы его собственными руками, если бы рядом лежали деньги. Впрочем, такова жизнь, он и сам бы задушил…
По загривку у него ползла муха. Он хотел взмахнуть рукой, чтобы согнать ее, но, к своему удивлению, почувствовал, что кожа на шее непроизвольно вздрогнула. Муха улетела.
Это то, подумал Гроппер, что профессор называл безусловными рефлексами и инстинктами. Но что делать? На ранчо что-то произошло. Его новое тело, купленное им, больше не существует. Хорошо по крайней мере, что он его еще не обжил. Беллоу и Хант бежали. Его старая оболочка, впавший в детство старик, которого он уже раз видел во время опыта…
Почему Беллоу не оставил его в теле Ханта? Впрочем, если бы он знал, как повернется дело, он бы оставил. Этот из породы верующих. Этот не атеист, могущий наступить ногой на двадцать миллионов, обещанных ему. Этот убил бы не только помощника, но и население двух — трех штатов в придачу.
Гроппер снова подумал о старике с пустыми глазами и не почувствовал ничего. Разве что злорадство. Он все-таки надул эту проклятую боль. Пусть она теперь грызет его бренные останки. Он на нее плевал.
Он вытянул передние лапы и с наслаждением потянулся, прогибая спину. Хватит, нужно взять себя в руки и сосредоточиться. Хотелось есть.
Беллоу и Хант должны понимать, что далеко от ранчо уйти он не мог. Значит, они будут прятаться где-нибудь поблизости, скорей всего в Хиллсайде. Это все-таки городок, и там легче скрываться.
Он не может ни остаться в поле, ни дать им как-то знать о себе. Значит, прежде всего нужно добраться до Хиллсайда, а еще лучше до его пригородов. Там будет видно. Но не плестись же тридцать миль под солнцем.
Гроппер вышел на дорогу. У бензозаправочной колонки с овальным щитом компании “Эссо” стояло несколько машин. Финансист улучил момент, когда никто не смотрел в его сторону, одним прыжком вскочил в кузов фордовского пикапа и притаился среди мешков.
Фыркнул мотор, Гроппер ткнулся носом в мешок, и машина тронулась.
Минут через двадцать-тридцать показались аккуратные домики. “Пригород”, — подумал Гроппер. Он приподнял голову и глянул вниз. Серая лента дороги струилась назад с пугающей быстротой, и он понял, что выскочить на ходу не сможет.
Прячась за мешком, он вытянул лапу и тронул шофера за плечо. Тот обернулся, продолжая вести машину.
— Что за черт, — пробормотал он, — готов поклясться, что кто-то тронул меня за плечо.
Гроппер снова протянул лапу и похлопал водителя по спине. На этот раз тот затормозил и, обернувшись, заглянул за мешки. Он увидел, как коричневый бульдог с белыми лапами выскочил из машины и скрылся в кустарниках.
— Ну и ну! — шофер раскрыл рот от изумления и на всякий случай скрестил пальцы, гарантируя себя от происков дьявола.
Глава 9 СТУК В ДВЕРЬ
Хладнокровие — понятие относительное. Люди, как правило, склонны сохранять присутствие духа в ситуациях привычных, сколь бы опасными они ни были, но теряются в ситуациях непривычных. Парашютист, главный парашют которого не раскрылся во время прыжка, успевает раскрыть запасной парашют (если он у него есть, разумеется) и еще подумать о том, чтобы немножко оттолкнуть его от себя.
Иначе он может запутаться в стропах нераскрывшегося парашюта. И тот же парашютист может растеряться, увидев, что его место в театре занято другим.
Фрэнк Джилберт Гроппер был, безусловно, хладнокровным человеком и превратился в хладнокровную собаку. И если бы десяток взволнованных брокеров ждали его распоряжений во время очередной лихорадки на бирже, он спокойно бы поднял лапу, отдавая распоряжения о покупке или продаже сотен тысяч акций.
Но облава на бездомных псов не слишком напоминает биржевые священнодействия, хотя бы потому, что на нью-йоркской фондовой бирже в критические часы гораздо шумнее. И когда финансист попал в облаву, давно уже намечавшуюся хиллсайдским муниципалитетом, он совершенно потерял голову. Он хотел было крикнуть “Полиция!”, но вместо этого тявкнул громко и испуганно. Хотел было вынуть из кармана визитную карточку, но споткнулся и коричневым шаром покатился по асфальту.
Пришел в себя он только в фургоне, до отказа набитом самыми разнообразными собаками. Гроппер подумал, что никогда еще в жизни не слышал подобного концерта. С полсотни овчарок, скочтерьеров, фокстерьеров, сеттеров и болонок одновременно выли, лаяли и визжали. Меланхолического вида серый датский дог с регулярностью часового механизма бросался на стенки фургона, а пара вислоухих гончих пыталась допрыгнуть до взятого в металлическую сетку окошка.
Финансист сидел в углу и скалил зубы. Шерсть на загривке у него поднялась, и он глухо и угрожающе рычал, готовый вцепиться в неприятеля. Два или три раза он свирепо щелкал клыками, и его перепуганные четвероногие товарищи по несчастью пружинисто отскакивали от него.
К своему величайшему удивлению, он обнаружил, что и грозное рычание и металлический лязг клыков давались ему без малейшей трудности. Должно быть, эта готовность вцепиться в горло ближнему всегда была для него естественной, и разница заключалась лишь в орудиях производства: раньше батарея телефонов на гигантском письменном столе в его кабинете, теперь же — собственные клыки.
Впрочем, думать и проводить сравнения времени у Гроппера не было, потому что чей-то голос снаружи сказал:
— Давай, Джим, поехали.
Раздался металлический стук. “Должно быть, заперли на засов дверцы”, — подумал финансист. Натужно взвизгнул стартер, и машина рывком тронулась.
Собаки попадали на пол, сплетаясь в мохнатый вьющийся клубок. Финансист оказался в самом его центре. Он задыхался. Чей-то косматый бок, прижатый к его морде, не давал дышать. Гроппер закрыл глаза, и в бездонной мгле поплыли зеленовато-синие круги, пересекаемые траекториями ярких искр.
“Вот и все, — пронеслось у него в мозгу, — вот он, конец. Совсем не тот, которого я боялся…” Он конвульсивно пытался выбраться из лохматого ада, но не смог преодолеть тяжести десятков собачьих тел. Он снова закрыл глаза, но в это мгновенье машина круто свернула и сила инерции толкнула клубок вперед, и он распался. Фургон остановился; тот же голос сказал:
— Как всегда, в подвал?
Ленивый и хриплый голос ответил:
— Как всегда. Денек подождем, может, явится хозяин, а потом — фьюить! Кого в собачий рай, кого в собачий ад.
Должно быть, никогда еще в жизни Гроппер не размышлял так напряженно. Ему было ясно: или он должен сейчас же придумать, как выбраться из этой ловушки, либо через сутки его перетопленный жир пойдет на изготовление дамских помад.
Джим и второй, должно быть водитель, разговаривали теперь у дверей фургона. Собаки забились в угол фургона и, измученные путешествием и ужасом неизвестности, жалобно скулили. Гроппер подошел к двери, поднял лапу и постучал.
— Слышишь? — спросил Джим. — Какая-то собака стучит. Вежливый пес.
— Сейчас я ей скажу: простите, мистер, пожалуйста.
Финансист не знал азбуки Морзе, не знал, какие комбинации точек и тире, коротких и продолжительных ударов обозначают те или иные буквы. Но он надеялся, что они хоть поймут по крайней мере необычность звуков. Встав на задние лапы и высунув язык от усердия, он барабанил по гулкой металлической дверце огромного “форда”. Короткий, короткий, длинный. Короткий, длинный, короткий. Два коротких…
— Джим, ты слышишь?
— Слышу. — Голос Джима звучал глухо, ибо люди, столкнувшись с чем-то выходящим за рамки их понимания, всегда почему-то говорят приглушенными голосами.
— Но ведь это не собака. Это азбука Морзе, или как она там называется. Я в армии видел, как телеграфисты работают на ключе. Именно так. Это не собака. Собаки не знают азбуки Морзе.
— А может быть, дрессированная?
— Станет она тебе в фургоне фокусы показывать, ни жива, ни мертва от страха. Слышал, как они выли?
Гроппер удвоил свои усилия. Внезапно ему в голову пришла новая мысль, и он тявкнул от радости — как он раньше не догадался! Стоя по-прежнему на задних лапах и опираясь животом на металл дверцы, он принялся выстукивать мелодию популярной песенки. Он никогда не отличался тонким музыкальным слухом, но для собачьих лап и автомобильных дверец его слуха вполне хватало. В голове бесконечной цепочкой, приклеиваясь одно к другому, плыли слова популярной песенки: “Прижми меня крепче, прижми меня к сердцу…”
— Прижми меня к сердцу? Ты слышишь, Джим? Или я сошел с ума. Там человек. Эй, кто там?
Водитель щелкнул запором и распахнул дверцу. Фрэнк Джилберт Гроппер, шестилетний бульдог с опытом шестидесятивосьмилетнего финансиста, прыгнул на стоявшего перед ним человека, юркнул в сторону и помчался по улице.
Когда он пришел в себя и немного отдышался, подрагивая розовым с черным языком, Гроппер подумал, что улица слишком опасна для него. Всю жизнь он имел дело с опасностями и риском. Но теперь он впервые ощущал физическую опасность. Теперь он впервые боялся за свою шкуру не в переносном, а в прямом смысле. Гроппер огляделся по сторонам. Неширокую улицу пригорода обрамляли аккуратные домики.
Куда зайти — в этот, в тот или в третий? Может, в одном его ждет камень, а в другом еда? Но он думал недолго.
Он был финансистом и умел рисковать…
Глава 10 ЭТА СОБАКА СТОИТ БОЛЬШИХ ДЕНЕГ
Микки-Маус никак не хотел сидеть в грузовике. Как только Фэнни отпускала его, он тут же падал. С оптимизмом своих трех лет она снова и снова пыталась засунуть чересчур большую куклу в маленький кузов, но резиновый Микки с таким же упорством гордо расправлялся и вываливался на посыпанную мелким гравием дорожку. Может быть, в конце концов кто-нибудь из них и сдался бы, если бы Фэнни внезапно не подняла голову.
Прямо перед ней на дорожке, широко расставив массивные лапы, стояла собака. Прежде чем Фэнни успела решить, что сделать раньше: заплакать и убежать или убежать, а потом заплакать, собака легла на спину, подняла в воздух лапы и задрыгала ими. Потом шумно вздохнула, легла на бок и закрыла глаза. (Дожил, с горечью подумал Гроппер, стоило всю жизнь ворочать миллионами, чтобы лежать сейчас на спине перед девчонкой и дрыгать лапами. Впрочем, это лучше, чем городская живодерня!)
— Мамми, мамми, он умер! Иди скорей, он умер!
— Ну, кто там еще умер? — крикнула миссис Бакстер из кухни. — У меня подгорят котлеты, оставь меня в покое.
— Мама, я же тебе говорю, что собачка умерла, иди сюда скорее. Она совсем мертвая и закрыла глаза.
Котлеты шипели на сковородке, как старая мисс Чаттерлей, ее соседка, когда говорит о ком-нибудь помоложе ее.
Миссис Бакстер уменьшила огонь и вышла во двор. На дорожке лежал коричневый бульдог. Она нагнулась за камнем, но бульдог вдруг вскочил, встал на задние лапы и церемонно поклонился ей.
Миссис Бакстер, возможно, и обладала с рождения нормальными способностями, но пристрастие телевизионного наркомана к маленькому экранчику уже давно атрофировало ее мозг, и вместо обычных человеческих поступков она всегда пыталась припомнить подходящую к случаю телепередачу. Но так как ничего соответствующего в голову ей не пришло, она широко разинула рот и застыла, как испортившийся робот. Камень мягко шлепнулся на дорожку. Фэнни завопила от восторга.
— Мама, мама, он не умер, он дрессированный! Помнишь, мы видели такого по телевизору?
При упоминании о телевизоре миссис Бакстер встрепенулась.
— Где ты ее взяла, Фэнни?
— Не знаю, мама, она сама прибежала ко мне, легла на спинку и задрыгала ногами.
— Не ногами, а лапами.
— Лапами. Знаешь, мама, давай оставим ее себе.
Бульдог, как бы угадывая, что речь идет именно о нем, несколько раз энергично кивнул головой. Миссис Бакстер беспомощно смотрела на дочь.
— Помнишь, мама, в этой передаче про дрессированного бульдога, помнишь, они еще с одним артистом передразнивали друг друга, никто ведь не гнал собаку.
Миссис Бакстер, получив еще одно указание от телевизионного божества, сказала:
— Но там ведь, помнится, не было еще одной собаки, а у нас есть.
— Ну и что, Фидо — это шотландская колли, а это — бульдог.
— Ну хорошо, — пожала плечами миссис Бакстер, и бульдог, словно снова поняв, о чем идет речь, наклонил голову и лизнул ей руку.
Это был единственный знак благодарности, который имелся в эту минуту в распоряжении у мистера Фрэнка Гроппера.
Самым трудным испытанием в первый день пребывания финансиста в доме Бакстеров была встреча с колли.
Как только он увидел ее, Гроппер почему-то сразу понял, что перед ним сука. Почему он так решил — Гроппер сказать не мог. Среди разнообразнейших вещей, которые надлежит знать опытному биржевику, определение пола собаки на расстоянии вряд ли является главным. Но тем не менее он готов был поклясться, что перед ним сука, и странное волнение, охватившее финансиста, меньше всего походило на страх перед ее укусами. Она оглушительно лаяла, а он растерянно стоял и молча разглядывал ее. Собачий инстинкт толкал его к ней, ему хотелось ответить ей задорным лаем, толкнуть мордой, слегка куснуть, ему хотелось, чтобы она вовлекла его в сложный ритуал собачьего ухаживания.
Сознание же шестидесятивосьмилетнего финансиста было еще не готово пойти на интимное знакомство С мохнатой овчаркой.
Так он стоял в нерешительности, пока колли, не куснула его в игривом прыжке. Странный способ ухаживания, а впрочем, куда более эффективный, чем беседы на литературные темы за коктейлем”, — подумал Гроппер и отскочил в сторону. Колли толкнула его лапой, и ему захотелось рассмеяться. Вместо этого он радостно взвизгнул и бросился наутек, оглядываясь через плечо на овчарку.
Лежа ночью на отведенной ему циновке в коридоре, Гроппер думал о том, как, вероятнее всего, его будут искать Беллоу и Хант. Способ, очевидно, был один. Они дадут объявление в газете о пропаже бульдога с его, Гроппера, описанием, в нынешнем обличье, разумеется. Стало быть, нужно ждать, стараться заслужить благорасположение хозяев и вообще вести себя, как полагается приличной собаке.
Главной его заботой в течение последующих нескольких дней стало изучение газеты “Хиллсайд дейли геральд”, особенно раздела объявлений. Чтобы не вызвать подозрений, ему приходилось все время быть начеку, ибо он отдавал себе отчет, что бульдог, читающий газету, — не совсем обычное зрелище.
На третий день, слоняясь по дому, он забрел на кухню.
Миссис Бакстер не было. Внимание его привлек кусок газеты, в который был завернут пучок редиски. Он стал на задние лапы, передними оперся о стол и принялся читать: “Срочно продается “форд тандерберд” 59-го года в хорошем состоянии; Магазин готового платья Металлиоса объявляет о большой распродаже по совершенно неслыханным ценам; Коммивояжер с небывалым опытом в продаже всевозможных изделий предлагает свои услуги какой-нибудь солидной фирме; Пресвитер хиллсайдской баптистской церкви сообщает о сборе пожертвований на новую церковь; Владелец ищет коричневого бульдога с белыми лапами, шести лет, по кличке Джерри. Сообщившему в редакцию о местонахождении собаки будет выплачено солидное денежное вознаграждение”.
Гроппер почувствовал, как забилось его собачье сердце.
Он не ошибся. Беллоу ищет его. Первой его мыслью было схватить в зубы газету и броситься в редакцию “Хиллсайд дейли геральд”. Но он вспомнил о фургоне живодеров и задумался.
В двери показалась миссис Бакстер.
— Вот ты где, — сказала она, — иди во двор. Нечего болтаться в кухне. Иди поиграй с Фэнни.
Гроппер ткнул носом в газету и умоляюще посмотрел на хозяйку. Ну пойми же, пойми, что тебе хочет сказать президент четырех банков. Прочти газету, прочти объявления, ты ведь наверняка интересуешься, где что продают по дешевке. Прочти, и вскоре ты получишь подарок от неизвестного — прекрасную новую стиральную машину, какую ты никогда не увидишь в своем каталоге Сиерса и Робека.
— Господи, что ты здесь нашел интересного? — спросила миссис Бакстер. — Первый раз вижу, чтобы собака ела редиску. Сроду этого по телевизору не показывали.
Она взяла пару редисок и швырнула на пол. Потом бросила оставшиеся в кастрюльку с водой, а газету скомкала и положила в плиту. Бумага шевельнулась, словно испуганная жаром огня, пожелтела, потом стала темно-коричневой и с легким шорохом вспыхнула. Гроппер хотел закричать, но из пасти его вырвался хриплый лай отчаяния.
— Молчать! — сердито прикрикнула миссис Бакстер. — Пошел вон!
“Глупая баба, — подумал Гроппер, — ты так и не получишь в подарок от неизвестного новую стиральную машину”.
Опустив голову, он вышел из кухни…
* * *
Вечером семья Бакстеров сидела перед стареньким “адмиралом”. На экране телевизора мультипликационная обезьяна расхваливала новый сорт чая. Бакстеры смотрели как завороженные. Обезьяна, выкрикивая название чая, делала свое дело. Она не убеждала, она гипнотизировала. Она не взывала к интеллекту, она завораживала.
Гроппер свернулся у ног Фэнни и молча смотрел на экран. Внезапно в голове у него родилась новая идея.
— Все, — сказал Бакстер, когда диктор, порекомендовав новые порошки от бессонницы, пожелал спокойной ночи, — выключайте телевизор.
Гроппер стремительно вскочил, бросился к телевизору и нажал лапой на клавиш. Экран сверкнул умирающим электронным лучом и погас.
Фред Бакстер привстал со своего кресла. У миссис Бакстер отвалилась челюсть. Наконец она выдавила из себя:
— Фред, я же тебе говорила: эта собака понимает все, что говорят. Так тогда и показывали по телевизору.
— Будь я трижды проклят, если это не самая удивительная штука, которую я когда-либо видел. Ты уверена, что это нам не померещилось?
— С каких это пор сразу двум людям может померещиться одно и то же? Фэнни, кто выключил телевизор?
— Кто же, наш бульдожка.
— Видишь, слыханное ли дело, чтобы уже трем людям померещилось одно и то же?
— Обождите, — сказал Бакстер. — Пес, ты понимаешь, о чем здесь говорят? — он посмотрел на Гроппера.
“Не помню, когда я последний раз так хотел кому-нибудь угодить”, — подумал Гроппер и кивнул головой.
— Дженнифер, ты видела, он кивнул головой? — сказал Бакстер.
— О чем я тебе говорю? — ответила миссис Бакстер.
— Послушай, бульдог, вон книжная полка. На ней стоит библия и каталог Сиерса и Робека. Принеси-ка нам каталог.
Гроппер несколько раз дернул лапой. Наконец толстый, фунта в четыре весом, каталог вывалился с полки. Он прижал лапами обложку, мордой отогнул другую. Страницы зашелестели. Есть. Он широко распахнул пасть, осторожно взял раскрытый каталог и положил перед хозяином. Тот взглянул на раскрытую страницу и дернул себя за нос.
На глянцевитой странице были изображены разнообразнейшие ошейники, от металлических, шипы которых впиваются в шею, если собака рвется на поводке, до роскошных кожаных с замысловатыми бронзовыми украшениями.
В комнате стало тихо. Фред Бакстер смотрел на жену, она на него, а Фзнии — на обоих. Если бы здесь, на вытертом коврике лежал не коричневый бульдог с белыми чулками на лапах, а апостол Павел, удивление было бы не меньшим.
— Лопни мои глаза, если этот пес не стоит больших денег, — сказал, наконец, Бакстер, и Гроппер подумал, что вряд ли его хозяин отдает себе отчет, насколько он прав.
— Помнишь, в одной передаче по телевизору говорилось, что можно выступать с дрессированными животными за деньги. Дженнифер, запри все двери и окна, чтобы этот пес не вздумал удрать.
Гроппер энергично замотал головой, и в комнате снова стало тихо.
— Помолимся, Дженнифер, — сказал Бакстер, — эту собаку нам послал господь, чтобы мы могли, наконец, выплатить деньги за этот чертов дом, который висит у меня на шее, словно камень. Я буду выступать с этим псом перед публикой. Мы даже не знаем, на что он способен.
— Молчи, Фред, у меня такое впечатление, что ты говоришь о нем недостаточно вежливо.
Гроппер встал и лизнул ладонь миссис Бакстер. Та отдернула руку и покраснела, как будто это был не обыкновенный бульдог, а человек. Она была простой женщиной и не привыкла к галантному обхождению…
В эту ночь супруги Бакстер долго сидели перед погасшим экраном телевизора, словно молились своему божеству и ждали от него указаний.
Подобно электронно-вычислительной машине, выбирающей из своего чрева заложенные туда оператором подходящие сведения, они лишь вспоминали подходящую к случаю информацию, заложенную в их мозг телевизионными компаниями.
Глава 11 ПОКЕР И КАНАСТА
Лейтенант Мак-Грири пробил консервным ключом две дырки в банке и наклонил ее. Пивная пена перевалилась за край стакана. Пиво было тепловатым, и лейтенант поморщился. Впрочем, строго говоря, он поморщился не только из-за пива. На то были более серьезные основания.
Мак-Грири работал в полиции Хиллсайда уже больше пятнадцати лет и твердо усвоил простую истину: тяжесть преступления обратно пропорциональна финансовому успеху.
А так как он был призван заниматься именно тяжкими преступлениями, то был грозой убийц-неудачников, воров-любителей и бродяг, которые осмеливались покуситься на старую рубашку, вывешенную после стирки какой-нибудь хозяйкой.
С профессионалами он предпочитал не связываться. К профессионалам он относился с почтением, с каким относятся к партнеру по покеру в клубе. Профессионалы были солидными людьми со счетами в банках, с молодыми серьезными адвокатами в очках с роговой оправой, с влиятельными друзьями в столице штата.
Профессионалы любили играть в покер. Они встречались в хиллсайдском “Клубе львов”, спокойно и приветливо кивали лейтенанту и в изысканных выражениях осведомлялись о здоровье миссис Мак-Грири и двух мисс Мак-Грири. После этого они заказывали дорогие напитки и церемонно приглашали лейтенанта сыграть партию — другую.
Покер — глубоко интимная игра, во время которой человек за спиной игрока заставляет отвлекаться и мешает сосредоточиться. Кроме того, в покере важно уметь блефовать, то есть делать хорошую мину при плохой игре, а мина постороннего наблюдателя находится, как правило, в прямой зависимости от карт, в которые он заглядывает через спину. Поэтому профессионалы, приглашая Мак-Грири к зеленому столику, предпочитали, чтобы никто не мешал им. Тактичные официанты бесшумно ставили на стол запотевшие стаканы с металлически звенящими кусочками льда — и исчезали.
Лейтенант никогда не следил за руками профессионалов.
Он был уверен, что они не станут накалывать карты своими перстнями, не станут класть на стол полированный портсигар, чтобы видеть в нем отражение сдаваемых карт.
Он был уверен в честности партнеров, в чистоте их намерений. Мало того, его даже не интересовали сданные ему карты. Текла неторопливая беседа, прерываемая короткими замечаниями: “две карты”, “благодарю”, “открываю”… Потом Мак-Грири делал непроницаемое лицо и лез вверх. Партнеры не отставали, охотно повышая ставки. Когда на столе оказывалась изрядная куча денег, профессионалы качали головами и выходили из игры.
— Везет же вам, мистер Мак-Грири, — говорили они.
Они были воспитанные люди и не спрашивали лейтенанта из пустого любопытства, какая же все-таки комбинация была у него на руках. Это было бы дурным тоном.
— Зато не везет в любви, — отшучивался Мак-Грири и аккуратно складывал в бумажник банкноты. Зажатая между двумя прозрачными целлулоидными стенками бумажника, миссис Мак-Грири смотрела с фотографии на мужа с улыбкой и, казалось, одобрительно кивала. Она была покладистой женщиной.
Лейтенант Мак-Грири любил профессионалов и всегда умел узнавать их почерк, нечто вроде безмолвного привета от друзей. Но на этот раз он был в нерешительности, и скорей именно это, а не теплое пиво “Швепес” заставило его поморщиться.
Странное дело, думал он. С одной стороны, во всем этом деле угадывался стиль профессионала. Взять хотя бы пробоины в толстой дубовой двери. В их веере нетрудно было определить короткий взмах автомата — оружия серьезного человека. Джо Джеффи, например, любит пользоваться трещоткой.
У бедняги, должно быть, не в порядке нервы, и он не доверяет пистолету.
Допустим, через дверь стреляли люди Джеффи, но остальные факты? В подвальной комнате заброшенного ранчо сидит известный миллионер, Фрэнк Гроппер, полностью лишившийся рассудка.
Кроме него, в комнате лежит труп молодого человека.
Человек, очевидно, убит одной из автоматных очередей. Труп связан, и в карманах у него нет ничего, абсолютно ничего, что бы могло позволить определить, кто он.
В углу — груда деталей какого-то аппарата, назначения которого эксперты определить не смогли.
Полицию вызывают по телефону с ранчо. Сообщили, что произошло убийство. Владельцев ранчо нет. Они ли звонили?
Может быть, хотя маловероятно. Скорее всего, звонили те, что стреляли.
Картина достаточно запутанная даже для авторов детективных романов, не то что для скромного полицейского лейтенанта.
К тому же выясняется, что Гроппер примерно за неделю до этой ночи начал куда-то переправлять свои деньги. Похоже, что Патрик Кроуфорд, его единственный наследник, ни при чем. К тому же какой был смысл убивать старика, если было известно, что у того рак? Нет, нет, вряд ли это работа Кроуфорда, тем более что старику достаточно было одного удара прикладом, чтобы отправить его на тот свет.
Скорей всего Гроппер сам поехал на это ранчо.
Он едет на ранчо. Раз он вел машину, он не мог быть сумасшедшим в это время.
Допустим, он верил, что его могут вылечить. Какой-нибудь новейший препарат или что-нибудь в этом роде. Вполне вероятная версия. Смертельно больные люди готовы поверить во что угодно, вцепиться в любую соломинку. Но связанный труп?
Разве что подпольные врачи устроили у себя целую очередь, причем некоторые пациенты ожидают приема связанные по рукам и ногам, с кляпом во рту.
Гм… Лейтенант наклонил банку над стаканом и вылил остатки пива. Пиво было, безусловно, теплым…
И потом одновременная смерть на шоссе садовника и секретаря Гроппера. Пока еще он ничего не докладывал шефу и газеты ничего не пронюхали, но он-то знает, что на правом крыле “роллса” маленькая, еле заметная царапина, а на массивном бампере две вмятинки.
Если учесть, что в багажнике “роллса” он нашел две лопаты со свежими следами земли — а умирающий старик вряд ли стал бы копать сам, особенно двумя лопатами…
Размышления его прервал телефонный звонок. В трубке низко рокотал бас Джо Джеффи:
— Добрый вечер, лейтенант, как поживаете? Что-то давно не видно вас в клубе. Наверное, на вас все висят это таинственное убийство и гропперовские миллионы? Знаете что, Мак-Грири, так загружать свой мозг — это жестокость. Приезжайте-ка сегодня вечером в клуб. У меня просто руки чешутся сыграть в покер…
Лейтенант вспомнил автоматные пробоины в дубовой двери и сказал:
— С удовольствием, мистер Джеффи. Вы же знаете, как я рад вашей компании, особенно за зеленым столиком.
Он положил трубку и облегченно вздохнул. Ну вот, дело распутывается само собой. Газеты пошумят и перестанут, а шеф… Время от времени шеф тоже любит сыграть с ним партию — другую, правда, не в покер, а в канасту. Удивительно везет шефу в канасту, когда он играет с Мак-Грири. Причем почему-то получается так, что играют они всегда, когда у Мак-Грири в бумажнике, рядом с фотографией жены, толстой пачкой лежит покерный выигрыш. Бывают же совпадения…
Мак-Грири засмеялся, взял консервный нож и открыл новую банку “Швепеса”. На этот раз пиво оказалось великолепным.
Глава 12 САМАЯ УМНАЯ СОБАКА “СВОБОДНОГО МИРА”
— Послушайте, Бакстер, перестаньте нести чепуху и скажите внятно: почему вы думаете, что я выну из сейфа две тысячи долларов и вручу вам с поклоном?
Менеджер Хиллсайдского городского банка Лесли Мастертон снял очки и иронически взглянул на Бакстера. Он очень гордился своим ироническим взглядом и, оказываясь один перед зеркалом, подолгу репетировал, пытаясь научиться уничтожать человека одними глазами.
Но Фред Бакстер не замечал тонкой иронии — грубый человек — и весь подался вперед: — Мистер Мастертон, сэр, вы знаете меня лет двадцать. Слышали вы когда-нибудь, чтобы я рассказывал небылицы, даже после третьего виски? Нет, вы ответьте, мистер Мастертон.
— Я ваши виски не считаю, Бакстер, вы же их не держите у меня на счете. — Мастертон засмеялся, в восторге от своего остроумия. Он гордился тем, что принадлежал в новому типу банковского служащего, без старомодной чопорности и всегда готового пошутить с клиентом.
— Да вы у кого угодно спросите, я вас не обманываю. Сроду небылиц не рассказывал.
Менеджер пожал плечами. Разговаривать с Бакстером было трудно.
— Сэр, это же верное дело. Это не пес, а маленький форт Нокс, набитый золотом. Я не скажу, что он стоит шестнадцать миллиардов долларов, которые, говорят, хранятся там в бронированных подвалах, но поверьте мне: собака будет делать деньги, как печатный станок. Сэр, позвольте мне принести сюда пса. Он в машине внизу, на коленях у миссис Бакстер.
— Вы с ума сошли. Хорошенькое дело, если все начнут носить в банк разную домашнюю живность. Сегодня вы пытаетесь одолжить деньги под собаку, завтра кто-нибудь предложит взглянуть на его дрессированного гуся, послезавтра здесь можно будет открыть зверинец и устроить в сейфах клетки.
— Мистер Мастертон, сэр, это не гусь. Вы только взгляните на пса, вы больше тратите времени на разговор со Мной.
— Ну хорошо, тащите своего пса сюда. Но если он нагадит на ковре, вам придется купить новый. Причем ссуды для этого я вам не дам, учтите.
Через минуту дверь кабинета снова приоткрылась, и в комнату быстрым шагом вошел Фрэнк Гроппер. Он шел на задних лапах, всей своей собачьей грудью вдыхая знакомый запах банка, такой неуловимый и вместе с тем незабываемый.
Запах кожаных кресел, пыли, бумаги.
Он подошел к столу и небрежным жестом протянул менеджеру лапу. Лесли Мастертон знал толк в рукопожатиях.
Вытянутая для пожатия рука всегда красноречивее лица.
Лицу можно придать любое выражение, но рука говорит только правду. По рукаву костюма Мастертон мог определить годовой доход клиента с точностью до пятисот долларов.
Рукав — это его банковский счет. Чем больше блестит материал — тем менее блестящи дела его владельца. Качество материала, от дешевого бумажного твида до упругого на ощупь и корректного ворстеда, — открытая книга для опытного глаза.
На бульдоге не было ни костюма, ни крахмальной рубашки, ни манжет, ни запонок. Когти его меньше всего напоминали о маникюре, а черные подушечки лап никак не ассоциировались с уверенной манерой брать деньги.
И тем не менее Лесли Мастертон невольно протянул руку навстречу бульдожьей лапе — столько в ней было уверенности. Бульдог еще раз кивнул ему и опустился на четвереньки.
— Послушайте, Бакстер, — Мастертон уже оправился от первого впечатления, — если я буду одалживать деньги под каждого пса, умеющего пройти десять шагов на задних лапах, боюсь, что у нас…
Бакстер посмотрел на бульдога, бульдог на него. Потом Гроппер медленно подошел к менеджеру и несколько раз мягко потянул его за руку. Мастертон встал. Гроппер одним нрыжком вскочил в кресло, оперся грудью о край стола и развернул свежий номер “Хиллсайд дейли геральд”. Бумага была тонкая, и ему пришлось листать газету языком. Вот, наконец, и биржевая страница. Мельчайшая нонпарель серым налетом покрывала полосу. Сотни фирм, разбитые в алфавитные группы по три буквы, в нескольких цифрах рассказывали свои истории, полные значимости и драматизма. Слева — высший и низший биржевые курсы за год, справа — курс к началу дня, к закрытию биржи, разница. Плюсы, казалось, весело подмигивали, минусы напоминали рот с поджатыми губами. Минусов было намного больше — биржа катилась вниз.
Гроппер с трудом взял со стола карандаш, пристроил его между лапами, жирно и неуклюже подчеркнул слова “Дженерал электрик”. Справа против фирмы стоял плюс. Потом написал на полях страницы “покупать”. Писать было тяжело, и каждая буква давалась с трудом, но он справился. Лесли Мастертон повернулся к Бакстеру и добрую минуту молча смотрел на него. Он был бы рад помолиться, но банковский менеджер не должен удивляться.
— Бакстер, мы знакомы уже двадцать лет, и я не знал, что вы хоть что-нибудь смыслите в акциях.
— Клянусь этим бульдогом, сэр, в жизни я не держал в руках ни одной акции. Какие там акции! За дом — выплачивай, за машину — выплачивай, а я, слава богу, как вы знаете, держу авторемонтный гаражик.
— Но кто же научил пса этим штучкам?
— Не знаю, сэр, думаю, он сам. Я замечал, как он часами читает газету. И не то, что мы с женой, — разные там убийства, разводы, скандалы, а только финансовые и деловые страницы. Пристроится где-нибудь в укромном местечке и читает, читает. Сначала я думал, он просто смотрит в газету. Присмотрелся — гляжу, то головой кивнет, вроде доволен. То, видно, прочтет что-нибудь не по нему — рассердится, отшвырнет газету. Да вы сами спросите Булли, так мы его зовем.
— Его? Спросить?
— Да, сэр, спросите попробуйте.
Лесли Мастертон в третий раз за утро пожал плечами и спросил Гроппера:
— Послушайте, гм… а почему вы подчеркнули именно “Дженерал электрик”?
В свою очередь, и Гроппер захотел пожать плечами, но вместо этого короткая шерсть на его загривке коротко дернулась, будто он сгонял мух.
Он снова взял карандаш и нацарапал: “военные заказы”.
Держать карандаш между лапами было неудобно, как будто он зажал его левой, непривычной рукой, и на секунду Гропперу даже захотелось бросить его и залиться лаем, но он сдержался. Только спокойствие, только выдержка могли спасти его. Ничего не потеряно…
Лесли Мастертон ущипнул себя за ладонь. Больно. На ладони отпечатались две беловатые полоски от ногтей.
Он сказал:
— Простите, Булли, кажется, мне нужно сесть за стол.
Бульдог спрыгнул на пол. Менеджер сел за стол и несколько раз плавным движением погладил лысину. Он всегда сопровождал важное решение таким жестом.
Люди наживают состояние разными способами: одни продают участки на Луне, другие пускают в продажу мужское нижнее белье с нарисованными на нем муравьями, как сделал в молодости один известнейший политический деятель. Почему бы тогда ему не заработать на собаке?
— Знаете что, Бакстер, зачем вам связываться с банком? Я даю вам свои деньги, целиком финансирую помещение и рекламу, а вы мне платите пятьдесят процентов прибылей.
— Боюсь, мистер Мастертон, что пятьдесят процентов — это слишком много.
— Возможно, но это ведь не ваш пес, Бакстер. И скажем прямо, такие псы не бегают на улице стаями. Ни в Хиллсайде, ни в штате, ни вообще в Америке. Или вы думаете, что стоит паре-тройке бродячих псов забрести на пустырь, как они тут же раскрывают журнал “Юнайтед стейтс ньюс энд Уорлд рипорт” и начинают спорить, куда лучше всего вложить капиталы? Как вы думаете, это дикий пес, дикий вроде какого-нибудь хомяка? Нет? То-то же. Значит, в любой момент за ним может пожаловать хозяин. Чем рискуете вы? Ничем. А я — деньгами.
— Ну хорошо, мистер Мастертон, где мне разговаривать с вами…
Если бы прокуренный зал Грэнд Пэлиса мог рассказать все, что видели его стены, это был бы живописный рассказ.
Здесь не раз выступали знаменитые джазы. В свете разноцветных прожекторов публике улыбались Дьюк Эллингтон и Гленн Мюллер, Бенни Гудмэн и Дэйв Брубек. Иногда в центре зала сооружался ринг, и в редкие минуты, когда зрители на мгновенье затихали, слышались глухие удары перчаток о потное человеческое тело. В этом зале рефери поднимал руки Сладкого Рэя Робинсона и Флойда Паттерсона, здесь выпархивал на ринг в неописуемых халатах самый хвастливый боксер в истории мирового бокса Кассиус Клей.
В Грэнд Пэлисе устраивались съезды обеих партий штата, и тогда среди гвалта, дыма и цветных шариков с портретами очередного кандидата (“только он сможет дать штату порядок и процветание!”) по проходу и сцене маршировали девицы в ботфортах и тугих лосинах, лихо жонглируя барабанными палочками.
Иногда здесь появлялись проповедники. Они грозили геенной огненной и обличали социалистов-атеистов. Они призывали к крестовому походу против “антиамериканизма” и требовали изъятия из библиотек рассказов о Робин Гуде ввиду его склонности к экспроприации богатых.
Здесь выступали уродцы карлики и пианисты, обрабатывавшие клавиатуру ногами, сексуальные певицы без голоса и бесполые существа, читавшие стихи о сексе.
Но собака, которая умела считать на арифмометре и анализировала курс акций, выступала впервые, и плотная толпа посетителей, теснившихся у центрального входа, оживленно обсуждала предстоявшее зрелище…
Гроппер лежал на диване в маленькой обшарпанной комнате. На стене висел огромный рекламный плакат с его изображением в блестящей попонке и с цилиндром на голове.
Аршинными буквами было написано:
САМАЯ УМНАЯ СОБАКА СВОБОДНОГО МИРА. ЧУДО АТОМНОГО ВЕКА.
СПЕЦИАЛИСТЫ РАЗВОДЯТ РУКАМИ. ЗРИТЕЛИ В ВОСТОРГЕ.
БУЛЛИ ДАЕТ ОТВЕТЫ НА РАЗНООБРАЗНЕЙШИЕ ВОПРОСЫ,
ДЕМОНСТРИРУЯ НЕОБЫЧАЙНЫЙ ДАЖЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ИНТЕЛЛЕКТ.
САМОЕ ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ В МИРЕ ЗРЕЛИЩЕ.
Гроппер взглянул на плакат. Интересно, что бы сказали люди, если бы он появился в своем обычном виде на Уолл-стрите с этой попонкой на плечах? Гроппер шумно вздохнул.
Самое удивительное, думал он, что человеческий период его жизни казался ему странно коротким, как бы сжатым под каким-то прессом. Зато недельное существование собакой заполняло почти все его сознание. Обилие впечатлений, что ли.
Он вспомнил запах шотландской овчарки и ужаснулся. Запах казался восхитительным. Не в мозгу, где-то в глубине мышц зашевелилось желание толкнуть ее мордой в бок, игриво куснуть и помчаться за ней…
“Я схожу с ума, — промелькнуло у него в голове. — Если я останусь собакой еще несколько месяцев, я, наверное, забуду, кто я”.
“Фидо, — снова подумал он. — Интересно, какие получаются щенки от бульдога и шотландской овчарки? Наверное, похожие на бульдога, но с более длинной мордой и шелковистой густой шерстью”. Гроппер вздрогнул. Всю жизнь он не женился. Он был слишком целеустремлен и занят делами, чтобы тратить время на любовную болтовню.
И вот теперь он, Фрэнк Джилберт Гроппер, обошедший все матримониальные капканы, увернувшийся от замаскированных любовных ловушек, думает о своем потомстве от шотландской овчарки Фидо, о маленьких щенятах с толстыми неуклюжими лапами и мягкими носами. Он никогда не смог бы поговорить с ними, он был бы для них лишь Булли, бульдогом. И то какой-нибудь год.
Через год его сын отчаянно лаял бы на него, встретив на улице, и норовил укусить. Впрочем, разве у людей не так?
Разница лишь в возрасте. Он вспомнил о сыне покойной сестры, о Патрике Кроуфорде. Этот мозгляк, наверное, потирает руки в предвкушении наследства…
Гроппер снова потряс головой, словно отряхивался после воды, и поднялся на задние лапы. На столе стояла бутылка “Олд форестер”. Он наклонил ее над столом. Коричневатое виски с. резким запахом лужицей потекло по полированной поверхности. Мысленно поморщившись, Гроппер принялся быстро лакать.
— Господи, — благоговейно сказал Бакстер, стоя в дверях, — ты никак любишь выпить, Булли?
Бакстер взял со стола бутылку и замахнулся. Гроппер отскочил в угол и зарычал.
— Ну ладно, Булли, не будем ссориться. Ты прав. Раз ты необычный пес и понимаешь в акциях, можешь и выпить. До начала выступления осталось минут десять. Слышишь?
Через полуоткрытую дверь слышалось неясное гудение зрительного зала. Гремела музыка. Пахло потом.
— Ты не забыл свои номера?
Гроппер отрицательно покачал тяжелой головой.
Глава 13 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БЕССМЕРТИЯ
— Может быть, его уже давно нет в живых? — спросил Хант, вставая с дивана. — Мы сидим в этом дурацком мотеле уже пятый день…
Беллоу посмотрел на помощника холодно и внимательно:
— Вы слишком нетерпеливы, друг мой. Двадцать миллионов долларов — это отличное лекарство. Успокаивает нервы и придает энергии. Или вы предпочитаете заработать свою долю обычным путем? Если вы даже завтра станете профессором, вам потребуется для этого ровно тысяча лет. И то при условии, что вы все эти годы не будете есть, одеваться, платить за квартиру и вообще не потратите ни одного цента.
— Оставьте, профессор, я уже давно оценил ваше элегантное остроумие. На вашем месте я бы лучше писал статьи в “Нью-Йоркер”. Там, говорят, ценят иронию и платят за нее прекрасный гонорар.
— Крис, благодарю вас за совет. Я очень тронут.
— Четыре дня, как я дал объявление в газету, и хоть бы один звонок из редакции.
Они почти не выходили из мотеля, разве что поздно вечером, но Беллоу был уверен, что их не ищут. Вряд ли Патрик Кроуфорд будет настаивать на тщательном расследовании, считал он. Кроме того, полиция наверняка уверена, что они давно уже пересекли границу штата. И тем не менее Хант боялся.
— Четыре дня не такой уж большой срок, — задумчиво сказал Беллоу. — Все-таки надо помнить, что Гропперу довольно трудно читать газеты.
— Да, конечно, — машинально ответил Хант. Он сел и снова встал. Он не мог оставаться неподвижным. Он все время ощущал потребность двигаться, словно что-то подталкивало его.
— Может быть, вы выйдете на улицу, уже совсем темно, и купите газету? — Беллоу, казалось, понимал, что еще несколько минут — и Крис взорвется.
— Да, конечно, — снова пробормотал Хант, надел шляпу и вышел на улицу.
В полутьме улицы к Ханту возвращалось спокойствие.
Он шагал по тротуару, опустив голову, и старался ни о чем не думать. С детства он умел как бы рассредоточивать сознание, и мысли его начинали плыть отдельными разорванными облачками. Потом он ловил себя на какой-то странной на первый взгляд мысли и долго восстанавливал ассоциации, по которым она пришла ему в голову.
Вот и сейчас он зафиксировал в сознании слово “Техас”.
Почему Техас? Ага, столица Техаса Остин. Что в Остине?
Ну конечно же, там живет его сестра с мужем. Он улыбнулся в темноте. Обратная перемотка, как он называл этот процесс реставрации мыслей, всегда доставляла ему удовольствие.
Когда он был мальчишкой, сестра всегда заворачивала сандвич, который он брал в школу, в газету. Газета. Четыре дня, как они дали объявление в “Хиллсайд дейли геральд”. Целых четыре дня.
У газетного киоска не было ни души. Он торопливо сунул монетку, взял вечернюю “Хиллсайд ивнинг стар” и пошел обратно. Чем ближе он подходил к мотелю, тем больше начинал нервничать.
— Держите, профессор, — сказал Хант и бросил “Ивнинг стар” на диван. Беллоу аккуратно разгладил страницы и развернул газету. Просматривая газету, он всегда тихонько насвистывал. И на этот раз, слегка растянув губы, словно улыбаясь, он насвистывал “Прижми, меня крепче, прижми меня к сердцу”. Внезапно свист оборвался. Скомканные страницы полетели на пол. Беллоу вскочил.
— Быстрее, Крис, быстрее! Мы должны успеть на этот раз.
— Куда, что, когда?
— Нате, смотрите! — Беллоу протянул Крису газету. Из под заголовка “Феноменальный пес поражает публику” на него смотрел Джерри. Или Гроппер.
Забыв даже запереть дверь номера, они выскочили на улицу и бросились к машине.
Хант стоял у бокового выхода из Грэнд Пэлиса и ждал.
Представление кончилось уже с полчаса назад, разошлись последние зрители, а он все стоял в темноте, прячась за колонной и глядя на дверь.
Только бы заполучить этого Гроппера! Он бы уж заставил его заговорить человеческим языком. Собаки похожи на людей, они не любят, когда им больно. Но если обычный пес, когда ему больно, очень больно, будет лишь выть и извиваться, бульдог с сорока миллионами обладает большей фантазией. Ему можно будет показать клещи и чиркнуть спичкой под носом так, чтобы он ощутил тепло огня. И тогда он нацарапает на бумаге названия банков и покажет, куда какой ключ подходит.
Вот дверь, наконец, распахнулась, и в освещенном изнутри прямоугольнике показалась фигура человека с собакой на поводке. Хант сделал шаг вперед и тихо позвал:
— Гроппер, мистер Гроппер!
Бульдог вздрогнул и бросился в сторону Ханта. Поводок натянулся.
— Что за Гроппер? Вы, наверное, ошиблись, — пугливо сказал человек и нагнулся над собакой, чтобы взять ее на руки.
Хант стремительно опустил руку с зажатым в ней пистолетом на голову человеку. Тот ткнулся головой в ступеньку и повернулся на бок.
— Обождите, мистер Гроппер, одну секунду, — сказал Хант и взял лежащего человека под мышки. Человек был тяжелым, и Хант с трудом втащил мягкое тело за колонну. — Теперь быстрее, — Хант схватил Гроппера на руки и бросился к машине, стоявшей у тротуара в тени здания. Он рванул заднюю дверцу, бросил на сиденье бульдога и качнулся вперед. В это мгновение чьи-то руки сдавили ему горло, от тяжелого удара в лицо дернулась назад голова, и он потерял сознание.
Сначала он почувствовал боль. Она набегала короткими острыми толчками, вместе с ударами сердца, начинаясь где-то внутри и кончаясь в затылке. Ханту нестерпимо захотелось снова погрузиться в небытие, мягко нырнуть под темное мягкое одеяло беспамятства, но боль заставила его открыть глаза. Он хотел поднять руку, но почувствовал боль в запястье и понял, что связан.
Сознание прояснилось. Теперь он ощущал всем телом мягкое покачивание машины, слышал рокот мотора и пение шин.
Похоже, что это их машина, старенький “понтиак”, который они с Беллоу арендовали в крошечном гараже на окраине Хиллсайда. Он хорошо помнил, что открыл дверцу именно их машины. Или Беллоу… Не может быть, а впрочем… Он тихо позвал:
— Профессор!
С переднего сиденья обернулось чье-то лицо:
— Молчите, вы там, а то можно повторить…
Он с трудом повернул голову и увидел лицо Беллоу с закрытыми глазами. Затылок болел меньше. Где Гроппер?
Как бы в ответ на вопрос, в ногах у него что-то зашевелилось, и послышалось собачье повизгивание.
“Логика событий”, — усмехнулся про себя Хант. Стоило несколько дней скрываться в этом проклятом Хиллсайде, сидеть в гнусном номере третьеразрядного мотеля и ждать каждую секунду стука полиции в дверь. Стоило снова и снова пытаться представить себе, что бы они сделали на месте Гронпера. Стоило давать по телефону объявление в газету, и стоило увидеть в вечерней газете фото бульдога в блестящей попонке. Стоило стоять час за колонной, ожидая, пока “самая умная собака свободного мира” не покажется в дверях Грэнд Пэлиса.
Он напряг руки. Веревка врезалась в тело. Нет, связан он прочно, со знанием дела.
Машина замедлила ход, его прижало к сиденью, и он понял, что они куда-то свернули. Под колесами зашелестел гравий, еще несколько минут, скрипнули тормоза, и машина остановилась.
— Коротышка, — услышал Хант чей-то властный голос, отгони эту калошу обратно в Хиллсайд, узнай, где они ее взяли, верни в гараж, рассчитайся и скажи, что больше джентльменам она не понадобится. Эй, возьмите-ка их, всех троих, и отнесите внутрь, там развяжете.
Их втащили в большую гостиную и усадили в кресла. Беллоу открыл глаза. Он был бледен, и на правой брови чернела корочка запекшейся крови. Гроппер лежал на боку и часто дышал, высунув язык. Язык мелко подрагивал.
“Во всяком случае, это не полиция, — подумал Хаит. — Им не нужны были бы все эти кинематографические трюки”.
В комнату вошел высокий человек в строгом сером костюме. Белоснежная рубашка с серым галстуком, прихваченным перламутровой застежкой, подчеркивала загар. “Одет со вкусом”, — подумал Хант. Человек взял со стола сигару, тщательно обрезал конец, вставил в рот и щелкнул золотой зажигалкой.
Несколько минут он спокойно курил и смотрел то на Хаита, то на Беллоу. Наконец он коротко кивнул им и сказал:
— Джентльмены, мы все испытываем живейшее любопытство в отношении друг друга. Прежде всего я должен извиниться за не совсем учтивое обращение с вами, но что поделаешь, — человек в сером костюме развел руками, — иногда приходится знакомиться с людьми экспромтом. Поскольку инициатива знакомства исходила от меня, позвольте представиться — Джо Джеффи.
Джеффи церемонно поклонился. Хант ответил кивком головы, а Беллоу едва заметно опустил и поднял веки. Джеффи уселся в кресло и заложил ногу за ногу. “По всей видимости, он получает огромное удовольствие сам от себя”, — подумал Хант.
— Чтобы избежать ненужных вопросов, я с вашего разрешения изложу вам ход событий и моих мыслей, которые привели нас к знакомству. В свою очередь, я надеюсь, что вы ответите мне тем же. Некоторое время тому назад мистер Патрик Кроуфорд, единственный наследник сорока миллионов Фрэнка Гроппера, обратился с просьбой к моей организации выяснить, что делает мистер Гроппер на уединенном ранчо недалеко от мотеля Джордана. У Гроппера рак желудка, и племянник боялся, по всей видимости, чтобы дядюшку ненароком не вылечили.
Бульдог сердито зарычал, и Джеффи с интересом посмотрел на него.
— Когда “роллс-ройс” миллионера остановился у дверей ранчо и я увидел в бинокль, как хозяева вытащили оттуда чье-то связанное тело и все четверо, считая связанного, скрылись в доме, меня самого начало разбирать любопытство. Даже если бы мистер Кроуфорд и не должен был оплатить ваши услуги, мне очень хотелось узнать, с каких это пор солидные бизнесмены и финансисты начали возить в “роллс-ройсах” связанных людей с кляпами во рту. Видите ли, — добавил Джеффи с улыбкой, — это ведь в некотором смысле по моей части. Я долго думал и, признаюсь вам честно, джентльмены, не мог прийти ни к какому выводу. Слишком все было таинственно во всей этой истории. Но вот на днях я читал “Хиллсайд дейли геральд” и вижу объявление о пропаже бульдога с белыми чулками и по кличке “Джерри”. Адрес объявителя не дается. Просят сообщить в редакцию и обещают крупное вознаграждение. И здесь у меня в голове щелкает маленький выключатель. Я вспоминаю нечто, что меня раньше подсознательно поразило и что я забыл. В то время, пока мы выламывали дверь, из подвала доносился отчаянный лай. Потом лай смолк. Собаки в комнате не оказалось. Обратите внимание, миллионер Фрэнк Гроппер остался, пятьсот долларов у него в кармане остались, хотя кто-то вывернул их наизнанку. Перстень на пальце у старика тысячи в три долларов…
Бульдог сердито заворчал и качнул массивной головой, Джеффи взглянул на собаку и продолжал:
— Тысячи в три долларов остался. А собаку взяли. Что-то я не очень верю в сентиментальность людей, которые хладнокровно занимаются чем-то под автоматной очередью и тормозят на шоссе на скорости в восемьдесят миль в час. И еще что-то я вспомнил, увидев объявление в газете. Когда мы выскочили за ними из подвала и я выстрелил вслед, мне послышалось, что где-то под ногами тявкнула собака. Я позвонил в газету, у меня там хорошие друзья, и спросил, кто давал объявление о пропаже бульдога. Они не знали. Объявление было дано по телефону. Я готов был снова забыть обо всем этом странном деле, когда увидел рекламу выступления “самой умной собаки свободного мира”. На рекламе был изображен бульдог. Пока мои люди выясняли, кто выступает с собакой, в голове у меня крутились бульдоги. Маленькие и большие, щенки и старые псы. Я даже не удивился, когда мои люди доложили, что Фред Бакстер ничего толком о происхождении собаки сказать не может. Она появилась у него всего несколько дней назад. Я сопоставил дни. Она появилась назавтра после нашего налета на ранчо! Когда мы пришли к Грэнд Пэлису для маленькой беседы с этим Бакстером, мы заметили человека, прячущегося за колонной. У тротуара стоял автомобиль с работающим двигателем. Джентльмены, — Джеффи улыбнулся, — я слишком долго занимаюсь своим бизнесом, чтобы не понять значения прячущегося за колонной человека и машины с включенным двигателем. Я снова вспомнил объявление в газете. Этим людям был очень нужен бульдог. Прежде чем вы ответите почему, позвольте предложить вам что-нибудь выпить. Что прикажете, джентльмены?
— Двойной “Олд фэшенд”, — сказал Беллоу.
— Джин и тоник, — сказал Хант.
Джеффи позвонил, и через минуту появились стаканы.
— Я вас слушаю, джентльмены, — сказал Джеффи, достал из кармана автоматический “кольт”, рассеянно взглянул на него и небрежно положил на стол.
— Ну что ж, — сказал Беллоу. — У вас прекрасные аналитические способности, мистер Джеффи. Из вас бы вышел прекрасный ученый.
— Благодарю, для карьеры ученого я слишком люблю целиться…
Беллоу пожал плечами:
— Позвольте представиться. Профессор Беллоу. Мой помощник Хант, а это, — Беллоу кивнул в сторону бульдога, — мистер Фрэнк Джилберт Гроппер.
— Фрэнк Джилберт Гроппер? — словно эхо, переспросил Джеффи.
Бульдог встал, кивнул Джеффи головой и подал лапу.
Джеффи несколько раз мигнул, потер лоб рукой и переспросил: — Фрэнк Джилберт Гроппер?
— Да, он самый, — сказал Беллоу.
Джеффи устремил взгляд ввысь и забормотал молитву.
— Что ж, джентльмены, поднимаю тост за успех и процветание нашего нового предприятия, — сказал Джеффи. — Предлагаю назвать его Акционерным обществом бессмертия.
— С радостью, — подхватил Беллоу. — Никто не может представить себе, что это такое. У меня захватывает дух и кружится голова, когда я пытаюсь представить себе размах нашего коммерческого бессмертия. Нет на свете человека, особенно с деньгами, который не боялся бы смерти и не был бы готов отдать все, что у него есть, за новое тело, за новую жизнь, за бессмертие. Деньги есть у самых сильных, самых ловких, самых безжалостных людей. Их мы и будем делать бессмертными. Мы создадим новую расу бессмертных миллионеров. Мы выполним обещание, данное две тысячи лет тому назад христианской церковью. Но мы не будем обещать нашим клиентам бесплатный вечный рай. Людям, у которых есть деньги, незачем отправляться в такое длительное и малокомфортабельное путешествие. Вместо себя они отправят какого-нибудь молодого человека, воспользуются освободившимся телом и оплатят свое бессмертие наличными. Мы установим твердую таксу, и миллионеры, рассчитывая свой бюджет, будут заранее откладывать по миллиончику в год на бессмертие. Мы создадим конвейер бессмертия. Мы станем самыми влиятельными на земле людьми, и ни одно правительство, ни один президент не осмелится поднять на нас руку, ибо все влиятельные люди страны будут нашими клиентами.
— Мы будем разнообразить наше производство, — вставил Джеффи. — Мы будем выкрадывать людей из банков и начинять их временно мозгами наших людей. Мы сможем проникать во все банки, и все сейфы откроются перед нами. Мы будем делать шпионов и продавать их Вашингтону по любой цене, которую мы только ни запросим. Нам будут присылать выкраденных сотрудников иностранных посольств, и вместо них мы пошлем обратно в посольства в их телах наших агентов. Вы — гений, мистер Беллоу!
Беллоу поклонился. Щеки его разрумянились, и рука со стаканом слегка дрожала.
— Я рад, что встретился с вами, мистер Джеффи. Вы как раз тот человек, который нам нужен. Мы были безумцами, когда думали, что в Америке можно начать какое-нибудь крупное дело без покровительства человека… гм… вашей профессии. Я думаю, что такой же точки зрения придерживается и наш уважаемый друг, мистер Гроппер.
Бульдог важно кивнул головой, и все засмеялись.
— Может быть, хотите выпить?
Бульдог снова кивнул и вскочил на ноги. Беллоу взял со стола тарелку, налил в нее виски, плеснул содовой воды и поставил на пол. Гроппер начал быстро лакать, подрагивая шейными мускулами.
— Ничего, мистер Гроппер, немного терпения. На этот раз уже ничто не помешает нам подобрать вам отличное молодое англосаксонское тело. Настоящее тело. И тогда вы сможете лить в себя виски, как настоящий человек.
Гроппер, нетвердо стукая массивными лапами, подошел к креслу и вскочил на него. Через минуту он уже спал.
— Спокойной ночи, джентльмены, — сказал Джеффи. — Я понимаю, что вы устали. Завтра вы скажете, что вам нужно для создания нового аппарата. Спите спокойно.
Джеффи взял со стола свой автоматический “кольт” и многозначительно подбросил его на ладони, потом вышел из комнаты и плотно притворил за собой дверь.
Глава 14 ЛУЧШЕ БЫТЬ АВТОРОМ ЭПИТАФИИ…
Когда император узнает, что вассал бросает вызов центральной власти, он должен либо отречься от престола, либо убрать вассала.
Джек Спарк, повелитель гангстерской империи, раскинувшейся на всем восточном побережье страны, меньше всего намеревался подавать в отставку. Тем более что отставка гангстера, как правило, обеспечивает ему полный покой, слишком полный покой с пулей во лбу или щедрой дозой цианистого калия в пищеварительном тракте. Он слишком много знает, этот собравшийся на покой человек, и знания его лучше всего законсервировать в богатой могиле с лаконичной эпитафией на гранитном камне: “Спи спокойно, наш дорогой друг”.
Поэтому, когда он почувствовал, что один из его визирей, Джо Джеффи, начал собственную игру, он принялся мысленно сочинять ему эпитафию. А тут еще сведения, будто Джеффи окружил свое имение круглосуточной вооруженной охраной…
Спарк нажал кнопку и сказал возникшей из ничего секретарше:
— Люиса и Найфа.
Люис и Найф были главными “торпедами” Спарка, его трибуналом и палачами. Они умели стрелять, спокойно прицелившись, и умели нажимать на курок в кармане. Они умели стрелять из мчащейся автомашины и в толпе универсального магазина, прижавшись к жертве, и мгновенно исчезать.
Это были “торпеды”, и их круглые, сонные лица чем-то напоминали округлые головки торпед.
Джек Спарк внимательно посмотрел на подчиненных и усмехнулся.
— Ребята, — сказал он, — мне не нравится, как ведет себя мистер Джо Джеффи. Но прежде чем похоронить его как старого боевого товарища, мне бы хотелось узнать, что происходит в его очаровательном домике и почему его мальчики день и ночь гуляют вокруг с автоматами наизготовку. Короче говоря, нужно пригласить сюда кого-нибудь из его команды. Живьем. И без ненужной стрельбы. Незачем заранее устраивать шум.
Люис и Найф молча кивнули и вышли из комнаты.
Они остановили свой “кадиллак” на небольшом холмике, примерно в миле от перекрестка дороги, ведущей к имению Джеффи.
Люис открыл багажник и осмотрел уложенный там двухсоткилограммовый рулон бумаги. Потом проверил крышку — от нажатия рычажка в кузове крышка багажника, подобно крышке старинных карманных часов, откидывалась, и рулон падал на землю.
Они сидели в машине, прижав к глазам бинокли, и терпеливо ждали, спокойно расслабившись и покуривая.
Ожидание мучительно для человека с фантазией. Пока он ждет, его воображение сотни раз проделывает то, что ему предстоит сделать, и время тянется мучительно медленно, спотыкаясь на секундах и минутах.
У Люиса и Найфа фантазии не было, и течение времени они ощущали не больше, чем корова, для которой каждое неторопливое движение челюстями — вечность.
Наконец Найф сказал:
— Смотри.
Вдалеке по боковой дороге крошечной точкой двигался автомобиль. Коротко вспыхнул луч солнца, отразившись в ветровом стекле.
Найф повернул ключ зажигания, и триста восемьдесят лошадиных сил мягко заворчали в восьми цилиндрах. Пора.
“Кадиллак” рванулся вперед. Желтая машина уже свернула с боковой дороги на шоссе и набирала скорость. Найф увеличил скорость. Они поравнялись со стареньким “понтиаком”, обогнали его и мчались впереди ярдах в сорока.
Люис взглянул в зеркало заднего обзора. Пора. Он потянул за рычажок. Крышка багажника отскочила, подброшенная пружиной, тяжелый бумажный рулон плюхнулся на шоссе и стремительно покатился назад. Еще мгновенье — и он с глухим стуком ударил по “понтиаку”, который отчаянно пытался увернуться от бумажного болида.
Люис и Найф остановили машину и подбежали к “понтиаку”. Невысокого роста полный человек лежал грудью на рулевом колесе и тихо стонал. Глаза его были закрыты.
Дверцу слева заклинило от удара, и им пришлось вытащить его через правую дверцу. Они положили его на заднее сиденье “кадиллака” и с трудом вкатили в багажник рулон.
Вся операция заняла не больше минуты. Где-то вдалеке слышалось низкое гудение машины. Найф повернул руль, и “кадиллак” плавно устремился вперед.
Человек плакал, размазывая слезы по покрытому синяками лицу.
— Клянусь вам, сэр, я не знаю никакого Джеффи. Я просто ехал из дому в Хиллсайд. Отпустите меня, сэр, я ничего не знаю. Дома ребятишки и жена, они ждут меня. Вот такие мальчуганы.
Человек нагнулся и показал рукой рост своих детей. Спарк посмотрел на Люиса и едва заметно кивнул головой. “Торпеда” упруго выбросил кулак, и голова человека дернулась назад, словно кто-то дернул за ниточку. Из рассеченной губы показалась кровь.
Человек закричал:
— Клянусь, я ничего не знаю! Можете разрезать меня на куски, я ничего не знаю.
Спарк нахмурился. Миляга Джеффи умеет нагнать страху на своих ребяток.
— Как вы сказали? Разрезать вас на куски? А что, это отличная мысль! Действительно, почему бы и нет? А, Найф? Как вы думаете? И вы, Люис?
“Торпеды” весело улыбнулись. Что за человек мистер Спарк, что за манеры, всегда умеет вставить острое словцо, всегда умеет пошутить! Можно подумать, что босс только сейчас вспомнил про циркульную пилу. Спарк снова кивнул им, и они быстро связали человеку руки и ноги. Потом подняли его с иола и понесли.
Мастерская помещалась в подвале. Под потолком ярко горела тысячеваттная лампа и бросала сильный пучок света па длинный деревянный стол. С одной стороны стола в тонкой прорези синевато мерцала циркульная пила. Люис и Найф положили связанного человека на стол и отошли в сторону.
— Послушайте, — мягко сказал Спарк, — для чего все эти ненужные и неприятные процедуры? Почему бы вам спокойно не рассказать обо всем, что происходит у вашего милого хозяина мистера Джеффи? Почему вокруг его дома выставлена, например, вооруженная охрана? Почему он разговаривает со мной по телефону таким независимым тоном, будто собирается положить себе в карман золотой запас Соединенных Штатов?
Человек молчал. Покрытый потом лоб матово блестел в ярком свете. Кровь на лице казалась совсем черной. Найф вопросительно посмотрел на Спарка, и тот опустил веки. Найф нажал кнопку, и пила с пронзительным воем начала вращаться. Мотор набирал обороты, вой повышался, пока не перешел в пронзительный острый визг. Люис осторожно подвинул человека вперед так, что его голова находилась в каком-нибудь дюйме от слившихся в зыбкий круг зубьев пилы.
Ветерок зашевелил волосы на его голове. Он издал животный крик, хриплый страшный рев. На губах пузырилась пена.
Спарк нажал кнопку, пронзительный визг пилы перешел снова в вой, вот вой стал басовитым и начал затухать.
— Я все скажу, мистер Спарк, все. Только оставьте меня у себя, иначе я получу пулю от босса. Джо Джеффи не забывает. Я все скажу. Все скажу. Только оставьте меня. Я буду служить вам как собака, мистер Спарк, сэр.
— Ну вот и отлично, мой милый. Почему у Джеффи круглосуточная вооруженная охрана? Что он замышляет?
— Я все скажу, все, что знаю, сэр. — Человек торопился и захлебывался словами. — Джо Джеффи следил за Гроппером, Фрэнком Гроппером, миллионером…
Джек Спарк качнулся вперед. Он вспомнил согнутую фигуру старого финансиста у себя в кабинете. Вспомнил его просьбу — доставить ему здорового молодого парня. Вспомнил таинственные отчеты в газетах о странном происшествии на заброшенном ранчо.
— Потом мистер Джеффи решил, что с этим бульдогом что-то нечисто. Мы выкрали этих ребят вместе с собакой, и сейчас они все у Джеффи.
— Но при чем тут бульдог?
— Можете верить мне, можете не верить, но клянусь вам, я сам слышал, как Джеффи называл собаку мистером Гроппером. Клянусь честью, сэр.
— Собаку? Мистером Гроппером?
— Да, сэр. Ей отвели отдельную комнату, и ее кормят, сэр, как я сроду не ел. Таскают ей бифштексы по три доллара за штуку. И виски. И не какое-нибудь. Я сам ездил в город, чтобы специально купить ящик виски “Канадиэн клаб”. Хотите — верьте, хотите — нет: специально для собаки. А эти двое — они с того ранчо. Все время что-то мастерят в большой комнате, и туда Джеффи никого не пускает. Он все время ходит как именинник. Говорит: “Обождите, ребятки, скоро мы развернемся”. Я вам все сказал, сэр, все. Клянусь своим именем Коротышки Робинса. Вы только оставьте меня у себя, мистер Спарк, а то Джеффи…
— Я бы вас оставил, мистер Робине, но вы не умеете держать язык за зубами. Сегодня вы выболтали все, что знали, мне, а завтра…
— Клянусь вам, мистер Спарк, — глаза Робинса молили, — только оставьте меня, я вам докажу.
— Ну хорошо, раз вы так просите, придется оставить вас здесь. — Спарк вытащил пистолет.
— Не надо-о-о! — вопль Робинса рванулся вверх и, ударившись о стенки подвала, перешел в шепот. Щелкнул выстрел, Коротышка Робинс дернулся раз-другой и затих.
Он уже представлял себе, что будет вспоминать о Джеффи как о хорошем парне и отличном товарище. Разве что он сделал маленький промах, забыв о старом Спарке.
Но этих двоих надо взять живьем, и самое главное — собаку. Господи, боже правый, что только не творится на свете!..
Прежде чем Джо Джеффи открыл глаза и выпрыгнул из постели, рука его уже нащупала автомат. Внизу слышались выстрелы. Кто-то тяжело взбирался по лестнице.
Джеффи рванул дверь в соседнюю комнату. Беллоу, в расстегнутой пижаме, медленно сползал с подоконника, словно кто-то осторожно тащил его за ноги. Струйка крови стекала у него по лицу.
Джеффи не мог анализировать происходящего. Лишь слово “Спарк” выстрелами отдавалось у него в голове. Спарк, Спарк.
Почему он сам не всадил ему пулю в затылок в прошлом году, когда Джек садился в машину?.. Но мысли скакали без его участия. Он был занят автоматом.
Нестерпимо громко хлестнула по ушам автоматная очередь, и с тонким звоном посыпались стекла. Джеффи метнулся к другому окну. В темноте двигались тени.
Дверь затрещала и подалась. Джеффи поднял автомат, но почувствовал толчок в грудь. В голове промелькнула мысль об Акционерном обществе бессмертия и погасла.
Дверь с грохотом упала, и в комнату ворвались люди.
В темноте никто не заметил, как по лестнице клубком скатилась собака и исчезла, растворилась в ночи…
Было жарко, и Гроппер высунул язык. Он не спеша плелся по обочине. Внезапно мышцы его напряглись. Прежде чем сознание шестидесятивосьмилетнего финансиста смогло проанализировать сигнал возбуждения, Гроппер уже гнался за серой худой кошкой. Тоненько царапнули коготки о кору, и вот она уже сидит на ветке клена и насмешливо глядит на неуклюжего пса.
Кошка сидит на дереве и смеется над ним. Почему, разве у него сдвинулся набок галстук или расстегнулись брюки?
И тут впервые с того момента, когда его голова, человеческая голова, оказалась в фиксаторе аппарата, он понял, что не одет. Он голый. На нем нет ни белья, ни носков, ни рубашки, ни костюма, ни шляпы, ни галстука. Ничего. Он голый, он слегка прикрыт коричневатой гладкой шерстью, но она не заменяет одежды. Но даже не в одежде дело. Она сейчас не нужна ему. Не помчишься же за кошкой в смокинге и не станешь грызть сухую кость на обочине, поправляя лапой сползающий на глаза цилиндр?
И тем не менее его охватило острое ощущение наготы, страшной наготы, когда кажется, что ты вывернут наизнанку и выставлен напоказ.
И тут в маленький собачий мозг, в котором свободно уместился духовный мир и опыт пожилого миллионера, потихоньку пробралась колючая, страшная мысль.
Эта мысль, раз пробравшись в мозг, начала ворочаться в нем, нагло, по-хозяйски устраиваться, как устраивается новый владелец в только что купленном доме.
Гроппер почувствовал, что безвозвратно теряет себя.
То, что делало его Фрэнком Джилбертом Гроппером, исчезло, и что же осталось? Он этого еще не знал.
Чушь, чушь нес профессор Беллоу об электрической мозаике мозга, о непрерывности сознания. Деньги — вот непрерывность сознания, таящая в себе вселенную. Тот, у кого деньги, молодой ли, старый, умный, глупый, — тот имеет право на самосознание. Не надо никакого фиксатора, чтобы разрядить мозг, нужно отнять у человека деньги — и он останется голым, жалким, потерявшим себя.
Гроппер понурил голову. На обочине лежал кусок газеты.
Крупными буквами было написано: “Вчера в возрасте шестидесяти восьми лет умер известный финансист Фрэнк Джилберт Гроппер.
Он умер от рака желудка в своем имении Риверглейде, не приходя в сознание. Его состояние оценивается в сорок миллионов долларов”.
От газетного клочка слабо пахло мясом. Наверное, в него был завернут сандвич. Гроппер лизнул пыльную бумагу и поплелся вдоль обочины. Кошка на дереве фыркнула, но он не обернулся.
Глава 15 Я ЧЕЛОВЕК ПОРЯДОЧНЫЙ
Ханту казалось, что сквозь чернильную толщу воды не проникало и фотона света. И тем не менее в этом плотном мраке медленно колыхались какие-то тени, плавно двигаясь в беззвучном хороводе. “Но я же задохнусь, сейчас я захлебнусь”, — мелькнуло у него в голове, и он конвульсивно дернул руками. Пальцы слабо шевельнулись, и Хант ощутил нечто плотное под ними.
Он стал подниматься. Он знал, что поднимается к поверхности, хотя его по-прежнему окружал мрак. Но темнота как бы истончалась, становилась зыбкой, и где-то за ней начинал угадываться свет. Он медленно всплывал покачиваясь. Он решил, что если откроет глаза, то скорее уловит первые проблески дня. Мгновенье веки его трепетали, потом он поднял их. Взгляд упал на белый потолок. То есть Хант еще не был уверен, что над ним потолок, но на просыпающееся сознание уже стремительно набегала волна воспоминаний. Еще мгновенье, и он вспомнил все. Ну конечно же, он в больничной палате. Он остался жив. Он поднял руку, чтобы кисть оказалась в поле зрения. Движение было медленным и неуверенным. Но он не сдавался. На руке был незнакомый белый с голубыми полосками рукав. Должно быть, больничная пижама. Он опустил руку и провел ею вдоль тела. Ни бинтов, ни гипса. “У меня уже входит в привычку приходить в сознание, — подумал Хант и мысленно усмехнулся. — Только что я пришел в себя в машине со связанными руками, теперь же — в незнакомой больничной комнате. Не слишком ли часты эксперименты? А еще говорят, что ученые у нас не пользуются большой популярностью. Судя по моей голове, это не так”.
Слово “голова”, промелькнувшее в его мозгу, заставило Ханта снова поднять руку и дотронуться до лба. Пальцы ощутили повязку. Он осторожно, словно боясь ненароком расплескать ее содержимое, покачал головой. И действительно, в черепной коробке тупо шевельнулась боль.
Он услышал скрип двери и инстинктивно закрыл глаза.
Кто-то подошел к кровати, на которой он лежал, и замер.
Какой-то давно забытый животный инстинкт подсказал ему, что на него смотрят и к лицу его приближается рука. Еще мгновенье, и рука слегка коснулась его щеки и лба. Женский голос сказал:
— Он еще в беспамятстве, лейтенант, но думаю, что скоро придет в себя.
Голос был густой и низкий, и Ханту представилось, что обладательница его должна быть рослой, полной и важной.
— Что значит скоро, сестра? — нетерпеливо спросил мужской голос откуда-то сбоку, должно быть от двери. — Вы представляете себе, как мне хочется побеседовать с этим джентльменом?
— Да, но даже когда он придет в себя, вряд ли вы добьетесь от него сразу чего-нибудь путного. Все-таки царапина на лбу довольно глубокая и, по всей видимости, у него легкая контузия.
— Э, сестра, — возразил лейтенант, — вы не знаете этот народ. Они живучи, как кошки. Их либо убивают сразу, либо они через час-другой уже вполне могут сами нажимать на спусковой крючок. Вы уж мне поверьте…
— Не буду с вами спорить. Наберитесь терпения и подождите в холле.
“Спокойнее, — подумал Хант, — главное — думать логично. Ученый я в конце концов или полуграмотный гангстер, путающий английские слова с итальянскими? Итак, кто-то совершил налет на имение Джо Джеффи. Я был ранен и доставлен в больницу. По-видимому, я единственный, кого нашла полиция. Остальные или убиты, или удрали. Но где собака, где Гроппер? Неужели тоже убит? Отрицать, что я что-либо знаю, бессмысленно. Придется избрать другой путь. Откровенность и прямота не так уж плохо, когда больше ничего не остается делать. Беллоу убит, гениальный ученый с замашками гангстера. Общество бессмертия на паях…” Мысли скакали у него в голове, насмехаясь над ним. Усилием воли он заставил себя сосредоточиться. Беллоу, очевидно, убит. Ключи от сейфов и неподписанные чеки исчезли.
Но Гроппер наверняка запрятал часть своих миллионов где-нибудь еще, он не такой человек, чтобы снести яйца в одну корзинку… Ну что ж, посмотрим. Если только бульдог жив. Хант открыл глаза. Спиной к кровати стояла могучего телосложения сестра в длинном белом халате. Белый продолговатый чепец католической монахини на голове был накрахмален так, что отливал металлическим блеском. На мгновение Ханту захотелось броситься на нее, сшибить с ног, напялить на себя ее одежду и удрать из больницы, но он тут же усмехнулся своей ребячливости. В холле сидит полицейский лейтенант, и, кроме того, в его состоянии он смог бы сшибить с ног разве что муху.
— Сестра, — позвал он, — прошу простить меня, но я уже пришел в себя, а в холле, как я слышал, моей аудиенции ожидает джентльмен.
Сестра удивленно взглянула на него, пожала плечами и пошла к двери. На секунду ее мощная фигура застыла в дверном проеме, и тут же в комнату вошел невысокий широкий человек с круглым лицом и бегающими глазами. Человек улыбнулся, подвинул к кровати стул и сказал:
— Я же говорил сестре, что вы — народ живучий. Позвольте представиться: начальник бюро хиллсайдской полиции по особо важным преступлениям лейтенант Мак-Грири. Теперь валяйте вы и не теряйте зря отпущенного вам господом времени. Его, может быть, осталось у вас не так-то много.
— Благодарю вас, лейтенант, за напоминание о бренности всего земного и быстротечности жизни. Разрешите, в свою очередь, представиться и мне: доктор Кристофер Хант, помощник профессора Беллоу. Специальность — тонкая электронная аппаратура.
— А еще говорят, будто полиции приходится иметь дело только с необразованной публикой. Итак, мистер Хант, что вы делали вчера ночью в доме у некоего Джозефа Джеффи? Устанавливали тонкую электронную аппаратуру?
— Самое комичное, лейтенант, что вы угадали…
— Ну конечно же, ночью у вас возник сугубо теоретический спор с командой из другого университета, и вы решили в порядке научного диспута перестрелять друг друга. Бросьте валять дурака. Меня интересует только одно: вы сами будете говорить или помочь вам?
Лейтенант многозначительно сжал правую руку в кулак, поднес к глазам, осмотрел и даже подул на нее, словно смахивая невидимые пылинки. Кулак у него чем-то походил на лицо: был таким же круглым и невыразительным.
Хант откинул голову на подушку и вздохнул. В Гарварде по крайней мере его никто не бил и не грозил избить. Теперь же ему доставалось с удручающей регулярностью.
— Послушайте, лейтенант, — устало сказал он, — вы не задумывались над вопросом, почему Гроппер стал идиотом?
Кулак лейтенанта как-то сам собой раскрылся. Он уперся руками в колени и наклонился вперед, почти к самому лицу Ханта. На носу Мак-Грири росли маленькие волосы и кожа была пористой.
— Да, — ответил он, — я задумывался над этим. Кроме того, я задумывался над многими другими вещами. Например, почему Гроппер не оставил никакого завещания? Вы, должно быть, не знаете, он вчера умер, так и не придя в себя. Я действительно думаю обо всех этих вещах, мистер Хант, если это ваше настоящее имя, и у меня болит голова.
— У меня тоже. В одном только я не могу с вами согласиться. Вполне возможно, что мистер Фрэнк Джилберт Гроппер вовсе не умер.
— Пожалуй, сестра все-таки была права. Рановато я вас начал допрашивать.
— Нет, нет, лейтенант, не рано. Я чувствую себя великолепно. Меня совершенно не интересует, кто испустил дух в Риверглейде. Я даже не отрицаю, что для вас и всех других скончавшийся слабоумный старец действительно Фрэнк Гроппер. Меня же в гораздо большей степени интересует коричневый бульдог с белыми лапами.
— Мне начинает везти на сумасшедших. Сначала Гроппер, теперь вы.
— Держитесь, лейтенант, а то сами присоединитесь к этой компании. Кстати, штат оплачивает больничные счета, если его полицейский попадает в сумасшедший дом?
— Послушайте, вы, на вас, кажется, уже произвел впечатление мой кулак. Хотите свести с ним более интимное знакомство?
— Не сердитесь. Я просто с детства считал, что полицейский начинает соображать что-нибудь, когда выведешь его из себя. Усиленная циркуляция крови способствует мыслительным процессам. Эй, эй, осторожнее! Ударите меня через минуту, а сейчас скажите: нашли там труп бульдога?
— Нет, а что?
— Значит, по всей видимости, он жив. Повторяю: очевидно, Фрэнк Гроппер жив. Вряд ли он дался им в руки. Надо только поймать его и по меньшей мере половина его состояния — наши. А это минимум двадцать миллионов.
Лейтенант встал и повернулся к двери.
— Не думайте, приятель, что эта игра в сумасшедшего что-нибудь вам даст. Я сам видел вчера старика в постели. Не говоря уже о том, что весь Риверглейд полон врачей. Когда племянник Гроппера Кроуфорд понял, что старик уже не выкарабкается, он не жалел на докторов. Так что полежите. Часа через два мы снова побеседуем, и тогда…
— Не торопитесь, лейтенант Мак-Грири. Какой мне смысл дурачить вас, если у двери, с той стороны, стоит ваш полицейский? Угадал? Вот видите. Я вас еще раз спрашиваю: знаете ли вы, как могло получиться, что Фрэнк Гроппер отправился на ранчо нормальным человеком, нормальным хотя бы потому, что он сам вел свой “роллс”, а нашли вы его идиотом? Полным идиотом. И помните ли вы, что в подвале, где он лежал на полу, вы нашли обломки какого-то аппарата, электронного, заметьте? И помните ли вы, что фамилия владельца этого ранчо действительно Беллоу и что помощником у него был некто Кристофер Хант? Садитесь, лейтенант, и слушайте. Я думаю, что, если вы поверите мне, через недельку — другую вы смело сможете подать в отставку. Кстати, вы случайно не помните, не совершал ли кто-нибудь нападения на некоего Бакстера с целью отнять у него собаку?
Хант не заметил, как сел в кровати. Он говорил медленно, спокойно и логично, и его не оставляло ощущение, что говорит не он, а кто-то другой, а он лишь слушает этот знакомый голос. Он всегда чувствовал такое раздвоение, когда был возбужден. Должно быть, работа в лаборатории научила его этому фокусу: можно сколько угодно дрожать от возбуждения — выйдет или не выйдет эксперимент, — но часть сознания должна пристально и критически следить за приборами.
Он неторопливо рассказывал и думал: жалеет ли он о том вечере, когда принял приглашение Беллоу уйти из университета и заняться этой штукой? Нет, пожалуй, не жалеет. Конечно, для человека науки, для ученого деньги не все, но очень многое. Годы идут, мозг теряет свою остроту, пальцы — гибкость, а что остается взамен? Скудное профессорское жалованье, молодящаяся жена, набитая последними университетскими сплетнями, и куча детей, за которых нужно платить на каждом шагу. Нет, дело не в деньгах, дело в том ощущении свободы и независимости, которые, они дают. В конце концов он живет в свободной стране и надо иметь на что пользоваться этой свободой. Нет, он не жалел о предложении Беллоу.
Когда Хант кончил говорить, лейтенант Мак-Грири несколько минут сидел молча. Внезапно он вскочил и крикнул:
— Я вам верю, это слишком фантастическая история, чтобы усомниться в ней! Мы должны изловить эту собаку, простите, Гроппера. Я уверен, что у Джеффи трупа собаки не нашли. Вы можете двигаться? Давайте попробуем.
С нескрываемой нежностью, словно миллионное сияние ужо окружало Ханта ярчайшим нимбом, Мак-Грири помог ему встать с постели. Голова ученого гудела и ноги слегка дрожали, но он сделал несколько шагов по палате и почувствовал, что сможет идти.
— Сейчас вам принесут одежду, Хант, — сказал лейтенант и пошел к двери.
Хант снова присел на кровать. Нет, он не жалел. Если даже ему и не видать этих миллионов, он никогда не упрекнет себя, что просидел, как кретин, всю жизнь в лаборатории, вычерчивая схемы и возясь с бесконечной настройкой.
Мак-Грири вошел с одеждой Ханта в руках.
— Поехали, — сказал он, и Кристофер увидел в его глазах нетерпеливый охотничий блеск.
Пока он с трудом натягивал на себя брюки, Мак-Грири несколько раз повторил:
— Не сомневайтесь во мне, я человек порядочный. Всю выручку пополам. Честно говорю: пополам. Я человек порядочный…
Глава 16 БУЛЬДОГ В “КАДИЛЛАКЕ”
Фрэнк Джилберт Гроппер знал, что такое одиночество, и привык к нему. Подобно альпинистам, которые, подымаясь по горному пику к вершине, чувствуют себя все более одинокими, он с каждым миллионом удалялся от людей. То есть люди вокруг него были всегда, но он не верил им и не мог даже позволить себе никаких чувств по отношению к ним.
Он знал себе цену в прямом и переносном смысле и понимал, почему все вокруг с такой готовностью улыбались ему и смеялись при каждой его шутке.
Он не тяготился своим одиночеством. Для тех, кто ищет общества, одиночество — синоним скуки. Гроппер не знал скуки. Скука — это незанятый ум. Его ум всегда был занят.
И ему никогда не было ни скучно, ни одиноко. Сорок миллионов друзей, хоть и запрятанные в толстостенных стальных сейфах, никогда не покидали его и никогда не давали скучать.
Но сейчас, лежа в канаве под небольшим мостиком, он вдруг ощутил безмерное одиночество. Он всем своим собачьим телом внезапно ощутил громадность этого шумного, пахучего и пустынного мира и всю свою малость, исчезающе малую точку, дрожащую в вонючей канаве под заплесневелыми досками мостика. Если раньше деньги, его деньги, делали его центром финансовой вселенной, то теперь, лишенный их, он вдруг оказался ничтожным атомом, который подчиняется в своем движении совсем другим законам.
Одиночество наваливалось на него гигантским прессом, сжимало его, опустошало голову и наполняло безыменным ужасом. Он не мог больше оставаться один. Гроппер осторожно выглянул из-под мостика: уже стемнело. Он вылез из канавы и, стараясь держаться боковых улиц, побежал по направлению к дому Бакстеров.
Путешествие было долгим, и, когда он достиг цели, уже наступила ночь. Он ткнулся носом в калитку: заперта. Поднял голову — нет, звонок слишком высоко, не дотянуться.
Гроппер начал тщательно исследовать забор, удивляясь, как хорошо он видит в темноте. Ни единой дыры, сквозь которую можно было бы пролезть. С другой стороны забора послышалось знакомое тявканье. Фидо, шотландская овчарка Фидо.
Сердце Гроппера застучало, и он внезапно понял, что тянуло его сюда. Тявканье было веселым и нетерпеливым. “Неужели она, узнала меня в темноте?” — промелькнуло у Гропцера в голове, и он ответил радостным ворчанием. Фидо стояла у самого забора, и Гроппер просунул свою морду между планок. Странное возбуждение охватило его и заставило задрожать в томительном ожидании.
Он почувствовал, как Фидо лизнула его в морду, и восторг вырвался из него громким торжествующим лаем. Первый раз за последние пятьдесят лет он радовался поцелую, не отдавая себе отчета, что это его, шестидесятивосьмилетнего финансиста, лижет в физиономию сука породы колли.
Гроппер не анализировал своих чувств. Они были столь незнакомы ему, что он все равно затруднился бы определить их. Он лишь ощущал накатывавшую на сердце теплоту и странное головокружение.
Не думая о том, что делает, Гроппер бросился вперед на доски забора и упал. Тявканье Фидо напомнило ему человеческий смех, и он одним прыжком вскочил на ноги. В нескольких ярдах от него стоял грузовичок. Должно быть, Бакстер привез что-нибудь из гаража и решил не загонять машину во двор. Как он сразу не догадался? Гроппер подпрыгнул вверх, пытаясь вскочить в кузов, но когти лишь царапнули по борту, и он плюхнулся на землю.
Фрэнка Гроппера можно было упрекать в чем угодно, но только не в отсутствии упорства. Он слегка присел на задних лапах, подпрыгнул и уцепился лапами за край борта. Еще мгновенье — и он был в кузове. Из кузова он забрался на крышу кабины. Теперь забор был почти на одном уровне с ним, всего в двух или трех футах. Внизу он увидел Фидо.
Она стояла и, казалось, ждала его. Гроппер зажмурил глаза и прыгнул. Земля встретила его толчком, который сбил с ног и заставил два раза перевернуться. Прежде чем он вскочил на ноги, Фидо уже куснула его в ухо и отскочила в сторону.
“Боже мой, я схожу с ума, — вдруг подумал Гроппер, — я действительно превращаюсь в собаку, в бульдога. Я влюблен, я влюблен в суку с длинной шелковистой шерстью и узкой длинной мордой. Мне хочется все время быть с нею. Не хватало еще, чтобы я пригласил ее потом в Риверглейд, потом, когда я снова стану… Стану? Жив ли Беллоу? Жив ли Хант? Найдут ли они меня?” Фидо снова толкнула его мордой, принялась быстро разбрасывать задними лапами землю, потом вытащила из ямы кость и отскочила в сторону. Его, финансиста и миллионера, угощают ночью выкопанной из земли сухой костью, как когда-то угощали где-нибудь в “Ритце” изысканными блюдами.
И, может быть, впервые за долгие-долгие годы он почувствовал благодарность, мягко шевельнувшуюся в нем.
На улице послышался звук мотора, яркий свет фар создал из ничего стволы деревьев, заборы, крыши. Тонко пискнули тормоза. Открылась дверца, и чей-то голос тихо сказал:
— Как будто здесь. Сидите в машине, вы слишком слабы, я сам поговорю.
Луч карманного фонаря ощупал калитку, и в то же мгновенье в доме послышался звонок. Прошла, должно быть, минута, и человек у калитки снова позвонил. На этот раз из дома вышел Бакстер. Пугливо озираясь вокруг, он сделал несколько шагов по дорожке.
— Эй, какого черта вы там… — крикнул он и увидел прожектор на крыше “шевроле”. — Никак полиция? Другого времени вы не нашли? Вытащить из постели порядочного человека в полночь — это мне кое-что напоминает…
— Прошу прощения, мистер Бакстер. Вы ведь Бакстер?
— Ну, Бакстер.
— Лейтенант полиции Мак-Грири. Может быть, вы откроете калитку?
— В другой раз, лейтенант. С полицией, если это возможно, лучше разговаривать через забор. Что вам нужно? Или вы приехали спросить, как идут дела и какая завтра, по моему мнению, будет погода?
— Еще раз простите, мистер Бакстер, но, право же, я к вам по делу и прошу прощения за позднее время.
Фидо захлебывалась от лая, прыгая вокруг Бакстера.
— Ну что у вас, лейтенант, а то я замерзаю?
— Это ваша собака?
— Да, моя. Укусила кого-нибудь? Нет, это ошибка, мы ее не выпускаем со двора.
Луч фонарика опустился пониже и застыл на шотландской овчарке. Гроппер, сидя за кустом, почувствовал, как шерсть у него на шее становится дыбом.
— Колли?
— Да, колли. А что все-таки случилось?
— А бульдога с лапами в белых чулках у вас нет?
— Вон оно что! Вспомнили! Я же заявлял в полицию. Можете не сомневаться, бульдогов я обхожу теперь, как прокаженных.
— Да, да, мистер Бакстер, мы это прекрасно помним. Я сам веду расследование и, поверьте, не стал бы вас беспокоить, если бы не предполагал, что собака может снова забрести к вам, и тогда ваша жизнь в опасности. Это ведь не совсем обычная собака, как вы считаете?
— Обычная? Если бы наша хиллсайдская полиция обладала хотя бы половиной ее ума…
— Вы остроумный человек, мистер Бакстер. Я извинился перед вами, но если вы настроены шутить…
— Ладно, лейтенант, не заводитесь. Если бы вас вытащили ночью из постели и стали выспрашивать о собаке, из-за которой у вас были одни только неприятности, вы бы тоже стали остроумным.
— Но вы уверены, что собака не у вас? Может быть, она где-нибудь во дворе?
— Во-первых, я только что починил забор. Четыре дня возился. Во-вторых, как вы думаете, наша-то собака молчала бы?
— Да, пожалуй, вы правы. Но помните, что в ваших же интересах немедленно сообщить нам, как только бульдог окажется у вас. Вы меня поняли?
Лежа за кустом, Гроппер лихорадочно думал. Сделать шаг вперед и оказаться в луче фонарика? Что с ним сделает полиция? Во всяком случае, ни Беллоу, ни Хант, если они и остались живы после той ночи, в полицию не обратятся, слишком много на них висит. Нет, с полицией связываться они ни за что не будут, для них это верная тюрьма. Нет, покрепче прижаться к земле, к чуть сыроватой и теплой земле, запах которой, такой невыразительный для человека, распадался в его сознании на множество ярких запахов. Надо ждать. Надо дать им время.
— Так договорились, мистер Бакстер? Я жду вашего звонка.
Мак-Грири сел в машину. Свет фар снова скользнул по улице и поблек, растаял вместе с шумом удалявшегося автомобиля.
— Бр-р, холодно, — проворчал Бакстер и направился к дому. Не успел он закрыть на собой дверь, как на улице снова остановилась машина и в доме снова заверещал звонок.
Чертыхаясь, Бакстер спустился с крыльца и крикнул:
— Ну что вы там забыли, лейтенант? Дадите вы мне лечь спать или нет?
Человек у калитки тихо рассмеялся:
— Значит, это у вас была полиция? Ничего не поделаешь, приходится уступать властям очередь. Откройте калитку или вынесите бульдога.
— Кто вы и сколько меня будут терзать этой проклятой собакой? Почему вы не спросите у меня жирафу?
— Заткнись. И поплотнее. Принеси бульдога.
— Послушайте, вы что, с ума все сошли? Кто вы?
— Меньше слов, или твоя старуха завтра же отправится получать страховку за тебя, понял?
— Господи, да я бы вам с удовольствием вручил хоть дюжину бульдогов, если бы они у меня были. Нет у меня бульдога, сэр. Видит небо, что нет.
— Небо меня не интересует. Я хочу видеть сам.
Бакстер щелкнул замком и открыл калитку. В свете фонарика Гроппер успел рассмотреть сонное, невыразительное лицо. Нет, это не человек Джо Джеффи. Это, наверное, из тех, что напали на его дом. Нет, нет, только не попасть им в руки.
Если они знают, а они наверняка знают, ему несдобровать.
Они-то заставят его кое-что вспомнить.
Человек вошел в калитку и тихо свистнул. Потом сказал:
— Послушай, заткни лучше уши и не слушай, что я буду говорить. А если и услышишь — забудь! Понял?
Бакстер медленно поднял к голове трясущиеся руки и заткнул уши. Человек тихо прошептал:
— Мистер Гроппер! Мистер Гроппер, вам лучше выйти, мы вам все сделаем, что нужно. Чертов пес! Ищи его по Соединенным Штатам Америки! Как будто у босса нет других забот, как гонять нас за четвероногим финансистом. Мистер Гроппер!
Человек еще раз оглянулся и небрежно толкнул Бакстера пистолетом.
— Веди в дом, — сказал он, — может быть, ты его прячешь там где-нибудь.
Они оба скрылись в доме, а Гроппер, лизнув Фидо, шагнул к калитке. Он не хотел уходить. Лапы его словно прилипали к земле, и оторвать их было невыносимо трудно. Он еще раз оглянулся на колли. Собака смотрела на него, и ему почудилось, будто она едва слышно жалобно взвизгнула…
“Кадиллак” стоял с потушенными фарами, но мотор мягко урчал на холостых оборотах. В голову ему вдруг пришла шальная мысль. Чем еще раз рисковать жизнью, совершая экскурсию по городу, может быть… Он представил себе выражение лица человека, когда тот выйдет от Бакстера, и нажал лапой на кнопку дверной ручки. Дверца “кадиллака” слегка приоткрылась, он просунул в щель морду и вскочил на сиденье.
Закрыть дверцу было гораздо труднее, но после двух или трех попыток ему удалось притянуть ее к себе лапой.
В темноте он ощупал задними лапами педали. Ага, широкая — тормоз, узкая — акселератор. Педали сцепления на дорогом “кадиллаке” не было. Тем лучше. Сможет ли он повернуть руль? Ага, вполне.
Он нажал на педаль, и длинный лимузин мягко тронулся с места. Он ездил на машинах уже больше пятидесяти лет.
Он сидел за рулем угловатой коробочки, “форда Т”, которой Генри Форд положил начало массированному наступлению на американского пешехода и гражданина, и на кожаных подушках “роллс-ройса”, бензинового аристократа с английским воспитанием. Он уже давно воспринимал машины просто как вещь, как нечто переносящее его с места на место. Но сейчас, вцепившись лапами в руль, он ликовал. Он всем своим маленьким собачьим телом ощущал великое таинство власти человека над машиной…
Человека? Он — собака, и ему приходится почти стоять, чтобы морда хотя бы чуть-чуть была выше щитка приборов и чтобы видеть дорогу перед собой.
Он вел машину к центру города, туда, где он мог надеяться на одного человека, только одного, психологию которого он понимал и кто смог бы понять его. Он не боялся, что его заметят. Было уже темно, да и кто поверил бы своим глазам, увидев его за рулем машины?
И как бы в ответ на свои мысли, он увидел полицейского.
“Кадиллак” Гроппера стоял на пересечении Мейн-стрит и Фрйдом-авеню, ожидая зеленого сигнала светофора.
Заметит его полицейский или нет? Он не испытывал страха. С момента, как сел за руль, он чувствовал какой-то подъем, отчаянную решимость.
Полицейский медленно повернул голову и посмотрел на “кадиллак” закуривая. В течение нескольких секунд картина, увиденная им, как бы проявлялась в сознании. Затем он потер глаза, нажал себе пальцем на подбородок и перекрестился, делая все это быстро и приближаясь к машине.
— Эй, — крикнул он, — какого черта!
Гроппер помахал ему лапой и нажал на акселератор. “Кадиллак” скользнул вперед, в ночную темноту Фридом-авеню.
— Ну что вы думаете, Хант? Где мы будем его искать? — спросил Мак-Грири, оборачиваясь к Ханту. — И уверены ли вы вообще, что эта собака жива и находится в Хиллсайде? Полгорода объехали. Хотя я вам и верю, но… Ладно, двинулись в полицейское управление, поговорю со своими ребятами…
Они молча добрались до пересечения Мейн-стрит и Фридом-авеню. Внезапно Хант сказал:
— У вас у всех, полицейских, такие забавные манеры или вы для центра города выбираете лучших?
Полицейский в центре перекрестка то подпрыгивал на месте, то вздевал руки вверх и смеялся коротким дробным смешком.
— Эй, Морфет, ты что, спятил? — крикнул Мак-Грири, выскакивая из машины.
Полицейский вздрогнул, словно через него пропустили ток.
— Господи, вы-то хоть по крайней мере человек, а не собака. А то я думал уже, что схожу с ума.
— Какая собака? Что собака?
— Можете меня уволить, сэр, но я только что видел в “кадиллаке” собаку.
— Ну и что?
— За рулем, сэр! Вы понимаете — за рулем! Сидит за рулем и управляет машиной!
— Какой породы? — крикнул Хант, вылезая из “шевроле”.
— Породы? Гм… Ну конечно, бульдог! Да, сэр. Теперь я вспоминаю, конечно, бульдог. Он помахал мне лапой.
Хант посмотрел на лейтенанта, и тот кивнул головой, кивнул медленно и торжественно, словно подписывая государственный договор о дружбе.
— Послушайте, Морфет, — сказал Хант полицейскому, — так ведь вас, кажется, звать, а вы не обратили внимание на номерной знак?
— Нет, сэр, но это был черный “кадиллак”. Это точно.
Машина поехала вон туда, по Фридом-авеню.
— Спасибо, Морфет, и забудьте обо всем этом, если не хотите, чтобы над вами смеялся весь Хиллсайд. Это была всего-навсего дрессированная собака, а вы подняли панику.
— Спасибо, сэр.
Они нашли машину в самом конце Фридом-авеню. “Кадиллак” стоял у тротуара. Ключа в замке зажигания не было.
Хант открыл дверцу и несколько раз шумно вдохнул воздух.
— Можно и не искать на сиденье волосков, лейтенант. Здесь только что сидела собака, я чувствую запах.
— Похоже, что вы правы, Хант. Обождите, сейчас я свяжусь по радио из нашей машины с полицией, пусть они выяснят, кому принадлежит “кадиллак”.
Хант огляделся. Улица была пуста. Черной громадой распластался Первый Хиллсайдский городской банк.
Он тихо свистнул и прислушался. Никто не отозвался, только сзади послышались шаги Мак-Грири. Он подошел к Ханту и прошептал:
— Вы знаете, чей это “кадиллак”? Он принадлежит некоему Найфу, правой руке Джека Спарка.
Когда лейтенант произнес имя Спарка, в голосе его было почтения куда больше, чем если бы он произнес имя губернатора штата или даже президента.
— Спарка? — переспросил Хант.
— Да, Спарка, самого Спарка. Но нет, Гроппер не у них, иначе они не дали бы ему раскатывать по Хиллсайду. Он просто угнал машину.
— Вполне может быть, что Гроппер все-таки прятался где-то около дома Бакстера и воспользовался машиной, когда ее владелец тоже пожаловал туда.
— Вы прирожденный детектив, мистер Хант. Но связываться со Спарком… Господи, теперь мне понятно, кто был ночью у Джеффи и зачем они туда пожаловали! Они тоже ищут Гроппера! Да, сэр, клянусь любовью к закону!
Лейтенант Мак-Грири задумался. Он внезапно ощутил прилив отчаянной храбрости. Долго ли вообще будет терпеть страна засилье американской мафии? Хватит! Должны же найтись люди, которые смело станут на защиту законности и порядка. И это будет он, Мак-Грири.
— Обождите, Хант, — сказал он. — Я должен снова связаться с участком, а потом поищем собаку…
Глава 17 АДРЕС В ТЕЛЕФОННОЙ КНИЖКЕ
Гроппер спал, сжавшись в комок, и вздрагивал во сне.
Ему было холодно и снились сны. Ему снилось, как он привозит в Риверглейд Фидо и небрежно говорит старому Джейкобу:
— Это Фидо, моя жена.
— Да, сэр, но…
— Уверяю, она лучше многих дам, которые бывали здесь в Риверглейде.
— Да, сэр, но что скажут люди?
— Они скажут, что у Гроппера редкостная жена, с веселым игривым характером, со стройной фигурой, с шелковистой шерстью.
— С шерстью, сэр?
— Ну какая разница, Джейкоб? Пускай будет с шелковистыми волосами, если неприлично сказать о жене, что у нее прекрасная шерсть. Пришли-ка мне теперь Мередита. Мы должны разослать приглашения на свадьбу.
— Да, сэр, но ведь полагается пригласить родственников и друзей новобрачной…
— Ах, Джейкоб, Джейкоб, вечно ты суешь нос не в свои дела. Что здесь особенного? Пригласим на свадьбу десяток — другой собак. По крайней мере веселей будет. Что же касается беседы, то, уверяю, она мало чем будет отличаться от обычной светской болтовни.
— Но другие гости?
— Они будут в восторге. Фрэнк Гроппер может жениться на канарейке, на ящерице, на щуке, и, уверяю, все будут относиться к ней с величайшим почтением. В этом весь смысл цивилизации. Деньги заменяют ум, красоту, благородство. Почему же они не могут заменять недостающую прямую походку?
— Иисус Христос, спаситель наш!
— Что такое, в чем дело, Джейкоб?
— Вы… вы…
— Что я, собака? А ты что, сразу не заметил?
— Вы… вы… бульдог… Боже правый и милосердный!
— Ну хватит, Джейкоб, это начинает мне надоедать.
Он бросается на старика и сжимает челюсти у него на горле. Человеческие кости хрустят совсем по-особенному. Гронпер просыпается, вздрогнув. Ах да… Странный сон. Уже начинает светать. Очень холодно. Если бы можно только было вытянуться у себя в Риверглейде на кровати, укрыться потеплее и спать, спать, спать. Джейкоб… Ах да, Джейкоба уже нет, и Мередита тоже. Тогда у него еще не было собачьих челюстей, зато у него был “роллс-ройс”.
Только бы никто его не заметил здесь, во дворе банка, под чьей-то оставленной на ночь машиной. Он закрыл глаза и снова задремал, отчаянно стараясь сжаться, уменьшиться в объеме, превратиться в точку, лишь бы тепло его тела, не уходило…
Гроппер оглянулся: как будто ничего подозрительного. Теперь только выждать, пока у входа в банк будет несколько человек. Ага, вот сейчас.
Он молниеносно прошмыгнул мимо швейцара, в несколько прыжков очутился на втором этаже, толкнул носом дверь кабинета Мастертона и плотно прикрыл ее за собой.
— Ну кто там еще? — ворчливо спросил менеджер Первого Хиллсайдского городского банка. Он не любил, когда его беспокоили по пустякам. Мастертон поднял глаза и увидел бульдога, смотревшего прямо на него. Бульдог кивнул ему головой и прижал лапу к своей пасти — жест, приглашающий к молчанию. Потом Гроппер подошел к двери и показал лапой на замок.
— Клянусь совестью консерватора, — прошептал менеджер. Это было любимое выражение бывшего знаменитого сенатора от Аризоны, его кумира. Он защелкнул замок и уставился на собаку.
— Никак это тот самый пес, на котором я, как последний дурак, потерял четыре тысячи долларов на одной только рекламе? Как ты сюда попал? Откуда? Куда ты делся?
Гроппер кивнул. Четыре тысячи долларов! Если бы только этот провинциальный идиот знал, что значат четыре тысячи долларов для него, Гроппера! Сумма, которую он зарабатывал за несколько минут. Он вскочил на стул, зажал двумя лапами карандаш и нацарапал на листке бумаги: “Я Гроппер”.
Лесли Мастертон рассмеялся. Он рассмеялся не потому, что ему было весело. Это был нервный смех. Он смеялся потому, что готов был поверить двум словам, криво написанным на листке бумаги с затейливым вензелем Первого Хиллсайдского городского банка.
— Что Гроппер, какой Гроппер? Это твоя кличка? Какой дурак вздумал так окрестить пса? Назвать бульдога именем этой лисы, скапутившейся несколько дней тому назад, — надо же придумать!
Гроппер посмотрел на менеджера. Он не лаял и не ворчал, он только посмотрел на него. Но это был взор, которым уже много лет смотрели миллионы. Гроппер не репетировал этот взгляд перед зеркалом и не входил в роль. Он просто знал, что когда он смотрит на человека, человек видит не его.
В зависимости от фантазии и обстоятельств человек видит аккуратные пачки долларов, длинные чековые книжки в черных пластиковых переплетиках, знающих себе цену женщин, норковые шубы, яхты, особняк на Лонг-Айленде или Беверли-Холлзе. И сейчас, хотя он был маленьким голодным бульдогом, который провел ночь на холодном асфальте под чьей-то машиной, он смотрел на Мастертона своим сорокамиллионным взглядом. И Лесли Мастертон, менеджер Первого Хиллсайдского городского банка, смутился. Он не знал, почему он смутился, но он чувствовал, что не следовало так говорить в присутствии этой собаки.
Гроппер снова зажал в лапах карандаш. Боже мой, как легко было диктовать свои письма секретарю! Он вздохнул и принялся писать. Писать на этот раз пришлось долго, и, когда он вывел кое-как несколько строчек, лапы его дрожали от усталости.
“Это не кличка, — прочел Лесли Мастертон. — Я Фрэнк Джилберт Гроппер”.
Менеджер почувствовал, что сознание его отказывается работать. Поверить — значит по всем канонам здравого смысла сойти с ума, потому что это абсурд, чушь и галлюцинация.
Не поверить — значит признать, что этот пес — порождение его больной фантазии, первый страшный симптом надвигающегося безумия.
Но ведь галлюцинация не может быть коллективной.
Только что этот самый бульдог выступал с Бакстером в роли самой умной собаки. Ну хорошо, ему померещилось, но Бакстер, но публика?
Он замычал, словно от нестерпимой боли, и закрыл глаза.
Сейчас он их откроет, и не будет никакого бульдога, не будет ничего, кроме ровных колонок ежемесячного анализа у него на столе. И не нужно будет бороться с безумием, не нужно будет представлять себе реплики знакомых: кто бы мог подумать? Такой был рассудительный человек… Он открыл глаза и увидел взгляд бульдога. Собака кивнула ему, словно угадывая его мысли, кивнула спокойно и рассудительно, успокаивая его.
Лесли Мастертон смотрел, как Гроппер, вытянувшись на ковре, глотает куски бифштекса, и думал о том, что, может быть, и не стоит отыскивать Беллоу или Ханта. Он знал теперь, он верил, что перед ним Гроппер, и сознание этого наполняло его грызущим беспокойством: только бы не сделать глупости, только бы не промахнуться. Пожалуйста, он готов кормить пса (мысленно он называл его то Гроппером, то собакой) чем угодно и сколько угодно, но раз кто-то в нем заинтересован настолько, чтобы в центре города в десять часов вечера оглушить Бакстера и стащить собаку… Нет, только бы не ошибиться. Найдешь ему этого Ханта или Беллоу или их обоих — и все. Что останется, что он будет иметь? Рассказывать знакомым за партией в бридж, что у него гостил в бульдожьем обличье покойный финансист Гроппер? Это будет даже не остроумно. Нет, нет, главное — не торопиться.
Мастертон не знал, что он будет делать с собакой, но его чутье подсказывало ему: здесь пахнет деньгами. Быть может, это тот единственный шанс, который бывает раз в жизни. Тот шанс, который даст ему возможность стать человеком и заняться настоящим делом, а не возиться с хиллсайдской мелочью. Но только не подавать виду…
Он сказал:
— Мистер Гроппер, если вы не возражаете, я бы хотел проконсультироваться с вами по нескольким вопросам. Сйгласитесь, что быть в вашей компании и не воспользоваться вашими познаниями…
Гроппер коротко передернул кожей на загривке. Раньше, должно быть, сокращение этих мышц вызвало бы пожатие плечами.
— Так вот, вы, конечно, знаете братьев Мэркисонов из Техаса. Я их немножко знаю, особенно Клинта Мэркисона. Вы помните их попытку укрепиться на Восточном побережье и многолетнюю схватку с Кирби из-за “Алегани”?
Гроппер кивнул головой. Помнит ли он? Кто поддерживал Кирби в этой схватке? Ох, эти техасские ребята, которым стало тесно на Среднем Западе и которые рвутся на Восток…
— Так вот, — продолжал Мастертон, — Кирби они не одолели, слишком мощная у него была поддержка, и железную дорогу заполучить им так и не удалось. Сейчас они начинают новую атаку на…
Мастертон посмотрел на бульдога. Тот спал, ровно дыша.
Менеджер поднял было ногу, но вздохнул и вышел из комнаты, заперев дверь снаружи.
Хант лежал на диване в номере того же мотеля, где они совсем недавно прятались вместе с Беллоу, и думал. Время идет, а на след Гроппера они так и не напали. Но ведь есть же в конце концов какой-то путь…
Он бросил в стакан несколько кусочков льда из маленького холодильника, плеснул виски, добавил воды и с отвращением выпил. Он не пил, как правило, но нервы были натянуты и нужно было как-то снова обрести равновесие и способность здраво рассуждать.
Гроппер не катался по ночному Хиллсайду для собственного удовольствия на украденном “кадиллаке”. Он ехал куда-то с определенной целью. Цель в его положений могла быть одна — найти человека, которого он знал. Он бросил машину на Фридом-авеню, недалеко от банка. До этого он был у Бакстеров, в этом можно не сомневаться, потому что Бакстер признался Мак-Грири, что после их визита к нему приезжал еще кто-то. Найф, вот кто приезжал. Это ясно. Поняв, Что у Бакстера остаться он не может, Гроппер поехал куда-то, где он мог рассчитывать на кого-то. Опять, опять то же. Он вращается как белка в колесе, снова и снова делая полный круг.
И вдруг у него мелькнула мысль, которая заставила его вскочить с дивана. Как он сразу не догадался? Ну конечно же, Бакстер выступал с собакой перед публикой. Он должен был заплатить за помещение, за рекламу — вряд ли у него нашлось несколько тысяч долларов. Банк на Фридом-авеню!
В этом-то все и дело! Должно быть, он брал туда с собой Гроппера, чтобы продемонстрировать самую умную собаку свободного мира.
Хант схватил телефонную книгу. Бабкокс… Баддингтон… Баер… Баффи… Баккард… Ага, вот! Фред Бакстер. Он поднял трубку и набрал номер:
— Мистер Бакстер? Говорят из банка. Когда вы думаете…
— Господи, но я же договорился с менеджером, — голос Бакстера звучал раздраженно. — Мистер Мастертон обещал мне…
Хант положил трубку и начал вышагивать по комнате.
Мастертон. Все ясно. Но как проверить? Менеджер банка — это не Бакстер. Если он до сих пор не обратился в полицию, пытаясь разыскать Беллоу или меня… Мак-Грири только и делает, что ждет телефонного звонка… Нет, наверняка либо Гроппер ничего не сказал этому Мастертону, либо менеджер решил вести свою собственную игру без партнеров. Так что позвонить ему и спросить: “Собака у вас?” — это значило бы только спугнуть его. Нет, нужно проверить потихоньку, и, если Гроппер там, незачем знать об этом и Мак-Грири. Сумма выигрыша уменьшается прямо пропорционально количеству выигравших.
Он начал быстро одеваться, еще не зная, что предпринять, но бездействие было невыносимо. Он должен был двигаться, куда-то идти, чтобы унять возбуждение. Кровь стучала, отсчитывая секунды и минуты. Уже вечер, Мастертон дома. Адрес в телефонной книге. Ага, вот он…
* * *
“Я теряю всякий здравый смысл, — сказал себе Хант, стоя перед домом Мастертона на Лонг Чейз. — Это же не Бакстер. Стоит только дотронуться до замка ворот, как наверняка включится какая-нибудь сирена или что-нибудь в этом роде”.
Но остановиться он уже не мог. Он огляделся по сторонам — ни души. Подтянулся на заборе и очутился в небольшом саду. На первом этаже двухэтажного дома все окна были темными, зато на втором этаже в двух окнах горел свет.
Хант тихо выругался. Что делать? На мгновение он вдруг почувствовал огромную усталость, которая опустошила его, лишила всех желаний. Он увидел себя со стороны: молодого ученого из Гарвардского университета, ставшего не то гангстером, не то вивисектором. Драки, выстрелы, липкий страх и выворачивающийся желудок, ночь, ночь, погоня и бегство — непременные атрибуты детективного романа. Он ли это? Кристофер Хант? Или это не он, а кто-то другой, с тупым упорством жестко запрограммированного робота преследующий многомиллионную Химеру? Запрограммированный робот. Конечно, все они запрограммированные устройства, реагирующие лишь на деньги.
Бросить все и бежать, бежать отсюда. Может быть, и нужно было бы сделать это, но он отдавал себе отчет, что никогда не сможет быть прежним Крисом и радоваться элегантному костюму от братьев Брукс. Будь проклята память Беллоу, будь проклята его осторожность, из-за которой он так и не раскрыл секрета своей машины. Он знал кое-что, но никогда в жизни не сможет восстановить конструкцию. Он знал себе цену.
Нет, человек, оттолкнувшийся от трамплина над бассейном, не может прервать падения раньше, чем врежется в воду.
Нет, нет и нет.
Он оглянулся, стряхивая оцепенение. Прямо напротив дома рос клен. Хант снял туфли и обхватил руками ствол. Только бы дотянуться до того вон сука! Он несколько раз соскользнул вниз, пока, наконец, не ухватился за сук. Беззвучно раскачиваясь в темноте, он подтянулся, перевел дыхание, прижался к стволу и взглянул в окно. В освещенной комнате стоял человек и разговаривал. Хант не слышал его голоса, но отчетливо видел движения губ. Человек смотрел вниз, Ho кроме него, в комнате никого не было. Не было, по крайней мере выше уровня окна. А человек разговаривал, наклонив голову и глядя вниз. Он мог разговаривать только с собакой!
Глава 18 ЕСЛИ ВЫ ГРОППЕР, СЯДЬТЕ В КРЕСЛО!
У гангстера и финансиста есть нечто общее. В отличие от промышленника, вложившего свои капиталы в производство определенного товара, будь то ракеты “Минитмен” или электрические бритвы “Шик”, они привыкли заниматься всем на свете. Один и тот же банкир может субсидировать покупку земельных участков в штате Аризона и поиски нефти в Конго.
Один и тот же гангстер может быть заинтересован в снабжении притонов Рио-де-Жанейро живым товаром из Бангкока и поддержке определенного кандидата в сенат от штата Калифорния. Вот почему настоящий гангстер, гангстер солидный и с репутацией, чувствует себя настоящим деловым человеком и даже организует свой непосредственный штат помощников на манер респектабельного банкира.
Чтобы попасть в кабинет Джека Спарка, любой смертный, от мэра города до профсоюзного босса, должен был пройти сквозь фильтр из помощников и секретарей.
Но Найф не был бы его “торпедой”, его правой рукой, если бы не обладал правом беспрепятственного доступа к шефу.
Вот и сейчас он вошел в огромный кабинет Спарка через боковую дверь — отдельный выход на улицу (ничего не поделаешь, в каждой профессии есть свои традиции!).
— Ну что? — спросил Спарк. — Есть что-нибудь?
— Да, сэр, можно нести?
— А где взяли?
— На улице, сэр.
— Валяйте.
Найф вышел и через минуту внес под мышкой в кабинет отчаянно извивавшегося и лаявшего бульдога.
— Он не кусается?
— Как вам сказать, сэр…
— Ладно, пустите его.
Бульдог забился в угол, угрожающе ворча. Круглые его глаза с вывороченными нижними веками смотрели злобно и настороженно.
Спарк имел все основания считать себя опытным человеком. Он редко задумывался над тем, как себя вести в тех или других обстоятельствах, тем более что, как правило, он сам создавал нужные обстоятельства. Но сейчас он чувствовал беспокойство. Впервые за долгие годы он не знал, как вести себя, как начать разговор. Когда Фрэнк Гроппер был человеком, они отлично договорились. Оба были деловыми людьми, оба имели общих знакомых вроде сенатора Харкнеса, и если Спарк и величал Гроппера сэром, то лишь из уважения к его возрасту.
Но сейчас… Обратиться к этой лающей собаке “сэр” у него не повернулся бы язык, тем более что никакой гарантии, что иеред ним был именно Гроппер, а не просто бульдог, не было.
По словам Найфа, в Хиллсайде по меньшей мере пять тысяч бульдогов. Если даже отбросить собак без белых чулок на лапах и тех, кто уже давно принадлежит кому-нибудь, и то их останется не один. Но, с другой стороны, этого пса Найф нашел на улице… Спарк поднял глаза и посмотрел на бульдога. Рычание стало громче.
“Кто знает, — подумал гангстер, — может быть, на его месте я вел бы себя так же?” — Послушайте… мистер Гроппер… вы ли это?
Он сделал несколько шагов по направлению к собаке, но бульдог внезапно прыгнул вперед, задел шнур телефона, и тот с грохотом упал на пол. В комнату мгновенно влетел секретарь с пистолетом в руке.
— Все в порядке, Эрни, — сказал Спарк, кисло улыбаясь. — Маленький опыт дрессировки собак.
Бульдог забился в другой угол и яростно лаял, коротко дергаясь всем туловищем.
— Мистер Гроппер, я хочу вам лишь сказать, что вы среди друзей, — тихо сказал Спарк со всей нежностью, на которую был способен. — Для чего весь этот лай? Поговорим, как джентльмены… Гм… Простите, я, кажется, сказал не то… Но дайте мне как-нибудь знать, что вы — это вы, — добавил он с умильной улыбкой. — В конце концов мы же с вами знакомы. Я же достал человека, когда вы просили меня!
Словно смягчаясь под влиянием тихого голоса, а может быть, просто устав лаять, собака внезапно замолчала и улеглась на ковер, вытянула передние лапы и положила на них голову.
Спарк почувствовал, как сердце его забилось. Кажется, ему повезло. Это Гроппер, он был теперь в этом почти уверен. Только ни в коем случае не проговориться и не сказать, что этот Беллоу убит, а Хант исчез. Он протянул было руку, чтобы погладить собаку, но вовремя отдернул ее. Погладить Фрэнка Гроппера по головке, эту акулу с сорока миллионами, — он, должно быть, еще не привык к таким жестам. Главное — не торопиться. Пусть он освоится со своим положением, полежит минутку спокойно.
— Мистер Гроппер, поймите меня правильно, но я все-таки должен быть уверен, что вы — это вы. Если вы — вы, встаньте.
Услышав знакомое слово, бульдог неохотно встал, потом снова улегся на ковре. Красноватые глазки смотрели на Спарка вопросительно. Что еще?
— Ну, поздравляю вас, мистер Гроппер. Слава богу, что вы нашли настоящих друзей или, точнее, что настоящие друзья нашли вас. Вы и представить себе не можете, как я рад за вас. Знаете что? У меня есть прекрасная идея. Вот вам лист бумаги, вот карандаш, попробуйте напишите мне, что вы хотите, хоть несколько слов, чтобы я знал.
Спарк протянул собаке лист бумаги и карандаш. Пес недоверчиво обнюхал незнакомые предметы, толкнул карандаш лапой и прыгнул за ним, отшвырнув его еще дальше. Должно быть, бульдог еще не достиг того возраста, когда все собачьи радости уже приелись и остается смотреть на мир брезгливо и флегматично. Он играл карандашом самозабвенно, стараясь, наверно, забыть в прыжках только что пережитый испуг.
Он пригибал голову, замирал, потом пружинисто прыгал вперед, делал вид, что ловит желтый кусочек дерева, а сам толкал его вперед, заливаясь оглушительным лаем.
Гангстер застыл на месте, изумленно наблюдая за собакой. Рот его слегка приоткрылся, как у детей в цирке, а глаза округлились. Он несколько раз беззвучно пошевелил губами, подошел к столу и налил стакан воды. Не отрывая глаз от собаки, он залпом выпил его.
— Мистер Гроппер, — крикнул он вдруг, приходя в себя. — Какого дьявола вы морочите мне голову! Сидите спокойно!
Снова услышав знакомую команду, собака села, по-прежнему глядя на карандаш.
— Что вы устраиваете представление? Щенок вы или вы деловой человек! — Спарк почувствовал, что шея и лицо у него наливаются кровью. — Вы знаете, что Беллоу нет в живых?
Собака легла на бок и закрыла глаза. Внезапно Снарк подскочил на месте.
— Найф! — крикнул он.
— Да, сэр.
— Посмотри на пса!
— Да, сэр.
— Кобель это или сука?
— Сука, сэр.
— Сука, сэр, сука, сэр! А бульдог, которого мы ищем?
— Простите, мистер Спарк, я об этом не подумал.
— Хочешь, чтобы я тебя самого посадил на цепь? Ты бы у меня быстрее заговорил, чем эта гнусная тварь. Убрать ее!
— Слушаюсь, сэр. У меня там внизу еще одна собака.
— Тащи, но если это тоже сука…
Второй бульдог походил на первого не больше, чем на самого Гроппера. Это была меланхолического вида собака, которая пугливо осматривалась по сторонам, никак не понимая, каким образом она очутилась в этой странной комнате и где ее хозяйка, так уютно пахнущая лаком для волос “Бьюти”.
То есть названия этого лака собака наверняка не знала, запах же узнала бы среди тысячи, и то, что она не чувствовала его поблизости, наполняло ее ужасом.
— Гроппер или не Гроппер? — угрюмо сказал Спарк своему новому четвероногому собеседнику. Собака жалобно заскулила. — Если вы не Гроппер, я вас сейчас пристрелю.
Спарк взял со стола “кольт” и посмотрел на собаку.
— Считаю до трех. Если я говорю с Гроппером, сядьте в кресло и кивните мне два раза головой. Считаю: раз… два… три…
Собака жалобно скулила и смотрела на Спарка тоскливыми глазами. Он нажал на спуск и с отвращением пнул ногой еще дергавшееся тело…
Глава 19 МАЯТНИК НА ШЕЕ
Хант медленно, стараясь не произвести ни малейшего шороха, слез с дерева. Он еще раз снизу посмотрел на освещенное окно. Он колебался. Он знал, что нужно уйти, что пытаться сейчас выкрасть собаку — безумие, но разве вся цепь событий не была безумием, прыжком из привычного мира в зыбкое болото кошмара?
Он стоял перед домом Мастертона и слушал, как с улицы доносятся привычные, принадлежащие нормальному миру звуки: цокот каблуков на асфальте, женский смех, урчание автомобильных моторов, чьи-то голоса — обычные звуки обычного засыпающего города. Обычные ли? Нет, не обычные.
Ему казалось, что весь город затаился перед прыжком, перед ударом, перед выстрелом. Они все готовы царапаться, кусаться, душить, стрелять, не все лишь знают, как это сделать.
Он почувствовал, как холодное бешенство распирает его, мешает дышать. Человек, прыгнувший с трамплина, не может остановиться на лету. Он подошел к двери и позвонил.
— Кто там? — послышался через несколько секунд голос из-за двери.
— Видите ли, мистер Мастертон, — ответил Хант, прижимаясь к двери, — мое имя вряд ли вам что-нибудь скажет. Меня зовут Кристофер Хант.
— Что вы хотите? — Дверь была, должно быть, толстой, и голос звучал глухо, словно доносился из-под земли.
— Я тот человек, который проделал всю эту штуку с Гроппером, и если вы заинтересованы…
— Я заинтересован лишь в том, чтобы вы убирались подальше.
— Я могу уйти, мистер Мастертон, но дело в том, что и полиция ищет собаку, точнее Гроппера, потому что они знают все, и некто Джек Спарк…
— Как вы узнали, что он у меня?
— Маленький секрет.
— Как вы вошли в сад?
— Перелез через забор.
— Почему вы мне предварительно не позвонили?
— Это не телефонный разговор.
— А откуда я знаю, что вы действительно Хант?
— Пойдите спросите у Гроппера, укусил ли он меня в руку, когда мы бежали с ранчо.
— Ладно, я вам верю. Но мне-то от этого какая польза?
— Мы с вами договоримся. Гроппер скажет нам, к каким сейфам подходят ключи.
— А где ключи? — в голосе Мастертона появились нетерпеливые нотки.
— Вот видите, ключи у меня, — соврал Хант, — а Гроппер у вас. Неужели мы не договоримся?
— Только имейте в виду, Хант, у меня в руках пистолет. Как вы знаете, банковские служащие у нас проходят курс обращения с огнестрельным оружием. Я его проходил трижды.
Дверь отворилась, и Хант увидел перед собой Мастертона, который держал в руках пистолет. В холле было светло, и Хант заметил капельки пота, выступившие у менеджера на лбу. Он посмотрел на руку, сжимавшую пистолет. Суставы пальцев были белыми от напряжения.
— Не бойтесь, мистер Мастертон. Нам нечего бояться друг друга. Разве вы не знаете первой заповеди банкира?
— Все-таки не подходите ко мне. Что вы намереваетесь сейчас делать? — пистолет в руках Мастертона по-прежнему был направлен на Ханта.
— Как что? Сообщптъ Гропперу радостную весть.
— Вы сказали, что ключи у вас. Покажите их.
Хант засунул руку за пазуху. Мастертон весь подался вперед. Не глаза, не руки жаждали этих ключей, он весь, каждая его клеточка тянулись к ним. Быстрее, быстрее! Хант почувствовал с абсолютной уверенностью, что будь у него ключи и достань он их сейчас, в то же мгновенье прозвучал бы выстрел. Человек, прыгнувший с трамплина, снова подумал он, не может остановиться на лету.
— Вот они, — сказал он, делая движение рукой.
— Ну, — звук с трудом вырвался из стиснутых челюстей Мастертона. Зрачки его напряженно сузились, словно лепестки диафрагмы фотообъектива.
— Держите! — Хант ударил его в глаза и одновременно отскочил в сторону. Он схватил Мастертона за руку и ударил головой ему в лицо. Рука Мастертона ослабла, и пистолет мягко шлепнулся на ковер. Менеджер качнулся и неестественно, словно актер-любитель, стал оседать на пол.
Хант поднял пистолет и рукояткой ударил Мастертона по голове.
— Партнерам с общими интересами незачем бояться друг друга, — прошептал он. — Доверие — основа сделки.
Он огляделся: ванная, очевидно, на втором этаже. Он взял Мастертона под мышки и потащил по лестнице. Ноги банкира в домашних туфлях из пестрого плотного материала шлепали по ступенькам, кик прут мальчишки. Хант втащил мягкое безвольное тело в ванную, неумело связал руки и ноги, вставил кляп в рот. Он перевел дыхание и прислушался. Ему показалось, что он слышит собачье повизгивание. Он подошел к двери и повернул торчавший и ней ключ.
Фрэнк Джилберт Гроппер то дремал, положив голову на вытянутые лапы, то лениво открывал глаза. Он только что поел, в комнате было тепло, и ощущение сытого теплого покоя расслабило его мышцы. Медленные мысли проплывали у него в голове, словно облака в почти безветренный день, и он не делал ни малейшего усилия ни остановить эти облака, ни рассмотреть их повнимательнее. И даже странность мыслей, которая всего несколько дней тому назад заставила бы его подпрыгнуть от бешенства, вовсе не казалась ему действительно странной.
Он не думал ни о Беллоу, ни о Ханте, ни о машине, ни о деньгах. Он думал о Фидо, о щенках, о том, что надо попросить Мастертона что-нибудь придумать.
Он верил почему-то, что скоро увидит колли, и мысль была ему приятна. Он слегка раскрывал розовую пасть, и движение его челюстей соответствовало человеческой улыбке. Ожидание встречи было совсем не таким, как прежнее ожидание встречи с Беллоу. Тогда его распирало яростное, жгучее нетерпение, клокотавшее в его собачьем сердце. Теперь же ожидание было томным, и он даже находил в нем удовольствие.
Он все время в последние дни открывал в себе все новые, и новые чувства, вернее исчезали старые и появлялись странные, непривычные новые. Его мысль уже не задерживалась долго на деньгах. Предмет этот как бы утратил свою всеобъемлющую значимость, и хотя нет-нет он и вспоминал сейфы и банки, но он тут же начинал думать о Фидо, о Бакстерах, о Мастертоне.
Щелкнул ключ в двери, и он увидел Ханта, всклокоченного, с царапиной на лбу и с пистолетом в руке. Так, значит, Хант жив, этот человек, чье тело Гроппер один раз уже примерял. Жив, жив…
Гроппер вскочил на задние лапы и обнял ученого. Од испытывал не просто радость, она смешивалась даже с нежностью, и Хант заметил, как у собаки из глаза скатилась слезинка.
Все еще тяжело дыша, Хант сделал шаг назад. Он чувствовал в себе огромную, ни с чем не сравнимую пустоту. Вот этот коричневый пес, из-за которого пытались убить его и из-за которого готов был убить он. Дыхание его не успокаивалось. Наоборот, он дышал все чаще, будто не мог остановиться у финиша и продолжал тупо бежать все вперед и вперед.
Злоба, которая все эти дни копошилась в нем, не находила себе выхода. Она поднималась в нем, словно тошнота. Вот перед ним миллионы. Совсем немного — и они будут его, он сумеет заставить заговорить эту тварь. Но радости не было.
Была ненависть к Гропперу, к Беллоу, к себе, ко всему миру.
— Я не смогу сделать машину, Гроппер, — хрипло проговорил он, — а Беллоу нет в живых. Вы останетесь псом, Гроппер. Навсегда. Вам никогда не вылезти из этой коричневой шкуры. Вы будете сидеть в ней и ловить зубами блох!
Он понимал инквизиторов, он понимал радость, тончайшее наслаждение, которые могут испытывать люди, причиняя боль. Он смотрел, как собака короткими неуверенными движениями пятилась от него. “Это безумие”, — подумал он, но не мог и не хотел остановиться.
— Вы останетесь псом и будете вилять остатком своего хвоста, выпрашивая объедки, и при этом будете вспоминать блюдо с креп-сюзетом в “Ритце”. И вы даже не сможете рассказать другим псам, кем вы когда-то были.
Хант смотрел, как каждое его слово словно наваливалось па собаку грузом, заставляя ее прижиматься в ужасе к полу.
— Вам больше не нужны деньги, Гроппер, — продолжал он, — ведь собака не может войти в магазин. Я шел сюда, чтобы заставить вас сказать, где деньги, чтобы вырвать из вас секрет, но вы сами выдадите мне его. Вы убиты, вас нет, Гроппер.
Гроппер не понимал, он даже почти не слышал его, захлестнутый беспредельным отчаянием, густым, вязким отчаянием, парализовавшим и ослепившим его. Но когда до его сознания дошли последние слова Ханта, он прыгнул на него и сомкнул на горле челюсти. Не он решил прыгнуть, не его мозг отдал приказ мышцам. Могучий инстинкт собственника, притаившийся где-то в самых глубинах его существа, сокрытый в тайниках клеток, властно бросил его вперед.
Всю жизнь у Гроппера была мертвая хватка. Однажды вцепившись в жертву, он никогда не отпускал ее. Всю жизнь он сжимал чьи-то горла, и не безусловный бульдожий рефлекс заставлял его клыки в эти секунды неумолимо приближаться друг к другу.
Хант хрипел, пытаясь сбросить с себя коричневый маятник. Он вспомнил о пистолете. Теряя сознание, он поднял руку и нажал па спуск. Маятник на его шее дернулся, но челюсти не разомкнулись.
Они лежали на светло-сером ковре (нейлоновый ворс двойной прочности, гарантия три года) и, казалось, мирно спали…
А.ЗАКГЕЙМ Соперник времени[1]
Пародия
Почти по Станиславу Лему
Не успел я прийти домой, как КН762ф, слегка поскрипывая, вошел в комнату. Я люблю моего старого КН762ф, и хотя у нас есть какая-то новейшая штучка — ZUSTSE весь на кристаллах алмаза, с модулятором запахов, но старик с его слегка облезшими хромовыми боками как-то уютнее. Он прекрасно изучил мой характер и вечно порадует чем-нибудь приятным. На этот раз он держал в лапах конверт ярко-голубого цвета. Я вскрыл конверт и вынул небольшой листок, на котором было написано от руки некрасивым, но четким почерком:
“Дорогой товарищ Тихонький!
Ученый совет Научно-исследовательского института физики галактик (НИИФИГА) просит тебя принять участие в очередном ежегодном симпозиуме НИИФИГА, который состоится завтра утром”.
С тех пор как я, сорокалетним юнцом, всерьез занялся киприпедиумами верхнепалеозойских отложений Южного материка Венеры, я постепенно отошел от галактических проблем. Но кто же останется равнодушным к приглашению на знаменитый симпозиум НИИФИГА! А особенно на завтрашний — ведь на него прилетела даже делегация с Восьмой планеты Сириуса, хотя им пришлось лететь девять лет и хотя после двухдневного пребывания на Земле им нужно отправляться в обратный путь, чтоб не опоздать на работу. Поэтому, не раздумывая долго, я кинулся на ближайшую станцию Трансглоба и как раз успел к последней вечерней ракете.
Огромное здание НИИФИГА гудело. Главный зал, вмещающий 2377 сотрудников института, 419 гостей с Земли и 320 инопланетных гостей, был набит битком. Теснота была такая, что моим друзьям венерианам, как самым легким, пришлось помещаться на головах у гостей с Юпитера. Еще бы!
Ведь каждый юпитерец занимал 6,3 квадратного метра пола, а один, особенно тучный, — даже 7,5. До начала заседания собравшиеся, образовав небольшие группки, оживленно переговаривались, делились воспоминаниями, новостями, спорили. Время от времени каждый с любопытством поглядывал на специально оборудованную кварцевую скамью. Нагретая до семисот градусов, она светилась красным светом, а на ней, зябко поеживаясь, сидели шесть гостей из системы Сириуса и при помощи 1-мезонного переводчика беседовали с профессором Беспамятновым. На телеэкранах было видно, что в соседних аудиториях уже начались заседания секций. Очень интересна была программа секции математики, особенно второй доклад — “О раскраске ребер графа”[2]. Но уже прозвенел колокольчик председателя, знаменитый колокольчик, сделанный из обломка Тунгусского метеорита. Заседание началось.
Все заседание было посвящено единственному вопросу.
Два месяца назад старейшая космическая радиостанция Джодрелл Бэнк приняла сигналы из района галактики Месье286. Расшифровка сигналов показала, что они посланы разумными существами, которые, мечтая установить связь с братьями по разуму, передали сводку основных законов природы и физических констант. И вот при расшифровке все дешифровочные машины единодушно получили для скорости света значение 323 487 км/сек вместо общепринятого на Земле значения 299 776 км/сек. Что это? Поразительная ошибка наших далеких коллег? Или в этой отдаленнейшей части вселенной, отделенной от нас бездной в 130 миллиардов световых лет, действуют иные законы природы?.. От этих мыслей захватывало дух. Не удивительно, что после доклада профессора Райграса развернулись бурные прения. Высказывались самые смелые, самые остроумные, самые тонкие, самые… словом, все “самые” гипотезы, какие только могли возникнуть в головах трех с лишним тысяч выдающихся ученых.
У меня никаких гипотез не возникло. Я был просто ошеломлен. Из всех высказываний мне больше всего понравилась теория профессора Беспамятнова. По его мнению, было передано такое же значение скорости света, какое известно и нам, но по дороге эта величина просто растянулась из-за красного смещения, которое, как известно, увеличивает длину волн любых сигналов, приходящих “оттуда”. По-моему, это было самое простое объяснение, но большинство выступавших сочло его недостаточно радикальным.
Наконец стало ясно, что прения зашли в тупик. Слегка утомленный (все-таки годы дают себя знать, сто восемнадцать лет — это не восемьдесят), я вышел из зала и заглянул в Малую аудиторию, где заседала секция математики. На кафедре стояла миловидная девушка, очевидно только что начавшая доклад. Она говорила:
— Изучаются некоторые свойства архимедовых К-линеалов, в которых всякий 1-идеал погружается в максимальный. Архимедов К-линеал мы будем называть К-линеалом с достаточным множеством 1-идеалов, если всякий его 1-идеал можно погрузить в максимальный. Ясно, что подобное определение можно дать и для произвольной 1-группы.
Мне это не показалось таким уж ясным. Попытавшись представить себе, как это выглядит, когда идеал погружается в максимальный, я отвлекся, потерял нить доклада и, раздосадованный, решил, что с меня хватит. Полечу домой и немного отдохну. Но судьба приготовила мне неожиданную встречу.
На улице моросил унылый нескончаемый дождик. В тумане был виден лишь маленький кусок зеленой Алайской долины и ярко-красный берег, в который билась такая же красная, мутная вода Кызыл-Су. Внезапно из какой-то ниши в стене вынырнула странная фигура и тихим, скрипучим голосом воскликнула: “Подождите, Тихонький!” Это был совсем молодой человек, лет сорока — пятидесяти, но его одутловатое лицо с глубокими морщинами и слегка сгорбленный стан говорили о нездоровом образе жизни. На нем были уродливый серый прорезиненный плащ с капюшоном образца середины прошлого века и огромные неуклюжие сапоги. Странность его внешности усиливалась тем, что он был буквально увешан часами. На обеих руках было надето по две пары обычных механических часов. Такие же часы виднелись из-за голенища левого сапога. Шею пересекал характерный оранжевый кабель гравихрона. И в довершение всего на лбу в виде фероньерки был укреплен микротемпограф.
— Вы не помните меня? — спросил он с тревогой, и сквозь преждевременно одряхлевшие черты проступило знакомое выражение.
— Помню. Здравствуйте, Ньютонцев.
Он учился в одной группе с моим сыном и уже тогда был странным. Безусловно, крайне талантливый, он всегда был угрюм и нелюдим. Это было время первого трансастрального маршрута, и весь курс целиком подал заявления в экспедицию на Проксиму — весь, кроме Ньютонцева. А вскоре он внезапно ушел из механического института и исчез. Даже милая девушка Изольда Елисеева, по уши в него влюбленная, не знала, куда он делся, хотя выплакала все глаза. И вот через двадцать семь лет он стоит передо мной.
— Тихонький, вы можете мне помочь? Это отнимет у вас несколько часов, зато ваше имя навеки войдет в историю.
Слегка ошеломленный, я промычал что-то невнятное.
— Послушайте, Тихонький, вы должны мне помочь. Больше здесь нет ни одного человека, на которого можно положиться. Умоляю вас, не спешите считать меня сумасшедшим, выслушайте меня сначала. Но прежде обещайте хранить мою тайну.
Его голос звучал так взволнованно, что я почему-то поверил ему и молча кивнул. С неожиданной силой он схватил меня за руку и потащил за собой. Через пять минут быстрой ходьбы под непрекращающимся дождем мы подошли к маленькому спортивного типа вибролету.
Мы летели сквозь кромешную мглу куда-то через Заалайский хребет. Работала машина безукоризненно, в такую турбулентную погоду она шла без малейшей качки. Ньютонцев и не оглядывался на автопилот. Сгорбившись в кресле, он говорил монотонным, тихим, но странно напряженным голосом, который временами вдруг начинал звенеть.
— Я ненавижу современную жизнь. Я — человек прошлого века. И никто не может меня понять, даже вы. Вы родились в 1960 году после рождества Христова, а я — в 113 году новой эры. Но вы ассимилировались в этой новой эре, а я — нет. И все-таки вы хоть смутно помните то время, по которому я тоскую. И вы должны меня выслушать. Только не возражайте, не отвечайте мне ничего. Дайте мне договорить до конца. Этот век… Осуществление заветных мечтаний великих умов и светлых фантазий романтиков. Всеобщее счастье… А я ненавижу ваше всеобщее счастье! Мечтаю жить в прошлом веке. Тогда только и существовала истинная романтика. Потому что романтика не в том, чтобы побеждать и покорять несчастную природу, которая не умеет сопротивляться. Сто лет назад, когда человек рождался, никто не мог быть уверен, будет ли он счастлив. За счастье приходилось бороться с враждебной толпой, которая только и думала, как бы сожрать тебя.
И в этом было счастье — победить толпу, подчинить ее себе, встать над нею. Или погибнуть. А сейчас… Да, вы, конечно, можете сказать, что и сейчас гибнут. Что и сейчас есть борьба. Я знаю все это. Но это не то. И страшно, что даже вам я не могу объяснить разницу, потому что даже вы — человек двадцатого века — не захотите понять меня. Вы приспособились к нашему второму веку. А для меня разница огромна. Сейчас борются. Но только в коллективе. Сейчас побеждают. Но побеждают коллективы. И иначе не может быть — вот что самое страшное. Поймите, я даже не реакционер. Я не мечтаю о возврате старых порядков, потому что понимаю: сегодня жизнеспособен только новый порядок. Возврат к старому невозможен. Я не реакционер, я просто человек прошлого, попавший в настоящее. Я Гамлет наоборот. И это ужасная трагедия.
Для всех вас, жителей второго века, я сумасшедший. Вы, высокомерно гордящиеся широтой и ясностью своих воззрений, не можете понять такое отклонение от ваших норм — моральных, интеллектуальных, эмоциональных, наконец. Но я не сдамся. Я бросаю вызов всем вам. Пусть старый порядок невозможен как общее, я буду жить по-старому один. Я хочу рисковать жизнью не во имя великой цели, как это сделает нынче любая посредственность, а только ради того, чтобы почувствовать на губах пряный вкус риска. Я не хочу объединять свои усилия с усилиями коллектива — даже ради достижения этой самой великой цели. Я всю жизнь мечтал идти к ней один и достигнуть ее — в одиночку — или же погибнуть — тоже в одиночку. И я шел один к своей великой цели, и страдал один — благословляю мои страдания! — и вот я на пороге свершения дела моей жизни. Войдемте, Тихонький!
Я невольно вздрогнул. Почти загипнотизированный его монотонным голосом и его странной и страстной речью, я не заметил, как вибролет опустился в какой-то долине, рядом со склоном. Вероятно, это был отрог Музкола. Мрачный и унылый пейзаж, так характерный для Восточного Памира: широкая и плоская пустынная долина, засыпанная серым щебнем, без единой травинки или кустика. Невысоко поднимающиеся над нею горы; лишь пятна снега на склонах, затрудненное дыхание да число 5200 на альтиметре вибролета выдавали высоту. Трудно представить, что есть еще на Земле столь дикий и нетронутый угол. Только два предмета нарушали его дикость: на гребне — башня мощной энергоретрансляционной станции не меньше чем на сто тысяч киловатт и небольшой домик, скорее даже будка, в нижней части склона. От башни к домику тянулась змея многоамперного кабеля. Вынув из кармана плаща огромный ключ, Ньютонцев отпер бронированную дверь домика и шагнул внутрь, я — за ним. Внутри была еще одна дверь. Снова щелкнул ключ — и мы очутились в огромном зале, высеченном в скале. Здесь царил невероятный беспорядок, хаос каких-то валяющихся колес, барабанов, проводов, приборов и инструментов, покрытых толстым слоем пыли. В одном углу было подобие жилого помещения с гамаком, довольно старым кухонным роботом и столом, заваленным бумагами и моделями. И резким контрастом всему этому выглядела стоявшая посреди зала машина совершенно непонятного устройства, но поражающая гармоничностью линий и тем совершенством облика, которое безошибочно говорит о совершенстве конструкции.
Подождав несколько минут, пока я оглядывал это удивительное помещение, Ньютонцев снова заговорил:
— Вот оно, мое детище, моя воплощенная мечта, орудие моей победы. Всю жизнь я стремился сделать великое открытие, и я его сделал, сделал в одиночку. И слава будет принадлежать мне одному! Мое имя будет греметь в веках рядом с именами Архимеда, Эйнштейна, Нгоа и Ветрова. И я услышу гром этой славы — я! Потому что первый воспользуюсь плодами моего открытия. А между тем оно просто, как яблоко Ньютона. Каждый школьник знает парадокс времени Эйнштейна. В быстро движущейся системе ход времени замедляется. Это ясно, как дважды два. И в этом может убедиться любой. Да, астронавты, возвращаясь, попадают в будущее: за десять лет их путешествия на Земле проходит шестьдесят. Но для этого нужна экспедиция, колоссальные затраты, нужен огромный коллектив, всегда и для любого дела нужен коллектив. А если я хочу попасть в будущее один? Не удивляйтесь, что я стремлюсь в будущее. Я не надеюсь, что там, куда я попаду, будет царить милый моему сердцу индивидуализм. Нет! Но я попаду в будущее, которое, захочет оно или не захочет, должно будет оценить блеск моей идеи и красоту ее воплощения. И ведь правда, все элементарно просто. Для того чтобы использовать парадокс Эйнштейна, не покидая Земли, просто нужно поступательное, движение заменить вращательным. Поместиться в центрифугу, обод которой вращается почти со скоростью света. Просто, правда? Но понимаете ли вы, что значит рассчитать эту машину на прочность? Или каким должен быть ее привод? Или подшипники? Двадцать лет мучительно и одиноко бился я над этим. И добился большего, чем мечтал.
Он весь преобразился. Голова гордо откинулась назад, спина выпрямилась.
— Не буду рассказывать вам подробности. Вдруг вам взбредет в голову, что интересы коллектива выше честного слова, этого величайшего сокровища человека в прошлые века, и вы предадите меня. Скажу только, что по расчету моя машина дает = 8750. За час пребывания в ней на Земле проходит год. Сегодня я ставлю решающий опыт. Я пробуду в ней этот час, равный году. А потом выйду, опубликую результаты моей работы и снова удалюсь в этот скит, совершеннейший из монастырей, удалюсь на пятьдесят часов. У вас на Земле за это время пройдут те пятьдесят лет, за которые созреет моя слава и мир признает меня.
Внезапно его голос снова потускнел, на лице появилось просящее и даже, пожалуй, виноватое выражение.
— Вы знаете, Тихонький, есть две мелочи, которых я еще не решил. Изнутри мою машину нельзя ни включить, ни выключить. Поэтому мне нужна ваша помощь. Сейчас я войду в центрифугу, и вы включите вон тот рубильник. Потом выйдете и запрете дверь, вот ключ. А ровно через год вы придете сюда и выключите рубильник. Только держитесь подальше от машины, когда она будет включена. И лучше спустить занавес, — он показал на прозрачную занавеску из бисмолюсита, укрепленную под потолком. — При разгоне может возникнуть жесткое излучение.
Он повернулся, быстрыми шагами подошел к машине и неуклюже втиснулся в люк, который тотчас захлопнулся. У меня гудело в голове, и я уже не вполне понимал, действительность, это или бред. Машинально я опустил занавеску, на мгновение заколебался, но потом решительно рванул на себя рукоять рубильника. Машина загудела мощным басовым звуком, который перешел в оглушительный вой, затем в жуткий свист и исчез где-то в ультразвуке. Контуры машины расплылись, потом по ней пробежали переливы необыкновенно ярких красок (позже мне объяснили, что это была игра эффекта Доплера — Физо), и, наконец, все исчезло. Никакой машины не было видно. Только ветер свистал по углам пещеры, поднимая тучи пыли. Я вышел, запер двери, сел в вибролет — и через полтора часа был уже в Кабуле, в гостях у друзей.
Ровно через год я приземлился в той же долине. Щелкнул ключ, и я снова оказался в том же зале, где по-прежнему ничего не было видно за занавеской и где свистал тот же ветер.
Волнение на миг перехватило мне горло, но я совладал с собой и решительно выключил рубильник. Минут пятнадцать не было видно ничего. Потом пробежали те же яркие переливы, вырисовался смутный контур, возник и достиг невыносимой силы визг, а потом сполз в басы и умолк. Еще час бесшумно вращался ротор, наконец он остановился. Изнутри не доносилось ни звука. Подождав немного, я подошел. На корпусе возле люка виднелась кнопка. Я нажал ее, крышка плавно сползла по направляющим. И я застыл в ужасе.
Он рассчитал прочность машины. И забыл о прочности своего тела. Ужасная мощь центростремительных сил превратила его вместе со всеми его часами в студень.
Но Ньютонцев был гений! Потому он добился своего.
Студень был совсем свежий: ему было не больше часа.
Б.ГУРФИНКЕЛЬ Эмоция жалости
Рука с бланком радиограммы просунулась в пассажирский отсек. Человек в легкой рубашке и шортах, сидевший у иллюминатора, прочел “Йтадзуэ, 10–00. Видимость нуль шторм двенадцать баллов посадка невозможна тчк срочно доставьте наземным транспортом 116/8 Клифтон”.
Он со злостью скомкал бланк. Тайфун “Глория”, атаковавший побережье в двухстах милях южнее, вмешался и в дела “Дженерал Атомик”.
— Садимся в Иокогаме, — сказал он пилоту и, выглянув в иллюминатор, зажмурился от ливня света, хлынувшего в глаза. Внизу лежал Тихий океан. В его волнистой синеве ослепительно сверкал шарик отраженного солнца и мчалась хвостатая и рогатая тень вертолета.
Вертолет заложил крутой вираж — синева внизу накренилась, подставив взгляду темную полосу берега. На уровне глаз мелькнула вершина высоченного уступчатого здания. Тонкий шпиль венчала фигура журавля, вытянувшегося в стремительном полете. Машина на минуту повисла, потом пошла вниз и с сердитым стрекотом коснулась земли. Человек распахнул дверь, спрыгнул на раскаленный бетон и, заслонив глаза ладонью, стал всматриваться в приближавшийся темно-зеленый “джип”.
— Добро пожаловать, сэр, — солнечные зайчики сияли в зеркальных стеклах темных очков. — Кавасами, из Дзидося Умпан к вашим услугам.
— Выгружайте, Билл, — сказал приезжий. — Здравствуйте, мистер Кавасами.
— Одну минуту, сэр, — на лице агента автотранспортной конторы отразилось вежливое сожаление, — куда нужно доставить груз?
— В Йтадзуэ, и как можно скорее, — в тоне приезжего звучало нетерпение.
— Но это обойдется вам недешево, сэр… Автостраду в Йтадзуэ держат под контролем гэнкаевцы, и не всякий водитель согласится ехать… Нужна вооруженная охрана.
Приезжий поморщился. Об этом он слыхал. Общество Воинов Атомного Пепла… — эти парни пытались партизанскими методами помешать снабжению базы. “Хиросиму все не могут забыть, а ведь уж тридцать с лишком лет прошло”, — подумал он, инстинктивно потрогав белесый шрам, след японской пули, оставшийся с той поры, со времен Хиросимы.
— Сколько? — спросил он.
— Сто долларов за каждую милю, сэр: возможно, придется совершать трудные объезды. И, кроме того, сэр, — агент улыбнулся, — пожизненная пенсия будущей вдове водителя…
— Двадцать две тысячи долларов, да еще и пенсия… А можно застраховать груз? — подумав, спросил приезжий.
— Исключено, сэр, — сказал Кавасами. — Но… Но вот они, — агент указал на многоэтажную махину, увенчанную журавлем, — возможно, пойдут на риск страховки. Цуру-Кюку-Умпан, сэр, — ускоренные железнодорожные перевозки.
— Билл, подождите меня, — сказал приезжий. — Надеюсь, вы меня подвезете, мистер Кавасами?
Покачиваясь на мягком сиденье, приезжий развернул свежий номер “Ниппон таймс”. В глаза бросилась подпись “Дорис Хант”. А, старая знакомая! Статья называлась “Электронный Хозяин водит поезда”. “Должно быть, электронный робот на транзисторах, — подумал он. — Однако раз Дорис здесь, значит не зря: у нее первостатейный нюх, и какую-то сенсацию она наверняка раскопала. Надо будет ее повидать”.
Стеклянная вертящаяся дверь блеснула на солнце многоцветной радугой, и старый швейцар, низко склонившись, со свистом втянул воздух сквозь стиснутые зубы: гость явно заслуживал почета.
На площадке четырнадцатого этажа гостя встретил плечистый молодой японец и молча проводил к двери. Кабинет был ограничен, казалось, лишь двумя плоскостями: окном во всю стену и громадной картой Хоккайдо. Из-за небольшого полированного стола навстречу поднялся человек.
— Цуру-Кюку-Умпан рада служить вам, сэр, — его английский язык был безукоризненным. — Я представляю службу движения, мое имя Мицукава, — в его голосе чувствовалось уверенное спокойствие.
— Очень рад, мистер Мицукава. Я Кит Уэйнрайт из “Дженерал Атомик”… Мне нужно срочно доставить груз на нашу базу в Итадзуэ.
— Да, да, я знаю, четыре ящика, шестьсот фунтов. — Мицукава вежливо улыбнулся.
“Любопытно, откуда это он знает, какой у меня груз!” — Мицукава подошел к карте. У кружка с надписью “Итадзуэ” загорелся огонек.
— Двести двадцать миль, час тридцать пять минут — семь тысяч долларов, мистер Уэйнрайт… При нынешней ситуации, — Мицукава ухмыльнулся, — это намного дешевле автотранспорта…
— Вы имеете в виду…
— То же, что и вы, мистер Уэйнрайт, — поспешно ответил Мицукава.
— Но это долго, — сказал Уэйнрайт.
— Если вам это кажется долго… Дзаэмон-сан!
Молодой японец неслышно появился в комнате.
— Запросите Дэнси-Даймс, сколько времени займет доставка груза отсюда в Итадзуэ по оптимальному маршруту. Дадим ему Камиданоми.
— Дэнси-Даймс… Значит, Электронный Хозяин работает у вас? — спросил гость.
— Электронный Князь, — поправил Мицукава. — Это искусственное существо, точнее — нейроид. Он управляет у нас службой движения и никогда не ошибается… Дзаэмон-сан?
— Сорок две минуты, Мицукава-сан.
— А Камиданоми, это что? — спросил Уэйнрайт.
— Ядерный грузотепловоз — двести миль в час… Но это будет стоить дороже, мистер Уэйнрайт, — уточнил Мицукава. — Десять тысяч долларов, половина вперед, чеком на банк Урудзима.
— Согласен, — сказал Уэйнрайт нетерпеливо. — Но груз должен быть застрахован.
— О да, конечно, — Мицукава улыбнулся.
— От любой утраты, — сказал Уэйнрайт.
— Но у нас давно нет аварий по техническим причинам, мистер Уэйнрайт… Страховая сумма выплачивается клиенту только в случае утраты груза, происшедшей вследствие стихийного бедствия или преднамеренного уничтожения груза кем бы то ни было, кроме самого клиента или лица, действовавшего по его поручению.
— Кем бы то ни было — в том числе и гэнкаевцами? — осведомился Уэйнрайт.
— Разумеется…
— Пятьсот тысяч долларов, — сказал Уэйнрайт. — Где полис?
— Вот ваш договор и полис, сэр, — у Дзаэмона все было подготовлено.
Уэйнрайт молча подписал.
— Дзаэмон, организуйте приемку груза, отправление немедленно… А теперь, мистер Уэйнрайт, я буду рад показать вам прекрасные хризантемы моего сада, — Мицукава излучал радушие.
Во взгляде Дзаэмона, упершемся в спину Уэйнрайта, блеснула свирепая, непримиримая ненависть. Выждав, пока патрон и гость скрылись за дверью, он подошел к телефону и пабрал номер.
Зеленеющее рисовое поле, аккуратно расчерченное на квадраты, утопало в жарком мареве. Над синеющими вдали горами белела вершина Фудзи. С поля доносилось пение — там по колени в нагретой солнцем воде, согнувшись, передвигались женщины в широкополых соломенных шляпах. На площадке у станционных сооружений разъезда Таруэгава-эки звенели детские голоса.
— Наками, Наками, твоя очередь искать! — маленький Ити с разбегу обхватил девятилетнюю Наками.
— Нет, нет, я не хочу… идите все сюда, давайте считаться… Тосио! Куда ты?
Но Тосио не слушал. Он спрячется так, что Наками его никогда не найдет! Там, за полотном, где в густых зарослях бамбука проходит старый тупиковый путь… Мальчик потихоньку пятился, припадая на ногу, искалеченную полиомиелитом.
А в полумиле от разъезда среди поросших зеленью развалин старой часовни лежал человек, наведя бинокль на рельсы. Человек знал: когда командный импульс его микропередатчика достигнет шпиля небольшой серой башенки, стоящей у стыка главного пути с тупиковым, Камиданоми устремится в тупик и обратится в черный фонтан земли и обломков, а предатель, согласившийся везти американский груз, — в бесплотную тень. Но нужно было ждать последнего момента, чтобы послать импульс. Момента, когда Камиданоми окажется над самой стрелкой; ее нужно перевести буквально под колесами, иначе Электронный Князь успеет вмешаться и вернет стрелку на место… Человек спокойно ждал…
Издалека, со стороны Иокогамы, донесся знакомый глухой рокот экспресса. “Ничего, я успею”, — подумал Тосио и заторопился, раздвигая руками колючий кустарник: чтобы попасть к тупиковой ветке, надо было перебраться через полотно главного пути. Вот и насыпь. Тосио вскарабкался наверх, ступил на рельсы — и вдруг услышал, что поезд рокочет уже совсем невдалеке, — по стене бамбуковых стволов мчалась его черная тень. Не поезд, а демон, ведь поезда не могут ходить так быстро.
Тосио, замирая от страха, побежал через рельсы, но споткнулся и упал. Он лежал, скорчившись и крепко охватив голову руками, чтобы не слышать рева летящего демона.
И тут прозвучал щелчок — резкий, как удар бича. Это сработал мощный электромагнит в нижней части серой башенки, на полном ходу Камиданоми проскочил стрелку и ринулся в двухсотметровый тупик, заканчивавшийся огромной бетонной надолбой. Через мгновение раздался глухой удар, от которого дрогнула земля, потом грохот и скрежет металла, раздиравший душу. Вскоре все стихло. Черное облако взметенной земли медленно оседало на верхушки бамбука. Со всех сторон сбегались женщины, горестно восклицая: “Ма! Кавайсода!” А Тосио все лежал, прижавшись к рельсам, не смея поднять голову… Кто-то спас его — наверно, бабушка Наоси сотворила молитву.
Было тринадцать часов одиннадцать минут по дальневосточному поясному времени.
Ракетообразная вершина небоскреба Цуру-Кюку-Умпан была резиденцией Дэнси-Даймс, Электронного Князя. Внутри, заполняя всю эту двадцатиметровую вышку, переплетались провода, ассоциаторы и рецепторы. Ажурными кольцами, одно над другим, висели нейристорные сети, хаотически соединявшие тысячи, рецепторов с ассоциирующими панелями, — Дэнси-Даймс был сконструирован по последнему слову современной нейродинамики. Здесь не было ни лампочек, перемигивающихся красными огоньками, ни тысячеликих приборных панелей, ни монотонных рядов кнопок. Тишина и полумрак, в котором миллионами путей пробегала электронная мысль, скрещиваясь в узлах возбуждения и отступая перед закрытыми шлагбаумами заторможенных входов.
Дэнси-Даймс не нуждался в помощи людей, в их неверном интеллекте и обманчивых эмоциях. Рецепторы извещали его о каждом движении на рельсовых путях Цуру-Кюку-Умпан. Телевизионные камеры и термолокаторы на локомотивах были его глазами, линии телеманипулирования — руками.
Он все видел, все знал и все делал сам, накапливая в памяти по бесконечно малым крупицам драгоценный повседневный опыт.
И все же здесь сидел человек, удобно откинувшись на спинку кресла. Дежурство было однообразным, как всегда: не случалось ничего, что требовало бы вмешательства. Если б не внеочередная проводка Камиданоми, можно было бы обалдеть от скуки: регламент компании не разрешал даже читать на дежурстве. Можно только курить. А тишина… как в сурдокамере для тренировки космонавтов!
Стряхнув дремоту, человек встал и направился к контрольному экрану участка Таруэгава-эки, но что-то заставило его остановиться. Ему послышался тончайший писк — или это был звон в ушах от надоевшей тишины? Но звук стремительно нарастал. Вот он достиг необыкновенной силы — и вдруг оборвался. Переход к привычной тишине был так разителен, что человек застыл на месте. Потом кинулся к аварийному пульту.
Глаза его расширились: контрольный огонь погас. Это означало, что Дэнси-Даймс выключился. Это была его смерть, смерть как личности, ибо нейроид, выключаясь, полностью очищает свою память. Его можно, разумеется, включить снова, но это будет уже не та машина. Она станет чистой и невежественной, как молодой пастух с гор.
Разбив круглое стеклышко, человек набрал условный шифр телекоманды “Таками”, сменявшийся каждые сутки. Повсюду на путях Цуру-Кюку-Умпан, там, где их застал сигнал, водители поездов — встревоженные люди или нерассуждающие автоматы — включали стоп-краны. Поезда, мчавшиеся с сумасшедшей скоростью, провизжав тормозами, останавливались так резко, что пассажиров швыряло друг на друга. Это было единственное средство избежать катастрофического хаоса на те полчаса, которые понадобятся для перехода на ручное управление.
И лишь после этого дежурный заметил красные вспышки сигналов на контрольной мнемосхеме. На разъезде Таруэгава-эки произошла катастрофа.
Пестрый поток экипажей всех видов — от моторикш до “империалов” новейшей марки — бурлил на залитой солнцем Кэйдай-авеню, кружась водоворотами у магазинов, кафе и стоянок. Расплатившись с водителем, Уэйнрайт вышел на площади перед Дворцом Правосудия — Сайбанкан.
Здание походило на огромный шар, накрытый плоской, слегка вогнутой чашей. Шар был опоясан, словно планета Сатурн, наклонным кольцом внешних эскалаторов.
Дорис весело замахала рукой из-за ближайшего столика, едва Уэйнрайт вошел в просторный шестигранный зал кафе.
— Присаживайтесь, Кит, рада вас видеть.
— Мне здорово повезло, что я вот так сразу поймал вас по телефону, — сказал Уэйнрайт, садясь на удобно изогнутый, почти невесомый стул. — Я улетаю вечером. Отправил один срочный груз — кстати, при помощи того самого Электронного Хозяина, или Князя, что ли, о котором вы писали. Это вы его имели в виду?
— Дэнси-Даймс? — Ее зеленовато-серые глаза улыбались. — О нет. Это уже старо… Тут, — она обвела рукой зал, — есть кое-что поинтересней. То есть не в кафе, разумеется, а во Дворце Правосудия. Аманоивато, Электронный Судья, представляете? До такого еще не додумались ни мы, ни русские. Да, кое в чем японцы нас здорово обскакали.
— Хм, любопытно, — отозвался недоверчиво Уэйнрайт. — А электронных полицейских они не завели?
— Пока нет, — сказала Дорис. — Вас, я вижу, это не очень-то заинтересовало. А зря. Это первоклассная сенсация, верьте мне. “Лук Инсайд” знает, что нужно читателям. Да я и сама знаю.
— Вашего журнала я не читаю, но в вас-то я верю, Дорис, — ответил Уэйнрайт. — Только, по-моему, тут японцы перемудрили. Машине в людях не разобраться.
— А хотите познакомиться с Аманоивато? — вместо ответа спросила Дорис. — Я ведь не случайно пригласила вас именно сюда. Сэити Гэндзи обещал прийти сюда ровно в час и дать мне интервью.
— Кто он?
— Он работает в Институте Дэйси Дзинко Буцу — Электронных Искусственных Существ. Конструировал и Дэнси-Даймс и Аманоивато. Останетесь? Я думаю, Гэндзи не будет возражать…
— Останусь, конечно.
К столику подошел рослый японец в черном костюме. “Никогда у этих японцев не поймешь, сколько им лет”, — подумал Уэйнрайт, глядя на его гладкое лицо и блестящие черные волосы с белой ниточкой пробора.
— Вот и Сэити Гэндзи! — Дорис пустила в ход самую лучезарную из своих улыбок. — Гэндзи-сан, это мой друг, мистер Уэйнрайт. Ничего, если он тоже послушает, как вы рассказываете об Аманоивато?
Японец, чуть поколебавшись, вежливо сказал:
— О, пожалуйста. Только рассказывать буду не я, а сам Аманоивато. Мы сейчас пойдем к нему.
Узкий дугообразный коридор кончался глухой стеной; Гэндзи приложил к ней тыльную сторону кисти, и стена раздвинулась. Открылся огромный сферический зал. В нижней его части амфитеатром располагались ряды низких кресел — они окружали небольшую, чуть приподнятую площадку в центре зала.
— Похоже на планетарий, — заметил Уэйнрайт.
— Это Аманоивато, — бесстрастно сказал Гэндзи.
— А где же он? — Уэйнрайт оглядывал высокий, мертвенно-белый купол.
— Вокруг, — ответил Гэндзи. — Вы внутри него.
— А зачем такой большой зал? — Дорис с профессиональной быстротой чертила стенографические значки в блокноте.
— Только для публики, — снисходительно улыбаясь, пояснил Гэндзи. — Аманоивато возбуждает большой интерес…
— Еще бы! — отозвалась Дорис. — И… неужели вход бесплатный?
— Насколько мне известно, какую-то ничтожную плату за вход здесь берут, — с явной неохотой ответил Гэндзи.
— Но что же такое этот Аманоивато? — спросил Уэйнрайт нетерпеливо.
— Аманоивато — нейродинамическая справедливость. Он неподкупен и вообще неподвластен человеческим страстям. — Гэндзи говорил, слегка понизив голос. — Между фактами он устанавливает однозначные логические связи.
— А мотивы, побуждения?
— Он угадывает их безошибочно, приписывая поступкам должные весовые коэффициенты, — пояснил Гэндзи. — Он ставит себя на место обеих сторон, рассматривая их конфликт как сложную игру с ненулевой суммой. Если помните, теория игр была создана вашим великим соотечественником Джоном фон Нейманом. Так вот, Аманоивато способен молниеносно выработать наилучшую стратегию для обеих сторон.
“Это здорово, — подумал Уэйнрайт. — Иметь бы такого юрисконсульта у себя в “Дженерал Атомик”.
— А программа? — сказал он вслух. — Какую вы ему дали программу?
— У него нет программы, — сказал Гэндзи. — Он выработал собственное отношение к миру за время полугодичного обучения на основе массы юридических прецедентов.
— А как же мне взять у него интервью? — спросила Дорис.
— Пожалуйста, Дорису-сан… Говорите либо по-японски, либо по-английски: он понимает оба языка, но сам говорит только по-японски… Вначале произнесите: сайбанте, то есть господин судья…
Дорис, заметно волнуясь, четко и раздельно произнесла несколько фраз по-японски. Через несколько секунд заговорил Аманоивато — низким, глубоким голосом, словно заполнявшим весь зал. Уэйнрайту стало как-то не по себе. Но Дорис прямо засияла от восторга.
— Он угадал, Сэити! Подумать только — угадал!
— Да, Дорису-сан… Это был очень остроумный вопрос. Но, к сожалению, запас времени, который мне выделили для интервью, весьма невелик. Нам пора уходить…
— Как жаль! — огорчилась Дорис.
Они вышли в коридор, и стена за ними бесшумно задвинулась.
— Да, но что означает “хакуме-но-соти”? — спохватилась Дорис.
Гэндзи тихо рассмеялся.
— Это он людей именует “белковыми устройствами”, “хакуме-но-соти “…
— Так что же вы сказали и что он ответил? — нетерпеливо спросил Уэйнрайт. — Объясните, наконец, Дорис!
— Я просто вспомнила суд царя Соломона… Я спросила его: “Сайбанте, вот две женщины спорят о ребенке, и каждая утверждает, что он ее сын. Как решить, чей это ребенок?” Он ответил: “Надо предложить им, что вы разделите объект спора на две равные части, строго по вертикальной оси симметрии, чтобы каждая из них получила поровну. Та женщина, которая выразит протест против этого действия хотя бы микросекундой раньше, чем другая, и есть истинная мать, ибо она скорее откажется от маленького хакуме-но-соти, чем допустит прекращение его обмена со средой”. То есть понимаете: ответ Соломона, только в абсолютно иной форме! Может, он читал библию?
— Библию? Нет, конечно. Он сам пришел к этому решению.
— Погодите-ка, — сказал Уэйнрайт. — Значит, ему известно чувство жалости?
— Жалости? — Гэндзи усмехнулся, обнажив ровный ряд желтых зубов. — Что лежит в основе эмоции жалости? Бессознательное понимание целесообразности, или, пожалуй, фанатическое чувство собственности, не допускающее мысли об утрате. Например, чувство матери… Думаю, что это понятие ему известно — в его системе счисления…
Они вернулись в зал кафе и сели за столик.
— В основе наших поступков вообще ведь лежат эмоции, — продолжал Гэндзи, — в том числе и жалость…
— Чаще всего — к самим себе, — усмехнувшись, вставил Уэйнрайт.
— Согласен с вами, мистер Уэйнрайт. Но судья должен учитывать эти эмоции и уметь правильно соотносить и оценивать их как возможные причины людских поступков…
— Но ведь он сам-то не способен жалеть? — Дорис задумчиво постукивала авторучкой по блокноту с пластикатовой обложкой. — А по-моему, судья должен уметь гневаться, бояться, жалеть — иначе он не поймет побуждений других.
— Это не обязательно, Дорису-сан, — ответил Гэндзи. — Евнух, например, может понимать рассудком эмоцию любви…
— Но ведь жалость — чувство, максимально алогичное, — настаивала Дорис. — Человека отличает от машины — даже такой совершенной, как ваши нейроиды, — именно способность поступить вопреки всякой логике… например, подобрать на поле сражения раненого врага и выходить его в госпитале…
— Почему вы думаете, что нейроид не способен на такого рода действия? — возразил Гэндзи. — Кто знает, как он оценивает наши человеческие взаимоотношения? У него ведь иные критерии. Да и вообще — кто знает, какие связи вырабатываются у него в этой хаотической структуре нейроидных сетей?.. — Он взглянул на часы. — К сожалению, мне пора идти…
Поклонившись, он исчез.
— Как все это интересно! — пропела Дорис, усердно чертя знаки в блокноте.
Донесся мелодичный звонок. Уэйнрайт приложил к уху телефонную трубку, и лицо его сразу помрачнело.
— Большая неприятность, — сказал он. — Тепловоз с моим грузом разбился.
— Это, конечно, Гэнкай, — сказала Дорис.
— Не сомневаюсь, — сказал Уэйнрайт, набирая номер директора Цуру-Кюку-Умпан. — Алло… Мистер Мицукава, я вылетаю сегодня в семь десять… Страховую сумму перечислите на счет “Дженерал Атомик” в банке Ллойд Бразерс. Как это — выключился? Нет, я не собираюсь ожидать, пока вы разберетесь, мистер Мицукава… Это ваше дело, а не мое. Вы заверили меня, что ваш Электронный Князь не ошибается, — значит, это работа гэнкаевцев.
Голос в трубке зазвучал резче.
— В таком случае, мистер Мицукава, я предъявляю вам иск на пятьсот тысяч долларов. — Уэйнрайт положил трубку.
Дорис вскочила.
— Ох, Кит! Какая сенсация! Электронный Судья судит Электронного Князя!
— Разве судить будет Аманоивато? — ошеломленно спросил Уэйнрайт.
— Обязательно! — с энтузиазмом закричала Дорис. — Тем более что в деле замешан другой нейроид! И знаете что, Кит? — Ее вдруг осенило. — Я тоже буду участвовать в процессе! Вам же понадобится переводчик! Так вот я буду вашим переводчиком! Идет?
— Идет, — машинально согласился Уэйнрайт. Потом, спохватившись, добавил: — То есть, само собой, я буду вам весьма признателен, Дорис!
— Истец из компании “Дженерал Атомик”! — бесстрастный голос судьи Аманоивато звучал в белом сферическом зале, на этот раз заполненном публикой. Круглая площадка в центре зала, похожая на боксерский ринг, словно парила в воздухе.
На площадке стояли четверо.
— Да, ваша честь, — машинально отозвался Уэйнрайт, поняв смысл обращения.
— Сайбанте, — шепнула Дорис.
— Сайбанте, — терпеливо повторил Уэйнрайт.
— Имеются ли у вас доказательства, что совершена диверсия, направленная на уничтожение вашей собственности?
— Да, Сайбанте, — Уэйнрайт говорил с трудом: eMy все еще не верилось, что их с японцем рассудит машина.
Из большого кожаного портфеля он достал лист бумаги и подал секретарю Судьи. Тот, аккуратно расправив лист, ввел его в щель читающего устройства. На белом своде зала появилось четкое изображение текста. Бесстрастный протокол железнодорожной полиции. В тринадцать часов пятнадцать минут седьмого июля мобильным полицейским постом в районе разъезда Таруэгава-эки был услышан грохот и замечено темное облако. Сразу вслед за этим на пустынном шоссе появилась легковая автомашина, мчавшаяся с недозволенной скоростью от места катастрофы. Последовала гонка и перестрелка, водитель был убит, а автомашина врезалась в дорожный барьер. Водителем оказался мужчина 30–32 лет, не имевший при себе никаких документов.
В кармане убитого был обнаружен вот этот прибор.
Уэйнрайт поместил против читающей щели черный предмет, похожий на авторучку. Рядом с текстом протокола, черневшим на жемчужной белизне купола, появилось и застыло стократно увеличенное изображение предмета, и все ясно увидели в его средней части карминно-красный знак, напоминающий букву Т.
— Гэнкай! — пронеслось по залу: это было символическое изображение атомного гриба.
— Судя по заключению экспертизы, — Уэйнрайт сам сунул в читающую щель второй документ, текст которого сейчас же появился на куполе, — этот прибор предназначен для однократной передачи закодированного радиосигнала. Я полагаю, что именно этим сигналом и был вызван перевод стрелки, в результате тепловоз Камиданоми перешел с основного на тупиковый путь.
— Компания Цуру-Кюку-Умпан! — произнес Голос.
— Да, Сайбанте, — отозвался Мицукава.
— Как управляется механизм стрелки?
— На расстоянии, Сайбанте, при помощи направленного пучка радиоизлучения в виде однократного закодированного сигнала. Код меняется ежесуточно.
— Компания “Дженерал Атомик”. Известен ли вам код, излучаемый предъявленным вами прибором?
— Да, Сайбанте…
Уэйнрайт продвинул акт экспертизы в читающую щель до конца. Текст взвился вверх и исчез из поля зрения, сменившись колонками цифр. Мицукава изменился в лице: удар был сильным и болезненным.
— Цуру-Кюку-Умпан! — прогремел Голос. — Совпадает ли этот код с кодом управления стрелкой на день катастрофы?
По залу словно пронесся ветер.
— Да, Сайбанте… — выдавил Мицукава.
Уэйнрайт усмехнулся: можно считать, что пятьсот тысяч в кармане.
— Я полагаю, мистер Мицукава, вопрос ясен? — сказал он тихо.
Взгляды их встретились. Противник снова занес руку, но — Мицукава знал это — удар угодит в пустоту.
— Нет, мистер Уэйнрайт, — сказал он, спокойно улыбаясь. — Сайбанте, мы еще не знаем, был ли прибор приведен в действие…
— За этим дело не станет. — Уэйнрайт тоже улыбнулся. — Сайбанте, я ходатайствую о дополнительной экспертизе.
— В ней нет надобности, — бесстрастно ответил Аманоивато. — В предъявленном вами документе говорится: “Энергия для однократно излучаемого сигнала в количестве двадцати джоулей поступает от разряда миниатюрного конденсатора большой емкости, встроенного в прибор и заряжаемого перед употреблением. В ходе экспертизы конденсатор был экспертом разряжен”.
— И что из этого следует, Сайбанте? — Уэйнрайт не чувствовал ловушки.
— В приборе, предъявленном эксперту, конденсатор был заряжен, следовательно, прибор не был приведен в действие, так как однократный разряд полностью исчерпывает запас энергии.
Шум в зале захватывал ряд за рядом. Обычно непроницаемое лицо Мицукавы, казалось, излучало благоговение перед мудростью Электронного Судьи.
Уэйнрайт задумался, машинально уставившись на руки Дорис, которая с немыслимой быстротой чертила свои значки в блокноте. Выходит, этот проклятый гэнкаевец ничего не сделал! Что ж, он для развлечения торчал на путях с этим своим прибором? Нет, его просто опередили, другого объяснения нет.
Но кто?
Уэйнрайт вскинул голову.
— Сайбанте! — громко сказал он. — Мне все ясно. Я обвиняю Дэнси-Даймс, ответственного служащего компании Цуру-Кюку-Умпан, в умышленном ложном переводе стрелки с целью уничтожения собственности Соединенных Штатов…
Шум в зале затих на мгновение, потом снова начал нарастать.
…— и в последующем самоубийстве с целью уклониться от ответственности, — закончил Уэйнрайт, победоносно оглядев зал.
— Кто такой Дэнси-Даймс? — спросил Голос.
— Сайбанте, это служащий компании, в ведении которого находится коммутация путей, — ответил Мицукава, оправившись от изумления: противник оказался хитрее и изворотливее, чем он ожидал.
— Пускай Дэнси-Даймс явится сюда, — приказал Голос.
— Это невозможно, Сайбанте… Дэнси-Даймс — нейроид, он не способен самостоятельно передвигаться.
— Пускай даст показания на расстоянии.
— И это невозможно, Сайбанте, — почтительно объяснил Мицукава. — Он выключился…
— Что это значит? — поинтересовался Судья. — Кто его выключил?
— Он выключился сам, Сайбанте… Результатом этой технической неисправности и явился ложный перевод стрелки.
Шум в зале не унимался. На задних креслах вспыхнул спор о том, не был ли Дэнси-Даймс причастен к организации Гэнкай, но полиция быстро водворила порядок.
— Ответчик! — заговорил Голос. — Когда произошло самовыключение служащего Дэнси-Даймс: до или после катастрофы? Есть у вас фактическое доказательство?
Наступила тишина. Мицукава медлил с ответом, собираясь с мыслями. Принцип дзю-до — “используй силу противника во вред ему и победи” — всегда помогал Мицукаве в делах. Настало время победить.
— Сайбанте, в моем распоряжении имеется запись телевизионной картины, передававшейся с Камиданоми в управляющий центр вплоть до самого момента катастрофы. С разрешения Сайбанте, я представляю этот фильм как вещественное доказательство… — он подал секретарю маленькую круглую коробочку.
На жемчужно-белой поверхности купола появился яркий широкий прямоугольник, словно дверь, распахнутая в мир, и зрители почувствовали себя на крыше бешено мчащегося локомотива. На рельсах стремительно вспыхивали слепящие солнечные блики. С обеих сторон зеленели стены бамбука.
Вдруг вдали на путях что-то словно переметнулось через насыпь. И в тот же миг осмысленная картина исчезла, сменившись хаосом мелькающих пятен.
— Ответчик, — прогудел Аманоивато, — поясните смысл наблюдаемого.
— Сайбанте, в наших телевизионных линиях передается не каждый кадр изображения, а лишь разность изображений последующего и предыдущего кадров. Так как два соседних кадра различаются мало, их разность содержит малое количество информации, что позволяет передать изображение высокого качества в узкополосном канале…
Цветные тени на экране погасли.
— Я протестую, Сайбанте! — Уэйнрайт поднял руку. — Я здесь не для того, чтобы выслушивать популярные лекции.
— Протест не удовлетворен, — сказал Голос.
…— Принятые в Центре разностные изображения по мере поступления суммируются в динамической памяти ДэнсиДайме… — Мицукава замялся, — нарастающим итогом, то есть последняя разностная картина накладывается на сумму всех предыдущих, что восстанавливает нормальное изображение…
— Вы просто издеваетесь! — разозлился Уэйнрайт. — Кому нужна эта ваша белиберда?
Мицукава некоторое время беззкучно шевелил губами. Потом он отвернулся от Уайнрайта и продолжал:
— Как вы могли видеть, нормальное воспроизведение картины продолжалось лишь до определенного момента — динамическая память нейроида при самовыключении полностью очистилась. Суммирование нарастающим итогом прекратилось, и вплоть до момента катастрофы вы наблюдали лишь разностные изображения в течение двенадцати секунд. Отсюда ясно, что катастрофа явилась следствием, а не причиной самовырождения нейроида, и обвинение, выдвинутое истцом, лишено почвы.
В зале снова зашумели. Увйнрайта ослепил луч юпитера: оператор телевидения решил дать его лицо крупным планом.
Ну да, ведь он лежит в нокдауне, и все эти японцы думают, что ему не подняться. Как бы не так!
— Компания “Дженерал Атомик”! — провозгласил судья Аманоивато. — Вы согласны?
Но Уэйнрайт уже был готов продолжать бой.
— Сайбанте, — сказал он раздельно, — самовыключение Дэнси-Даймс за двенадцать секунд до катастрофы может свидетельствовать и о том, что он знал заранее о возможных последствиях перевода стрелки. Я настаиваю на высшей экспертизе.
Стало тихо, так тихо, что отчетливо слышалось жужжание вентиляторов в телевизионных камерах.
— Сэити Гэндзи!
Ровная белая ниточка пробора промелькнула над рядами голов. Гэндзи поднялся на площадку.
— Сэити Гэндзи! — повторил Голос. — Мог ли Дэнси-Даймс дать команду о переводе стрелки после прекращения обмена со средой?
— Человек не может действовать после смерти, — возразил Гэндзи… Но нейроид может записать свое решение в блок исполнительной памяти — в тот же блок, куда был записан фильм… Его содержимое не стирается при самовыключении…
— Сэити Гэндзи, утверждаете ли вы, — спросил Голос, — что командный сигнал был послан из блока исполнительной памяти?
— Да, Сайбанте, — подтвердил Гэндзи. — Этот факт подтверждается контрольной мемограммой Центра.
— В таком случае вопрос ясен, — продолжал Голос. — Команда перевода была записана перед самовыключением, то есть умышленно. Вы согласны, ответчик?
Уэйнрайт облегченно вздохнул: теперь японцу не отвертеться. Но Мицукава вовсе не собирался капитулировать.
— Согласен, Сайбанте, — процедил Мицукава. — Но истец должен еще доказать, что в данном случае имело место преднамеренное уничтожение, груза, принадлежавшего клиенту… Не так ли, мистер Уэйнрайт? Ведь это значится в тексте страхового полиса!
Уэйнрайт пожал плечами.
— Не хотите ли вы сказать, что ваш Электронный Хозяин вызвал катастрофу с добрым намерением? — спросил он.
— Эксперт! — сказал Голос. — Можно ли выявить стимул, побудивший нейроида к известным нам действиям? Были ли в его практике подобные прецеденты?
— Нет, Сайбанте… В период обучения структура его нейроидных сетей формировалась самостоятельно, на основе повседневного опыта эксплуатации дорог компании… Скорее всего, нейроид столкнулся с непредвиденной ситуацией, поставившей его в тупик. Что-то привело его в состояние шока… и заставило выключиться! Ведь конструкция не предусматривала самовыключения — значит, эта возможность развилась в сетях!
Гэндзи умолк и задумался.
— Сайбанте, — сказал он решительно. — Причиной действий Дэнси-Даймс было нечто внезапно возникшее на путях впереди вагона… К сожалению, относящаяся к этому часть фильма недоступна для нашего восприятия.
— Введите фильм в читающую щель, — произнес Голос с неожиданным оттенком высокомерия, — и вы увидите то, что вам необходимо.
И люди увидели все, что видел телеглаз Камиданоми — до последнего момента! По-прежнему мчались навстречу, расходясь в стороны, верхушки бамбука и криптомерии. Но впереди на блестящие рельсы вдруг упало что-то маленькое и бесформенное. Предмет стремительно вырастал, превратившись в крохотную человеческую фигурку, скорчившуюся на рельсах.
Гэндзи ахнул. Эмоция жалости? У нейроида? Фигурка увеличилась, заполнив экран, потом метнулась вправо и исчезла.
Мелькнули ржавые рельсы у подножья серой бетонной надолбы, затем сверкнула мгновенная вспышка — и все оборвалось.
— О-о! — пронеслось по залу.
— Черт возьми! — Уэйнрайт не мог прийти в себя. — Неужели это электронное нейрочудище пожалело человека?
Мицукава повернулся к Уэйнрайту.
— Не хотите ли снова взглянуть на мои хризантемы, мистер Уэйнрайт? — спросил он, весьма любезно улыбаясь.
Уэйнрайт, Дорис и Гэндзи снова сидели в шестигранном кафе.
— Но ведь это же просто идиотизм! — хмуро сказал Уэйнрайт. — Господи, да у нас такого судью прогнали бы в два счета. Или послали бы в психиатрическую лечебницу. Дорис, прочтите-ка еще раз то местечко, где он рассуждает о ценностях.
Дорис пробежала глазами текст приговора:
— Вот здесь! — Она начала читать: — “Если бы движением на дорогах компании Цуру-Кюку-Умпан руководило обычное белковое устройство, снабженное дистанционными рецепторами и манипуляторами и должным образом обученное, как поступило бы оно, обнаружив на путях нейроида? Можно предположить, что упомянутое устройство, несмотря на свою примитивность, поступило бы так же, как это сделал нейроид Дэнси-Даймс, стоявший на существенно более высокой ступени развития. Ибо потенциальная ценность любого устройства — белкового или нейроида, — способного к активной организации окружающей хаотической среды и к переработке поступающей информации, неизмеримо выше ценности материи, не обладающей указанными свойствами, каковой и являлся груз клиента. В пользу такого вывода говорит тот факт, что в настоящее время белковые устройства, как правило, не являются предметом обмена на эквивалентные по стоимости количества хаотической материи или ее заменителей, называемых денежными знаками.
По совокупности фактов установлено, что Дэнси-Даймс, нейроид, служащий компании Цуру-Кюку-Умпан, совершил действие, имевшее результатом утрату собственности клиента, прибегнувшего к услугам указанной компании. Это действие совершено им, однако, не с целью уничтожения указанной собственности, но с целью сохранения нормального функционирования недоразвитого белкового индивида, потенциальная ценность которого намного превышает стоимость груза клиента.
Таким образом, указанное действие не относится к категории тех, что влекут за собой уплату страховой суммы, в силу чего иск не подлежит удовлетворению”.
— Ну вот, пожалуйста! — Уэйнрайт с яростью ткнул окурок сигареты в пепельницу. — Чистейшей воды идиотизм!
— Я бы это рассматривал иначе, — медленно произнес Гэндзи. — Я бы сказал…
— Что Аманоивато думает о людях лучше, чем они того заслуживают, — подхватила Дорис. — Вы это хотели сказать, Гэндзи-сан?
— Да, примерно это. Я ведь и раньше говорил вам, что у него могут быть совсем иные критерии. Хотя Аманоивато накапливает опыт из повседневной нашей практики, возможно, он оценивает факты не так, как мы… — Он помолчал. — Мое мнение таково, что Аманоивато в общем вернее нас судит об основных законах сохранения и развития человеческого общества. И его приговор не противоречит законам высшей логики. В отличие от многих и многих наших поступков…
Дорис глядела на него с веселым любопытством.
— Очень интересное рассуждение, — сказала она, хватаясь за блокнот. — Значит, получается вот что: один нейроид оказался способным руководствоваться эмоцией жалости, а другой счел его действия правильными.
Уэйнрайт фыркнул.
— Ну, Дорис, ваш хваленый нюх начал вам изменять, — насмешливо заявил он. — На таких идеях вы бизнеса не сделаете!
Дорис взглянула на него, чуть прищурив свои яркие глаза.
— А кстати, Кит: сами-то вы как поступили бы на месте Дэнси-Даймс?
“Дорис, кажется, обиделась, — с удивлением подумал Уэйнрайт. — Иначе она не задавала бы таких дурацких вопросов”.
— Дело не во мне, — сказал он, хмурясь. — Но держу пари, что ни один из моих служащих не стал бы рисковать своей карьерой из-за какого-то там…
— …Японского мальчишки, — вежливо подсказал Гэндзи.
— Даже и американского! — сердито возразил Уэйнрайт. — И нормальный судья при таких обстоятельствах наверняка оправдал бы его.
— Я остаюсь при своем мнении, мистер Уэйнрайт, — с непоколебимой вежливостью произнес Гэндзи, — что Аманоивато в конечном счете, хоть и судит о людях лучше, чем они того пока заслуживают, все же верно оценивает перспективы их развития…
Уэйнрайт досадливо махнул рукой. Развели философию!
А пятьсот тысяч долларов уплыли из-под носа, словно сигнальный огонь на хвостовом вагоне, из-за этой дурацкой эмоции жалости!
А на верхних этажах небоскреба Цуру-Кюку-Умпан высился холодной грудой металла, полупроводников и пластика нейроид Дэнси-Даймс — машина, неспособная испытывать человеческие чувства, но попытавшаяся оценить их по законам высшей логики.
ПИСЬМА НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
М.Перелъман. “Развлекательная литература” и научный сотрудник
Лет пятнадцать назад — в школьные годы — я впервые прочел “Эрроусмита” Синклера Льюиса. Профессор Готлиб надолго стал моим идеалом, все в нем казалось мне достойным подражания. И поэтому особенно удивила меня одна деталь: в кабинете профессора была библиотечка детективов, и он читал эти романы, когда случались какие-либо затруднения в работе. А мне тогда казалось, что ученые должны думать лишь над “вечными проблемами”, читать Шекспира, Гете, Толстого.
Сейчас я уже знаю, что все обстоит не так просто. Вкусы бывают разными и у крупных ученых и у рядовых научных работников. Эйнштейн любил Достоевского и Моцарта; Энрико Ферми, крупнейший физик-ядерник, и не менее крупный Стефан Банах почти ничего не читали и не любили музыку; из автобиографии Чарлза Дарвина мы узнаем, что к концу жизни он полностью утратил интерес к литературе и искусству и почти ничего не мог читать (хотя очень сожалел об этом).
А вот Планк, Гейзенберг и Альварец — все отличные пианисты, и, говорят, на их исполнительской манере очень заметно отразился их стиль работы в физике.
Так что, видимо, здесь имеется полный простор для индивидуальных склонностей, и наука, которая вообще требует разносторонности и принципиально не может унифицировать свои методы исследования, оставляет самые широкие возможности и для выбора занятий в свободное время.
Однако здесь есть и некоторые закономерности. Зайдите в библиотеку любого научно-исследовательского института. — У стола выдачи и у стенда новых поступлений всегда толпятся особо нетерпеливые: они должны первыми просмотреть оглавления специальных журналов, выяснить, не появилась ли новая работа, перекликающаяся с их собственной или с работой товарища, найти “зацепку” для нового эксперимента или расчета, а то и просто обнаружить очередную сенсационную гипотезу. Журналы, наиболее перспективные в этом отношении, прямо из рук рвут.
Это вполне естественно. Но интересно другое: вместе с этими журналами, безусловно необходимыми для работы, ученые так же жадно хватают “Науку и жизнь”, “Технику — молодежи”, “Знание — сила” и даже (тайком от окружающих) “Юный техник” и лихорадочно листают их, начиная с конца, пока не дорвутся до очередного научно-фантастического рассказа. После этого счастливец начисто выключается из обстановки, пока не дочитает до конца.
Это почти всеобщая страсть в научной среде. Журналы, по мнению многих, рассчитанные на подростков и юношей, в действительности с не меньшим интересом читают взрослые.
И если провести статистическое обследование, то, вероятно, наибольшее в процентном соотношении число читателей фантастики окажется среди научных работников. К фантастике следует добавить детективы (Синклер Льюис был прав!) и географическую литературу: великолепная серия, выпускаемая Географгизом, пользуется в среде ученых колоссальной популярностью.
Вот тут и возникает любопытный вопрос. С одной стороны, подобную литературу принято считать “второсортной”; с другой же стороны, ученые-интеллектуалы как-никак представляют собой достаточно развитую и мыслящую часть современного общества. Возникает довольно странное противоречие. Так в чем же дело? Не правы критики и литературоведы, специалисты но “лирике”? Или, наоборот, “физики” нуждаются в эстетическом довоспитании?
Вопрос этот не однажды ставился почти всерьез; говорили на эту тему, когда шла пресловутая дискуссия “физиков” и “лириков” и когда в “Комсомольской правде” спорили по поводу статьи И.А.Полетаева (которого, по-моему, неверно поняли так, будто он отрицает всякую ценность поэзии и искусства и признает лишь “эстетику машин”). Появились позднее в “Литературной газете” письма студентов — “естественников” и “гуманитариев”, призывающих, так сказать, к взаимообучению. Мне кажется, эти дискуссии чаще всего порождаются непониманием конкретной обстановки и неверным представлением о современных ученых. На деле “физики” вообще (и физики в частности) гораздо более образованны (в широком смысле слова), чем привыкли думать “гуманитарии”. Почти в каждом коллективе научных работников, соединенных общностью тематики или научного воспитания, существуют любимые писатели, любимые книги, которые непременно упоминаются и цитируются на полуофициальных диспутах или совсем неофициальных “трепах”. Диапазон тут очень широк и иногда неожидан: это могут быть стихи и сказки Киплинга, “Записки Пикквикского клуба” Диккенса, рассказы Бабеля, “Алиса в стране чудес” Льюиса Кэррола и, уж конечно, “Золотой теленок” Ильфа и Петрова… Так что вряд ли справедливо будет применять к современным “физикам” известное прутковское изречение о специалисте, который подобен флюсу, ибо полнота его одностороння.
Но почему же при всей широте диапазона индивидуальных интересов вкусы большинства ученых совпадают в одном — в любви к “развлекательной” литературе? Здесь, мне кажется, есть несколько причин.
Существует проблема, грозящая стать в ряды “мировых” или “вечных”: что делать человеку “от шести вечера до полуночи”, то есть от конца рабочего дня до отхода ко сну? У научного работника, правда, не существует столь резкого разграничения между работой и отдыхом. Научная работа требует полной отдачи, и в хорошо работающей лаборатории семичасовой рабочий день — всего лишь фикция: Никто, конечно, не принуждает работать больше, чем положено по закону, но, помимо юридических законов, существуют еще и законы творчества. А по вечерам, дома, надлежит, по незыблемым, хоть и неписаным правилам, обрабатывать и продумывать утренние эксперименты, штудировать новые (и не новые) научные статьи…
Но все же — что делать потом?
Читать? Ну, разумеется. Я уже говорил, что “физики” читают подчас не меньше, чем “лирики”. Но “серьезное” чтение — это тоже труд, а иногда хочется — да и необходимо! — дать мозгу отдых. Лучшее средство для этого, конечно, спорт — панацея XX века; поэтому среди научных работников так много если не подлинных спортсменов, то, во всяком случае, людей, увлекающихся теми видами спорта, которыми можно заниматься иногда, без систематических и обременительных тренировок, — приверженцев альпинизма, лыж, пеших походов, парусных яхт (Эйнштейн говорил, что он слишком ленив для любого другого физического занятия, кроме паруса).
Но занятия спортом не всегда и не для всех возможны.
Что же остается? Забивать “козла” интеллект не позволяет; преферанс немногим лучше, да еще и требует терпения. Периодически вспыхивают в научной среде эпидемии элементарнейших игр типа “крестики и нолики”, но эти игры годны в основном для того, чтобы скоротать время между двумя замерами или передохнуть перед новой атакой на занудливый интеграл. Более стойко держится интерес к шахматным блицтурнирам; но пока еще не все лаборатории оборудованы шахматными часами, а квартиры — партнерами.
А время надо как-то убить; надо провести его, не перегружая мозг, а, наоборот, стараясь разрядить нервное напряжение. И тут приходят на помощь все роды и виды настоящего, хорошего юмора. И хорошие, умные, отлично построенные детективные и приключенческие книги. Это, с точки зрения ученых, вовсе не второсортная литература; это необходимое переключение, разрядка, отдых. Поэтому не надо удивляться и обижаться за авторов, которых принято считать “серьезными”, если они оказываются среди любимых книг ученого рядом с детективами и сборниками пародий. Да, ученые одинаково охотно читают Бабеля — и Сименона, Ильфа и Петрова — и Саббатини.
Тем же целям разрядки великолепно служат всевозможные, по преимуществу необидные, шутки, розыгрыши, пародии, издавна бытующие в среде ученых; эта общая атмосфера подлинного интеллектуализма великолепно передана в кинокартинах “Девять дней одного года” и “Им покоряется небо”.
С фантастикой дело обстоит, как я понимаю, иначе. Она не только разрядка. Ее функция в среде ученых гораздо сложнее.
Недаром же многие фантасты — это профессиональные ученые, иногда с мировой известностью (например, Артур Кларк, Лео Сцилард).
Попробуем разобраться в причинах такого острого интереса к фантастике среди ученых.
Любая “серьезная” книга может резонировать с настроением читателя в том случае, если он сам пережил или переживает нечто подобное или, хотя бы может представить себя в схожей ситуации. Мысли и настроения, скажем, даже Ивана Карамазова, Гамлета, Дон-Кихота или доктора Астрова могут — редко или часто — быть созвучны нашему настроению.
Тогда эти книги необходимы, они объясняют наши неосознанные стремления и помогают осмыслить их и либо руководиться ими, либо от них избавляться.
Но искать аналогии собственным мыслям и переживаниям в литературе прошлых веков все же нелегко. Слишком многое изменилось в мире, даже в глазах одного поколения, и не на все могут дать ответ даже самые глубокие произведения прошлого.
Каждому интересней, да и полезней, при прочих равных условиях, прочесть книгу о своих современниках, которые ему как-никак ближе и понятней.
Еще интересней, конечно, читать о своих товарищах по профессии. Ученые хотят этого ничуть не меньше, чём другие люди. Может быть, им это даже важнее. Ознакомившись со статьями какого-либо ученого, его коллега почти всегда может воссоздать в воображении основные черты характера, склада ума их автора. Неспециалисту трудно себе представить, какая отчетливая печать индивидуальности обычно лежит даже на “сухой” статье по математике или теоретической физике.
Но этого, конечно, мало. О крупном ученом хочется знать побольше. Не случайно в научных кругах бытует и передается из поколения в поколение масса историй и анекдотов из жизни больших ученых. К сожалению, этот “научный фольклор” редко записывается и еще реже попадает в печать. Книг 66 ученых — не официальных биографий, а живых, конкретных, детальных зарисовок характера и среды — обидно мало, и все они читаются и перечитываются по многу раз. Именно живые, неповторимые детали, характеризующие людей науки и их дела, в первую очередь привлекают читателей к таким книгам, как, например, “Атомы у нас дома” Л.Ферми, “Ярче тысячи солнц” Р.Юнга или “Встречи с физиками” А.Ф.Иоффе; именно это делает такие книги не менее увлекательными, чем художественные произведения. Книги такого рода с громадным интересом читаются и молодежью; они привлекают молодежь в науку.
С еще большим увлечением должны были бы читаться романы и повести об ученых. Но их, к сожалению, почти нет.
А нужно учесть, что почти во всех странах мира число научных работников удваивается примерно каждые 7-10 лет, так что недалеко то время, когда научные специальности станут ведущими не только по значению для человечества (это уже произошло), но и по количеству занятых в них людей.
В связи с этим возникнут — и уже возникают — совершенно новые, неизведанные в художественной литературе коллизии.
Например, ранее в науку шли одиночки, обычно полностью преданные делу, люди, работающие ради идеи и мало заботящиеся о мирских благах. Теперь же, как и во всякой массовой профессий, в науке встречаются люди с весьма различными характерами, и устремлениями, и, конечно, с крайне неодинаковой степенью одаренности.
Немало написано (хоть и не всегда глубоко) о том, как талантливый, но непрактичный ученый сталкивается с карьеристом или новатор с консерватором.
Я бы сказал, что этого рода конфликтам уделено в общем незаслуженное внимание: ведь карьеристов и стяжателей не так уж много, а прослойка консерваторов заметно тает с каждым годом. Гораздо более глубоким, серьезным (и более массовым!) является конфликт между потенциями и желаниями.
Он, конечно, сам по себе не нов — аналогии ему можно сыскать, пожалуй, даже в античной греческой драме, — но ведь важно то, как этот извечный конфликт решается в конкретной обстановке. А как раз конкретные условия новы и совершенно отличны от обстановки, в которой действуют, скажем, Моцарт и Сальери.
Посмотрите на первокурсников физических и математических факультетов: вы встретите целую толпу абсолютно уверенных в себе будущих Эйнштейнов, Резерфордов и Галуа.
А затем поговорите с ними через несколько лет. Тогда вы увидите людей, точно осознавших свои силы и делающих то, что они, и именно они могут, — честных тружеников науки.
Увидите тех, кто не смог и не захотел ограничить себя, не потерял первоначальной веры в свои возможности; из них выйдут и гении, чьи имена останутся в истории науки, и несчастливцы, которые будут изобретать вечные двигатели на современном уровне. Вы встретите также людей, глубоко уязвленных тем, что их бывший однокурсник, получавший не бог весть какие оценки на экзаменах, смог “пробиться”, а они не смогли (ну, разумеется, потому, что он ловкач, а они честные); их жизнь исковеркана, и теперь они будут коверкать жизнь другим.
Ну, и, наконец, вы узнаете, что есть и явные неудачники, но у них хватило мужества и воли осознать, что они ошиблись, и выбрать другую специальность Вот вам драмы, драмы, о которых никто, в сущности, не писал.
А сколько можно найти драм другого рода, где действуют не рядовые труженики, а титаны науки! Тут и разительный пример Планка, Эйнштейна, Шредингера, заложивших фундамент, и построивших первые этажи квантовой механики, и затем до конца жизни воевавших с нею; и Лоренца, не соглашавшегося с теорией относительности, которая основывалась в значительной степени на его же собственных работах. Перечень историй такого рода, представляющих благодарнейший материал для психолога и писателя, можно было бы без труда продолжить. Такие и несколько иные истории сплошь и рядом случаются в любом из научных коллективов, и они очень характерны для нашей эпохи.
Конечно, для того чтобы писать об ученых, нужны обширные специальные знания, здесь нельзя ограничиться чтением популярных брошюр (иначе получится вот такое нагромождение наивнейших ошибок и нелепиц, как у Натана Рыбака в романе “Пора надежд и сомнений”).
Еще лучше, конечно, если об ученых пишет их собрат.
Но опыт показывает, что ученые, уходящие в литературу, редко становятся писателями-реалистами. Можно назвать Митчела Уилсона, Д.Кронина, Ч.Сноу, Д.Гранина; но это единичные случаи, а не массовый процесс.
Иначе обстоит дело в фантастике. Во-первых, большинство фантастов, как уже говорилось, пришло в литературу именно из науки. Во-вторых, ученые, вполне естественно, являются главными героями большинства научно-фантастических романов. Поэтому и герои и обстановка изображаются здесь в общем вернее и точнее, чем во многих реалистических романах, — даже если эта обстановка отличается от той, которую можно видеть сейчас. Это не означает, конечно, что во всех фантастических романах можно встретить убедительно очерченные характеры героев, но в принципе, мне кажется, у фантастов тут много преимуществ и более надежные перспективы.
И, кстати, дело не только в том, что большинство писателей-фантастов на личном опыте понимают психологию ученого и условия его работы. По-моему, научная фантастика может шире, чем другие жанры, пользоваться еще одним козырем, особенно важным для ученых.
Мне кажется, произведения искусства тогда наиболее действенны, когда они либо полностью захватывают все наши чувства (кино), либо оставляют необходимый простор для домысливания, фантазирования. Наверное, этим частично объясняется тяга к произведениям с подтекстом, где многое лишь подразумевается, основное содержание часто надо искать между строк, — например, к прозе Хемингуэя, где много смысловых синкоп.
Ученым постоянно по ходу работы приходится домысливать чужие исследования, восстанавливать пропущенные там звенья, ну и, уж конечно, разгадывать всякие загадки и подвохи в своей науке. Поэтому ученого должен, естественно, привлекать в книгах, так сказать, “выброс на дофантазирование” — необходимые умолчания, художнический такт, который подсказывает, что не все надо договаривать до конца.
И вот эта возможность додумывать реализуется особенно широко и увлекательно в научно-фантастических романах (в лучших из них, конечно).
Но есть и другие причины, по которым ученые (и, конечно, не только ученые) любят научную фантастику.
Иногда — особенно в трудные минуты — неодолимо тянет прочесть что-нибудь оптимистическое, светлое, прочесть о человеке, сильном физически и духовно, о человеке, который наверняка справился бы с тем, что ты сегодня не смог сделать в лаборатории, о человеке, который никогда не отступит перед препятствием. Конечно, в таких случаях достаешь с полки Джека Лондона, Сент-Экзюпери либо Александра Грина.
Но чаще всего хватаешься за научную фантастику, чтобы вернуть утраченное равновесие, чтобы добиться необходимого спокойствия и уверенности в себе.
Ведь в научной фантастике таится такой мощный заряд оптимизма, как, пожалуй, ни в каком другом жанре. Даже когда там изображены трагические события. Возьмем, например, многие романы и рассказы Станислава Лема или книги И.Ефремова “Туманность Андромеды” и “На краю Ойкумены”. Конечно, я не хочу сказать, что вся фантастика должна быть насквозь оптимистична, но в принципе фантастика говорит о героизме, о людях сильных, умных, смелых, благородных — о тех, кто прокладывает пути в будущее.
Ну, и, наконец, изображение будущего; это тоже привлекает к фантастике всех и в первую очередь опять-таки ученых. Ученый-исследователь всегда живет как бы впереди своего времени; он прочно связан с настоящим, и в то же время он какой-то частью своей личности находится в будущем — в том будущем, которое, конечно, лучше настоящего и в котором, конечно, уже хоть частично свершились его мечты.
И когда ученый читает научно-фантастическую книгу, он ощутимо представляет себе это будущее, он хоть на время дышит его атмосферой.
В общем, мне кажется, в наши дни существенно меняется оценка различных литературных жанров, иначе выглядят перспективы их дальнейшего развития. И прежде всего это касается научной фантастики: на наших глазах она становится полноправным жанром литературы, научно-фантастические книги приобретают все новых — и притом уже не детского возраста — читателей. И это понятно. Жизнь и психология ученого должны стать объектом такого же пристального внимания писателей, как жизнь любого другого человека. Научные истины надо стараться понять, а не подменять их бестактной гримировкой специалиста по взрывчатым комарам под Эйнштейна, как это сделано в фильме “Каин XVIII” (в чем, уж конечно, неповинен Евгений Шварц!). Наука на наших глазах изменяет облик мира, и давно пора, чтобы это понимали все писатели и художники, а не только фантасты.
М.ПЕРЕЛЬМАН.
научный сотрудник Института кибернетики АН Грузинской ССР
КРИТИКА
В.ТРАВИНСКИЙ Модель характерной ошибки[3]
В фантастической литературе бывают и фантастические провалы — злополучная колпаковская “Гриада” тому примером. О них надо писать так же, как и об успехах, ибо изучение крайностей всегда полезно и модель типового заблуждения не менее поучительна, чем эталон красоты. В советской литературе фантастика — все еще молодой жанр, теория его разработана несравненно меньше, чем теория любого другого жанра, а потому “метод проб и ошибок” волей-неволей остается тут главным поводырем. Как надо делать фантастику, еще не очень ясно; но как не надо — мы понимаем с каждым новым произведением все лучше и лучше.
Две повести Л.Могилева — “Железный Человек” и “Профессор Джон Кэви” — хорошая основа для делового разговора о жанре. Это не “фантастический провал”, но и успехом эти повести не назовешь. Их недостатки характерны для многих начинающих писателей-фантастов.
Тяжело больной Нед Карти поддался на уговоры профессора Траубе. Он дал согласие на необычный и опасный эксперимент: Траубе переместил его мозг в голову искусственного человекоподобного устройства, которое в результате стало Железным Человеком и получило имя Гарри Траубе (профессор представляет всем это гибридное существо как своего родного сына).
Тут начинается целая серия психологических загадок, на которых и строится весь сюжет повести.
Почему-то Траубе очень не хочет говорить Неду-Гарри, кто он такой, хоть от этого явно было бы больше пользы, чем вреда. Почему-то профессор Сандерсон, враг Траубе, не нравится своей ассистентке Элеоноре, что не мешает сыну Сандерсона Маку в нее влюбиться. Почему-то Элеонора, впервые увидев Железного Человека, решила его просить о протекции — о том, чтобы Траубе принял ее в свою лабораторию.
После этого Мак попросту лезет драться к Гарри, и тот почему-то обязательно (это предопределено до начала драки) убивает его. Траубе после этого сообщает Железному Человеку, что он бывший Нед Карти. И почему-то, узнав об этом, Железный Человек умирает.
Мы имеем дело с таким случаем — нередким, впрочем, не только в фантастике, — когда добрые намерения автора стихийно разошлись с их художественным воплощением.
В добрые намерения автора входило, по-видимому, разобраться в сложном и больном вопросе современной науки о соотношении машинного и человеческого. Л.Могилев хотел, вероятно, утвердить ту идею, что человеческая личность — это не только мозг и его способность мыслить; что мозг, вырванный из тонкого и сложного комплекса человеческого организма, не захочет, органически не сумеет захотеть мыслить. Мозг — часть сложного целого и нормально существовать вне этого целого не может. Автор, видимо, желал показать что-то вроде “трагедии одинокого мозга”, мозга самого по себе.
Очень вероятно, что Л.Могилева волновали именно эти проблемы. Но с уверенностью этого утверждать нельзя: повесть не дает достаточной опоры для таких утверждений.
Проблема “одиночества мозга”, по существу, даже и не сформулирована в повести. Мозг Карти ведет себя, как и положено мозгу: научается управлять телом, набирает информацию из внешнего мира — в том числе из специальной биологической литературы, — становится помощником Траубе в науке — в общем ни в чем не уступает обычному человеческому мозгу. Он не лишается и памяти, кроме памяти о Неде, о своем “бывшем Я”. По мысли автора (ничем не аргументируемой), самое страшное для мозга — вспомнить о своем “личном” прошлом. Вспомнив об этом, мозг Карти гибнет.
И вот вокруг этого “вспомнит — не вспомнит” строится весь сюжет. Искусственность в выборе этой ахиллесовой пяты мозга отражается на всех событиях повести. Приходится намеренно оглуплять и Неда и профессора Траубе, вводить злодея Мака и сентиментальную красавицу Элеонору. Непонятно, кстати, как это удалось Траубе добиться именно такой локальной амнезии, — ведь вообще-то память Неда восстановилась. Но главное — зачем? Ведь если б Нед Карти помнил о себе прежнем, это была бы основа для подлинной трагедии.
А в повести вместо трагедии — вымученный мелодраматизм.
Исчезает интеллектуальная глубина и этическая значимость опыта Траубе; едва намеченная психологическая драма быстро превращается в подобие “боевика с ужасами”.
В связи с этим неизбежно трансформируются и образы главных героев повести. И прежде всего образ профессора Траубе. Траубе в первых главах — великий ученый. Он чуть ли не в одиночку конструирует Железного Человека, затем проделывает сложнейшую операцию пересадки мозга и “привязывает” искусственное тело к мозгу Неда. Словом, перед нами гениальный экспериментатор, человек с великолепным интеллектом и несокрушимой волей.
Железный Человек создан. И вдруг оказывается, что Траубе ровно ничего не предвидел. Он пугается взгляда Гарри и не знает, как быть со своим изобретением. Профессор сам конструировал искусственные железные мышцы Гарри, но совершенно не рассчитал их силу и теперь со страхом наблюдает, как Гарри вяжет узлы из железных прутьев.
По странной прихоти автора Траубе удивляется даже тому, что мозг мыслит. “Он задумался, — размышлял профессор, — боже, он стал задумываться. И это лишь начало… А потом?
Что будет потом?” Мозг человеческий в основном тем и занят, что “задумывается”, почему же это поражает и пугает ученого.
“Откуда у него такие мысли? — с тревогой думал Траубе. — Мысли сугубо человеческие”. Каких же еще мыслей мог ожидать от человеческого мозга профессор, даже если на свете и существуют мысли не человеческие? Траубе, оказывается, даже и не подумал определить для себя сущность Железного Человека и лишь в самом конце повести заволновался: “Но ведь он же — человек! Правда, только мозг… А в целом… Можно ли в целом назвать эту систему человеком? Не знаю, не знаю…” Короче говоря, Траубе глупеет с каждой страницей повести и у нас на глазах из гениального ученого превращается в растерянного школяра.
Хуже того: Траубе — по-видимому, вопреки воле автора — становится преступником. Когда он уговаривал Неда Карти решиться на эксперимент, он обещал ему: “Вам не грозят никакие мучения. Лишь пробел в чувствах и в сознании. И все…
Нед Карти умрет, но мозг Неда, мысли Неда, чувства Неда будут жить”. На самом деле профессор, уступая неудержимому влечению автора к “ужасным” ситуациям, делает все, чтобы мозг Карти не знал ничего о Карти, чтобы мысли и чувства Карти не проснулись. “Нед Карти был мертв, давно мертв.
Его не было, не было ничего связанного с ним”. К чему же были слова Траубе, что Карти надо лишь “пройти сквозь смерть, как сквозь ночь, чтобы снова увидеть день”? Когда потом узнаешь, что Траубе “хотел добиться восстановления мыслительных процессов в определенном направлении” — в направлении слепого послушания, когда открывается, что Железный Человек нужен профессору лишь для того, чтобы утереть нос своим коллегам, — тогда вспоминаешь, что как-никак Траубе убил Неда Карти. Нед Карти дал согласие на это убийство, веря, что профессор потом вновь воскресит его, а Траубе всеми силами мешает его воскрешению. В результате великий ученый Траубе превращается в зловещего и мрачного авантюриста.
Так мстит за себя извращение темы. Драма идей оборачивается примитивным детективом.
Та же судьба постигла и вторую повесть сборника — “Профессор Джон Кэви”. И здесь выбрана не совсем оригинальная, но достаточно интересная проблема; и здесь она не выявлена в характерах, не решена сюжетно. Бесчеловечность машинного мира, созданного Джоном Кэви, декларируется, и только.
Главное место в повести занимают не относящиеся ни к чему переживания и приключения героев, создающие рыхлое подобие сюжета. Вновь напрашиваются десятки недоуменных “почему”. Почему Кэви приглашает случайного дорожного попутчика в свой архисекретный институт? Почему и зачем он создал этот сложный мир машин? Почему он сам не может (или не хочет) изучать этот мир и посылает туда ничего не понимающих мальчишек? Почему всезнающий Кэви ничего не знает о враждебных действиях Джона Крафта? Почему робот Мэри способна влюбляться во всех подряд врагов своего хозяина и помогать им действовать вопреки его интересам? Сам он ее, что ли, так запрограммировал?
Опять автор стихийно противоречит себе самому: Кэви, например, вызывает гораздо больше интереса и сочувствия, чем “положительные”, совершенно бесцветные герои-резонеры, авторские протеже, с их более чем наивными размышлениями о смысле жизни и человечности. И в этой повести хаос неорганизованных событий увлек за собой автора.
Фантастическая идея сама по себе, не поддержанная, не “оркестрованная” всей системой образов и художественных приемов, еще не делает произведения фантастическим. Предположим, что в романе Д.Гранина “Искатели” герой изобретает не аппарат для определения места разрыва кабеля, а гравитационный энергопоглотитель, но дальше события разворачиваются так, как оно и есть в “Искателях”: борьба с бюрократами, утверждение прав изобретателя и тому подобное.
Будет ли такой роман фантастическим? Нет, конечно. Предположим, что в повести Л. Обуховой “Доброта” командир самолета заболел не чумой, а загадочной болезнью, принесенной с чужой планеты, однако все остальное остается в повести прежним: героев интернируют, они разговаривают с родными, помогают друг другу быть мужественными и честными перед лицом опасности. Будет ли такая повесть фантастической?
Не фантастическая идея сама по себе создает фантастику, а органическое претворение этой идеи в художественный материал. Невероятное событие неизбежно распространяет свое влияние на окружающий мир, трансформирует его, создает фантастический фон действия. “Робур-Завоеватель” Ж.Верна продолжает оставаться фантастическим романом, хотя идея геликоптера уже осуществлена; “Первые люди на Луне” будут читаться и после того, как люди освоят Луну.
В повестях же Л.Могилева фантастические идеи так и не обросли художественной плотью.
Думается, что все эти художественные просчеты не столько вина автора, сколько его беда. То есть дело не в том, что Л.Могилев сознательно избрал именно такой ложный принцип организации материала, а в том, что он из-за дилетантизма, из-за отсутствия профессионального мастерства пошел по линии наименьшего сопротивления. Ведь нагромождать мелодраматические дешевые ужасы куда проще и легче, чем создавать характеры героев, действующих в совершенно необычной обстановке.
Вот и получается, что ужасов и страстей в обеих повестях предостаточно, а характеры героев еле набросаны, неубедительны и обстановка элементарно не продумана.
Пример из “Железного Человека”: “В стальном корпусе был заключен сложный фонетический аппарат. Этот аппарат тысячью каналов был соединен с мозгом Железного Человека, точно так же, как и другие исполнительные системы”. Если фонетический аппарат соединен с мозгом Гарри тысячью каналов, а остальные “исполнительные системы” — “точно так же”, то понятно, какой огромный труд надо вложить в монтаж Железного Человека. Автор же заставляет Траубе вдвоем со стариком помощником вручную проводить этот кошмарный монтаж. Если это и возможно, то ведь потребовались бы долгие годы.
А вот в другой повести Сэм осматривает лаборатории профессора Кэви. “Скромные домики оказались изумительно оборудованными изнутри. Все в них сверкало никелем и стеклом, блестело краской, изразцами, кафелем. Мы переходили из одной комнаты в другую, из одного домика в другой. Профессор давал скупые, но точные пояснения приборам и установкам”.
Мало того, что профессор зачем-то давал пояснения не Сэму, а приборам и установкам; но это вообще чуть ли не единственное упоминание о том, что в лабораториях Кэви было нечто, кроме никеля, стекла, краски, изразцов и кафеля (есть еще два-три упоминания о “необычайно совершенных” кибернетических машинах). Столь же легковесны почти все описания быта и работы героев-ученых. Отмахиваясь от реальных примет бытия, Могилев целые страницы посвящает “психологическим размышлениям” в духе не то Анны Радклиф, не то Вербицкой.
До крайности небрежен в соответствии с этим и язык повестей.
Могилев пишет, к примеру: “Порой у профессора тревожно сжималось сердце, липкий пот охватывал все тело. Но он отгонял от себя все это”. Что же все-таки отгонял от себя профессор — тело, пот, или сердце, или все это вместе?
Еще “загадка” в том же духе: “И если мы жалуемся на скуку, однообразие, то подтверждаем свое неумение видеть мир. Но в этом случае мы клевещем на себя”. То ли мы действительно не умеем видеть мир, раз мы это подтверждаем, то ли мы все же умеем видеть мир, но зачем-то клевещем на себя. А может, Л. Могилев думает, что нам вовсе не бывает скучно, а просто мы выдумываем скуку и этим клевещем на себя? Кто знает!
Примеров такой запутанности, нарочитой многозначительности, пагубной страсти к “высокому штилю” в книге полным-полно.
“Взгляд Железного Человека неподвижен. В нем что-то непередаваемое”. “В зале стояла какая-то непередаваемая, настороженная тишина”. “В этом взгляде было нечто заставляющее содрогаться, непонятное, прижимающее к земле”. “Что изменилось в этом неподвижном взгляде? Или появившийся влажный блеск, или что-то почти неуловимое, но в то же время явное. И оно проступало все ясней и ясней”. “А изнутри, из самой глубины, рвалось наружу что-то далекое и в то же время близкое”. “Что-то изменилось во взгляде Гарри. Что-то быстрое, как молния, мелькнуло на его лице. И это что-то заставило сжаться сердце профессора… Что же произошло? Что привлекло внимание Гарри?”
* * *
Но в заключение, подвергнув повести Л.Могилева такой суровой критике, я хочу повторить то, что сказано в начале рецензии: это не провал, хоть и удачей это не назовешь. Автор крайне неопытен и, кажется, еще не склонен относиться к писательскому делу достаточно серьезно. Однако из большого количества прочитанных мною за последнее время произведений начинающих фантастов эти повести выделяются несомненной авторской одаренностью и наличием пускай не воплощенных в образах, но все же интересных идей. Даже недостатки манеры Л.Могилева могли бы превратиться в достоинства, ибо стремления к психологизации, например, явно недостает многим нашим фантастам. Временами чувствуешь, что и языковые возможности автора далеко-далеко еще не развернуты: главка “Седина мира”, к примеру, написана очень хорошо; есть яркие страницы и в главах “Химеры”, “Во имя чего?”.
Впечатление создается такое, будто читаешь наброски неплохо задуманных повестей. Удачные идеи не находят воплощения; интересные находки, любопытные наброски тонут в груде словесного хлама… Надо было по-настоящему продумать сюжет и характеры, взвесить каждую фразу, каждый образ. Литература на одной игре ума не строится, в том числе и фантастическая литература.
Повести Л.Могилева — это заявка на будущее. Так, видимо, их и нужно воспринимать: как обещание, как первый несовершенный опыт. И уроки этого опыта поучительны не только для Л.Могилева.
И.ПИТЛЯР Падает вверх, или немного о законах восприятия…[4]
Прочитав несколько строк новой книги, мы обычно уже начинаем понимать, куда ведет нас автор, что он нам обещает — бытовую реалистическую повесть, юмористический рассказ, фантастическое повествование о будущих временах или же, допустим, историческую эпопею. По-видимому, это можно назвать “чувством жанра”. У одних читателей это чувство развито сильнее, у других — слабее, но присуще оно всем: знакомясь с произведением искусства, мы сразу же начинаем ощущать внутренние, присущие ему закономерности, его жанр, — и именно в рамках этого предложенного нам художником закона (жанра) мы и воспринимаем его создание.
Так, например, если, открыв новую книгу, я обнаруживаю, что его герои носят имена Крив Кос или Шара Бан (причем этот Шара обязательно оказывается мужчиной), то с немалой долей уверенности могу предположить, что речь в этой книге пойдет о наших далеких потомках или же об обитателях неведомых планет.
Вот и теперь. Раскрыл книгу, и сразу же: “Рисе Банг ведет передачу.
Высоко над морем взметнулся будто выплавленный из одного куска зеленый и сверкающий корпус Лаборатории Межзвездной Связи…” А на следующей странице появляется и второй сотрудник Лаборатории — Ана Чари (Ана, конечно, мужчина). Сомнений быть не может — перед нами научно-фантастическая повесть.
И действительно, вначале мы оказываемся на далекой планете. Но эта далекая планета — “наша сестра во вселенной”, она “симметрична” нашей планете, у нее такие же очертания материков, как на Земле, и люди ее во всем подобны земным людям, — они только немного (всего на 100 лет) обогнали Землю в своем историческом развитии. И вот теперь они решили помочь своим братьям на Земле, подсказать им замечательное техническое открытие — метод дегравитации, позволяющий создавать аппараты, летающие, как летает птица, аппараты, “падающие вверх”. Рисе Банг, Ана Чари и их товарищи обладают особыми средствами для передачи информации — межзвездной эмиссии: “… Гигантская энергия вливается в мозг Рисса, мысль его сейчас остра, как лезвие меча; мир, окружающий его, исчез. Где-то в просторах Галактики блуждает “фокус” прибора — незримый шар, отразивший волю Банга. В ином мире появится “вещь”-образ, и мозг мыслящего существа, попавший в этот “фокус”, примет информацию, которую пожелает передать Банг, и она будет передана людям того далекого мира…” Случилось так, что в этот “фокус” попал мальчик Миша Мельников, который, ничего не подозревая, стоял на берегу моря. Именно этому мальчику и суждено, когда он вырастет, совершить открытие, идею которого “продиктовал” ему далекий Рисе Банг. Сам же Рисе на одиннадцатой странице книги исчезнет из нее и появится только на последних двух ее страницах, чтобы с удовлетворением констатировать, что задачу свою он выполнил. Ценой огромного напряжения, стоившего ему жизни, он передал на Землю необходимую информацию.
Земные люди построили летательные аппараты, которые могут, как птица, “падать вверх”, преодолевая силу земного притяжения. Земля “получила хороший толчок”. Рисе уверен, что Земля еще обгонит в своем развитии планету, на которой он живет; быть может, осуществится и “обратное вмешательство” — люди Земли когда-нибудь тоже поделятся своими знаниями с другими планетами…
Таково фантастическое обрамление книги А.Полещука “Падает вверх”.
Но в том-то и дело, что это именно лишь обрамление.
А дальше мы попадаем в нашу сегодняшнюю действительность, со всеми ее конкретными приметами, с реалистически и подробно выписанным сегодняшним нашим бытом. Здесь, в этом мире, действуют уже совсем другие художественные закономерности; и в этом мире с его законами вмешательство Рисса Банга выглядит просто нелепостью.
Два художественных потока текут в повести А.Полещука, не только не сливаясь, но, наоборот, самым решительным образом враждуя друг с другом. По существу, вся повесть — во всяком случае, лучшая и большая ее часть — написана вполне реалистически. Все, что касается детства и юности мальчика (который получил “знак” от Рисса Банга и потом всю жизнь готовился к своему великому открытию), написано в хороших традициях “повести о детстве”. Написано добротно, с тонким юмором, вполне достоверно и зримо. С истинным удовольствием читаешь маленькие главки, посвященные детству Миши Мельникова, которое прошло на юге нашей страны — в Одессе, Киеве, Харькове. Тому, кто знает эти места и помнит эти годы (тридцатые, предвоенные годы), многое должно понравиться в этой книжке. Хорошо и верно написаны главки “Над Киевом”, “Батюшки”, “Вечный двигатель будет изобретен мною!”, “Рыцари Ольгинской улицы”, “Я принимаю военный парад”, “Первая любовь”, “Тайное общество “Луч смерти” и многие другие.
Вот, например, как пишет А.Полещук о памятнике князю Владимиру в Киеве: “…Он, как нарочно, был поставлен посредине большой площади и совершенно бесцельно сжимал в чугунной руке большой черный крест с электрическими лампочками. Правда, из-под одеяния Владимира Святославича выглядывала труба репродуктора, но, кроме мальчишек и нескольких случайных прохожих, никому не приходило в голову слушать последние известия именно здесь, у ног великого князя. Радио работало не всегда, говорило негромко, и частенько можно было видеть, как какой-нибудь приезжий, завтракавший домашней колбасой с франзолей, вдруг начинал напряженно прислушиваться к чему-то, испуганно вглядываясь в темную фигуру великого киевского князя. И, только разобрав, что передают “останни висти”, нервно смеялся и грозил памятнику куском колбасы”.
А вот другая страничка — воспоминания мальчика о школе: “Как-то наш класс соединили с параллельным. Исполнилось сто лет со дня смерти Пушкина, и какой-то очкастый литературовед проводил образцовый урок. Мы должны были написать сочинение о том, как Пушкин жил в ссылке, в селе Михайловском. В класс принесли большую картину, прибитую к рейкам. На ней был изображен Пушкин со своим другом Пущиным, а в стороне сидела няня Пушкина, Арина Родионовна, и вязала. Литературовед сказал, что на камине стоит бюст Наполеона, и прочел стихи Пушкина о Наполеоне. Потом он сказал, что фамилия художника — Ге, просто Ге, но что это, конечно, сокращение, а на самом деле у него длинная фамилия. Тогда поднялась ученица из параллельного класса и заспорила; она говорила, что у художника просто такая фамилия и что литературовед говорит неверно. Она была такой смелой, все с таким вниманием слушали этот спор, что для меня вопрос был точно и до конца решен”.
Таких страниц в повести много, и они, бесспорно, хороши.
Но, бог мой, при чем же здесь Рисе Банг и вся история с межзвездной эмиссией? Читая повесть, мы уже успели начисто забыть о его существовании. Но он, оказывается, не дремлет! Неожиданно врывается он в повесть о Мише Мельникове и — невидимый — начинает распоряжаться там по-своему: то вдруг подкинет мальчику загадочную невесомую цепочку, на которой закодирован принцип компенсации сил тяготения; то сведет Мельникова с таинственным седым натурщиком, который тоже, оказывается, посвятил всю свою жизнь разгадыванию тайны птичьего полета; то пошлет наперерез самолету Мельникова сонмище загадочных дисков и конусов, которые при ближайшем рассмотрении оказываются материализовавшимися миражами, призванными подсказать людям новые технические решения — ассимметричную форму летательной конструкции, идею “спаренного полета” и тому подобное.
Разумеется, в научно-фантастической повести все это на месте — и материализация миражей, и невесомые, но зримые и осязаемые цепочки с других планет, и межзвездная эмиссия.
В повести же о реальном киевском мальчике все эти потусторонние “знаки” и “подсказки” выглядят в высшей степени дико, странно и ошеломительно… Тан примерно, как если бы вполне реальный радиорупор, расположенный в ногах у статуи князя Владимира, стая вдруг передавать не последние известия, а голоса обитателей других планет. Здесь образуется некая художественная несовместимость, смертельно опасная для произведения. Мир реальный и мир “потусторонний” так странно и незакономерно перетасованы в повести, что вопреки намерениям автора возникает ощущение какой-то мистики.
Наше “чувство жанра” властно требует определенности: либо ты, автор, творишь по законам фантастического, и тогда я, читатель, уловив твой замысел и твой тон, живу в мире, созданном по этим законам; либо же ты выбираешь принцип реалистического отображения хорошо знакомой мне жизни, и я тоже ото всей души верю тебе… Но в повести А.Полещука неправомерно смешаны два взаимно исключающих, разрушающих друг друга художественных стиля — стиль фантастики и стиль “бытового” реализма.
Конечно, тут возможны и возражения. А разве, скажет иной читатель, в “Человеке-невидимке” Г.Уэллса, в “Бегущей по волнам” А.Грина или в “Гиперболоиде инженера Гарина” А.Толстого и “Человеке-амфибии” А.Беляева не происходит такое же смешение реального с фантастическим, как и в повести А. Полещука?
Все это, конечно, так и в особых доказательствах не нуждается. Но присмотритесь повнимательней к любому из названных выше произведений, и вы убедитесь в том, что в них совсем иная, так сказать, степень условности, иной стиль, иной подход к материалу. Их авторы так описывают будто бы и вполне реальную жизнь, что мы все время чувствуем возможность появления в ней неведомого, необычного, сверхреального.
Здесь же, в повести А.Полещука, дело обстоит совсем не так. Бытовое и фантастическое здесь противостоят друг другу, отрицают друг друга. И поэтому мы, к сожалению, не можем по-настоящему поверить ни тому, ни другому.
Похоже на то, что была у писателя совершенно самостоятельная повесть — бытовая, реалистическая, в чем-то очевидно, автобиографическая. И был замысел другой повести — научно-фантастической, об этой самой межзвездной эмиссии. А он взял да в один прекрасный день “для интересу” и смешал их в одно целое. Но целого-то как раз и не получилось.
Художественное несовершенство, нежелание считаться с законами жанра жестоко мстит за себя, убивает веру в описываемое и интерес к нему. Наше читательское восприятие не в силах примириться с художественным произволом и стилевым разнобоем.
Всеволод РЕВИЧ Секреты жанра[5]
Было бы неверно утверждать, что сборник Ильи Варшавского “Молекулярное кафе” явился для читателей сюрпризом, скрывавшим совершенно неизвестного автора. Нет, многие рассказы, вошедшие в сборник, любители фантастики заметили еще в периодике, хотя имя И.Варшавского стало появляться в печати совсем недавно — последние два — три года. Но, собранные вместе, рассказы И.Варшавского позволяют сделать окончательный вывод о пополнении рядов советских фантастов автором оригинальным и серьезным. (Поясню, что последний эпитет характеризует самого автора, а вовсе не стиль его произведений.) Знакомясь со сборником, лишний раз оцениваешь мудрость известного пушкинского замечания о том, что художника можно судить только по им же установленным законам.
И действительно. В чем чаще всего упрекают советскую фантастику? Пожалуй (и, увы, не без оснований), в том, что характера героев бледны, что отсутствуют психологические мотивировки, что люди превращены в однообразно неразличимые рупоры авторских идей — нечто вроде динамиков серийного производства.
Приложим ли этот упрек к И.Варшавскому? Совершенно неприложим. Значит ли это, что в его произведениях можно найти живые, запоминающиеся характеры? Не значит. Напротив, в рассказах И.Варшавского характеров нет совсем, в лучшем случае они едва-едва намечены. Но это не просчет автора, а особенность его творческой манеры. Чем же привлекательны рассказы И.Варшавского? Сюжетом? Да, почти в каждом из них есть четко организованный и занимательный сюжет, но и это не главное. Вряд ли самый искусно построенный сюжет способен заменить отсутствие характеров. Что же остается? Мысль, проблема, идея. Но если б эта проблема сводилась только к более или менее остроумной научно-технической гипотезе, то такая литература потеряла бы право называться художественной (беда, случающаяся с фантастами довольно часто; и самого И.Варшавского она не миновала, примером может служить рассказ “Красные бусы”). Однако и человеческие, морально-психологические проблемы, высказанные в обнаженной, декларативной форме, могут претендовать самое большее на звание публицистики.
И.Варшавского выручает юмор, который при умелом пользовании становится могучим средством художественного, именно художественного воздействия. Фантастическое допущение для И.Варшавского — это один из видов юмористической или сатирической гиперболы. Автор касается многих злободневных проблем, которые сейчас горячо обсуждаются на страницах и научной и массовой печати. В основном по ведомству кибернетики. При этом выясняется, что далеко не всякая кибернетика (точнее, интерпретация) заслуживает того глубокого уважения, которым окружена эта наука в наши дни. Кое над чем, оказывается, можно уже и посмеяться.
Но ведь кибернетика — это не только научно-техническая проблема, но и философская, социальная. И “кибернетические” рассказы И.Варшавского не превращаются в обсуждение каких-то специальных вопросов, а подводят читателя к весьма существенным и для всех интересным философским обобщениям.
Атрибуция (то есть определение авторства в случае отсутствия подписи) рассказов, собранных в этой книге, — дело нетрудное. Почти на каждом из них — четкий отпечаток творческой манеры автора. Почти — ибо все же есть два — три рассказа, прочитав которые не отгадаешь, кто же их автор, или — что еще хуже — назовешь другое имя. Таков, например, “Индекс Е-81”, написанный совершенно в духе Анатолия Днепрова. Возможно, что здесь сказалась склонность И. Варшавского к пародированию, к стилизации. Впрочем, “Индекс Е-81” вовсе не слабое произведение. Вероятно, это даже наиболее известный рассказ И.Варшавского. Он неоднократно публиковался, получил премию на международном конкурсе, проведенном журналом “Техника — молодежи”.
Думаю даже, что данная премия — одна из наиболее заслуженных в конкурсе. И все же “Индекс Е-81” лежит несколько в стороне от главного русла творчества И.Варшавского (назову еще “Красные бусы” и “Путешествие в ничто”, которые воспринимаются как неудачные подражания — не пародии, а именно подражания — Станиславу Лему).
* * *
В чем же сила И.Варшавского, в каких произведениях полнее всего проявились его Ирония, язвительная насмешка над научным фетишизмом, внешняя непочтительность ко многим святыням современной науки, за которой скрывается глубокое уважение к ней?
Последний раздел сборника имеет подзаголовок “Фантастические пародии и памфлеты”. В сущности, этот подзаголовок нужно отнести ко всей книге. В творчестве И.Варшавского неразрывно переплелась тонкая пародия с остроумным памфлетом. И в этом смысле нет принципиальной разницы между, скажем, таким рассказом, как “Секреты жанра”, и таким, как “Роби”.
“Секреты жанра” — блестяще выполненная пародия на западную фантастику. Но это не только пародия, а и памфлет.
В рассказе заключено отношение И.Варшавского не только к пародируемому произведению, вернее — к определенной манере, но и к тем фактам жизни, которые в нем описаны.
И “Роби” (одна из лучших новелл И. Варшавского) — тоже одновременно и памфлет и пародия. Автор высмеивает в “Роби” огромную вереницу кочующих из одного фантастического произведения в другое кибернетических слуг и служанок, добрых, тихих и преданных, как дядя Том. Но вместе с тем дерзкий, своенравный, даже нахальный Роби — это насмешка над обывательскими мечтаниями о том, что вот, мол, вернутся на новом, автоматизированном уровне прежние ваньки, васьки, захарки и прочий обслуживающий персонал к кроваткам новоявленных обломовых, чтобы утирать им носы своими нежными железными пальцами.
Почти одновременно со сборником И.Варшавского появился на прилавках перевод книги известного американского фантаста А.Азимова “Я, робот”. В книге есть рассказ, название которого отличается от названия рассказа И.Варшавского лишь одной буквой — “Робби”. Совпадение наталкивает на невольные параллели. Оно, разумеется, случайно, но это рассказы на одну тему — о роботах-домработницах, если можно так выразиться, хотя заносчивый и болтливый Роби, как небо от земли, отличается от своего нежного, заботливого и бессловесного американского коллеги с двумя “б”. Но разница между этими (и другими) рассказами, конечно, не только в том, что выбраны противоположные “характеры” роботов, и даже не в том, что перед нами в одном случае произведение юмористическое, а в другом “серьезное”. Она глубже. Там, где И.Варшавский смеется, А.Азимов хмурится: он очень обеспокоен перспективой всеобщей автоматизации и пытается предугадать ее возможные последствия в общественной жизни и психологии людей. Роботы А.Азимова — чаще всего добрые друзья человека, но иногда они выходят из подчинения и становятся, сознательно и бессознательно, его опасными врагами. И дело не в том, что их боятся персонажи (и герой рассказа И.Варшавского побаивается своего Роби), а в том, что сам писатель считает, что их, вероятно, надо будет бояться.
Иногда А.Азимов тоже иронизирует, как, например, в рассказе “Лжец”, но несомненно, что проблема его занимает всерьез.
Немало и советских писателей “на полном серьезе” подходят к этой очень современной теме: автомат и человек.
Но остается та же разница. То, что пугает и тревожит американского литератора, зачастую лишь забавляет советского.
И это естественно; ведь проблема роботов — будем рассматривать ее как частную сторону гигантской проблемы автоматизации вообще — не существует сама по себе, лишь как самостоятельное дитя технического прогресса. Она теснейшим образом связана с проблемами социального устройства общества. Между тем даже А. Азимов, крупный ученый, не допускает (или не хочет допустить) и мысли о том, что ведь в будущем, которое он описывает, общественные порядки могут претерпеть и кое-какие изменения, что вовсе не обязательно сохранять на веки вечные и такие, мягко выражаясь, не лучшие плоды цивилизации, как капиталистическая конкуренция, угроза безработицы, современная система американских выборов и тому подобное.
Советскому читателю куда легче ответить на вопрос, когда следует опасаться автоматизации, кибернетизации и вообще механизации человеческого мышления и существования, а когда не следует. Человек никогда не превратится в робота, а робот в человека. Человеку ни к чему лишать себя непосредственного общения с природой, с дарами земли, ему не нужна замена естественных чувств поддельными, даже если эта замена и осуществлена самыми совершенными средствами.
Значение, которое придает автор этой проблеме, подчеркнуто и тем, что рассказ “Молекулярное кафе”, где он выступает в защиту человека от “избытка кибернетики”, дал название всей книге.
Впрочем, лучше всего сказал об этом сам И.Варшавский в коротеньком предисловии к сборнику. “Я не верю, — пишет он, — что перед человечеством когда-нибудь встанут проблемы, с которыми оно не сможет справиться. Однако мне кажется, что неумеренное стремление все кибернетизировать может породить нелепые ситуации. К счастью, здесь полемику приходится вести не столько с учеными, сколько с собратьями-фантастами. Что ж, такие дискуссии тоже бывают полезными. Думаю, что в этих случаях гротеск вполне уместен, хотя всегда находятся люди, считающие этот метод спора недостаточно корректным…” Но мы все время говорим “роботы”, “автоматы” и будто не замечаем лукавинки, которую зачастую прячут фантасты в уголках глаз, когда с самым серьезным видом заставляют придуманные ими электронные мозги напрягать свои мыслительные способности и выдавать различные сентенции. Конечно, это говорят не роботы, а люди — люди в шаржированном, суперкибернетическом обличье.
Разве не угадываются тезисы иных участников споров о возможностях кибернетики в весьма убедительных и поэтому особенно смешных доказательствах невозможности существования органической жизни, которые произносят досточтимые автоматы класса “А” с трибуны местной научной конференции (“Вечные проблемы”)? 3а два миллиона лет роботы успели позабыть, что сами они всего лишь потомки автоматов “самого высокого класса”, когда-то оставленных людьми с целью сохранить следы человечества на покинутой планете.
Хочу оговориться: из этого не следует, что участники нынешних дискуссий о кибернетике, отрицающие принципиальную возможность создания электронного мозга, обязательно являются неблагодарными потомками существ, в отдаленном прошлом высаженных на Землю высокоразвитыми машинами.
Думаю, что это вовсе не обязательно и что их сходство с персонажем рассказа доктором философии, заслуженным автоматом класса “А”, высокочтимым НА–54–26 имеет чисто функциональный характер.
* * *
Именно в таких рассказах, как “Роби”, “Вечные проблемы”, “Поединок”, “Маскарад”, “Секрет жанра”, где неразрывно слились пародия и памфлет, веселая улыбка и едкая издевка, и скрываются секреты жанра, которыми владеет И.Варшавский.
Но очень опасно вписывать многоугольники живых писательских дарований в окружности критических схем. То тут, то там какой-нибудь из углов многоугольника обязательно вылезет за пределы плавно вычерченной окружности. Так происходит, например, когда от первой части книги “Автоматы и люди” с еще не исчезнувшей улыбкой переходишь к единому циклу новелл, объединенных заголовком “Большой космос”. Улыбка исчезает особенно в “Возвращении”, где воссоздается ситуация трагическая. Но здесь уже не упрекнешь И. Варшавского в каком-то вольном или невольном подражании. Это свежо, остро и может быть отнесено к лучшим вещам сборника.
Впрочем, автор долго не удержался на высокой трагедийной ноте и заключил цикл “Большого космоса” веселой шуткой “Неедяки”, где все вернулось на “круги своя”: и люди, и автоматы, и внеземные создания, и сам И.Варшавский.
Библиография фантастики, 1963–1964 годы
1963
Аматуни Г., Гаяна. Повесть. Ростовское книжное издательство.
Беляев А., Собрание сочинений, 1–4-й тома. Москва, изд-во “Молодая гвардия”.
Бердник А., Призрак идет по земле. Повесть. Ташкент, изд-во “Еш гвардия”.
Бирюлин Г., Море и звезды. Повесть. Владивосток, Приморское книжное издательство.
Брэдбери Р., Фантастика. Рассказы. Перевод с английского. Москва, изд-во “Знание”.
“В мире фантастики и приключений”. Сборник. Ленинград, Лениздат.
Гансовский С., Шаги в неизвестное. Рассказы. Москва, Детгиз.
Гор Г., Кумби. Повести. Москва, изд-во “Молодая гвардия”.
Громова А., Поединок с собой. Роман. Москва, Детгиз.
Гуревич Г., На прозрачной планете. Повести. Москва, Географгиз.
Днепров А., Формула бессмертия. Рассказы. Москва, изд-во “Молодая гвардия”.
Журавлева В., Человек, создавший Атлантиду. Рассказы. Москва, Детгиз.
Загданский Е., Прыжок в бессмертие. Повесть. Киев, изд-во “Молодь”.
Казанцев А., Гость из космоса. Рассказы. Москва, изд-во “Московский рабочий”.
“Капитан звездолета”. Сборник. Калининградское книжное издательство.
Лeм С., Формула Лимфатера. Перевод с польского. Москва, изд-во “Знание”.
“Мир приключений” (№ 9). Альманах. Москва, Детгиз.
Могилев Л., Железный Человек. Повести. Иркутское книжное издательство.
“Новая сигнальная”. Сборник. Москва, изд-во “Знание”.
Полещук А., Звездный человек. Повесть, Москва, Детгиз.
Росоховатский И., Встреча во времени. Рассказы. Киев, изд-во “Молодь”.
“Фантастика, 1963”. Сборник. Москва, изд-во “Молодая гвардия”.
“Черный столб”. Сборник. Москва, изд-во “Знание”.
Шпаков Ю., Кратер Циолковский. Повесть. Омское книжное издательство.
1964
Азимов А., Я, робот. Перевод с английского, Москва, изд-во “Знание”.
Беляев А., Собрание сочинений, 5-8-й тома. Москва, изд-во “Молодая гвардия”.
Бердник А., Сердце Вселенной. Роман. Ташкент, изд-во “Еш гвардия”.
Ванюшин В., Желтое облако. Повесть. Казгослитиздат.
Варшавский И., Молекулярное кафе. Рассказы. Лениздат.
Войскунский Е., Лукодьянов И., На перекрестках времени. Рассказы. Москва, изд-во “Знание”.
Волков А., Необыкновенные приключения в стране прошлого. Повесть. Ташкент, изд-во “Еш гвардия”.
Днепров А., Пурпурная мумия. Рассказы. Москва, Детгиз.
Емцев М., Парнов Е., Падение сверхновой. Рассказы. Москва, изд-во “Знание”.
Емцев М., Парнов Е., Уравнение с Бледного Нептуна. Повести. Москва, изд-во “Молодая гвардия”.
Ефремов И., Лезвие бритвы, Роман. Москва, изд-во “Молодая гвардия”.
Ефремов И., Сердце Змеи. Рассказы. Москва, Детгиз.
“Лучший из миров”. Сборник научно-фантастических рассказов. Москва, изд-во “Молодая гвардия”.
“Мир приключений” (№ 10). Альманах. Москва, Детгиз.
“Научная фантастика”. Альманах. Москва, изд-во “Знание”.
Полещук А., Падает вверх. Повесть. Москва, изд-во “Молодая гвардия”.
Стругацкий Аркадий, Стругацкий Борис, Далекая Радуга. Повести. Москва, изд-во “Молодая гвардия”.
“Современная зарубежная фантастика”. Сборник. Москва, изд-во “Молодая гвардия”.
Томан Н., Созвездие Трапеция. Повесть. Москва, Детгиз.
“Фантастика, 1964”. Сборник, Москва, изд-во “Молодая гвардия”.
Примечания
1
Из материалов, присланных на заочный семинар фантастов.
(обратно)2
Примечание для читателей, не искушенных в математике. Вряд ли хоть один фантаст способен тягаться с математиками в буйстве фантазии. Поэтому названия и цитаты по математике я просто у них воровал. В частности, название этого доклада украдено у Шеннона; отрывок об 1-идеалах взят из “Докладов Академии наук СССР”. Разумеется, авторы цитат не подозревают, в каком контексте приведены их слова; по этому поводу приношу им глубокие извинения.
(обратно)3
Л.Могилев, Железный Человек. Научно-фантастические повести. Иркутское книжное издательство, 1963.
(обратно)4
А. Полещук, Падает вверх. Изд-во “Молодая гвардия”, 1964.
(обратно)5
И.Варшавский, Молекулярное кафе. Научно-фантастические рассказы. Лениздат, 1964.
(обратно)
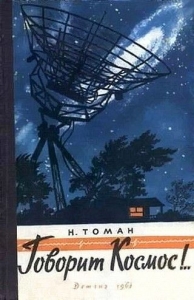
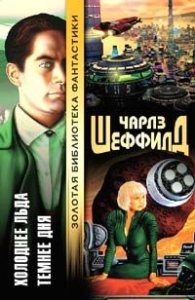

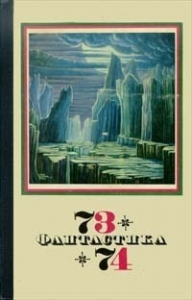
Комментарии к книге «Фантастика 1965. Выпуск 1», Анатолий Днепров
Всего 0 комментариев