Александр Потупа Скрипящее колесо Фортуны
Тот, кто видел много раз кролика, преследуемого собакой, и никогда не видел кроликов и собак порознь, будет считать, что кролик причина собаки.
Амброз БирсЕсли — собрать все старинные анекдоты, из них получилось бы неплохое пособие по жизневедению — самоучитель для желающих не просто присутствовать на этом свете, но и ощущать все прелести бытия.
Вспомнился мне один забавный старинный анекдот. Профессор философии задает студенту практический вопрос: «На дороге валяются мешки, один — с деньгами, а другой — с разумом; что бы вы подняли в первую очередь?» Студент отвечает: «Конечно, деньги!» «А вот и неверно, — радуется профессор, — я бы непременно ухватился за мешок с разумом». А студент грустно так оправдывается: «Уж кому чего не хватает, господин профессор, кому чего не хватает…»
Лично я вполне согласен со студентом. Мне не хватает именно денег. И довольно давно. Остальное, слава те, Господи, идет недурно. Работа ладится, есть даже отдельная квартира.
Впрочем, лучше б и не было этой отдельной квартиры — сгустка непробиваемой тишины, пыльных уголков и кислохолостяцких запахов. Лучше бы по-прежнему — весело и тесно, зато с Машенькой, с ее невероятно вкусными супчиками из топора. Сестренка, сестренка… Ведь всегда ухитрялась делать так, что я не замечал странного размера своей зарплаты. И не было ни в чем мне отказа — ни в книгах, ни в сигаретах, ни в кофе. Главное — моя наука. И точка, и никаких колебаний. А сама сто раз штопала-перештопывала свои тряпки и выглядела принцессой. Ей бы не на машинке стучать, а прямиком в кинозвезды — с такой внешностью, с таким характером.
Недавно миновала годовщина ее смерти, годовщина нелепой встречи с трамваем. Просто проклятие какое-то над нашей семьей — словно неведомая сила неспешно перемалывает нас в различных катастрофах. Сначала отец с матерью не долетели до симферопольского аэропорта. Потом Машенька не добежала до работы.
Все это как бы издали, как будто кинопленка с чужой мелодрамой. И меня нет в кадре — ни в один кадр влезть не могу. Прошлое переболело, зарубцевалось и назад не пускает.
Настоящая боль потихоньку испарилась. Всю ее работа съела. И Наташе спасибо. Хороший она человек. Кажется, я ее люблю.
* * *
Сегодня возвратился поздно. Опять весь вечер протрепался с Наташкиным отцом. Интересный он мужик, много чего знает, притом не по слухам, а в натуре. Генерал в отставке. Иногда такое извлечет из памяти — закачаешься. И явно завяз в иных временах, любит построения на тему «что было бы, если бы…» Смешно, пожалуй. Разве не просто все — события обусловлены ее величеством Объективной Закономерностью, и точка. Или я заблуждаюсь по причине своей исторической малограмотности? Кто знает… Но слушать его интересно, это факт.
Хуже дело с отставной генеральшей. Она целиком здесь, в текущей минуте. Смотрит на меня ласково, пирогами подкармливает. Привыкла! Все-таки три дочки. Две из них замужем, одна — удачно, другая — нет. И вот пани генеральша за каждым вечерним чаем изливает мне душу.
Танечке повезло. Валик служит в какой-то министерской конторе, но главное — пробивной парень. Устроил заграничную командировку. Прибарахлился на всю жизнь, комментирует Вероника Меркурьевна. Валик выбил приличную квартиру, подходит его очередь на «Жигули». Между прочим, он Танечкин сверстник, всегда добавляет В.М. Это — в мой огород, я учился со старшей Рокотовой в одном классе. И с Валиком мы тоже сверстники.
К счастью, на этом сходство кончается. По-моему, Валентин Яковлевич, не задумываясь, пошел бы в гардеробщики своего же управления — платили бы, скажем, внешпосылторговскими чеками. Как-то я назвал его люмпен-инженером. Наташка долго смеялась, а В.М. надулась и стала выговаривать: «Позвольте, позвольте, при чем тут Валентин и лохмотья…» И не преминула бросить иронический взгляд на мои изрядно потертые брюки. Н-да, опасно высказываться в присутствии полиглота…
А вот средняя Рокотова оказалась в незавидном положении. Ее «муженек-не-от-мира-сего-вы-понимаете?» (формула В.М.) служит в небольшом издательстве младшим редактором или кем-то в этом роде. Своим «пособием-на-проезд» (термин В.М.) вполне доволен. Лет шесть составляет свой первый сборничек стихов, но его постоянно сдвигают в послезавтрашние планы. Печатается редко. Опубликовал в журнале небольшую повесть, а его обругали по большому счету (каламбур?). Наверное, поделом.
В стихах я ничего не понимаю. Может, он и гений, может, и графоман. Повесть еле дочитал до середины — сложно и очень уж откровенно. Как-нибудь под настроение закончу.
Вероника Меркурьевна считает, что Игорь — обычный нахлебник: какие там таланты, когда о семье думать надо! Раечка уже год нянчится с первенцем и регулярно устраивает набеги на родительскую квартиру, опустошая их холодильник и кошелек. У нее безотказное оружие — белокурый ангельский лик, две крупные совершенно параллельные слезы и беспомощно разведенные руки. Она признает любые ошибки, много и со вкусом говорит о своих мучениях («только последняя дурочка способна польститься на поэта»). Я думаю, что она вовсе не дурочка, но, разумеется, ни капельки веры в звезду своего мужа у нее нет. Она-то польстилась на поэта, а стала женой младшего редактора…
Из всего клана Рокотовых к Игорю хорошо относится только Наташа. Но ей, восторженно-сумасбродной девчонке, бог велел. Зато Валика она ненавидит смертельно, так и сыплет колкими гадостями. Валик снисходительно улыбается — плевать он хотел на романтические чувства юной особы. Наступит момент, когда я морду ему набью за эти улыбочки.
Самое любопытное, что оба рокотовских зятька мне не по нутру. Оба они вынуждены наизнанку выворачиваться ради успеха. Хотя успех понимают совершенно по-разному.
Валик станет хорошо обеспеченным чиновником, может быть, ускачет довольно далеко. Татьяна ему под стать. Это ж надо! Твердая девица оказалась — два аборта, лишь бы дитя не связывало руки.
Игорь отнюдь не блаженненький. Его пресловутая самоуверенность строго ограничена рамками литературных дел, в остальном он даже застенчив. Рокотовых не любит, но и Раечке не запрещает просить подаяние. Своеобразная философия — почему бы обществу в лице ближайших родственников немного не позаботиться о бутербродах для начинающего писателя! Не уверен, что эта пара долго протянет. Рая ему явно в тягость. Слишком громко причитает она о своей судьбе, слишком ярко афиширует родительские благодеяния. Я бы давно послал ее ко всем чертям.
Но все сложно в этом лучшем из миров. Наверно сложней, чем среди моих формул.
И вообще, займусь-ка я делом, а то весь вечер угробил на будущих родственников. И едва не дошел до натурального промывания косточек, или как там — копания в чужом белье? Хватит.
* * *
Оставил на завтра здоровенный интеграл. Кончился кофе. Осталось полпачки сигарет. До получки пять дней. В пиджаке — трояк с мелочью. И полторы сотни долга.
Поехать, что ли, на лето с бригадой? Нет, шеф вряд ли отпустит. У вас, скажет, Ларцев, финишная прямая, то да се… К осени, скажет, положите текст диссертации, а потом увлекайтесь на здоровье своими фантазиями или разъезжайте с бригадами, и так времени уйму потеряли. Что поделаешь! У шефа одни планы, у меня — другие. В фантазиях есть что-то такое, ради чего стоит терять годы. Именно из-за таких потерь жизнь кажется бесконечной.
Перечитываю Бабеля, старый Машенькин подарок по случаю защиты диплома. Здорово. До чего ж глубоко заглядывал он в души и в ситуации, до чего тонко предчувствовал. Наверное, в литературе совсем как у нас — стремление к предельно точной модели. Только человек, если говорить о нем искренне, намного сложней наших электронов и галактик, неизмеримо сложней. Да и откровенность встречается куда реже, чем тренированная сообразительность. Доказали, что Вселенная когда-то испытала взрыв и возникла в этом взрыве, но поди докажи простые истины, например, черное — это черное или, еще хуже, серое — это серое.
Какой уж раз перечитываю, все равно здорово. Однако, проблемы конкретного бытия подтачивают сознание.
Вот защищусь и вздохну свободней. И морально, и материально. Может, освободится место старшего сотрудника — тогда я настоящий король. Спокойно поведу Наташу в загс.
— Мадам Рокотова, — скажу я тогда с почти одесской вкрадчивостью, — с тех пор, как мы познакомились, моя зарплата выросла в два раза, а в кармане у меня лежит индульгенция в симпатичной коричневой корочке. Не согласитесь ли вы составить счастье моей жизни в скромной роли тещи?
— Да, — скажет Вероника Меркурьевна, смахнув обязательную материнскую слезинку, — я всегда верила, что Валик и ты выйдете в люди…
Тьфу, чтоб ей… Ведь непременно ж испортит настроение. Валик и ты!
Но до этого еще далеко, а реальность так и сдавливает со всех сторон. Необходимо срочно отдавать долг Потапычу. Коврик они со старухой, видишь ли, купить надумали. Бедняга Потапыч! Уже семь ковров в хате, сам же хвастался. Целая стенка хрусталя, на супруге полпуда золота, а зарплата меньше моей.
Откуда? Как? Какими вычислениями вышибает он со своего склада тысячи монет? И без всяких континуальных интегралов обходится, на стареньких счетах — тик-так-тек-тут, тут как тут, и смотришь — пара серых бумажек прилипла.
И продавать нечего. Пишущую машинку — жалко, все-таки память. Но выворачиваться-то надо…
Перечитал все. Зачем я завел дневник? Выговориться не с кем, вот и завел.
Перечитал и стало противно. Валик, генеральша, трешка, Потапыч, хрусталь… Бред какой-то.
Чего это меня на бытовщину потянуло?
Кстати, в получку надо сразу же за квартиру рассчитаться, за два месяца задолжал…
* * *
Все-таки безденежье — страшная штука. Унизительно, елки-палки.
Прижал меня сегодня Потапыч у почтовых ящиков своими прозрачными вопрошающими глазками. Все у него аккуратненькое такое — и взгляд, и залысинки, и брюшко, и с арифметикой наверняка полный порядок. Заметался я под его прицелом, засуетился, стал газету мять.
— Потапыч, — говорю, — через два дня получка…
— Э-эх, — вздыхает Потапыч, — да разве ее-то хватит?
В самую точку угодил, стервец. Полтораста сразу никак не отдать. Да и полсотни не смогу, еще же квартира…
Год такой муторный вышел. Сначала похороны, назанимал без счета. Потом на несколько месяцев застопорилась работа — надо было встряхнуться любой ценой. Черт понес дикарем на юг. Не столько встряхнулся, сколько вытряхнулся. Потом осень, как назло вышли из строя туфли и пальто. И до сих пор в долгах, как под прессом. И о чем только думать приходится!
В общем, стою, молчу.
Потапыч уставился на меня своими бледно-голубыми глазенками, усики топорщатся, злится, но напрямик высказаться не хочет. Потихоньку отодвинулись мы в закуток под лестницей.
— Странная ты молодежь, Эдик, — говорит Потапыч. — Не пойму я таких. Маешься, маешься, неужели заработать не умеешь?
— Не умею, Яков Потапыч, — делаю я вроде бы обезоруживающий ход, научите.
— Издеваешься? — начинает злиться Потапыч и закатывает мне небольшую лекцию.
— Ты, — говорит, — Эдик, из очень чистеньких. И Машенька твоя, вечная ей память, из ангелов. Законопослушненькие ангелочки. И научить таких ничему нельзя. Да только жизнь сама все покажет. Лет десять-пятнадцать об пустой холодильник, об столовские котлеты, об протертые штанины, об закаканные пеленки похлещет и научит. Ты на меня, небось, как на непойманного вора глядишь. Так ведь это лишь по телеку фильмы пускают, чтоб галстук нацепил, умную морду состроил и на работе горел. А про то, как от получки до аванса крутиться — ни-ни. А жизнь, она все больше такие вопросики и ставит. Так вот, подумай, чистюля принципиальная, мне-то уже за полвека, а сто десять рублей в зубы, и привет! И вертись, как знаешь. А баба моя третий год на печи сидит, на работу боюсь пускать — хворая, пусть уж так пенсии дожидается. И двое пацанов школу кончают, сам видишь, какие погодки вымахали, — джинсы подай, приемник купи, в кино отправь… А когда мне жить? Вот я тебя спрашиваю — как и когда мне жить? Может, научишь? Так не научишь же! Стоишь и думаешь — лишку Потапыч хватает, не только, дескать, на скромняцкую жизнь, не только детишкам на молочишко. А поди остановись! Да разве я шикарно живу — даже машины нет, только хата чуток налажена. И еще пацанов выучить хочу, пусть тоже в чистюлях походят, принципы свои понянчат, пока сил хватит. Так-то…
И замолк. Постоял с полминуты, махнул рукой и выскочил из подъезда. А я пулей вознесся наверх, еле успел швырнуть портфель и скользнуть налево в заветную белую дверцу.
Должно быть, из-за этого безотлагательного стремления и не дал я Потапычу железного отпора. Случаются же такие смешные обстоятельства.
Потом спокойно устроил себе чай и стал размышлять. А что бы я ему возразил, ему, человеку битому и тертому, человеку лозунга — выжить любой ценой и не просто выжить, а с некоторой приятностью? Ради этого он рискует шкурой, рискует в свои пятьдесят три попасть на твердую огороженную скамейку в большом зале под перекрестный огонь презрительных взглядов и беспощадно точных вопросов. В большом зале, где любая философия бессмысленный танец мыльных пузырей.
Сказать бы ему:
— Слушай, Потапыч, ты неглупый дядька, и есть другие цели, ради которых стоит жить.
— На 110 рэ в месяц? — переспросит Потапыч.
— Даже так, — скажу я, — но не растрачивать же себя на лазейки. Разве твой приварок стоит твоего риска? Ты же мог учиться, пробиваться к более приличному положению.
— Если бы все кладовщики пробились в министры, — ухмыльнется Потапыч, — похуже вышло бы, Эдик. Да если б я куда прорвался, а на склад посадили моего помощника Федьку, он за неделю бы все вычистил…
— Но живут же тысячи людей, — пылко скажу я, — и на сто десять, и на меньшее, и на большее, и я как-то живу…
— Как-то? Ну и отдай завтра полторы сотни, — бросит Потапыч и снова выскочит из подъезда.
Тьфу ты, чертово колесо! Как быть? И наука в голову не лезет. Но считать надо, никуда не денешься…
* * *
Нет, зря я это думал, что разговорчиками от Потапыча отделаюсь. Плевать ему на разговорчики.
Заглянул ко мне под вечер и, конечно же, перебил на самом интересном месте. Уравнения побоку, любезничаю с дорогим соседушкой.
Сначала будто бы без особого повода — сахарку одолжить. Шутит старик, у него запасов на любую блокаду хватит. Но я, разумеется, услужливо хватаю сахарницу, несу ему, а там — песочка на дне, от силы на пару чашек чая, но не это же он имел в виду.
Потапыч хмыкнул, глазенками захлопал.
— Да уж ладно, — говорит, — обойдусь.
Ну я, понятно, соловьем залился, дескать, рад помочь, собирался купить, да забыл.
— Да уж ладно, — бурчит Потапыч, — обойдусь как-нибудь…
И слава те Господи, совсем заворачивается. Но не за сахаром же он приходил! Постоял у двери, малость помялся, потом махнул рукой и прямиком в комнату. И сразу к делу.
— Послушай, — говорит, — Эдик, тут вопросик один имеется. В общем, у тебя знакомого какого в институте нет, а?
— В каком, — спрашиваю, — институте?
— Как в каком? — удивляется Потапыч. — В том, где высшее образование получают, в двух кварталах отсюда…
— Есть, — отвечаю.
Потапыч буквально на глазах расцветает и на редкость сладенько улыбается:
— Хе-хе… так мы с тобой, Эдик, дружить будем.
Я пока, как говорится, не врубаюсь и, пожалуй, рад даже, что он не о долге, а о дружбе. Между тем, Потапыч переходит в прямую атаку.
— Эдинька, — говорит он ласково, — у меня, сам знаешь, Витек немного оболтус, так его пристроить бы, а?
Ага, картина проясняется. Витек, его старший сын, по слухам — весьма выдающийся оболтус. Положеньице!
— Видите ли, Яков Потапыч, — отвечаю я, многозначительно затягивая слова, — это сложно. У меня связи не то, чтоб очень… И вообще, в этом смысле связей нет. И вряд ли…
— Да уж ладно, — перебивает Потапыч, — я-то понимаю. Ты не волнуйся, Эдинька, смазку обеспечу по первому разряду, у меня на это дело кое-что отложено. А пока не будешь ли ласков погонять его немного, разок в неделю или как там получится?
— Репетировать, что ли?
— Ну да, — радуется моей сообразительности Потапыч, — репетировать. Ты вот математику ему подтянешь, запущено у него до невозможности, учителя ругаются. По-соседски, а?
Что ж, идея вполне понятна. В сущности, неплохая идея — почему бы не помочь его сыну в точных науках? Ничего плохого, только хорошее. И мне малость подзаработать… Но беда в ином — терпеть я не могу этой деятельности. Когда-то, еще при Машеньке, попытался, но она быстро пресекла. Да и не вышло ничего путного. Времени угрохал уйму, доходы слезы, занимаешься на совесть, а платят постольку-поскольку, да и смотрят, как на рыночного спекулянта, словно персиками по рублю за штуку торгуешь. А между прочим, горьковатый этот кусок хлеба. Чтоб не чувствовать горечи, надо иметь призвание — педагога или бизнесмена. Одно из двух. Но я лишен и того и другого. А главное — ученики съедают лучшие вечера. Научно проверенный факт — как только придет хорошая идея или просто настоящее рабочее состояние, так сразу появляются ненасытные подростки со всеми своими логарифмами, синусами, оттопыренными ушами и умственным несварением.
Но несварение — полбеды. Хуже, когда начинаются забросы родительской удочки, дескать, не в уроках суть, вот если бы потом, летом, где-нибудь кому-нибудь ма-аленькое словцо замолвить… С чужими тут просто. Ноль внимания, и точка. А Потапыч — другое дело, вцепится и не отпустит. Послать бы его подальше. Но не очень-то пошлешь… Поэтому начинаю изворачиваться заранее:
— У меня, Яков Потапович, связи ерундовые, не смогу я Витю устроить…
— Да брось ты, — ухмыляется Потапыч, — это не к спеху. Связи к августу наладишь, а пока бери Витьку за уши. Порядок я знаю — по два с полтиной за час, верно?
Пошел ты, Потапыч, к чертям собачьим. Не понимаешь ты русского языка. За эти два с полтиной Витенька на меня сядет и поедет, придется еще и все уроки за него готовить.
Нет! Во всяком случае, на мое время пусть не рассчитывает. Не стану так бездарно вечера убивать. Есть умные ребята — посадят с десяток мальчиков и девочек, отбарабанят школьную лекцию и шлеп за пару академчасов полсотенную в карман. А то и побольше. За сезон — один-два летних месяца тысячи три накачают, и не надо никаких коровников на севере строить.
— Извините, — говорю, — Яков Потапович, сейчас цены не те, растут цены, сейчас берут по трояку в час, а то и червонец за три часа…
И откуда у меня такое деловое нахальство? Молодец! Впрочем, это святая правда. Интеллигенция на книги зарабатывает.
— Погоди, погоди, Эдик, — хмурится Потапыч, — я ж советовался. Вот моя племяшка — помнишь Людочку? — тоже занималась…
Не дай Бог, начнет про свою племянницу. Я и так все о ней знаю, а историю с ее репетиторами — наизусть. Очень была симпатичная Людочка, и очень красивый роман вышел у нее с химиком. И попала она не в вуз, а в загс. Туда и дорога.
— Так это лет десять назад было, Яков Потапович, — уныло говорю я. Тогда и брали по два с полтиной.
Потапыч как-то неопределенно пожимает плечами. Наверное, он обижен. Он-то думал — по-соседски, а тут… Но не сомневаюсь, что в глубине души, его непостижимо деньголюбивой души, родился маленький квантик уважения. Бизнес есть бизнес — это Потапыч отлично понимает. Мое право назначать цену священно для него.
— Ладно, — говорит он, вздыхая, — как-нибудь столкуемся. Витьку-то надо заниматься, ой надо…
И уходит. Уверен, что теперь Потапыч приложит все силы, чтобы обнаружить дешевого преподавателя. Отлично! Моя цель достигнута — пока Витькино образование мне не угрожает. Один только долг пришлось бы отрабатывать часов шестьдесят. Вот на что Потапыч, старый хитрюга, рассчитывал! Оставь себе мои полторы сотни и паси моего парня до самых вступительных экзаменов. Нет уж, лучше в долговую яму, благо, что ямы давно отменены.
Зря подумал про долг. Чертова телепатия! У двери Потапыч обернулся и говорит:
— Так ты, Эдик, гляди, у нас тут коврик подвернулся, на следующей недельке на тебя рассчитываем.
Ну что ж, это уже смягчение. Все-таки не отбрасывает он возможность контактов, не хочет меня окончательно добивать. И то хорошо.
Потапыч тихонько щелкает входной дверью. Я стою посреди прихожей и думаю о себе с глубоким уважением — выиграл трудную дипломатическую схватку. Отстоял свой суверенитет, не пустил союзные войска на свою территорию. Талейран из седьмого подъезда!
* * *
Чертовщина! Фантастика! Фрагмент мистического романа!
Поздно вечером звонок. Открываю. Невзрачный пожилой мужик в серой кепке и в длинном старомодном макинтоше.
— Вы Ларцев? — спрашивает.
— Да.
— Дело есть.
— Заходите, — говорю.
Он зашел, стал у порога. Макинтош не снимает, в комнату не собирается. И начинает удивительно скрипучим голосом:
— Эдуард Петрович, дело есть. Вы заработать хотите?
— Хочу, — отвечаю с улыбочкой.
Неужели еще один оболтусов папаша?
— Так вот, Эдуард Петрович, будете каждый день в 18–00 приходить на Старую площадь под часы. Стоять под часами надо ровно пятнадцать минут, тютелька в тютельку. Когда возвратитесь домой, обнаружите в почтовом ящике конверт. В конверте будет лежать пятьдесят рублей. Запомните — никаких отклонений!
— Пятьдесят рублей? — ошалело переспрашиваю я.
— Да, — подтверждает мужик в макинтоше, — копейка в копейку.
— А за что?
— Большая часть этой суммы — за то, чтобы вы не задавали никаких вопросов. Будьте здоровы.
Я стою, осел ослом, слышу только, как он на лифте вниз спустился.
Что за хохма? Куда обращаться — в милицию или в сумасшедший дом? Что он мне предлагает — просто постоять четверть часа на площади и подышать свежим воздухом? Ерунда какая-то.
Если правду сказать, не нравится мне это. Уголовщиной попахивает. А может, и не уголовщиной — чем похуже. Или нет здесь ничего худого, просто счастливый билетик? Но предчувствую — что-то не то. Слишком радужные посулы слепят и мешают разглядеть суть опасности. А ведь должен быть какой-то риск за десятикратную месячную зарплату!
Или обычный дружеский розыгрыш? Но не припомню таких друзей, которые могли бы столь нелепо и недешево шутить. Плюну, пожалуй, на все и постараюсь забыть — вот мудрейшее из решений.
Впрочем, схожу завтра из интереса. От дома недалеко, обокрасть не успеют, да и брать у меня нечего. Побить тоже не побьют — все-таки площадь, а не темный переулок. Любопытно…
Завалюсь-ка спать. Переутомился. Довольно бурный семинар, потом разговор с шефом — когда же вы, Ларцев, текст мне покажете, найдите время между своими фантазиями… Попробуй найди — там-то его как раз и нет. Время — лучшая из наших фантазий, уходят они, и время исчезает.
А теперь — спать.
* * *
Левой рукой щупаю хрустящую зеленую бумажку, правой пишу. Вот это да!
Постоял столбиком под часами, выкурил сигаретку, спокойно приплелся домой. Смотрю — в почтовом ящике что-то белеет. Достаю конверт. Без надписи, без марок, без штампов. В лифте не выдержал и разорвал, ожидая записку типа: «Как прогулочка, дурак?» А там — настоящая пятидесятирублевая банкнота.
Если так пойдет, послезавтра отдам долг Потапычу. Еще через день рассчитаюсь за квартиру, потом дня за четыре соберу на магнитофон, через полмесяца — на цветной телевизор. Наташке смогу купить приличный подарок ко дню рождения.
Странно, но никакого удивления не чувствую. Скорее легкое блаженство как будто колбасы без очереди достал. И вправду похоже, только здесь манна небесная, но все равно без очереди.
На деньги плевать, лишь бы из-за их отсутствия голова не болела. Теперь эти прогулки будут вместо пенталгина. Кстати, преполезнейшая штука прогулки. Давно уже не случалось просто так топтаться на площади. Воздух, конечно, не особенно свежий, душит бензин Старушку. А когда-то приволье было — ни скамеек, ни аллеек, гоняй себе футбол…
И работа пойдет как следует, должна пойти. Прогулки плюс мелкие материальные радости — это называется положительные эмоции. А их так не хватает.
На памятник Машенькин накоплю. Вот про памятник-то я, стервец, в последнюю очередь вспомнил. Прости меня, сестренка…
* * *
Жутко неудобное время для прогулки на площадь. Если бываю в институте, то к четырем-пяти уже попадаю домой. Жую бутерброд, варю кофе, отхожу от уличной и коридорной суеты и с удовольствием сажусь за стол. Как раз к шести часам голова настраивается на плотную безостановочную работу.
Если же выговариваю себе библиотечный день, то начинаю такую жизнь прямо с утра. И обычно к шести вечера приходит второе дыхание.
Как ни крути — неудобное время они мне подкинули, вовсе неудобное.
И все-таки приятно. Когда я принес Потапычу конверт с тремя полсотенными, он как-то одобрительно хрюкнул и даже не сумел произнести что-либо поучительное. А в глазенках мелькнуло нечто вроде уважения. Не ожидал такой расторопности. Уверен был, что приду отсрочку клянчить, что станет он мораль читать, объяснять простые принципы правильной жизни. Смотришь, и с Витей прижмет. Но не вышло.
С магнитофоном пока повременю. Не так я богат, чтобы покупать всякое барахло. Потерплю, а там видней будет, чем украшать эту нелепую комнату.
В самом деле, тускло вокруг. Письменный стол почернел, давно утратил свою желтизну, ящики не хотят выдвигаться. Книги девать некуда. Полка вмещает не больше сотни, остальные валяются где угодно. Фанеровка на круглом столе, последнем крике моды полувековой давности, потрескалась. Обивка на диване где засалена, где прожжена сигаретами, а где и просто порвана.
А о кухне и подумать страшно. С буфетика можно соскрести добрую банку жира. Посуда перебилась — тут я непревзойденный маэстро. Только Машенькину чашку держу в неприкосновенности. Холодильник на последнем издыхании…
Нет, полумерами не отделаешься — надо радикально все менять. Почему бы не пожить с некоторым комфортом? А почему, собственно, с некоторым?
Могу позволить. Могу!
Интересно, что они у меня покупают? Они — это стоящие за пожилым джентльменом в макинтоше. Интересная бессмыслица! Я бы и так, чисто по-человечески, мог бы заглядывать на площадь, разве вот время выбрать поудобней. Но ведь платят бешеную цену… За что? За душу? А почем она, эта отмененная наукой субстанция, например, моя, пропитанная некоммутирующими операторами, беспризорностью и чем-то еще наверняка бросовым? А, ладно…
Открыл верхний ящик стола. Одиннадцать зеленых купюр. Да три отдал Потапычу. Ровно две недели ежедневной вахты под часами. Ни одного нарушения трудовой дисциплины. Совсем неплохо.
В голове мелькают грандиозные планы.
Не то, чтоб остапбендеровские белые штаны на бразильских пляжах, но нечто вполне солнечное и блистательное. Скажем, опять потянет к южному встряхиванию — теперь уже с неспешным достоинством, не краснея перед смуглыми таксистами и северными блондинками. Впрочем, никаких блондинок вдвоем с Наташей, и точка. Будем вжиматься, буквально впечатываться в горячий песок, поедать глазами только горизонт, а все вкусное, что попадется, съедим на самом деле…
Промечтал до полуночи. За работу браться не хочется.
* * *
Исчезает покой из моего тихого дома — суета загоняет его в недоступные мне и моему воображению углы. Блестяще-нелепые прожекты теснят от стола. Жилплощадь моя прихорашивается, как истосковавшаяся по сладкой жизни бабенка. Я ее понимаю и, пожалуй, сочувствую. Остановиться бы нам.
Хотел все обдумать — не слишком ли разгоняюсь. Но заявился Игорь, разумеется, без предупреждения. Заявился немного навеселе — взвинчен, глаза блестят. Какой-то автор затащил в кафе.
Муторно парню, себя ненавидит и свое отражение в зеркале. Стали говорить, точнее он стал. Невмоготу с Раисой — вот лейтмотив. Но мне-то, в конце концов, какое дело? Нравится — пусть живет, не нравится — кто удерживает? По-моему, он какое-то удовольствие получает от этой взвешенности.
— Послушай, — говорит Игорь, — не лезь ты в эту генеральскую кашу. Натали, конечно, Райке не чета, толковая девочка, но куда тебе до Валика. Ты не обеспечишь, получится, как со мной…
— Послушай, — отвечаю, — не лезь ты в мои дела, расскажи лучше о своих.
И он начинает читать стихи. Целый час он носится по комнате, заполняет ее рифмами, а в перерывах, когда рифмы уже не умещаются в прокуренном объеме, убедительно шепчет о находках. Чуть ли не каждое слово у него находка. Потом еще с полчаса он читает лекцию о какой-то своей строчке. Мелькают знакомые и незнакомые имена — Хлебников, Вознесенский, Монтале…
Могу ли я вот так рассказывать о своих уравнениях? Должно быть, могу в них есть то, что не снилось поэтам. Могу, но не стоит.
Литература интересует всех, а уравнения и модели большинству до фонаря. Плевал, скажем, Игорь на мои упражнения с пространством и временем. А ведь я получаю от иной формулы куда больше удовольствия, чем от всех этих аллитераций и ассоциативных спиралей. Во всяком случае, всегда получал, а теперь… А теперь не знаю — удовольствие мое стало слишком легким и неопределимым.
Когда водопад Игорева красноречия иссякает, превращается в тихий равнинный ручеек, задаю ему первый пришедший в голову вопрос:
— Почему самые приличные писатели получаются из самых бездарных чиновников?
Игорь густо краснеет, никто из моих знакомых не умеет так краснеть. Эта атавистическая привычка делает его крайне привлекательным — могу оценить даже со своей мужской колокольни. Он как-то беспомощно улыбается и моргает. Стоит ли отпускать с ним Наташу на литературные вечера?
— Это в мой огород? — сбившись с заоблачных ритмов, спрашивает Игорь.
— Комплимент вымаливаешь? — ухмыляюсь я. — Это только вопрос. Догадываюсь, что быть плохим чиновником лишь необходимо, но вовсе не достаточно. Почти математическая теорема…
— Все верно, именно теорема, — загорается Игорь. — И очень простая. Энергичному человеку не везет на служебном поприще, а может быть, его и не тянет к везению, и втайне он даже боится такого везения, точнее плату за него чрезмерной считает… И тогда он быстро теряет шансы на служебное самопроявление. Ему не хочется притираться к слабостям начальства, а к сильным чертам — тем более, ему дороже самостоятельность суждений, его мало волнует шаг на следующую ступень лестницы. И такой шаг становится маловероятным. Разыгрывается небольшая трагедия. Сначала человек останавливается, потом начинает скатываться вниз — так сказать, падает в глазах начальства, и, конечно, близких. Теряет лицо.
Игорь бегает по комнате и размашистыми жестами пытается изобразить процесс потери лица. Он, кажется, всерьез поверил, что доказывает теорему. Приятная иллюзия. Но к теоремам иные требования — из кучи плохо определенных терминов можно вывести что угодно. Например, энергичный человек — кто это? В чем мера человеческой энергии? А главное — как мне оценить собственный запас, если нет охоты проявить его в том деле, которым приходится заниматься? А насчет притирки еще менее определенно. Здесь нежелание — зачастую лишь красивая маскировка для обычного непонимания людей. Все сложней…
— Да-да, начинается падение, — азартно декламирует Игорь. — Но как у вас говорят, есть закон сохранения энергии. Она ведь не исчезает. И человек в такой ситуации не может остаться прежним. Если он падает с открытыми глазами, если не боится осознать правду своего состояния, и у него есть хоть какая-то тяга к перу, появляется некий зародыш. Если же нерастраченная энергия полностью сублимируется в новую форму, есть шанс на рождение настоящего писателя. Видишь сколько всяких «если». Но факт, говоря по-вашему, экспериментальный факт — большинство первых и нередко лучших романов посвящено осмыслению своего ухода от обычных профессий.
Игорь ненадолго смолкает. Камень-то и вправду в его огород. А о себе говорить нелегко. Для себя этих «если» всегда избыток. Иногда их слишком много, чтобы решиться на какой-нибудь настоящий шаг.
Игорь переводит дыхание и продолжает очень тихо:
— Хуже зажмурившимся, они безостановочно катятся ко дну, становятся убийцами своей энергии, а следовательно, и себя и при случае окружающих. Они растворяются в кроссвордах, шашечных этюдах, марках, книгах, садовых участках. И вскоре начинают требовать, чтобы им обеспечили жратву, выпивку, бабу, бесплатную путевку, отгулы, двух тузов в прикупе. Чтобы для них изобрели личные синхрофазотроны, антираковую сыворотку, скатерть-самобранку, самовыбивающийся ковер, бессмертие…
Завелся парень. Любимая его пластинка, мотив его разруганной повести, где «молодой автор увидел жизнь в слишком мрачных тонах и, усердствуя в реализме, неистово атакуя мещанство, скатился в голый или слегка завуалированный натурализм». Формулировочка! Это его походя лягнули в газетном обзоре. Даже я запомнил — целый вечер выслушивал стенания старых Рокотовых по поводу зятя, который даже писать нормально не умеет, который Бог знает до чего докатится, если уже скатился… Надо все-таки дочитать его повесть до конца. Тут не просто война с мещанством или разные дежурные измы. Воевать Игорь, в сущности, ни с кем не способен. Или я ошибаюсь? Или не такой он уж безобидный? Надо как-нибудь разобраться.
— Но куда опасней те, — горячится Игорь, — те, кто катится зажмурившись не вниз, в вверх, не испытывая ни желания управлять, ни страха перед высотой, ибо глаза и уши плотно запечатаны. И бывает, что долетит такой до предельной своей ступени и только тогда приходит в себя, открывает чувства, и охватывает его благодать неописуемая. Взгляд услаждается блеском и благопристойностью, слух — славословием, а обоняние — постоянным курением фимиама. И он начинает любой ценой оберегать мираж, проявляя чудеса ловкости, нередко чудеса подлости — по обстоятельствам…
Это что-то новенькое. Следующая повесть?
Интересно, куда я двигаюсь по его схеме? Свободно падаю или принудительно возношусь к вершинам — куда собственно направлен вектор моей конвертной деятельности? И понимает ли он, что верх и низ — относительны, что скатерть-самобранка и бесплатные путевки — вещи того же ряда, что и фимиамный дымок?
Я устал. Игорь тоже выдохся, но никуда не спешит. Пьем кофе с рижским бальзамом. По-моему, он не прочь здесь остаться. Но где его уложить? Да и заведется с утра на свежую голову, ну его к дьяволу. А я хотел бы встать пораньше и взяться за работу. Пора. Уже третью неделю собираюсь. Надо приступить хотя бы с завтрашнего утра. Воскресение мое начнется в воскресенье (каламбур!). Выжидательно смотрю на Игоря. Он снова краснеет, и словно тройной прыжок с места:
— Слушай, Эдик, такое дело…
Я не слушаю, иду к столу, достаю полусотенную бумажку и протягиваю Игорю. Он краснеет еще сильней, но берет.
— Когда будет, отдашь, — говорю как можно бодрей.
Игорь удивлен — моим новым свитером, бальзамом, свободно выданной банкнотой. В его сознании я соскальзываю со своего раз и навсегда предписанного места. Не уверен, что ему снова захочется читать здесь свои стихи.
Он благодарит, занудливо врет про какой-то костюмчик для сына — всю детскую экипировку, конечно же, покупает мадам Рокотова. Но зато он исчезает минут через пять.
Открываю форточку. Холодный, но уже весенний воздух врывается в комнату. И в самом деле, весна.
На улице темно. Светятся только два окна в доме напротив.
Так куда же я лечу? Наверняка в какую-нибудь щель, не обнаруженную Игорем в его философских упражнениях. Забавно попасть в философскую щель без тяги к перу и с распахнутыми органами чувств.
В одном из окон наблюдаю натуральную семейную сцену. Он в костюме, видно, вот-вот пришел. Она в незастегнутом халатике. Резкий разговор, назревает скандал. Даже на таком расстоянии чувствуется, что слова жесткие, тяжелые, куда тяжелей столовых тарелок. Лица все сильней искажаются от злости. Лучше бы обменялись пощечинами. По-моему, она уже плачет…
В другом окошке — чаепитие у молодоженов. Чай с поцелуями в полвторого ночи. Влюбленные связывающие взгляды. Прекрасная пора. Совсем недавно они отгремели оркестриком на козырьке подъезда, разноцветными шарами и лентами на дверцах такси. Она разбрасывала конфеты, купаясь в волнах музыки и ребячьего визга, воздушные шарики лопались, он смущался, не знал, куда себя деть.
Перемещаю взгляд по диагонали. Он уже без пиджака, галстук сбился на бок. Размахивает руками, кричит, может быть, убеждает в чем-то. Она закрыла лицо, плачет, видно, как вздрагивают круглые плечи. Ну их…
Снова к молодоженам. Целуются, черти. Потом гасят свет. Завидки берут.
Да что я — с ума сошел, что ли! Но трубку снимает именно Наташа.
— Ты очень рано звонишь… Нет, не сплю… Читала… Хорошо…
Боже мой, я действительно тебя обожаю, милая Натали. Неужели ты приедешь? Срочная уборка. Ура!
* * *
— Что с тобой? — спрашивает Наташа.
Она стоит у входа. Пальто расстегнуто, волосы рассыпались, длинные пальцы комкают берет.
— Я очень испугалась, — говорит Наташа. — Что с тобой?
Делаю шаг вперед, отбираю измятый берет, бросаю его на столик. Она смотрит мне в глаза и совсем прижимается к двери. Но отступать некуда. Ни ей, ни мне.
Ее щеки в моих ладонях. Она напряжена до предела, даже скулы свело. Целую в сжатые губы, в немигающие глаза. Так продолжается, наверное, с минуту. Наташа — застывшее изваяние.
Но вдруг возникает ответная волна. Ее пальцы на моем затылке…
Она почти сразу задремала. Я уснул гораздо позже. Лежал и думал, что мы с Наташей — великие идиоты, что могли бы давно уже наплевать на мудрость Вероники Меркурьевны и пожениться, и пить чай с поцелуями в полвторого ночи.
Мы проснулись одновременно около семи под жиденькие намеки на рассвет. Не столько проснулись, сколько ощутили друг друга. Ни от нее, ни от себя не ожидал я такого урагана. Нечто невероятное истрепало нас, швырнуло в мертвый сон, и настоящее утро наступило лишь в полдень.
Наташа привела себя в порядок, сварила кофе, поджарила ломтики батона. Первый семейный завтрак плюс ослепительный мартовский воздух равняется чему? Наверное, счастью.
— Завтра же поедем в загс, — сказал я.
Долой свободу! Хочу в добровольное рабство. Хочу, чтобы спрашивала, когда приду с работы, когда соизволю поправить дверь на кухне, как назову сына…
Наташа улыбнулась, погладила мою руку.
— Не будем спешить, — сказала она. — Тебе осталось совсем немного до защиты, и я вот-вот получу диплом. Тогда будет проще. Иначе мои взвоют, сам знаешь. Начнут на примерах воспитывать. Мы и так ждали слишком долго, потерпим еще полгодика, а?
На лбу ее прорезалась упрямая складка. Значит, она все решила за меня и за себя. Но взгляд излучал столько тепла и, мне казалось, любви, что я не стал сопротивляться. Не стал сопротивляться, черт бы меня побрал…
— Ты меня любишь? — спросила Наташа, одеваясь.
— Да, а ты?
Наташа засмеялась, поцеловала меня.
— Ты очень хороший, Эдик.
И единственное в мире существо, считавшее меня очень хорошим, покинуло мой дом.
* * *
Сегодня попал в забавный переплет. На 17–00 профорг Карпычко назначила собрание. Где это видано — занимать свободное время сотрудников говорильными делами?
Не согласен я платить взносы в размере пятидесяти рублей. Не согласен, и точка.
Провел хитрую операцию. Надо, думаю, отделаться мелочью. Сбегал в театральную кассу на углу, хотел взять пару билетиков куда угодно. Но смотрю — самый завалящий концерт начинается в полвосьмого. Лариса Карпычко вмиг объяснит, что мне торопиться некуда, что собрание не затянется…
Ослиное положение! Как быть? И никуда не отпросишься — кому в детсад, у кого жена больна, а мне, природному одиночке, как быть?
Малость помаялся и придумал. Звоню Валику.
— Окажи услугу…
— Сколько? — по-деловому спрашивает он.
— Да не то, — посмеиваясь, говорю я. — Позвонить мне в полпятого можешь?
— Могу, а зачем?
— Слушай, позвони по такому-то телефону, но меня не требуй, попроси пусть передадут, что… Ну, в общем, что угодно — лишь бы мне с работы сразу сорваться. Тут собрание, а у меня дела. Сам понимаешь…
— Усек, — отвечает Валик, — все сделаю, пробкой оттуда вылетишь.
— Лады, — говорю, успокаиваясь, — только смотри, звони не позже полпятого.
И собираюсь положить трубку — Валентин Яковлевич, он сделает!
— Вот что, — внезапно продолжает Валик, — ты свяжись со мной как-нибудь, лучше заскочи, и Таня будет рада. Разговор есть…
— Непременно заскочу, — отвечаю, — как-нибудь…
— Вообще-то, не откладывай, — подводит он черту. — Разговор этот в твоих интересах. Пока.
И кладет трубку.
Любопытно, чего ему надо — какие такие разговоры в моих интересах? Неспроста оно, не по делу этот друг не пошевелится.
Прихожу в институт, сижу, как мышь. Народ покряхтывает, поругивается не могли разве в обеденный перерыв собраться, женщины на Ларису обрушились — им еще обязательный круиз по гастрономам совершать, не хотят они пустых прилавков дожидаться, и не складываются у них права и обязанности в непротиворечивую картину. А я сознательно молчу. Я совершенно сознательно молчу и даже бросаю на красноречивую Ларису сочувственные взгляды. А она пытается — не слишком успешно, но вполне искренне — нарисовать такую картину, конструируя из противоречий нечто в высшей степени естественное и, с ее точки зрения, даже лучезарное.
Валик премерзко перестарался. Выдумал, что я должен срочно явиться для дачи свидетельских показаний по поводу какого-то ДТП — якобы стал я единственным очевидцем небольшой аварии, то есть дорожно-транспортного происшествия.
Не мог он чуток мозгами пошевелить — ведь знал же болван, что в начале прошлого года я получил сообщение в этом роде, и с тех пор не могу на трамваях ездить.
А тут еще ребята прицепились — подавай им кровавые подробности. По-моему, одна только Лариса, накрепко те давние события запомнившая, сразу уловила мое состояние и буквально вытолкала меня за дверь.
Я готов был сто рублей заплатить, чтобы вся эта история не произошла. И на площадь к положенному времени приплелся не я, а моя тень. Я был далеко — в той зиме, когда материализовались в моей жизни бесцветные протокольные штампики: ДТП, опознание, свидетельские показания, тяжкие телесные…
Потом стал думать о Ларисе Карпычко — и не только в смысле иронического сочувствия ее мужу. О Ларисе, о Валике и о многих других… Короткая память страшней длинного языка. Респектабельней, но страшней.
* * *
Иногда накатывают забавные фантазии. В сущности, мир устроен немного по-дурацки. Мы привыкли примиряться с данностью — что дано, что произошло, то и верно. Ничего не переиграешь, остается только объяснять — более или менее высокоумно — необходимость состоявшегося.
И еще — каждый шаг необратим, перехаживать запрещено. Нигде в природе не запрограммировано милосердие, иначе обязательно были бы вторые, третьи и прочие попытки… Так ведь нет их!
А то, что есть, — тривиальная имитация. Потому что ошибки накапливаются и становятся самостоятельной силой. И совладать с ней нелегко, чаще всего невозможно. На первый взгляд, природа поступает мудро. Отдельная личность ее не очень-то интересует — пусть делает глупости, они тоже кому-то на пользу, по крайней мере, будет чему поучиться. Если бы!
Многому ли я научился? Умею считать интегралы по траекториям, но известно ли мне что-нибудь о траектории товарища Ларцева? Почему, например, эта траектория ежедневно в 18–00 проходит через определенную точку Старой площади и ровно пятнадцать минут орбитирует вокруг столба с допотопными часами, показывающими любое удобное для них время?
Добросовестный наблюдатель быстро уловил бы явную закономерность и заполнил свои вечера глубокими размышлениями о причинах странного движения. Догадка — между Ларцевым и столбом существует своеобразное притяжение. Но что именно притягивает Ларцева — толстый бетонный стержень или укрепленный наверху механизм неизвестного назначения? И почему движущееся тело в момент выхода на свою временную орбиту непременно начинает испускать клубы дыма?
Прекрасная тема для диссертации инопланетного астронома. А в заключении он, конечно же, подчеркивает, что наука о поведении землян в окрестностях Старой площади неисчерпаема, ибо совершенно не выяснен вопрос о тех силах, которые регулярно отрывают Ларцева от гораздо более мощного источника тяготения — письменного стола в его тихой, подозрительно тихой квартире.
Самое смешное, что меня эти проблемы вообще не волнуют и волновать не могут. Какое мне дело до нелепых домыслов отсталой инопланетной астрономии! Я-то прекрасно понимаю, что центр тяготения расположен не в районе столба, а в моем почтовом ящике, откуда в полседьмого вечера я исправно извлекаю небольшой конверт без надписей, штампов и марок. И даже не там, а строго говоря, где-то в прошлом, в том импульсе, который привел к моему порогу пожилого мужика в старомодном макинтоше.
Почему же я ничего не стал выяснять, а безропотно помчался под генератор испорченного времени? Ухватил счастливый шанс, да?
Верно, ухватил — только я его или он меня? И теперь волнами набегают мысли о несправедливости игры, где нельзя взять ход обратно.
Нет, пока ни о чем не жалею. И все-таки…
И все-таки интересно представить себе цивилизацию с иными законами развития. Сделал что-нибудь не то, стер и действуешь по-новому. Меня это давно интересовало, но, как бы сказать, занаученно, а по-человечески, пожалуй, впервые.
Теперь я вроде бы понимаю старика Рокотова с его бесконечными историческими вариантами. Мне кажется — понимаю.
Стер и действуешь по-новому… Ну конечно, причинность — к черту. Из стремительного вектора она превратится в гибкую самозахлестывающую кривую. Можешь хоть перепоясаться ею, и никого она больше не проткнет своей стальной неизбежностью. Вроде неплохо. Обычно ведь не успеваешь сделать чистовик своей жизни, а тут — пожалуйста, переправляй сколько угодно, твори себя ангелом.
Но с другой стороны, раз стер, два стер — что же останется от подлинника? Возникает проблема отождествления — похлеще, чем при пересадке мозга. Но это еще полбеды. С моральными неувязками мы бороться научились. Одно назовем предрассудком, другое — пережитком, и сразу полегчает.
А вдруг кто-то другой станет переигрывать твое прошлое, скажем, даже по весьма высоким соображениям — необходим такой-то процент людей с такой-то биографией. Раз — и ты из вполне благополучного человека превращаешься в последнего забулдыгу, причем сам ничего особенного не замечаешь, для тебя все идет как бы естественным путем. Ты ведь сам голосовал за то, что перечеркнутого прошлого просто не существует. Вот и радуйся — тебя сочли достойным преобразования во имя общего блага. Впрочем, общего или не очень общего — это тоже не твоего ума дело. Да и какой у тебя теперь ум…
Н-да! И сидел бы в этом мире некто, насильственно обеспрошленный, размышляя о благословенной жизни с одной-единственной траекторией.
Но все-таки интересно. Отличное название всплыло — вариантная цивилизация. Или еще — автокорректировочная… Да здравствуют научные термины!
А как такую цивилизацию устроить? Может ли она возникнуть естественным путем, хотя бы из желания природы поиздеваться над собой и своими законами? Забавно было бы установить, что Господь — немного мазохист.
Подтасовывая прошлое, платим будущим — вот что правдоподобно… Надо посерьезней обдумать.
Пока же приходится решать более суровые задачи.
Финская кухня — брать или не брать. Если возьму, то погорит магнитофон. На кой дьявол нужен второй? Разве мало двух телевизоров? Пустил одного пожирателя времени в комнату, а другого на кухню, только туалет еще не оборудовал этим окном в большой мир.
Однако, редкая удача — подхватить такого японского красавца по такой мизерной цене…
Но и кухня — класс…
Ладно, подумаю. До утра времени хватит.
* * *
Вызвал шеф — надо оформляться в командировку. Очень хорошая конференция, но пять дней, черт побери, целых пять дней!
Все шло слишком гладко, и вот сбой за сбоем. Стал отказываться дескать, и мне ехать не с чем, и слушать там особенно нечего…
— Позвольте, — заволновался шеф, — а наш доклад?
Доклад посылали заранее, оно верно, и на конференцию эту попасть хотелось. Тогда хотелось. А сейчас похоже — мелочь все это. Шеф намерен показать, что он умнее Иванова-Петрова-Сидорова, но я-то за что должен расплачиваться?
Будет драчка за какие-то несущественные поправки. Выиграю — шеф на коне, проиграю — сошлется на мою неопытность. Надоела эта однолинейная игра.
— Вам обязательно следует там появиться, — говорит шеф. — В ваших же интересах!
Господи, ну до чего ж все заботятся о моих интересах, до чего точно их знают…
— Понимаю, — уныло отбиваюсь я, — но самочувствие заело.
— Не знаю, Ларцев, что вас там заело, — слегка повышает он голос, — не знаю, но вы стали заметно пассивней. От вас тень осталась. А с докладом скандал получится. Я бы сам поехал, но никак не могу, дела не отпускают…
Знаю про дела, все знаю. Внучка в больнице, и трепещущему деду не до конференции. И не поедем — что с того? Неужели наука остановится?
— Очень вас прошу, Эдуард Петрович, — соберитесь с силами, а? Надо ехать, понимаете, надо!
Но я уже настроился на роль чеховской Мерчуткиной — здоровье никуда, и вообще…
Шеф по-настоящему разозлился. На моих глазах многоэтажное здание наших отношений покачнулось и дало трещину.
— Раз так, Эдуард Петрович, — изображая стальной голос и похрустывая пальцами, начал шеф, — я вынужден как руководитель распорядиться…
— А я с завтрашнего дня на бюллетень собирался…
Он хмыкнул и осекся. Административный порыв наткнулся на непреодолимую в своей банальности запруду.
По его взгляду я понял, что пожалею об этой победе. Ему кажется пожалею.
С другой стороны — что я творю? Из-за двух с половиной сотен карьеру ломаю. Разве они не подождали бы, не обошлись бы без меня на Старой площади.
А вдруг, нет? Может, их ставки не предусматривают всяких прогулов-отгулов и прочего филонства. Скорей всего — так.
И все же, что я творю?
* * *
Бюллетень мне Валик организовал по дешевке. Заодно поделился некоторыми опасениями. Вот оказывается в чем дело, вот чего он хотел!
Выходит — по Татьяниным наблюдениям — младшая ее сестра слишком часто с Игорем встречается. Из-за этого в рокотовском семействе получилось изрядное волнение — глупейший казус втискивался в их спланированную и в общем-то уютную жизнь. Разумеется, я узнал обо всем в последнюю очередь. От меня утаивали, а Валик теперь в роли друга душевного глаза мне раскрыл.
Но делать-то что? Пойти к Наташе и напрямую высказать претензии? Глупо. Засмеет меня и зафыркает насмерть.
Я ведь понимаю, что мягкий ее отказ — тогда, в то воскресное мартовское утро — вовсе не от наследственной практичности. Не уверена она, вот в чем дело. Ни в себе, ни во мне не уверена, и не хочет делать шаг, который тут же придется переигрывать. Похоже — по неуловимым почти штрихам — Наташа сожалеет о своей решимости в ту мартовскую ночь. И не хочет усугублять… Я понимаю.
С Игорем поговорить? Еще примитивней. Что я ему скажу — не суйся к моей общепризнанной невесте? А он в ответ какой-нибудь свой образ выдаст. Падай, скажет, общепризнанный жених, зажмурившись или как там тебе угодно, падай вверх или вниз, но не мешай людям жить. Или еще хуже — не я, скажет, к ней лезу, а она ко мне, ибо ты, Эдик, становишься потихоньку собственной плоской проекцией, а ей, должно быть, человек нужен…
Неужели нет выхода? Логика восстает. Она у меня профессиональный повстанец и умелый палач по совместительству, моя бедная вечной спешкой приплюснутая логика.
Она восстает против шефа, считающего, что от меня осталась одна тень. Ошибочно считающего, ибо по избитым литературным канонам я как будто продал тень — современный шлемилевский вариант. А по житейским — еще проще. Тень при мне, слишком при мне, слишком материальна и стремительно повышает наше общее благосостояние.
Логика восстает против шефа, против Игоря и Наташи с их вроде бы бессмысленными отношениями, против старика Рокотова с его изнурительными копаниями в предвоенных днях — против всех, кто более или менее близок мне по духу, в чем-то близок, пусть мне лишь кажется, что близок, не в этом суть.
Важно, что она премудро молчит, отворачиваясь и делая вид, что ничего не происходит, молчит, когда я пользуюсь услугами Валика и выслушиваю поучения Потапыча, прогуливаюсь под издавна бесполезными часами и в полседьмого извлекаю из почтового ящика научно не обоснованные конверты.
Она не поперхнувшись съедает ненужный доклад на представительной конференции и отплевывается от размышлений о дикой временной петле, переиначивающей прошлое.
Сейчас не философствовать бы попусту, а возопить. С Игорем, например, выйти на дуэль. А потом валяться на окровавленном снегу, благословляя Натали и с трудом отвечая на сочувствия месткома в лице Ларисы Карпычко и настойчивые расспросы сотрудников угрозыска.
Порвать бюллетень, умчаться на конференцию, совместный с шефом доклад снять — будь что будет! — и выступить со своими путанными тезисами. Пусть скандал, пусть. Шеф попыхтит-пошумит и отстанет. Он поймет, точно знаю поймет и правильно оценит.
Ну!?
Нет, ничего не выйдет. Конверты не дадут. Они такие.
* * *
Никогда не предполагал, что добывание вещей поставлено чуть ли не на индустриальную основу. Казалось бы, чепуха — заполнить небольшую комнату и кухоньку удобными и полезными предметами. Но поди ж ты!
Торжественный въезд импортной стенки обошелся в месяц дежурств и две-три недели непрерывной беготни по складам и магазинным закуткам. Привыкаю расплачиваться временными промежутками разной длительности.
До конца своих дней не забуду операцию «Кафель». Три вечера кухарничал и подливал в стаканы. Правда, мастер, элегантный брюнет, соскочивший с экрана двадцатых годов, поработал на славу — цветные витражи да и только! Он был уверен, что я недавно переехал в квартиру, что старый хозяин со свинскими наклонностями оставил мне тяжкое наследие, что Матисс очень недурно оформил капеллу в Вансе. С удовольствием поговорили с ним о будущем электронно-вычислительных машин. Оказалось — он хороший кибернетик, а кафель — это его, так сказать, конверты в полседьмого вечера.
А вообще, спасибо Валику. Что бы я делал без его сверхмощной системы звонков? Но самое большое, чем он мне удружил, — книги. До многого так бы и не дошли руки. А теперь стоит только потянуться… Где он их добывает? Цены, конечно, бешеные, но большинство книг я нигде и ни по каким ценам раньше не видел. Что ж, начитаюсь вволю. Хотя и некогда.
И с Наташей увидеться некогда. А может, и незачем.
И бумаги пылятся без толку.
Дикий какой-то месяц. Одно лишь открытие — вещи едят время. Теоретически почти тривиально, но каково видеть на практике, той, которая всеобщий критерий, видеть вблизи, что вещи — хроноядные животные. Особый отряд, который по ошибке относят к неживой природе.
Но вроде бы все потихоньку налаживается. Скоро прикрою эту утомительную карусель. Переведу дыхание и возьмусь за дело. Пора! Выдержать бы недельку-другую, и точка.
И зачем я напихал хрусталя — фруктовницу с целым выводком стаканов на центральную полку? Валик говорит: модная необходимость, людей по-людски принимать сможешь. А я полагаю — люди и из двадцатикопеечного стекла неплохо употребляют. А книги опять девать некуда.
* * *
Тошно… Какое-то дрянное тягучее состояние, словно плаваешь в луже синтетического клея. Плевать на себя хочется.
Ничего не лезет в голову, тем более наука.
Два события, внешне малозначительных, перетряхнули меня, чуть наизнанку не вывернули.
Сначала вышло так. Возвращаюсь с дежурства под часами, небрежно швыряю конверт на стол и иду варить кофе. Через полчаса вскрываю конверт и обнаруживаю кучу бумажек вместо одной — четыре новеньких червонца и одну примятую пятерку. Тьфу-ты, ну-ты!
В чем-то ошибся, может, не достоял минуту? Или оделся не так?
Ну конечно, рубашку пижонскую нацепил — на днях случайно взял в комиссионке. Вся площадь пялилась на меня из-за этой рубашки. А Они просто вычли из зарплаты. Хоть бы выговор какой дали, а то — ба-бах без предупреждения.
Плевал я на пятерку, но обидно. Целый час прообижался, ходил из угла в угол, а точнее — топтался посреди комнаты, потому что углов в ней не осталось. Заняты все углы. Топтался и думал: что делать, что делать…
А вдруг эти выплаты вообще прекратятся? И стало страшно. Куда мне, соблазненному, на одну зарплату тянуть!
Потом пришла злость — неужели я целый час из-за поганой пятерки промаялся? Вместо того, чтобы горы ворочать — с моей-то головой! размениваюсь на такое дерьмо. Схватил с полки здоровенную хрусталину и грохнул. Полегчало.
Сел за стол. На бумагах — слой пыли, тоненький такой слой. Протер пальцем дорожку на стекле, а дорожка никуда не ведет, оборвалась на краю стола. Пытаюсь сосредоточиться.
И тут звонок. Не сомневался — это Они. Если б знать…
Бросился, открыл, а за порогом — учтиво оскаленная морда Валика.
Ну, достал он мне эту дурацкую, ни для чего не годную стенку, достал! И что же, будет он теперь вечным моим гостем? К тому идет…
Валик, не поздоровавшись, проскочил прямо в комнату и запричитал над красиво разбрызганными по ковру осколками убиенной хрусталины: как-же-тебя-угораздило-как-же-тебя-угораздило-как-же-тебя…
Минут через десять я его выпер. Нет, чтоб просто послать подальше, а со вздохами, с ужимками, поглядывая на часы и сметая невидимые пылинки с новюсенькой суперсофы, стоившей восемь с половиной дежурств. Он немного упирался, хотел что-то предложить, шебуршал по карманам и строил обиженные физиономии, но потом до него дошло. Он слегка подпрыгнул, осветился неподдельным сочувствием, стал облизываться, подмигивать и обещать нечто необычайно французское. И сразу исчез.
Если б так! Через полчаса, когда я сидел на кухне и, уставившись в телевизор, жевал сухую колбасу с венгерскими огурчиками, снова задзинькал электрический колокольчик. Я вздрогнул, очередной огурец заскользил по желтому пластику пола. Это, конечно, Они — кто ж еще? Пора выяснять производственные отношения.
Открыл и, не выдержав, коротко матюкнулся сквозь зубы. Возвратился Валик. Оказывается, бедняга продежурил все это время в подъезде и, убедившись, что моей нравственности никто не спешит нанести урон, решил обговорить два дела. Я думал, прямо на пороге и выскажется. Но нет, на этот раз он уютно устроился в кресле.
Первое дело — подписку Стендаля можно взять примерно через неделю, сто двадцать — дороговато, но, как говорит Валик, не слишком дорого. Думаю, что сам он перехватил эту подписку рубликов за 80–90. Ну да ладно, у каждого свой бизнес. Согласился, пусть приносит. Встал со стула — второе дело должно решиться быстрее. Но не тут-то было.
Валентин Яковлевич усмехается и никакой поспешности не проявляет. И даже просит рюмочку чего-нибудь. Достаю бутылку коньяка и терпеливо устраиваюсь напротив.
Валик долго смакует «Мартель», причмокивает, что-то обдумывает. Потом говорит весьма внятно и твердо:
— Эдик, одолжи ключ на воскресенье.
— Какой ключ? — удивляюсь я.
— Ключ от твоей квартиры, — поясняет Валик и снова ухмыляется. — С обстановочкой, так сказать, но без хозяина. Короче, хата твоя нужна с субботы, двадцать ноль-ноль, до воскресного вечера.
Так! Наступил момент расплаты за услуги. И это с мелочью пузатой, с Валиком. А вот с Ними… Как с Ними придется расплачиваться? На всякий случай выдаю бессмысленную фигуру:
— А я-то думал, у тебя с Татьяной полная сексуальная гармония.
Валентин буквально передергивается. Даже в глазах мелькает злая искорка — величайшая редкость. Но искорка тут же гаснет, словно перетекает на губы, они кривятся и складываются в солидарную мужскую усмешку.
— А я думаю, — говорит он, — у нас обоих отличная гармония с рокотовскими наследницами. Но не в этом дело. Не для себя, Эдик, стараюсь, то есть вроде и для себя, но квартиру для шефа своего прошу. Нет у меня сейчас подходящей хаты, а девочку я ему роскошную нашел.
Ого! Это что-то новое в его репертуаре. Скорее всего и не новое, но для меня как бы открытие. Сильной пружинкой начал он пользоваться. А шеф у него силен бродяга — постарше Потапыча, а туда же. Видел я его однажды в гостях у Рокотовых. Сладкоглазенький дядька, бодрый и до последней ниточки руководящий товарищ. С генералом молодость вспоминал, а сам на Наташку пялился — с коленок на грудь и обратно. Заслуженный живчик.
А Валентин все глубже сверлит меня взглядом. Вопрос-то для него ох какой важный. На живчика коврами впечатления не произведешь. Он и сам одним телефонным звонком два вагона всяких тряпок насобирает. Повысился Валик из обычных доставал в личные бандеры перешел…
А я? Кажется, тоже повышаюсь — правая рука Валика, у него девица, у меня — хата. Превосходный дуэт. Имеет же он право на небольшую эксплуатацию совместно добытого комфорта. Интересно, куда я качусь по Игоревой теории вроде бы и не вниз, значит вверх, куда ж еще?
— Ты не можешь без меня обойтись? — спрашиваю напрямик.
— Нет, не могу, — отвечает он. — И ты без меня не обойдешься. Не выпендривайся, Эдик.
Что возразить? Тяну время, пытаясь узнать, хорошенькая ли девочка, и на кой дьявол нужен ей этот пожилой петушок. И тут Валик как будто загорается. Я ведь так редко давал ему повод излагать глубинные мотивы своей философии.
— Эдик, ты на меня, как на ходячую аморальность не смотри, — говорит он. — Такова, Эдик, реальная жизнь — это симфония сил и слабостей, надо только ноты правильно расставлять…
Ловко насвистывает, стервец. Наливаю еще понемногу коньяка, а он продолжает:
— …у шефа все равно слабость к прекрасному полу. Сколько у него служу — только одна секретарша надавала ему по мордасам. Но зри в корень по Пруткову. Зри в корень! Права ли она? Ведь распылит свои лучшие годы с волосатиками по подъездам и подворотням, а от них, сам представляешь, толку мало — ни презентов, ни ресторанов, ни премии. Они и сами рады, чтоб девица бутылку поставила. Ну, повоют вечер-другой под гитару с хмельком, покадрятся, а потом? Потаскать — потаскают, но замуж-то не возьмут…
Валик переводит дыхание, допивает коньяк и, выпустив колеблющееся колечко дыма, проникновенно продолжает:
— А вот другой, вроде бы лучший вариант — какой-нибудь инженеришка в управлении слюни распустит, возомнит, что повседневный доступ к ее коленкам — ближайшая цель его жизни. Все славно — фата, Мендельсон, торжественный переезд из общежития на тещину жилплощадь. А дальше? Конец развлечениям, стирка, варка, сцены ревности, стреляние трешки до аванса, зачуханные нарциссы к восьмому марта. А потом? Еще веселей! Уа-уа… Декретные — на коляску и ванночку, одна зарплата на троих и в качестве неизбежного приложения — быстро иссякающее мамочкино терпение и сексуальная озабоченность молодого мужа. И наконец, разочарование, полная пустота…
Валик тяжело вздыхает, словно его-то все это и постигло, и переходит к выводам:
— Так не лучше ли этой красавице получить правильное применение? Подумай сам, ведь всем лучше! И шефу — заряд бодрости, и ей — надежный покровитель, кое-какая карьера, подарки, и мне — а почему бы и нет! некоторая польза. Вот тебе любопытный житейский вариант — вроде бы пакостно, а всем к добру. И так часто, Эдик, гораздо чаще, чем твоя телячья душа допустить может. Надо в последствия глядеть, а не поверху голыми эмоциями шпарить.
И тут моя телячья душа не выдержала, сорвалась и выдала нечто крайне нецензурное.
Валик пожал плечами, встал и буркнул:
— Подумай до завтра, я позвоню.
И убрался наконец.
А я долго вертелся под душем.
* * *
Жизнь пошла какая-то фрагментарная. Разноузорные лоскутья дней помечены различными вещами, побегушками, телефонными намеками, мелкими бухгалтерскими упражнениями. Вроде все есть, пора остановиться, но тормоз исчез, ни одного тормоза под рукой. Где-то сделан шаг за критическую черту, но где, когда? И как к этой черте возвратиться?
Кстати, о вариантной цивилизации. Ничего хорошего. Думаю, дело не только в перестройках чужого прошлого. Это умеют устраивать и в обычном мире — была бы цель, а мастера перекраивать прошлое или будущее всегда найдутся. Не в этом суть.
А вот насчет милосердия совсем не выходит. Потому как, желая что-нибудь изменить, мы должны осознать правду о себе. А это не ахти какая приятная операция. Ведь зеркальный двойничок может и убить одним своим видом. Вглядишься попристальней и такое можешь увидеть, что жить не захочется — ни в данном, ни в любом другом варианте.
Так что лучше и не пробовать. Сам себя захлестнешь причинной петлей и совсем позабудешь, где ты — именно ты, а где ты — из эн-плюс-первого эксперимента, и кого следует больше ненавидеть — оригинал или наскоро улучшенную копию.
Фантастика все эти петли, сплошная фантастика. Сколько ни думай — одна головная боль.
Но баловаться собственными выдумками все-таки приятно. С детства люблю необычные комбинации образов. И всегда казалось — вот какая-то комбинация подрожит-подрожит в возбужденном мозге и вдруг застынет, втянув в себя реальный мир. И состоится чудо.
Сейчас, пожалуй, я стал настоящим эпицентром чуда — так и сыплются на голову купюры. Вроде материализовал мечту, да не мечту, а болезненное стремление к устойчивости. Радоваться бы, но не получается.
Понимаю, что размышлять о причинах моего везения не стоит. Кажется, за это мне и швыряют конверты, чтобы не размышлял. Неужели только за это?
Нет, докапываться до истины вредно. Ведь чувствовал же…
Настроение — хоть вешайся. В конверте обнаружил всего-навсего четвертную. Кошмар!
На неделе принесут дубленку и подписку Стендаля — чем буду выкупать? Предположим, дубленка окажется мала, но Стендаль-то в отличном состоянии. Что делать? Куда подевались Они? Почему не показывается этот мужик в макинтоше? Чем я Им не угодил?
Видимо, это конец. Не пойду завтра на площадь, к чертям дежурство под часами! Пусть сами дежурят за такую мзду!
Возьмусь-ка за дело. Снова окунусь в свою спасительную работу, и точка. Пусть сами проводят свои дурацкие эксперименты!
Вот только куда подевались бумаги? Когда я выбрасывал свой старый все повидавший стол и ставил на его место полированное чудо с тридцатью двумя отделениями и ящиками, бумаги были куда-то распиханы. Куда?
Сейчас на блестящем стекле отражается совершенная конструкция настольной лампы, и все. Ни пылинки, ни бумажки — яркая иллюстрация к руководству по президентской служебной этике, ни одной детали, отвлекающей внимание от глобальных проблем современности, ни одного штриха, мешающего вести прием посетителей на высшем уровне. Стерильный вакуум — вот что такое мой стол.
И вся комната — тоже стерильный вакуум. На журнальном столике возле софы лежит томик — кого? Ага, Мандельштама. Так сказать, оживляющий элемент. Единственный. И читать не хочется, ничего не хочется читать, а его стихи — тем более, скребут они, не выдерживают соседства с конвертами, о природе которых не положено размышлять.
Куда же я рассовал свои бумаги — в книжные ряды, на антресоли, наконец, в мусорное ведро? Лень искать. Да и зачем?
Вчера шеф вызвал и говорит:
— Ларцев, вы мне надоели.
Так или нечто в этом духе — неважно. Важно, что у шефа это последняя стадия. Надоевшие не задерживаются дольше месяца. Надоевшим он подыскивает добротное место с отнюдь не мэнээсовским окладом. И отправляет, как в почетную ссылку.
Гори она огнем, почетная ссылка. Дубленку-то брать надо! Сколько мне не хватает до этой операции? Так-так-так… Хрустят проклятые.
Полтораста не хватает. Ей-богу, мистика. Придется просить у Потапыча, чтоб он лопнул.
Впрочем, чего злиться? Потапыч теперь меня зауважал. Издали здоровается, одобрительно кивает, когда сталкиваемся в подъезде. В великий День Цветного Телевизора он даже тащить пособил, потом по плечу похлопал и говорит:
— Молодец ты, Эдька, точно молодец, не слюнтя-пунтя…
Слюнтей-пунтей он меня в детстве дразнил. И меня, и Машеньку.
* * *
Небольшой взрыв негодования. Они, мои работодатели, наглеют с каждым днем. В конверте засаленная пятерка. Что ж, буду перестраиваться по принципу — как вы нам платите, так мы вам работаем.
Плюнуть бы, что ли!
Я стал не нужен. Почему? А зачем нужен был?
Пожаловаться? Куда? На кого?
Прибегу в местком: незаконное понижение зарплаты, то да се… Да, скажут, незаконное, но где, собственно, вы служили? Это, скажут, не по нашей части, вот путевочку горящую, ежели охота есть, — пожалуйста, или очередь на ясли — поможем, а со службой по совместительству сами разбирайтесь.
Опять же, к прокурору загляну. Очень, скажет прокурор, любопытная история, грубое нарушение, грубое, сочувствую… А не завести ли на вас, гражданин Ларцев, симпатичное уголовное дельце в блекло-голубой папочке, не выяснить ли источники ваших сверхдоходов?
Или к Наташе… Лечиться тебе надо, усмехнется Наташа. Всю жизнь ты мечтал простые вещи в сложные превращать — домечтался, чего ж еще? Жил со своими планами, на большее не хватало. Проектировал путь, на который никогда и не вступишь, а другие не только воображали — шли, шаги делали, свое искали и отстаивать его не стеснялись… Игорь, например, с обидой вставлю я. Хотя бы, отрежет Наташа. И отвернется.
И тогда поехал я к Машеньке. Рвал траву, носил воду в ржавой консервной банке, пытался посадить нелепые «анютины глазки», купленные у входа на Северное.
Плутаю, Машенька, говорил я, не в конвертах счастье, но они-то, чего нам так не хватало, не хватало, чтобы ты вечно не опаздывала в свою контору, не носилась наперерез трамваям… Но Маша молчала.
Я думал — так очищусь, смогу воспарить над тем, что Игорь в одном из своих стишков назвал: не жизнь, а вертушка дней на проходной существования. Думал — очищусь, а Машенька молчала. Не было прямой связи с потусторонним миром, и с ним тоже. Было обычное загородное кладбище, с ухоженными и заброшенными могилами, были тихие старушки, и дул прохладный ветер. Пальцы мои, испачканные землей, теребили случайную травинку, и вместо воспарения душа требовала чего-нибудь крепленого.
Черт знает как — такое необъяснимо — оказался я в забегаловке с цветочным названием и вместе с ушастым парнем по имени Коля стал пить пиво внакладку. Глотал бурду, на диво логично и популярно объясняя ему, что причины и следствия могут выступать в иной взаимосвязи, и их множество нетрудно по-иному упорядочить, снабдить необычной структурой, и тогда… Коля на редкость хорошо меня понял — похожую теорию он недавно развивал перед своим участковым, но лейтенант оказался дубок-дубком и в причинной петле «чернила» — неприятности занял слишком однолинейную позицию. Рассказывал Коля что-то в этом роде, и взаимопонимание наше стремительно возрастало, утешало и поддерживало меня и снова возрастало. Потом начался дождь, и Коля растворился в нем, бесповоротно исчез.
Не помню, как я попал домой, главное — доплелся. С удовольствием освежил ковер мокрыми платформами. Собрался приготовить кофе, а он почему-то просыпался мимо джезвы, и молотилка куда-то пропала. Выпил воды из-под крана.
Самое противное — полная трезвость, даже определенная пронзительность мыслей. Только пространство вокруг размягчилось и упруго раскачивало меня пришлось забраться в кресло.
Зажмурился и, конечно, обнаружил себя колеблющимся в теплых волнах прошлое лето, нет конвертов, есть небо, соленые брызги… И что же, эти выцветшие умственные картинки — единственное следствие забегаловки с цветочным названием?
Даже напиться как следует не могу, подумал я, ничего не могу по-настоящему. Подумал и тут же почувствовал, что не один — кто-то за мной наблюдает.
И точно — в трех шагах напротив кресла стоит мужик в макинтоше. Тот самый. Протер глаза. Ну и фокус!
— Здравствуйте, Эдуард Петрович, — говорит он.
— Добрый вечер, — отвечаю и только теперь удивляюсь. — Как вы сюда попали?
Он делает неопределенный жест:
— Обычно…
Выходит, я дверь не запер. Элементарный результат пьянки. Или наоборот, эта пьянка — результат не вовремя распахнутой двери?
— У вас есть вопросы ко мне? — интересуется Он.
— Разумеется, есть, — с энтузиазмом говорю я. — Есть и очень много! Будьте добры, присаживайтесь.
— Некогда, — говорит Он, — некогда присаживаться и добрым быть некогда. Отвечу на любой ваш вопрос, но один-единственный, самый главный.
Самый главный? Забавно. У меня целая куча вопросов, цепляющихся друг за друга и друг друга оттирающих — просто груда отработанных пружинок на свалке.
Интересно, кого он мне напоминает? Старомодность из невероятных для меня лет, насквозь изжелтевшая фотография деда, от которого остались две случайно переданные записки, — Эдинька, мы тебе как-нибудь расскажем, подрастешь, поймешь… Подрос — забыл, потом и рассказать стало некому… Калейдоскопчатая моя память — ни во что не складываются многоугольники иных времен.
Расплавилась моя стальная логика. Лужа от нее осталась с алкогольным запахом.
Главное и второстепенное. Кто Он? Что покупал у меня? В чем смысл топтанья под часами? Чем Он недоволен?
— Слушаю вас, Эдуард Петрович, — бесцветно говорил Он. — Итак, ваш единственный вопрос.
Это похоже на: ваше последнее слово, приговоренный…
— Кто вы? — громко спрашиваю я.
Он передергивает плечами и со вздохом говорит:
— Я человек, Эдуард Петрович. Вариант человека — не лучший, но все-таки… Может быть, ваш вариант. В прошлом или в будущем.
— Не понял…
Я и вправду ничегошеньки не уловил. Чушь какая-то, мистика доморощенная.
— Вы не только поняли, но и раньше это знали, — невозмутимо продолжает Он. — Не так-то просто сталкиваться с собственными идеями, покинувшими черепную коробку, однако приходится. Вам нужен был кошелек, валяющийся в подворотне, — вы его нашли. Каждый да обретет искомое.
Нет, братец архангел, этим от меня не отделаешься, думаю я. Надоела мне неопределенность, и будьте-ка любезны…
— В честь чего вы мне прогулки устраивали? — совсем уже невежливо спрашиваю я.
— А это, скорее всего, другой вопрос, — парирует он. — Мы ведь только об одном договаривались. К тому же для вас оно и неважно — вы и без того согласие дали, значит, удовлетворены были любым ответом.
— Как это неважно? — начинаю я нервничать. — Для меня очень важно…
— Если б так! — спокойно говорит он. — Но вас-то в первую очередь моя личность заинтересовала, а не странная работа. А эта личность сама по себе никакой роли в ваших конвертах не играет. Здесь вы играете роль и некоторые очевидные обстоятельства.
— Очевидные? — до предела удивляюсь я. — Для кого очевидные? Что-то вы темните, э-э… как вас по имени-отчеству?
— Ну, это уже третий вопрос, — усмехается он и так, словно проник в нечто недоступное нашему хилому воображению. — Я-то думал, вы о главном полюбопытствуете, даже уверен был. Да ладно, теперь позвольте мне вопрос задать — кто вы?
Ничего себе шпарит? Я его личностью интересуюсь — плохо, он моей хорошо. Приманил меня липовыми рублями, потом всего лишает и еще философские упражнения подсовывает…
— Вы же и так знаете, и раньше знали, — передразнил я его и продолжил с вроде бы убийственной иронией в голосе, — небось всю мою родословную перекопали…
Ирония убила его. Вглядываюсь — никого.
Вскочил, побежал на кухню — пусто.
Могу поклясться, только что здесь стоял человек в длиннополом макинтоше, с которым я должен был выяснить отношения. И не сумел — рецидив проклятой застенчивости и еще чего-то не ко времени подвернувшегося.
…Эдинька, мы тебе как-нибудь расскажем…
И вправду — кто я? Может, в этом вопросе вся суть? Может, это и есть преднамеренное убийство — спросить фотографию деда, не копалась ли она в твоей родословной. Что хуже — посмертно в концентрированную иронию благоустроенного внука или живьем в общую яму?
Ладно, пора кончать. Так и тронуться недолго. Пойду спать.
Да, чуть не забыл — дверь оказалась заперта, никто ко мне проникнуть не мог.
И все-таки, могу поклясться…
* * *
Огромный экран играет разноцветными бликами и чуть слышно музицирует. На лед приглашается очередная пара.
Кайф. Полуутонул в кресле — ноги на пуфике, полудрема, полуоформленные мысли мелькают в голове.
В сущности, все не так уж и плохо. Моему теремку ничто не угрожает. Зарплаты меня не лишат, даже повысят немного, повысят, поскольку уберут, я освобожу место для другого, ну и черт с ним, с другим, пусть рога себе ломает, к вершинам лезет… Пусть, если кажутся они ему столь уж сияющими.
Конечно, настоящих доходов теперь не предвидится, да и к чему они? Проживу и без конвертов, другие обходятся. В мой теремок и тащить уже нечего, вернее, некуда. Все есть, слава богу, даже стиральную машину зачем-то приволок.
С «Жигулями» вот не успел обернуться. Попытался, пошли всякие шу-шу не по рангу, откуда бы у него доходы… Плюнул. Да оно и к лучшему. Возни в сто раз больше, чем удовольствия. Это ж не персоналка. Валялся бы сейчас под днищем, разные дурацкие железки облизывал.
Все, что ни делается, заведомо к лучшему. Плоская мыслишка, но всем нам на плоскостях спокойней, равновесней что ли…
Вот и с Наташей ничего не вышло — не к лучшему ли? И чего это младшая Рокотова голову задурила? Со мной поигралась, а с Игорем сбежала. Куда сбежала? Зачем? От кого? Польстилась на нищего трубадура. Трубадура — э-ка дура… Вот и стишки пошли.
Пропадает девка, взрыднула госпожа генеральша. А ведь недолго рыдала, под меня стала клинья подбивать — не возьму ли я Раечку в жены. Трехкомнатный кооператив на мое имя — довольно откровенным намеком. Вроде платы за чужого ребенка. Меняю невесту со свежепотерянной невинностью на даму с дитятей и с большой квартирой… Возможны варианты.
А вариантов вроде бы и не видно. Ну на кой дьявол мне эта истеричная Раиса с ее вечно замызганным отпрыском?
Впрочем, если подумать хорошенько, — не очень-то и глупая идея. Райка вела бы себя тихо, как нашкодившая дворняга. Теща забирала бы любимого внука на целые месяцы. Тишь да блажь. Раиса расцветет в нормальной небогемной обстановке. Вещи она обожает… Хорошие вещи и хорошую жратву. Готовит они прилично — все мамашины рецепты назубок знает. И сама вполне, пожалуй, красивая. Во всяком случае, самая красивая среди сестриц Рокотовых. Наташа, право слово, замухрышка рядом с ней, а Танька, та, конечно, не замухрышка, но лишь потому, что одета по-королевски.
Похоже все к тому клонится…
Вот бедняга — упала. Столько пота на тренировках пролили, столько надежд на медали и такой обидный провал…
Похоже все к тому идет. Вскоре после бегства Наташи и Игоря остались мы с Раей наедине. По-моему, специально были оставлены наедине, и я понял, что она не прочь завести небольшой роман — пролог к новой семейной жизни. Как говорится, было место, было время и даже кое-какое настроение. Но дальше поцелуев и расстегнутого лифчика дело не пошло. Стало скучно и мне, и ей тоже. Не такой уж гениальный драматург Вероника Меркурьевна, чтобы фильм по ее сценарию обязательно хотелось досмотреть до конца.
Пока еще время есть подумать — может быть, все-таки… Да вот думать на столь душещипательные темы не очень-то хочется…
Ну, стараются, ну, стараются, — оборот, полтора оборота. Получат, скажем, свою бронзу или даже золото, ну и что? Счастье?
Черта лысого счастье! Завтра снова на тренировках семьдесят семь потов сгонять начнут. А вот такого абсолютного покоя, абсолютного нуля эмоциональной температуры им все равно не достичь. Так неужели именно они счастливы?
Предположим, добился бы я своего, достроил модель мира с нарушенной причинностью. Опять-таки, ну и что? Во-первых, маловато шансов на удачу, уже года три в никуда вогнал. Шеф недаром говорил, что в нашем деле нарушенной причинностью ничего не объяснишь, люди не поймут. Но даже плюя на все вероятности, пусть построил бы — что дальше? Шеф негодует — опять Ларцев от генеральной линии отклонился, не просто отклонился, не просто тихонькие школьные фантазии нашептывает, а едва ли не бунт учиняет. Это во-вторых. А в-третьих, главное — мне-то что? Удивленные восклицания? Научное бессмертие? Так первого сейчас ни от кого не дождешься, а второе вообще выдумка. Но что уж точно и непоправимо — покоя никогда потом не видать. Носись со своим детенышем, доказывай, что он не шизоид, что имеет право на жизнь, отвечай за все его грехи, реальные и мнимые. А потом еще стукнет в голову какому-нибудь корреспонденту сообщить юным читателям, что на основе формул некого Ларцева можно устроить почти настоящую машину времени и ликвидировать все прежние неурядицы. Засмеют на месте и без права обжалования. Но мало — засмеют, скажут — внутри сидел, хлеб ел, а какой скандал спровоцировал, даже дети теперь понимают, что в прошлом было много путей.
Впрочем, все это напрасные опасения, ничего бы не произошло, ибо до правильной модели, как до неба, до публикации еще дальше, и, похоже, до дурной популярности я просто не докатился бы. Шеф и на этот раз не ошибся все мои прожекты с причинными петлями еще надолго останутся прожектами. Противно, но он прав и вовремя меня убирает, иначе нажил бы я целый воз неприятностей, и не видать тогда приличной должности, как своих ушей. А, может быть, не так уж и противно, может быть, в глубине души мне и хотелось, чтоб он оказался прав, и в ссылку хотелось…
Ну, и черт с ним и с его непоколебимым учением. Так действительно спокойней.
Иногда свербанет, конечно, словно горячим сверлом в диафрагму. Не добежал ни до бронзы, ни, тем более, до золота, где-то на первых барьерах с дорожки сошел. Какая-то внутренняя стенка, что ли, — до нее галопом, а через нее — никак.
Человек и в потерях умеет найти радость. Вскарабкался на свою высоту, надоело пальцы обдирать — падай себе на здоровье, зажмурься и падай, вверх или вниз. Доход в виде изумительного ощущения полета тебе гарантирован.
Да чего уж тут мучаться, дурь источать? Есть как есть и по-другому не будет. Просто наша с Машенькой жизнь сказалась. Перенапряжение, отсутствие бытовых плюсов, то да се — все, и все можно объяснить, погладить себя по шерстке мягким удобным объяснением.
На том и стоять будем — вроде заслуженный отдых сироты. Сиротка разнесчастный двадцати осьми годиков, сиротинушка…
Но в одном я точно свинья, и оправданий нет. Памятник Машутке так и не поставил. Не до памятника было — вот сильнейшее мое оправдание. Оно и верно, Машенька порадовалась бы машине стиральной, цветному телеку — тоже, подписке Джека Лондона — тем более. Но всему этому вместе взятому неужели?
И под часы она меня ни за какие коврижки не пустила бы. Высмеяла, просто насмерть засмеяла, дурачком назвала и за стол усадила бы, за обшарпанный письменный стол, за которым я высидел не одну отличную идею, за которым героически пытался нарушить святой закон причинности, не страшась гнева собственного шефа и прочих богов. Были времена…
* * *
Пришел на площадь и ужаснулся. Часы исчезли. Старые добрые часы, которые провисели здесь на столбе ровно столько, сколько я себя помню.
Исчез и столб. Нет столба, и площади, по сути дела, тоже нет. Скамейки выкорчеваны, газетный киоск испарился. Все перерыто. Кругом гул стоит. Экскаватор по бывшему газону ползает, царапает земной шар.
Часов на площади нет, а мои электронно-кварцевые в роли полноправного наследника показывают совершенно произвольное время. Какой-то работяга руками на меня замахал и рявкнул: чего толчешься, дубина, жить надоело?
Может, и надоело, как знать?
Вытеснили меня с площади. Приплелся домой — в ящике конверт. Неужели я что-то заслужил, не простояв под несуществующими часами и пяти минут?
Конверт пуст.
Все.
Зачем я им был нужен?
Может быть, нужен был не я под часами, а моя комната без меня. Ее набивали всякой ерундой. Из нее изгнали Машеньку, а я столбиком торчал на площади и не мог заступиться. Исчезла Машенькина фотография. И та, выжелтевшая, тоже. Куда-то подевались мои бумаги.
Это Их работа.
Каждый вечер в 18–00 сюда проникал человек в длиннополом макинтоше из тех времен, вносил новую вещь, выбрасывал что-то старое, уничтожал мою память, растворяя ее в стерильности дальних и ближних углов.
Никогда еще комната не казалась мне такой тяжелой и неуклюжей. Сбежал на кухню варить кофе.
Желтые и оранжевые панели кухонного гарнитура режут глаз. Телевизор выбрасывает на пятнадцать кубометров образцового уюта какую-то образцовую цветастую шелуху.
Утонуть, немедленно утонуть в кресле с чашечкой сверхкрепкого кофе. К черту все окружающее.
Но вот беда — страшно открыть глаза. Вокруг не вещи, а осколки памятника, который я так и не поставил Машеньке. И опять же, откроешь — в трех шагах стоит Он, теперь уже трижды убиенный — временем, самодовольной иронией и свежим подозрением в краже памяти.
Время — главное измерение вещей. Причина, следствие, пространство, интегралы по траекториям — где все это?
«А ты практичный парень, Ларцев», — сказал Митрофанов, разглядывая мою новую замшевую куртку. Сказал с ехидчатым уважением. Его, Митрофанова, институтского дурака Божьей милостью, только что представили к защите. И куртка на нем получше, но он с искренней снисходительностью завидует Ларцеву, который сам, которому не папа из Парижа…
Но что было нужно Им? Не комната же.
Всемирная организация Валиков и сладкоглазеньких петушков?
Такие нашли бы и подешевле.
Нет, конверты имели особый смысл. Я кому-то или чему-то служил…
* * *
Резкий звонок. Вскакиваю. Так! Это наверняка за мной.
Конечно же, двое победительно-улыбчивых с красными удостоверениями.
— Пройдемте с нами, гражданин Ларцев. В чем дело? Надо было раньше выяснять, в чем дело. Знаете ли вы, гражданин Ларцев, что уже длительное время вы оказываете неоценимую помощь вражеской разведке, исправно служите ей чем-то вроде цветочного горшка на подоконнике и тем самым способствуете разглашению главной государственной тайны? И о счете в швейцарском банке тоже не знаете? И конвертов никогда в глаза не видели? А вот мы давным-давно за вами наблюдаем, и все знаем, сейчас поймете.
И вводят человека в макинтоше.
— Что вы скажете, полковник Шмольтке-Иванов-Джонс? Этот молодой человек утверждает, что он даже не догадывался о своей выдающейся роли.
И полковник Джонс начинает крутить пальцем около виска…
Открываю. Потапыч мнется у порога.
— Ты чего такой бледный? — спрашивает он.
— Ты не бойся, — говорит он, похихикивая и пытаясь заглянуть в комнату, — я на минутку. Будь другом, Эдик, разменяй сотню. Тут один чижик вещичку принес, а сдачи у него нет.
Механически липкими пальцами отсчитываю Потапычу червонцы.
— И чего ты все один да один? — по-свойски подмигивает Потапыч. — Я бы в твои годы и на твоем месте…
И он умильно смотрит на суперсофу ценой в восемь с половиной дежурств. Как будто оплевал.
А эта софа — вещь без памяти. Нам с Наташей было хорошо и на старом диване.
— До свидания, Яков Потапыч, — только и выдавливаю я.
Он уходит, по-прежнему похихикивая. А я прислоняюсь лбом к холодной поверхности зеркала.
* * *
Фантазии разыгрались. Какое до меня дело всяким разведкам? Плевать им на такой ненадежный цветочный горшок.
Все проще. Наверное, этот тип в макинтоше явился с тарелки, с обыкновенной летающей тарелки. Они проводят гигантский эксперимент, исследуют человеческую психологию, раскручивая ее во времени и в обстоятельствах. А, может быть, Они испугались моих работ. Их вполне устраивает существующая у нас причинность, а в моих гипотетических петлях содержалась, например, недвусмысленная угроза Их власти.
Они заглянули в мою черепную коробку и решили поставить простенький опыт. И выяснили — ах, бедняга Ларцев, как он исстрадался по хрустящим зелененьким бумажкам! И если уж у передового альтруиста Ларцева, который всю жизнь стеснялся пересчитать деньги, не отходя от кассы, который всегда был уверен, что попросить прибавку к зарплате стыдней, чем снять трусы посреди Старой площади, если для убежденного альтруиста Ларцева главнее главного оказались бумажки в конверте, то что говорить о других? Приятное мнение сложилось у пришельцев о нашей цивилизации. Они тяжело вздохнули, прислали Ларцеву пустой конверт, чтоб не надеялся, посмеялись над его недоношенными и теперь уж наверняка безопасными идеями и отбыли в такие глубины Космоса, где, возможно, сохранились порядочные гуманоиды, на худой конец, высокопринципиальные автоматы.
Да-с, такова моя гнусная роль в первом контакте землян и пришельцев.
А что там по телеку? Ага, премьера, шестая серия… В пятой герой лицедействовал на крупном совещании и, конечно, победил. Теперь пришла очередь возвращать жену, сбежавшую еще в третьей серии к товарищу, который не воспринимал совещания столь серьезно, грубо подхалимничал с начальством и ласково подкалывал женщин. В пятой серии его разоблачили и предложили ковать жизнь заново. Ну а с разоблаченным подхалимом даже на дальнюю стройку не поедешь, лучше вернуться к принципиальному герою — он не только простит, но и сам прощения попросит… Стоп. Все вычислено, можно не смотреть, проживу этот вечер без розового экрана.
Интересно, а что бы я делал, узнав, что возвращается Наташа. Вот сейчас прозвенел бы звонок. Я открываю — она! Не с раскаянием, не с вызовом во взгляде, а просто с вопросом.
Приготовил бы ванну, устроил ужин, и все. И был бы очень рад, может быть, счастлив.
Но она не приедет. Никогда не приедет. Зачем ей пустое место имени Эдуарда Петровича Ларцева?
* * *
Кто Они?
* * *
Качаюсь в густом тумане. Всплывают какие-то многоугольные фрагменты воспоминаний. Всплывают и, распадаясь вновь, растворяются в тумане. Вроде бы недавно это было. Или давно? И вообще, было ли? Вполз в мою жизнь фантастический сюжет, вполз и все изгадил.
Или не изгадил, а так и следовало. Откуда следовало? Очевидно, из меня самого, как из противоречивой системы аксиом.
И ошарашивающий кладбищенский эпизод тоже из меня следовал, как говорится, на роду был написан. До сих пор дрожь пробирает. Решился, подлец, третий раз после похорон к Машеньке заглянуть. Поклялся всеми страшными клятвами — прикину, что да как с памятником устроить.
Приехал, дохожу до места, а там — готовый памятник. Не то, чтоб особо роскошный, но вполне приличный. Небольшая гранитная плита, золотистый Машенькин контур, фамилия, даты… И почти свежие цветы!
Я заметался, чуть в обморок не грохнулся, а потом сбежал, позорно и без оглядки.
Три дня лихорадка колотила. Кто же посмел мою мерзкую личность жирной гранитной чертой подчеркивать? И окатила меня струя настоящей злости. На себя самого и, конечно, на Них. Ибо это Они и только Они могли выдумать. Купили меня на свои полтинники, так ведь не просто купили, но еще и оплевали. С ног до головы.
Переиграть с Ними прошлое… Встретиться и немедленно переиграть.
И я ступил на тропу следствия — кто, кто, кто?
Разведка — бред, летающие тарелки — тем более. Уж не обрушилось ли на меня какое-нибудь колдовство! Колдовство — скачок причинности, появление совершенно неожиданных связей. Древнейшая трижды выверенная магия манипулируя словами, вещами, конвертами, преобразовывать человека, вызывать интеллектуальную мутацию, ссылаясь на человеку же присущие темные внутренние силы. Но как может проникнуть все это в нашу правильную, логически выверенную жизнь?
Конечно, аз грешен семь — мечтал, чтоб немного денег привалило, хоть с неба, хоть из-под земли. Даже и не мечтал, а так, между делом, фантазиями прищелкивал, снабжал себя потихоньку дефицитными положительными эмоциями. Но ведь я ни на момент не усомнился, что чудес не бывает. Не бывает?
А здесь разве не чудо?
Никаких иных объяснений я не нашел. Искал, бился, пару ночей совсем не спал, но — ничего утешительного. Энергии, брошенной на детективные размышления, хватило бы на десяток сколь угодно сложных уравнений. Однако никаких особых открытий не последовало.
Просто сбылась мечта, решил я, та, которая на момент возобладала во мне и надо мной, стала главной, определяющей, что ли. Обратила все остальное, по сути несравненно более важное, в серый фон. Мечта сбылась, и остался один серый фон. Вот и все.
Более того, я пришел к выводу, что стоит только захотеть… Стоит только по-настоящему захотеть, и из нас обязательно выпрыгнет ожидаемое, непременно выпрыгнет, напитавшись силой нашего воображения, или проявится по-другому, но непременно рано или поздно проявится. Надо как-нибудь поподробней обдумать теорию — идея-то неплохая.
Вдруг и вправду любое желание можно материализовать? Пусть не любое, а хотя бы отдельные скромные как следует утвержденные желания. Допустим, у меня не слишком удачный эксперимент. Но я ведь и мечтал вслепую, ненаучно, никаких ограничений не соблюдал.
Если разработать настоящую теорию, при жизни получишь золотой памятник.
Ладно, потом обдумаю. А пока неохота. На кой мне памятник?
Не узнал я, кто Они. Ну и черт с Ними, пусть скрываются на здоровье тоже мне, игра в прятки…
Две ночи просидел — упражнялся в зажмуривании. Вдруг, думал, возникнет Он. Тогда все узнаю, наизнанку Его выверну, но все о себе узнаю, все свои варианты заставлю показать. Но без толку. Наверное, Он хотел, чтобы я дальше падал с открытыми глазами.
И ведь главное — никому не расскажешь. Засмеют, а не то и в сумасшедший дом загонят. Да и что рассказывать? Разве было что-нибудь особенное? В сущности, не помню я толком этих конвертов. А часов, под которыми я дежурил, давно уже нет, и Старой площади вроде бы нет, есть площадь имени кого-то, не помню кого, в общем, совсем другая площадь.
Деньги, конечно, были, такое не забывается. Но разве обязательно от Них? Возможно, я Потапычу, то есть его Витьке, давал уроки, и другим оболтусам тоже давал. Или с бригадой на коровники навалился. Хотя в этом году институтская бригада, кажется, распалась — то ли диссертациями увлеклись, то ли другой НИИ договоры перехватил. Точно не знаю.
А мужик в макинтоше — не из ЖЭКа ли приходил? Вполне возможно… Какая разница!
Дед, восставший из многих десятилетий небытия — вот гипотеза, устрашающая своей реалистичностью. Он бы и о внучке не забыл, и о внуке как-то по-своему позаботился. Но не мог же он остаться таким, как тогда. Впрочем, что я знаю об этом тогда? Что я знаю о том, какими мы остаемся и становимся? Не хватало еще загробных теней, принимающих родню на работу по совместительству…
Да и как бы я доказал, что деньги ко мне неестественным путем попали? Где факты? И денег тех давно уже нет, а есть обычные вещи с паспортами, с чеками, с фирменными знаками.
Итак, стоит ли самому себе голову забивать? Все, что есть, то есть, и никакой мистики. Ради чего доводить себя до головной боли и бессонницы? Теремок мой этим не улучшишь и не ухудшишь, а вот здоровье терять не следует.
Или приснилась вся эта история с мужиком в макинтоше? Я ведь с раннего детства необычайно впечатлителен. Умел когда-то сны по заказу вызывать. Представлю, скажем, белого слона и всю ночь на нем катаюсь. Или еще лучше воображу, что я царь в тридевятом царстве, и правлю вовсю, казню, милую, города осаждаю, народу благодеяния устраиваю. Только про конверты я тогда ничего не знал.
Есть, оказывается, вещи, которые не лезут в научную логику. Кто бы мог подумать! А ведь есть…
Пропади оно пропадом — мы, Они, разведчики, колдуны, пришельцы… Да здравствует тридевятое царство без конвертов!
Вовремя опомнился. Через пять минут — премьера «Знатоков». Эн-плюс-первая серия превосходно пойдет под холодное чешское пивко. Кого же там ловить станут?
* * *
Вот и все. И ничего не осталось. Даже загадок нет. Даже последнюю фантазию и ту потерял.
Где-то что-то размазано по будущему, словно матовые тени расплываются за стеклом. Окристаллизовалось далекое прошлое, превратилось в идеал, а неприкосновенную хрустальную конструкцию, и там остались растворенные в формулах ночи, стремительная Машенька, беспечный Наташкин смех, пряная воркотня Вероники Меркурьевны, непостижимая конвертная служба…
Жизнь, как говорится, вошла в правильную колею. Уже три года я женат на Раисе. Она — настоящее семейное сокровище, самобытное воплощение домашнего очага, беспредельной терпимости и любых иных добродетелей. Ничто, кроме абсолютного покоя и тихой возни с детьми, своим сыном и нашей дочкой, не доставляет ей удовольствия. Она деликатна в постели, приветлива в компании, виртуозна у плиты, но на все это ей, в общем-то, наплевать. И мне тоже. Поэтому у нас полная гармония. Семья без намека на трения, обладательница трехкомнатного кооператива, белой «Лады» и прочих признаков растущего благосостояния.
С полдевятого до полшестого служу. Занимаюсь чем-то этаким, в сущности, черт его знает чем. Но все же — сто девяносто плюс прогрессивка. Исполнителен, устойчив, пользуюсь уважением. Хороший стол заказов. В прошлом полугодии стал победителем. Борюсь за звание.
По вечерам, по субботам и воскресеньям, когда нет ничего телевпечатляющего, блаженствую в своем кабинете. По инерции Раечка считает меня ученым и не тревожит в лично мне выделенной большой и светлой комнате. Должно быть, это стандарт до конца жизни. Отличный стандарт.
Читаю, лежа на своей знаменитой суперсофе или утонув в кресле. Или просто думаю и бессмысленно пялюсь в дальний угол. Трудно сказать, о чем думаю. Мозг плавает в океане спокойствия, где нет-нет показываются островки явно вулканического происхождения. Но главный вулкан давно потух, и острова вполне безопасны, а главное — безжизненны.
Что-то было в эпоху до Них. Потом Они. Иногда хотелось бы вспомнить, да вот досада — дневник затерялся. Впрочем, не уверен, был ли он. Наверное, я просто размышлял о всяких событиях, активно размышлял, возможно, кое-что и записывал. У кого-то вычитал, что самую искреннюю книгу писатель создает только мысленно, а потом до конца своих дней считает ее как бы изданной. И только тот по-настоящему поймет писателя, кто эту мысленную книгу сумеет реконструировать. Или Игорь мне это говорил, или сам придумал? Все равно. Реконструировать мой внутренний мир вряд ли кому-то захочется.
Н-да, всплывают голые островки… И только какой-нибудь внезапный порыв ветра подымет над ними пыльный столб, и в колеблющейся спирали на миг сочетаются случайным контуром живые лица, а на самой верхушке блеснет застекленный генератор произвольного времени. Сочетаются лица, чтобы тут же распасться на атомы разбегающихся песчинок.
Но это уже обычный солнечный луч пробивается сквозь полусдвинутые шторы. И уютный Раечкин голос окончательно втягивает меня в параллелепипед реального закниженного пространства.
— Эдик, детки, — весело кричит Рая, — а у нас сегодня огромный пирог.
Пирог. Воскресенье. Покой. Сэ ля ви. И она идет, кто ее остановит?
* * *
Иногда по ночам слышится странный приглушенный скрип. Дверь? Рассыхающийся шкаф? Кровать под медленно засыпающей супругой? Может быть, и так. Но возможно, вполне возможно другое.
С тихим и почти мелодичным скрипом проворачивается колесо нашей судьбы. Смещается настоящее, мы вступаем в иной вариант самого себя. Но плотная повязка на глазах древней богини не позволяет ей выяснить, изменилось ли наше прошлое, изменится ли будущее. И не может она ответить на простой вопрос — кто мы, остались ли сами собой? Она бы рада сорвать надоевшую повязку, все увидеть и раскрыть, наконец-то, раскрыть секрет нашей удачи. Рада бы, но руки заняты — по штатному расписанию им положено поддерживать рог изобилия. А это самая любимая игрушка взрослых людей. Тяжелая игрушка.
Богиня смертельно устала от этой тяжести и от непрерывных переездов. Она стократно переработала пенсионный возраст. У нее нет своего угла, нет семьи — не успела. Ей надоело притворяться вечно юной. Ноет поясница. Но ее не отпускают — нет замены. И не известно, когда отпустят. Но одно она знает точно — даже выбросив проклятый рог, она не станет снимать повязку. Бесполезно. Длительное ношение повязки ослепляет даже богов. А пока ее руки заняты, создается хотя бы иллюзия зрячести.
Поэтому в любую достаточно чуткую ночь мы слышим, как с тихим и почти мелодичным скрипом проворачивается колесо нашей судьбы. Мы всего лишь однажды забываем смазать его вязкой умиротворенностью, и оно напоминает нам о существовании иных путей.
Невидимый мятеж неосуществленного захватывает наш отполированный внутренний мир, царапает и раскалывает идеально гладкие стенки. Надолго ли? На сколько выдержим — на мгновение или на годы.
Минск, 1980
Эту книгу — наиболее полное собрание повестей и рассказов Александра Потупа — можно воспринимать как особый мир-кристалл с фантастической, детективной, историко-философской, поэтической и футурологической огранкой. В этом мире свои законы сочетания простых человеческих чувств и самых сложных идей — как правило, при весьма необычных обстоятельствах.


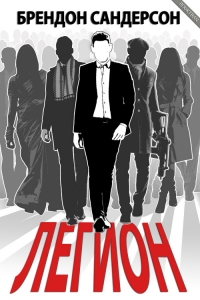
Комментарии к книге «Скрипящее колесо Фортуны», Александр Сергеевич Потупа
Всего 0 комментариев