Морис РЕНАР Туманный день
Надевайте плащ, Шантерен, — сказал мне мой друг Флери-Мор. — Становится свежо, а я хочу показать вам свои грибные плантации,
— А это далеко?
— В двух шагах. Там, наверху. — Геолог показал на вершину холма. — Видите эту шишку? Она заслуживает того, чтобы быть знаменитой. Из ее камня сложен Реймсский собор, во всяком случае частично. Гора буквально пронизана подземными галереями; это заброшенные каменоломни. Две из них я использую для разведения грибов; они открываются по другую сторону холма. Можете взять ружье, мне здесь дано право охоты. Идемте!
— Уже поздно… четвертый час…
— Мы успеем вернуться до наступления темноты. Ну, в путь!
Я взял свое ружье двенадцатого калибра и сумку, Честно говоря, я ничего не имел против экскурсии мне, давнему любителю природы, никогда не надоедает наблюдать сумерки.
Было 26 октября 1907 года.
Тропинка полого поднималась среди убранных виноградников и спаржевых плантаций. Крестьяне собирали опавшую листву и складывали в кучи, чтобы сжечь; повсюду мелькали огни, и в тихом воздухе стояли столбы дыма. Мы не спеша поднимались к полосе леса, окрашенного в цвета осени. Я часто поглядывал через плечо на открывавшуюся внизу лощину. Когда мы подошли к опушке, тропинка, — сделав крутой поворот, открыла всю лощину сразу — широкий, уходящий вдаль полукруг, прекрасную картину начала брюмера — месяца туманов. Несмотря на неприветливую, холодную погоду и тусклое небо, на дымку, слишком рано затянувшую болотистые дали, покров пожелтевшей листвы сверху казался освещенным солнцем. Поднимаясь все выше, мы прошли лес. Ни одно дуновение не шевельнуло ветвей. Иногда только внезапно осыпалось дерево, и тяжелый шорох листвы походил на шум дождя. Ощущалось непреодолимое замирание природы, предвестник зимы; осень подходила к концу…
Дорога спустилась в какую-то песчаную выемку, похожую на траншею. Но прежде чем двинуться дальше, мы поговорили о тумане, дымка которого, словно серая плесень, сгущаясь на глазах, уже затянула почти все внизу. Над Кормонвиллем нависло плоское облако; невидимые руки ткали из конца в конец долины паутинные покрывала, неподвижные и все более плотные, а на равнине возникали, неведомо откуда, все новые длинные дымные полосы. Не успели мы сделать и несколько шагов, как они уже затянули все вокруг до самого края обрыва, откуда вскоре должна была подняться ночь.
— Поторопимся, — сказал Флери-Мор. — Так недолго и простудиться.
Я спустился следом за ним в выемку.
Через минуту мне показалось, что все вокруг становится призрачным. Я провел рукой по глазам, но дымка не исчезала. Это был туман. Своей кисеей он уже окутал и нас.
— Вы не боитесь заблудиться в тумане? — спросил я.
Мы шли между стенами прослоенного рыхлой землей песчаника. Мой спутник взял горсть этой земли, растер между пальцами и показал мне. Я увидел множество известковых частиц, крохотных осколков аммонитов и других доисторических представителей морской фауны; некоторые из них благодаря своей миниатюрности сохранились в целости.
— Ну, что я вам говорил утром?
Я прекрасно помнил все, что услышал от него, и сейчас опять, словно бы со стороны, увидел, как наш автомобиль вырвался из Арленского леса. Это было так неожиданно, как если бы снова взошло солнце. Насколько хватал глаз, перед нами раскинулась равнина Шампани — белесая от меловых отложений, всхолмленная крупными красивыми складками; казалось, они движутся, будто волны. Разбросанные кое-где селения походили на скалистые островки. Сосновые рощицы темнели своими, как по шнурку протянутыми прямоугольниками. Вдали виднелась дорога, она была такой прямой, что ее можно было принять за причал.
«Мы делаем по семьдесят пять километров», — сказал тогда Флери-Мор. А мне хотелось услышать: «Мы делаем по сорок узлов», — настолько все вокруг внушало, иллюзию моря.
«Конечно! — воскликнул Флери-Мор, когда я сказал ему об этом. — Шампань похожа на океан, как дочь на отца. Все говорит о ее бывшей принадлежности Нептуну, о том, что па ее месте в древности было море. И смотрите: вон те холмы стали первой сушей — это произошло в эпоху эоцена, когда море постепенно отступило…»
Вот о чем я вспомнил сейчас.
— Все это очень хорошо, друг мой, — сказал я… Но этот туман! Вы не боитесь заблудиться, если он станет гуще?
— Ничуть! Я знаю эти места как свои пять пальцев. Я дошел бы до плантаций с закрытыми глазами! Впрочем, туманы у нас никогда не бывают густыми. Если хотите, мы ускорим шаг и быстро выйдем из него.
Действительно, миновав выемку, дорога сделалась круче, и дымка вокруг нас стала прозрачнее. Я воспользовался этим, чтобы осмотреться, и увидел, что внизу, под нами, туман стал еще гуще и уже совсем скрыл Кормонвилль. Клубы тумана заполняли всю долину.
Наконец мы поднялись на усеянную щебнем горную террасу, поросшую можжевельником. Это место показалось мне очень печальным, было даже как-то неловко находиться здесь не в трауре и отчаянии. Уединение, тишина и неподвижность всего вокруг дополняли впечатление. Местность, овеянная какой-то тайной меланхолией, напоминала готовый растаять пейзаж, написанный пастелью.
Флери шел не останавливаясь. Наши башмаки топтали жесткую, режущую траву.
— Черт! Это все-таки странно! — воскликнул мой проводник.
Глядя отсюда, можно было подумать, что Шампань превратилась в огромную снежную равнину. Все исчезло, поглощенное арктическим покровом, который отсвечивал под тусклым солнцем. И самым удивительным здесь было острое чувство одиночества. У меня было ощущение, что этот пушистый всемирный потоп пощадил только нас на нашей вершине. Полную иллюзию нарушали лишь голоса дровосеков, странно звучавшие где-то ниже этого непроницаемого для глаза слоя.
— Здесь и устроил я свои грибницы.
Флери свернул с дороги на тропинку. Слева от нас, на круто поднимающемся откосе, теперь тянулась сосновая посадка; справа — спускался, теряясь в тумане, крутой склон, поросший терновником и ломоносом с засохшими, похожими на пауков цветами.
Склонившееся уже солнце, которое еще совсем недавно ярко сияло, было теперь бледным диском, затуманенным испарениями, — двойником луны. Вдалеке уже ничего не было видно. Возле кустов фестонами клубился туман, готовый затопить и нашу тропинку.
И вдруг солнце погасло, словно китайский фонарик, в котором задули свечу. Нас окружила белесая тьма. Только кусты орешника расплывчатыми пятнами то появлялись, то исчезали вновь. Леденящий белесый мрак все сгущался.
Не внимая моим советам, любитель грибов упрямо двигался к своим плантациям. Я видел перед собой лишь его смутную тень. Теперь мы с трудом различали. только тропинку под ногами. Тяжелый влажный воздух распирал мне легкие, зубы у меня стучали, брови и борода намокли, одежда покрылась росой. Мне казалось, я превращаюсь в пропитанную талым снегом губку.
А туман все густел. Он был так плотен, что в нем не задохнулась бы и рыба. Положительно, воздух превращался в воду!
Я попытался выразить свою тревогу шуткой:
— Не придется ли нам плыть, друг мой, как в те незапамятные времена, когда над этими холмами шумел океан?
Голос звучал как сквозь кляп. Флери-Мор меня не услышал или притворился, что не слышит. Но безмолвный призрак, шедший впереди меня, вдруг замедлил свои беззвучные шаги. До этого момента я мог видеть вытоптанную почву, по которой ступали мои блестящие от росы башмаки, теперь и она исчезла. Флери-Мор остановился. Я взглянул на его ноги — их не было видно. Снизу поднимался какой-то второй туман. Он доходил нам уже до колен. Холодный как лед, он пронизывал нас насквозь.
Флери-Мор наклонился ко мне.
— Лучше подождем, пока это пройдет, — сказал он самым естественным тоном. — Право, так можно и заблудиться! Но это не продержится долго. Очень интересный случай, прямо-таки редчайший!
Туман тут же поглощал клубы пара, которые вырывались у него изо рта.
— Любопытно, что будет с нами дальше? — с трудом произнес я. — У меня в ногах адские боли… и они поднимаются все выше…
— А что, по-вашему, может с нами случиться? фыркнула грязно-серая тень. Я схватил Флери-Мора за руку, и мы стали следить за своим исчезновением. Сначала мы превратились в тени бюстов, потом в тени голов, а потом растворились совсем. И пока мы следили за исчезновением своих тел, сами эти тела испытывали ужасную муку, ибо погружались постепенно в какую-то давящую, леденящую сердце среду. Я не видел даже своих пальцев, поднесенных к самым глазам. Я словно ослеп… И тут нервы мои напряглись до предела. Я понял, что происходит что-то небывалое!
Геолог приблизил губы к моему уху. Он говорил громко и спокойно:
— Удивительно, знаете ли, что такой насыщенный туман не разрешается дождем… куда там, снегом, градом!.. И еще меня удивляет, что при таком страшном холоде пропитавшая нас влага, не замерзает…
Я лизнул свои мокрые усы и убедился, что этот туман не только холодный, но и соленый.
— Ну, скажите, слыхали вы когда-нибудь о подобном приключении? Это словно слезы самой смерти… Только не отходите от меня!
— Нет, я не двигаюсь… Мы сделаем доклад. Определение: полный мрак, но белесый, тускло-белого цвета… Смотрите, кажется, светлеет!
— Да, начинает светлеть.
И в самом деле неосязаемая вата, окутавшая нас, окрасилась намеком на зарю. Слабый свет, трепеща, уже расползался в ней, по прозрачность еще не возвращалась.
Я увидел прежде всего тень Флери-Мора, который постепенно материализовался. Мой коллега удивлялся:
— О черт! Где?.. Что такое?.. И все-таки я уверен, что остановился на тропинке…
— Ну? — встревоженно спросил я.
— И что это за красный песок у меня под ногами?
— Мы, вероятно, сбились с дороги.
— Сбились с дороги? Где? Каким образом? Откуда здесь этот красный песок? С каких пор?
— Может быть, что действие соленого тумана… Флери наклонился, разглядывая красный песок.
— Вот и ветер поднимается, — заметил я, Он быстро выпрямился.
— Что вы говорите?
— Я сказал, что ветер поднимается. Разве вы не слышите его шум в сосняке?
— А разве вы не видите, что туман неподвижен и, влачит, ветра нет и не может быть?
— Но вы вслушайтесь.
— Да, но этот шум… шум ветра… он идет справа…
— Ну, так что же?
— Справа сосен нет! Это не шум ветра,
— А что же тогда?
— Сейчас мы узнаем. Этот проклятый туман рассеивается.
Освещенность усиливалась с какими-то утомительными колебаниями. Становилось теплее. Проступили неясные предметы: камни, пучки травы. Присмотревшись к ним, геолог вскричал:
— Смотрите!
Но тут откуда-то из непроницаемой глубины раздался резкий вопль — хриплый, свирепый трубный клич, напоминавший мне зверинцы, цирки, зоопарки…
Бледнея, мы смотрели друг на друга расширенными от ужаса глазами, осененные одной и той же невероятной догадкой.
Испуг не помешал Флери упрямо прошептать:
— Вы ботаник — рассмотрите-ка получше эти травы! Но, охваченный инстинктом самосохранения, я сдерживал лишь судорожный порыв к бегству. Мне захотелось умчаться отсюда, бежать, бежать без оглядки. Флери удержал меня.
— Стойте на месте, ради всего святого стойте! Я не знаю точно, где мы находимся… Обрыв должен быть где-то здесь, совсем близко. Вы можете упасть. И потом, — прибавил он повелительно, — вспомните, кто вы, черт возьми! Подумайте о своем звании. Мы должны благословлять то, что с нами происходит. Мы обязаны достойно провести наблюдения! И сказать только, что все это кончится лишь докладом в той или иной секции института!
Эта нотация вернула мне хладнокровие.
— Согласен, — сказал я. — Но согласитесь и вы, что можно же потерять рассудок, увидев посреди Шампани тропические травы и услышав…
— Погодите! — прервал он, протянув руку в направлении предполагаемого обрыва. — Вот что вы считаете ветром!
— Оно усиливается… Это не ветер!
— Я вам не подсказывал.
— Это шум реки… или потока… большой реки…
— Внимание! Вот что-то новое, Шантерен! Дрожащий свет все усиливался. Стала различимой суживающаяся кверху качающаяся колонна, за нею еще и еще… Однако предметы не выходили из туманной дымки, а проступали карандашными набросками. Казалось, они созданы из тумана. И самый шум реки представлялся звуком, присущим туману, как присущей ему представлялась и теплая свежесть со смолистым запахом.
— Ах, Шантерен! Дерево! Там!
— Боже мои!..
Вершина колонны проступила из небытия. Это был пучок листьев. Перед нами выросла пальма. Мы видели ее в неверном, трепещущем свете, как в колеблющемся мареве. За нею возникала целая пальмовая роща, колеблемая теми же волнами.
Так пляшут отражения в воде у берега. Все, что мы видели вокруг себя, трепетало и переливалось. К тому же происходило — постоянное чередование света и тени. Я заметил, что и смолистый запах усиливается волнами, как толчками, подчинявшимися фантастическому всеобщему ритму; возрастает теплота. Все эти ритмы совпадали.
Однако по мере того как становилось светлее, они сглаживались. Местность проступала, как изображение на экране, когда его наводят на фокус при колеблющемся освещении. Любителям фотографии легче понять сравнение с изображением, появляющимся на бумаге, покачиваемой в ванночке с проявителем. С каждой секундой невероятный пейзаж становился яснее, прочнее, глубже. Круг — вернее, цилиндр — видимости достигал уже шагов двадцать в радиусе, когда Флери-Мор сделал вывод:
— Это мираж, как в пустыне. Только мираж особенный, он охватывает нас; дает не просто иллюзию оазиса над озером вдали, а иллюзию того, что мы находимся где-то в Африке или еще где-нибудь.
— Да, — поддержал я друга, — действительно, особенность его в том, что он нас окружает. К тому же он воздействует не только на зрение, но и на слух и обоняние.
— Превосходно! Это мираж, при котором мы видим, слышим и обоняем то, что находится очень далеко. от нас. В пространстве есть какая-то — хотя бы односторонняя- зрительная, слуховая и обонятельная связь между тем местом, где-мы находимся в действительности, и тем, которое проецируется на туман вокруг нас. Я знал, что красный песок… Посмотрим, Египет, не. правда ли? Нет…
— Нет, — повторил я, изумленный и взволнованный, — южнее… Я думаю… Мне кажется… Это все экваториальные растения… Но вот нопалы… баобаб… И все-таки…
— Что такое?
— Боже мой! Флери, это… этот веер на пальме, словно павлиний хвост… вон там, просвечивает в тумане… Вы узнаете его?
— О, это невозможно! Дихо… дихотом Капской области… или Мадагаскара…
Да, Флабеллярия Ламанонис! Из Капской области, с Мадагаскара — или из третичного периода!
— Третичного? Что вы говорите?!
— Присмотритесь! Взгляните на эти древовидные папоротники рядом с нею!
— Это осмондии… Цейлонские осмондии…
— Нет-нет! Это вымерший вид!
— Вы уверены?.. Ах, ну конечно! Смотрите, смотрите, это пальма… зонтичная пальма!.. А что еще? Олеандры… камфарные деревья… мирты… береза!
— Виноградные лозы! Плющ! Орешник!
— Да, покрытосеменные.
Тут шум воды усилился до такой степени, что мы круто повернулись в его сторону. Там был туман, и красный песок спускался туда отлогим склоном. Шум в а завесой утих. Брызнула пенистая волна и грациозно рассыпалась шуршащим кружевом. За нею последовала другая, шумная, как водопад. Песок увлажнился, зашипела пена, полетели брызги…
— Море! — пробормотал я. — Море, которое было здесь миллионы лет назад!
У края прибоя чернели два утеса.
— Значит, это мираж не только в пространстве, заявил в полном восторге Флери-Мор. — Это еще мираж и во времени!
— Это мираж только во времени, — возразил я. Место, где мы себя видим, — это и есть то, где мы находимся в действительности. Все дело в том, что мы сдвинулись во времени, а не в пространстве. Смотрите сами!
Туман продолжал рассеиваться. Однако все еще нависал над нами, словно облачный потолок. Вокруг ее пейзаж был виден совершенно ясно. Во всяком случае достаточно, чтобы узнать очертания Кормонвилльского холма, его выступов и долины, с излучиной которой совпадало это древнее взморье. Сомнений не Рыло: анахронический каприз природы позволял нам увидеть Марпу в ее доисторические времена. Эти дубы и клены были первыми дубами и клопами Европы; эта виноградная лоза — первым виноградом Шампани…
В этот момент тучи над нашими головами разорвал леденящий кровь крик. Мы подняли головы, но увидели только исчезающую тень, огромную и крылатую. Я не мог понять, почему этот крик так потряс меня, но знал, что никогда не забуду его. На Флери-Море лица не было. Нас обоих била дрожь. И тут мы снова услышали из тумана тот трубный клич, что недавно так встревожил нас. Он повторился несколько раз с разных сторон.
— Хоботное, не правда ли? — прошептал Флери-Мор.
— Несомненно.
— Черт! А затрагивает ли этот мираж и осязание?
Он наклонился и сорвал несколько стебельков альфы.
— Гм! — проворчал он.
— Что такое?
— Смотрите сами.
В результате я счел необходимым зарядить ружье двумя пулевыми патронами. При виде этого Флери-Мор сказал:
— Это безумие! Или мы видим сон? То, что вы сейчас сделали, — нелепость! Все это нам снится видения, вызванные туманом! Может быть, он ядовит, и мы бредим…
— Сновидений вдвоем не бывает, а такие люди, как мы с вами, не могли бы галлюцинировать одинаково и в одно и то же время. Нет, нет, Флери, такого фокуса не мог бы проделать ни один фокусник, значит, это мираж нового типа — целостный мираж во времени. Мы видим, слышим, обоняем, осязаем и чувствуем на вкус картину прошлого, как иногда в пустыне видим - и только видим! — картину того, что находится за пределами видимости.
Теперь нас угнетала тепличная жара. От нашей промокшей одежды валил обильный пар. Я снял плащ.
И море — было. И небо — было. Блестящее море под темно-синим небом. В туманном ореоле поднималось большое розоватое солнце. Значит, было утро, и все же…
Я взглянул на свой компас-брелок.
— Посмотрите на солнце, Флери, как странно оно расположено…
Мой спутник не мог удержаться от улыбки.
— Вы забываете, — сказал он, — что с момента своего рождения Земля не переставала подниматься по эклиптике.
Он вынул часы и продолжил:
— Фактически сейчас четыре двадцать. Но судя по солнцу миража, сейчас около десяти утра. И еще здесь сейчас весна.
Я признался, что такое множество аномалий лишило меня большей части моих способностей, и поздравил геолога с проявлением отваги. Он возразил, что чувствует только досаду, так как не захватил ни записной книжки, ни карандаша, ни фотоаппарата.
Мы беседовали, но не отрывались от магического видения, воспроизводившего детство Земли. Свободная от туманов зона расширялась. Но перспектива все еще уходила в вибрирующий трепет, похожий на тот, что можно наблюдать при сильном зное. Это заставило нас подумать о живых существах. Мне хотелось, чтобы предметы вдали задвигались; я полагал, что в случае опасности мы сможем укрыться в утесах на берегу. Но тут я заметил в море усаженный зубцами спинной плавник; он вынырнул, потом погрузился снова.
Мы слушали море, не отрываясь. Его запах в сочетании со смолистым ароматом бодрил нашу кровь. И вскоре мы поняли, откуда исходит этот аромат. Пальмовая роща вперемежку с другими деревьями занимала низменность у красного пляжа; но дальше вглубь шел высокий откос, заросший сосняком. В просветах между пальмами виднелся его мергельно-глинистый срез, в котором темнело отверстие пещеры.
Понятно, что растения интересовали меня больше всего остального. Они были удивительных размеров. Одни украшали плотные, мускулистые венчики ярко-фиолетового цвета с золотистыми пестиками. Другие, неизвестные мне, из семейства магнолиевых, щеголяли в восхитительных двухцветных листьях, которые были прекраснее цветов. У подножия стволов царила свирепая, многоликая теснота фантастической теплицы, неразделимая путаница, где изгибались колючие щупальца алоэ, где вздутые ракетки кактусов потрясали пучками щетины или волосяными султанами, где смешные и страшные травы состояли словно из толстых, сросшихся концами гусениц. Это было летаргическое месиво искривленных лап, нагромождение гладких, голых или темных шерстистых торсов, над которыми сгибались огромные мохнатые посохи древовидных папоротников. Жизнь нападающая и жизнь защищающаяся демонстрировали свое изобилие стручков, сложное переплетение побегов, рога и когти своих параличных чудовищ, колючих и зубчатых, словно юрские драконы, или выкидывающих колосья из карибских кинжалов. Все это шевелилось, не трогаясь с места. Неправдоподобный зимний сад, где эвкалипт, евфорбия, мирты и вымершие дриофиллы, долиостробы, кампистры, лепидодендроны перемежались с ольхой и осиной, с буками и каштанами! В полумраке подлеска маячили голубоватые пирамиды, полупапоротники-полулиственницы, не то травы, не то деревья.
По нашим лицам струился пот. Воздух оставался мутным; к темной синеве неба примешивался неуловимый черный оттенок; и я заметил, что, вероятно, атмосфера не очистится более и что именно такой она была в ту жаркую влажную эпоху. Луна, заканчивавшая свой срок, рисовалась в виде тонкого, прозрачного серпа. Несмотря на сияющий дневной час, в зените стаяла большая круглая звезда. Мы заметили ее оба сразу… Ах, нам не нужно было обмениваться впечатлениями! Невыразимая нежность переполнила паши сердца, мы готовы были разрыдаться, увидев эту звезду, этот второй, безвозвратно исчезнувший спутник нашей планеты — вторую, меньшую Луну нашей Земли!
Мы не могли оторвать глаз от зенита. Когда же мы отвели взгляд, чудо завершилось. Последний клочок тумана растаял вдали. Море, кудрявое от волн, простиралось далеко к востоку, и закругленный берег теперь вставал из него, как только что вставал из тумана. Это была бухта между двумя мысами; мы находились на одном из них, а другой виднелся впереди. Длинная красноватая коса поросла мастиковыми деревьями и секвойями; ближе к суше их становилось больше, так что задний план сливался в сплошную зеленую полосу, которая к концу нашего мыса снова редела. Посреди подковы выше леса выступал голый гребень обрыва, красневший на фоне лиловатой синевы.
Оттуда, тяжело ступая, один за другим двигались четыре слона, таких громадных, что, для того чтобы определить разделявшее нас расстояние — свыше восьмисот метров, — мне понадобилось представить реальные пропорции этой местности. Как бы то ни было, мы, пе сговариваясь, очутились под прикрытием утесов и даже не успели понять, что делаем.
— Будем наблюдать, — сказал геолог.
— Будем наблюдать, — согласился я.
Титанические животные шли гуськом. Отчетливо были видны лишь их силуэты. Даже бивни трудно было рассмотреть; близорукий Флери-Мор насчитал их по четыре у каждого слона, мне казалось, что их по два и они изогнутые. Он считал, что животные мохнаты, я — что они голые. Словом, не в силах сделать выбор между слонами Меридноналис, Аптиквус или Примигениус, мы не могли решить, в какой из периодов кайнозойской эры мы перенесены. Не эоцен; еще менее — плиоцен: об этом говорят море и растительность. Но олигоцен ли это или миоцен? Однако ваш спор решил еще один эпизод.
Головной слон дает сигнал остановиться. Он широко раскидывает свои гигантские уши, словно его череп хочет улететь, издает хаотические трубные звуки и галопом удирает за холм. Следом за ним и его товарищи выполнили то же неуклюжее «налево кругом» и исчезли, глухо сотрясая Землю. И вот на севере появляется какая-то темная гора, которая движется по лесу, превосходя самые высокие деревья. Это исполинский тапир, толстокожее животное с коротким хоботом и загнутыми вниз бивнями, он идет среди гигантских деревьев, как обыкновенный тапир среди травы.
— Динотерий! — прошептал я совсем тихо.
— Да, динотерий: это миоцен!
Флери-Мор произнес слово «миоцен» с непередаваемым выражением. Я смотрел на него; я знал, что он ощущает безграничную гордость, сумев вот так, мгновенно, определить точку во времени за мириады веков от нас.
Что до меня, то динотерий меня ошеломил. Похожий на сухопутного кита, он был «не по масштабу» со своим окружением. Он казался не на своем месте: од был создан для гораздо более обширных декораций или для колоссального океана. Чувствовалось, что на Земле он больше не дома, и ему остается только уйти.
Нам повезло — мы могли вволю насмотреться на него. Подняв обрубок своего хобота в сторону, куда скрылись слоны, он, казалось, поколебался, а потом, повернувшись на пол-оборота, словно ураган, пронесся на самый конец северного мыса. Там он тяжело опустился на землю и принялся рыться в песке.
Еще через несколько секунд мы увидели над морем. стаю больших птиц или громадных летучих мышей, которые неслись от берега, по временам снижаясь к воде и даже задевая ее, чтобы схватить рыбу. Мы сосчитали: их было двенадцать, летели они удивительно легко и красиво. И вдруг, испустив тот самый сверхъестественный вопль, который так испугал нас, они, словно крылатые стрелы, кинулись на динотерия.
Исполин вскочил. Большие птицы напали на него со всех сторон, как крикливый вихрь. Стая носилась вокруг, неотвязно и злобно. Потом один за другим нападающие опустились ему на спину, сбившись в копошащийся, похожий на гидру клубок. Животное заметалось — четвероногий замок, опрокинутый четырехбашенный собор, повернулся и с ревом умчался в оглушительной буре. Его протесты были похожи на ярость взбесившегося парохода, а мучители, снова взвившись в воздух, гиканьем провожали беглеца. Мы долго следили за ними, заслонив глаза от солнца.
— Я отдал бы пять лет жизни за бинокль, — сказал мой спутник. — Трудно рассмотреть… Ах, если бы только я знал! Чего бы я не захватил с собой, Шантерен! А у меня только часы!.. Что это за летучие твари? Вот грязные скоты! А голоса у них!..
— Конечно! Но я не знаю… Птеродактили?
— Нет. И все же… О нет, нет! Крылатых ящеров в эту пору уже не было, ручаюсь головой… У, противные твари! — повторил он, вытирая потное лицо. Какой гадкий крик! Я не помню ничего отвратительнее… не считая одного впечатления детства…
— Какого же?
— О, пустяки. Я имею в виду первую увиденную мной обезьяну. Эта пародия… Так вот, крик этой птицы…
— Вы правы, — сказал я, пораженный верностью итого сравнения. — Но лучше говорить потише. Мы не внаем, что скрывается вокруг.
Синяя тень рощи сохраняла свою таинственную враждебность. Листва деревьев вздрагивала, колеблемая невидимыми птицами. В сквозной тени висели судорожные рои мух. Чаща явно пробуждалась, встревоженная чьими-то тайными передвижениями. Стебли трав пригибались и замирали с пугающей внезапностью, заставляя думать, что нас увидело какое-то животное или чудовище.
— Нужно обогнуть эту скалу, — предложил я, чтобы она была между нами и сушей. Океан кажется более безопасным.
— Давайте обогнем, — согласился Флери-Мор. Но я все время ожидаю, что этот мираж вот-вот исчезнет. Наблюдайте, старайтесь ничего не пропустить.
Мы обошли скалу. Оказалось, море лизало здесь подошву утеса.
— Тут нам будет, не очень удобно, — заметил я.
— Все равно лучше остаться, — ответил Флери-Мор, стоя одной ногой в воде. — Главное — не делать лишних движений, чтобы не выдать своего присутствия. Впрочем, передвигаться в мираже вообще опасно, так как мнимая местность маскирует ловушки действительной. Не забывайте этого, Шантерен, и, что бы ни случилось, не бегите. Местность, которую мы видим, попросту наложена на ту, где мы находимся, В видимой пустоте этой допотопной поляны вы можете налететь на плотный ствол теперешнего дерева. Это, кажется, единственная угрожающая нам опасность, Потому что… Ну да! — вскричал он, хлопнув себя по лбу. — Каким бы полным мираж не был, он всегда мнимый! Это отражение, иллюзия! Следовательно, друг мой, — боже, как мы были наивны! — следовательно, изображение слонов, издохших несколько сот тысяч лет назад, не могло бы причинить нам никакого вреда. Оно остается в своем времени, как мы остаемся в своем.
Его уверенность передалась и мне.
— И потом, — сказал я, — вот что хорошо: существа прошлого, которых мы видим, не могут видеть нас, потому что мираж не может быть двусторонним. Африканские миражи никогда не бывают двусторонними.
— Разумеется, — подтвердил геолог. — Можно получить от прошлого непосредственное впечатление: небосвод со своими более или менее удаленными звездами дает нам каждую ночь столько изображений прошлого, сколько имеется на нем звезд. Но непосредственного впечатления будущего получить нельзя. Значит, если бы мы, скажем, вскочили и закричали, динотерий ничего не увидел бы и не услышал.
Мы вышли из-за своего скалистого укрытия, вернув себе всю свою беспечность. Наши башмаки оставляли на влажном песке отпечатки. Современные башмаки… доисторический песок…
Флери-Мор некоторое время, скрестив руки на груди, смотрел на волны, потом заговорил:
— Вы не знаете, какое волнение испытываю я перед лицом этого юного моря, этого моря первых времен мира, еще близких к той первобытной эпохе, когда вся Земля была единым мором!.. Отсюда вышла вся жизнь. Все, что Дышит и движется, вышло из недр этого океана, который и сам словно дышит и движется, как несчетное множество живых существ… Вот первоначальное море, и вот оно близ своего первого начала! Вот колыбель всего живого, праматерь человека, где уже есть вкус слез и крови и звук рыданий!
Нам выпало несказанное счастье видеть это море в дни его юности. В этот возродившийся для пас час оно едва только окончило свое великое дело. Оно выслало на еще узкие материки все создания, порожденные его лоном. Эпоха ящеров давно миновала. Они изменились, превратились в птиц и млекопитающих. Гигантские драконы не вернутся больше. Теперь должен появиться некто другой. Теперь в недрах обезьяньего племени смутно зарождается человек, и в мозгу какого-нибудь шимпанзе начинает свой путь Вергилий…
Наступило недолгое молчание, заполненное шумом прибоя.
Я осмелился заговорить:
— Ну, уж если путешествовать во времени, то я предпочел бы зайти дальше, в эру, предшествующую этой. Прекрасное зрелище — динозавры, Флери-Мор! Быть может, самое удивительное на всей Земле во все ее времена!
— Ну! — возразил Флери-Мор. — Все ваши диплодоки, мегатерии и прочие игуанодоны были морским населением. Они жили в воде почти всегда, а не так, как нам показывают книги и музеи. Не жалуйтесь: разве динотерий, которого мы видели, не кажется запоздалым осколком гигантской фауны?
— Это не ящер, — сказал я с сожалением.
— А я, — продолжал он, все время переводя взгляд с моря на пальмовую рощу и с берега на сосняк, если бы я мог выбирать, я бы остановился на менее отдаленной эпохе, на том геологическом времени, когда в животном окончательно проявился наконец человек. Ах, увидать первых людей! Адама и Еву неоспоримой геологической книги бытия!..
— Вот и птицы возвратились, — заметил я. — Они ловят рыбу вдали. Оперение у них кажется белым, пли же так оно выглядит издалека на солнце… Это огромные чайки.
— Мне бы так хотелось узнать, что это за птицы, пробормотал Флери-Мор. — Но не будем терять драгоценного времени и постараемся разглядеть по крайней мере то, что есть поблизости. Вон там я вижу чудовищные груши. Попробуем подойти к лесу.
Геолог сделал несколько шагов, нащупывая почву ногой и вытянув руки, словно вдруг ослеп: боялся реальных препятствий, скрытых миражем.
— Ого! — вскрикнул он, резко остановившись, повернулся ко мне и, прикрывая рот рукой, прошептал нерешительно и восхищенно: — Пещера! Смотрите…
Я молча сделал ему знак вернуться и вдруг ощутил несказанное отчаяние от мысли, что мы, быть может, навсегда останемся на этой Земле, где еще нет человека. Во мраке пещеры зажглись огоньки. Это были маленькие яркие точки, расположенные попарно, красно-зеленые и зелено-красные, бесспорно знакомые, глаза!
— Я иду туда! — заявил Флери-Мор.
— Нет! — И я кинулся к нему.
— А вдруг мираж рассеется? — убеждал он меня. Потом вы будете вечно раскаиваться, что упустили такую возможность. Воспользуемся ею, друг мой! Воспользуемся этим благодетельным миражем!
— Но разве вы не видите, что эти глаза смотрят на вас?
— Вы с ума сошли! Смотрят в будущее?! Но я держал его крепко, ибо и сам был под властью неудержимого любопытства. Он должен был уступить мне и ограничиться наблюдением на расстоянии.
Глаза сверкали, как парные звезды, иногда мигали, закрываясь пугающими в своей незримости веками. Моя фантазия пририсовывала к ним целое семейство наводящих ужас медведей ростом с бегемота.
— Обратите внимание, — прошептал я.
— На что?
— Видите луч солнца?..
— Какой луч?
— Тот, что проникает в пещеру, — вот эта косая полоса света..
— Ну?
— Так вот, пара глаз, ближайшая ко входу… Не находится ли она выше полосы света?
— Да, действительно.
Значит, если бы это были глаза животного, стоящего на земле, мы бы увидели его в луче…
— Браво! По всей видимости, эти глаза принадлежат животному, свисающему со свода… Если только оно не парит прямо в воздухе…
Между тем парные звезды в глубине пещеры все умножались и умножались.
Мы стояли очень открыто, и я не мог не следить за всем, что происходило вокруг. Пальмовая роща, разделенная надвое полосой красного песка, бросала тень своих стволов справа и слева от пещеры. Я не мог сдержать дрожи ужаса: эта тень тоже была усеяна красно-золотыми огоньками! На каждой из исполинских груш блестело по паре огоньков. Их было сотни. И лес, как Аргус, смотрел на нас всеми своими неподвижными зрачками.
Мысль о том, что грушевые деревья не растения, проползла у меня в мозгу, как мохнатый паук.
Но Флери-Мор рассудил разумно.
— Ваши груши, — сказал он, — это попросту летучие мыши; это вампиры-гиганты, свисающие, как обычно, вниз головой и с ветвей, и с потолка пещеры. Но они должны быть дневными, потому что ваши так называемые чайки — это тоже вампиры, за это я ручаюсь. Те, что окружают вас, вероятно, спят.
— Просыпаются, вы хотите сказать!
Я предпочел бы не поправлять его. Мне до тошноты отвратительна даже обыкновенная летучая мышь; судите же, что я мог испытывать в окружении этого сонма вампиров, чудовищных в своих размерах. Я видел только их, переводя взгляд с пещеры на пальмовую рощу. Флери-Мор старался рассмотреть тех вампиров, что вились вдали над водой.
Так прошла минута, ничто не двигалось.
Невероятно, но эта неподвижность, усиливающая тревогу ожидания, толкала меня, более робкого из двоих, к действию. Я порывисто подобрал несколько камешков.
— Можно? — спросил я, нацеливаясь в темный провал пещеры.
Флери-Мор рассеянно кивнул.
Первый камень не попал в цель и, ударившись о стену, упал на груду рыбьих костей у входа. Второй полетел прямо в глубь пещеры.
Тотчас же в ее недрах поднялся ужасающий гвалт, от которого волосы у меня встали дыбом. Пещера наполнилась сатанинскими завываниями, словно вела прямо в преисподнюю. Мрак внутри усеяли пылающие угольки. И мы увидели, наконец, что в недрах тьмы что-то задвигалось, все яснее вырисовываясь посреди горящих глаз и направилось к выходу.
— Человек! — прошептал я.
— Обезьяна! — шепнул Флери-Мор.
Он был и тем и другим, и ни тем ни другим; прямостоящий, двуногий, страшно худой, с жалким, маленьким круглым черепом, курносым — носом, выдавшейся челюстью, с ушами, как капустные листья, и весь в шерсти! Сомнений не было: перед нами стоял питекантроп! Питекантроп, именно такой, каким реконструировал его Дюбуа по яванским костям… Плиоценовый питекантроп здесь, в миоцене, в Европе, в Шампани… живой! Да еще по какой-то чудовищной странности он был союзником вампиров и делил с ними пещеру!..
— Ба! — сказал я себе, чтобы успокоиться. — Да он использует их как рабов или как охотничьих собак, вернее как рыболовных собак!
Обезьяночеловек остановился на пороге пещеры и раскрыл свои до сих пор полузакрытые близко поставленные глаза.
На свету стало видно то, чего мы уж никак не могли ожидать. Этот дикарь из дикарей, который должен был быть совсем голым, оказался закутанным в широкий до самых пят кожаный плащ, тонкий, темный и блестящий, с симметрично падающими складками!
— Плащ! — изумился геолог. — Уже цивилизован! Орангутан в одежде!.. К чертям этот плащ! Он мешает нам увидеть его внешнюю анатомию…
Питекантроп по-обезьяньи сморщился и, как человек, повернул, голову к пещере. Гам в ней сразу утих.
— Он смотрит на нас, говорю вам!
— Похоже на то, — согласился Флери-Мор. — Но если он нас видит, то и слышит! Полноте, это невозможно! Эй, дедушка! — крикнул он человекоживотному и засмеялся, конечно, чтобы подбодрить меня.
Но мне было не до смеха.
Тем временем наш предок, приоткрыв полу кожаного плаща, протянул свою длинную руку. Его рот, разинувшись, превратился в клыкастую пасть, извергшую визгливые, лающие звуки, которые сотрясали его тощую грудь; что-то вроде: «Аттуи, туи, туи! Хира-ха! Рато! Рато!»
По этому зову, вернее по этому приказу, стая антропоидов вырвалась из пещеры, они высыпали и из пальмовой рощи и ринулись на поляну, даже с гребня откоса на нас смотрела «толпа» наших предков, выскочивших из сосняка. Аммиачный запах обезьянника стеснил дыхание. Тишина наполнилась отвратительным гиканьем. Нас замыкало плотное враждебное кольцо. Все, как и их предводитель, были облачены в темные плащи, складками которых они яростно потрясали.
Я обернулся к утесам на берегу моря… Над волнами стремглав неслась стая этих гигантских чаек или огромных летучих мышей… Сейчас мы узнаем, кто летит на подмогу…
— Крылатые люди! — вскричал Флери-Мор.
Да, это были крылатые люди! И темно-бурый плащ, этот мундир окруживших нас приматов, что это было? Вы угадали: это были широкие свернутые крылья. Груша, птица, летучая мышь, питекантроп все это было одним и тем же существом: нашим праотцом — Адамом, царившим на земле, как и в небесах.
Мы были окружены со всех сторон. Даже сверху над нами был купол из хлопающих крыльев. Они взяли вас под колпак, и этот живой колпак затмевал солнце. Бегство было немыслимо.
Инстинкт прижал нас спиной к спине. Таким образом, двое в одном, зоркий двуликий Янус, мы могли преодолеть жалкую слепоту нашего тела. Я судорожно сжимал ружье.
— Вы видите, это мираж двусторонний, — с трудом выдавил я из себя. — Мы видим их, а они- нас. Я почувствовал, как Флери-Мор пожимает плечами.
— Призраки, призраки! — пробормотал он. — Понимаете? Восхитительная иллюзия. Постараемся запомнить все, что можем. Ха-ха-ха! Так человек в конце концов потерял свои крылья! Потерял потому, что не пользовался ими! Эволюция покарала его за леность, как пингвина! Ха-ха-ха! Постараемся же запомнить, что только можно!
— Хорошо, согласен. Вы все время твердите одно и то же.
Крылатые люди довольствовались пока тем, что держали нас под наблюдением. На нас были устремлены все взгляды, и это не могло не вселять в меня робости. К тому же непрерывный гам, крики, хлопанье крыльев — от всего этого голова шла кругом. Я старался побороть чисто физическую слабость; все мои силы уходили на борьбу с самим собой, и я страстно ожидал конца всех этих чудес. Флери-Мор, напротив, думал о мираже вспух. Чтобы лучше запомвить виденное, несравненный наблюдатель делал устные заметки. Я слышал, как он бормочет:
— Лицо негроидное. Никакой цивилизации. Огня нет. Зачатки языка. Вожак — самый сильный, а не самый старший. Как у животных, полное равенство самцов и самок. Никакого оружия. Крылья… ах, несравненные крылья, которыми соединяются руки и ноги!.. Ха-ха!.. Вот они, промежуточные существа, среднее между летучей мышью и летучей белкой! Но они не насекомоядные и не грызуны. Рыбоеды, да, пожиратели рыбы. Словом, они происходят от птеродактилей; да и вся наземная фауна произошла от ящеров. Вы тоже так думаете, не правда ли, Шантерен?
— У меня все вертится перед глазами, словно при морской болезни! — отвечал я. — Надо что-то делать! Я хочу что-нибудь предпринять…
Мой арьергард недовольно заворчал:
— Глупо… Безобидное представление… Живые картины… Галерея… Портреты предков…
Потом он начал проклинать отсутствие всяких инструментов.
— Используйте хотя бы хронометр, — посоветовал я, — Засеките время. Который час? — Пять минут шестого.
— Спрячьте их! — вскричал я. — Они блестят! Спрячьте часы, они сыграют с вами глупую шутку, Спрячьте скорее!
Что-то темное, тяжелое обрушилось на нас. Я отлетел в сторону. Когтистая, мохнатая лапа схватила руку с блестящими часами. На земле, подмяв под себя упавшего Флери-Мора, барахтался, сверкая крыльями, питекантроп, отвратительный как дьявол.
Зверь словно подставлял мне свой плоский затылок. Я вскинул ружье и выстрелил. На этот раз выстрел грянул как гром. Густой дым окружил меня, закрыв первобытное солнце. За ним последовали холод и молчание… Дым не рассеивался.
Он и не мог рассеяться, ибо это был вновь появившийся туман. Вспышка пороха всколыхнула его и погасила удивительное видение. Мы снова были в двадцатом веке.
Тут же, словно от того же сотрясения, дым превратился в изморось. Меня обдало мелким, леденящим дождем.
Настал вечер в вечере. В полумраке, где ночь сливалась с туманом, я увидел на земле ноги Флери-Мора, ничком лежащего на земле.
Он очнулся и застонал:
— Меня убили! Убили!..
И действительно, он словно жаловался по ту сторону смерти. Руки у него были как у мертвеца, и я напрасно старался растереть их. На неподвижном, будто маска, лице застыло выражение ужаса.
Я показал ему в сумерках на тень орешника. Это знакомое зрелище немного успокоило его. Он сказал, что видит достаточно хорошо, чтобы вернуться, и хо- чет сделать это как можно скорее.
Я быстро связал крестик из веточек и воткнул его в землю. Флери-Мор торопил меня уйти.
Метрах в двадцати отсюда мы нашли тропинку. Еще один крестик. Снова нетерпение Флери-Мора.
Еще дальше нам встретились каменотесы, возвращавшиеся в Норуа Ле-Кормонвилль. На мои вопросы они ответили, что не видели ничего, кроме тумана, и не слышали ничего, кроме выстрела.
— Странный феномен ограничивался очень малым радиусом, — заметил я, когда они ушли. — Это очень удачно. Иначе сколько селений оказалось бы под водой!
Я хотел засмеяться, но тщетно…
Флери-Мор во всю прыть спускался с холма, иногда он внезапно останавливался, испуганный черными молниями летучих мышей или зеленым туманом спаржевых посадок. Пролетевшая беззвучно, как тень, сова заставила его в страхе съежиться.
Я кое-как едва поспевал за ним. Мы вернулись в замок.
Мы договорились, что сохраним случившееся с нами приключение в тайне. Не было ничего проще. Вечером мой друг занемог. Руки у него были ледяными, лицо окаменело. Его уложили. Я дежурил возле него вместе с его женой.
Утром лихорадка уменьшилась. Доктор прописал покой, сон и молчание. Прежде чем начать лечение, Флери-Мор захотел поговорить со мною наедине.
Он попросил меня вернуться на место миража, чтобы определить положение пещеры: «Ее нужно найти во что бы то ни стало. Там должны быть бесценные окаменелости». Он горячо поблагодарил меня за поставленные вехи и заклинал беречь их, чтобы ни ветер, ни какой-нибудь прохожий не свалили эти мотки.
Я отправился туда с землекопами, захватившими спои орудия.
Крестики оказались нетронутыми. Первый из них указывал на второй, а второй — на пещеру. Зрительно я представлял себе, что между местом, где упал Флери-Мор, и входом в пещеру было метров тридцать. Но протекшие тысячелетия сдвинули край обрыва метров на двадцать, и нам пришлось бы рыть траншею именно такой длины, если бы двумя метрами левее в нужном направлении не протянулся карьер. Я отсчитал по его фронту двадцать метров; землеконы начали рыть и почти тотчас же наткнулись на глину.
Часа в три пополудни я остановил работы. Пещеры не было. Я думаю, она обрушилась под действием геологических сдвигов. Но в своих поисках мы обнаружили в мергелистой массе конгломераты красной земли, перемешанной с костями.
Я тут же выделил части скелета. На всех костях рук и ног виднелись какие-то наросты; они не были ни механическими повреждениями, ни следами артрита, а попросту природными выступами, к которым прикреплялись сухожилия перепончатых крыльев. (Эти части, надлежащим образом собранные, образуют почти полный составной скелет; любители могут видеть его в музее под названием Pteropithecantropus erectus, которое считается фантастическим. Его называют также антропоптериксом, или, чаще всего, кормонвилльским летучим человеком.)
Как я и предвидел, раскопки не обнаружили ни керамики, даже грубой, ни кремней, даже необработанных; ни слоновой кости, ни палицы; не было и рога нарвала, который мог бы служить копьем. Тем более велико было мое изумление при виде извлеченной из земли затылочной кости черепа с круглым отверстием в ней.
Я размышлял над этим обломком усерднее, чем Гамлет над черепом Йорика. Это загадочное нечто, этот пустой кружок не давал мне покоя. Мне пришло в голову измерить его. Диаметр отверстия точно совпадал с размером пуль моего ружья двенадцатого калибра!
Не успел я опомниться от догадки, вызванной этим совпадением, как один из рабочих принес мне только что выкопанную добычу: хрупкую белую кисть правой руки, плотно впаянную в глыбу глины. Решетчатый кулак сжимал какой-то предмет, который я решил высвободить.
Вот уже миллионы лет, как эта рука была погребена в недрах горы. И все-таки она держала золотой хронометр.
Никогда еще мне не попадалась столь жалкая реликвия. На остатках циферблата сохранились кусочки стекла. Я открыл часы ножом, как устрицу. От стального механизма осталась лишь ржавая пыль с искорками рубинов. Но нетленное золото устояло перед натиском времени. На потускневшем корпусе можно было прочесть: «Самуэль Гольдшмидт, авеню Опера, 129, Париж». А покрывшиеся минеральной коркой стрелки показывали через целую вечность пять минут шестого.
Не могу и сказать, что делалось у меня в голове. Не прошло и тридцати минут, как с часами и затылочной костью в руках я, нарушив запрет, силой проник в комнату Флери-Мора. Он сидел на постели. Его прием разочаровал меня. Мое сообщение его ничуть не заинтересовало; рассеянно потрогав обе реликвии, он сказал громко и решительно:
— Шантерен!
— Ну?
— Не нужно говорить этого людям.
— Чего, друг мой?
— Что они когда-то были крылатыми…
— Как?!
— Это будет слишком большим ударом для них, знаете ли… Не нужно ничего говорить… Я много размышлял, после того как вы ушли.
— Да, Шантерен, оказывается наше желание бороздить небеса, наше неумирающее стремление летать — это не надежда, не порыв к лучшему, более прекрасному! Это лишь смутное сожаление… Сожаление об утраченных крыльях… О потерянном рае… Не об этом ли говорит нам и Библия? Что символизирует изгнание Адама и Евы? Ах, поверьте мне: все мифы древности основаны на какой-нибудь доисторической реальности! Каждый герой поочередно изображает в них человечество. Прометей — разве это не завоевание огня? Падение Икара — разве это не потеря крыльев?.. И в злых и в добрых чувствах плоти сама собой передается какая-то первобытная, глухая и цепкая традиция. Когда мы хотим летать, мы, сами того не зная, оплакиваем свои потерянные крылья; а когда мы испытываем тоску по морю, нас волнует нежность изгнанника к запретной родине… Нет-нет, не нужно говорить людям, что они падшие ангелы. Это было бы слитком грустно!
— Как! — вскипел я — возмущению моему не было границ. — Вы посмеете промолчать? Но ведь наше открытие принадлежит не нам; это достояние всего человечества! И я не понимаю, что может быть грустного в том, если оно узнает, что некогда люди летали, но душа у них ползала! Сознайтесь, что от перемены мы только выиграли.
— Не нужно говорить.
— А истина? — вскричал я. — Истина! Разве ей не следует служить наперекор всему и всем? Разве не стоит пожертвовать всем ради нее? Разве не она окрыляет душу и возносит ее выше серафимов в небесах?
— И все-таки говорить не нужно, — упрямо твердил Флери-Мор.
Честь нашего открытия В равной мере принадлежала нам обоим. Ни один из нас не мог распоряжаться своей долей прав на него без согласия другого, Итак, я покорился…
Вот почему прошло столько времени, прежде чем антропоптерикс появился в музее. Он обязан этой милостью изобретению самолета. На следующий же день после решающего испытания Флери-Мор разрешил мне открыть тайну.
Хотя эти летательные аппараты смахивают на крылья, как костыль на ногу, сказал он, но мне кажется, что теперь мы можем говорить, ибо Адаму возвращен рай и Дедал снова поднимается в небо.
Мы сказали. Кто нам поверил? Никто. Почему же?
Потому что скелет в музее — это скелет, и только. Крылья антропоптерикса были похожи не столько на крылья летучей мыши, сколько на перепонки летучих белок; основой у них были только мышцы, которые не сохранились.
И нет никаких доказательств, кроме нашей памяти, что на самом деле был мираж, посетивший нас в туманный день 26 октября и подаривший видение тех времен, когда люди могли летать.




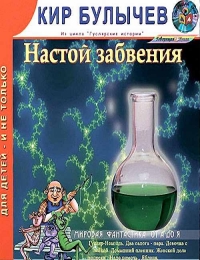
Комментарии к книге «Туманный день», Морис Ренар
Всего 0 комментариев