Жерар Клейн Голоса пространства
Впервые я услышал голоса Пространства на борту искусственного спутника, что кружит между орбитами Земли и Луны. На спутнике я оказался потому, что жить на Земле стало невыносимо и захотелось бежать от однообразия и эпидемии сумасшествия, которое подстерегало меня там, на нашей планете. Думаю, вы помните, каковы они были. Годы безумия. Сумасбродство и нетерпимость каждый день грозили войной, и переполненные лечебницы уже не вмещали помешанных.
Но для тех, в ком отвращение не погасило искру жизни, еще оставалось Пространство. Вот где люди еще пытались чего-то достичь. Там, вдали от бессмысленной суеты и угара больших городов, без помех отдавалась раздумьям и работе горсточка людей. Там мы точно знали, каких одолевать противников пустоту, страх, невесомость — и к каким целям стремиться — к Марсу, Венере, Юпитеру, Сатурну, к астероидам, а быть может, и к Меркурию, и к Урану; мы даже мечтали проложить дорогу детям и внукам. Пусть они достигнут звезд.
Наша жизнь была вовсе не так однообразна, как могут подумать. По крайней мере нам она казалась куда увлекательней, чем та, какую мы могли бы вести на Земле. И несмотря на неизбежную строжайшую дисциплину, которой подчинялось все наше существование, мы чувствовали себя свободными, как никогда. Впереди у нас были века научных исследований, наконец-то мы видели звезды, не затянутые пеленой земной атмосферы, заново совершали открытия в пространстве, не знающем тяготения, изучали состояние людей, внезапно поставленных лицом к лицу с миром чуждым и неведомым. Каждый мог заниматься тем, что ему по душе, — и так, не торопясь, в свое удовольствие мы следовали многообразными путями познания. И вот во время одного из таких опытов я впервые услышал голос Пространства.
Специалистом по электронике у нас был Грандэн; он изучал эффект сверхпроводимости, который обнаруживается, когда температура падает почти до абсолютного нуля. Это же явление позволило ему сконструировать сверхточные аппараты и с их помощью тщательно исследовать любую гамму волн, от самых коротких, которые когда-то называли космическим излучением, минуя те, которые наш глаз воспринимает как свет, и до самых длинных. Его чуткие приборы ловили колебания, посланные далекими солнцами тысячи лет назад. На экранах его осциллографов плясали сумасшедшую сарабанду огненные точки, и это значило, что за полтораста тысяч лет перед тем какая-то звезда на другом краю галактики вспыхнула и обернулась сверхновой, прежде чем погаснуть навеки.
Грандэн был худой, сухопарый, странная желтоватая кожа словно бы в трещинах, как будто среди его ближайших предков затесалась какая-нибудь огромная ящерица. Был он на редкость молчалив, казалось даже, ему трудно связать самые простыв слова, так сильна привычка изъясняться математическими формулами. Но в отвлеченном мире электронов ум его обретал необычайную проницательность. Грандэн плохо понимал людей, потому-то и летел, как и мы, по космической орбите, зато никто так не умел подметить признаки недуга, постигающего любую машину. Однако в отличие от многих своих коллег он не приписывал инструментам сложных человеческих чувств. Нет, напротив, он людей готов был считать чересчур сложными, хрупкими машинами, которые слишком часто ошибаются.
Мы работали в самой сердцевине нашей космической станции, под куполом, где нет силы тяжести, под звездами, которые оттуда казались неподвижными, — из боковых иллюминаторов они представлялись светящимися кольцами, потому что спутник вращался вокруг собственной оси.
Мы изучали Пространство — Грандэн при помощи тончайших антенн, а я простым глазом и почти без цели: под этими чистейшими небесами я только размышлял и философствовал.
Вдруг Грандэн страшно побледнел, затряс головой, будто невидимая оса назойливо зажужжала у самого уха. Обернулся и посмотрел на меня.
— Этого не может быть, — сказал он.
— Чего именно?
Он молча смотрел на меня в упор, лицо его искажала медленная судорога. Мне вспомнилось — много лет назад такое я видел у человека, который больше всего на свете любил музыку; в доме его полно было пластинок, казалось, музыка льется отовсюду, и если мерный напев трубы на миг прерывался скрипом, в чертах того человека я видел такое же невыразимое страдание.
— Не понимаю, — сказал Грандэн. — Слышны шумы.
— Помехи?
— Нет. Все помехи мне знакомы.
Это верно. Ухо его различало любое жужжанье, скрип, сухой треск крохотных взрывов, раздающихся в Пространстве; он узнавал любое из незримых насекомых, чьи челюсти неустанно грызут тишину, и далекие шорохи, и виолончельное пение звезд. Любой из этих звуков он мог назвать по имени. Мог ослабить их, почти свести на нет. Мог раздавить их или отогнать, как избавляешься от пчелы или неразличимого во тьме летней ночи ноющего комара.
— Какое-нибудь далекое излучение, — сказали. — Радиомаяк указывает путь кораблям. Или это вспышка на Солнце. Или волна отразилась от Луны.
— Ничего похожего, — возразил Грандэн. — Это совсем другое.
Мне пригрезилось Пространство, населенное волнами, — они пронизывают планеты, пересекают небеса, разыгрываются бурями, проникают сквозь стены и запертые двери. Это трудно себе представить. Надо закрыть глаза и вообразить тьму и тишину, необъятную, пустынную, однако там полным-полно жизни, там все насыщено и переплетено, вспыхивают внезапные молнии и, точно в море, округло колышутся волны. Это тоже вселенная, как и Вселенная планет, звезд и галактик. Но для нас она еще недостижимей — однако она неотделима от планет, от галактик и от звезд, из которых они состоят, точно так же, как наш скелет, которого мы никогда не увидим, неотделим от нашего тела.
— Не знаю, — виновато сказал Грандэн. — Слушай.
Он передал мне наушники, я взял их и в первое мгновение ничего не услышал, только уловил какую-то безмолвную глубину, словно бы эхо молчания, отраженное стенами бездонного колодца. А потом незаметно это пришло, и все нарастало, и меня начало трясти.
То были мерные колебания, которые дрожью отдавались у меня в черепе, звуки невыразимо мрачные, протяжные, грозные, и на миг мне почудилось, будто всю Вселенную накрыл исполинский колокол и его-то песнь я и услышал. Словно осенний ветер вздыхал в ветвях дерев, свистал в тонких органных трубах высохших трав, медлил и гудел на липких лужах, завывал в дымоходах, трещал в огне зимних очагов, тихонько шептал что-то в обрамляющих окна сосульках.
Звук появлялся и исчезал, нарастал и вновь слабел, медлительный, заунывный, ничуть не похожий на равномерное шуршание радиопомех.
— Это голоса, — сказал я.
Грандэн поглядел на меня и слегка пожал плечами, но даже не улыбнулся. Морщины у него на лбу немного разгладились.
— Не знаю, — повторил он. — Возможно, почему бы и нет. Но что это за голоса?
— Не все ли равно, — сказал я. — Голоса Пространства. Голоса плавящегося металла. Голоса комет, метеоров, астероидов, пылающих гор Меркурия или колец Сатурна. Свет, жар, энергия, преображенные в звук.
Грандэн покачал головой.
— Нет, — сказал он. — Все, о чем ты говоришь, я слышал, а это совсем другое. Никогда, даже в день страшного суда, бывалый моряк не спутает сирену, которой сигналят в тумане, со штормовой. Так и тут. Как не спутаешь дыхание с человеческим голосом. Слышишь, как входит в легкие и опять выходит воздух, — или слышишь слова, их произносят губы. Это не спутаешь. Радиопомехи — дыхание Вселенной. А здесь не то. Это… может быть, ты прав… это голос.
Он взял у меня наушники, и по его лицу так ясно было, что он слышит, и я сам улавливал эти глухие плавные колебания и понял — вот они слабеют, сходят на нет, потому что Грандэн весь — внимание, словно бы погружается в себя, даже закрыл глаза, пытаясь следовать за таинственным голосом в глубины, где тот под конец исчез.
— Кончилось? — спросил я.
— Да.
— Это был голос, — торопливо заговорил я, голова кружилась. — Это был голос… может быть, он дошел с Марса, или с Венеры, или с другой какой-то планеты. Мы не одиноки во Вселенной.
— Нет, — печально сказал Грандэн. — Ниоткуда он не шел, ни из какого другого мира. И во Вселенной мы одиноки. Право, не понимаю, как ты еще можешь в этом сомневаться; мы одни со своими машинами. Через десяток лет мы высадимся на Марсе и воочию убедимся, что Марс просто пустыня, мы же всегда это знали наверняка, наперекор всему, о чем мечтали.
Он обернулся ко мне, через силу улыбнулся.
— Видишь ли, — продолжал он, — почти сто лет назад, когда только что появилось радио, люди уловили сигналы, исходящие с Марса. И возликовали. Весть об этом разнеслась по всей Земле. Времена одиночества миновали. Отныне конец войнам, розни народов, нищете. На Марсе живут наши братья. А потом другие люди развернули антенны, сделали измерения и расчеты. И обнаружили, что пойманные прежде сигналы были всего лишь эхом, поверхность Марса отразила волны, идущие от Солнца. Марс остался пустыней. И осталась рознь между народами, войны, нищета. И с тех пор временами наши приемники ловят сигналы из космоса, но это всегда только шутки, которые шутит с нами Вселенная.
— Но, может быть, когда-нибудь… — неуверенно сказал я.
— Ты всего лишь философ, — вздохнул он, — Или, еще того хуже, поэт.
Прошли годы. Я забыл те голоса. Мы достигли Марса — и Марс оказался всего лишь пустыней. Тяжесть безмерного разочарования придавила Землю.
Я не был среди тех, кто первыми ступили на Марс. Но не все ли равно, ведь когда их серебряная ракета, пронизав тощий слой облаков, снижалась над ледяными марсианскими пустынями, я тоже вглядывался в просторы этой планеты, и кто-то во мне, кто-то древний, неведомый, ждал — вот сейчас что-то вспыхнет, взору явится сверкающий город в зареве тысячи огней, в отраженном свете крохотного солнца.
Но ничего я не увидел.
И никто ничего не увидел. Марс был пустыней. Мы предвидели это, мы это знали, заранее рассчитали, доказали и проанализировали, и все же оказалось — почти никто ни среди команды корабля, ни на Земле в это не верил. Оказалось, даже тот, кто все это вычислил и проверил расчеты, надеялся, что допустил ошибку. Оказалось, миллионы прислушивались к небу в надежде уловить малейший необычный звук, чужой голос.
Вспоминаю радиограммы, которыми обменялись первая марсианская экспедиция и Земля. Переговоры были кратки и оттого драматичны.
— Ничего, — передали с Марса.
Молчание. Земля медлит, взвешивает каждое слово.
— Проверьте еще, — говорит она наконец. — У вас еще не может быть уверенности. Вы еще не успели осмотреть всю планету, квадратный метр за метром.
— Нет совсем ничего, — отвечал Марс. — Мы уверены. Здесь никогда не было жизни.
— Проверьте под почвой, — настаивала Земля. — В глубине океанов. Под песками, подо льдом.
— Ничего, — отрезал Марс.
И Земля умолкла. И нам, на Марсе, стало горько, потому что правы оказались мы. А на Земле еще шире распространилось безумие и отчаяние. Мнимые пророки богатели, предсказывая, что мы обречены навеки оставаться в одиночестве. И вот что написал я для одной газеты:
«Марс — пустыня. Огромная красная пустыня, которую золотит неяркое солнце, а по ночам — робкие лучи двух лун. Стылое море иссохло в пыль, лишь порою старый усталый ветер, свистя в трещинах скал, подобных полуразрушенным колоннам, поднимает на нем серую пену песка, или медлят на нем холодные мерцающие туманы марсианского утра. Ветер стар и утомлен, он только свистит, никогда ему не петь в обнаженных ветвях дерев. На Марсе нет деревьев. И лишь порой ночами отсветы и трепетные тени бесцельно бродят по белым тропам прожекторов; они похожи на странные мертвые деревья, наклеенные на черные экраны, и еще они напоминают мертвенно бледные и зеленые деревья Земли, те, что шумят и бушуют в бурю или мирно простирают ветви в часы затишья, сонные деревья память о Земле.
Но тени эти — лишь грезы, призрачные воспоминания древних равнин Марса».
Итак, мы завоевали Марс и два его спутника. Мы работали как одержимые. Предстояли уже не века, а тысячелетия исследований; и уже не только для внуков, но для себя мы жаждали звезд, которые так ясно и холодно сияли в небе Марса.
Однажды вечером мы слушали оркестр с Землимузыка звучала так, словно играл он здесь, в нашем воздушном пузыре. А потом между этим нашим жилищем и Землей прошла одна из марсианских лун, и несколько секунд мы только и слышали завывание и треск помех. И ждали, не смея вздохнуть, — так среди ночи, замирая, слушаешь, как кровь стучит в висках.
— Оркестры играют только на Земле, — промолвил Ласаль.
— Что ты хочешь этим сказать? — резко спросил Ферье.
— Сколько месяцев, сколько лет мы обшариваем небо и ни разу не поймали никаких передач, кроме как с Земли.
— А ты чего ждал? — спросил Ферье.
— Не знаю, — сказал Ласаль. — Крика, зова, голоса. Необъяснимой дрожи эфира.
Мы смотрели на этих двоих, уронив руки на колени, лица у всех осунувшиеся, усталые.
— Ты просто мечтатель, — сказал Ферье.
Я присмотрелся к нему: отрешенный взгляд запавших глаз, застывшие черты сурового лица в желтом свете кажутся особенно резкими… да, конечно, он и сам мечтатель! И я понял: как все мы, он мечтает не о Земле, он равнодушен к тому, что оставил позади, к текущему счету, который растет не по дням, а но часам, потому что он, Ферье, как все мы, занят самой опасной работой, до какой додумалось человечество, и не извлекает из этого ни малейшей выгоды; равнодушен и к долгому отдыху, которым сможет насладиться лет через десять, когда его вконец вымотают космос и синтетический воздух, каким мы дышим на Марсе; я понял: он думает о том, что хотел бы открыть и чего мы не нашли на Марсе, но, быть может, откроем на Сатурне или на, Юпитере, — о собратьях.
Тогда поднялся Юсс, Молодой, белокожий и светловолосый, и глаза светлые, — почему-то казалось, что ему трудно не отвести их, если встретишься с ним взглядом. И голос тоже у него был ясный, но неуверенный и звучал еще нерешительней оттого, что с нами Юсс разговаривал не на своем родном языке.
— Вчера я шарил на всех диапазонах и услышал такое, что шло не с Земли, — сказал он. — Ничего подобного я никогда еще не слышал. Это было похоже… как бы сказать… похоже на жалобу. А потом утихло. Я слушал, и мне стало страшно.
Он поднял глаза и тревожно оглядел нас, сидящих полукругом, но никто не засмеялся. Кто-то зашаркал подошвами, кто-то покашлял, но не засмеялся никто. И не встретив того, чего опасался — насмешки, — Юсс продолжал:
— Может быть, сегодня вечером попробовать еще раз. Может быть, я опять это услышу.
Белые, длинные, совсем девичьи пальцы его пробежали по клавишам настройки. Снаружи, в разреженном холодном воздухе Марса, беззвучно повернулись антенны.
В картонных раковинах громкоговорителей хрипло вздохнул ветер. Но летел он не над какой-то планетой, не над океанами Земли и не над полюсами Марса, он летел среди миров и не приносил с собою ни отзвука, ни зова, только свое же звездное эхо.
Мы ждали, недвижимые, охваченные смутной печалью, печальной тревогой оттого, что сейчас увидим, как горько обманется Юсс в своих надеждах.
Но оно пришло, и в первую минуту я не понял, что же это напоминает. Я мог бы поклясться, что никогда еще не слыхал ничего похожего. То был звук бесконечно низкий, глубокий, и не просто звук, а песнь, протяжный вопль, голос, полный невыразимого страдания, голос некоего духа, влачащегося в недрах пустоты, голос иного времени, иного мира.
Из громкоговорителя слышался шорох, будто моросил дождь. Радиопомехи. А голос… такой рев издавали, должно быть, плезиозавры, что обитали в теплых морях вторичного периода, подумалось мне.
А потом я подумал о Грандэне, мне представилось его озабоченное лицо, вспомнилось, что услыхал я тогда в глубине наушников, прижатых к ушам, точно морские раковины.
Но здесь, на Марсе, вдалеке от нашего Солнца, голос звучал гораздо более мощно, чем тогда на околоземной орбите.
Я порывисто зажал уши, как зажмуриваешься, когда слепит, я пытался больше не слышать этого далекого зова, искаженного, страдальческого, всепроникающего и зыбкого, этих хриплых воплей, завывания расплавленной материи, зловещего свиста.
Я пытался не искать в этом смысла, проблеска надежды, ибо знал: надеяться бессмысленно, ведь я на Марсе, в пустыне, и знаю, что во Вселенной мы одни. Я пытался… но тщетно.
А голос менялся. В нем было все меньше глубины, все больше металла, словно звучали какие-то небесные трубы. Слабее, слабее, и вот все пропало.
— Помехи, — сквозь зубы сказал Ферье.
Настала тишина, и тогда Ласаль коротко щелкнул переключателем, и к нам хлынула музыка Земли. Долгие минуты мы молчали, а на Земле трубач все разматывал нескончаемую, спутанную певучую нить.
Наконец я обернулся к Ферье.
— Нет, не думаю, — сказал я. — Помехи так не исчезают. Не думаю, чтобы это объяснялось так просто.
— Чего не знаю, того не знаю.
И Ферье возвел глаза к потолку в знак, что ему надоели разговоры на эту тему, а я подумал — просто он не желает признать, что ошибся, и не позволяет себе надеяться.
— Чего вы надулись? — сказал Ласаль. — Вам эта музыка не по вкусу? Пожалуйста, можно послушать «Ла Скала», или парижскую оперу, или московскую, или Альберт-Холл, или Сторивилл. Стоит только переменить волну.
Волну переменили, и вот все голоса, все оркестры Земли к нашим услугам. Но мы-то ждали и надеялись услышать неведомый голос, иные созвучия, вот о чем думали мы, глядя на экраны, на пустынные равнины Марса.
— Это мне напоминает один случай, — сказал Вьет.
Как ни странно, до сих пор он молчал, а ведь обычно, что бы ни случилось, у него всегда была в запасе какая-нибудь удивительная история, которая оказывалась кстати. Не человек, а ходячая летопись. Очень редко мы узнавали, что думал он сам о каком-либо своем приключении, но что и как приключилось — об этом он умел поведать во всех подробностях.
— Это мне напоминает один спиритический сеанс. Помнится, нас там было пятеро, мы сидели в полутьме за круглым столом, кончиками пальцев касались полированной столешницы и, сами не очень в это веря, надеялись — вдруг что-то произойдет. Ждать было нечего — я думаю, все мы это понимали, кроме, может быть, женщины, в чьем доме мы собрались, — она-то верила непоколебимо. Однако мы тоже на что-то надеялись.
— И действительно что-то произошло? — резко спросил Ферье.
— Право, не знаю. Теперь я почти уверен, что ничего не было, а тогда совсем не был уверен. В человеке живут всевозможные звуки — шумит кровь, текущая по артериям, колеблются барабанные перепонки, дышат легкие, да еще сколько призраков, воспоминаний о звуках, которые некогда погребены были в саркофагах памяти, но только и ждут, как бы вырваться на волю. Да, не очень-то можно верить своим ушам. А может быть, тут что-то другое. А может быть, это одно и то же. Вот ты что-то услышал — и заворожен, и трепещешь, а потом все прошло — и начинаешь сомневаться.
— Не вижу связи, — сказал Ферье.
— А я вижу, — отрезал Вьет. — Все мы тут сидим вокруг огромного стола — пустынного Марса, — нетерпеливо барабаним по нему пальцами, и подстерегаем, и ждем, и надеемся, и стараемся пробудить голоса Вселенной. Время идет, а мы все ждем напрасно. А потом, когда свет меркнет, и стол вздрагивает, и где-то в пространстве возникает звук, мы начинаем спрашивать себя, не обманул ли нас слух, начинаем сомневаться.
— Мы не гадалки и не астрологи! — загремел Ферье. — Не предсказываем будущее по картам и по звездам. И не вызываем духов умерших.
— Пока еще нет. Пока. Но у нас есть кое-что общее и с гадалками и с астрологами, — заметил Вьет. — Мы ждем зова. Ищем контакта. И очень надеемся дождаться и найти. Через пять лет мы дойдем до Юпитера. А через столетие, возможно, достигнем звезд. И нравится тебе это или нет, Ферье, мы стремися туда все по той же старой-престарой причине: нам ненавистно одиночество.
На то, чтобы достичь Юпитера, мы потратили шесть лет. А Юпитер оказался всего лишь громадным океаном, совершенно безжизненным: жидкий зеленый шар, исполинское око в орбите Пространства, отражающее холодные лучи далекого солнца; Юпитер — скопище бесстрастных бурь и гигантских волн. Мы этого и ждали — и все-таки это было горьким разочарованием. Ведь долгие недели мы мчались в пустоте, пленники своих ракет, затая тоску по Земле, и во взглядах угадывались печаль и призрак земных зеленых равнин, в ушах отдавалось эхо родных звуков — говор толпы, волчий вой, все голоса жизни.
И долгий путь, и тоска — все оказалось напрасно.
Мне вспоминается — когда я был маленький, родители однажды привели меня на мыс, которым заканчивался материк, где я родился. Равнодушные волны разбивались о черные скалы. А за этим мысом и несколькими островками не видно было уже ничего, совсем ничего, только море. Но важно было не то, что увидел я лишь пустынный окоем, важно то, что я знал. А я знал — она необъятна, эта водная гладь без единого зернышка суши, эта зеленая жидкая соль, — и, однако, за непостижимой далью, по другую ее сторону, живут люди. Я знал, потому что мне об этом сказали. Знал, потому что р это верил. Ничего такого не было написано в небесах, и даже мой детский глаз не различал воображаемых очертаний далеких материков. Но я знал и то, что стою на краю земли, и то, что в дальней дали вновь начинается земля, и так они с морем чередуются бесконечно.
В тот день я понял, как далеко отстоит то, что знаешь, от того, что есть на самом деле. Кроме всего, что можно увидеть и потрогать, существует еще и другое — и, хоть его не коснешься, оно придает новый смысл всему, что тебя окружает. Главное — всегда можно закрыть глаза и перенестись через непостижимую ширь соленых вод, главное — само это препятствие чудесно, ибо чудесно то, что воображается мне по другую сторону моря.
И космос тоже чудо, думал я, пролетая вокруг Юпитера, я и сейчас на мысу, на краю пространства и, сощурясь, пытаюсь разглядеть звездные берега или, может быть, громадные корабли, еще скрытые за его изгибом.
Сатурн сейчас по ту сторону Солнца, и до противостояния еще годы; Уран движется далеко, совсем в другой части эклиптики, а Нептун и Плутон — всего лишь крохотные островки, вехи на пути.
Я на краю света.
Вдали от голосов Земли, от грозного рокота и шороха астероидов. И как никогда близко к голосам космоса.
Мы научились их узнавать, пока кружили вокруг Юпитера, наблюдая неизменную поверхность этой жидкой планеты. Научились различать, как они чередуются, нарастают и вновь слабеют, переходят от глубоких, низких к высоким и пронзительным и удаляются, словно вопль исполинской сирены, тревожно взывающей в ночи.
Я счастлив был, что достиг Юпитера. На Земле по-прежнему было неладно. Люди устали и отчаялись безмерно. Раза два мы даже опасались, что нам прикажут прервать все изыскания и возвратиться на Землю.
Тогда нам пришлось бы повиноваться.
Мы прислушивались к голосам.
И прилетали еще люди, чтобы их услышать.
— Что вы об этом скажете?
— Страшновато, правда?
— Будь я человек суеверный, я бы подумал, что это голоса мертвецов или вампиров.
— Насмотрелись плохих фильмов.
И я спрашивал себя, что станется с голосами Земли, со звучанием земных оркестров, когда несущие их волны через тысячи лет достигнут туманности Андромеды, и найдется ли там ухо, способное их услышать? Я спрашивал себя, во что обратятся Девятая симфония и труба Армстронга, квартет Бартока и электронная музыка Монка после того, как долгие годы их будет носить в Пространстве по прихоти космических течений, и качать на светозарных волнах звезд, и затягивать в тихие темные омуты космоса?
Сигнальный трезвон. Треск громкоговорителя.
— Ради всего святого, оставайтесь на своих местах. Опасности никакой нет.
— Нас изрядно тряхнуло, правда?
— Да вы хоть на экраны поглядите. Такую громадину можно бы увидеть и простым глазом.
Я вскочил, торопливо оделся. Тревога миновала. Невидимый, но массивный метеор чуть задел нас, и мы отклонились от прежней орбиты. Задел. Быть может, он пролетел в миллионе километров от нас. Быть может, в десяти миллионах. Никто ничего не увидел. Даже наши инструменты, даже зоркие, настороженные глаза инструментов не увидели его, даже их чуткие подвижные уши ничего не уловили.
— А ну, послушайте! — крикнул кто-то.
И в наш корабль хлынул голос космоса, потек по переходам, просочился во все скважины и каналы, проскользнул под дверьми, и все затрепетало, заполнилось грозным гулом.
— Никогда еще не слыхивали подобной мощи.
Они измеряли, взвешивали, подсчитывали, а у меня в ушах по-прежнему звучал и звучал этот голос, и вспомнилось: на Земле, на самом острие мыса, который так и назывался — край света, я видел однажды, как ширится в море, расплывается по волнам пятно нефти.
Вот и здесь то же самое, думал я: голос этот ширится, расплывается в океане Времени, отделяющем нас от звезд, как расплывалась тогда нефть перед множеством смеющихся глаз, на исходе лета, в мягком свете неяркого солнца — смутным переливчатым пятном.
Я сказал им это. Сказал и о том, что слышал когда-то с Грандэном и что слушал с Юссом на Марсе. Сказал, что это не вывод ученого, но догадка поэта, ведь я всего лишь психолог и почти ничего не смыслю в математике, в волнах и помехах, зато верю в самое простое: в море и пространство, в скалы и время, в острова и материки и в людей — все это опять и опять повторяется и там, за горизонтом.
Меня слушали, и никто не улыбнулся.
Я сказал спутникам, что в своих поисках они потерпели неудачу, потому что искали не так, как надо. Чем без конца жадно, с завистью вглядываться в пучины Пространства, которые еще долго останутся недосягаемы, лучше просто бродить по песчаным берегам, и шарить в расселинах скал с надеждой отыскать обломок кораблекрушения, выброшенную волнами доску со следами резьбы, масляное пятно на воде, и в глубине души твердо верить, что где-то там, за краем света, есть другие люди, другие живые существа.
Я сказал, что рябь от камешка, брошенного с западного берега, неминуемо дойдет до берега восточного, что корабль, разрезая носом волну, отбрасывает ее, и от этого неуловимо меняются все волны, и ни кильватерная струя, ни пена за кормой не исчезают совсем уж бесследно.
Думается, мне поверили. Я уже очень немолод, но говорил как малый ребенок, вспоминал далекий летний день моего детства, и Юсса, и Грандэна, и всех, кто там на Земле, поднимает глаза к небу и ждет вести.
— А почему бы и нет? — сказал кто-то.
— Может быть, это был никакой не метеор, а чужой корабль, — сказал другой.
Остальные только присвистнули.
— Не верю я в это, — сказал еще один, — но, пожалуй, самое разумное — проверить.
У всех заблестели глаза.
— Корабль с такой массой? Способный изменить орбиту небесного тела?
Да, если его скорость близка к световой!
Вспоминаю день, когда я впервые ступил на палубу корабля. Был я не такой уж маленький, во всяком случае, современные дети знакомятся с морем раньше. И сразу ощутил, что со мной творится нечто новое, непонятное. Казалось, весь мир изменился, он не то чтобы ненадежен, но неустойчив, качается, как маятник, я то тяжелею, то вдруг становлюсь легким, точно перышко, и надо заново учиться сохранять в нем равновесие. Я качался из стороны в сторону, но мир у меня под ногами раскачивался и того быстрей. А потом, перегнувшись через борт, я увидел, как пароход зарылся носом в волну и тотчас задрал его на гребне нового вала, и меня осенило: так и надо, хоть мне это и непонятно. Таков новый мир, и в этом мире, в не знающем равновесия мире постоянного движения и силы надо освоиться. Устойчивости больше нет.
Так и теперь я знал: то же самое происходит, когда со скоростью света бросаешься в океан пустоты. Я знал, пространство и время сжимаются, масса возрастает. И знал — во всем, что нам знакомо, нет ни определенности, ни устойчивости и ветер меняет звук голосов.
Ветер Пространства, ветер полета, ветер света.
Они завершили расчеты, прогнозы и эксперименты и пришли сказать мне о том, что открылось. А я улыбнулся, ведь я уже знал все наперед, знал прежде, чем кто-нибудь выговорил хоть слово. Я все прочел по их глазам. То был не один корабль, а множество, и никому неведомо, как давно бороздят они Пространство.
А скорость их почти равна скорости света, и потому пространство для них сжимается, и каждый из них как острие иглы, нет, еще гораздо меньше. А время их растеклось по окружающей пустоте.
Они сеют время, оставляют его позади на всем своем пути. Минута их времени равна часу нашего. А быть может, больше. Не знаю. У меня никогда не было способностей к подобным расчетам.
И где бы ни проносились эти корабли в космосе, везде они говорили, звали. Но каждое их слово растягивалось на нашу неделю.
И когда нас тряхнуло на орбите в нашей коробке из стекла и металла, это они приветствовали нас, — так большие, корабли, входя в гавань, подбрасывают на кильватерной струе многочисленные лодки, что высыпали им навстречу.
Да, они пока не ведают, кто мы и что мы такое, но еще год — и мы подберем ключ к их языку, и нам станет внятен их голос, мы уже не одиноки, теперь мы знаем, что больше не одиноки.
Я знаю, за морями, за всем, что я могу увидеть или хотя бы вообразить, в дали, не доступной ни глазу, ни ветру, есть еще материки.
И еще люди.
Я знаю, нет такого мыса, который был бы концом света.



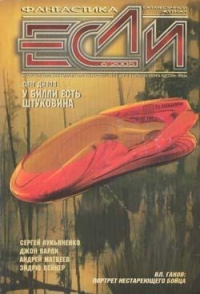
Комментарии к книге «Голоса пространства», Жерар Клейн
Всего 0 комментариев