ИСКАТЕЛЬ № 5 1970
Аркадий АДАМОВ ЧЕМОДАН БЕЗ ХОЗЯИНА[1]
Рисунки Б. ДОЛЯ
Голос в трубке был удивительно приятный, и Лобанов каждый раз ловил себя на желании продлить короткий служебный разговор. Интересно, какая она из себя, этот палатный врач городской больницы? Кажется, совсем молоденькая. И всегда она почему-то смущается, когда говорит с Лобановым. И конечно, улыбается. Ведь он всегда шутит. Ему казалось, что он каждый раз видит эту милую, застенчивую улыбку. А смущается она потому, что знает — он работник уголовного розыска, и ей нельзя рассказывать больному Семенову об этих звонках.
Лобанов звонил ей чаще, чем требуется, это точно. И при этом неизменно поругивал себя. «Тебе что, восемнадцать лет? — ворчал он. — Что это за романы по телефону?» И тут же со странной горечью насмешливо возражал: «Никаких романов, товарищ майор. Как можно? Долг, так сказать. Служебный долг, только и всего». И при этом мелькала мысль, что следовало бы, вообще говоря, съездить в больницу и своими глазами посмотреть, что там и как. Ведь Семенова, как только он выздоровеет, придется немедленно арестовать, он связан с опасным преступлением — торговля наркотиком, гашишем. Этой мерзости никогда не было у них в городе. И не будет. А от Семенова ниточка тянется куда-то, по ней предстоит еще пойти, осторожно, чтобы не оборвать, и добраться до ее конца. Непременно добраться. Вернее, это будет не конец, а начало. Оттуда тянется не одна ниточка и не только к Семенову, это уж точно. Там главный преступник, там самое опасное. Но пока что путь к нему только через Семенова. И поэтому за Семеновым надо смотреть в оба. Особенно пока он в больнице.
В этом месте Лобанов прерывал свои размышления и насмешливо усмехался. Ведь для этого тебе вовсе не надо самому ехать в больницу, старик. Смотрят там и без тебя, по твоему же приказу, кстати.
Вздохнув, Лобанов нерешительно снимал трубку и набирал знакомый номер.
— Наталья Михайловна? Доброе утро. Все тот же Лобанов вас беспокоит. Как сегодня наш подопечный?
— Мне бы хотелось, чтобы он меньше нервничал. Это замедляет выздоровление.
— А как же не нервничать? Ему же предстоит скоро разлука с вами. Тут, наверное, каждый занервничает.
— Представьте, все другие только об этом и мечтают.
Как она стала бойко отвечать ему!
— Не могу представить. Самому надо испытать. И когда же его ждет этот удар, как полагаете?
— Дня через два-три, вероятно. Он должен окрепнуть.
«Улыбается. Наверняка улыбается сейчас».
— Значит, встает, ходит?
— Ну конечно. Я же вам уже говорила.
— Да, да, действительно.
Лобанов рассердился на себя и поспешно закончил разговор. «Идиотом каким-то кажусь. Впрочем, идиот и есть. Амуры тут разводить вздумал на старости лет». И без всякой видимой связи неожиданно подумал: «Хоть бы одним глазом взглянуть на нее, что ли!» Если бы еще недавно ему кто-нибудь сказал, что он будет способен на такое мальчишество, он бы даже, наверное, не рассердился: на подобную нелепость сердиться было бы просто невозможно. Черт возьми, если кто-нибудь узнает! Например, Коршунов. Или еще того хуже — Гаранин. Сергей поднимет на смех, это уж точно. А Костя, он только посмотрит, но так, что самым лучшим будет провалиться сквозь землю, ходить по ней будет невозможно. Впрочем, все это чепуха. О чем им узнавать? Что Саше нравится чей-то голос? Ну и что? По радио он тоже с удовольствием слушает разные приятные голоса. Но этот довод показался не очень убедительным.
Лобанов не раз задумывался, обычно по ночам, когда не спалось, или в редкие дни отпуска, о том, как это случилось, что он, такой общительный, веселый, энергичный человек и в общем, видимо, неглупый, вдруг остался холостяком. Конечно, были встречи, были увлечения, но перед последним шагом его вдруг неизменно охватывали смятение и тревога.
Лобанов покосился на телефон. Так просто снять трубку, еще раз набрать номер и услышать… Что-то есть в том голосе странное, совсем необычное, чего другие, наверное, просто не замечают. Как будто каждое человеческое ухо и каждая душа настроены на свою, особую звуковую волну, которая только и может заставить вдруг замереть сердце. И тогда кажется, что нечем дышать.
Ну это уж слишком. К черту! Лобанов досадливо нахмурился и потянулся к лежавшим на столе сигаретам.
В этот момент в кабинет вошел молчаливый, подтянутый Храмов, его заместитель, и Лобанов настороженно взглянул на него, словно тот мог подслушать его мысли.
Храмов коротко и невозмутимо доложил:
— Пришел ответ из Ташкента. От Нуриманова. Семенов там действительно жил и работал. Три года. Потом исчез.
— Ну что ж. Ташкент — это то, что надо. Через два дня Семенов расскажет нам об этом подробнее, надеюсь. И как жил, и как работал. Через два дня, Коля. Понял?
Храмов сдержанно усмехнулся.
— А пока что, — продолжал Лобанов; хмуря свои пшеничные брови, и на круглом улыбчивом его лице проступила озабоченность, — пока что требуется одно: полная изоляция от внешних… влияний, что ли. Володя на месте?
— Так точно.
— Значит, все связи Семенова в городе оборваны. Сестра — навещает?
— Нет.
— За два месяца ни разу не навестила, А ведь отношения хорошие, даже очень хорошие. Странно… — задумчиво покачал головой Лобанов.
— Племянница раза три приходила, С передачей. Вчера была.
— А виделась с ним?
— Нет.
— Передачу проверили?
— А как же. Жаткин смотрел.
— Ну и что?
Храмов удивленно взглянул на Лобанова.
— Нормально.
— Да, да, он ведь докладывал, — махнул рукой Лобанов, досадуя на свою забывчивость. Затем, подумав, спросил: — А что собой представляет племянница?
— Школьница. В девятом классе. Скромная девчушка, тихая. Видел я ее.
— Гм… А мать, кажется, живет… весело, а?
— Так точно.
— В какой школе девочка учится?
— В четырнадцатой, — и, чуть помедлив, Храмов добавил: — Где мой Толька.
— Ну, твой еще в третьем.
— Так точно.
— Ох и парень у тебя. Умора одна. — Лобанов с улыбкой покачал головой. — Встретил его вчера. Просто умора, — повторил он.
— Из школы шел?
— Ага. Одну важную вещь мне сообщил. Спрашиваю: «Ну как, старик, дела на работе?» — «А, дела! — говорит. — Отвлекаюсь», — «С кем за партой-то сидишь?» — «А, сижу!.. С девчонкой». — «Что, — спрашиваю, — не уважаешь?» Так он мне, представляешь, говорит: «Деформировались девчонки, даже фартуки перестали носить». Деформировались, а?
Лобанов рассмеялся. А Храмов покачал головой и озабоченно произнес:
— Начитанный невозможно. Не знаешь иной раз, что и отвечать.
— Да, пошел народец, — ухмыляясь, согласился Лобанов и добавил: — А некоторые девчонки действительно деформировались. Это надо иметь в виду. Как фамилия сестры-то?
С лица Храмова стерлась улыбка, и он с обычной сухостью ответил:
— Стукова Нинель Даниловна.
— А она, часом, в Ташкенте не жила?
— Можно узнать.
— Надо узнать, — поправил его Лобанов. — И когда сюда, в Борек, приехала? И где муж? Словом, все надо узнать. Дочку-то как зовут?
— Валентина.
— А по батюшке?
— Узнаем.
— Вот-вот. В случае чего… понимаешь?
— Так точно.
«С ним работать можно», — удовлетворенно подумал Лобанов. И вдруг невольно представил, как сидит за завтраком семья Храмовых. Ведь он всех их знал, и бабушку тоже. И статную, красивую жену Храмова, Зину, костюмершу городского драмтеатра, на которую заглядываются все мужчины, но которая беззаветно любит своего неразговорчивого Николая. Хотя однажды… Да, все было в этой семье, и все, между прочим, она выдержала. И Николай вел себя, говорят, в той истории как надо. И осталась семья, и все как будто наладилось. Жизнь… Течет, катится через омуты и мели. Лобанов невольно вздохнул и вдруг подумал, что он, наверное, был бы рад даже этим омутам и тоже все бы перенес, все бы сохранил.
— Ну, я пойду, — сказал Храмов.
Лобанов кивнул в ответ.
Оставшись один, он принялся рассеянно перебирать бумаги, требующие его подписи, и никак не мог сосредоточиться.
Лобанов досадливо отодвинулся от стола, прошелся по небольшому кабинету наискосок, от угла продавленного дивана возле двери до сейфа, стоявшего за столом, рядом с креслом, потом подошел к окну.
По улице медленно, робко шла весна. Мокрый, выпавший ночью снег еще лежал, как отсыревший сахар, на крышах, карнизах, во дворах, тяжело цеплялся за голые ветви деревьев, но мостовая уже была исполосована темными, неровными колеями, из-под колес машин и троллейбусов летели грязные брызги, а на тротуарах снег был и вовсе истоптан, превратившись в жирную грязь, В зябком воздухе висел белесый туман. Стены домов сочились сыростью. Весна… Еще одна весна в этом городе.
Лобанов, вздохнув, вернулся к столу и остервенело, словно стараясь отвлечься от чего-то, принялся за бумаги, про себя удивляясь этой минутной тишине в своем кабинете, когда никто почему-то не врывается, не звонит телефон, не сваливаются одно за другим неожиданные происшествия и неприятности.
И в этот самый миг, как будто торопясь исправить случайную оплошность, к нему без стука вбежал раскрасневшийся Володя Жаткин, в распахнутом пальто, с болтающимся на тонкой шее кашне, держа в руке пушистую, совсем новую кепку.
Едва успев прикрыть за собой дверь, он подскочил к столу и, тяжело дыша, возбужденно произнес:
— Александр Матвеевич, начинается… Вот!..
Он почти бросил на стол бланк телеграммы.
— Изымаем с разрешения прокурора… почту Семенова… — словно оправдываясь, проговорил он, все еще не в силах отдышаться. — И вот. Смотрите. Телеграмма!
— Это я и сам вижу, что телеграмма, — улыбнулся Лобанов. — Да ты садись.
— Вы только прочтите, прочтите! Я-то сяду, — взмолился Жаткин, тяжело опускаясь на стул.
Лобанов развернул телеграмму:
«Шестнадцатого вечером встречай привет дядя».
— Та-ак… Выходит, дождались, — Лобанов поднял хмурые глаза на Жаткина. — Шестнадцатое, между прочим, завтра.
— Телеграмма — вы видите? — из Ташкента, — торопливо доложил Жаткин. — А поезда оттуда через день. И завтра как раз приходит. Тридцать восьмой. И как раз вечером. В двадцать один тридцать.
— Оттуда, может, и самолет вечером приходит.
— Так ведь прошлый раз они поездом ехали.
— Вот именно. За дураков-то их не считай. Погоди.
Лобанов позвонил Храмову.
Через пять минут в кабинете собрались сотрудники. К этому времени Жаткин успел выяснить, что каждый вечер, в двадцать ноль-ноль, действительно приходит самолет из Ташкента, и по утрам, кстати, тоже. Так что указание в телеграмме вечера было в этом случае необходимо. Впрочем, утром, оказывается, приходил и поезд, на котором с пересадкой, правда, но тоже можно было добраться из Ташкента в Борек. На этот поезд указал один из сотрудников.
— Словом, без Семенова мы никого не встретим, — заключил Лобанов. — Авось врачи нам завтра вечером одолжат его на часок.
Тут он невольно подумал о враче, который должен был «одолжить» Семенова, и голос его чуть заметно дрогнул. Впрочем, никто из присутствующих этого не заметил.
Было решено, что разговор с Семеновым состоится завтра утром. Прямо в больнице. И вполне естественно, беседовать с Семеновым должен был сам Лобанов. Слишком важной была эта беседа, слишком много зависело от ее исхода. Ведь Семенов мог, для вида даже согласившись помочь, затем объявить, что не обнаружил приехавших, А те первыми к нему никогда, конечно, не подойдут. В этом случае ниточка оборвется навсегда. Больше уже к Семенову никто не приедет. И что самое главное, это было бы в интересах самого Семенова. Значит, надо так провести разговор с ним, чтобы в его интересах оказалось узнать приезжих. К такому разговору следовало подготовиться.
Храмову и еще двум сотрудникам было поручено к концу дня собрать дополнительные сведения о Семенове, все, какие возможно, а Жаткину — о сестре и племяннице.
— Проверь, кстати, — сказал ему Лобанов, — не получала ли и сестрица в эти дни сигнала из Ташкента. Письма, телеграммы. Всюду проверь как надо. Ясно?
— Ясно, Александр Матвеевич, — нетерпеливо ответил Жаткин. — Я пойду. Разрешите?
— Все могут идти. А ты, Храмов, обожди.
Когда они остались одни, Лобанов, закурив, сказал:
— Давай еще раз уясним ситуацию. Значит, Семенов впервые получил чемодан с гашишем в январе. Привезли двое. Одного звали Иван. Имя второго неизвестно. По виду узбек. Приехали, видимо, из Ташкента. Поезд был оттуда. Сейчас и телеграмма оттуда. Так что сходится. Этих двоих мы не нашли. Но чемодан конфисковали. Недостающий там гашиш отдал Сенька, карманный вор. Семенов поручил ему продать это на рынке. Помнишь?
Храмов молча кивнул.
— Сенька никого, кроме Семенова, не знает, — продолжал, откинувшись на спинку кресла и неторопливо покуривая, Лобанов. — Значит, ниточка тянется к нам сюда из Ташкента, и на конце ее только Семенов. Пока все ясно, а?
— Так точно, — подтвердил внимательно слушавший Храмов.
— Вполне вероятно, что завтра приедут те же двое. Их, между прочим, может узнать не только Семенов, но и Тамара, его бывшая подружка, так сказать. Как думаешь?
— Ее судили. Она уже в колонии. Этапировать некогда, — покачал головой Храмов.
— Да, верно, — согласился Лобанов. — Тем более что может приехать и кто-нибудь другой, кого она не знает, а Семенов знает. Итак, остается он, один он. Все правильно.
— Надо сегодня бы с врачом договориться, — предложил Храмов. — И место для беседы найти. Может, съездить?
— А ты с ней знаком?
— Так точно.
— Ну… и как она?
— Женщина симпатичная, — равнодушно ответил Храмов, удивительно равнодушно, как показалось Лобанову. — Молодая еще, конечно, — добавил Храмов, не то осуждая, не то сомневаясь в чем-то.
— Так кто же поедет? — спросил Лобанов. — Ты или я?
Храмов посмотрел на него слегка удивленно. Он не привык, чтобы его деловитый и решительный начальник колебался в таких простых вопросах. Лобанов поймал этот удивленный взгляд и, хмурясь, сказал:
— Сейчас мы с ней договоримся.
Он снял трубку и поспешно, будто прогоняя охватившее его на миг смущение, набрал нужный номер.
К телефону подошел сначала кто-то другой, и только потом раздался знакомый голос.
— Наталья Михайловна, тысячу извинений, это снова Лобанов вас беспокоит, — бодро, пожалуй, даже слишком бодро, произнес он, искоса взглянув на спокойно курившего Храмова. — Тут несколько изменились обстоятельства. Хотелось бы вас повидать. Да и… в общем повидать, — сбивчиво и сердито закончил он.
— Меня или больного?
«Улыбается. Конечно, улыбается, черт возьми».
— Сначала вас, а потом его, завтра.
— Ну что ж, приезжайте. Только до четырех, можно?
— Постараюсь. А вы… так рано уходите?
— Нет. Мы вообще до шести. Но сегодня… Мне надо за сыном зайти в детский сад.
— Понимаю, понимаю, — торопливо произнес Лобанов. — Ну конечно.
Он медленно опустил трубку, ощущая какую-то непривычную горечь в душе, и мстительно подумал: «Вот так. У всех сыновья. Все правильно», — и, усмехнувшись, сказал Храмову:
— За сыном идет, в детский сад.
— Кто? — не сразу понял тот. — Врач?
— Не я же, — буркнул в ответ Лобанов и неожиданно подумал, что, пожалуй, с удовольствием пошел бы в детский сад за своим сыном. Интересно, какой бы у него был сын? Но он тут же прогнал эти глупые, не к месту пришедшие мысли и деловито добавил:
— Просит приехать до четырех, — он посмотрел на часы. — А сейчас уже без четверти два.
В этот момент зазвонил внутренний телефон, и Лобанов рывком снял трубку.
— …Слушаюсь, товарищ комиссар. Буду. — И с непонятным облегчением он объявил Храмову: — Через полчаса совещание. Поедешь сам. Узнай, как себя ведет, когда завтра нам приехать, где лучше побеседовать и можно ли будет его завтра вечером забрать на часок. Или нет, о вечере ничего не говори, а узнай…
Когда Храмов наконец ушел, удивляясь про себя странной нервозности своего начальника и объясняя ее исключительно тем, что предстоит им всем завтра, Лобанов решительно убрал в сейф бумаги со стола, еще раз взглянул на часы и отправился к дежурному.
— Вызывай по спецсвязи Москву. Коршунова. Быстренько.
Москва ответила почти мгновенно, а еще через минуту к телефону подошел Коршунов.
— Телепатия, — засмеялся он. — Я как раз собрался звонить тебе. Какие новости? Ты же без этого не позвонишь.
— Получили привет от дяди. Завтра вечером будем брать племянников. Но перед этим…
Коршунов слушал внимательно, не перебивая, не задавая вопросов, позволяя выговориться до конца и именно так, как хотелось бы собеседнику. Он даже чуть помедлил с ответом, ожидая, не сообщит ли Лобанов что-нибудь еще, и только потом сказал:
— Ну что ж. Итак, начинаем, старина, новое дело. Очень серьезное. Пора добираться до дяди. А то все на племянников натыкаемся. Но ты что-то слишком волнуешься, по-моему. Что у тебя там еще случилось?
Лобанов смущенно кашлянул. Это же надо! Свои тут ничего не заметили, а этот из Москвы чего-то учуял.
— Согласно вашим указаниям жениться надумал, — грубовато пошутил он. — А она не согласна.
Вопреки ожиданию Коршунов шутки не принял.
— Тогда понятно, — коротко ответил он и перевел разговор на Семенова: — Держи меня в курсе. Дело серьезней, чем ты думаешь.
Лобанову нестерпимо захотелось расспросить подробности. Выходит, Коршунову известно что-то такое, чего не знает он сам. Но пришлось проститься: у комиссара уже начиналось совещание.
«Итак, начинаем новое дело, — думал Лобанов, шагая по коридору. — «Снова вышли на тропу войны», — вдруг пришли ему на память слова из давно забытых, в детстве когда-то читанных книг.
Утром пошел дождь, первый дождь в этом году, унылый, мелкий и холодный, при котором все вокруг выглядит нудным и противным — и низкое серое небо, и придавленные им, тоже как-будто посеревшие дома, и поникшие голые деревья в скверах, и грязный снег под ногами.
Лобанов приехал в больницу невыспавшийся и сердитый. Накануне они допоздна совещались в отделе: как раз в эти дни дел и забот навалилось немыслимо много. Да и предстоящий разговор с Семеновым казался сейчас Лобанову не столько трудным, сколько муторным и неприятным. Снова видеть эту самоуверенную, толстую рожу, слышать истерический, наглый крик. «Черт бы тебя побрал вместе со всеми твоими дядями и племянниками, — раздраженно думал Лобанов, выбираясь из машины. — Ну погоди…» Ночью, в который раз обдумывая эту встречу, он наметил как будто неплохой план, даже, как ему тогда показалось, остроумный. Но сейчас, в это хмурое, сырое утро, все придуманное выглядело плохо и неточно. Лобанова вдруг что-то забеспокоило, что-то не учтенное им в этом предстоящем разговоре и пока совершенно неуловимое.
Мокрые серые корпуса больницы, мимо которых он шел сейчас, оставив машину у ворот, с крупными белыми номерами на торцовых стенах одним своим видом навевали уныние. В окнах бледно-желто горели лампы, словно напоминая, что пасмурное, сумрачное это утро еще не утро. Ночью Лобанов успел не раз отругать себя за мальчишеское волнение с телефоном и теперь был полон к себе насмешливого презрения.
Но вот показался наконец седьмой корпус.
Лобанов свернул к нему по асфальтовой дорожке и позвонил у облупленной дощатой двери.
Через несколько минут он уже шел по длинному коридору второго этажа в халате, накинутом на плечи, следом за толстой пожилой няней. В палатах больные кончали завтракать, и «ходячие» помогали уносить грязную посуду, из-под серых байковых халатов у них болтались белые тесемки кальсон. Молодые, кокетливые сестры в белоснежных шапочках и коротеньких, тщательно отглаженных халатиках озабоченно сновали мимо Лобанова, бросая на него быстрые, любопытные взгляды. Навстречу прошел высокий седой человек в халате, его почтительно сопровождала целая свита врачей и сестер, «Профессор», — решил Лобанов.
В это время нянечка, тяжело переваливаясь и запыхавшись, подвела его к двери ординаторской и уважительно, со значением произнесла:
— Тута они все.
Лобанов толкнул дверь.
Он сразу узнал палатного врача Семенова, вернее, сразу угадал, что это она, и, обойдя всех других — а врачей в комнате было человек шесть или семь, — подошел к белокурой женщине, что-то писавшей за столом. Шапочка ее лежала рядом, и пепельные короткие волосы падали на лоб, она их нетерпеливо отбросила, подняв голову, когда к ней подошел Лобанов.
— Здравствуйте. Лобанов, — коротко произнес он.
Она поднялась и с улыбкой протянула руку.
— Здравствуйте. Волошина.
Коротенький халатик, без единой складки облегавший ее стройную фигурку, детские ямочки на щеках и чуть смущенный взгляд больших серых глаз показались Лобанову неуместными. «Как она только мужиков лечит?» — с неожиданным раздражением подумал он.
— Так вы хотели бы поговорить с больным Семеновым?
— С вашего разрешения.
— Мы вчера договорились об этом с вашим товарищем, — снова улыбнулась Волошина. — И комнату приготовили. Пойдемте.
Она торопливо сложила бумаги в старенькую папку с тесемочками и направилась к двери. «Просто девочка какая-то», — неодобрительно подумал Лобанов, следуя за ней.
— Наталья Михайловна, вы скоро вернетесь? — окликнула ее одна из женщин-врачей. — Меня беспокоит вчерашняя кардиограмма Осипова. Вы обещали посмотреть.
— Да, да, я сейчас.
Она порывисто открыла дверь.
Теперь они шли по коридору, и Лобанов казался себе страшно неуклюжим рядом с этой легкой, маленькой фигуркой в белом халате, с перепутанными светлыми волосами. Ему все время казалось, что она сейчас убежит от него, спрячется или, подняв голову, лукаво улыбнется, и он не будет знать, что тогда делать.
С Волошиной все время здоровались, то больные, то санитарки, то сестры, и она приветливо, но совсем не одинаково отвечала им. И Лобанов старался угадать ее отношение к каждому. Но он успевал только подумать: «Любит… Не любит… Любит…» И, неожиданно смутившись, бросил это занятие. С каждой минутой молодая женщина нравилась ему все больше. «Храмов в общем прав, она симпатичная», — сдержанно, почти строго сказал он себе. И все же чувствовал себя как-то непривычно скованно рядом с ней и, сердясь на это, с напускной беспечностью спросил:
— Ну и как, успели вы вчера за сыном?
Волошина подняла голову, откинув рукой прядку волов со лба, и улыбнулась.
— Представьте, опоздала. Тяжелый больной поступил.
— Получили выговор?
— Еще какой. Вовка у меня очень строгий. Когда я прибежала, он уже сидел одетый, в пальто, шапке, и говорит мне: «Тебя удовлетворяет такая ситуация? Лучше бы Валя за мной пришла».
Оба рассмеялись, а Лобанов спросил!
— Это старшая сестренка?
— Нет. Валя на нашей площадке живет. Большая девочка. Но с Вовкой очень дружит.
— Скажите, — вдруг спросил Лобанов. — Почему Семенов сначала поступил в другую палату, а потом его перевели к вам?
Они уже стояли около какой-то двери, и Волошина нажала ручку, чтобы войти.
— Почему? — она подняла голову, привычно откинув светлую прядку со лба. — Сестра его меня попросила. Мать этой самой Вали. «У вас ему, говорит, лучше будет».
Лобанов насторожился.
Он не мог бы объяснить, почему задал свой последний вопрос. Это произошло непроизвольно, сработала годами воспитанная в нем, чисто профессиональная способность увязывать, сопоставлять самые туманные намеки, самые, казалось бы, далекие факты. В данном случае как-то неожиданно, видимо, сцепились между собой у него в мозгу три в разное время отмеченных им обстоятельства: Семенова перевели в другую палату, к Волошиной; девочка Валя живет с ней на одной площадке, а ведь так зовут и племянницу Семенова; наконец, какая-то нотка особой озабоченности в голосе Волошиной, когда та говорила ему по телефону о состоянии здоровья Семенова.
Ответ Волошиной, однако, не столько обрадовал его, сколько обеспокоил. Хотя, казалось бы, он мог быть доволен своей проницательностью. «Этого еще не хватало», — подумал Лобанов и сказал:
— Заботливая же у него сестра. Наверное, часто навещала?
На этот раз Волошина взглянула на него строго и, как ему показалось, даже обиженно.
— Вы же сами запретили навещать этого больного. И я никому не разрешала.
Теперь улыбнулся Лобанов.
— Но ведь могли же вы сделать исключение? Или не вы, а другой врач, допустим. Вы, кажется, исключений никому не делаете.
— Почему же? Когда можно, делаю, — она открыла дверь и добавила: — Заходите. Здесь у нас дежурят ночные сестры.
Комната оказалась небольшой, светлой и очень чистой. Лобанов огляделся. У стены стоял маленький белый столик, над ним висело круглое зеркальце, за которое была засунута веточка мимозы, напротив стоял высокий топчан, застеленный простыней, у окна — стеклянный шкафчик с лекарствами и инструментами, два белых стула дополняли обстановку.
— А вы были раньше знакомы с Семеновым? — вернулся к прерванному разговору Лобанов, придвигая к столику один из стульев, стоявший возле окна.
— Нет, не была. Я вообще-то мало знаю Нинель Даниловну, — сдержанно ответила Волошина. — Иногда одолжишь луковицу, соль. И она тоже. Ну, еще дети…
Лобанов сразу уловил перемену в ней и очень серьезно сказал:
— Вы извините меня за эти расспросы. Но тут не простое любопытство. Семенов замешан в опасном преступлении. И у нас не очень хорошие сведения о его сестре.
Волошина взглянула на него удивленно и встревоженно.
— Что вы говорите? — она даже закусила в испуге губу. — В преступлении?
— Да.
— Какой ужас. Но сестра… по-моему, она ничего не знает. Она так живет… беззаботно. А Валя… она очень хорошая девочка. Уверяю вас.
— Один мой приятель, — улыбнулся Лобанов, — из третьего класса говорит, что девчонки совсем деформировались, даже фартуки не носят.
Волошина тихо рассмеялась.
— Нет, — сказала она, покачав головой. — Валя не деформировалась.
— Я почему-то вам во всем верю, — тоже тихо сказал Лобанов.
— Правда?
Она казалась удивленной.
— Правда.
— Так… я позову Семенова?
— Подождите. А как, по-вашему, его сестра… не деформировалась?
— Она мне не нравится, — просто ответила Волошина. — Я не знаю почему. Вернее… Но ведь вы сами ее знаете.
— Не очень, — вздохнул Лобанов. — Следовало бы больше. К ней, кажется, приходит много людей?
— Я их не знаю.
— И бывает очень весело, говорят?
— Не знаю, — сдержанно ответила Волошина. — Я не люблю сплетничать. Пожалуйста, не спрашивайте меня о ней, ладно?
Лобанов нахмурился.
— Я тоже не люблю сплетничать. Но вы говорите «сплетничать», а имеете в виду совсем другое. Правда?
Волошина опустила глаза.
— Правда…
— Вы думаете, что это нехорошо, это… непорядочно, что ли, рассказывать мне о другом человеке и тем, может быть, приносить ему вред? Так ведь? — Лобанов незаметно разгорячился, — И получается, что я вас толкаю на эту непорядочность.
Она посмотрела на него открыто и твердо.
— Да, так получается. И я этого не хочу.
— Но это же не так! Вы же… вы же понимаете, о чем и о ком я вас спрашиваю. Значит, и моя работа непорядочная? Найти преступника, найти вора, убийцу, насильника или… отравителя, например?
— Ну что вы! — в испуге воскликнула она.
— А как же я его найду один? — все больше горячась, продолжал Лобанов. — Как же я его найду, если мне не помогут те, кто знает хоть самый маленький кусочек пути к нему? А ведь, как правило, это очень сложный, запутанный путь, он проходит и через другие города, через десятки людей, самых разных, плохих и хороших, которые что-то знают, что-то видели. Нет, вы не правы. Если бы вы были правы, я, например, не мог бы уважать свою работу. А я ее не только уважаю, я ее люблю, считаю ее нужной, очень нужной, пока существуют такие люди, которые… Вот если бы вы хоть раз видели тех, кого ограбили, если бы вы видели родных убитого, его жену, его детей, если бы вы видели их слезы, вы бы… я вам точно говорю, вы бы все сделали, вы бы землю перевернули, чтобы найти того, кто причинил такое горе. А я все это видел. И каждый раз это как будто мое собственное горе…
— Да, вы, конечно, все это видели, — прошептала Волошина, не спуская с Лобанова широко открытых глаз. — И я не права… сейчас.
— Ну ладно, — махнул рукой Лобанов. — Я, кажется, очень много наговорил. Извините меня.
— Нет, нет. Просто я вас… обидела. Я понимаю. Это вы меня извините.
— Ну что вы!..
Они посмотрели друг на друга и неожиданно улыбнулись, словно каждый понял гораздо больше, чем было сказано, понял, кажется, даже то, что другой только подумал, только на какой-то миг ощутил.
Волошина провела рукой по лбу и неуверенно сказала:
— Я позову Семенова, хорошо?
— Да, позовите. А потом… мы еще увидимся?
Она улыбнулась:
— Если вам что-нибудь потребуется узнать.
— А если мне что-нибудь потребуется понять?
Она кивнула:
— Тогда тоже…
И поспешно вышла из комнаты.
Лобанов медленно огляделся, словно соображая, как он попал в эту незнакомую комнату.
Хмурясь, он прошелся из угла в угол по комнате, придерживая рукой наброшенный на плечи халат, потом опустился на стул. Надо было собраться с мыслями, надо было многое вспомнить. Сейчас войдет Семенов. От этого разговора многое зависит. «Дело серьезней, чем ты думаешь», — вспомнил он слова Коршунова и неожиданно-улыбнулся.
В дверь постучали.
— Войдите! — крикнул Лобанов.
Улыбка мгновенно стерлась с его лица, оно стало замкнутым и сосредоточенным.
В кабинет вошел Семенов. О, это был уже совсем не тот цветущий и самоуверенный господин в модном пальто и дорогой пушистой шапке, который появился однажды в кабинете Лобанова, и совсем не тот расторопный, лукавый и услужливый заведующий галантерейным ларьком, каким видели его на рынке. Когда-то полные, румяные щеки Семенова обвисли и побледнели, заросли светло-рыжей щетиной, глаза ввалились и смотрели тоскливо и как-то отрешенно. Серый больничный халат с зелеными обшлагами, который он сейчас придерживал локтем, чтобы не разошлись полы, висел на нем, как на вешалке, мятый и чем-то испачканный на груди, видимо, Семенов ел неряшливо и торопливо. Белые, с синими прожилками ноги еле волочили спадавшие тапочки, и тесемки кальсон болтались вокруг них как-то сиротливо и жалостливо. Вся фигура Семенова выражала уныние.
Увидев Лобанова, он растерянно остановился. Видимо, встреча эта была для него неожиданной.
— Садитесь, Семенов, чего же вы? — пригласил Лобанов, внимательно и почти сочувственно оглядывая его.
— Да, да, конечно… — пробормотал Семенов.
Шлепая тапочками и судорожно запахивая халат, он приблизился и тяжело опустился на стул.
— Итак, Петр Данилович, опасность миновала, и вы почти выздоровели, — сказал Лобанов. — Это, знаете, просто чудо. Ведь положение ваше было ой-ой какое.
— А, — вяло махнул рукой Семенов. — Мне уже все равно. Сами видите, инвалидом стал.
— Да, отравление было тяжелым, что и говорить. Вы догадываетесь, кто это сделал?
Семенов горько усмехнулся.
— Конечно. С вами, — он сделал ударение на этом слове, — я могу быть откровенен. Это Тамарка, дрянь, голодранка, которую я… почти любил. Только подумайте!
— А почему она это сделала, вы тоже догадываетесь? — быстро спросил Лобанов.
— Как же не догадываться? — снова, но уже зло усмехнулся Семенов. — Очень даже догадываюсь. И я ее теперь…
— Вы ее теперь долго не увидите, — в свою очередь, усмехнулся Лобанов. — Она осуждена.
— Правильно! Судить! Всех! — мстительно воскликнул Семенов, стукнув по колену худым белым кулачком, и дряблые щеки его порозовели. — Всех судить! И меня! Пожалуйста! И меня! Но и других тоже!..
В уголках его узких, дрожащих губ запеклась слюна.
— Других надо еще поймать, изобличить, — заметил Лобанов. — Вот, например, задержали мы Сеньку.
— Мелочь… — презрительно пробормотал Семенов.
— Конечно, — согласился Лобанов. — Но давайте, Петр Данилович, говорить откровенно. Вам ведь терять нечего. И вам все равно, как вы сказали.
Семенов настороженно и опасливо взглянул на Лобанова, и тот подумал: «Нет, тебе, кажется, еще осталось что терять», однако все так же доверительно продолжал:
— В январе вы получили чемодан с гашишем. Мы его, между прочим, нашли и конфисковали. — При этих словах в тусклых глазах Семенова мелькнула злорадная усмешка. — Вам его привезли двое: Иван и еще один человек. Кто их прислал, Петр Данилович?
Задумчиво пожевав губами, Семенов пробормотал:
— Не знаю его…
— Но вы же должны были встретиться с ним хоть раз, там, в Ташкенте?
— Не в Ташкенте, — покачал головой Семенов. — В Самарканде. И вообще это была не встреча, а так, случай… — Он на секунду умолк, горбясь и не отрывая взгляда от своих ног в больничных тапочках, потом глубоко вздохнул и тоскливо посмотрел на Лобанова: — Ладно. Мне действительно теперь все равно. Вот как было дело, — он снова опустил голову и глухо продолжал: — Однажды я прилетел в Самарканд в командировку из Ташкента…
«За теми самыми вазами, наверное, — усмехнулся про себя Лобанов. — Жуликом ты уже и тогда был», — и спросил:
— Когда это случилось, не помните?
Семенов ответил.
«Ну конечно, за вазами ездил», — удовлетворенно подумал Лобанов и попросил:
— Рассказывайте.
— Прилетел я, значит, в Самарканд, за день все свои дела сделал и на следующее утро приехал на аэродром, чтобы в Ташкент обратно лететь. А самолет задерживается. Я в ресторан зашел. Заказал что-то. Тут подсаживается ко мне человек. Ну, выпили. Разговорились. Еще выпили. И он мне свой товар предлагает…
«Удивительно, как они друг друга находят. Прямо-таки носом своего чуют, — подумал Лобанов. — Хотя в таком деле… случайному знакомому… так сразу…»
— Вы его раньше не встречали в Ташкенте или в Самарканде? — перебил он Семенова.
— Представьте, не встречал, — пожал плечами Семенов.
«Врешь, — тут же решил про себя Лобанов. — Не такой он дурак. И я, кстати, тоже».
— Значит, он предложил. А вы?
— Я отказался.
— Почему же?
— Как вам сказать…
— Как есть, Петр Данилович. Вернее, как было. Ведь мы же с вами условились.
— Да, да. Я ему сказал, что у меня сейчас нет свободных денег. К тому же из Ташкента уезжаю совсем в другой город. Я сюда, в Борек, перебраться решил. Климат, знаете, там, в Ташкенте, ужасный. Я просто больной ходил. Чувствую, не могу…
«Ну еще бы», — насмешливо подумал Лобанов и, снова перебив, спросил:
— А каков собой этот человек?
— Как сказать… лет за сорок, полный. Узбек, наверное. Зубы такие, знаете, острые, прямо волчьи зубы. И глаза… Страшноватый в общем.
— Ну хорошо. Вы отказались, А он?
— А он говорит: «Уезжай, пожалуйста. Дай адрес только, пожалуйста, гостем буду», — Семенов произнес это с каким-то, придуманным им самим ядовитым акцентом.
— И вы…
— Дал… — упавшим голосом произнес Семенов. — До востребования, конечно.
— А не сестры адрес вы дали?
— Сестры?.. Может, и сестры. Я уже не помню… Давно это было, знаете… — сбивчиво ответил Семенов, нервно потирая худые руки.
— Ну, пока неважно. Потом вспомните, если потребуется, — добродушно сказал Лобанов. — И что же он?
— Написал.
— И вы ответили?
— Не мог не ответить. Боялся.
— И тоже до востребования, конечно?
— Да, конечно.
— Как же его фамилия, имя?
— Фамилия?.. — Семенов провел бледной рукой по лбу. — Кажется, Борев… нет, Борисов. Николай… вот дальше забыл.
— Это узбек-то? — удивился Лобанов.
— Да… вот так… растерянно подтвердил Семенов. — Выходит, не узбек…
«Что-то ты, милый, путаешь, — подумал Лобанов. — Или тот путает…»
— Вы не думайте, я не вру, — Семенов прижал руки к впалой груди и с тревогой посмотрел на Лобанова. — Это точно, что Борисов.
— Ну хорошо, допустим. А что было потом?
— Потом? Прошло несколько месяцев. Я уж думал, что он забыл про меня. Обрадовался…
«Представляю себе эту радость, — саркастически подумал Лобанов. — Немалый барыш из рук-то уплывал».
— …Как вдруг, — продолжал Семенов, — неожиданно приезжает от него человек. Тот самый, Иван.
— Значит, вы в письме адрес сообщили?
— А что было делать? Он же потребовал. А я…
— Понимаю. Что же было дальше?
— Когда он приехал, у меня Тамара сидела. Они познакомились. Потом я ее и встречать послал. На вокзал. Когда они тот чемодан привезли. Я себя в тот вечер неважно чувствовал.
Лобанов усмехнулся.
— Будем уж до конца откровенны, Петр Данилович. Сами вы встретить побоялись. Вы же понимали, что преступление совершаете, причем преступление опаснейшее — торговля наркотиками, отравление людей. У нас, конечно, не Америка. Тоннами преступники не ворочают. Но вам и не требовалось. Вас не тонны, вас килограммы вполне устраивали. И немалый барыш сулили. Только у нас и килограммы, и даже граммы — уже «чепе». Это вы тоже знали. И потому лишний раз себя под удар ставить не захотели. Тамару на вокзал и послали. Так ведь?
Пока он говорил, Семенов сидел сгорбившись, низко опустив голову с взъерошенными, седеющими волосами вокруг кругленькой лысины, и вздрагивал, как от озноба, в своем сером больничном халате, с кальсонными тесемками, на которые он, видно, поминутно наступал, и концы их были черные.
Но сейчас его вид уже не вызывал у Лобанова сочувствия. Он вспомнил тех двух мальчишек, которые по неведению, из озорства и любопытства купили у Сеньки гашиш, подумал, что бы с ними стало, если бы они его выкурили и потянулись бы за новой порцией, подумал об их семьях, об ужасе и отчаянии, которые там поселились бы после этого, и такая злость вдруг захлестнула его, что Лобанову стоило немалого труда сдержать себя и тем же ровным, чуть насмешливым тоном закончить:
— …Вы говорите: Сенька — мелочь. Вы для нас, извините, тоже мелочь. Нам нужен тот, Борисов, как вы его называете. И мы его найдем. Будьте уверены. С вашей помощью или нет — все равно. Вот только вам, Семенов, это не все равно.
— Я же понимаю, понимаю, — забормотал Семенов. — Пропади все пропадом. Мне бы только жить, дышать. Мне бы только выздороветь. А врачи… Разве это врачи?.. Они ничего не гарантируют.
— И я вам ничего не гарантирую. Все решит суд. Но если хотите надеяться хоть на какое-нибудь снисхождение, надо его заслужить. Пока вы его ничем не заслужили. Хотите жить? Хотите дышать? Быть здоровым? А я хочу, чтобы жили, дышали, были здоровыми те мальчишки, которые купили у Сеньки вашу отраву! Мы их задержали. Но пока вас тут лечили, этот Борисов…
— А кто он мне?! Брат, сват, компаньон?! — в отчаянии воскликнул Семенов. — Почему я должен его беречь?! Я его знать не знаю! Я его видеть не хочу!..
— Все верно, — усмехнулся Лобанов, закуривая и ломая о коробок спичку. — Видеть вам его и не требуется.
Семенов дрожащей рукой вытер со лба испарину и упавшим голосом произнес:
— Что же я могу теперь сделать? Я ничего больше не знаю, я болен, я устал…
— Кое-что вы можете, — с ударением произнес Лобанов, делая короткую затяжку. — Например, вы можете сегодня вечером… встретить племянника от дяди.
Он ожидал испуга, удивления, думал, что Семенов вскрикнет от неожиданности. Однако ничего этого не произошло. Семенов лишь еще больше съежился на своем стуле и пробормотал:
— Да, да, да… конечно… я так и знал…
«Неужели он знал? — с беспокойством подумал Лобанов. — Но это означает…» — и резко спросил:
— Откуда вы знали?
Семенов в испуге посмотрел на него и прижал бледные руки к груди.
— Это должно было случиться, должно… рано или поздно. Он же не знает, что меня постигло… такое несчастье. Он же не знает, что Тамарка, эта дрянь… и вообще он ничего не знает.
— Пожалуй, — недоверчиво произнес Лобанов. — Ну, а кто же приедет, Иван? Или… как звали второго?
— Карим…
— …или Карим?
— Понятия не имею.
— Но ведь никого другого вы не знаете?
Семенов задумчиво покачал головой.
— Не знаю…
— Ну вот видите. А теперь прочтите.
Он протянул Семенову бланк телеграммы.
Тот осторожно, с опаской развернул его и пробежал глазами текст один раз, второй, потом взгляд его остановился, стал сосредоточен, и Лобанов, внимательно наблюдавший за ним, понял, что Семенов сейчас что-то обдумывает, на что-то, возможно, решается.
— Где их надо встречать? — сухо спросил он. — И когда?
— На вокзале… поезд тридцать восьмой…
— Это точно? Вечером прибывает и самолет.
— Точно…
— Хорошо. Вы не откажетесь поехать на вокзал?
— Не откажусь, — тихо произнес Семенов, все еще не отрывая глаз от телеграммы, и вдруг встревоженно посмотрел на Лобанова, — А врачи… они пустят?
— Мы договоримся.
— Тогда я встречу… Мне теперь уже все равно…
— Нет, Семенов, вам не все равно. А теперь идите и отдыхайте. Мы за вами заедем.
Семенов тяжело поднялся, запахнул полу халата и, шаркая тапочками, понуро и молча направился к двери.
Когда он вышел, Лобанов подумал: «А все-таки на аэродроме мы тоже приготовим встречу, как хочешь. И на квартире у тебя тоже. Да, да. Береженого бог бережет. Мало ли что может случиться».
Он встал, потянулся, неторопливо закурил и прошелся по комнате. Потом взглянул на часы. Ого! Надо было действовать. И все еще раз обдумать с ребятами, все предусмотреть. Он неожиданно усмехнулся. Еще боцман Трофим Приходько с «Архангельска» когда-то говорил им: «Моряк всегда моряк, и бури бывают всюду, братишки». Эх, Трофим, Трофим… Ну что ж. Пока что полный вперед. «Моряк всегда моряк», — с удовольствием повторил он.
К вокзалу подъехали, когда совсем стемнело.
Семенов, нахохлившись, сидел на заднем сиденье, надвинув на лоб шляпу и подняв воротник модного драпового пальто. Пушистый шарф укутывал его шею до самого подбородка. Возле Семенова расположился Володя Жаткин. Лобанов сидел рядом с водителем.
Когда машина остановилась перед ярко освещенным вокзалом, Лобанов посмотрел на часы.
— Так. Значит, до прихода поезда еще пятнадцать минут. Подождем в машине. А ты узнай, — он повернулся к Жаткину и неопределенно пошевелил в воздухе пальцами, — как там и что.
— Слушаюсь.
Жаткин толкнул дверцу и мгновенно исчез в толпе.
К вокзалу непрерывно подъезжали машины. Люди вокруг суетились, спешили, нервничали, многие с чемоданами, с тюками в руках, некоторые вели детей. Носильщики в белых фартуках грузили багаж на свои тележки. Напряженный гул висел над площадью, сплетенный из урчанья автомобильных моторов, звона трамваев, чьих-то возгласов, шарканья тысяч ног, железного голоса репродукторов где-то высоко над головой и далеких паровозных гудков.
Жаткин появился так же неожиданно, как и исчез. Он наклонился к Лобанову и тихо доложил через приспущенное стекло:
— Все в порядке.
— Пошли, Петр Данилович, — сказал Лобанов.
— Да, да, пошли, — заторопился Семенов, с трудом вылезая из машины.
Втроем они поднялись по ступеням вокзала, пересекли огромный, с высокими сводами зал ожидания и вышли на сырой, обдуваемый ветром перрон.
Лобанов, заметив, что Семенов слегка пошатывается от слабости и волнения, взял его под руку.
— Спокойнее, Петр Данилович, спокойнее. Еще раз повторяю: мы их задержим, как только они подойдут. Вам и слова сказать не придется. Если же они вас не заметят, то…
Он говорил негромко, спокойно и уверенно и чувствовал, как Семенов постепенно успокаивается.
На перроне было людно и шумно.
Внезапно откуда-то из дальней тьмы вынырнули два ослепительно-ярких глаза, с шипением и лязгом они накатывались на перрон. Мощный электровоз, блестя и переливаясь в огнях вокзала, плавно вытянул за собой вереницу освещенных вагонов, и они неторопливо проползли мимо людей на платформе, постепенно замедляя ход, и как-то совсем незаметно остановились.
Люди вокруг заговорили еще возбужденнее, засуетились. Из вагонов стали выходить пассажиры.
Лобанов и Жаткин с безразличным видом отошли от Семенова, не спуская, однако, глаз с его напряженного, бледного лица. К ним подошла сотрудница их отдела с чемоданом в руке, и они теперь стояли втроем, словно провожая ее, и оживленно болтали о чем-то. Невдалеке прогуливались еще двое сотрудников, один из них тоже держал чемодан. Лобанов знал, что на противоположной платформе тоже находятся двое его ребят, и все выходы в город надежно «закрыты», а на площади дежурят машины.
Это была далеко не первая операция по задержанию опасных преступников не только в жизни Лобанова, но и каждого из ее участников, кроме, пожалуй, Володи Жаткина. Он работал в уголовном розыске совсем еще мало, каких-нибудь два года, сразу после университета. И Лобанов видел, что Володя возбужден и нервничает, излишне суетится, и время от времени строго поглядывал на него. А Верочка, умница, вдруг попросила его подержать чемодан и окончательно лишила его возможности вертеться и суетиться. Володя покорно держал ее чемодан, сдвинув кепку с потного лба, а свободной рукой поминутно поправлял свернувшееся в жгут кашне на тонкой, почти мальчишечьей шее или нетерпеливо расстегивал, а потом снова застегивал пальто. Ему было жарко, неудобно, просто невыносимо.
Семенов стоял сгорбившись, глубоко сунув руки в карманы пальто и чуть надвинув на лоб шляпу, залитый ярким светом лампы, висевшей высоко над его головой, и напряженно вглядывался в снующих вокруг людей. Чувствовал он себя отвратительно. Ноги были словно ватные, и все время его тряс нервный озноб, а во рту вдруг возник какой-то горький вкус, и голова слегка кружилась от слабости.
Люди с поезда шли и шли мимо него, мужчины, женщины, некоторые с детьми, несли багаж, громко, возбужденно переговаривались, и никто не обращал на него внимания, да и сам он никого не узнавал. У него уже начинало рябить в глазах от бесконечного потока чужих, незнакомых лиц, от всего этого шума и суеты вокруг. Он устал и невольно оперся спиной о тонкий, ребристый столб, на котором висела лампа.
И вдруг… Семенов весь напрягся и чуть подался вперед. В толпе мелькнула долговязая фигура в серой кепке и темном длинном пальто. Семенов увидел узкое лицо с тонкими, поджатыми губами, густые черные брови и хмурые глаза. Иван!.. Один, без чемодана!.. Он мелькнул в толпе и исчез.
Семенов ждал. Сейчас появится с чемоданом Карим, сейчас они оба подойдут к нему. Сейчас подойдут! Сердце забилось как-то странно: с болью и паузами.
В этот момент Иван появился снова, он посмотрел на Семенова, встретился с ним взглядом и вдруг перевел его куда-то в сторону, потом опять посмотрел на него и снова отвел глаза, будто указывая Семенову на что-то. Семенов нерешительно проследил его взгляд и внезапно увидел невысокого, коренастого паренька с чемоданом. Тот шел как-то неуверенно, поглядывая в сторону… Да он же следит за Иваном! Тот словно наводит его на Семенова. Так и есть. Парень теперь смотрел на него, он уже шел к нему, уверенно, торопливо. А Иван… он вдруг снова исчез. Значит, Ивана не задержат, и он все увидит и передаст. А тогда… Что тогда?…
Семенов вздрогнул. Парень подошел к нему и с натянутой усмешкой спросил:
— Вы… Петр Данилович?
Что произошло дальше, Семенов не успел сообразить.
К парню с двух сторон подошли какие-то люди, подошли спокойно, почти безразлично, один из них, наклонившись, тихо что-то сказал ему, и парень в испуге отпрянул назад, к противоположному краю перрона, собираясь, видимо, спрыгнуть вниз, на рельсы. Но двое подошедших удержали его, один за плечо, другой за руку. И парень напрягся, засопел, пытаясь вырваться из их цепких рук.
И тут случилось нечто вовсе непредвиденное.
По краю перрона неожиданно метнулся какой-то человек, выхватил чемодан из рук парня, швырнул его вниз, на рельсы, и сам прыгнул вслед за ним.
Это произошло так внезапно и стремительно, что только по ошеломленному виду парня, по гримасе боли, исказившей его лицо, можно было понять, что для него все это было такой же неожиданностью, как и для задержавших его людей. Все трое на секунду словно оцепенели.
В этот миг сорвался со своего места Жаткин и птицей перемахнул через перрон вслед за исчезнувшим там человеком. По пути он нечаянно толкнул какую-то женщину, та, вскрикнув, ухватилась за своего спутника, и это привлекло внимание окружающих. Люди столпились вокруг нее и задержанного парня, раздались возмущенные возгласы:
— Хулиган какой-то!..
— Он же украл что-то, украл!..
— Не что-то, а чемодан! Вот у этого молодого человека!..
— Не он украл, а другой!..
— Где милиция?.. Милиция!..
— Спокойней, граждане! Его сейчас задержат! Это вы видели чемодан?..
А вслед за Жаткиным уже соскочил с платформы Лобанов. Больно ударившись ногой о рельсы, он упал и в этот момент увидел в темноте, под платформой, две сцепившиеся человеческие фигуры, услышал тяжелое, прерывистое дыхание, потом короткий вскрик, один из людей метнулся в сторону и тут же растворился в темноте, прежде чем Лобанов, пригибаясь, добежал до места схватки. Второй человек приподнялся ему навстречу, прижимая руку к плечу. Это был Жаткин, Возле него лежал чемодан.
— Александр Матвеевич… — задыхаясь, произнес он. — Ушел, сволочь… Но чемодан… я не отдал… И он ножом… в плечо…
Володя чуть не плакал от досады и боли.
В этот момент из темноты вынырнули еще двое сотрудников, соскочивших с соседней платформы.
— Быстро! — крикнул им Лобанов. — Он туда побежал! Андрей, предупреди ребят на площади!..
С платформы соскакивали какие-то люди, они что-то кричали, спрашивали, предлагали помощь.
Жаткин, пригибаясь, с трудом двинулся к ним, рукой прижимая раненое плечо и волоча за собой чемодан. Ему помогли выбраться на платформу.
Все произошло в считанные минуты. Задержанный парень и оба сотрудника, окруженные толпой людей, все еще вглядывались в черный провал за платформой. С лица парня еще не стерлись испуг и растерянность. В стороне стоял оцепеневший Семенов, судорожно засунув руки в карманы пальто.
Появление Жаткина усилило всеобщее возбуждение.
— Вот он, вот он! — закричал кто-то.
— Это из милиции, вы что?..
— Он ранен! Посмотрите!..
К Володе подскочил один из сотрудников, взял у него чемодан и торопливо спросил:
— Идти можешь?
— Могу… Плечо только…
Сотрудник кивнул Семенову, приглашая того следовать за ним, и все двинулись по перрону к выходу в город.
Где-то далеко в стороне, за бесчисленными путями и вагонами, из темноты доносились тревожные свистки. Там шла погоня.
На вокзальной площади ждали машины. Вместе с Семеновым в больницу отвезли Жаткина. Володя отбивался изо всех сил, уверяя, что плечо уже не болит, а перевязку можно сделать и в санчасти. Но появившийся Храмов был сух и непреклонен.
Задержанный парень вместе с чемоданом был доставлен в управление. Ждали Лобанова. Первый допрос должен был провести он.
Сотрудники собрались в его кабинете, обсуждая происшествие на вокзале.
— Неаккуратно получилось, — сдержанно сказал Храмов.
И все согласились: да, получилось неаккуратно, плохо получилось. Конечно, можно было бы привести всякие оправдания. Ведь преступников никто не знал в лицо, они могли обнаружить себя, только подойдя к Семенову, а подошел только один, его и задержали. Кто мог предположить, что второй не подойдет? Прошлый раз к Тамаре подошли оба. А то, что они снова приехали поездом, причем тем же самым, наталкивало на мысль, что они действуют по прежней схеме. Наконец, все произошло вечером, когда люди плохо различимы, а на перроне было много народу, теснота, суета… Словом, оправдания и объяснения были. Но такова уж эта работа, которая не принимает ни одного из них. Плохо, и точка. Все надо было предусмотреть, все мыслимое и немыслимое, возможное и невозможное. Долг и совесть не позволяли оправдываться. И не было тут оправданий. Ранен товарищ, и, возможно, ушел второй преступник, к тому же опасный, очень опасный. Наконец, шум, переполох на вокзале, и в результате — разговоры, слухи в городе об этом происшествии. Да, всему этому оправданий не было и не могло быть. Если бы еще удалось задержать того, второго…
Лишь в первом часу ночи возвратился в управление Лобанов и остальные сотрудники, измотанные, раздраженные.
— Ушел, — коротко бросил Лобанов и, не снимая пальто, повалился в кресло, швырнул на стол кепку, крепко вытер ладонью лицо, словно смывая усталость, потом вяло, почти нехотя вытянул сигарету из мятой пачки. Кто-то из сотрудников чиркнул спичкой.
Лобанов глубоко затянулся и, помолчав, добавил:
— Выходы из города закрыли.
— И приметы кое-какие есть, — добавил один из вернувшихся.
— Авось задержим…
— Должны задержать, — жестко поправил Лобанов и посмотрел на Храмова. — Где этот-то?
— Здесь.
— Семенов?
— В больнице.
— Володя?
— Тоже.
— Звонили?
— Да. Повязку ему накладывали. Врач говорит, рана неопасная. Ничего такого не задела.
— Ясно.
Лобанов продолжал хмуриться. На утомленном его лице явственно проступили веснушки под запавшими глазами. Рыжеватая щетина появилась на щеках и подбородке. Лобанов потер подбородок и сказал, разминая в пепельнице окурок:
— Сейчас все по домам. Допрос проведем утром.
Такой ночи у него уже давно не было. Заснуть не удавалось. Голова гудела, больно ломило в висках, жгли ссадины на пальцах, торопливо смазанные йодом. Лобанов вставал, шел на кухню, пил воду, осторожно возвращался к себе в комнату, чтобы не разбудить соседей, валился на кровать, тушил свет и с головой закутывался в одеяло. Но заснуть так и не удавалось. Лишь под утро он забылся в короткой, беспокойной дремоте.
Когда Лобанов открыл глаза, робкий серый рассвет заползал в окно. Будильник показывал половину седьмого.
Лобанов торопливо откинул одеяло. По привычке сделал зарядку, принял душ. Заставил себя выпить стакан чаю. И пешком отправился на работу.
Эти полчаса утренней ходьбы всегда прибавляли бодрости. И никто не мешал думать. При этом по многолетней привычке голова и глаза его на улице работали как-то независимо друг от друга. Лобанов неторопливо обдумывал дела, которые его ждали, и одновременно все замечал вокруг. Долговязый парень в потертом темном пальто с поднятым воротником и серой кепке. «Долговязый», так Лобанов уже мысленно окрестил того. Если бы его сейчас встретить!.. Кстати, не заметил ли его Семенов там, на вокзале? А если и не заметил, то он может его знать, возможно даже, это один из тех двоих, которые приезжали в первый раз, Иван, например. Или Иван тот, кого задержали? Да, с Семеновым надо будет потолковать… Кто-то идет по той стороне улицы… поравнялся с парикмахерской… Нет, не то…
Ровно в восемь Лобанов был в управлении и поднялся к себе на второй этаж. Он нетерпеливо и придирчиво просмотрел утреннюю сводку происшествий по городу, затем подписал груду бумаг, скопившихся за вчерашний день.
Один за другим появлялись сотрудники. Пришел Храмов. Появился Жаткин, он был чуть бледнее обычного, с синими тенями под глазами. На плече, под пиджаком, угадывалась повязка. Лобанов приказал ему отправляться домой. Володя клялся, что он уже здоров, преувеличенно бодро двигал раненой рукой, правда, только в одном направлении, и сгибал ее в локте. Но Лобанов был непреклонен, и Жаткин обиженно удалился.
Потом привели задержанного.
Это был невысокий, широкоплечий парень с упрямым, скуластым лицом и выпуклым лбом, на который падала косая, темная челка, в угрюмом взгляде его угадывался страх. Он был в мятом коричневом костюме и клетчатой рубашке с расстегнутым воротом.
Сопровождавший его сотрудник положил на стол перед Лобановым обнаруженные в карманах задержанного вещи: потертый кожаный кошелек, расческа, паспорт, грязный носовой платок, записная книжка с загнутыми углами, старый перочинный нож с одним целым лезвием, две скомканные бумажки. Возле стола он поставил отобранный у парня чемодан.
— Садитесь, — сказал парню Лобанов, беря в руки паспорт. — Итак, фамилия ваша… Трофимов. Зовут… Борис Алексеевич. М-да… Год рождения тысяча девятьсот сорок седьмой. Учащийся. — Он перевернул страничку паспорта. — В техникуме учитесь. А проживаете, значит, в Ташкенте… Ага, временно проживаете. Снимаете комнату на время учебы, так, что ли?
Это был, по существу, первый вопрос, на который требовалось ответить. Лобанов задал его все тем же добродушным, почти дружеским тоном, словно ему доставляла несказанное удовольствие эта встреча и знакомство с Трофимовым.
— Так… — хмуро ответил парень, глядя в сторону.
— А родители где живут?
— В Самарканде…
— Ага. Ну ладно. О них потом. — Лобанов сделал паузу и внимательно посмотрел на парня. — Сначала о вас. Будете рассказывать… Борис Алексеевич?
— Что рассказывать-то? — грубовато спросил парень, по-прежнему глядя куда-то в сторону.
— Зачем, например, пожаловали к нам?
— Вот, — он кивнул на чемодан. — Его привез.
— Кому?
— А этому… Петру Даниловичу.
— От кого?
— Не знаю… — И вдруг, всем телом повернувшись к Лобанову, он с неожиданной горячностью повторил: — Убейте, не знаю!
Это прозвучало так искренне, что Лобанов удивленно спросил:
— То есть как не знаете? С неба он на вас упал, чемодан этот?
— Не. Он под кроватью у меня лежал. И еще билет, деньги. И записка. Хозяйка говорит, человек какой-то принес. Ну я и поехал.
— Так не бывает, Боря, — покачал головой Лобанов. — Ни с того ни с сего, выходит, принес?
— Зачем? Я знал, что принесут. Как было-то…
Парень уже не казался угрюмым и неразговорчивым. Он все больше волновался, нервно теребил край пиджака и с испугом смотрел на Лобанова.
— …Мы же вчетвером живем. А месяц назад Валька на три дня уехал, мать у него заболела. Ну, койка вроде свободная. Вот один и попросился переночевать. Хозяйка пустила. Юсуф его звали. Угощал нас, чай пили. Потом ребята в кино пошли. А я остался. Хвост у меня по технологии. Он вдруг и говорит: «Хочешь заработать?» — «А кто, говорю, не хочет?» У меня положение хреновое. Ребятам хоть по десятке, а то и по две из дому пришлют. А мне… — он запнулся. — Пьет отец-то. А у матери еще двое. Хозяйка и так уж когда берет с меня, когда нет. Вот я, где могу, и подрабатываю. А тут Юсуф подвернулся: «Принесут, говорит, тебе чемодан». Ну и объясняет все.
— Так он, наверное, и принес?
— Не. Я тоже так думал. А хозяйка говорит, другой.
— Это который с тобой потом в поезде ехал, чемодан из руки выбил?
— Наверно, он. Я его не спрашивал. Он ко мне только на вокзале подошел, перед самой посадкой. Сказал: «Приедем, смотри за мной. Я тебе этого Петра Даниловича незаметно укажу. Ему чемодан и отдашь».
— Кто же он такой, этот парень? — как можно спокойнее, почти безразлично спросил Лобанов.
— Да говорю ж, не знаю. Ну, убейте, не знаю. Мы даже в разных вагонах ехали, как чужие.
— Допустим. Но в какое дело ты влезаешь, это ты понимал? — спросил Лобанов. — Знал, что в чемодане везешь?
— Не, — с заметным облегчением ответил парень. — А зачем? Лучше не знать. Мне-то какое дело?
Он скосил глаза на стоявший возле стола чемодан.
— Незнание от ответственности не освобождает, — строго произнес Лобанов. — Имей в виду.
Парень недоверчиво взглянул на него, в глазах мелькнул испуг.
— Ну да?
— То-то и оно. А что в нем, сейчас узнаешь.
Лобанов поднял чемодан, положил на стол и проверил замки: чемодан был заперт.
Пока ходили за инструментом и понятыми — надо было пригласить двух посторонних граждан присутствовать при вскрытии чемодана, — парень сидел молча, уставившись в пол, на скулах и шее у него проступили красные пятна. Вид у него был подавленный и растерянный.
Лобанов откинулся на спинку кресла и тоже молчал, нетерпеливо поглядывая на дверь. Ему уже было ясно, что парень не врет, он, конечно, случайно попал в эту историю и ничего не знает. Его использовали вслепую. И все дело, вместо того чтобы хоть немного проясниться, еще больше усложнялось. Что и говорить, хитро обвел его этот Юсуф. Впрочем, имя скорей всего вымышленное. Это мог быть тот же Борисов, вернее тот, кто выдавал себя за Борисова.
Беспокоило и молчание телефона. Вернее, телефон время от времени звонил, Но это были совсем не те звонки, которые ждал Лобанов. Значит, преступник пока не пойман. А ведь он скрывается где-то в городе и не появился ни на вокзале, ни в аэропорту, ни на одном из шоссе, там просматривают все машины. И он не шатается по улицам, не сидит в подъездах, и в ресторан он тоже не заходил, и в кафе, и в кинотеатр. Ведь о нем уже знает каждый работник милиции, многие дружинники. Значит, он скрывается, где-то скрывается, у кого-то…
Лобанов с беспокойством покосился на телефон и незаметно вздохнул.
Поиск, снова поиск, казалось бы, знакомый, привычный, в деталях уже разработанный, и все-таки при этом неизменные волнения, выматывающее, тревожное ожидание и… сюрпризы, всякие сюрпризы. Сколько их уже было…
В этот момент в кабинет вошел Храмов, посторонился и пропустил какого-то старика в зимнем пальто с черным каракулевым воротником, в такой же шапке, с портфелем под мышкой и молодого паренька в пестром свитере и расстегнутой поролоновой куртке на «молнии». Это были понятые. Одновременно принесли и инструменты.
— Ну, вот сейчас увидишь, что ты вез, — сказал Лобанов сидевшему у стола парню и, обращаясь к остальным, строго добавил: — Внимание, товарищи.
Он ловко поддел замок, нажал, и чемодан открылся. Лобанов поднял крышку и… остолбенел от изумления.
Все придвинулись к столу.
В чемодане лежали вещи, только самые обыкновенные, вещи, которые каждый берет с собой в дорогу: рубашки, носки, свитер, мыльница, коробка с электрической бритвой, трусы, носовые платки…
И это был тот самый чемодан, который Трофимов пытался передать на вокзале Семенову, который выбил у него из рук скрывшийся преступник, именно за этим чемоданом бросился Володя Жаткин и получил удар ножом!
Лобанов глубоко вздохнул и посмотрел на стоящего возле него парня.
Что же произошло? Где же гашиш, ради которого и была затеяна вся эта комбинация с приездом Трофимова?
Все молча сгрудились вокруг стола, где лежал раскрытый чемодан. Лица понятых выражали откровенное любопытство, к которому примешивалось, однако, и некоторое разочарование. Они ведь бог знает что ожидали увидеть в этом чемодане. Не ради же такой ерунды пригласили их сюда. На лицах сотрудников читалось явное недоумение и досада. Такого сюрприза никто из них не ожидал. Уж они-то, казалось, твердо знали, что должно было находиться в чемодане, и чувствовали себя сейчас обманутыми, обведенными вокруг пальца, невесть как вдруг проигравшими важный поединок.
Зато на хмуром, скуластом лице Трофимова первоначальный страх сменился растерянностью, а потом и явным облегчением, он даже вздохнул, и на губах его мелькнула усмешка.
Только Храмов остался сосредоточен и невозмутим. При взгляде на него Лобанов почувствовал, как и к нему возвращается спокойствие. А подметив усмешку Трофимова, он еще и рассердился. Это помогло ему окончательно стряхнуть с себя охватившее его было оцепенение.
— Ну что ж, — с подчеркнутой невозмутимостью произнес он. — Приступим к осмотру. Составим протокол. Все как полагается.
Он придвинул к одному из сотрудников лист бумаги и указал на стул.
— Садись пиши. Будем осматривать каждую вещь и сам, чемодан тоже. А там будет видно. Это еще не вечер, как говорится.
И снова появилась тревога на угрюмом лице Трофимова, снова возобладало любопытство на лицах обоих понятых.
Сотрудники же принялись за дело. И это конкретное дело, да и тон, каким отдал приказ Лобанов, скрытый в этом тоне намек вернули им уверенность. На лице Храмова по-прежнему ничего нельзя было прочесть. Удивительным хладнокровием обладал этот человек!
Однако чем дальше продвигался осмотр чемодана, тем беспокойство с новой силой охватывало Лобанова. Нет, кажется, ничего не найдут в этом проклятом чемодане его товарищи. Это самый обыкновенный чемодан, без всяких тайников и секретов, и в нем самые обыкновенные вещи, не предназначенные даже для подарка или продажи, их просто берут с собой в дорогу. Но тогда что все это должно значить? Что произошло?
Лобанов напряженно размышлял, наблюдая, как его сотрудники тщательно осматривали и прощупывали одну вещь за другой, внося подробные сведения о них в протокол.
Зачем же понадобилось пересылать этот чемодан Семенову, да еще с такими предосторожностями? Почему ради него пошел на такой риск скрывшийся преступник? Может быть, он чего-то не знал, о чем-то не был предупрежден? Нет, вряд пи. Но тогда… Что же тогда?.. А вдруг произошло самое простое… Вдруг!.. Где может быть сейчас тот поезд? Вчера в двадцать один час пятьдесят минут он вышел из Борска… По нашему времени…
Лобанов резко повернулся к Храмову.
— Заканчивайте осмотр, оформите протокол. Трофимов пусть будет здесь. Я сейчас вернусь.
— Слушаюсь, — коротко отозвался Храмов.
Лобанов торопливо вышел из кабинета и по длинному коридору направился к дежурному по управлению.
— Быстро вызови Москву. Коршунова, — сказал он ему. — Если нет на месте, давай МУР, Гаранина.
«Только бы Сергей оказался на месте, — нервничая, подумал Лобанов. — Он в курсе дела, он, кажется, даже больше знает, чем я. А Косте все объясняй с самого начала…»
Дежурный сочувственно покосился на него и ответил:
— Один момент. У нас теперь связь поставлена будь здоров. С любым уголком. А уж с Москвой… По последнему слову науки и техники.
— Ну вот и давай.
— Пожалуйста, — улыбнулся дежурный, протягивая одну из разноцветных трубок, установленных на длинном пульте, в котором что-то мерно гудело и мигали многочисленные разноцветные лампочки. — Москва отвечает, дежурная часть штаба министерства.
Лобанов схватил протянутую ему трубку. «Вот это да», — подумал он.
— Срочно прошу полковника Коршунова, — сказал он, вспомнив новое звание своего друга.
— Переключаю на управление уголовного розыска, — ответил голос в трубке.
Его тут же сменил другой голос.
— Полковник Коршунов у начальника управления. Кто его вызывает?
— Майор Лобанов. Из Борска. Он мне срочно нужен. Поезд от нас скоро будет в Москве.
— Сейчас доложу.
Прикрыв ладонью трубку, Лобанов сказал дежурному:
— Посмотри, когда тридцать восьмой приходит в Москву. Быстро. — И почти сразу он услышал голос Коршунова:
— Слушаю, старина. Что у тебя там стряслось?
— Сергей? Привет. Вот слушай.
В этот момент дежурный придвинул расписание и пальцем указал нужное место. Лобанов кивнул.
— Так вот, — продолжал он в трубку. — Нами задержан некий Трофимов. Он привез…
Коршунов слушал, как всегда, молча, не перебивая вопросами, и, только когда Лобанов кончил, он досадливо спросил:
— Выходит, упустили того, второго?
— Думаем задержать. Но сейчас главное…
— Все понятно, — перебил его на этот раз Коршунов. — Я с тобой согласен. Чемодан скорей всего обменяли, причем случайно, конечно. Когда поезд приходит в Москву?
Лобанов ответил.
— Так. Времени в обрез. Где ехал этот Трофимов?
— Четвертый вагон, место семнадцатое.
— Ясно. Выеду сам навстречу. Как чувствует себя Жаткин?
— Порядок. Бегает.
— Привет передай. Я тебе буду звонить. А ты пока…
Через минуту разговор был закончен.
«Ну, теперь завертелось, — удовлетворенно, хотя и с некоторым беспокойством, подумал Лобанов, направляясь к себе в отдел. — Насчет Трофимова он, конечно, правильно решил. И насчет Семенова тоже».
В кабинете Лобанов застал лишь Трофимова и одного из сотрудников. Протокол был уже составлен. В чемодане ничего подозрительного обнаружено не было.
— Ну что ж, Борис, продолжим разговор, — сказал Лобанов, усаживаясь к столу. — Только теперь будем кое-что записывать.
— А я ничего не знаю, — с вызовом ответил Трофимов, — говорил же. И выходит, ничего такого я не вез. Чего же цепляться-то?
Лобанов покачал головой.
— Во-первых, давай, Боря, разговаривать культурно. Не вез, говоришь? Вез, милый, вез. Только, когда из вагона ты выходил, чемоданчик-то и перепутал. Ясно? Свой оставил, а чужой взял.
— Это еще доказать надо.
— Уж постараемся. Теперь рассуди сам: кому ты его вез? Этот Петр Данилович замешан в опасном преступлении. И ты не первый ему такой чемоданчик привозишь. Он это подтвердил. Так что задержать тебя у нас основания были, как видишь. Да и сам ты, что ни говори, а чувствовал, конечно, что в темное, незаконное дело лезешь. Иначе зачем бы такие осторожности, а?
— Чего я чувствовал, это мое дело. Я только знаю, что сажать меня не за что, — с прежней дерзостью ответил Трофимов.
— Пока, Боря, только пока, если не одумаешься, — строго возразил Лобанов. — И не смотри на нас, как на врагов. Мы тебе зла не желаем.
— Ну да. Было бы за что уцепиться, враз посадили бы.
— То есть, соверши ты преступление, так, что ли?
— По-вашему, может, и преступление.
— А по закону?
— А это уж я не знаю, как по закону.
— Вот это ты правильно сказал. Законов ты не знаешь. В школе их не проходят. А надо бы. Тем более что есть еще и такой закон: незнание закона не освобождает от ответственности по нему. Я тебе это уже говорил.
— А я вам уже говорил, что мне жрать нечего.
— Брось. От голода у нас еще никто преступлений не совершает. Ты стипендию в техникуме получаешь?
— Ну и что? Кто на нее проживет?
— Работай. Многие студенты работают еще. Раз учиться охота.
— Много так заработаешь, — презрительно протянул Трофимов.
— Да, брат, — вздохнул Лобанов. — Дело тут, видно, не только в том, что ты законов не знаешь. Мало тебе денег? Так бросай свой техникум, иди на завод.
— Ну да! Мне диплом нужен. Не одним вам сотни получать. Я тоже хочу.
— Скажи пожалуйста. Сотни! На меньшее ты не согласен?
— Там видно будет, на что соглашаться.
— Ну что ж, посмотрим. Мы теперь за тобой внимательно посмотрим. И преступления совершить тебе не дадим. Но главное не в этом. Главное, чтобы ты сам понял: жить надо честно, чтобы не совестно было людям в глаза смотреть, чтобы спать спокойно, чтобы не таиться, не прятаться, не дрожать каждую минуту, чтобы на душе было легко. Вот вернешься ты домой…
Тут Лобанов заметил, как на миг радостно блеснули угрюмые глаза парня.
— …Вернешься, говорю, — с расстановкой повторил он. — Снова придет к тебе этот Юсуф, предложит еще какой-нибудь чемоданчик подкинуть, деньги пообещает…
— Нет уж, спасибо, — усмехнулся Трофимов. — Другое занятие поищу. А то, чего доброго, и вовсе загремишь с ним.
— Обязательно даже загремишь, — подтвердил Лобанов. — Хотя и тут важнее другое. Ты про гашиш слышал? Курят его некоторые.
— Слышал. Психи курят.
— Страшный это яд. Человека дотла разрушает, если втянуться.
— Точно.
— Вот этот яд, Боря, ты и вез.
— Ну да?!
Трофимов ошалело посмотрел на Лобанова, и угрюмое его лицо приобрело вдруг выражение такой мальчишеской растерянности, что Лобанов невольно усмехнулся.
— Вот именно, — уже строго и сокрушенно произнес он. — Это ты и вез. Чтоб Семенов мог других травить и зарабатывать на этом, как тот Юсуф. И ты бы на этом заработал. Или тебе все равно, на чем зарабатывать?
— Ладно вам, — сердито ответил Трофимов. — Кто же я, по-вашему, зверь, что ли?
— Нет. Но помогал ты зверям, и еще каким!
— Так если бы я знал… Да я бы скорее удавился!..
Губы Трофимова задрожали от волнения.
— Теперь знаешь. И, вижу, понимаешь. Это еще важнее. А дальше пусть тебе совесть подскажет, как жить. Пусть подскажет, черт возьми!
Лобанов встал, упругим шагом стремительно прошелся из угла в угол по кабинету, заложив руки за спину, потом, успокоившись, остановился перед Трофимовым, невысокий, крепко сбитый, с широкими, покатыми, как у борца, плечами, которые не мог скрыть мешковатый пиджак. Круглое, веснушчатое лицо его было сосредоточенно, рыжеватые брови сошлись у переносицы, и только в светлых глазах все время пряталась какая-то хитринка, то злая, то добродушная, то настороженная. Сейчас она была злой.
— Скажи, Боря, — задумчиво покусывая губу, спросил Лобанов. — Этот парень… который с тобой приехал… Он не говорил, может, у него тут знакомые есть, родственники?
— Не говорил, — покачал головой Трофимов, не отрывая глаз от пола. Он все еще находился под впечатлением страшной новости, услышанной от Лобанова.
— А про Семенова чего говорил?
— «Покажу тебе его». Вот и все.
— А как «покажу», не говорил?
— Следи, говорит, за мной. Я и следил. Он мне глазами на этого Петра Даниловича и указал.
— А тот когда тебя заметил, когда ты подошел?
— Не. Когда я понял, что это он, и пошел к нему, он уже на меня смотрел. Вроде как узнал. Я даже удивился.
Лобанов чувствовал, что он сейчас нащупывает что-то важное, но никак не мог сообразить, что именно.
— Может, он раньше тебя уже видел?
— Скажете. Откуда он мог меня видеть?
— Он жил в Ташкенте. Правда, года три назад. И в Самарканде бывал.
— Три года назад я пацаном был.
— Да, пожалуй…
«Как Семенов мог узнать этого парня? — думал Лобанов. — А ведь он его узнал, это ясно. Хотя раньше не встречались, это тоже ясно. Как же тогда?.. Может быть, случайно встретился с ним взглядом, увидел чемодан, догадался? Это, пожалуй, скорее всего. А как вел себя Семенов там, на перроне?..»
Лобанов обошел стол, достал сигарету из лежавшей там пачки, закурил и снова прошелся по кабинету.
Теперь он старался в мельчайших подробностях припомнить вчерашний вечер, освещенный перрон, толпу людей на нем, когда подошел поезд, наконец, Семенова, надвинувшего на лоб шляпу, руки — в карманах пальто, исхудавшего, сутулого, какого-то вялого, слабого еще. А Лобанов стоял в стороне, с Володей Жаткиным, с Верочкой из их отдела, и все время наблюдал за Семеновым. И был какой-то момент… Семенов вдруг встрепенулся, напрягся, словно чего-то испугался. И взгляд у него стал другой. Другой стал взгляд! А потом к нему подошел Трофимов. Потом… Почему же Семенов насторожился? Почему испугался? Трофимова испугался? Но он же его первый раз увидел.
И опять же взгляд. Лобанову почему-то не давал теперь покоя этот взгляд. Сначала он был просто растерянный, усталый… Да, да, это Лобанов хорошо помнит. Он еще подумал, что Семенову, наверное, трудно вот так стоять и как бы он не пропустил приезжих. И вдруг… Семенов насторожился, даже испугался. И Лобанов тоже невольно тогда насторожился. Да, этот момент он хорошо помнит. Значит, Семенов кого-то увидел. Трофимова? Да, конечно, Трофимова он заметил, причем даже раньше, чем тот заметил его. Вот ведь что! Даже раньше! Узнать его Семенов не мог. Догадаться? Но, пока они не встретились глазами, догадаться было невозможно. А когда встретились, Семенов уже смотрел на Трофимова, ждал его. Так, так… Перед этим Трофимов следил глазами за тем парнем в толпе. А Семенов в тот момент, когда вдруг испугался, смотрел…
— Боря, тот парень шел от тебя по какую сторону, слева или справа, не помнишь?
Трофимов удивленно поднял глаза на Лобанова и, подумав, сказал:
— Слева, впереди немного.
Слева… значит, от Семенова справа, потому что Трофимов шел прямо на Семенова. А тот, когда испугался, смотрел не прямо, а куда-то в сторону. Лобанов хорошо помнил, что видел в тот момент Семенова смотревшим куда-то в сторону, видел его плечи, спину и только часть лица. А Лобанов стоял… ага, он стоял слева от Семенова. Значит, Семенов смотрел направо. И испугался… А там шел тот парень. Значит… Ого, это много значит!..
Необходимо было побыстрее увидеть Семенова и проверить эту неожиданную догадку. Но предварительно следовало закончить с Трофимовым.
— Вот что, Боря, — решительно сказал Лобанов, усаживаясь за стол. — Сегодня поедешь домой. У нас нет оснований тебя задерживать.
— Домой?.. — недоверчиво переспросил Трофимов, и на скуластом его лице проступила растерянность.
А ведь еще полчаса назад он нагло требовал этого. И Лобанов сразу отметил про себя эту перемену.
— Да, домой, — подтвердил он. — И запомни наш разговор. На этот раз ты только случайно выскочил из очень скверной и опасной истории. Смотри не попадись снова на эту удочку.
— Все, товарищ начальник, — потупившись, хмуро и твердо сказал Трофимов. — Больше им меня не купить, — и повторил: — Не зверь же я, в самом деле.
— Знаю, — кивнул Лобанов. — И верю. Сейчас мы все оформим. Подожди пока в коридоре.
Трофимов медленно поднялся и направился к двери. У порога он на секунду задержался, словно собираясь еще что-то сказать, но, передумав, молча вышел.
Лобанов вызвал к себе Храмова.
— Вот что, Николай. Парня следует отпустить. Улик против него нет. Оно, между прочим, и к лучшему. Тюрьма ему сейчас совсем ни к чему. Даже наоборот.
— Как сказать, — сдержанно заметил Храмов.
— Так и сказать. Пусть ребята достанут ему билет. Поезд на Ташкент когда теперь?
— Вечером.
— Ну вот. Денег у него сколько?
— Трояк с мелочью. Расчета с ним произвести не успели.
— Понятно. Тогда пусть он до обеда погуляет по городу. Обязательно пусть погуляет, — Лобанов многозначительно взглянул на Храмова. — Может, они и встретятся. Скажи ему, чтобы обедать пришел сюда. Если они не встретятся, то он придет. На вокзале они тоже могут встретиться. Все это учти.
— Слушаюсь…
— Давай. А я еду в больницу к Семенову. Да, вот еще что. Позвони в Ташкент Нуриманову. Пусть они встретят этого парня и посмотрят за ним. К нему могут прийти. И прибавь, что верить ему можно. Уже можно. Понятно?
— Так точно.
— И подкрути ребят. Розыск по городу не прекращать. Где-то ходит этот сукин сын. Или куда-то забился. Выходы-то из города ему закрыты.
— Слушаюсь.
— Все. Давай двигай. А я… пожалуй, сначала позвоню туда, в больницу, как думаешь?
Храмов удивленно взглянул на своего энергичного начальника, который вдруг заколебался по такому пустяковому поводу.
— Можно, чего же, — равнодушно согласился он.
Лобанов перехватил этот взгляд и неожиданно про себя усмехнулся. «Даже в мыслях у него нет, что его начальник может влюбиться, — подумал он. — Словно уж и не человек я. И порядочный дурак, между прочим, тоже. Круглый дурак, это точно». Он незаметно вздохнул. Интересно, кстати: кто ее муж? Небось тоже врач. Всегда почти так бывает у них.
Храмов ушел, а Лобанов, крайне недовольный собой, взялся за телефон. «У человека свои дела, заботы, своя жизнь, — сердито думал он, набирая знакомый номер, — а я тут лезу со своей трепотней и шуточками. Ну все. И задний ход. А то в шута горохового превращаешься на старости лет».
Из трубки доносились уже длинные гудки, потом раздался чей-то голос.
— Будьте добры Наталью Михайловну, — с внезапной хрипотцой попросил Лобанов и откашлялся.
— Сейчас.
Трубка умолкла. Лобанов одной рукой торопливо вытянул сигарету из лежавшей на столе пачки и, чиркнув спичкой, закурил.
— Слушаю.
— Здравствуйте, Наталья Михайловна. Лобанов беспокоит, — с подчеркнутой деловитостью сказал он.
И вдруг услышал ее встревоженный голос.
— Здравствуйте. Что вчера случилось?
— Где случилось? — не понял Лобанов.
— Ну, там, на вокзале. К нам вчера вашего сотрудника привезли раненого. Я как раз дежурила.
— Это случайность.
— Неправда. Это ножевое ранение. И он так беспокоился.
— Он еще очень молодой, — усмехнулся Лобанов.
— Да, но он все время звонил куда-то и все время спрашивал о вас. Вернулись вы или нет. Даже… мы забеспокоились.
Лобанову вдруг передалось ее волнение.
— Я вернулся, — смущенно сказал он. — Все в порядке, — и, хмурясь, добавил: — Теперь мне надо повидать Семенова. Это можно?
— Ну конечно. Когда вы приедете?
— Я сейчас хочу приехать.
— Пожалуйста. Обход уже закончен.
— А я… вас застану? Вы же ночь дежурили.
— Это сверх графика. Я буду до вечера.
— Тяжелая у вас работа.
— Пустяки. Меня все-таки никто не ударит ножом.
— Ну это у нас тоже не каждый день, — засмеялся Лобанов. — Так я еду.
Ему вдруг стало удивительно легко и радостно, он и сам не понимал отчего.
Лобанов торопливо сбежал по лестнице к ожидавшей его машине, натягивая по дороге пальто.
День выдался удивительно теплый и солнечный, и небо было ярко-голубое, без единого облачка. Лобанов почему-то только сейчас обратил на это внимание. И с наслаждением вдыхал напоенный весенней свежестью воздух, таким он ему казался, по крайней мере, даже в машине. Ноздреватый, искристый снег на крышах домов и во дворах тоже казался каким-то теплым и праздничным. И люди кругом улыбались чему-то.
Машина неслась, разбрызгивая грязь, деловито урча и замирая на перекрестках под красным глазом светофора. Лобанов еле удерживался, чтобы не попросить водителя включить сирену.
Унылые больничные корпуса, мимо которых потом шел Лобанов, совсем не казались ему сейчас унылыми, наоборот: каким-то теплом и добротой веяло от них.
Лобанов почти бежал по подсохшим асфальтовым дорожкам, жмурясь от искристой белизны нетронутого снега вокруг.
Вот и седьмой корпус, и знакомая дощатая дверь со звонком.
Лобанов получил халат и, накинув его на плечи, поднялся на второй этаж. Кокетливая дежурная сестра, стрельнув подведенными глазками, с улыбкой сообщила, что доктора Волошину вызвали на консультацию в другое отделение, но больного Семенова сейчас пригласят. Товарищ из милиции может с ним поговорить в комнате, где дежурят ночные сестры, это налево, в конце коридора.
Скрывая разочарование, Лобанов направился к указанной двери.
А спустя несколько минут Семенов уже сидел перед ним в своем сером больничном халате с зелеными отворотами, в шлепанцах, с болтающимися грязными тесемками от кальсон, худой, со складками дряблой кожи на лице, как бывает у когда-то полных людей, внезапно вдруг похудевших. Кожа в уголках рта и около глаз чуть заметно подергивалась, словно Семенову требовались усилия, чтобы это напускное равнодушие не стерлось с лица. Бледной рукой он поминутно приглаживал свалявшиеся, перепутанные волосы и проводил по щекам, заросшим рыжей щетиной.
— Вы поняли, что вчера произошло, Петр Данилович? — строго спросил Лобанов.
— Ах, боже мой, конечно, понял! — Семенов нервно передернул плечами. — Чего ж тут не понять?
— Что же вы поняли?
— Вы задержали этого типа с чемоданом, только и всего.
— А что было потом?
— Откуда я знаю, что было потом? — раздраженно ответил Семенов.
— Потом этот чемодан у него выбили из рук, как вы помните, и мы ловили уже второго типа.
— Возможно, возможно. Тут столько набежало народу, что я уже ничего не видел.
— Допустим. Но кто был этот второй, Петр Данилович?
— Откуда я знаю? Что, он мне докладывал, кто он такой?
Семенов возмущенно посмотрел на Лобанова, на впалых щеках его проступила краска, сильнее задергалась кожица около глаз.
«Однако что-то слишком уж нервничаешь», — подумал Лобанов.
— Докладывать и не требовалось, — все так же спокойно возразил он. — Вы его и так узнали. И он вас узнал.
— Он?.. Узнал?.. — растерянно переспросил Семенов.
— Конечно. Еще раньше, чем вы его.
Семенов задумчиво посмотрел на свои ноги в шлепанцах, пожевал губами и наконец решительно объявил:
— А я его не узнал, представьте себе.
— Трудно, — покачал головой Лобанов. — Даже невозможно. Я это понимаю так, что вы просто не хотите говорить. И это нехорошо, Петр Данилович, предупреждаю вас.
— Что вы от меня хотите?! Я больной человек!.. Я инвалид!.. — внезапно закричал Семенов, стуча худым кулаком по колену. — Вы меня доконать хотите?! В могилу свести?1 Не знаю я его!.. Не знаю!.. Не знаю!..
— Тихо!.. — повысил голос Лобанов. — Никто не собирается сводить вас в могилу. И не кричите. Вы в больнице находитесь, а не у себя дома.
— Вот именно! Я больной. Я тяжело больной. И… и не могу… Не желаю… А вы мне допросы устраиваете… — все так же возбужденно произнес Семенов, захлебываясь в собственных словах.
— Ну что ж. Я не знал, что вам стало вдруг так трудно разговаривать со мной, — усмехнулся Лобанов. — Придется наш разговор отложить на несколько дней. Вас к тому времени выпишут из больницы. И тогда я вам снова задам этот вопрос. Вы же видите, про человека с чемоданом я вас не спрашиваю. Вы его действительно не знаете, и он вас тоже. Ему на вас указал тот, второй. Они так заранее и условились. А вам… вам он указал на того человека, с чемоданом. Глазами указал, Петр Данилович, всего лишь глазами.
— Не знаю, кто там чего глазами указывал, — упрямо и раздраженно ответил Семенов.
— Ледно. Кончим тогда этот разговор, — сухо сказал Лобанов. — Я только повторю то, что сказал вам вчера. Этот самый Борисов, как он себя вам назвал, опасный преступник. И мы его найдем. Вы тоже преступник, хотя и помельче. Отраву, которую вы пытались продать через Сеньку, купили двое мальчишек. Мы их спасли. Вы тут кричали, что хотите жить, хотите выздороветь. А я вам ответил, что мы хотим, чтобы жили и были здоровыми те мальчишки, которых вы чуть не отравили, чтобы никогда и никому не попадала в руки та отрава. Вот за что будут судить и вас, и того Борисова, и Ивана, и…
Тут вдруг Лобанов заметил, что Семенов неожиданно вздрогнул, снова задергалась кожица около глаз, а худые его пальцы торопливо и ненужно натянули халат на впалую грудь. «Ну, голубчик, — подумал Лобанов с ожесточением, — можешь больше ничего не говорить. Кажется, я уже догадался…» И он тем же тоном закончил:
— …Да, судить. И вы, кстати, тоже вчера кричали: «Судить! Всех судить!» Помните? Вы, наверное, не хотели, чтобы вас судили одного?
— Правильно, правильно… — забормотал Семенов, не поднимая головы. — Всех судить… Я меньше их виноват… Я почти ничего такого и не сделал… И вообще я их не знаю… И не желаю знать…
Лобанов, помедлив, спросил:
— Петр Данилович, почему вы боитесь назвать Ивана?
Семенов бросил на него затравленный взгляд.
— Я… я не боюсь, я просто… не знаю, что отвечать… У меня голова кругом идет… Никогда еще не попадал в такое положение…
— Верю. И я вам скажу, что отвечать. Это вам сейчас посоветовал бы и любой добросовестный адвокат: отвечайте правду, только правду. Это для вас сейчас самое выгодное.
— Правда?.. — нервно переспросил Семенов. — Ну, пожалуйста! Пожалуйста! Я видел Ивана! Там, на вокзале, в толпе. Он мне указал того парня. Глазами указал, правильно! И все. Исчез. Больше я его не видел, клянусь вам!
Семенов тыльной стороной ладони вытер испарину со лба и откинулся на спинку стула.
— Когда Иван был у вас последний раз, он не говорил, есть у него в городе еще знакомые?
— Нет, не говорил.
— Где они тогда собирались ночевать?
— В гостинице, насколько я помню.
«Да, так оно и было», — подумал Лобанов.
— А в первый свой приезд где он ночевал?
— У меня. Он тогда ничего не привез.
— Договаривался?
— Вот именно. Это… это, я вам скажу, страшный человек… Он может на все пойти… Ему убить — что плюнуть. Да, да…
Семенова всего трясло от страха, он расширенными глазами смотрел на Лобанова и никак не мог запахнуть халат дрожащими руками, пальцы не слушались его.
«Какая же ты мразь!» — брезгливо подумал Лобанов.
— Вам уже нечего его бояться, — сказал он.
Разговор был окончен. Больше Семенов ничего не мог сообщить, даже если бы захотел, Так, по крайней мере, показалось Лобанову, ибо, сам не замечая этого, он торопился, слишком торопился и под конец этого трудного разговора думал уже совсем о другом.
Семенов, еле волоча шлепанцы и придерживая худой рукой расходившиеся полы халата, вышел из комнаты. А спустя минуту вслед за ним вышел в коридор и Лобанов. «Надо все-таки ее повидать», — в который уже раз подумал он.
И сразу увидел Волошину. Она стояла невдалеке, около окна, и разговаривала с низеньким полным человеком в очках и белом халате, из кармана которого высовывались резиновые трубочки стетоскопа.
Лобанов нерешительно двинулся в их сторону.
— Здравствуйте, Наталья Михайловна, — подходя, произнес он.
Волошина с улыбкой кивнула ему.
— Здравствуйте. Я сейчас освобожусь, одну минуточку.
— Ну, я пойду, коллега, — сказал человек в очках. — Мне надо еще проконсультироваться у хирургов. А вы, — он поднял пухлый, розовый палец, — обратите внимание на его кардиограмму. Она мне решительно не нравится. Этот зубец вы помните? И ЗАБФ отрицательный и приподнят. Полагаю, Евгений Васильевич напрасно самоуспокаивается.
— Конечно, Семен Яковлевич. Мне она тоже не нравится.
— Прекрасно. Мы будем с вами союзники, — галантно поклонился толстяк. — Это меня успокаивает.
«Чего он выламывается? — неприязненно подумал Лобанов и тут же устыдился своих мыслей. — Только не будь уж окончательным болваном», — сказал он себе.
— Вы мне хотели что-то сказать? — спросила Волошина, когда ее собеседник удалился.
— Я?.. Я много чего хотел вам сказать, — неожиданно для самого себя сказал Лобанов.
Она рассмеялась.
— Много не удастся. Мне надо ехать в горздрав.
— Правда? Так я вас подвезу. Можно?
— О, это будет замечательно. Я уже опаздываю.
— Все. Я вас жду. Там, в саду.
— Да, да. Я сейчас.
Выйдя из больничного корпуса, Лобанов глубоко вздохнул и огляделся. «Что же это такое? — растерянно подумал он. — Ведь она сейчас выйдет ко мне!» Он вдруг так заволновался, словно должно было произойти событие необычайное.
А когда ее фигурка в темном пальто с пушистым белым воротником и белой вязаной шапочке появилась в дверях, Лобанову показалось, что ничего прекраснее он не видел, он даже задохнулся от внезапной радости и несмело пошел навстречу.
В этот момент Наташа чуть поскользнулась, и тогда Лобанов осторожно взял ее под руку. Лобанов не узнавал самого себя: он не мог начать разговор.
— Вы все успели сделать? — спросила Наташа.
— Да. Конечно, — ответил Лобанов.
Если бы он знал, что самого главного вопроса он так Семенову и не задал, хотя, как показали дальнейшие события, задать его следовало непременно.
Черная сверкающая «Волга» с двумя желтыми противотуманными фарами впереди и дополнительной штыревой антенной вылетела на улицу Горького и, сделав крутой разворот, стремительно понеслась вверх, к площади Пушкина, легко обгоняя двигавшийся в том же направлении поток машин.
Около площади Маяковского машина свернула вправо, на Садовое кольцо, которое москвичи называют так лишь по привычке, ибо давно уже не осталось там садов и бульваров, и само кольцо, укатанное асфальтом, превратилось в широкую, скоростную транспортную магистраль с подземными тоннелями и виадуками.
Черная «Волга» птицей пролетела огромный виадук, чуть притормозила, затертая другими машинами, возле Колхозной площади, а потом возле Лермонтовской.
— Никакой езды не стало, — досадливо проворчал молодой паренек-водитель.
— Погоди. То ли будет, когда «Жигули» пойдут и новый «Москвич», — усмехнулся Коршунов.
— Сергей Павлович, — наклонился к нему сидевший сзади Светлов, — уточнить бы приход поезда.
— Через три часа он должен быть в Рязани. А мы — через два с половиной. Так, что ли, Гена?
— Так точно, Сергей Павлович, — кивнул водитель, не отрывая напряженного взгляда от ветрового стекла. — Только бы из Москвы выскочить, долетим быстрее электрички.
— Гена-то не подведет, — заметил Светлов. — А вот поезд, шут его знает. С ним могут и напутать.
Коршунов поправил теплое мохеровое кашне, выбившееся из-под расстегнутого пальто, и сдвинул с потного лба пушистую меховую шапку.
— Ну и печка у тебя, — проворчал он и уже деловитым тоном добавил: — Сейчас узнаем насчет поезда.
Он снял трубку радиотелефона, нажал на одну из клавиш и негромко спросил:
— Заробян?.. Коршунов говорит. Как там наш поезд?.. Уже прошел?.. Ага. Понятно. Следующая где?.. Так. Подключи меня в свою сеть и дай линейное отделение там. Потом мне нужна будет Рязань. Что у тебя еще?.. Так. Правильно. Ну давай. Жду. — И, не отрывая трубку от уха, он сказал Светлову: — Их ребята уже в поезде. К нашему приезду кое-что выяснят. — И тут же снова произнес в трубку: — Дежурный?.. Коршунов говорит…
Пока он вел переговоры, машина проскочила несколько бесконечно длинных улиц, сдержанно сигналя у перекрестков, где ее неизменно поджидал уже желтый глаз светофора. Наконец она нырнула под кольцевую магистраль, опоясывавшую Москву, и, набирая скорость, вылетела из города.
По сторонам замелькали пригородные поселки, затем потянулись заснеженные поля и унылые, продуваемые ветром, безлистые березовые рощи. Но на взгорках, припекаемых солнцем, уже проступила бурая прошлогодняя трава в слюдяных корочках тающего снега. В сыром, облачном небе с криком носились стаи галок и ворон. По Подмосковью шла весна.
Машина со свистом летела по пустынному, прямому как стрела Ново-Рязанскому шоссе.
— Сто двадцать — это подходяще, — одобрительно заметил Светлов. — Так, пожалуй, успеем.
— Проблема для нас не успеть, проблема найти, — сказал Коршунов, не отрывая глаз от дороги.
— А ты узнаешь этот чемодан? — спросил Светлов.
— Узнать нетрудно, — махнул рукой Коршунов. — В крайнем случае попросим открыть. Хуже, если с ним уже сошли. Но и это узнаем. Главное — поговорить с людьми. Не может быть, чтобы Трофимов всю дорогу молчал. О чем-то он говорил со своими попутчиками, на первый взгляд, может быть, самое пустяковое. Точнее, на их взгляд. Надо, чтобы они вспомнили каждое его слово. И вторая задача: установить, где ехал тот, второй, как вел себя в дороге, что говорил. Это будет потруднее. И все надо успеть выяснить, пока поезд не придет в Москву. Вот ведь что.
— Задачка, — покачал головой Светлов.
— Еще не самая трудная, — засмеялся Коршунов.
Невдалеке проплывали сонные, безлюдные дачные поселки. Потом к самому шоссе подступили деревни с каменными зданиями магазинов и клубов. Над крышами высоко поднялись неуклюжие телевизионные антенны, раскинув, словно для равновесия, длинные поперечные планки. Чем дальше от Москвы, тем антенны становились все выше. Забрызганные первой весенней грязью, тяжелые машины с урчанием выбирались на шоссе. По обочине бежали стайки ребятишек с портфелями, возвращаясь из школы.
«Витька небось тоже из школы пришел, — подумал Коршунов, взглянув на часы. — Чего он там себе разогревает? Лена-то на репетиции, потом спектакль. А бабушка только вечером придет. И до тех пор за уроки не сядет, конечно. Ну и жизнь у парня…»
Коршунов, по-прежнему не отрывая взгляда от дороги, закурил.
Но вот наконец появилась на пустынном шоссе, перед густым еловым лесом, стройная башенка с витиеватой, красочной надписью: «Рязань», и рядом, на большом щите: «Добро пожаловать».
— Приехали, — радостно сообщил Светлов и добавил, обращаясь к водителю: — Ну ты, Гена, даешь.
Машина стремительно миновала зеленую зону города и понеслась по улицам, сдержанно урча сиреной и заставляя отклоняться в сторону встречные и попутные машины. Прохожие, оглядываясь, провожали ее взглядами.
Со стороны невидимого еще вокзала доносились отрывистые гудки, словно торопя приезжих.
Однако поезд из Борска ожидался здесь минут через двадцать. Еще подъезжая к городу, Коршунов связался по радиотелефону с линейным отделением милиции.
На привокзальной площади их уже ждали. До прихода поезда товарищи даже успели напоить приезжих чаем с пирожками, От обеда Коршунов и Светлов решительно отказались, «завещав» свою долю шоферу Гене, который, отдохнув, должен был возвращаться в Москву.
Потом позвонил дежурный по станции: поезд из Борска подходил к вокзалу.
Все торопливо вышли на перрон, уже заполненный людьми. Когда мощный электровоз с лязгом прогромыхал мимо них, с подножки третьего вагона соскочил человек и, безошибочно узнав своих среди суетившихся пассажиров, подошел к Коршунову и тихо доложил:
— Попутчики установлены. Обратите внимание на девушку. Зовут Люба. И проводников — Мария Захаровна и Таня. Указанного в ориентировке чемодана в купе нет. На промежуточных станциях никто не сходил. Здесь тоже никто не сходит.
— Ясно. Спасибо. Ну, товарищи, до свидания, — сказал Сергей, пожимая руки провожавшим его сотрудникам.
Через минуту Коршунов и Светлов были уже в вагоне. Обязанности распределили заранее: Светлов беседует с проводниками, Коршунов — с пассажирами.
В купе, куда зашел Коршунов, ехали три человека: девушка в ярком красно-белом пуловере, с бойкими, сильно подведенными глазами и пышной копной отливавших бронзой волос; полная немолодая женщина в очках и теплой кофте, она что-то вязала, и на коленях у нее лежали разноцветные мотки шерсти; и офицер-моряк, седоватый и подтянутый. Семнадцатое место, которое занимал Трофимов, оказалось пустым.
— Здравствуйте, товарищи, — сказал Коршунов, опускаясь на скамейку, где сидела девушка. — Извините за беспокойство. Я из милиции. Тут случилась неприятность с пассажиром, который ехал до Борска вон на том месте, — он указал на пустую полку. — Поэтому попрошу вас нам помочь кое в чем.
— Я сел позже, — сдержанно заметил моряк.
— Господи, да что с ним случилось? — встревожилась пожилая женщина, откладывая вязанье. — Тихий, скромный такой.
— Это он с вами был тихий да скромный, — засмеялась, девушка. — А так парень, как все. Очень даже нормальный.
— С вами, значит, он скромным не был? — улыбнулся Коршунов.
— Почему? Я только со скромными парнями и хожу.
Теперь Коршунов рассмотрел ее лучше: ярко накрашенные губы, неестественный бордовый румянец на щеках, черная краска на веках и ресницах была нанесена неровно и так щедро, что местами собралась в комочки. Крупные голубые серьги не шли к ее пуловеру и бронзовым волосам. «Смыть бы все, — подумал он, — Ведь симпатичная девушка. И научить бы краситься как надо».
— Куда же вы с ним ходили? — снова улыбнулся Коршунов, тоном давая понять, что ничего тут плохого не видит.
Впрочем, девушка вовсе не нуждалась в его поддержке.
— А, — беззаботно махнула она рукой. — В вагон-ресторан пригласил. Только ничего у него не вышло.
И, звонко рассмеявшись, стрельнула глазами в сторону моряка.
— Да что же с ним самим-то случилось, вы скажите? — вмешалась пожилая женщина.
— Ничего особенного, — успокоил ее Сергей. — Чемодан ему обменяли.
— Батюшки! — всплеснула руками та.
— Но теперь я думаю, что он и сам мог обменять, — весело продолжал Коршунов. — В ресторане, наверное, выпил. А рядом такая девушка. Вот голова и закружилась. Вас ведь Люба зовут?
— Ага. А вы почем знаете?
— Он говорил, что познакомился с вами.
— А чего в ресторане было, он вам не говорил? — лукаво спросила девушка.
— Нет. А что?
— Ой, умрешь, — она снова рассмеялась, прикрыв ладошкой рот. — Он только заказ стал делать, подходит какой-то парень. Ну, взрослый уже. А длинный такой, кошмар! И говорит: «Давай иди смотри за багажом, а то жуликов тут в поезде поймали». А мне говорит: «Вы извините, девушка, Я его старший брат, в разных вагонах только едем, билеты поздно брали». Ну, мой Боря, как водой облитый, встал, покраснел, глазами — у него, между прочим, ничего глазки — как зыркнет на братика и ушел. А я, значит, за ним. Думала, старший хочет меня пригласить, хотела поворот ему дать. А он ноль внимания. К какому-то мужчине обратно сел. Ну, я и пошла.
Рассказывала она все это весело и беззаботно, ничуть не стесняясь, и видно было, что ничего не привирает, что просто очень насмешила ее эта нелепая история.
— …А Боренька, бедный, залез на свою полку, отвернулся и так до самого Борска и пролежал. Стыдно, наверное, было, — заключила Люба.
— Ясное дело, сконфузили парня, — укоризненно заметила пожилая женщина. — Нешто можно так.
— Вот еще! — снова не выдержала Люба. — Просто он лопух. Мне бы кто-нибудь так сказал, хоть брат, хоть сват. Он бы у меня утерся!
Она достала из сумочки сигареты и возбужденно чиркнула спичкой. Закурив, она успокоилась и с прежней насмешливостью сказала Коршунову:
— Так что ни пьян, ни влюблен он не был. Чемоданчик у него просто свистнули, вот и все.
— Да нет, — возразил Коршунов. — Точно такой у него и остался. Только когда открыл, увидел, что не его.
— Все равно лопух, — решительно произнесла Люба, стряхивая пепел, и неожиданно заключила: — Слава богу, у меня ни братьев, ни сестер.
Сергей рассмеялся. А пожилая женщина, сердито посмотрев поверх очков на Любу, сказала:
— Глупости говоришь. Вот у меня….
— Вы, бабушка, другое поколение, — бесцеремонно перебила ее та. — А вот скажите, — она повернулась к Коршунову, — у вас сколько детей?
— Один.
— Видали? А у вас? — теперь она обратилась к моряку.
Тот, слушавший весь разговор очень внимательно и серьезно, неожиданно смутился.
— У меня двое, — но тут же с гордостью уточнил: — Два сына.
— Ну, значит, жена дома сидит, — заключила Люба.
«Эге, — подумал Коршунов, — эта энергичная девица сейчас уведет разговор совсем в другую сторону», — и, в свою очередь, спросил:
— А что, тот брат к нему сюда заходил?
— Не, — охотно отозвалась Люба. — Чудики какие-то, а не братья.
— Где же он ехал?
— Кто его знает, — Люба пожала плечами и, приподнявшись, загасила испачканную помадой сигарету.
В это время в купе заглянул Светлов и поманил Коршунова.
— Извините, — сказал Коршунов, вставая. — Товарищ зовет. Я только хотел спросить: в вашем купе еще кто-нибудь ехал, вот на месте этого товарища? — он указал на моряка.
— Ехал, ехал, — ворчливо отозвалась пожилая женщина, не отрываясь от вязанья. — Все в карты ходил играть куда-то.
— Хмырь какой-то, — презрительно пожала плечами Люба. — Вертлявый, глазки бегают, ножкой шаркает. На прощанье даже руку мне поцеловал. А сам во какой, представляете? — Она протянула руку над полом. — Фельетон один.
— А где он сошел?
— Да тоже в Борске.
— Не помните, какой у него был багаж?
— Чемодан, портфель, кажется.
— А какой из себя чемодан?
— Ну, знаете, — Люба пожала плечами. — Я всегда на личность человека смотрю. А на чемоданы только жулики смотрят и еще, — она лукаво стрельнула глазами, — милиция, конечно.
— Мы тоже на личность смотрим, — засмеялся Коршунов. — Девушек особенно. Спасибо вам, Люба. До свидания, товарищи.
Уже выходя из купе и задвигая за собой дверь, он услышал, как Люба сказала:
— Все-таки в милиции симпатичные мужчины попадаются. Можно даже запросто влюбиться. Моя подружка…
Светлов притянул Коршунова к окну и тихо сказал:
— Вторая проводница, Таня, говорит, что в Борске вместе с Трофимовым сошел еще один пассажир из их купе. Чемодан у него был точно такой же, она обратила внимание. Так что все ясно.
— М-да, — задумчиво согласился Сергей. — Ясно. Но далеко еще не все. Пойдем в вагон-ресторан.
Официантка сразу вспомнила вчерашний инцидент.
— Нахально так прогнал, знаете. А паренек с девушкой пришел, Ну каково ему? И вовсе они не братья. Что я, братьев не узнаю? А сам с товарищем остался. Выпивали. И с собой еще взяли.
— В каком вагоне они ехали, не знаете?
— Кто их знает. Вон с той стороны пришли, — она махнула рукой в противоположный конец вагона.
Коршунов вместе со Светловым двинулись туда. Переходя из вагона в вагон, они беседовали с проводниками. Приметы обоих посетителей ресторана всем оказались знакомы, особенно второго, длинного, очень характерные приметы. Проводники заметили обоих. «Проходили», — уверенно сказала проводница первого вагона. «Проходили», — подтвердила вторая, третья… И наконец Коршунов и Светлов услышали: «Тут ехали, тут, в шестом купе». Это сказала проводница предпоследнего, четырнадцатого, вагона.
В указанном ею купе сейчас ехало всего двое пассажиров. Когда Коршунов зашел туда, один из пассажиров, устроившись возле столика, читал какой-то журнал. Это был элегантно одетый седовласый человек в очках с золотой оправой. Второй пассажир спал на верхней полке, отвернувшись к стене. Оттуда доносилось тяжелое похрапывание.
Коршунов представился.
Человек отложил журнал — Сергей заметил, что это был какой-то научный ежемесячник, — и вежливо спросил:
— Чем могу быть полезен?
— Видите ли, в этом купе ехал один человек, — начал Сергей. — Такой худой, высокий, чернобровый…
— Да, да, — поморщился пассажир. — Прекрасно помню. Он, слава богу, вышел в Борске. Они, — он с неприязнью покосился на спавшего, — тут просто кабак устроили. Вот, видите, отсыпается теперь.
— Тот человек рассказывал, откуда он едет, куда?
— А! — пассажир досадливо махнул рукой. — Вели какой-то пьяный, глупый разговор. Я, признаться, не прислушивался. Помню только, что этот, — он снова кивнул на спящего, — называл его Иваном.
— Иваном?
— Да, это я точно помню. И… вот еще что. Перед самым Борском он начал шарить у себя по карманам. Сказал, что потерял адрес родственника. Вдруг, мол, тот не встретит на вокзале. При этом ругался, конечно, последними словами. В общем грязный тип. Что-нибудь натворил?
— Да. Пытался украсть чемодан на вокзале.
— Похоже. Весьма похоже.
— А сам он ничего случайно тут не оставил?
— Ну как же, — брезгливо усмехнулся пассажир, — вон там бутылки пустые насовали, — он указал на угол под полкой.
Коршунов нагнулся и осторожно, одну за другой, вынул три пустые бутылки из-под водки.
Пассажир снова усмехнулся.
— Отпечатки думаете обнаружить?
— Конечно. Может статься, старый знакомый, — тоже усмехнулся Коршунов. — Тут, знаете, вся биография может отпечататься.
— М-да. Неприятное у вас занятие, — покачал седой головой тот. — А главное, бесперспективное.
— Ну почему же? — возразил Сергей. — Посидит, одумается. Большинство все-таки одумывается. Это ведь тоже наука. Розыск, перевоспитание, предупреждение. Последнее должно быть, конечно, первым.
— Знаю, слышал и читал неоднократно, — махнул рукой тот. — Криминология, криминалистика. А преступность… Я вот раньше только в книгах о преступниках читал. А недавно жену брата ограбили, нагло, прямо, знаете, в подъезде. Да я вам тысячу случаев таких приведу. Вы их лучше меня знаете.
— Положим, тысячу не приведете. И отдельными фактами тут ничего не докажешь! — невольно втягиваясь в спор, ответил Коршунов. — Вы, кажется, ученый, вы должны это знать.
— Моя специальность очень далека от вашей. Но вы правы. Тут нужна точная статистика, нужен строго научный анализ. Вывод мой, конечно, некомпетентен. Он скорее обывательский, чем научный. И все-таки это явление многих тревожит, согласитесь.
— Конечно. И прежде всего нас самих. Хотя борьба с преступностью — дело всего общества, а отнюдь не только милиции. С этим, я думаю, вы тоже согласитесь.
— Это элементарно. Я даже больше вам скажу…
Внезапно на верхней полке заворочался спавший там человек, оттуда раздался протяжный зевок, послышалось какое-то бурчание, и сверху свесилась заспанная, измятая физиономия с всклокоченными волосами.
— Ага, — прохрипел человек, уставясь на Коршунова. — Прибыл, значит. Может, напоследок опохмелимся?
— Слезайте, гражданин, — строго сказал Коршунов.
— А чего?.. Фу ты, дьявол! Я думал, Ванюша сидит.
— Ну, слезайте, слезайте. Познакомимся.
— А чего?.. Меня Сема зовут. Мне и тут хорошо. Вот только голова, дьявол, трещит. У тебя, браток… Фу ты! Извиняюсь, конечно…
Он громко икнул и, откинувшись на подушку, внезапно захрапел.
— Да-а, — покачал головой седой пассажир, откладывая журнал, которым он как бы отгородился от происходившего разговора. — Тот, знаете, был покрепче. Когда в Борске выходил, так ни в одном глазу. Словно и не пил. Представляете?
— И покрепче и поопаснее, — сказал Коршунов и, в свою очередь, спросил: — А записку ту с адресом он так и не нашел?
— Так и не нашел. Не только карманы, все купе обшарил.
— М-да. Ну что ж, — Коршунов поднялся. — Извините. Скоро Москва, нам надо заканчивать работу.
— Бога ради. Желаю успеха.
Они простились.
Коршунов осторожно взял бутылки и вышел из купе. В коридоре его уже ждал Светлов.
Ничего интересного проводники ему не сообщили. Иван пил, много спал и, как оказалось, даже удерживал своего собутыльника, который пытался шуметь и ругаться. В Борске Иван спрыгнул на платформу первым, оттолкнув проводника, когда вагон еще даже не остановился окончательно. Он очень спешил и нервничал. И это Сергею было понятно.
Затем Светлов привел заспанного, оробевшего Сему, оказавшегося Семеном Петровичем Шатуновым, слесарем одного из московских ЖСК, следовавшим домой после законного двухнедельного отдыха, который, однако, судя по опухшей Семиной физиономии, большой пользы ему не принес. Сема клялся и божился, что, кроме имени, ничего о своем случайном собутыльнике знать не знает и, о чем разговоры у них были, он тоже не помнит, ибо в голове у него все это время шум и звон стоит невозможный. На работе он только премии и благодарности получает, «круглый год на Красной доске висит», начальство им не нарадуется, а тут вот позволил себе отвлечься от дел и забот. Все в его словах вызывало очевидное сомнение, кроме двух пунктов: пьян был все это время Шатунов безусловно, и такой преступник, как Иван, что-либо рассказать ему о себе, конечно, поостерегся.
Непонятна была только одна деталь в поведении Ивана, сообщенная седым пассажиром. Какой адрес потерял Иван, чей? Семенова? Иван сказал: «вдруг не встретит». А встречать его на вокзале должен был именно Семенов. Но его адрес Иван знал, он ведь был у него дома. Странно, странно. Над этим еще предстоит подумать…
Поезд подходил к Москве. Коршунов и Светлов аккуратно упаковали с помощью проводника обнаруженные бутылки и приготовились к выходу.
На площади перед вокзалом их уже ждала черная «Волга». Гена, отдохнув, успел все же приехать раньше, обогнав поезд.
Синие сумерки уже окутали город. Но еще не зажглись фонари на улицах, не светились витрины магазинов. На широком Садовом кольце только колючие белые огоньки подфарников машин и красные огни задних фонариков бесконечным роем неслись навстречу друг другу между сумрачными громадами домов. Силуэты людей уже плохо были видны на фоне темных, без снега, мостовых. Был самый трудный час для водителей машин.
И все же Гена, включив желтые фары и изредка сердито урча сиреной, стремительно летел на своей черной «Волге», ловко обходя попутные машины.
Только когда выскочили на улицу Горького, над головой начал разгораться голубой неон уличных фонарей.
— Значит, я на доклад к начальству, — сказал Коршунов и, улыбнувшись, добавил: — А ты сдаешь бутылки.
— Так точно, — ответил озабоченный Светлов, даже не уловив шутку. — При мне сделают. Следы для идентификации есть вполне приличные.
Машина лихо развернулась у широкого подъезда министерства, Коршунов выскочил и махнул на прощание рукой. Гена тут же рванул машину: уголовный розыск научил его быстроте и решительности.
Кабинет начальника управления был ярко освещен. Когда Коршунов вошел, комиссар поднялся — ему навстречу.
— Ну, с приездом, — сказал он, пожимая Коршунову руку. — Как добыча? Заодно давайте и ваши соображения по делу, — и с ударением добавил: — Товарищ полковник.
Коршунов чуть смущенно усмехнулся.
Он все еще никак не мог свыкнуться со своим новым званием. Черт возьми, полковник! Хотя в сорок три года это не так уж и странно. Но Коршунов не чувствовал и этих лет. И Витька еще совсем клоп. И Лена тоже ничуть не состарилась, правда, она здорово следит за собой, режимчик у нее будь здоров какой. Актриса все-таки. Но и он сам — ни одного седого волоса, ни брюшка, ни одышки, и хочется бегать, заниматься самбо, ходить на лыжах и играть в волейбол, вот ведь что! И все это — закалку, энергию, бодрость — дала ему армия, как и многое другое, конечно. Да, да, все заложено было в те годы, все он принес оттуда, Как удивительно ясно помнил Коршунов то время! Худом, угловатый мальчишка, вчерашний школьник стал солдатом в самое трудное, самое опасное для Родины время. Громы великих и малых сражений, тяготы дальних походов, разведывательные рейды по тылам врага и строгая служба потом в Германии — все помнил Коршунов. Он помнил даже перестук вагонных колес, когда возвращался домой, в Москву, помнил, кажется, и бешеное биение собственного сердца в ожидании счастливых встреч, которые до того ему лишь снились и в которые он порой уже не верил. А ведь с тех пор прошло почти двадцать лет, и каких лет! И вот — «товарищ полковник». И новое дело, которое уже захватило его целиком, важное, трудное дело, это и сейчас ясно, хотя оно только начинает разворачиваться и таит в себе многое, чего нельзя даже предвидеть.
— Разрешите начать с предварительных соображений, — сказал Коршунов.
— Конечно, — согласился комиссар. — Садитесь, закуривайте и по возможности отдыхайте. День у вас выдался нелегкий.
Коршунов опустился на стул возле письменного стола и не спеша закурил, собираясь с мыслями.
— Прежде всего как разворачивались события, — начал он. — Семенову привезли вчера из Ташкента чемодан с наркотиком. Случайно этот чемодан перед самым выходом из вагона был обменен. Это мы сегодня точно установили. Значит, чемодан этот сейчас в Борске у какого-то человека, и, как он им распорядится, мы не знаем. Человек же, привезший этот чемодан, задержан. Но он ничего не дает, его использовали вслепую. Его напарник по имени Иван скрылся, ранив нашего сотрудника. Он и сейчас скрывается в Борске.
— Опасный преступник. И, конечно, многое знает. Приметы?
— Известны. Причем, возможно, у него там есть еще связь, помимо Семенова. В вагоне он потерял какую-то бумажку с адресом. И перед Борском искал ее и очень нервничал. Это мы тоже узнали там, в поезде.
— Нашли вагон, где он ехал?
— Да, и вагон, и купе, и попутчиков.
— Молодцы. А записать он мог адрес Семенова, на случай, если тот не встретит их.
— Но он уже бывал у него, — задумчиво возразил Коршунов. — Тут надо разобраться.
— Вот именно, — с ударением произнес комиссар.
— Теперь дальше, — продолжал Коршунов. — Ниточка эта тянется из Ташкента. Там, кстати, Семенов одно время жил. И там гнездо этих спекулянтов.
— Очень опасная группа.
— Да, конечно. Но это не все. За день до приезда в Борск людей из Ташкента там происходит убийство таксиста. Вернее, за несколько часов до их отъезда.
— Знаю. Наши товарищи там уже работают.
— Но в кармане убитого тоже обнаружен наркотик. Вы помните? Я хотел бы как версию увязать эти два дела.
— Основания?
Коршунов улыбнулся.
— Нет оснований, товарищ комиссар. Но…
— Интуиция?
— Если хотите, да.
— Не последнее дело. Что еще дал поезд?
— Бутылки. Светлов отвез их на экспертизу.
Комиссар взглянул на часы.
— Там кончают работу. Надо попросить задержаться.
— Светлов попросит.
— Хорошо. Что дал разговор с пассажирами, проводниками?
— Множество деталей. Даже приметы человека, случайно унесшего тот чемодан.
— Весьма интересно. А теперь, — комиссар пристально и выжидающе посмотрел на Коршунова, — что думаете делать дальше? Вы были в Борске. Там сейчас сложная ситуация. Как, впрочем, и в Ташкенте. Группу эту надо обезвредить во что бы то ни стало.
— Так точно. А думаю делать… Надо мне лететь, товарищ комиссар.
— Правильно. Сначала в Борск, потом в Ташкент. Тогда я буду спокоен, Сергей Павлович, честно вам скажу.
— Понимаю, товарищ комиссар. Тогда и я буду спокоен.
— Что ж, решено. И помните, у вас самые широкие полномочия. Такими еще никто не располагал при раскрытии конкретных дел.
— Понятно. Когда прикажете вылетать?
— Решайте сами.
— Сегодня. Самолет через час пятьдесят. В десять вечера я буду в Борске.
Районный врач городской поликлиники в Борске Ольга Николаевна Бессонова поздно вечером заканчивала обход своего участка. Больных было много, шла эпидемия гриппа. И вот наконец последний вызов.
Ольга Николаевна устало поднялась по полутемной, грязноватой лестнице с погнутыми перилами на четвертый этаж большого дома по улице Луначарского и остановилась возле двери одной из квартир. Тусклая лампочка на площадке еле освещала длинный список жильцов. Ольга Николаевна, близоруко щурясь, водила пальцем по списку, пока не наткнулась на строчку: «Глумовым — 4 зв.», и принялась нажимать на кнопку звонка.
Дверь долго не открывали. Пришлось звонить снова.
Открыл кто-то из соседей.
— Ах, это вы, доктор! Проходите. Вон их дверь. А это их вешалка.
Ольга Николаевна сняла пальто и, прихватив старенький портфель, постучала в указанную ей дверь.
Из комнаты раздался хриплый голос:
— Чего стучать-то? Не заперто.
Ольга Николаевна вошла.
В комнате было неприбрано, на столе — грязные тарелки, куски хлеба, пустая, небрежно вспоротая консервная банка. На стульях валялись какие-то вещи.
У стены на широкой постели под ватным одеялом лежала женщина, толстая, непричесанная, жирные ее руки покоились поверх одеяла.
Ольга Николаевна освободила ближайший стул, придвинула его к постели, достала стетоскоп и сказала:
— На что вы жалуетесь, Мария Федоровна?
— На все я, милая, жалуюсь, — басовито прогудела женщина. — На все как есть.
— Ну, давайте я вас осмотрю, выслушаю.
Она откинула тяжелое, дурно пахнущее одеяло. Больная вздрогнула. Начался осмотр.
— Почему вы такая нервная? — удивилась Ольга Николаевна. — До вас дотронуться нельзя.
— Как же мне не быть нервной, — громко пробасила больная, — если мой муж изменяет мне на каждом шагу. Как он в коридор, я за ним, И с кем-нибудь уже стоит. Ну, я терпела, терпела, потом собрала ему чемодан, говорю: «Катись». А он говорит: «Площадь общая». — «Ах, — говорю, — общая?» И стала его выживать.
— Как же это вы его выживали? — улыбнулась Ольга Николаевна, давно привыкшая к самым неожиданным исповедям своих пациентов.
— А бить стала. Я ж здоровая. А он вон какой щуплый. Набью морду, стыдно и на работу идти. И кричать стыдно, что жена бьет. Вот так и выжила.
— Где ж он теперь?
— Да тут! Я ж вторую неделю больная лежу. Надо в магазин сбегать, на рынок, сварить, постирать. Вот пока и держу.
— Где ж он сейчас?
— Не говорите, доктор. Как на грех, мать у него в Ташкенте померла. Так я его на неделю туда отпустила. Ежели к сроку не вернется, ну, не знаю, что сделаю.
Продолжая осмотр, Ольга Николаевна спросила:
— Когда же у него срок-то кончается?
— Вот сегодня и кончается. Опять небось юбку нашел, — она тяжело заворочалась под одеялом. — Ох, придется бить. А прогоню уже опосля, когда выздоровлю.
Но тут в передней раздались четыре нерешительных, коротких звонка. Ольга Николаевна к этому времени уже закончила осмотр и теперь выписывала рецепты.
Больная, услышав звонки, встрепенулась.
— Идет, — с угрозой прогудела она. — Идет, окаянный. Ключ-то я ему пока не даю.
Кто-то из соседей открыл дверь, и через минуту в комнату робко вошел щуплый, невысокий человечек в мятом костюме, с чемоданом в руке. Вид у него был растерянный и встревоженный.
— Явился, значит? — сразу наливаясь злостью, прогудела из-под одеяла больная. — Не запылился?
— Приехал, Машенька, приехал, как велела, — ответил человечек, осторожно ставя чемодан на стул.
Тут он заметил врача и галантно поклонился.
— Мое почтенье. Глумов Василий Евдокимович, супруг, так сказать, — и, потирая озябшие руки, с наигранной бодростью спросил: — Ну-с, так как наша больная?
— Не радуйся, не радуйся, выздоровлю, — пробасила в ответ та. — Тогда ты у меня порадуешься.
— Ну, что ты, Машенька, — сконфузился Глумов. — Что ты, ей-богу, говоришь.
— Знаю, чего говорю.
Ольга Николаевна поспешила дописать рецепты, дала последние наставления больной и простилась. «Какая смешная и противная пара», — брезгливо подумала она.
Глумов все так же галантно, с поклонами проводил ее до дверей, в передней подал пальто и на прощание сказал:
— Будет время, заглядывайте к нам в парикмахерскую, на углу Гоголя и Первомайской. Посажу к лучшему мастеру. Будете несказанно довольны. Золотые руки. Цены нет.
В комнату он возвратился снова робкий и притихший.
— Что, еще за одну юбку уцепился? — подозрительно пробасила из постели супруга. — Вот погоди, встану.
— Ну что ты, Машенька, что ты, — суетливо и озабоченно ответил Глумов. — Тут такое дело, Машенька, произошло, уму непостижимо.
— Какое еще дело?
— Совершенно невозможное! Чужой чемодан из поезда унес. Абсолютно чужой!
— Ладно врать-то. Твой это чемодан. Ослеп, что ли?
— В том-то и дело, Машенька! Похож, но не мой. Это я только по дороге понял. По тяжести, так сказать. А со мной в купе один паренек ехал и одна… Впрочем, не в этом дело.
— Опять?.. — грозно прорычала из постели супруга, тяжело приподнявшись на локте. — Не мог пропустить, ирод?
— Ах, Машенька, — плачущим голосом сказал Глумов. — Ты в главное вникни. Чужой чемодан, понимаешь? И в нем… Я по дороге заглянул. Странный такой порошок. Серый. Понять не могу, что это может быть. Ты вот погляди.
Он торопливо открыл чемодан и вынул туго набитый, завязанный шнурком целлофановый мешочек, за ним другой, третий и выложил их на стол. Потом взял один и поднес супруге.
— Вот видишь? — и удивленно повторил: — Уму непостижимо, что это может быть.
Та с любопытством осмотрела мешочек, помяла, понюхала его и, положив возле себя на одеяло, спросила:
— А еще чего там?
— Тряпки какие-то, совершенные тряпки, — махнул рукой Глумов и нерешительно добавил. — Может, в милицию отнести?.
— Я те дам в милицию! — грозно ответила Мария Федоровна, откидываясь на подушки. — А ежели ценность какая? Они там сразу ее к рукам приберут.
— Ну, какая же это, Машенька, ценность? — разводя руками, усмехнулся Глумов. — Небось удобрение какое-нибудь или там лекарство. Что же мы с ним делать будем? — и опасливо добавил: — А его, наверное, уже ищут. Парень тот, конечно, заявил. Это, Машенька, уголовно наказуемое дело. Присвоение, так сказать.
— Ладно тебе пугать-то. Ищут его…
— Но что же делать?
— Перво-наперво узнать надо, что за вещь. Может, и в самом деле лекарство. Я вон, когда в аптеке уборщицей работала, наслышалась. Лекарство лекарству рознь. Другим цены нет, лекарствам-то.
Глумов, однако, был в явном замешательстве. Душонка его раздиралась противоречиями. С одной стороны, нехорошо, конечно, присваивать чужое, непорядочно. С другой, это чужое могло и в самом деле стоить немало. И тогда Машка уж наверняка пропишет его обратно. И можно будет не раз потихоньку кутнуть с Зиночкой, новой их мастерицей. Но, с третьей стороны, можно и ответить, ведь парень-то, конечно, заявил. Последнее было так страшно, что и подумать невозможно. Что такое, например, ОБХСС, Глумов знал по собственному опыту, когда у него в парикмахерской однажды обнаружилась недостача дорогого одеколона, хны и салфеток. Господи, что он тогда пережил! Чудо его спасло, просто чудо. В то же время надо быть круглым идиотом, чтобы своими руками отдать, может быть, целое богатство. Но тогда что же делать?
— Значит, так, — решительно объявила Мария Федоровна, снова приподнявшись на локте. Плоское, обрюзгшее лицо ее с бородавками под ухом и возле носа было суровым. — Значит, так, — повторила она. — Первым делом надо разузнать, что это за порошок такой. Понял? Отсыпь в коробочку. Ну! — и указала пальцем на мешочек, лежащий возле нее.
Глумов с готовностью подскочил к кровати, взял мешочек и, отойдя к столу, с трудом, ломая ногти, развязал его. В нос ударил какой-то странный, неприятный запах. Глумов поморщился. Потом достал из буфета спичечный коробок, высыпал спички в ящик и осторожно наполнил коробок странным порошком. При этом в носу у него засвербило, глаза наполнились слезами, и он громко чихнул.
— Ну, ты! — прикрикнула с постели Мария Федоровна. — Не просыпь гляди.
— Что ты, Машенька, как можно.
Он снова завязал мешочек, положил его вместе с остальными обратно в чемодан, захлопнул крышку и с усилием потащил его к шкафу.
— Давай его сюда, олух, — приказала Мария Федоровна, ткнув пальцем под кровать.
Глумов послушно изменил направление, подтащил чемодан к кровати, затем стал на колени и принялся задвигать его подальше, к самой стене.
Когда Глумов, отдуваясь, наконец поднялся на ноги и стал отряхивать колени, Мария Федоровна отдала новый приказ:
— Завтра утречком забежишь в мою аптеку. Ну, где работала. Помнишь небось?
— Конечно, Машенька, а как же?
— То-то. Спросишь Нинель Даниловну. Только гляди у меня. Убью, если что. Я теперь нервная стала.
— Ну что ты, Машенька, как можно? — слабо возмутился Глумов, опускаясь на стул.
— Так и можно. Скажешь, что от меня. Покажи ей коробок, пусть определит. Если что, знакомый, мол, дал. И все. Про чемодан ни слова, понял? И домой. А потом я решу, чего дальше.
— Понял, Машенька, понял. Все сделаю, как велишь.
«Дура ты темная, — с презрением подумал он. — Разве так коммерческие дела делают? Уж я-то знаю, как надо». Тем не менее в аптеку Глумов решил зайти: «Нинель — это интересно. Нинель…»
Утром вертлявая его фигурка уже появилась у аптечного прилавка за высокой стеклянной витриной. Работавшая там девушка в белом халатике, выслушав его просьбу, приоткрыла дверь за своей спиной и крикнула:
— Нинель Даниловна, к вам пришли!
Через минуту к Глумову вышла, точнее даже выплыла, высокая, статная женщина в белом халате, с густо подведенными глазами на свежем, румяном лице и высоко взбитыми, ярко-рыжими волосами, на которых чудом держалась беленькая крахмальная шапочка.
Глумов застыл от восхищения. Как большинство маленьких мужчин, он любил именно таких женщин, крупных и представительных. Но, боже мой, тут была еще и ослепительная красота вдобавок. «Ах, если бы…» — мелькнуло у него в голове.
— Можно вас на одну минуточку? — проникновенно сказал он и, понизив голос, добавил: — Хотелось бы поговорить с вами тет-а-тет.
— Пожалуйста, — с ленивым достоинством произнесла Нинель Даниловна.
Они отошли к стеклянной витрине.
— Прежде всего разрешите представиться: Глумов Василий Евдокимович, — он поклонился, слегка шаркнув ножкой.
— Очень приятно, — насмешливо ответила Нинель Даниловна, сверху вниз поглядывая на неожиданного посетителя. — Что скажете?
— Вы должны знать мою… — Глумов слегка замялся, — бывшую супругу Марию Федоровну.
— Ах да, да, — слегка оживилась Нинель Даниловна, двумя руками поправляя шапочку на волосах.
Видимо, это имя вызвало у нее какие-то приятные воспоминания.
— Так вот, — продолжал Глумов, не спуская глаз со своей собеседницы, — мы… то есть я… хотели бы у вас, так сказать, проконсультироваться. — Он торопливо достал из кармана заветный коробок и протянул его Нинель Даниловне. — Что бы это могло быть, как вы полагаете?
Та цепким движением выхватила у него коробок, открыла и вдруг, раскрасневшись, почти с испугом взглянула на Глумова.
— Откуда это у вас?!
— Э-э… весьма случайно, — смешался Глумов. — Но что же это такое, разрешите узнать. Ибо это нам… вернее, нас… как бы выразиться?.. Весьма, знаете…
Пока он выкарабкивался из этой словесной каши, Нинель Даниловна уже овладела собой и обворожительно улыбнулась.
— Ах, милый… Василий Евдокимович, — она с трудом вспомнила его имя, — это лекарство, дорогой мой, простое лекарство.
— Простое?..
Лицо Глумова вытянулось.
— Ну, как вам сказать? Не совсем, конечно, простое. Это…
Нинель Даниловна произнесла какое-то длинное латинское название.
— Видите ли… — запинаясь, проговорил Глумов, — у нас этого лекарства… некоторый избыток. И мы… и я бы хотел… так сказать…
— Ах боже мой, — перебила его Нинель Даниловна. — Я с удовольствием помогу вам от него избавиться. Дело в том, что из него приготовляют… — она произнесла по-латыни еще более длинное название. — Вот это уже весьма ценный препарат. Сколько у вас его? — она бросила взгляд на коробок.
— У нас… э-э-э… многовато, — неуверенно сказал Глумов.
Нинель Даниловна придвинулась к нему и, обдавая его лицо своим жарким дыханием, прошептала:
— Принесите мне все. Я вам хорошо уплачу. Очень хорошо, — она плутовски и многозначительно посмотрела на него своими подведенными глазами. — Приходите ко мне домой. Сегодня вечером. Попозже. Ну, скажем, часов в десять. Сможете? Вы не пожалеете, — и погрозила розовым наманикюренным пальцем с тяжелым кольцом. — Только это дико между нами. Я буду ждать.
Глумов почувствовал, как у него медленно закружилась голова и на секунду сперло дыхание.
— Конечно, — пролепетал он. — Я… я буду счастлив. И непременно приду. И… и все принесу.
— Тогда запишите адрес.
Нинель Даниловна внимательно проследила, чтобы дрожащая рука ее нового знакомого правильно вывела на клочке бумаги название улицы, номер дома и квартиры. Это было весьма предусмотрительно, ибо номер дома Глумов, волнуясь, записал совсем неразборчиво.
Из аптеки Глумов вышел, слегка пошатываясь. Очутившись на улице, он несколько раз глубоко вздохнул, посмотрел по сторонам и, обретя наконец равновесие, торопливо засеменил на работу.
«Что-то надо придумать для Машки, — размышлял он по дороге. — Совещание в тресте? Нет, это уже недавно было. Производственное собрание?.. Тоже было. Ну да что-нибудь придумаю. Боже мой, какая удача! Даже сразу две удачи! Ах, Нинель…» И он повторил про себя заветный адрес.
Глумов даже не мог представить, какой сюрприз ждет его сегодня вечером.
Наташа вернулась из горздрава только к концу рабочего дня, усталая, изнервничавшаяся. Ее ждала уйма дел. В отделении больны два палатных врача, и палата одного из них перешла к ней. А там три очень тяжелых, Наташа волнуется за них каждую минуту. Хорошо еще, что Вера Евграфовна не заболела, при ней не страшно оставить отделение — старая, опытная сестра, получше некоторых врачей. И все-таки, если бы не эти дурацкие совещания… Скоро уже надо бежать за Вовкой и по дороге обязательно зайти в магазин, получить в химчистке свое платье и Вовкину курточку, а вечером обязательно постирать, столько скопилось белья. Или нет, стирать она будет в субботу, а крупное сдаст в прачечную. Хотя там очень долго держат. А сегодня, когда Вовка уснет, она, наконец, напишет своим старикам, они так всегда ждут ее писем. Старшей сестре Кате она напишет отдельно, у нее же больна Леночка и может заболеть Галка. Как они их там разделили? Мама, наверное, сбилась с ног, ведь Катя и Валерий целый день на работе, они тоже врачи. Ой, как хочется всех их повидать! Летом она с Вовкой непременно поедет к ним. Только до лета еще…
Наташа бежала уже по больничному двору, соображая, что она купит в магазине. Если в мясном не будет очереди… впрочем, очередь, конечно, будет. Тогда она возьмет молока, пачку творога, яйца, хлеб, не забыть бы хлеб! И еще на утро ряженку, Вовка ее обожает.
Она свернула по асфальтовой дорожке к своему корпусу, увидела знакомую цифру 7 в белом квадрате на желтой оштукатуренной стене, приоткрытую дверь…
Солнце уже зашло за крыши домов, синие тени деревьев легли на искристый белый снег вокруг.
Наташа неожиданно подумала о Лобанове, вон там, около двери, он ее ждал и курил. Очень он славный и какой-то «настоящий», прямой и честный. И ужасная у него работа, никогда, наверное, нельзя быть за него спокойной. Наташа улыбнулась и насмешливо сказала себе: «А, собственно говоря, тебе-то почему надо за него беспокоиться? Вот если бы… — Ей стало стыдно додумывать эту мысль до конца. Наташа приложила холодную варежку к щеке. — Дуреха, просто дуреха. Не смей!..»
Она добежала наконец до корпуса и с шумом распахнула дверь.
На площадке второго этажа к ней метнулась молоденькая сестра:
— Наталья Михайловна, скорее! С Кузьминым плохо. Сердце… Мне кажется, опять спазм…
Теперь они обе бежали уже по коридору, и Наташа никак не могла попасть в рукав халата.
— Мы даже звонили вам в горздрав. Но вы ушли…
— Что ж, тут врачей нет?
— Он требует вас…
И вот началась знакомая, напряженная суета вокруг больного, уколы, кислородные подушки, компрессы, горчичники. А рядом встревоженные, страдальческие лица его соседей, их тоже надо успокоить. И наконец облегчение и безмерная усталость. Наташа еле дошла до ординаторской. Только бы не повторился приступ, только бы спокойно прошла ночь.
Наташа посмотрела на часы. Боже мой, шестой час! Вовка уже ждет. И еще магазины. Превозмогая усталость, она торопливо написала новые назначения в историю болезни Кузьмина, потом подробно проинструктировала ночную сестру, она ведь новенькая, она может напутать, растеряться. Ох, как страшно ее оставлять на эту ночь!
Но тут зашла Вера Евграфовна и ворчливо сказала:
— Сама останусь. Нешто можно? А ты иди, — обратилась она к Наташе. — Иди, иди, Вовка-то небось заждался. Без тебя управимся.
Она просто чудо, эта Вера Евграфовна, и со всеми на «ты», и никто, конечно, не обижается.
Наташа обняла старуху за плечи, чмокнула в седой висок.
— Я побежала. Только вы мне позвоните, если что-нибудь случится. И ночью звоните. Вовка очень крепко спит. Обязательно позвоните. Я приеду.
— Ну, беги, беги уж, — с напускной суровостью проворчала Вера Евграфовна. — Ничего такого, бог даст, не случится.
Ой, какое счастье, что Вера Евграфовна осталась!
Уже совсем стемнело, когда Наташа выбежала из больницы. Нет, в магазин она уже не успеет, магазин потом, сейчас надо за Вовкой. Бедненький, он, наверное, заждался ее и, конечно, уже оделся и вспотеет. И другие дети уже ушли…
Когда Наташа подбежала к остановке автобуса, по тротуару уже вытянулась длинная очередь. Подавляя отчаяние, Наташа пристроилась к ее концу.
И тут вдруг произошло чудо. Возле Наташи неожиданно остановилась зеленая «Волга», шофер приоткрыл дверцу и весело сказал:
— Можно вас подвезти, доктор?
Наташа с удивлением посмотрела на молодое, улыбающееся, совершенно незнакомое лицо.
— Не узнаете? — засмеялся тот. — А ведь мы с Александром Матвеевичем вас сегодня в горздрав возили.
Боже мой, ну конечно! Как Наташа его не узнала.
— Спасибо, спасибо. Я так спешу.
Трогая машину, шофер весело объявил:
— Вы теперь вроде как наша. Так что извините.
Хорошо, что в машине было темно и он не заметил, что Наташа смутилась и даже, кажется, покраснела.
Около детского сада он притормозил и сказал:
— Давайте вашего молодца, я вас домой доставлю.
— Ой, что вы! — воскликнула Наташа. — Не надо. Мы теперь сами. И так ужасно неудобно, что я вас затруднила.
— Так у меня еще двадцать минут. Александр Матвеевич велел к шести быть. Я ему доложу, он только доволен будет. Знаете, какой это человек? Поискать.
Наташа невольно улыбнулась.
— Ну хорошо. Мы сейчас.
И она побежала через садик к двери с зеленой табличкой.
Через минуту Вовка, укутанный шарфом чуть не до носа, важно сопя, взгромоздился на переднее сиденье и с любопытством огляделся..
Когда машина тронулась, он оттянул вниз шарф и строго спросил:
— Это чья, а?
— Одного начальника милиции, — в тон ему ответил шофер.
— Хорошего?
— Ого, еще какого хорошего. Поискать.
Шофер, оглянувшись, весело подмигнул Наташе.
— А чего он сейчас делает? — продолжал допытываться Вовка.
— Он, брат, одну сложную операцию проворачивает. Хорошо, если к утру управимся, — серьезно ответил шофер и добавил, обращаясь уже к Наташе: — Начальство даже сегодня из Москвы прилетает, друг его. Скоро встречать поедем.
— И… опасная операция? — робко спросила Наташа.
— Все может быть, — вздохнул тот. — Может, еще кого к вам в больницу привезем.
«Это ужасно, ужасно, — подумала Наташа. — Только бы ничего не случилось… с ними».
— А сегодня, когда мы гуляли, ко мне один здоровенный детина подошел из второго класса… — начал рассказывать Вовка.
Около дома Наташа с сыном вышли и направились в магазин неподалеку.
…Вовка уже сидел за ужином и Наташа стелила ему постель, когда в передней раздался звонок.
Наташа кинулась открывать, ей почему-то вдруг стало страшно.
На пороге стояла высокая, худенькая девочка с рыжеватой косой, перекинутой через плечо. Глаза ее были красны от слез. Рукой она прижимала к себе пальто.
— Это ты, Валечка, — с облегчением сказала Наташа. — Ну, заходи же. Что с тобой?
Она только сейчас заметила ее заплаканные глаза.
— Тетя Наташа, — решительно сказала девочка, прикрывая за собой дверь. — Я ухожу из дому. Я уже взрослая и больше жить с мамой не буду.
— Ты с ума сошла! — всплеснула руками Наташа. — А ну идем. Сейчас уложу Вовку, и ты мне все расскажешь. Повесь пальто.
Вовку, однако, уложить спать было не так-то просто. Он выдумывал одну причину за другой, чтобы оттянуть этот неприятный момент. Он требовал, чтобы помазали йодом какую-то невидимую царапину на коленке, потом у него начинал болеть живот, который прошел только после конфеты, потом Вовка вспомнил, что не почистил зубы, потом — что ему надо приготовить на завтра цветные карандаши, последним было условие дать ему в постель яблоко и мохнатого любимого мишку. Наконец он угомонился.
Наташа, облегченно вздохнув, сказала Вале:
— Гаси свет. Пойдем на кухню и спокойно поговорим.
— Я тоже хочу… спокойно… поговорить… — сонным голосом пробубнил из темноты Вовка.
В кухне на плите весело пыхтел чайник.
Наташа усадила девочку за стол, налила чай и придвинула вазочку с конфетами.
— Ну рассказывай, Валюша, что случилось.
— Просто я не хочу больше так жить…
У Вали вдруг скривилось лицо, и крупные слезы закапали прямо в чашку.
— Ну подожди. Ну успокойся, — заволновалась Наташа. — Давай разберемся. Как ты не хочешь жить?
— Вот так, — глотая слезы, произнесла девочка. — У мамы всегда гости. А я не хочу больше каждый вечер гулять по улицам и ночевать у подруг. Я не хочу ее больше видеть, такую! — с ненавистью воскликнула она.
— Но это же все-таки твоя мама, — сама чуть не плача, возразила Наташа. — И она тебя любит.
— А почему тогда она меня заставляет врать? Почему она сама все время врет? Она никого не любит, она только себя любит!
На бледном личике и на шее девочки проступили красные пятна, глаза сухо блестели, слез в них уже не было.
«Кажется, это серьезно, — в испуге подумала Наташа, — Очень серьезно. Бедная девочка».
— Но ты подумала, куда же ты уйдешь? — спросила она.
— Да, подумала. Я уеду к папе.
— К папе? — дрогнувшим голосом переспросила Наташа. — А у тебя папа… хороший?
— Очень. Он меня звал. А я, дура, осталась с мамой. Мне ее было жалко.
— А где папа живет?
— В Москве. У меня есть адрес. Я спрятала.
— Подожди, Валюша. Надо сначала папе написать. Ведь это было давно, когда он тебя звал.
— Ну и что же? Разве…
Она вдруг осеклась и испуганно посмотрела на Наташу.
— Нет, Валечка, нет! — Наташа поспешно вскочила, наклонилась к девочке и прижала к себе ее голову. — Ну, глупенькая, просто надо предупредить папу. Но я бы тебе советовала последний раз поговорить с мамой, сказать ей все.
— Я не пойду домой, — глухо сказала Валя. — Ни за что. У нее опять сидит какой-то человек. Грязный, страшный. Она его перевязывает.
— Перевязывает?..
— Ну да. И готовит угощение, и… и я должна идти гулять. И потом я вам скажу, — Валя перегнулась через стол и понизила голос, — он спрашивал про дядю Петю. Они с мамой на кухню ушли, но я слышала. И еще он сказал, что дядя Петя встречал его на вокзале.
— Чепуха какая, — засмеялась Наташа. — Он же лежит у меня…
«Боже мой, — вдруг испуганно подумала она, — неужели Александр Матвеевич ездил с ним на вокзал? И там… и оттуда привезли потом раненого… А этот человек, значит, все видел? Неужели Семенов его встречал? Но тогда… Ничего не понимаю».
Наташа растерянно посмотрела на Валю.
В это время в передней раздался звонок.
— Это мама! — Валя с испугом вскочила из-за стола. — Она собиралась к вам зайти. А я не хочу ее видеть, не хочу!
— Хорошо, — решительно сказала Наташа. — Иди к Вовке и ложись на мою постель. Только не зажигай света. Я скажу, что ты уснула. В общем я найду что сказать. Иди.
Девочка кивнула и на цыпочках проскользнула в темную комнату.
Наташа открыла дверь.
На площадке стояла Нинель Даниловна. Темно-зеленый джерсовый костюм красиво облегал ее крупную фигуру, полную шею охватывало янтарное ожерелье, в ушах видны были крупные янтарные серьги, свисавшие чуть не до плеч, а на руке, державшей сигарету, красовался янтарный браслет. Высоко взбитые рыжие волосы, казалось, тоже отливали янтарным блеском.
«Какие у нее всегда красивые вещи», — невольно подумала Наташа.
— Простите, дорогая, — произнесла Нинель Даниловна, отводя в сторону руку с дымящейся сигаретой. — Я к вам на одну минуточку, вы разрешите?
— Входите.
— Ах, Вовочка уже, наверное, спит, маленький? — нежно проворковала Нинель Даниловна, вплывая в переднюю. — Прелестный ребенок.
«О своем ребенке лучше подумала бы», — мысленно посоветовала ей Наташа, стараясь успокоиться.
— Проходите на кухню, — сказала она.
— У вас, я надеюсь, никого нет? — игриво поинтересовалась Нинель Даниловна, держа во рту сигарету и двумя руками поправляя перед зеркалом свою пышную прическу.
— Нет. Единственный мужчина уже спит, — улыбнулась Наташа, — так что проходите. — И тоже невольно посмотрела на себя в зеркало.
Рядом с Нинель Даниловной она казалась почти девочкой в своем простеньком платьице. Светлые, коротко остриженные волосы были перепутаны, падали на лоб, а под темными бровями насмешливые карие глаза смотрели сейчас чуть недовольно. «Конечно, забыла причесаться». Наташа отвела глаза и вдруг нахмурилась. Ведь там, в комнате, на ее постели, лежала Валя.
Они прошли на кухню, и Нинель Даниловна опустилась на стул, на котором только что сидела ее дочь.
— Ах, дорогая, — вздыхая, сказала она, — я измучилась, думая о брате. Скажите, как он сейчас? Когда вы его выпишете?
— Выздоровление идет нормально. Думаю, скоро выпишем. Вам можно уже не волноваться.
— Что вы говорите! Это же родной человек! Простите, куда можно стряхнуть? — Нинель Даниловна огляделась. — Ну, не беспокойтесь, я сюда, — она стряхнула пепел в блюдце и продолжала: — Единственный близкий мне человек, кроме Валечки. Я безумно переживаю. Поверите, у меня даже начались мигрени. Так вот. Я хотела вас попросить. Дико между нами, конечно. Кстати, у вас есть брат?
— У меня есть сестра.
— Ах, это совсем не то. Мужчины, они ужасно несамостоятельные. Петя особенно. За ним нужен такой уход.
— За ним хороший уход.
— Ах, я знаю, знаю. Я вам безумно благодарна, дорогая. И… если разрешите. Дико между нами.
Нинель Даниловна вынула из кармашка небольшую коробочку и придвинула ее через стол к Наташе.
— Посмотрите. Если вам понравится, я буду безумно счастлива.
Наташа машинально открыла коробочку. На черном бархате там сверкало колечко с маленьким бриллиантом.
— Вы с ума сошли!
Она хотела оттолкнуть коробочку, но Нинель Даниловна поспешно удержала ее руку.
— Ах, я вас умоляю, дорогая. Это же так естественно. Ведь я не взятку же вам даю? И ничего от вас не прошу. Это благодарность. За отношение. Только и всего. Поверьте, все так делают. Буквально все. И никто не обижается. Потому что это от всего сердца. Поверьте, дорогая.
— Мне не нужна такая благодарность, Нинель Даниловна.
— То есть как не нужна? Вы такая молодая, такая прелестная. Это колечко вам безумно пойдет. К любому платью, к любой прическе, имейте в виду. Кстати, у меня есть одна женщина. Она приносит очень милые вещицы. Вас не интересует?
При других обстоятельствах Наташа, наверное, заинтересовалась бы. Но сейчас ее переполняло отвращение.
— Нет, Нинель Даниловна, это меня не интересует. И колечко тоже. Спрячьте, пожалуйста, — она решительно отодвинула от себя коробочку. — Если вы пришли только за этим…
— Нет, нет. Хотя вы меня безумно огорчили. Я ведь так к вам расположена, — Нинель Даниловна погасила сигарету и осторожно поправила мизинцем свои длинные черные ресницы. — Я хотела вас попросить, дорогая. Ко мне приехал родственник. Двоюродный брат из Ташкента. Завтра уезжает обратно. Ему так хотелось бы проведать Петю. Умоляю, устройте. Никто не будет знать, клянусь. Хоть на одну минуту.
— Я вам говорила, Нинель Даниловна, что это невозможно.
— Но вы же врач, дорогая, вы же знаете, как это важно для больного. Он лежит у вас уже три месяца. И ни разу… ни разу… — она всхлипнула и осторожно сняла с глаз слезинку. — Это так жестоко.
Наташа почувствовала неловкость. Ей и в самом деле было жалко Семенова: он долго и тяжело болел. Отравление было на редкость сильным, дало — осложнения на печень, на кишечник. И его действительно все время никто не навещал. Так что тревога этой женщины в конце концов вполне понятна. Она сестра. А тут еще приехал двоюродный брат. Да, но он же видел Семенова? Тот, оказывается, даже встречал его на вокзале. Значит, Семенова туда привезли, нарочно привезли… Нет, ничего невозможно было понять.
И Наташа неуверенно спросила:
— А ваш двоюродный брат… он разве не видел Семенова?
Нинель Даниловна перестала плакать и бросила на Наташу настороженный взгляд.
— Что вы, дорогая! Как он мог его видеть? Я вас умоляю, пусть они повидаются. В любое время, на одну минуту. Клянусь, об этом никто не узнает. Петя ведь уже встает, выходит.
«Откуда она это знает?» — мелькнуло в голове у Наташи.
— Вы меня простите, — вздохнув, сказала она. — Но я просто не могу разрешить свидание. Не могу.
Нинель Даниловна снова заплакала.
Наташе стало ее жалко. «Может быть, все-таки разрешить? — подумала она. — Ну, не брату, так ей самой. Но для этого надо позвонить Александру Матвеевичу. Разрешить может только он». Наташа невольно взглянула на свои часики. Половина десятого. «Хорошо, если к утру управимся», — вспомнила она. Наташу вдруг охватила тревога, безотчетная, непонятная, в которой она даже боялась разобраться. Да, она, пожалуй, позвонит, еще не поздно. И… и там, конечно, ничего не случилось. С чего это она взяла?
— Хорошо, Нинель Даниловна, — сказала Наташа. — Я постараюсь. Позвоните мне завтра утром.
— Боже мой, как я вам благодарна! — всплеснула руками та, комкая мокрый носовой платок. — Вы даже не знаете, какой вы ангел! Все будет дико между нами, клянусь.
Уходя, она попыталась забыть коробочку с кольцом на столе, возле сахарницы. Но Наташа решительно вложила коробочку ей в руку, и Нинель Даниловна побоялась настаивать.
Уже в передней она вдруг заметила висевшее на вешалке пальто дочери.
— Боже мой, Валечка у вас?
— Да. Она заснула, и давайте ее лучше не будить, — твердо сказала Наташа. — Она очень на вас обижена и хочет уехать к отцу.
— Глупая девочка! — вспыхнула Нинель Даниловна. — Ах, это такой трудный возраст! Вы еще узнаете, дорогая.
— Как раз тут дело не в возрасте, — покачала головой Наташа. — Я бы на вашем месте постаралась ее понять.
— Ах, с ней стало просто невозможно! Она на каждом шагу грубит и убегает из дому. Я измучилась, у меня не хватает сил воевать с ней. В конце концов пусть едет. Может быть, там ей будет лучше. И бога ради, извините, дорогая. Мы столько причиняем вам хлопот, и я и она.
Нинель Даниловна обворожительно улыбнулась и попыталась чмокнуть Наташу в щеку, но Наташа уклонилась.
«Какая она жестокая», — подумала Наташа, закрывая за Нинель Даниловной дверь.
Она заглянула в комнату. Валя спала. В своей кроватке посапывал Вовка.
Наташа перенесла телефон в кухню и с бьющимся сердцем набрала 02.
— Дежурный по городу лейтенант Ковалев слушает, — раздалось в трубке.
— Простите. Как мне позвонить товарищу Лобанову? — едва слышно произнесла Наташа.
— Майор Лобанов выехал на задание. Кто его спрашивает?
— Это… врач Волошина…
— Будет передано.
Наташа медленно повесила трубку.
«Выехал на задание»… Опять на задание, каждый день на задание. И каждый день может что-то случиться…
Наташа порывисто встала и подошла к окну.
А через полчаса снова раздался звонок в ее передней, самый неожиданный звонок…
Машина стремительно неслась по ярко освещенным улицам, изредка сворачивая в полутемные переулки, чтобы сократить путь. Из-под колес веером разлетался грязный сырой снег.
— Ну куда летишь, — недовольно сказал Лобанов. — Времени еще вагон. Самолет прибывает в двадцать два часа. Вон женщину чуть не обрызгал.
— Я, Александр Матвеевич, женщин очень уважаю, — лукаво ответил водитель, сбавляя, однако, скорость. — Я даже одну женщину сегодня домой отвез.
— Это еще кого? — удивился Лобанов.
— А доктора, Наталью Михайловну. Я как раз мимо больницы ехал. Гляжу, она в длиннющий хвост на автобус встала. А сама спешит, все на часики поглядывает. Ну я и подкатил.
— Ты ко всем, кто спешит, подкатываешь?
— Что вы, Александр Матвеевич, — обиделся шофер. — Это же не чужой человек. Вы же сами…
— Ладно, ладно. Молодец, что подвез. Устала она, наверное.
— Вот именно! А ей за сынишкой надо было. В детский сад. Симпатичный такой парень у нее. Я их оттуда уже и домой отвез, — осмелев, признался водитель.
Лобанов вдруг почувствовал зависть. Вот бы и ему встретить ее случайно. И с сынишкой. Интересно, какой у нее сынишка?
— Служебная все-таки машина, — укоризненно заметил сидевший сзади Храмов.
— Так у меня же как раз время было, Николай Гаврилович.
— Между прочим, она живет на одной площадке с сестрой Семенова, — сказал Лобанов. — Как ее зовут, забыл?
— Стукова Нинель Даниловна, — ответил Храмов. — Знаменская, десять, квартира шестнадцать.
«Знаменская, — подумал Саша. — Мы сейчас как раз мимо проедем. Вот бы…» Он усмехнулся.
Вскоре машина вылетела из города и, набирая скорость, понеслась по темному, пустынному шоссе. Через несколько минут вдали показались огни аэропорта.
Когда приехали, оказалось, что самолет из Москвы задерживается, по предварительным данным, часа на два.
— Вечная история, — проворчал Лобанов, выходя из комнаты дежурного в огромный, полный шума и суеты зал ожидания, где у закрытого газетного киоска покуривали Храмов и водитель.
— Ну, что будем делать? — спросил он у товарищей.
— Ждать, — коротко ответил Храмов.
— Да, в город возвращаться нет смысла, — согласился Лобанов. — Тем более что обстановка может каждую минуту измениться. Свяжись с дежурным по городу, предупреди. А я, пожалуй, пройдусь.
Запахнув пальто, он вышел через широкие, зеркальные двери в сад перед аэропортом. Там он огляделся и, секунду помедлив, миновал стоянку машин и двинулся по темной аллее, с наслаждением вдыхая сырой, холодный воздух. По сторонам молчаливо стояли высокие заснеженные ели.
Непонятное беспокойство владело Лобановым. «Что это ты?» — удивленно спрашивал он себя и не находил ответа. Конечно, положение складывается серьезное, что и говорить. В городе скрывается опасный преступник, и только через него можно выйти на ташкентскую банду. Ни Семенов, ни Трофимов больше ничего не дадут, они просто ничего и никого больше не знают.
Завтра, кстати, Трофимова отправят домой, арестовывать его нет оснований. И это даже к лучшему. Надо только предупредить Нуриманова, пусть они там посмотрят за ним. Сергей сообщил, что чемодан случайно обменен и он у кого-то в Борске. Так Лобанов и думал. Значит, надо искать еще и чемодан. Ну, теперь приезжает Сергей. Ответственности вроде будет поменьше. Впрочем, дело, конечно, не в ответственности. Спокойнее как-то будет, увереннее. С Сергеем отлично работать. Он талантлив, вот что. И стал мастером, настоящим мастером сыска. Это можно было предвидеть еще тогда, в МУРе, когда Сергей только пришел туда. И просто здорово, что он теперь приезжает. Да и потолкуют они всласть, по душам потолкуют. А это сейчас Лобанову тоже надо, очень даже надо. «Ну так чего же ты?» — снова спросил он себя и снова не нашел что ответить. А непонятное беспокойство все росло и требовало каких-то действий, требовало куда-то ехать, куда-то спешить.
Лобанов невольно ускорил шаг и вскоре вышел на освещенную дорогу, ведущую от шоссе к аэродрому. Мимо пронеслась машина, за ней — другая. «Едут кого-то встречать, — подумал он. — А самолет опаздывает на целых два часа…» Незаметно для самого себя он шел все быстрее.
Показалось здание аэропорта, вереница машин у подъезда.
Лобанов нашел своего заместителя в комнате милиции. Храмов доложил:
— Звонил дежурному. Говорит, вам только что звонила доктор Волошина.
— Ну да? — изумился и тут же встревожился Лобанов. — Сама звонила?
— Так точно.
— Что случилось?
— Не сказала. Дежурный обещал вам доложить.
— Так…
Лобанов уже не мог побороть своего волнения. Если она ему сама позвонила, да еще так поздно, значит случилось что-то важное. Но что могло случиться? С Семеновым что-нибудь? Или… с ней самой? Да, да, что-то с ней случилось! Это он и чувствовал все время!
— Я скоро буду, — отрывисто произнес Лобанов. — Жди тут. В случае чего сам встречай самолет. Связь через дежурного.
— Слушаюсь, — удивленно ответил Храмов.
Он уже привык к быстрым и неожиданным решениям своего начальника, но, чтобы Лобанов при этом так волновался, Храмов видел впервые.
Через минуту Лобанов уже мчался по темному шоссе. Теперь он не удерживал своего водителя, и тому словно передалось его нетерпение. Красненькая стрелка спидометра качнулась далеко за цифру 100. Гул мотора стал еле слышен из-за свиста ветра.
Когда влетели в город, Лобанов коротко приказал:
— На Знаменскую.
— Ага…
Вскоре машина затормозила на углу Знаменской улицы. В этот час она была почти пуста; лишь изредка мелькали фигуры одиноких прохожих в тусклом желтом свете редких фонарей. Неожиданно прошел автобус, тяжелый, неуклюжий, весь забрызганный грязью, даже не задержавшись возле остановки рядом с закрытым уже продуктовым магазином. Его никто там не ждал, и, видимо, никто не собирался там выходить. Потом мелькнула где-то в самом конце улицы машина.
— Подожди меня здесь, — сказал водителю Лобанов.
Он медленно двинулся по тротуару, сунув руки в карманы пальто. «Ну, приехал? А дальше что?» — насмешливо и смущенно подумал он.
Лобанов медленно прошел мимо дома десять, ничем не примечательного пятиэтажного блочного дома, видимо построенного недавно, года три или четыре назад, но успевшего уже потемнеть, и теперь ничем не выделявшегося среди стареньких домов по соседству.
Дойдя до конца улицы, Лобанов пересек мостовую и по противоположной стороне снова вернулся к дому десять. Здесь он остановился и начал задумчиво рассматривать окна, В большинстве из них за занавесками горел свет, желтый, красноватый, оранжевый, голубой, в одних окнах он горел ярко, под самым потолком, в других еле теплился, вероятно на столе или возле кровати.
Лобанов мысленно прикинул, на каком этаже может быть квартира пятнадцать. Если на каждой площадке четыре квартиры, а подъездов два, значит, это четвертый этаж, первый подъезд. Вот они, эти окна, все светятся. Где же ее окно?..
Он стоял в тени, возле каких-то ворот, глубоко засунув руки в карманы пальто, обдуваемый сырым, промозглым ветром, от которого наворачивались на глаза слезы, и молча, с волнением смотрел на эти окна. Уже десять часов. Что она сейчас делает? Уложила, наверное, сына и читает, готовит что-нибудь или пишет письма. Кому она пишет письма? И потом, муж… Должен же быть у нее муж?.. А вдруг она сейчас подойдет к окну? Тогда он узнает, которое же ее, Стыдно, между прочим, так стоять, не мальчишка же он, в самом деле. Вдруг она выйдет на улицу и увидит его? Или, например, возвратится откуда-нибудь, и не одна?
Лобанову вдруг стало невыносимо одиноко и горько. «Что это со мной? — растерянно подумал он. — Разве так можно? Иди, раз тебе звонили, иди. Или уезжай. Нельзя так стоять. Глупо же».
Так он, говорил себе, не двигаясь, однако, с места, зябко втянув голову в плечи, и ноги медленно стыли в тонких ботинках. Холодные струйки пробирались под пальто, растекались по спине.
«Ну все, — решительно и зло подумал Лобанов, стряхивая с себя оцепенение. — Пора эти слюни кончать. И Виктор, наверное, уже заждался».
Он оглянулся и внезапно увидел какого-то человека, который медленно шел, держа в руке чемодан, и посматривал на номера домов. Лобанов невольно стал наблюдать за ним.
Человек двигался как-то неуверенно, даже боязливо, то и дело оглядываясь, обходя редкие фонари, хотя свет их почти не рассеивал промозглую темноту улицы.
«Странно, — подумал Лобанов, настораживаясь. — Дай-ка посмотрим на него поближе».
Он отделился от стены дома, деловитой, торопливой походкой пересек улицу и двинулся навстречу странному человеку.
Тот, заметив его, на секунду остановился, словно в нерешительности, потом, видимо устыдившись своего испуга, снова сдвинулся вперед, но теперь уже подчеркнуто уверенно и беззаботно. Эта перемена насмешила Лобанова. «Трусоват, однако, дядя», — усмехнулся он про себя.
Они разминулись возле дома восемь. Но как ни короток был этот миг, Лобанов успел разглядеть щуплую, маленькую фигурку человека, его бегающие, испуганные глаза на узеньком личике, его пальто, шапку, а главное… Лобанову потребовалось усилие, чтобы ничем себя не выдать, не остановиться, не замедлить шаг, не повернуть головы. Человек нес в руках чемодан, точно такой чемодан, какой был у Трофимова!
Лобанов торопливо и равнодушно прошел мимо и тут же свернул в какой-то двор, затем уже осторожно выглянул на улицу.
Человек подошел к дому десять, посмотрел на его номер и, оглянувшись, исчез в первом подъезде.
В тот же момент Лобанов выскочил из своего укрытия и в два прыжка оказался у того же подъезда. Он осторожно приоткрыл невысокую дверь и проскользнул к лестнице. Сверху были слышны шаркающие, неуверенные шаги. На каждой площадке человек приостанавливался, видимо рассматривая в тусклом свете горевших там лампочек номера квартир.
Лобанов неслышно стал подниматься вслед за ним.
Человек прошел второй, затем третий этаж и остановился на четвертом. Лобанову видна была его щуплая фигурка. Нерешительно потоптавшись на площадке, человек наконец позвонил в шестнадцатую квартиру. Ему тут же открыли, и Лобанов услышал женский возглас:
— Ах, вот и вы, дорогой…
Дверь захлопнулась.
Лобанов остался один на полутемной лестнице.
Итак, человек зашел в шестнадцатую квартиру, к сестре Семенова. Это, конечно, она открыла дверь. Интересная, однако, ситуация. Конечно, таких чемоданов, как у Трофимова, много, похожих, одинаковых чемоданов. Но тут бросаются в глаза два подозрительных обстоятельства. Человек, который нес этот чемодан, вел себя странно, он боялся, явно боялся чего-то, словно понимал, что несет что-то недозволенное, что-то запретное. Но это еще полдела, это пустяк по сравнению со вторым обстоятельством. Чемодан из Ташкента предназначался Семенову, и точно такой же чемодан тайком приносят его сестре. Случайность? Возможно. Но в такой же степени возможно, что это не случайность… Что же теперь делать? А может быть, Наташа что-то узнала об этом и хотела сообщить ему? Вот это уже вполне вероятно. И раз так… «Надо идти, — преодолевая смущение, решил Лобанов. — Но сначала примем кое-какие меры».
Он стремглав спустился по лестнице, выбежал на улицу и торопливо зашагал к стоявшей на углу машине. Подойдя, он приоткрыл дверцу и тихо сказал водителю:
— Давай, Витя, подъезжай поближе к тому подъезду. Если выйдет маленький человек с чемоданом…
— Ага. Я его видел. Он мимо меня прошел, — загораясь, ответил тот.
— Он может выйти и без чемодана. Задерживай, сажай в машину и жди меня. Это на всякий случай. Скорее всего задержу его сам. Ты жди.
— Все понял…
Машина, тихо урча, поползла вперед.
Лобанов снова вернулся к подъезду и стал решительно подниматься по лестнице.
На площадке четвертого этажа он на секунду замешкался, потом нажал кнопку звонка.
Дверь открылась почти мгновенно.
На пороге стояла Наташа. В своем простеньком платьице, с перепутанными светлыми волосами, она казалась девочкой, испуганной и удивленной.
— Это вы? — растерянно спросила она.
— Я…
— Что-нибудь случилось?
— Это у вас что-то случилось.
— Да… Но прежде всего входите, — первая опомнилась Наташа и засмеялась.
— Простите… за вторжение, — смущенно сказал Лобанов. — Я вам сейчас все объясню.
— Сначала входите… — она прикрыла за ним дверь. — Снимайте пальто. Только тихо, тут дети спят, — и указала на дверь в комнату.
— Дети? — понизив голос, невольно переспросил Лобанов.
— Да, да. Мой Вовка и Валечка. Ой, что тут было! Я вам сейчас тоже все объясню.
Лобанов снял пальто и на цыпочках последовал за ней на кухню.
Наташа усадила его к столу.
— Будем пить чай, — объявила она.
— Нет, нет, Наталья Михайловна. Что вы! Я ведь на минуту. Тут, понимаете…
— Давайте сначала расскажу я, — мягко перебила его Наташа. — Ведь это я вам звонила. А вы пока выпьете стакан чаю. Я же вижу, вы замерзли. И, конечно, голодны.
— Ну хорошо, — сдался Лобанов. — Чай я выпью. И больше ничего. Я сыт. Честное слово, сыт.
Пока он отхлебывал горячий чай, Наташа рассказала о визите Нинель Даниловны.
— …Вот я и решила вам позвонить, — закончила она.
Лобанов внимательно слушал.
Значит, у Стуковой появился человек из Ташкента. Двоюродный брат. Ну, это, положим, чепуха. Никакой это не брат. Но кто же тогда? И почему она его перевязывала? А насчет Ташкента, это она явно проговорилась. Эх, взглянуть бы на этого братца. Может быть, он длинный, в темном пальто и серой кепке, с узким лицом и густыми черными бровями? Пусть он придет завтра утром в больницу, пусть придет обязательно.
— Наталья Михайловна, — сказал Лобанов, — вы можете ей позвонить сейчас? Вы, мол, очень ей сочувствуете и разрешаете ее брату завтра утром, до обхода, ненадолго повидать Петра Даниловича. Сейчас ведь еще не поздно, — он посмотрел не часы, — начало одиннадцатого.
Наташа смущенно откинула рукой падавшие на лоб волосы.
— Дело не во времени. Она может подумать, будто я жалею, что не взяла кольцо.
— Пусть думает. Главное, чтобы этот братец пришел завтра в больницу.
— Это… так важно?
— Очень. Может быть, это тот самый человек, которого мы ищем. Опасный человек.
— Хорошо. Я позвоню.
Она сняла трубку и набрала номер.
Лобанов следил за ее движениями и чувствовал, как переполняется нежностью. До чего же она хороша! Если бы можно было ей все сказать, если бы можно было задержаться тут или когда-нибудь прийти сюда снова. Значит, она живет одна в сыном, значит, у нее нет…
— Это Нинель Даниловна? — произнесла Наташа, с трудом преодолевая смущение, и, улыбнувшись, взглянула на Лобанова. — Это я. Знаете, я решила: пусть ваш брат приходит завтра утром в больницу ровно в девять, до обхода. На несколько минут я ему разрешу… Что? Ах вот что. Ну, пожалуйста. Да, да, договорились… Ну, что вы! И не думайте даже… Всего хорошего.
Наташа повесила трубку и растерянно посмотрела на Лобанова.
— Она сказала, что брат прийти не сможет. Оказывается, его поезд уходит очень рано. Но она придет обязательно.
— Так я и знал, — досадливо кивнул Лобанов. — Испугался. И теперь может…
Он решительно потянулся к телефону.
— Вы разрешите?
Ну конечно.
Саша набрал номер.
— Дежурный? Лобанов говорит. Срочно машину с сотрудниками на Знаменскую, десять. Предстоит задержание. Другую пошлете в аэропорт, Храмову. Моя машина тоже на Знаменской. Все. Жду.
Лобанов поднялся.
— Я пошел. Спасибо вам. И еще раз извините, что так ворвался.
— Что вы! Я только хочу вас попросить… — Наташа смущенно улыбнулась, — будьте все-таки осторожнее. Хорошо?
— Ну конечно, — улыбнулся в ответ и Лобанов. — Обязательно.
Он на цыпочках прошел в переднюю, надел пальто и, уже взявшись за ручку двери, нерешительно сказал, посмотрев на Наташу:
— Можно, я вам завтра позвоню?
— Ой, непременно…
Лобанов обрадованно кивнул.
— Тогда до свидания, — сказал он и вдруг, нахмурившись, озабоченно спросил: — Скажите, а куда выходят ваши окна?
— Во двор, — удивленно ответила Наташа.
— А окна вашей соседки?
— У Нинель Даниловны?.. — она задумалась. — Окно из комнаты — на улицу, а из кухни — тоже во двор, рядом с моим, вот там.
— Я вас попрошу, — сказал Лобанов, — Подойдите сейчас к нему. Я буду во дворе. Хорошо?
— Пожалуйста, — улыбнулась Наташа.
— Так я пошел.
Он осторожно прикрыл за собой дверь и, стараясь не шуметь, быстро спустился по лестнице.
Недалеко от подъезда стояла его машина. Водитель в ответ на вопросительный взгляд Лобанова отрицательно покачал головой.
Лобанов с облегчением вздохнул и свернул за угол дома, в ворота.
Двор оказался большим и темным, с детской площадкой посредине, обнесенной низким штакетником.
Лобанов поднял голову. В освещенном окне четвертого этажа Наташа помахала ему рукой: она, наверное, заметила его, он стоял в полосе света, лившегося из окон нижнего этажа. В соседнем окне мелькнула чья-то тень. Лобанов поспешно отступил в темноту и оценивающим взглядом окинул стену дома.
Нет, через окно уйти нельзя. Пожарная лестница проходит далеко в стороне. До крыши еще один этаж. Балконов нет. Гладкая, без выступов и выбоин стена. Если только спуститься по веревке? Вряд ли. Все, однако, возможно, и все надо предусмотреть. Почему кто-то из них оказался в кухне возле окна? Скорей бы приехали ребята.
Впрочем, не исключено, что его опасения напрасны. Человек спокойно спустится по лестнице, и, может быть, его вообще не придется задерживать. Или останется ночевать, а утром тоже спокойно отправится на вокзал. Разве так быть не может?
Но мысли эти возникли и тут же исчезли в его возбужденном сознании. Он уже ясно ощущал, каждая деталь подсказывала ему, что все это не так, что неизвестный «братец» не уйдет из этого дома спокойно и открыто. А тут еще появился чемодан.
Лобанов вышел со двора на улицу. У подъезда стояли уже две машины. Саша торопливо подошел к ним. — Андрей, — обратился он к одному из приехавших сотрудников, — ступай во двор, следи за окном четвертого этажа, третье справа от пожарной лестницы.
Тот кивнул и выскочил из машины, которая по указанию Лобанова, урча, попятилась назад и стала медленно разворачиваться.
В этот момент из подъезда вышел щуплый человечек с чемоданом в руке. Увидев машины, он втянул голову в плечи и попытался быстро прошмыгнуть мимо.
Лобанов подошел к нему.
— Уголовный розыск, — он показал удостоверение. — Прошу в машину.
— Но, пардон… я не понимаю… — залепетал человек, отступая назад, к подъезду. — В чем дело?!
— Сейчас поймете, — строго сказал Лобанов и повторил: — Прошу в машину.
— Пожалуйста… — покорно проговорил человечек, направляясь к машине. — С большим удовольствием…
Лобанов сел рядом с ним.
— Ваши документы.
Человек торопливо достал бумажник и вынул оттуда паспорт.
— Вот… прошу вас…
Лобанов наклонился к окну машины так, чтобы свет уличного фонаря, падал на раскрытый паспорт.
— Так… — произнес он, с трудом разбирая написанные там строчки. — Значит, ваша фамилия… Глумов?.. Зовут… Василий Евдокимович? — он поднял голову. — Что у вас в чемодане, Василий Евдокимович?
— Ровным счетом ничего, — засуетился Глумов, пытаясь открыть чемодан. Тот, однако, поддался не сразу. — Смотрите… пожалуйста…
Чемодан был пуст.
Лобанов усмехнулся.
— Что же вы принесли в нем уважаемой Нинель Даниловне?
— Я?..
— Да, вы. Кто же еще?
— Я… сам не знаю… Уверяю вас, это форменная правда. Чистая как слеза… Уверяю вас!..
Глумов в отчаянии прижал к груди руки.
— Ну, ну, сейчас посмотрим, какая она чистая.
— Пожалуйста… Значит, так. Приехал я вчера домой… Матушка у меня изволила помереть… В Ташкенте… И Машенька, это супруга моя законная, велела… то есть разрешила… Она больна, понимаете…
Глумов говорил, захлебываясь в словах и поминутно сбиваясь. Его даже подташнивало от страха.
Когда он наконец кончил, Лобанов сказал:
— Что ж. Тут, пожалуй, все ясно. Сейчас поедете в управление. Опознаете свой чемодан. Официально оформим ваши показания. Теперь последний вопрос. Кто сейчас находится у Нинель Даниловны?
— Двоюродный братец, — услужливо ответил Глумов. — Проездом он у нее.
— Как он выглядит?
— Ну, что вам сказать… — замялся Глумов. — Если откровенно… Только тет-а-тет… грубиян, невоспитанный. А на внешность… Ну, длинный. Прически нет никакой, даже небритый… Брови, знаете, черные, густые. А зовут его Иван. А уж выражается, ну до того некультурно. Я бы, знаете, такого к себе не посадил…
«Зато мы его к себе постараемся посадить», — усмехнувшись, подумал Лобанов.
К машине подошел сотрудник.
— Поедешь с этим гражданином, — сказал ему Лобанов. — В управление. Допрос. Опознание чемодана Трофимова. И сразу к дежурному прокурору. Ордер на обыск у гражданки Стуковой, — и тихо добавил: — У Стуковой Иван. Немедленно присылайте ребят.
— Слушаюсь, — кивнул тот.
Глумов побитой собачонкой выполз на тротуар, волоча за собой злосчастный чемодан, и засеменил рядом с сотрудником к стоявшей невдалеке машине.
— Заползай-ка вон туда, — сказал Лобанов своему водителю, указывая на темную подворотню возле дома напротив. — Нечего нам тут глаза мозолить. Да и обзор оттуда получше, — и добавил: — Только не сразу. Я тут пока обожду.
— Все понятно, Александр Матвеевич.
Машина рванулась вперед, промчалась до конца улицы, скрылась за углом, а оттуда уже спустя некоторое время медленно подъехала к дому напротив и задним ходом вползла в узкую и темную подворотню.
— Вот так, — удовлетворенно произнес Лобанов, издали следя за ней глазами. — Теперь будем смотреть в оба.
Он подошел к приоткрытой двери подъезда и чутко прислушался. Не уловив ни одного подозрительного звука, Лобанов осторожно двинулся дальше, перешел улицу и по противоположной ее стороне побрел к подворотне, где скрылась машина.
Усевшись возле водителя, он закурил, пряча сигарету в кулак, потом отдернул рукав и посмотрел на светящийся циферблат часов.
Так, десять минут двенадцатого. Вряд ли, конечно, Иван рискнет на ночь глядя выходить из дома. Да и куда ему идти? Он же понимает, что его ищут. Придется расставить ребят и ждать до утра. Идти к Стуковой сейчас бесполезно, она никому не откроет. А там прилетит Сергей. Собственно, он уже через час прилетит. Николай его встретит, отвезет в гостиницу. Пожалуй, надо будет и самому туда подъехать потом. Ребята, однако, что-то задерживаются.
Лобанов размышлял, не спуская глаз с дома десять напротив. Никто пока не вышел из подъезда, и никто туда не вошел.
А в окне Стуковой на четвертом этаже по-прежнему горел свет, за легкой шторой мелькнула чья-то тень и исчезла. Вот человек снова подошел к окну. Это она, Стукова. Тень исчезла. И снова появилась! Теперь это, кажется, не она. Да, да, это он! Отошел.
Лобанов насторожился. Что-то они там заволновались. С чего бы это? Может быть, они следили за Глумовым и видели… Нет. Из окна четвертого этажа подъезд не виден. И потом, они не гасили в комнате свет. Тогда чего они волнуются? Ну, положим, волноваться есть от чего. Ведь знает, что его ищут, по всему городу ищут. Вот и нет покоя, вот и мерещится всякое.
Надо ждать. А ребята все-таки задерживаются, Может быть, дежурная опергруппа выехала на какое-нибудь происшествие? Тогда плохо. Сотрудников придется вызывать из дому.
Пожалуй, надо стать в подъезде. Если он все-таки выйдет, сразу брать, чтобы не успел опомниться.
Лобанов расстегнул пальто, поправил кобуру пистолета под пиджаком и сказал водителю:
— Я буду там, — он кивнул на подъезд. — В случае чего поможешь мне. И не забудь, во дворе Андрей.
Он не успел еще выбраться из машины, как сразу произошло два события.
Из-за дальнего угла улицы неожиданно вынырнула машина. И в тот же момент из подъезда вышла женщина, но, заметив машину, тут же юркнула обратно. «Стукова! — пронеслось в голове у Лобанова. — Сейчас она увидит… Это же, наверное, ребята приехали…»
Машина, однако, спокойно проехала мимо и остановилась возле какого-то дома невдалеке.
Лобанов напряженно наблюдал, не рискуя появиться на улице: Стукова наверняка стоит в подъезде и тоже наблюдает. Но приехавшую машину она видеть не может.
Между тем оттуда вышли два человека — всего два! — о чем-то посовещались, затем пересекли улицу и двинулась в направлении дома, возле которого прятался со своей машиной Лобанов.
Он осторожно следил за ними, не выпуская из виду и подъезд дома напротив.
Люди приближались. Их темные силуэты проступали все четче, все яснее. Люди шли и о чем-то негромко беседовали.
Лобанова охватила досада. Нет, это были не его ребята, это были совсем другие, совсем посторонние люди. Хотя…
И тут же теплая, волна внезапно поднялась в груди, и Лобанов чуть не бросился навстречу им. Усилием воли он заставил себя остаться на месте, даже еще плотнее прижаться к шершавой, холодной стене дома.
И только когда люди почти поравнялись с темной подворотней, Лобанов негромко окликнул:
— Сергей!..
— Я, я… Салют… — не поворачивая головы, тихо ответил, проходя мимо, один из людей. — Не высовывайся. Там женщина какая-то в подъезде.
— Это Стукова…
— Мы так и подумали. Я к тебе сейчас…
Они уже прошли подворотню, Коршунов и Храмов. И Лобанов не расслышал последних слов друга. И еще очень громко, просто оглушительно билось сердце.
Лобанов только видел, как темные силуэты вдруг разделились. Один пропал, другой пересек улицу. «Николай», — догадался Лобанов.
Храмов теперь осторожно приближался к подъезду напротив, вот он замер в двух шагах от него, прислушался…
И в этот момент кто-то крепко обхватил Лобанова сзади за плечи.
— Ну, вот и я, — сказал Коршунов, выпуская друга из объятий. — Прямо с неба на вас свалился.
— Не ждал я тебя тут, — улыбаясь, признался Лобанов.
— Сам не ждал. Самолет мой пришел раньше. Связались с дежурным. Он все доложил. Сейчас приедут твои ребята. Давай мозговать. Какая тут ситуация пока?
Лобанов принялся торопливо рассказывать.
— …В квартире его сейчас без шума не возьмешь, — закончил он. — Надо ждать до утра, пока выйдет.
— Гм…. - с сомнением покачал головой Коршунов, что-то соображая про себя.
…За несколько минут до всех этих событий в квартире Глумова зазвонил телефон. Подошла соседка.
— Сейчас узнаю, — сказала она и, положив трубку, направилась в глубь коридора. Там она постучала в одну из дверей и крикнула:
— Василия Евдокимовича к телефону!
— Нет его, заразы! — пробасила из постели Мария Федоровна. — Куда его леший занес, не знаю.
…Нинель Даниловна повесила трубку и испуганно сообщила:
— Его до сих пор нет дома. Боже мой, что это значит? Мне почему-то безумно страшно.
— Та-ак, — настораживаясь, проговорил ее гость и со злостью добавил: — Дернула меня нелегкая к тебе заскочить. Если б знал, что он из больницы встречать нас приехал… Видишь, дура, даже сейчас свиданку ему не дают. Значит, на крючке он у них. И его заместо крючка на вокзал кинули. А тут еще эта козявка припуталась… Ну ладно, раз так. Живым я им не дамся. Трупом вынесут, и не одного меня… — он, не стесняясь Нинель Даниловны, грубо выругался, потом мрачно взглянул на нее и, подумав, приказал: — Одевайся. Швырнись по улице, разуй там свои зенки. Отсюда мне срочно мотать надо, — и, ощупав что-то тяжелое в кармане, повторил: — Живым не дамся.
Всхлипнув, Нинель Даниловна метнулась в переднюю.
— Так что будем делать? — нетерпеливо спросил Лобанов. — Она еще, наверное, стоит там, в подъезде.
— Нет, — сказал Коршунов, взглянув через его плечо на противоположную сторону улицы, откуда Храмов в этот момент махнул рукой. — Подъезд свободен.
Лобанов быстро оглянулся.
— И в окне никого нет, — добавил он.
— Тогда пошли, — решительно произнес Коршунов. — Одного водителя во двор, к твоему сотруднику. Храмов с другим остаются около подъезда. А мы с тобой давай поднимемся. Надо быть ближе к объекту. Мало ли что. Возьми фонарь.
Они торопливо пересекли улицу и, предупредив Храмова, стали медленно, то и дело прислушиваясь, подниматься по полутемной лестнице. При этом оба, не сговариваясь, переложили пистолеты в карманы пальто, переведя их на боевой взвод.
Лестница полна была холодной, звенящей тишины, сотканной из десятков знакомых далеких и посторонних звуков. Где-то играла музыка, плакал ребенок, стрекотала швейная машинка, вдруг жалобно мяукнула кошка… Все это было понятно, знакомо, все это было тишиной на этой полутемной, пустой, уходящей вверх лестнице.
Когда друзья достигли площадки второго этажа, где-то наверху неожиданно звякнул замок, тихо скрипнула дверь, короткий луч света скользнул по лестничному проему и тотчас исчез: дверь наверху бесшумно прикрыли. И снова воцарилась тишина. Только плакал ребенок и далеко-далеко играла музыка…
Друзья замерли. Луч света указал точно: дверь открыли на четвертом этаже. Коршунов первым отделился от стены и стал красться вверх по лестнице. Лобанов последовал за ним.
Вот и третий этаж. Здесь они снова, затаив дыхание, прислушались. И неожиданно до них донеслись чьи-то осторожные, едва различимые шаги. Человек двигался вверх по лестнице. Вверх, а не вниз!
Коршунов, наклонившись к Лобанову, прошептал:
— Ты осмотрел чердак?
Тот досадливо покачал головой.
— Тогда вперед, — тихо произнес Коршунов.
Они стали подниматься по лестнице.
Неожиданно наверху послышалась какая-то возня, затем металлический лязг, и снова все стихло.
— Он на чердаке! — сдавленным голосом воскликнул Лобанов.
И оба, уже не заботясь о производимом ими шуме, перепрыгивая через ступени, устремились вверх по лестнице.
Они проскочили четвертый этаж, затем пятый. Лестница, теперь, правда, другая, железная, узкая, вела дальше, прямо под потолок и заканчивалась железным люком.
Лобанов уперся в него плечом и хотел уже было откинуть его и вскочить на чердак, но Коршунов резко оттолкнул друга.
— Ты что? — глухо бросил он. — А если… Пригнись!
Коршунов с силой отбросил крышку люка и быстро отпрянул в сторону.
И тут грохнул выстрел!
Пуля просвистела совсем рядом. На чердаке что-то обрушилось, покатилось…
В этот момент Коршунов ринулся в темный проем. Но там он не вскочил на ноги, а мягко перекатился на левый бок, держа в руке пистолет, и крикнул:
— Бросай оружие!.. Хочешь вышку заработать?!
Ему никто не ответил.
Коршунов только почувствовал, как в люк проскользнул Лобанов, Глаза его уже привыкли к темноте, и он различил вдалеке серый проем чердачного окна.
— Стереги его здесь, — шепнул он. — Я пролезу к окну. А то как бы не ушел.
Коршунов приподнялся и, ощупывая руками путь впереди, пополз по дощатому неровному полу. В каком-то месте толстая косая балка преградила ему путь. Он, прячась за нее, поднялся на ноги. Окно было почти рядом.
И тут Коршунов заметил чью-то тень, отпрянувшую в сторону.
— Бросай оружие! — снова приказал он уже негромко. — Бросай, говорю!
И снова на звук его голоса грохнул выстрел так близко, что Коршунов ощутил резкий запах пороха. Вздрогнула балка, за которую он держался, и Коршунов понял, что пуля попала в нее. В этот момент со стороны люка, где находился Лобанов, ударил узкий пучок света, путаясь в клубах поднятой вокруг пыли.
— Берегись! — крикнул Коршунов.
И снова выстрел!
— Берегусь, — насмешливо откликнулся Лобанов.
Голос его прозвучал совсем не оттуда, откуда продолжал светить фонарик.
А Коршунов в этот миг заметил метнувшуюся к окну тень.
И тогда, уже не задумываясь, он ринулся вперед на пригнувшегося, изготовившегося к прыжку человека и с размаху ударил его рукояткой пистолета. Человек, глухо вскрикнув, упал, увлекая Коршунова за собой, он тут же вывернулся и коротким движением откуда-то снизу нанес ему ответный удар. Раздался звон выбитого стекла..
К Коршунову подполз Лобанов, обнял его за плечи. Но Коршунов, оттолкнув его, поднял пистолет.
Выстрел!
И человек медленно, тяжело осел на пол возле окна, цепляясь руками за переплет рамы.
Лобанов бросился к нему.
«Неужели прикончил? — пронеслось в голове у Коршунова. — Не может быть».
— Ах ты черт! — раздался возглас Лобанова. — Кусаться?!
Почти одновременно лучи света неожиданно забегали по чердаку, и кто-то крикнул;
— Где вы тут, Александр Матвеевич?
Прибыла оперативная группа.
Коршунов поднялся на ноги. В боку саднило, но слабости не было. «Ножом зацепил, — подумал он. — Пустяк».
Человека уже волокли к люку.
— Нога у него прострелена, — сказал один из оперативников.
— Храмов здесь? — громко спросил Лобанов.
— Так точно, — раздалось из темноты чердака.
— Давай на обыск к Стуковой. Быстренько, — приказал Лобанов. — Возьми ребят. Эта дамочка уже все прячет. Ордер получили?….
— Так точно.
— Ну, двигайте. Этого в управление. Допрос завтра. Я еду с полковником Коршуновым в гостиницу, — и, оглянувшись, спросил: — Ты как, Сергей?
— Порядок. Идем.
Все собрались около люка и по очереди стали спускаться вниз.
На площадках, лестницы сотрудники милиции успокаивали взбудораженных жильцов.
Лобанов перегнулся через перила и сразу увидел Наташу. Она стояла возле приоткрытой двери квартиры и, прижав руки к груди, неотрывно смотрела наверх.
Их глаза встретились. Лобанов помахал рукой.
— Все в порядке! — крикнул он. — Идите спать. Наделали мы вам тут шума.
Наташа слабо улыбнулась дрожащими губами и прислонилась к дверному косяку, двинуться у нее не было сил.
…В гостинице Коршунову сделали перевязку. Рана и в самом деле оказалась пустяковой.
— Эх, — вздохнул он. — Костюм ладно, а вот пальто новое, жалко.
— Да уж, — согласился Лобанов. — Мировое у тебя пальто… было. Подавай рапорт руководству. Это все-таки производственная специфика. Кому в таких случаях молоко выдают, а нам…
В дверь номера постучали. Вошел официант с подносом в руках.
— Давай-ка закусим, — оживился Лобанов. — И выпьем по рюмочке за твой благополучный прилет. Ну и вообще.
Он не мог сдержать счастливой улыбки.
— Интересно, за что «вообще», — подозрительно покосился на него Коршунов, подсаживаясь к столу.
…На следующий день Коршунов и Лобанов поехали в тюрьму.
— Как наш вчерашний? — спросил у дежурного Лобанов. — Лежит или ходит?
— Прыгает, — усмехнулся тот. — Костыль ему выдали. Лежать не желает. В санчасти со всеми лясы точит.
— Ну так давайте его сюда. Пусть с нами поточит.
Через несколько минут в дверях следственной комнаты появился, опираясь на костыль, долговязый, чернобровый парень. Он хмуро огляделся, поджал тонкие губы и молча проковылял к стулу.
— Ну, Рожков, будете все сами рассказывать или как? — спросил Коршунов.
При упоминании его фамилии парень чуть вздрогнул.
— Докопались? — зло проговорил он.
— Меньше в поезде пить надо, — усмехнулся Сергей. — Или сразу сдавать бутылки. Так как?
— Ничего не знаю.
— А зачем в Борск приехали, тоже не знаете?
— Воздухом дышать.
— Та-ак, — протянул Коршунов. — Ну что ж. Провоз наркотика мы вам докажем. Ранение на вокзале нашего сотрудника тоже. И вчерашнюю стрельбу, конечно. Откуда пистолет взяли?
— На улице за углом нашел.
— Мы посмотрим на тот угол, Рожков. Как следует посмотрим. Он, кстати, в Борске или…
— В Борске. Где ж еще?
— Мало ли где. Придется вспоминать. Много чего вам придется вспомнить, Рожков. А что забудете, мы вам напомним.
— Третья судимость у тебя наворачивается, — вступил в разговор Лобанов. — Это тоже не забудь. Серьезное это дело.
— Ни за что сажали, — передернул плечами Рожков.
— Как сказать, — снова усмехнулся Коршунов. — Может, и сейчас ни за что?
— Ну, приехал. Ну, дрался на вокзале, — хмуро ответил Рожков. — Ну, стрелял вчера. Ни в кого не попал. Вот и все за мной.
Коршунов покачал головой.
— Нет. Не все. За вами хвост тянется вон откуда, — он махнул рукой. — В Ташкенте он начинается. Там еще разбираться будем.
Рожков внезапно подался вперед, по лицу его пробежала судорога..
— Не поеду в Ташкент, понял?! — крикнул он, стукнув костылем по полу. — Умру, не поеду!.. Нету там ничего!.. Нету! Нету!..
Коршунов и Лобанов переглянулись.
— Поедешь, — негромко и твердо ответил Коршунов. — Со мной поедешь.
В. ЗЛАТКИН «…И ВАШ ФАЛЬШИВЫЙ БОГ»
Рисунки Ю. МАКАРОВА
«Два наших активных друга, наши товарищи… вовлечены в один из тех трагических и темных заговоров юстиции, где невиновности приписывают все признаки вины… Мы убеждены, что делается попытка в лице Сакко и Ванцетти нанести удар по всем радикальным элементам и их освободительным идеям. Приговор… послужит в руках наших врагов тому, чтобы представить поборников свободы обычными уголовниками, а их идеалы — недостойными гражданских прав. Нам предстоит жестокое, суровое испытание».
Из первого обращения Комитета в защиту Сакко и Ванцетти «Ко всем людям доброй воли»НАЛЁТ
24 декабря 1919 года Альфред Кокс, кассир обувной фабрики компании «Л. К. Уайт» в пригороде Бостона городе Бриджуотере, вышел из подъезда банка ровно без двадцати минут восемь. В машину, ждавшую у подъезда, Кокс, шофер Эрл Грэйвс и констебль Бенджамин Боулс погрузили стальной ящик. В ящике находились тридцать три тысячи сто тридцать долларов и тридцать один цент, недельная зарплата рабочих и служащих компании. Поеживаясь от декабрьского морозца, все трое разместились в полугрузовом «форде», и Грэйвс, привычно запустив мотор, погнал машину по Саммер-стрит. У площади свернули на Броуд-стрит. Утренний мороз покрыл улицу тоненькой корочкой льда, и Грэйвс осторожно вел машину вдоль трамвайной линии на скорости не больше десяти миль в час.
«Форд» немного отстал от трамвая, шедшего в том же направлении. Когда трамвай остановился, их разделяло ярдов семьдесят пять. В это время на перекресток выскочил черный автомобиль с зашторенными боковыми окнами. Он пересек трамвайную линию и, круто вильнув, остановился, наехав передними колесами на тротуар. Из автомобиля выскочили трое мужчин и побежали в сторону медленно приближающегося «форда». Впереди бежал усатый мужчина в длинном черном пальто. В руках у него было ружье. За ним следом бежали двое с револьверами.
В первый момент Грэйвс увидел черный прогулочный «гудзон», наехавший на тротуар. Увидел, как от него побежали какие-то люди. И только когда усатый опустился на колено и прицелился, Грэйвс сообразил, что это налетчик. Он нажал на газ и резко свернул в сторону трамвайных путей. Машина запрыгала на рельсах. Констебль Боулс, который тоже увидел прицелившегося человека с усами, выхватил из кобуры свой кольт. Метров двадцать отделяло налетчика с ружьем от машины, когда он выстрелил сразу из обоих стволов. Боулс выстрелил в ответ несколько раз. В это время трамвай, двинувшись с остановки, загородил собой «форд». Налетчики бросились к своему автомобилю, сели в него и умчались по Хэйл-стрит.
«Форд» компании «Л. К. Уайт», вихляя от одной стороны улицы к другой, врезался в телефонный столб.
Фрэнк Хардинг, выходивший с Хэйл-стрит на Броуд, видел все происшедшее на перекрестке. Сначала он решил, что какая-то группа снимает здесь кинофильм о гангстерах. Но когда он увидел удирающих людей, ему стало не по себе. Все произошло в считанные секунды. И все же Хардинг отметил про себя марку машины и ее номер — «гудзон-б», № 01173С. В автомобилях Хардинг разбирался отлично — он уже не первый год торговал запчастями к ним. Еще ему запомнился человек с коротко стриженными усиками, стрелявший из ружья.
Шеф полиции города Бриджуотера Майкл Стюарт, узнав о случившемся, запросил данные о владельце номерного знака, который запомнил Хардинг. Им оказался некий хозяин гаража в соседнем городке Нидхеме. Владелец гаража после звонка из полиции обнаружил, что этот номер исчез с одной из его машин. Тогда он вспомнил, что 22 декабря к нему заходил какой-то иностранец и просил одолжить номерные знаки, чтобы перегнать недавно купленную машину. Владелец гаража хорошо, помнил, что номеров он ему не дал.
26 декабря детектив из агентства Пинкертона Генри Геллиер сообщил в своем рапорте о пропаже темного прогулочного «бьюика», принадлежавшего проживающему в Нидхеме Ф. Мэрфи. Геллиер высказал предположение, которое показалось Стюарту вполне заслуживающим внимания. Геллиер считал, что именно «этот автомобиль мог быть использован в среду» при налете.
Как Стюарту удалось поколебать уверенность Хардинга и Грэйвса в том, что автомобиль гангстеров был марки «гудзон», никому не известно! В деле о попытке ограбления в Бриджуотере значится машина «бьюик», прогулочный, темього цвета, номерной знак 01173С.
Инспектор Альберт Броуллард из управления полиции штата Массачусетс, который прибыл в Бриджуотер для совместного с Майклом Стюартом расследования этого преступления, считал, что оно совершено одной из гангстерских банд, недавно появившихся в пределах штата. У Стюарта на этот счет были другие соображения. Большинство рабочих, занятых на заводах в Бриджуотере, составляли иностранцы, эмигранты из многих стран Европы. С ними Стюарту часто приходилось иметь дело. Как истинный янки, гордившийся двумя чисто американскими поколениями своих предков, он считал, что все беды Америки и ее неприятности исходят от этих понаехавших со всего света иностранцев — лодырей и бродяг, способных на всякое беззаконие. Однако поиски среди иностранных рабочих ничего не дали.
Третьего января, возвращаясь после очередной безрезультатной поездки по окрестностям в Бриджуотер, Стюарт еще раз перечитывал полученное от Бюро расследований сообщение осведомителя из итальянского квартала одного из пригородов Бостона — Куинси. Внимание Стюарта привлекло следующее место «того сообщения:
«… люди, замешанные в бриджуотерском нападении, временно жили в лачуге возле Бриджуотера, где и оставили свой автомобиль… Это итальянцы; оставив машину, они вернулись в троллейбусе в Куинси, где живут постоянно в районе верфей. Известны как анархисты».
Заснеженная дорога через Блю-Хиллз, по которой Стюарт возвращался в Бриджуотер, была в этот вечерний час пустынной и неприютной. Иногда из вечерней мглы появлялся белый каркасный домик, одиноко приткнувшийся к обочине дороги, такой же унылый, как предыдущий. Еще реже навстречу попадалась машина: свет ее фар появлялся под очередным холмом, потом исчезал, чтобы разгореться с новой силой, ударить лучами, сливающимися в белое, с двумя ядрами пятно, слепящее и тревожное.
Промерзнув за день, Стюарт решил не ехать в свою штаб-квартиру, а направился прямо домой. Плотно пообедав, он уселся в глубокое кресло, протянул ноги к камину и поднял с пола утреннюю газету. Внимательно прочитал заголовки:
«ОБЛАВЫ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ РЕВОЛЮЦИЮ», «ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ПРЕДАЛ ГЛАСНОСТИ ТАЙНЫЙ ПЛАН КОММУНИСТОВ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА СВЕРЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА», «АРЕСТЫ В ПЯТИДЕСЯТИ ГОРОДАХ».
Это были сообщения о знаменитых палмеровских облавах, получивших свое название по имени их организатора — министра юстиции США Палмера. «Серьезно закручено», — думал, разглядывая газету, мистер Майкл Стюарт, шеф полиции города Бриджуотера, на квадратных плечах которого лежало бремя поддержания демократического правопорядка среди сограждан. Образ его мыслей формировался не только, газетными заголовками и собственным его, Майкла Стюарта, жизненным опытом. Кроме всего этого, существовали и циркуляры из Бостона, и рекомендации Бюро расследований. И те и другие постоянно, уже который год, твердили об одном и том же — о «красной опасности», о «коммунистической угрозе», о «наступлении радикалов на американскую демократию», о «заговорах динамитчиков». Только что, 2 января, по стране прокатилась свирепая волна — вторая по счету — облав на «красных». Шесть тысяч ордеров на арест было выдано в этот день. Но, кроме того, тысячи людей были арестованы без всяких ордеров, и в большинстве своем это были иностранные рабочие. Три тысячи арестованных подлежали депортации. В штате Массачусетс в тот день было проведено четырнадцать облав. В Бостоне пятьсот иностранцев, закованных в кандалы, провели по городу — их отправляли в исправительный дом на Дир-Айленд, где были самые бесчеловечные условия и жестокое обращение охраны.
Палмеровские облавы создали в стране, особенно среди иностранных рабочих, напряженную атмосферу. Никто, казалось, не был застрахован от того, что ночью раздастся стук в дверь и полицейские погонят людей прямо с постели в участок. Полиция и детективы в штатском врывались в помещения социалистических и рабочих организаций, крушили мебель, взламывали сейфы, избивали тех, кого удавалось застать на месте.
«Красных — в красную Россию!» — такой заголовок был не редкостью для реакционной американской печати в ту памятную, зиму, самую снежную за предшествовавшие ей пятьдесят зим.
Вьюжный, холодный февраль засыпал снегом провинциальный Бриджуотер, и, вероятно, только Майкл Стюарт в те сумеречные тягучие вечера снова и снова возвращался к событиям 24 декабря. Отдаляясь, эта история все больше представлялась ему неразрешимой. Зиме, казалось, не будет конца. Метели сменялись затишьем, снег бурел под скупыми лучами мартовского солнца, покрываясь по ночам серой коркой льда. И все же к середине марта весна брызнула теплом, и в два-три дня снега как не бывало; оттепель была такой стремительной, что на Сентрал-сквер затопило подвал конгрегационной церкви.
Вероятно, декабрьскому происшествию суждено было бы забыться, но 15 апреля по соседству с Бриджуотером произошло событие, которое заставило Майкла Стюарта снова вспомнить про это нераскрытое преступление.
СНОВА ПРОГУЛОЧНЫЙ «БЬЮИК»
В среду 15 апреля 1920 года Шелли Ниил, агент компании «Америкен экспресс» в городке Саут-Брейнтри встречал на станции пригородный поезд из Бостона. Поезд, приходивший по расписанию в 9.18, запаздывал. Ниил извлек из кармана часы на массивной золотой цепочке: стрелки показывали девять часов двадцать одну минуту. Ниил оглянулся — его конный фургон стоял поблизости, у края открытой платформы, лошадь нетерпеливо перебирала ногами, время от времени вскидывая голову, отчего сонный кучер на козлах вздрагивал, оглядывался и, видя что поезда еще нет, продолжал дремать, уткнувшись лицом в поднятый воротник пальто.
Наконец послышались сигналы подходящего поезда: два долгих, один короткий и опять длинный гудок. Над водокачкой появились клубы дыма, и вот уже из-за поворота показался локомотив. Через минуту-другую задрожали стекла в окнах станционного здания, и поезд, сбавляя скорость, подошел к перрону… Вместе со своим охранником Стивенсом Ниил прошел к багажному вагону, расписался в книге у клерка и получил груз. Груз представлял собой стальной ящик, содержимое которого составляли тридцать тысяч долларов бумажками и разменной монетой. Получив от клерка багажного вагона запечатанный конверт с ключом, Ниил кивнул Стивенсу; они перенесли ящик с деньгами в фургон и засунули его под сиденье. Ниил уселся рядом с возницей. Стивенс, залезший в фургон сзади, остался стоять. Возница натянул поводья, потом легко пошевелил ими, и фургон двинулся в направлении Хэмптон-хауса.
Окна Хэмптон-хауса сияли на солнце. В семидесятые годы прошлого века, когда было построено это здание в четыре этажа, с заостренной крышей, в нем размещалась фабрика, изготовлявшая дорожные чемоданы и сундуки. Теперь там находилась контора и обрезальный цех обувной фабрики «Слэтер и Моррилл», главный производственный корпус которой помещался немного дальше, на Пирл-стрит, а слева от главного входа была дверь с позолоченной надписью — здесь разместилась транспортная контора, в которой служил мистер Шелли Ниил. К этой двери и подъехал фургон с тридцатью тысячами долларов и тремя людьми. Вылезая из фургона, Шелли Ниил привычно огляделся.
Шесть или семь автомобилей приткнулись к тротуару. Ниил без труда узнал их — не так уж много было в городе машин. Но один автомобиль сразу привлек его внимание. Это был прогулочный кабриолет темного цвета, сиявший на солнце так, словно его только что отполировали. Эту машину Ниил видел в городе впервые. Верх автомобиля был поднят, шторки на задних окнах задернуты, включенный мотор приглушенно урчал на малых оборотах. Человек, развалившийся за рулем, не обратил ни малейшего внимания на подъехавший фургон, хотя, останавливаясь, он чуть не зацепился за буфер его машины. Человек был в фетровой шляпе — больше Ниил ничего не разглядел. Уже входя в здание, Ниил, обернувшись, увидел другого человека — рыжеволосого, с бледным лицом, в пальто армейского образца и серой шляпе, надвинутой на лоб. Этот человек Ниилу явно не понравился.
В ящике, который Ниил открыл в своей конторе, находились два коричневых пакета с деньгами. Вынув пакет, предназначавшийся фирме «Слэтер и Моррилл», и заперев второй пакет в свой сейф, Ниил в сопровождении все того же Стивенса вышел на улицу и направился к соседнему входу. На улице, против Хэмптон-хауса он заметил еще один незнакомый автомобиль. Забрызганный грязью, он стоял на противоположной стороне улицы. Ниил услышал, как водитель этой машины (марку ее он не разобрал) крикнул водителю темного прогулочного автомобиля: «Ол райт!»
Бледнолицый человек стоял на том же месте, где Ниил его увидел в первый раз, руки его были глубоко засунуты в карманы пальто. Когда Ниил и Стивенс проходили мимо него, он посмотрел на обоих и, не поворачивая головы, проводил взглядом до самой двери. Ниил из предосторожности нащупал в кармане пальто свой кольт и спустил предохранитель.
— Странный народ на улице, — заметил он, поднимаясь со Стивенсом на второй этаж.
В конторе обувной фабрики Ниила и Стивенса встретила кассирша. Ниил помог ей уложить пакет с деньгами в сейф, получил расписку и направился к себе в контору. С верхней площадки, глянув в окно, вновь увидел того странного бледнолицего человека. Он стоял все в той же позе. А когда Ниил и Стивенс прошли примерно половину лестничного марша, они увидели, как этот человек быстро направился к прогулочному автомобилю, открыл заднюю дверцу и залез внутрь. Ниил и Стивенс, переглянувшись, сжимая в карманах оружие, поспешили вниз. Но когда они вышли из подъезда, прогулочный автомобиль уже сворачивал за угол на Холбрук-авеню; второй машины на улице не было…
В 11.15 Лола Хассам (Эндрюс) и Джулия Кэмпбелл сошли с поезда, прибывшего из Куинси. В Саут-Брейнтри они приехали в поисках работы. Женщины прошли мимо будки смотрителя железнодорожного переезда, пересекли железнодорожные пути и по Пирл-стрит направились к зданию фабрики «Слэтер и Моррилл». Метров за десять до здания фабрики они прошли мимо черного прогулочного автомобиля, стоявшего у обочины. Темноволосый крупный мужчина возился под открытой створкой капота в моторе. Бледнолицый, болезненного вида человек в пальто военного покроя сидел на заднем сиденье. На фабрике выяснилось, что женщины работы там не получат, и им посоветовали зайти на соседнее предприятие другой обувной фирмы. Возвращаясь и снова поравнявшись с машиной, Лола увидела, что темноволосый человек лежит под автомобилем и манипулирует гаечным ключом. Встретившись с ним взглядом, Лола Хассам спросила, как им пройти на фабрику. Человек вылез из-под машины, выпрямился и подробно объяснил кратчайший путь…
Кассирша разложила принесенные Ниилом деньги по конвертам. Пятьсот конвертов с деньгами на общую сумму пятнадцать тысяч семьсот семьдесят шесть долларов пятьдесят один цент она уложила в две деревянные коробки, которые поместила в металлические ящики. Едва она успела запереть замки, как в комнату вошли кассир фирмы мистер Фредерик Парментер и его охранник итальянец Берарделли.
Парментер выглядел франтом в новой коричневой фетровой шляпе, в шелковой рубашке в черную и розовую полоску. Он всегда был желанным гостем в конторе. Он любил пошутить с девушками-письмоводительницами, назначал им свиданья, в шутку, конечно, потому что весь город знал о его трогательной любви к очаровательной миссис Парментер, его жене.
— Пожалуй, я возьму свою зарплату, пока еще что-то есть, — шутливо сказал он, обращаясь ко всем сразу, и находчивая молоденькая кассирша в тон ему ответила:
— Конечно, мистер Парментер, возьмите, ведь завтра уже ничего не останется.
Парментер взял один из ящиков, Берарделли взял другой. С минуту Парментер постоял на пороге, словно раздумывая о чем-то, а потом вышел на лестницу. Вместе с итальянцем-охранником он стал спускаться вниз, к главному подъезду. Ступеньки лестницы резко скрипели под их ногами… Было ровно три часа дня. Они вышли на Пирл-стрит и пошли по ней к железнодорожному переезду. Миновав его, они пошли вдоль ограды мимо водокачки. В это время их увидели Минни Кеннеди и Луиз Хейес со своих рабочих мест у окна в первом этаже фабрики «Слэтер и Моррилл».
Из своего окна обе женщины ясно видели большой участок Пирл-стрит. Прямо перед зданием фабрики, у тротуара, они заметили темный прогулочный автомобиль. Он стоял метрах в трех от окна. Худощавый рыжеволосый молодой человек в голубом костюме копался в моторе, поднимая то одну створку капота, то другую, Наконец он закрыл капот, выпрямился и закурил. «Недурен, — подумала про себя Минни Кеннеди, — только лицо какое-то болезненное». Молодой человек сделал несколько затяжек, повертел в руках гаечный ключ; потом он сел в машину, включил мотор и поехал по Пирл-стрит. Проехал он немного; вскоре машина развернулась и медленно двинулась обратно, в направлении обувной фабрики.
Возле водокачки навстречу Парментеру попался Джимми Восток, механик. Это была удачная встреча: Парментер передал Востоку поручение зайти в обрезочную и посмотреть вышедший из строя мотор. Восток ответил, что зайдет, но сначала он должен съездить в Броктон — там он договорился кое-что починить. Он торопился на троллейбус, уходивший в 3.15.
— Не стану тебя задерживать, Восток. Я передал, что просили, — произнес Парментер и зашагал дальше.
Справа от него остался гараж с заостренной крышей из оцинкованного железа. Над крышей кружила стая голубей. Парментер прошел мимо телефонного столба, на котором висел красный пожарный сигнал.
Справа на невысокой ограде сидели двое. На одном была кепка, на другом — фетровая шляпа. Парментер прошел мимо них.
Когда же мимо телефонного столба прошел Берарделли, незнакомцы соскочили с ограды, и один из них, тот, что был в кепке, левой рукой хлопнул Берарделли по плечу, а правой выхватил из кармана револьвер. Берарделли обернулся и попытался схватить незнакомца свободной рукой, но не успел — три выстрела в упор заставили его сначала согнуться, а потом медленно осесть на тротуар.
На звук выстрела Парментер резко обернулся. Он увидел опускающегося Берарделли и человека с револьвером в руке. Еще он, вероятно, увидел вспышку — незнакомец в кепке выстрелил ему в грудь. Согнувшись от резкой боли, Парментер сделал несколько шагов в сторону; человек в кепке выстрелил вновь — на этот раз пуля попала кассиру в спину. Он сделал еще несколько шагов, но больше не смог — ноги его обмякли и подогнулись. Он упал у противоположного тротуара. Человек в фетровой шляпе подобрал сначала ящик, который лежал возле скорчившегося Берарделли, потом поднял ящик Парментера.
Человек в кепке несколько раз махнул рукой с пистолетом, подавая знак. Черный прогулочный автомобиль, что все это время находился возле, обувной фабрики, подъехал к нему. В этот момент Берарделли ухитрился приподняться на руках. Прежде чем машина остановилась, из нее выпрыгнул человек с автоматическим пистолетом в руках. Он подскочил к пытающемуся подняться Берарделли и выстрелил в него в упор. Итальянец рухнул на тротуар.
Тем временем машина, подобрав двух бандитов, двигалась по Пирл-стрит. У железнодорожного переезда ее нагнал третий бандит и залез внутрь, на переднее сиденье. Выстрелив несколько раз назад, в сторону обувной фабрики, бандиты прекратили стрельбу, и их машина остановилась у переезда, где смотритель только что опустил шлагбаумы, так как приближался поезд из Броктона. Из машины высунулся человек и, направляя на смотрителя револьвер, крикнул:
— Открывай! Живо!
Растерявшийся смотритель послушно поднял шлагбаумы. Машина взревела, подпрыгивая на переезде. Она проехала в метре от находившегося в этот момент на переезде Роя Гулда, направлявшегося на фабрику «Слэтер и Моррилл». Бандит, сидевший на первом сиденье, почти в упор выстрелил в Гулда, но промахнулся. Его внешность Гулд запомнил с четкостью моментального фотоснимка: светлые волнистые волосы, синий костюм, и еще запомнил Гулд часовую цепочку на жилете бандита.
СВИДЕТЕЛИ
Шефу полиции в Саут-Брейнтри Иеремии Галливану еще ни разу не приходилось иметь дело с преступлением, у которого сразу так много свидетелей. Но в данном случае именно так и было: в штаб-квартиру полиции в Саут-Брейнтри явилось свыше пятидесяти человек, бывшие свидетелями преступления на различных его стадиях. Из массы порой противоречивых сведений Галливан смог выяснить несколько более или менее точных фактов.
Луи Пельцер, обрезчик обувной фабрики «Слэтср и Моррилл», услыхав, выстрелы, выглянул в приоткрытое окно. Он увидел скорчившегося на тротуаре Берарделли и человека, стоящего над ним с револьвером в руке.
В этот же момент с улицы раздался выстрел и послышался звон стекла. Рабочие, смотревшие в открытое окно, бросились на пол. Потом кто-то из другого угла цеха крикнул, что автомобиль гангстеров уже у переезда. Пельцер вскочил с пола и бросился в противоположный конец комнаты, к открытому окну. Он увидел, как автомобиль, подпрыгивая, прошел переезд и отчетливо запомнил его номер: 49783, который он и записал, вернувшись к своему столу.
В 3.12 автомобиль проехал мимо Уолтера Десмонда, папиросника, шедшего в Саут-Брейнтри по шоссе из Бостона. Машина направлялась ему навстречу. В 3.20 ее видели Альберт Фармер с женой. Это было вблизи развилки дорог. Вероятно, проехав немного дальше, водитель понял, что он сбился с пути, потому что свернул назад, сделал петлю по боковой дороге и выехал на шоссе, ведущее в Провиденс. Здесь его увидели двое дорожных рабочих, копавших песок возле шоссе. Один из них обратил внимание на то, что в заднем окне не хватало стекла. Было это в три часа тридцать минут. А в 3.35 машина промчалась по левой стороне шоссе мимо хлебного фургона. Люди с фургона заметили, что в машине нет одного стекла сзади, и решили записать номер — удалось им разглядеть лишь две первые цифры — 49.
Без четверти четыре школьница Джулия Келлихер увидела эту же машину, быстро мчавшуюся ей навстречу с Броктонского холма. Ей показалось, что в машине что-то спрятано на заднем сиденье, и она попыталась запомнить номер. Она разглядела 83 в конце, девятку и семерку. Все это она и записала на земле у дороги.
В 4.15 Остин Рид, сторож железнодорожного переезда в Мэтфилде, в восьми с половиной милях от Броктонского холма и в двадцати двух милях от Саут-Брейнтри, вышел из своей будки встречать поезд из Вестдейла. Он встал посреди дороги с желтым сигналом «стоп» в поднятой руке. И почти одновременно на пригорке показался идущий в сторону переезда автомобиль. Рид пошел ему навстречу, но машина, похоже, и не собиралась останавливаться. Все же водитель затормозил и остановился метрах в десяти. Человек, сидевший на переднем сиденье, рядом с водителем, крикнул: «Какого дьявола ты нас задерживаешь?» В это время по переезду прошел состав. Когда он отгромыхал и Рид освободил проезжую часть, машина прошла мимо него. До нее было метр-полтора. Тот же человек с переднего сиденья снова крикнул. Риду: «Какого же дьявола ты нас задерживал?» Он ткнул в сторону Рида пальцем, словно прицеливаясь в него из револьвера. Минуты через три автомобиль снова появился на перекрестке, но уже с обратной стороны. Проехав будку Рида, автомобиль направился обратно в сторону холма и исчез в клубившейся за его бампером дорожной пыли.
«Скорая помощь» доставила Парментера в больницу в Куинси-сити, где к пяти часам утра, через четырнадцать часов после нападения, он скончался.
Доктор Джордж Магараз, медицинский эксперт Соффолка, произвел вскрытие тела Берарделли. Вместе со своим ассистентом он обнаружил четыре пулевые раны. По мнению доктора Магараза, смертельной была четвертая пуля, перебившая большую артерию возле самого ее выхода из сердца. Извлеченные пули хирург пометил иглой римскими цифрами. Смертельная пуля оказалась помеченной тремя вертикальными черточками.
Прибывшему из Бостона руководителю полиции штата капитану Уильяму Проктору передали подобранные Джимми Востоком на месте происшествия стреляные гильзы. Их было четыре. Потом принесли кепку, подобранную одним из рабочих обувной фабрики, который выбежал на улицу сразу после отъезда автомобиля.
О том, что касалось внешности бандитов, сведения, полученные полицией от очевидцев, были крайне противоречивы. Одни утверждали, что стреляли двое смуглолицых людей крепкого телосложения, в синих костюмах; другие утверждали, что лица налетчиков были бледные, а костюмы на них были коричневые, серые, черные. Число выстрелов колебалось в разных показаниях от восьми до тридцати. Но в одном сходились почти все свидетели: был прогулочный автомобиль, в нем сидели пятеро мужчин, водитель был рыжеволосый, с болезненным, желтоватым лицом, а те двое, которые все начали, были низкорослыми, с чисто бритыми лицами. По мнению детективов Бостонского отдела министерства юстиции и агентов Пинкертона, налетчиками были гангстеры-профессионалы — только они могли так тщательно подготовить и провести всю операцию.
Когда в субботу в окружном суде в Куинси судья Альберт Эвери заслушал показания свидетелей по делу об убийстве Парментера и Берарделли и ограблении компании «Слэтер и Моррилл», он никак не мог решить, чему же отдать предпочтение и какие показания больше заслуживают внимания. Леванж, смотритель железнодорожного переезда в Саут-Брейнтри, показал, что водитель машины гангстеров был «крепкого телосложения, с темно-коричневыми усами, в мягкой шляпе и коричневом пальто». Все остальные свидетели, вызванные в суд, описали его иначе: тщедушный, рыжеволосый человек, с гладкой желтоватой кожей лица.
Несколько десятков фотографий известных полиции гангстеров были доставлены из Бостона. 23 апреля в кабинете капитана Проктора группе свидетелей дали ознакомиться с этими фотоснимками. Восток, Мэри Сплейн и несколько других, свидетелей выбрали одну и ту же: карточку Энтони Пальмизано, участника недавнего ограбления одного из нью-йоркских банков. Однако все это многообещающие опознания ничего не дали для следствия — выяснилось, что еще в январе Пальмизано был арестован в Буффало и с тех пор находится в тюрьме.
ПРОКЛЯТЫЕ ДАГО[2]
В то время как в Саут-Брейнтри происходили эти трагические события, шеф полиции соседнего городка Бриджуотера помогал иммиграционной службе в поисках проживавшего на его территории итальянца Ферруччио Коаччи. За два года до этого Стюарт сам арестовал Коаччи по обвинению в распространении «литературы, оправдывающей свержение законного правительства», вместе с шестью другими итальянцами. Иммиграционная служба предупредила их о том, что как только в силу войдет принятый в 1918 году закон о депортации, их вышлют из США. Потом всех семерых отпустили под залог в тысячу долларов за каждого. В ожидании предписания о высылке Коаччи жил в Уэст-Бриджуотере и работал на фабрике «Слэтер и Моррилл» в Саут-Брейнтри. В первых — числах апреля, получив предписание явиться 15 апреля на иммиграционную станцию в Бостоне, Коаччи взял расчет.
Однако 15 апреля Коаччи на иммиграционную станцию не явился. Утром 16-го он позвонил в Бостон инспектору и сообщил, что его жена больна и, как только она поправится, он незамедлительно явится на станцию, В свою очередь, инспектор позвонил Стюарту в Бриджуотер и предложил вместе с ним заехать вечером того же дня к Коаччи домой. Но в этот вечер Стюарт был занят на репетиции в местной любительской студии, и вместо него с инспектором к Коаччи отправился его помощник.
Инспектор предложил Коаччи отложить депортацию на неделю, но тот отказался, заявив, что хочет уехать с первым же пароходом, так как получил из Италии сообщение о болезни отца.
Освободившись после репетиции, Стюарт по дороге домой заехал к себе в штаб-квартиру. Существенных происшествий за время его отсутствия не произошло. Он поговорил со своим помощником о вчерашнем случае в соседнем Саут-Брейнтри и собрался уходить. Он уже был в дверях, когда помощник, вспомнив о своем посещении Коаччи, рассказал, что тот вместе с инспектором отправился в Бостон, и под конец своего рассказа прибавил:
— Жулик этот проклятый даго. Ничего с его женой не было.
Возвращаясь домой по аллее под старыми вязами, Стюарт поймал себя на том, что повторяет мысленно эти слова своего помощника, И неожиданно для самого себя он вспомнил, что в декабре у него были подозрения, будто к попытке ограбления кассира компании «Л. К. Уайт» причастны какие-то анархисты.
Дома он просмотрел свое досье по декабрьскому происшествию. Нашел донесение осведомителя Бюро расследований, в котором упоминались анархисты. С обратной стороны листа, на котором это донесение было переписано, стояли пометки о результатах его проверки — там содержалось предположение одного опрошенного итальянца из Брайтона, что где-то поблизости от Бриджустера живет группа анархистов. Прямого отношения к делу это не имело; Стюарт тогда записал то, что говорил итальянец, просто на всякий случай, по старой привычке полицейского не полагаться на свою памяти. Сейчас, прочитав запись и сообразив, что она, вероятно, относится к Коаччи — единственному анархисту, о котором он знал в своей округе, Стюарт задумался. Если 15 апреля Коаччи не явился на иммиграционную станцию и жена его не была больна, то где он в это время был? Может быть, в Саут-Брейнтри?
Во всей истории дальнейшего расследования преступлений в Бриджуотере и Саут-Брейнтри это предположение Майкла Стюарта сыграло довольно важную роль. Уже в самом скором времени выяснилось, что оно имеет существенные преимущества перед другими версиями относительно участников обоих преступлений. Но все это выяснилось несколькими днями позднее, после того, как был найден автомобиль — прогулочный «бьюик» темного цвета, которым пользовались гангстеры в Саут-Брейнтри. Его обнаружили в перелеске, менее чем в двух милях от дома, в котором жил Коаччи. Выяснилось, что это тот самый «бьюик», о пропаже которого сообщал пинкертоновскйй агент Геллиер. А номерные знаки 49783 принадлежали жителю того же городка, откуда был угнан «бьюик», и были украдены с машины владельца еще в январе.
Еще в декабре все говорило за то, что эта машина была использована гангстерами в Бриджуотере. Теперь стало ясно, что она была использована и в Саут-Брейнтри. И номерные знаки, замеченные на ней в обоих случаях, были похищены в одном и том же районе. Все эти подробности подтверждали предположение Стюарта. Оставалось его проверить. Проще всего было бы попробовать выяснить все у Коаччи, но тот в это время уже покинул США и плыл в Италию. Правда, вместе с ним в том же доме жил еще один итальянец, некий молодой человек по имени Марио Бода. Когда-то вместе со своим братом он держал химчистку в окрестностях Бриджуотера, но после введения «сухого закона» полиция начала подозревать его в бутлегерстве. И хотя это было лишь подозрение, полиция давно приглядывалась к этому молодому итальянцу: в сообщениях осведомителей ФБР он упоминался как распространитель радикальной литературы среди итальянского населения восточной части штата Массачусетс.
Всего этого было достаточно для того, чтобы Майкл Стюарт решил им заняться.
Переговорив по телефону с инспектором Броул Лардом, Стюард договорился вместе с ним съездить в дом Коаччи.
В четверг в полдень они подъехали к одинокому домику на окраине Уэст-Бриджуотера. Перед ним на лужайке росла суковатая, кривая яблоня. Сбоку виднелся сарай, окна которого были забиты фанерой. Стюарт несколько раз громко постучал в дверь. Когда она открылась, на пороге показался коренастый темноволосый молодой человек в жилете; Стюарт и Броуллард представились как сотрудники иммиграционной службы и объяснили, что им нужна фотокарточка Коаччи. Молодой человек — это был Майкл (Марио) Бода ответил, что Коаччи посылал в иммиграционную службу две фотографии. Стюарт, заранее подготовившийся к разговору, заметил, что одна из фотографий затерялась и теперь срочно нужна другая. Бода неохотно впустил Стюарта и Броулларда в дом. Вместе они принялись за поиски фотографии. В одном из ящиков старого комода Стюарт обнаружил рекламу револьвера марки «сэйвидж» и спросил молодого человека, был ли у Коаччи револьвер. Бода ответил утвердительно. После долгих, но безуспешных поисков Стюарт выяснил, что у Бода тоже есть револьвер — автоматический испанский револьвер. Три патрона, которые находились в его обойме, все были разных марок, но американского производства. Больше ничего в доме узнать не удалось.
Выйдя на крыльцо, Стюарт обратил внимание на сарай. Бода объяснил ему, что там он держал свою машину «оверленд» и как раз в понедельник отправил ее в гараж своего знакомого, Симона Джонсона, на Элм-стрит. Позднее в своем донесении Стюарт написал, что, осматривая гараж, он обратил внимание на то, что земля вокруг досок, на которых стоял прежде «оверленд», недавно подметена, а там, где остался неподметенный участок, явственно виднелись следы автомобильной шины, слишком большой для колеса «оверленда», но вполне соответствующей колесу «бьюика».
Распрощавшись с молодым итальянцем и поблагодарив его за содействие, Стюарт пообещал в ближайшие дни заглянуть к нему снова.
Обещание не вызвало особого энтузиазма у Бода, Стюарт это понял по выражению его лица. И чем больше шеф бриджуотерской полиции думал об этом человеке, тем подозрительней он ему становился. А когда через день Стюарт подъехал к дому Коаччи, его подозрение еще больше укрепилось: дом был пуст. Бода исчез, забрав все свои вещи.
На Элм-стрит, в гараже Симона Джонсона Стюарт узнал, что «оверленд» все еще там. Предупредив Джонсона, что речь идет об очень серьезном деле, Стюарт велел ему немедленно известить полицию, как только Бода или кто-либо другой придет за машиной, и под любым предлогом задержать этих людей до прихода полиции.
Усталый и взвинченный, Стюарт вернулся домой. Он не особенно надеялся на эту ловушку в гараже, но другого выхода у него не было, Оставалось только ждать, попадется ли в нее кто-нибудь.
В ЗАПАДНЕ
Вечером 5 мая Симон Джонсон чувствовал себя неважно и решил пораньше лечь в постель. Жил он в четверти мили от гаража, в одноэтажном деревянном домике на Норт-Элм-стрит. В начале десятого кто-то постучал в дверь. Рут, жена Джонсона, вязавшая в гостиной, пошла открывать. Из прихожей она спросила: «Кто там?» Голос за дверью ответил, что это Майкл Бода и что он пришел за своим автомобилем. Через раскрытую дверь, спальни Джонсон услышал голос Бода и узнал его. Когда Рут вошла к нему в спальню, он шепотом велел ей пойти к соседям и позвонить в полицию. Рут кивнула и громко, так, чтобы было слышно за входной дверью, сказала: «Мистер Бода пришел за своим автомобилем. Пока ты оденешься, я схожу к соседям за молоком».
Открыв дверь, она замерла на пороге: прямо в глаза ей, ослепляя, бил яркий белый свет. Привыкнув через несколько секунд, она различила двух незнакомцев, направлявшихся к ее дому с моста над железнодорожными путями метрах в десяти справа. Когда они подошли ближе, Рут услышала, что говорят они между собой не по-английски. «Итальянцы», — подумала она и в это же время увидела, как они вошли в полосу света. Действительно, по их внешнему виду легко было определить, что это иностранцы. Один был в шляпе-«дерби» и длинном пальто. Другой, в фетровой шляпе, запомнился Рут своими обвислыми усами.
От телефонного столба возле дома отделилась какая-то фигура и направилась к пришельцам. В этом человеке Рут без труда узнала Бода. Сказав что-то незнакомцам по-итальянски, Бода направился к миссис Джонсон. Когда он подошел ближе, она сказала ему, что мистер Джонсон нездоров и лежит в постели, но что он уже одевается и просит немного подождать его. Машина давно готова, и Бода может ее получить.
Бода кивнул, и Рут Джонсон прошла мимо него к соседнему дому. С крыльца она увидела, что перед ее домом стоит мотоцикл — его фара и ослепила ее несколько минут назад. В седле мотоцикла сидел человек в надвинутой на лоб шляпе. Одной рукой он опирался на коляску. Соседи еще не легли. Волнуясь, Рут сняла трубку и попросила телефонистку соединить ее с полицией и срочно передать мистеру Майклу Стюарту, что Бода пришел за своим автомобилем..
Джонсон одевался медленно. От волнения он никак не мог застегнуть верхнюю пуговицу рубашки. Выйдя на крыльцо, он увидел Бода, мотоцикл и три неясные мужские фигуры. Обычно одевавшийся элегантно, Бода на этот раз выглядел довольно странно в помятом коричневом костюме и в старой шляпе с обвисшими полями. Поздоровавшись, Бода сказал, что хочет немедленно забрать машину. Поразмыслив немного, Джонсон спросил его:
— A y вас есть номер?
— Нет, — ответил Бода.
— Так ведь нельзя же без него, это не разрешается, — заметил Джонсон, прикидывая, что придумать еще, чтобы затянуть разговор.
— Рискну, — твердо сказал Бода.
Джонсон помолчал, а потом сказал:
— Сейчас вернется жена, и мы пойдем в гараж.
В это время из соседнего дома показалась Рут Джонсон. Взглянув в ее сторону, Бода, словно передумав, сказал Джонсону:
— Пожалуй, вы правы, Симон. Нужно было принести номер. Да и поздновато уже. Спокойной ночи, сэр. Зайду завтра прямо в гараж.
Он приподнял на прощанье шляпу и пошел к мотоциклу. Водитель нажал на стартер, и двое людей, стоявших рядом, отступили на шаг. Шедшая к своему дому Рут Джонсон подумала, что эти люди уж слишком пристально наблюдают за ней… Ей даже почудилось, что среди нескольких фраз на иностранном языке явственно прозвучало слово «телефон».
Бода уселся в коляску мотоцикла, мотор взревел, и машина покатилась в сторону Броктона. Задний фонарь над номерным знаком не горел, но номер Джонсон увидел еще раньше — 871. Двое незнакомцев — мужчина в «дерби» и мужчина с обвислыми усами — направились обратно к железнодорожному мосту. Возле него они остановились, потом повернули и пошли в том же направлении, в каком уехал мотоцикл.
С милю они прошли по пустынной в этот час Норт-Элм-стрит вдоль линии троллейбуса, ходившего между Бриджуотером и Броктоном. Потом им навстречу попалась женщина, и они спросили ее, где ближайшая остановка. Она показала им на угол Сансет-авеню — там белели полосы столба, отмечавшего остановку. Через несколько минут пришел троллейбус из Бриджуотера, и оба незнакомца вошли в него. Было девять часов сорок минут.
Двадцатитрехлетний кондуктор Остин Кол сначала принял мужчину в «дерби» за своего приятеля-португальца. Убедившись, что он ошибся, Кол спросил пассажиров, куда они едут. Человек без усов ответил, что в Броктон. Сели они сзади. Вагон был почти пуст, и Кол рассматривал только что вошедших пассажиров. Они были иностранцами — это каждый бы понял. Держались очень напряженно, да и одеждой заметно отличались от американцев. Чем больше Кол их разглядывал, тем больше, ему казалось, что несколько недель назад они вот так же, в это самое время садились к нему в вагон…
Когда Майкл Стюарт подъехал к дому Симона Джонсона, кроме хозяев, там уже никого не было. Расспросив Джонсонов, он сел в машину и поехал обратно к себе в штаб-квартиру по Норт-Элм-стрит, и здесь ему повезло: заметив одиноко бредущую по тротуару женщину, он подъехал к ней и без всякой надежды спросил, не попались ли ей навстречу двое мужчин — один в «дерби», другой с усами.
— Да вот недавно, на углу Сансет, два каких-то, даго спрашивали, где остановка на Броктон, — ответила женщина, махнув рукой назад.
Стюарт даже ее не поблагодарил: слово «даго» словно подхлестнуло его; он нажал на акселератор, и машина, взревев мотором, понеслась к штаб-квартире. Перед подъездом Стюарт резко затормозил, распахнул дверцу и, не выключив двигателя, бросился в помещение. Схватив телефонную трубку, он принялся лихорадочно вызывать штаб-квартиру полиции в Броктоне.
Майкл Коннелли, полисмен, дежуривший в это время в полицейском участке № 2 в Кампелло, отложил в сторону сандвич, проверил револьвер и кивнул уже собравшемуся полисмену Воуну. Вдвоем они вышли из участка. Только что позвонил шеф броктонской полиции и приказал задержать двух иностранцев, едущих в троллейбусе из Бриджуотера, которые пытались угнать автомобиль. «Не поймешь этих даго, — подумал про себя Коннелли, — угоняют автомобили, а удирают в троллейбусе». На часах перед полицейским участком было четыре минуты одиннадцатого.
— Надо поторапливаться, — сказал Воун.
Они разделились. Коннелли уже увидел огонек троллейбуса, сворачивавшего с Кейт-авеню. Крепкий, задиристый Коннелли надеялся, что даго еще в троллейбусе, — он любил хорошую драку..
Махнув рукой водителю, он на ходу впрыгнул в открытую дверь и тут же увидел их. Он прошел к заднему сиденью и спросил:
— Откуда едете?
— Из Бриджуотера, — ответил безусый.
— А что вы там делали?
Снова отвечал безусый:
— Хотели навестить моего приятеля.
— Как его зовут, этого приятеля? — спросил Кодоелли.
— Его… Его зовут Поппи.
— Ладно. — Коннелли понял, что драки не будет. — Вы оба мне нужны. Вы арестованы. Руки положить на колени! Живо! Не то пожалеете!
Безусый спросил, за что их арестовывают. Коннелли не без юмора ответил, что они оба подозрительные личности. В это время в вагоне появился еще один полисмен. Вдвоем они быстро ощупали иностранцев и обнаружили у обоих заряженные револьверы.
Тем временем троллейбус подошел к остановке. Там уже ждал наряд, высланный из штаб-квартиры полиции Броктона. Обоих иностранцев посадили в полицейскую машину. Коннелли сел рядом с водителем, лицом к арестованным. Держа в руках револьвер, предупредил:
— Одно лишнее движение, и я буду стрелять.
Вскоре машина остановилась перед входом в штаб-квартиру полиции. Арестованных ввели в помещение и стали обыскивать.
Револьвер, отобранный у человека с усами, был марки «харрингтон и ричардсон» тридцать восьмого калибра, заряженный тремя патронами марки «ремингтон» и двумя — марки «Ю. С.». Кроме того, у него было отобрано двадцать долларов, носовой платок и несколько листовок. У человека в «дерби» был обнаружен заряженный кольт, автоматический пистолет тридцать второго калибра. В кармане у него нашли патроны: шестнадцать марки «тетере», семь — «Ю. С.», шесть — «винчестер» и три марки «ремингтон». В другом кармане было найдено написанное от руки карандашом объявление на итальянском языке следующего содержания:
«Пролетарии, вы сражались во всех войнах. Вы все работаете на предпринимателей, бродите из страны в страну. Пожинали ли вы плоды своего труда, вкусили ли от своих побед? Рады ли вы своему прошлому? Обещает ли вам что-нибудь будущее? Нашли ли вы ту землю, где можете жить, как подобает человеку, и по-человечески умереть? Об этих проблемах, об этих доводах и на эти темы борьбы за существование будет говорить Бартоломео Ванцетти. Час… День… Помещение… Вход свободный. Свобода высказываний для всех! Приводите своих жен».
Через четверть часа прибыл из Бриджуотера Стюарт. Он прихватил с собой Джонсона; и тот сразу же опознал в задержанных тех людей, которых видел у мотоцикла возле своего дома, когда Бода приходил за автомобилем. Затем Стюарт, возбужденный тем, что подготовленная им ловушка сработала, приступил к допросу. Он продолжался минут десять и был заполнен обычными формальностями.
Первым Майкл Стюарт допрашивал человека с усами.
Его зовут, сказал он, Бартоломео Ванцетти. Тридцать два года, торгует рыбой вразнос, живет в Плимуте, на Черри-стрнт, в доме номер тридцать пять. В последние два дня гостил у своего товарища в Стаутоне. Полиция задержала их на пути в Стаутон, куда они возвращались из Бриджуотера — ездили навестить приятеля по прозвищу Поппи. Приехали в Бриджуотер поздно и, решив, что уже неудобно, поехали обратно. Никакого человека по имени Бода и человека по имени Коаччи он не знает. До этого никогда в Уэст-Бриджуотере не бывал, мотоцикла в этот вечер не видел. Ни анархистом, ни коммунистом не является. Револьвер носит для самозащиты, лицензии на него не имеет.
Второй задержанный сообщил, что его зовут Никола Сакко, он женат, живет в Стаутоне. В Америке уже одиннадцать лет. Последние два года работал на фабрике «Три-К» в Стаутоне, в Уэст-Бриджуотере до сегодняшнего вечера ни разу не был, в Бриджуотере был однажды — искал работу. Бода и Коаччи? Таких людей не знает. Ни в какой политической партии не состоит. Автоматический пистолет купил давно в Бостоне. Патроны в кармане оказались случайно: недавно купил целую коробку и собирался с друзьями пострелять в лесу.
Допрос закончился, и арестованных заперли в соседние камеры. Забранные решетками лампочки в потолке, деревянная лавка у стены, в углу дырки, заменяющая туалет. Мимо сновали полисмены. Для этих арестованные были предметом любопытства, а зачастую и грубых насмешек. Незнакомые с местными порядками, они попросили одеяла. Полисмен, охранявший камеры, ответил, что, когда их выведут в тир, где им придется исполнять роли живых мишеней, они быстро согреются. Довольный своей шуткой, он расхохотался и повернулся спиной к запертым за решеткой арестантам. А проходивший в это время другой полисмен, услышав слова своего коллеги, достал револьвер и ткнул им между решеток в направлении Ванцетти. Тот не пошевелился. Полицейский смачно плюнул на пол и пошел прочь.
ЖИВЫЕ МИШЕНИ
Районный прокурор округов Норфолк и Плимут, в состав которых входили Бриджуотер, Броктон и Саут-Брейнтри, Фредерик Ганн Кацман прибыл в Броктон утром 6 мая, чтобы допросить подозреваемых в попытке ограбления кассира компании «Л. К. Уайт» итальянцев. Ему было под пятьдесят; полный, самоуверенный человек, он одевался всегда, очень тщательно. Добротное, от дорогого портного пальто реглан, шляпа с прямыми жесткими полями, темная тройка в бледно-серую полоску и серый галстук с широкими бордовыми полосами, высокий крутой лоб с коричневатыми пятнами пигмента над выцветшими бровями, водянистые, почти бесцветные глаза, мясистый нос на одутловатом лице с толстыми губами — так выглядел в то утро человек, имя которого через несколько лет облетело весь мир.
Когда-то, окончив вечерний курс Бостонского университета со степенью бакалавра права, мечтая стать юристом, Кацман поступил в одну из известных адвокатских фирм на Пембертон-сквер. Однако для сына мясника, выросшего в беднейшем районе полупромышленного пригорода Бостона — Гайд-парка, стать равноправным членом клана адвокатов, царившего на Бикон-Хилл и Стейт-стрит, было практически невозможно. Быстро убедившись в этом, Кацман покинул неприветливый Бостон и вернулся в Гайд-парк, где создал свою собственную юридическую контору. В ноябре 1916 года он выдвинул свою кандидатуру на пост районного прокурора и был избран. В 1919 году его переизбрали на второй срок. Закон Кацман рассматривал как спортивную игру, а так как он и в свои университетские годы не отличался заметными спортивными качествами, то и здесь считал, что временами допустимо «срезать углы», ведь все равно побеждает лучший, и проигравший поздравляет победителя. И хотя расплатой в этой игре были годы человеческих жизней, а иногда и сама жизнь людей, но были это «другие люди», и игра оставалась игрой.
Сначала Кацман допрашивал Сакко.
У прокурора была своя манера допрашивать иностранцев. Отеческая доверительность, обезоруживающая приветливость словно убеждали допрашиваемого: ты со мной по-хорошему, и я плачу тебе тем же. Кацман считал такую манеру особенно эффективной, когда человека приводят на допрос после ночи, проведенной за решеткой.
Он задал Сакко несколько обычных формальных вопросов. Потом стал расспрашивать о его друзьях. Покончив таким образом со знакомством, Кацман приступил к вопросам, интересовавшим его в данный момент больше всего. Где он купил пистолет, когда, на какое имя? На эти вопросы Сакко отвечал, что пистолет купил два года назад в Бостоне на чужое имя, так как свое назвать не решился. С владельцем мотоцикла Орчиани, без труда обнаруженного полицией и арестованного в ту же ночь, он знаком. Ванцетти же его не знает. Имя Бода он никогда не слышал, оно, на его взгляд, не итальянское. Неожиданно Кацман спросил.
— Известен ли вам кто-нибудь по фамилии Берарделли?
— Нет, — ответил Сакко спокойно. — А это кто?
Кацман пробормотал в ответ что-то невнятное и перешел к другим вопросам. Он выяснил, что недавно умерла в Италии мать Сакко и он собирается вернуться на родину. Он уже побывал в консульстве в Бостоне по поводу получения паспорта.
— А вам не доводилось слышать об убийствах в Саут-Брейнтри? — словно невзначай спросил Кацман.
— Это где бандиты ограбили кассира обувной компании? Читал об этом в «Пост», — ответил Сакко. — Я тоже работал на разных обувных фабриках, но в Брейнтри не довелось.
После этого вполне уместно было спросить Сакко о том, что он делал и где был в день 15 апреля. Именно ответ на этот вопрос больше всего интересовал Кацмана. Еще до встречи с Сакко, с помощью Стюарта и агентов Бюро расследований он выяснил, что 15 апреля Сакко брал выходной на фабрике. Ведомство Уильяма Флиппа[3] имело немало оснований интересоваться Сакко. Он был известен там еще с 1916 года, когда был арестован за участие в собрании, организованном «Кружком общественных исследований» с целью сбора средств для бастовавших рабочих штата Миннесота. Кроме того, агенты Бюро расследований знали, что Сакко присутствовал 25 апреля на собрании «товарищей», обсуждавших вопрос о помощи двум незаконно арестованным в Нью-Йорке представителям рабочей печати итальянцам Сальседо и Элиа.
И когда Сакко, не задумываясь, ответил, что так как 15 апреля был рабочий день, то, следовательно, в этот день он был на фабрике «Три-К», Кацман понял, что для начала игры его положение вполне благоприятно. План действий в отношении Сакко уже вырисовывался в его воображении.
О Ванцетти Кацман также успел получить достаточно определенные сведения из тех же источников. Как и Сакко, Ванцетти был на собрании 25 апреля. Именно ему было поручено отправиться в Нью-Йорк и постараться узнать подробности о судьбе Сальседо и Элиа. Что он узнал тогда, этого агенты бюро не смогли установить, но зато им удалось через своих осведомителей узнать, что по возвращении в Бостон он предупредил местных радикалов о намеченных на май новых палмеровских облавах.
На новом собрании в Бостоне было решено спрятать всю имевшуюся у отдельных товарищей литературу, которая могла послужить основанием для репрессий во время новых облав. Обстановка в стране была очень напряженной. Провокационные взрывы бомб, инициаторы и исполнители которых, вполне естественно, остались неизвестными даже после того, как одна из бомб взорвалась на пороге дома министра юстиции Палмера и на «поиски» виновных были брошены практически все полицейские Восточного побережья США, создавали в стране все новые предпосылки для раздувания «угрозы коммунистического заговора».
Присутствовавший на том же собрании Орчиани предложил использовать автомобиль его приятеля Марио Бода. Кроме того, решили 9 мая провести митинг в Броктоне для сбора средств в фонд помощи Сальседо и Элиа. Еще после забастовки на плимутской фабрике компании «Кордадж» Ванцетти числился в черных списках за участие в комитете по сбору средств для бастующих рабочих. Он нередко выступал на митингах рабочих-итальянцев. Бюро расследований знало также, что он часто встречался с крупными представителями организаций иностранных рабочих. Несколько раз такие встречи происходили в доме в Плимуте, где Ванцетти жил в семье своего друга Винченцо Брини.
Учтиво улыбаясь Ванцетти, Кацман спросил его, говорит ли он по-английски, и напомнил, что он может не отвечать на вопросы. Ванцетти ответил, что по-английски немного говорит и на вопросы отвечать согласен. Рассказал, что с Сакко знаком полтора года, в Бриджуотер приехал из Стаутона навестить знакомого. Пересадку делали в Броктоне. Там задержались и не решились поздно идти к этому человеку… Никакого мотоцикла 5 мая вечером не видел, имя Бода ему ничего не говорит. Револьвер купил лет пять назад на Ганновер-стрит в Бостоне. В то же время купил коробку патронов. Большинство расстрелял в Плимуте на берегу океана. Постепенно Кацман подводил Ванцетти к дню налета в Саут-Брейитри. День 19 апреля Ванцетти помнил хорошо — это был День патриотов. Вспомнить, что он делал в предыдущий четверг, 15-го, он не смог.
Рикардо Орчиани на вопросы в полиции отвечать отказался, хотя его без труда опознали — как водителя мотоцикла — супруги Джонсон. Невысокий, полный итальянец с круглым, самоуверенным лицом, с коротко подстриженными усиками, он, казалось, был абсолютно равнодушен к аресту… Что он делал вечером 5 мая и где был — это его дело, заявил он, а револьвер, найденный у него дома, — ну что ж, это его револьвер.
Сразу после допроса Сакко и Ванцетти сфотографировали. Их отправили в полицейский суд в Броктоне и предъявили обвинение в ношении оружия без специального разрешения. Оба признали себя виновными. Вечером обоих итальянцев привели в дежурную комнату полицейского участка в Броктоне. И здесь, в нарушение всех правил опознания их представили на обозрение свидетелям из Саут-Брейнтри и Бриджуотера. Ванцетти и Сакко попросту поставили в дежурной комнате, и свидетели, входя, осматривали их. Обоих — просили то встать на колени, то поднимать руки, снимать и надевать шляпы, изображать прицеливающихся из револьвера.
Фрэнсис Дэлвин и Мэри Сплейн несколько раз рассматривали Сакко, каждая в отдельности. Его просили поднять руку, как будто бы держа пистолет. Обе женщины сошлись на том, что, возможно, Сакко — это тот человек, которого они видели высунувшимся из прогулочного «бьюика» с пистолетом в руке. 15 апреля обе видели человека с пистолетом с расстояния сорока пяти метров из окна второго этажа. В отношении Ванцетти у них сомнений не было — обе видели его впервые.
Минни Кеннеди и Луиз Хайес, видевшие водителя автомобиля метров с трех, ни в Сакко, ни в Ванцетти его не опознали. Джимми Восток, обернувшийся на выстрелы и увидевший гангстеров метрах в пятнадцати от себя, также не опознал ни Сакко, ни Ванцетти, Уверен в своих показаниях был только смотритель переезда на Пирл-стрит Майкл Леванж, заявивший, что Ванцетти вел гангстерский «бьюик».
В свое время констебль Боулс описал бандита, который стрелял из ружья во время ноябрьской истории в Бриджуотере, как человека с коротко подстриженными усиками. Такие же усики запомнили и Хардинг, записавший номер бандитского автомобиля в Брейнтри. Тогда же Хардинг заявил опрашивавшему его детективу: «Я не очень хорошо его разглядел, но, по-моему, он был поляк». Тем не менее, когда в полицейском участке Хардингу показали Ванцетти, на лице которого красовались пышные, со свисающими концами усы, он с большой уверенностью объявил, что это тот самый человек. Альфред Кокс считал, что это совсем не тот человек, Боулс допускал обратное, но не был уверен в своей памяти.
Тем временам Стюарт и Кацман возили закованного в наручники Орчиани по свидетелям. Когда ему сделали очную ставку с Сакко и Ванцетти, он со смехом объявил, что обоих видит впервые. Владелец гаража в Нидхеме его не опознал. В Брейнтри трое свидетелей опознали в нем одного из гангстеров. В Бриджуотере Хардинг был абсолютно уверен, что видел его среди бандитов во время налета 24 декабря 1919 года.
Бостонская газета «Ивнинг глоб» вечером 6 мая в нескольких маленьких абзацах сообщила, что «Берт Ванцетти, 32 года, из Плимута и Майк Сакко, 34, из С. Стаутона предстали сегодня перед полицейским судом в Броктоне по обвинению в незаконном ношении оружия». В последнем абзаце этого сообщения говорилось, что свидетель, имя которого не названо, почти уверен в том, что один из этих людей сидел за рулем автомобиля, в котором скрылись гангстеры в день убийств в Саут-Брейнтри.
ГАМБИТ
Уверенного опознания, произведенного Хардингом, было вполне достаточно для того, чтобы Майкл Стюарт передал Ванцетти в полицейский суд Броктона. 11 мая он представил в суд свои выводы о том, что Ванцетти, «будучи вооружен, совершил нападение на Альфреда Кокса 24 декабря 1919 года». К великому сожалению Стюарта, в тот же день он узнал, что у другого подозреваемого — Орчиани — совершенно неопровержимое алиби: и 24 декабря и 15 апреля он находился на работе, так, по крайней мере, свидетельствовала его личная карточка на фабрике. Орчиани отпустили. А Ванцетти 18 мая предстал перед судьей в Броктоне. На основании показаний Кокса, Боулса и Хардинга (Грэйвс к тому времени умер), а также новой свидетельницы обвинения — Георгины Брукс, — против него были выдвинуты два обвинения: нападение с намерением ограбления и нападение с целью убийства. В ходе судебного разбирательства выяснились интересные особенности показаний свидетелей обвинения. Если при опознании Боулс и Кокс сомневались, то теперь их суждения стали куда более определенными.
— Я уверен, что это тот человек, которого я видел в то утро с ружьем, — заявил Боулс в суде.
Кокс (при перекрестном допросе):
— Я не совсем уверен, хотя думаю, что он достаточно похож, чтобы быть тем человеком.
Георгина Брукс, по ее словам, видела Ванцетти за рулем автомобиля бандитов, когда он остановился, наехав на тротуар.
— Я абсолютно уверена в этом, — заявила она на предварительном слушании в Броктоне.
Защитник Ванцетти Джон Вахи (в будущем — партнер юридической фирмы Кацмана) даже не позаботился о том, чтобы в предварительном слушании участвовали свидетели защиты. Судья принял решение передать дело на рассмотрение суда присяжных, который назначил на 22 июня. Помощник прокурора Кацмана — Кэйн сообщил суду, что обвинение может представить свидетелей, которые опознали Ванцетти как участника убийств в Саут-Брейнтри, и на этом основании судья отказал обвиняемому в освобождении до суда под залог и отправил его в окружную тюрьму Плимута. Сакко, против которого в полицейском суде било выдвинуто обвинение в преднамеренном убийстве, был помещен в тюрьму города Дэдхема.
22 июня на втором этаже кирпичного здания суда в Плимуте начался суд над Ванцетти. Обвинение было представлено Кацманом и его помощником Кэйном, Защищали Ванцетти Вахи и Грэхем — защитник Сакко, — еще до начала суда убедившие Ванцетти в том, что при его политических взглядах ему не следует самому выступать со свидетельскими показаниями. «Ведь если вы будете объяснять такие вещи, как социализм, коммунизм или большевизм, невежественным, консервативным присяжным, — убеждал Ванцетти Вахи, — они прямиком упрячут вас за решетку».
Председательствовал судья Уэбстер Тейер.
Хотя судье Тейеру не было еще шестидесяти трех лет, выглядел он на все девяносто. Маленький, сухонький, с неожиданным для его дряблого лица орлиным носом, над которым громоздилось пенсне, с седыми, ровно подстриженными усами, судья Уэбстер Тейер, подобно многим малорослым людям, был тщеславен. Назначение на пост судьи в Плимуте Тейер получил в 1917 году из рук тогдашнего губернатора штата Массачусетс Самуэля Макколла, его однокашника по Дартсмуту. В годы студенчества Бобби Тейер был больше известен своими успехами в легкой атлетике, нежели в учебе. Он три года капитанствовал в университетской бейсбольной команде — первой команде в Дартсмуте. После окончания учебы Тейер даже собирался стать профессиональным бейсболистом, но раздумал и вернулся в свой родной городок, где занимался юриспруденцией, возглавлял местный спортивный союз, удачно женился и даже стал олдерменом. Самым большим своим несчастьем, кроме маленького роста, судья Тейер считал то, что из-за преклонного возраста он не смог вступить в армию в 1917 году. И тут его единственным утешением было назначение старшим судьей в Плимут.
Судебная процедура была одной и той же в каждый день процесса. Из тюрьмы привозили Ванцетти в наручниках и помещали на скамью подсудимых в зарешеченную клетку. Там его освобождали от наручников, и защитники подходили к нему для консультаций. В зале появлялись Кацман и Кэйн, они дружески раскланивались с защитниками. Потом все ждали несколько минут, пока не появлялся судья Тейер, сознательно оттягивавший момент своего появления. Он выходил в черной мантии, внутренне удовлетворенный тем, что весь зал стоя, хотя и немного в нем народу, ждет, пока он усядется на свое место.
Потом раздавалось традиционное:
«Слушайте все, слушайте! Все, у кого есть дело к их чести судьям, заседающим ныне в Плимуте в пределах и для округа Плимут, подходите ближе, слушайте, и вы сами будете услышаны. Боже, храни Содружество Массачусетс!»
Перед обвинением стояла цель — добиться осуждения Ванцетти, чтобы в процессе по делу в Брейнтри он фигурировал уже в качестве разоблаченного преступника. Этот факт, по мнению Кацмана, мог оказать решающее влияние на присяжных, которым предстоит выслушать абсолютно противоречивые сведения обвинения и защиты. Плимутский суд Кацман решил провести быстро, так как показания свидетелей защиты уже были полностью подготовлены. И все же некоторые накладки в этих показаниях должны были заставить защиту отнестись к делу с большей осторожностью.
В суде свидетель Кокс полностью отверг свои первоначальные показания во время опознания Ванцетти. И все же Кацман, хотя и добился от Кокса, что тот показал в суде: «Я не утверждаю, но чувствую уверенность, что это тот человек», — не был доволен таким показанием. Зато он полностью разделял мнение Стюарта о высоких свидетельских способностях Хардинга: отбросив свои первоначальные утверждения, Хардинг без тени смущения заявил, что машина была марки «бьюик», стриженые усики бандита превратились в «густые, свисающие черные усы» Ванцетти, «слегка подправленные». 24 декабря, описывая гангстера под свежим впечатлением увиденного, Хардинг говорил: «Худощавый, рост 170–175 сантиметров, в длинном черном пальто и шляпе-«дерби». В суде, ровно шесть месяцев спустя, Хардинг изумил немногочисленных посетителей тем, что подробно описал внешность Ванцетти, словно пересказывал полицейский словесный портрет: «В длинном пальто без шляпы, высокий лоб, короткие волосы, полноватый, я бы сказал, широкие скулы, широкое лицо, довольно неприветливое, и голова округлая, как пуля».
Миссис Брукс продолжала утверждать в суде, что видела Ванцетти за рулем автомобиля. Вахи во время перекрестного допроса установил, что, когда раздались выстрелы, миссис Брукс находилась в здании железнодорожной станции, а оттуда невозможно было увидеть стрельбу, хотя женщина и утверждает, что все отлично видела. Миссис Брукс смутилась, но Вахи почему-то не стал ее дальше расспрашивать. И еще один важный факт ускользнул от внимания защиты: Ванцетти не умел водить автомобиль.
На подмогу миссис Брукс обвинение вызвало разносчика газет, который заявил, что видел с расстояния в сорок пять метров, как человек с темными усами вылез из прогулочного автомобиля и выстрелил из ружья в «форд».
— Это тот, которого я видел, — сказал он, указывая на Ванцетти. — А по тому, как он бежал, я узнал, что это иностранец.
Вахи попробовал высмеять показания разносчика газет, указывая, что если верить ему, то итальянцы бегают не так, как американцы или русские, но мальчишка твердо стоял на своем.
Настала очередь эксперта. Капитан Уильям Проктор, выступив в качестве эксперта по баллистике, утверждал, что гильза «винчестер» двенадцатого калибра, найденная в водосточной канаве на Броуд-стрит, вблизи места преступления, является идентичной тем, что были отобраны у Ванцетти при обыске в Броктоне. Вахи резонно пытался возразить, что гильзу мог обронить на улице любой проходивший по ней охотник, но тут вмешался судья Тейер и отверг возражение защитника. Гильза была принята в качестве вещественного доказательства и передана присяжным.
Три дня подряд Кацман и Кэйн излагали суду свои доводы в пользу обвинения. Настала очередь защиты. Вахи не стремился вызвать в суд тех жителей Бриджуотера, которые могли бы показать, что Ванцетти не причастен к происшествию 24 декабря. Вся его защита была построена на показаниях соседей Ванцетти по Северному Плимуту и сводилась к установлению его алиби. И это было бы правильно при другом составе присяжных.
Судья Тейер предупредил присяжных: если они придут к выводу, что 24 декабря Ванцетти находился в Плимуте, дело можно будет считать закрытым.
Первым Вахи вызвал Витторио Папа, того самого Поппи, которого, как показали в Броктоне Ванцетти и Сакко, они собирались навестить в день ареста. Затем Мэри Фортини, хозяйка квартиры Ванцетти в Плимуте, показала, что 24 декабря утром, в четверть седьмого, она разбудила Ванцетти. В толстых носках, комбинезоне и зеленом свитере Ванцетти пришел на кухню, выпил горячего молока, потом обулся и ушел. За день или два до этого он получил с посыльным бочонок угрей. Посыльный пришел как раз, когда она была дома.[4] Весь вечер 23-го Ванцетти чистил, развешивал и упаковывал рыбу на кухне, чтобы на другой день разнести своим клиентам. В рождество итальянцы, как бы бедны они ни были, обязательно едят угрей. Это такая же традиция, как индейка на рождественском столе американца.
Часов в восемь утра Ванцетти вернулся с мальчиком, который ему обычно помогал; они нагрузили тачку и тележку пакетами с угрями и отправились их продавать.
Карло Бальбони рассказал, как утром 24 декабря, возвращаясь с ночного дежурства на фабрике «Кордэдж», зашел к Ванцетти за угрями. Ванцетти был еще в постели, и миссис Фортини разбудила его. В семь пятнадцать Ванцетти зашел с пакетом угрей к башмачнику Дикарло — тот даже помнил, что пакет весил полтора фунта.
Роза Бальбони получила своих угрей в полдень, а утром видела, как Ванцетти заходил к Энрико Бастони. Булочник Бастони под присягой показал, что за день до рождества, 24 декабря, Ванцетти приходил к нему одалживать лошадь с тележкой, но он не смог ему их дать. Пришел он как раз перед вторым гудком фабрики «Кордэдж» — за несколько минут до восьми утра.
Главным свидетелем защиты был мальчик, с которым Ванцетти разносил угрей, тринадцатилетний Бельтрандо Брини, с родителями которого Ванцетти давно дружил, часто гостил у них и которому он давал возможность немного заработать. Брини очень подробно рассказал, как провел день накануне рождества, как утром ушел из дому без галош, и отец, увидев это, заставил его вернуться, как было сыро и туманно на улице и как он услышал восьмичасовой гудок фабрики. Вместе с Ванцетти они обошли клиентов на четырех улицах. В два часа Брини почувствовал, что устал, — ведь он работал с восьми утра. И Ванцетти отпустил его, расплатившись за работу. Вечером он заходил к Брини, а потом пришел на другой день, и мальчик поблагодарил его за те два пятидесятицентовика, которые Ванцетти положил незаметно в его чулки накануне.
Столкнувшись с таким весомым алиби, Кацман пришел к выводу, что его необходимо дискредитировать в глазах присяжных целиком. Только в случае своего успеха мог он рассчитывать на осуждение Ванцетти, столь необходимое ему для предстоящего главного процесса. И он пустил в ход свое любимое оружие — прием, который американские репортеры судебной хроники именуют «мельницей». Он спрашивал вполне дружелюбным тоном, каким образом свидетель запомнил те или иные детали именно этого дня среди других дней года. А может, Ванцетти приходил не 24, а 23 декабря? В какое время дня свидетельница Фортини разбудила Ванцетти за шесть дней до рождества, через день после рождества, в Новый год, в День Вашингтона? И когда свидетель не мог, естественно, точно ответить на подобные серии вопросов, Кацман сердечно его благодарил, и, проводив со свидетельского места, оборачивался к присяжным и картинно разводил руками, словно говоря: разве можно верить людям, которые не помнят таких простых вещей!
С Бельтрандо Брини он разговаривал ласково, по-отечески называя мальчика «сыном»: «Может быть, сынок, ты желаешь давать показания сидя? Пожалуйста, я добрый дядя, ничего, что я толстый». Постепенно голос его твердел, и он буквально хлестал мальчика вопросами, нанося удары один за другим:
— Сколько раз ты повторял эту историю?
— Ты ее заучивал наизусть, как в школе?
— Тебе родители помогали учить этот рассказик?
Кацман заставлял по нескольку раз повторять описания домов, в которые Брини носил рыбу, подмечая малейшие расхождения с предыдущим рассказом, просил назвать вес корзинок, которые он таскал, время, начала и конца работы. Брини, измученный вопросами, умоляюще смотрел на судью Тейера, словно ожидая от него вмешательства, хоть разрешения на короткую передышку. Но судья величественно возвышался на своем помосте за длинным столом, над которым торчала лишь его голова с оттопыренными ушами, и его пергаментное лицо явственно и недвусмысленно выражало удовлетворение ходом допроса.
Парикмахер, последние шесть лет бривший и стригший Ванцетти, показал, что его постоянный клиент все время носит такие густые, свисающие вниз усы и никогда не просит их подрезать или подровнять. Подтвердили показания парикмахера и два неитальянца — плимутские полисмены, знавшие Ванцетти. Однако Кацман заставил их обоих признать, что они никогда специально не рассматривали усы Ванцетти, а потому и не могут знать, изменял ли он их форму.
На этом закончилось рассмотрение дела против Ванцетти. За все время сам обвиняемый не произнес ни слова.
Судья Уэбстер Тейер в традиционном коротком наставлении присяжным не забыл упомянуть, что у них не должно быть никаких предубеждений против свидетелей защиты из-за их итальянского происхождения. Тем не менее смущение итальянцев, говоривших, за исключением двоих, через переводчика, само по себе настраивало присяжных англосаксов против них. Впоследствии Ванцетти, вспоминая плимутский суд, писал, что в представлении присяжных все эти итальянцы были «жуликами, покрывающими друг друга».
Действительно, могли бы присяжные, люди недалекие и в целом настроенные против всяких иностранцев гнуснейшей пропагандистской кампанией, отдать предпочтение показаниям каких-то итальянцев перед показаниями «добрых стопроцентных янки» типа Кокса, Боулса и Хардинга? Вот если бы директор Плимутской школы или местный священник показали, что утром 24 декабря покупали у Ванцетти рыбу, то этого было бы вполне достаточно, чтобы его оправдать. А тут какие-то даго. Они, конечно, своего выгораживают. Все чужаки — подозрительные личности. Могли ли эти присяжные сообразить, что показания капитана Проктора — это отнюдь не свидетельство против Ванцетти. Однако судья не обратил их внимание на то, что винчестерскую гильзу можно купить в десятке лавок в Плимуте да и в самом Бриджуотере.
В четыре часа восемнадцать минут присяжные вернулись в зал суда, и их старшина объявил, что они единогласно считают Ванцетти виновным. В зале вскрикнули женщины. Ванцетти, собранный и спокойный, когда его под конвоем вели мимо женщин из зала, сказал им: «Coraggio!»[5]
Утром 16 августа Ванцетти, слегка наклонившись вперед, стоял на своем месте в зале суда между двумя конвоирами. Еще не нахлынула дневная жара, и слева от скамьи подсудимых, за клеткой, был открыто овальное окно, из которого можно было увидеть голубую в этот час бухту Плимута. Но Ванцетти глядел прямо перед собой, на судью Уэбстера Тейера, сидевшего под гербом Плимута и звездно-полосатым флагом Соединенных Штатов Америки. Судья Тейер своими глубоко запавшими глазами смотрел на Ванцетти. «Этот проклятый анархист должен получить все, что ему причитается. Такие, как он, всегда недовольны, им всего мало. Ну что ж, получишь», — думал Уэбстер Тейер, перебирая лежащие перед ним бумаги.
Он любил эффекты. И, произнося приговор, словно расправляясь со своим злейшим врагом, словно расплачиваясь и за свой маленький рост, и за возраст, и за несбывшуюся мечту о военной карьере, он сухим голосом произносил фразы, и они падали, словно тяжелый занавес: «…упомянутый Бартоломео Ванцетти обвинен… приказал и постановил, чтобы упомянутый Бартоломео Ванцетти… не менее восьми лет и не более пятнадцати, один день в одиночном заключении, а оставшийся срок на каторжных работах…»
Фредерик Ганн Кацман выиграл свой гамбит, срезав не без помощи Уэбстера Тейера несколько углов. Пора было разворачивать большую игру в Дэдхеме, где ждал суда Сакко.
ПЕРЕД ИСПЫТАНИЕМ
Комитет защиты Ванцетти и Сакко их друзья и единомышленники создали сразу же после ареста обоих. Члены комитета прекрасно понимали, какие цели преследует осуждение Сакко и Ванцетти. Уже в самом первом призыве комитета, обращенном «Ко всем людям доброй воли», говорилось: «Два наших активных друга, наши товарищи… вовлечены в один из тех трагических и темных заговоров юстиции, где невиновности приписывают все признаки вины… Мы убеждены, что делается попытка в лице Сакко и Ванцетти нанести удар по всем радикальным элементам и их освободительным идеям. Приговор… послужит в руках наших врагов тому, чтобы представить поборников свободы обычными уголовниками, а их идеалы — недостойными гражданских прав. Нам предстоит жестокое, суровое испытание».
Адвокат Фрэд Мур, приглашенный комитетом через посредничество выдающейся деятельницы американского рабочего движения Элизабет Гэрли Флинн, к тому времени имел в США огромную известность. Он прославился своими выступлениями во многих антирабочих процессах, организовывавшихся американской реакцией с целью удушить и обезглавить рабочее движение в стране. Мур был защитником руководителей знаменитой забастовки в Лоуренсе в 1912 году. Ценой огромного мужества и мастерства Муру удалось добиться оправдания обвиняемых. Для его живого, проницательного ума не составляло — особого труда разобраться в истинном смысле дела Ванцетти и Сакко. Он принял меры к тому, чтобы американский народ узнал о готовящейся расправе, чтобы американские рабочие заинтересовались судьбой своих братьев по классу. Мур соединял в себе адвоката, следователя, организатора сбора средств и пропагандиста. Рабочие организации в Бостоне, Чикаш, Детройте, Уорчестере, Сиэтле и Сэйлеме, откликнувшись на его призыв, приняли резолюции протеста и начали сбор средств в фонд защиты Сакко и Ванцетти. Освобождения их потребовали объединенный профсоюз рабочих швейной промышленности и американская федерация грузчиков, объединение горняков, Миннесотская федерация труда. К концу 1920 года дело Ванцетти и Сакко стало известно по всей стране. Приходили отклики на него и из-за границы.
«Спасая Сакко и Ванцетти, мы укрепляем свои мускулы, собираем свои силы и готовим их для того дня, когда мы сами освободим себя», — так рассматривал борьбу за оправдание Сакко и Ванцетти Фрэд Мур, такой он показал ее рабочему классу и общественности всего мира.
Журнал «Уорлд туморроу» писал о деле Сакко и Ванцетти в это время: «Все шансы сейчас против этих рабочих-активистов. Перед судом вместе с Никола Сакко и Бартоломео Ванцетти — весь рабочий класс. С этим процессом тесно связана борьба сегодняшнего дня за закрытые заводы, против намерения предпринимателей разгромить рабочие организации».
Руководимый Элизабет Гэрли Флинн — «Жанной д'Арк Истсайда», как назвал ее Теодор Драйзер, — Союз защиты рабочих распространил пятьдесят тысяч экземпляров памфлета Арта Шилдса о сути дела Сакко и Ванцетти. Арт Шилдс называл их арест в Броктоне «средством убрать с дороги» практически последних известных в Массачусетсе радикалов, которые к тому времени еще не были в тюрьме или депортированы и слишком много знали.
После приговора суда в Плимуте Ванцетти отправили в тюрьму штата Массачусетс в Чарльзтауне. В этой гранитной крепости, построенной на рубеже прошлого века, он готовился к процессу в Дэдхеме, начало которого было назначено на 7 марта 1921 года…
После короткого опроса Ванцетти отвели в душ, откуда он вышел в серых тюремных штанах и в хлопчатобумажной синей рубахе в полоску. Ему выдали одеяло и отвели в камеру.
Щелкнули замки, и он остался наедине с собой в маленькой мрачной камере с деревянным небольшим корытцем для питьевой воды, неподвижно закрепленной койкой и эмалированным умывальником. Через несколько дней Ванцетти определили на работу — в цех, делавший номерные знаки для автомобилей.
В долгие часы одиночества тюремной камеры перед его мысленным взором проходили воспоминания детства, юности, первых дней на земле Нового Света.
Он родился в пидемонтской деревушке Виллафаллетто на берегу реки Магра. Тучные, заботливо ухоженные натруженными крестьянскими руками поля щедро вскармливали рожь, пшеницу, свеклу, шелковицу. Здесь трижды в год косили сено, а в окрестных холмах альпийских предгорий в изобилии собирали груши, яблоки, фиги, сливы и виноград. Первые детские воспоминания Ванцетти всегда были связаны с образом его отца, сажающего грушевое деревце, с голубыми цветами в саду перед домом в Виллафаллетто, и с матерью, кормившей его по утрам свежим медом.
Он был одним из лучших учеников в школе; но когда однажды его отец прочитал в газете заметку о том, что в Турине сорок два юриста предложили свои услуги на место с жалованьем в тридцать пять лир в месяц, с планами дальнейшего образования Бартоломео было покончено. Его определили на обучение к кондитеру Конино «и оставили впервые почувствовать вкус тяжелого, безжалостного труда. Там я работал около двадцати месяцев — каждое утро с семи и до десяти вечера, каждый день, за исключением трехчасового перерыва дважды в месяц». Потом Ванцетти три года проработал в пекарне, что было не слаще. В Турине, позже, он делал карамель, пристрастился к чтению. Читал все, что попадалось под руку.
Потом у него начался плеврит, и отец приехал в Турин, чтобы увезти сына домой. В Виллафаллетто он похоронил свою мать, умершую у него на руках от рака. Именно после ее смерти появилось у него впервые желание уехать в Новый Свет. 8 июня 1908 года Ванцетти покинул родину и вскоре оказался в Гавре, на борту переполненного эмигрантами лайнера, взявшего курс на Нью-Йорк. Вспоминая свое прибытие в Америку, Ванцетти писал: «В то утро я словно проснулся в стране, где язык мой был чужд местным жителям, подобно жалкому мычанию животного. Куда идти? Что делать? Передо мной лежала заповедная земля. Пронесся поезд надземки и не дал ответа. Мимо проносились автомобили и троллейбусы, которым я был не нужен».
Он мыл посуду в модном ресторане, ночуя в кишевшей клопами мансарде. «Испарения от кипящей воды, в которой отмывались тарелки, сковороды и столовое серебро, образовывали гигантские капли на потолке, собирали с него всю пыль и копоть и медленно падали одна за другой мне на голову во время работы… Вода текла по полу — каждую ночь засорялась труба стока, и уровень грязной воды повышался, и мы с трудом передвигались в ней… Пять или шесть долларов в неделю нам платили».
Потом он бродил по Нью-Йорку в поисках работы. Он увидел как бы два мира: один для тех, кто сидел в шикарном ресторане за столиком, а другой для таких, как он сам, — тех, кому оставался путь в смрад и грязь ресторанной посудомойки. Ванцетти уехал из Нью-Йорка. В большом городе для него не нашлось места. Он устроился на небольшой кирпичный завод в Массачусетсе, потом попал на каменный карьер в Коннектикуте. Через два года друзья нашли ему место в кондитерской одного из ресторанов Нью-Йорка, но через два месяца Ванцетти уволили и взяли на его место американца. В 1914 году Ванцетти попал грузчиком на фабрику «Кордэдж» в Плимут. Все эти годы скитаний, когда выдавался свободный час и под руки попадалась книга, Ванцетти читал, читал все без разбора. В Плимуте он сблизился с семьей Брини и жил вместе с ними в покосившемся деревянном домике на одной из бесчисленных немощеных улиц плимутской окраины. Эти улицы змеились вокруг фабрики «Кордэдж», давая убогий приют многочисленным иностранным рабочим и их семьям, составлявшим большинство наемного персонала фабрики. Ванцетти любил семью Брини, она стала его второй семьей, и он часто ходил гулять с маленьким Бельтрандо, показывая ему днем цветы, а по вечерам — созвездия на небе.
После участия в забастовке на фабрике «Кордэдж», оказавшись в черном списке, Ванцетти продолжал жить у Брини, перебиваясь случайным заработком. А потом наступил 1917 год. США вступили в первую мировую войну. Президент Вильсон подписал закон о выборочном призыве в американскую армию.
К 5 июня все американские граждане и иностранцы, проживающие в стране, в возрасте от двадцати одного до тридцати одного года должны были зарегистрироваться. Ванцетти не подлежал призыву, так как еще не подал документы на вступление в американское гражданство. Но, плохо знакомый с американскими порядками, он об этом и не подозревал. Он не хотел воевать, не хотел воевать за посетителей дорогих ресторанов, за спокойствие владельцев фабрики «Кордэдж», за их право на унижение и эксплуатацию таких же, как и он сам. За две недели до срока он познакомился со своим земляком Никола Сакко, и они вместе решили уехать. 30 апреля 1917 года они отправились в Мексику.
Никола Сакко вырос в деревушке Торремаджиоре на берегу Адриатики. Он был третьим из семнадцати детей в семье. Его отец, несмотря на основательное богатство, состоял членом местного республиканского клуба. Старший брат Никола — Сабино был социалистом. С четырнадцати лет Сакко работал в поле. Помогал отцу в делах. Под влиянием старшего брата, мечтавшего уехать в Америку, Никола тоже стал подумывать о том, чтобы перебраться за океан. В апреле 1908 года вместе с отслужившим в армии братом Никола отправился в Америку. Столкнувшись с тяготами эмигрантской жизни в США, Сабино через год вернулся в Италию. Никола остался.
Он быстро понял, что необходимо получить профессию. В это время в Милфорде работала школа, в которой эмигрант мог получить профессию обувщика. И Сакко поступил в эту школу. Три месяца обучения обошлись ему в пятьдесят долларов. Но все это окупилось: став умелым обувщиком, Никола Сакко поступил в Милфордскую обувную компанию и зарабатывал на ее заводе до пятидесяти долларов в неделю. Для эмигранта-рабочего это было большим достижением. Он учил английский язык, живо интересовался жизнью своих земляков. Среди знакомых пользовался хорошей репутацией, хотя многие знали о его радикальном образе мыслей и даже называли «вольнодумцем». Он женился на своей соотечественнице, Розине Замбелли. Зажили они счастливо, но главной их мечтой было возвращение в Италию, на родину. Сакко никогда не считал себя американцем. Резкий контраст между богатством и нищетой, особенно проявившейся в предвоенной Америке, наполнял его горечью. Он все чаще вспоминал солнечную Адриатику, веселые холмы Апеннин, и его тянуло домой. В тринадцатом году он стал членом рабочего кружка, помогал организовывать митинги в соседних городах, распространял радикальную литературу, организовывал сбор средств для нуждающихся рабочих и забастовщиков.
Когда стало ясно, что война вот-вот закончится, Ванцетти и Сакко вернулись из Мексики. Сакко поступил на фабрику «Три-К» в Стаутоне. А Ванцетти, осев в Плимуте, поселился в домике миссис Фортини, купил тачку и стал торговать рыбой вразнос. Бывая в Бостоне, где он закупал у рыбаков товар для своих клиентов, Ванцетти встречался со своим другом — итальянским издателем-радикалом Фелицани, иногда навещал семью Сакко в Стаутоне, Так шла их жизнь до роковой ночи в мае 1920 года.
СУД НЕПРАВЫЙ
Судья Тейер в глубине души считал, что при том обороте, какой получило предстоящее дело Ванцетти и Сакко, именно он должен выполнить священную миссию спасения Америки от захлестывающих ее волн радикализма. Поэтому с приближением даты начала процесса он взялся за перо и написал своему приятелю по университету, верховному судье штата Массачусетс Джону Айкену письмо с просьбой назначить его на суд в Дэдхеме. (Через несколько лет, вспоминая об этом, Тейер хвастался одному из своих знакомых, что даже если бы он тогда знал, что кругом «красные» и спасти свою родину он может, лишь подставив себя под их пулю, то он был бы счастлив пожертвовать своей жизнью). Айкен выполнил просьбу Тейера.
Как обычно, суд начался выбором присяжных. Обвинение и защита, да и Тейер, конечно, понимали всю важность состава тех, кто будет выносить вердикт. Поэтому вокруг отбора присяжных разгорелась борьба, результаты которой во многом предопределяли исход процесса, В этой борьбе силы распределились не в пользу защиты: против Мура была комбинация Тейер — Кацман, которые, казалось, великолепно понимали друг друга и знали, кто должен быть в жюри присяжных. Почти каждого кандидата Тейер спрашивал, не является ли он противником смертной казни. Если кандидат был таковым, возмущенный и негодующий Уэбстер Тейер немедленно отстранял его. Если Мур спрашивал предполагаемого присяжного, является ли он противником права рабочих иметь собственные организации, принадлежит ли к профсоюзу или пользуется наемным трудом, Тейер безжалостно отклонял эти вопросы. Уходя на перерыв, так и не выбрав за все утро ни одного присяжного, Тейер зло и довольно громко проскрипел, что не позволит всяким, длинноволосым радикалам из Калифорнии учить себя, как вести судебное заседание.
Местные адвокаты, считая, что Мур понапрасну обостряет отношения с судьей Тейером, пригласили известного бостонского юриста, лектора знаменитой Гарвардской школы права заменить калифорнийца. Проведя несколько часов в зале суда и пронаблюдав за стычками между Муром с одной стороны, и Тейером и Кацманом — с другой, этот юрист с горечью заметил местным адвокатам: «Никогда вам не удастся добиться оправдания этих людей. Судья твердо намерен осудить их… И у вас нет никаких шансов». (Пройдет два года, и этот юрист, Уильям Томпсон, начнет четырехлетнюю борьбу за спасение Сакко и Ванцетти. За эти годы, близко узнав обоих и глубоко полюбив их, Томпсон впервые в своей долгой жизни поймет, что представляет собой американское правосудие, которому он посвятил всю свою жизнь, весь свой незаурядный талант.)
7 июня началось слушание дела. Ванцетти и Сакко в наручниках, в сопровождении трех полисменов в синей форме впереди, трех сзади и двух по обе стороны провели в клетку на скамью подсудимых. Когда их вели из тюрьмы по наводненному полицией и солдатами городу к зданию суда, впереди всей процессии двигался всадник с ружьем; такой же всадник ехал позади. В зале суда появился Тейер, На высоких каблучках он проковылял на свое место так шустро, что его шелковая черная мантия летела за ним подобно уродливому крылу. Первая неделя слушания дела была заполнена техническими деталями, показаниями врачей, производивших вскрытие тел Парментера и Берарделли. Дни тянулись утомительно и нудно. Но именно в эту неделю Комитет в защиту Ванцетти и Сакко активизировал свою деятельность. Появились листовки и брошюры, требующие освобождения обвиняемых и разоблачавшие махинации обвинения. Эти листовки так возмутили судью Тейера, что он не выдержал. Выходя однажды во время перерыва из соседней со зданием суда гостиницы, куда он ходил обедать, Тейер сказал стоявшим рядом с ним репортерам: «Ну, подождите, пока я передам присяжным обвинение, — он погрозил пальцем невидимым радикалам. — Они меня еще узнают!..»
Шелли Ниил, первый свидетель обвинения, рассказал о том, что он делал 24 декабря, как доставил деньги, как увидел бледнолицего мужчину возле дверей Хэмптон-хауса. Ни Ванцетти, ни Сакко он не опознал. Выступили еще несколько свидетелей, которые не могли опознать обвиняемых, так как находились вдали от места происшествия. Все шло по плану, разработанному Кацманом. Большего он ждал от Джимми Востока, который находился в пятнадцати метрах от того места, где упал Берарделли. Машина с гангстерами, похожими внешне на итальянцев, проехала так близко от Востока по Пирл-стрит, что при желании он мог бы до нее дотронуться. Человек, который высунулся из машины с револьвером в руке, был почти рядом с ним, и все же на опознании в Броктоне он не сказал, что это был Ванцетти или Сакко. Не опознал он их и в суде.
Свидетель с фабрики «Слэтер и Моррилл» Льюис Уэйд показал: он не уверен в том, что человек, которого он видел склонившимся над Берарделли, — Сакко. Он рассказал также, что однажды в парикмахерской видел человека, который показался ему именно тем, и с тех пор он перестал считать, что Сакко так уж похож на того гангстера, как ему казалось вначале. Уэйд рассказал в суде, как один из помощников Кацмана — Уильямс — заставлял его дать показания против Сакко. Уэйда отпустили. Когда он выходил, один из полицейских шепнул ему: «Мы с тобой еще потолкуем…» (Через несколько недель Уэйда уволили с работы на фабрике «Слэтер и Моррилл».)
Пока свидетельства обвинения не вызывали особого интереса и не были убедительными. Так было до тех пор, пока на свидетельское место не вышла Мэри Сплейн, делопроизводитель фирмы «Слэтер и Моррилл». Она твердо указала на Сакко как на человека, который высунулся из бандитского автомобиля с револьвером в руке. Она перечислила почти тридцать внешних примет человека. Все это, по ее словам, она успела разглядеть и запомнить в те три секунды, что видела автомобиль, проезжавший со скоростью примерно двадцать пять — тридцать километров в час на расстоянии почти сорока метров.
— Я уверена, что это тот человек, — заявила она в суде с безапелляционностью старой девы. — Я уверена, что не ошибаюсь.
В этот момент, глядя на нее, Сакко пожал плечами и горько усмехнулся. Такая же усмешка появилась на его губах, когда подруга и коллега Сплейн — Фрэнсис Дэлвин также указала на него. (Небезынтересно отметить, что на предварительном слушании дела обе не были столь уверены в своем опознании.)
Девятого июня выдался самый жаркий день в году. В этот день выступил еще один свидетель, опознавший Сакко. Это был Пельцер. Он заявил, что видел, как был убит Берарделли. Мур во время перекрестного допроса попросил объяснить, как Пельцер мог видеть стрельбу, — если после первого же выстрела он вместе с другими бросился на пол, под скамейку. К сожалению, только двумя неделями позже, когда обвинение закончило представление своих свидетелей и доказательств, Мур смог вызвать свидетелей, ослабивших впечатление от показаний Пельцера.
Среди репортеров, освещавших процесс, считалось, что главной свидетельницей обвинения стала Лола Хассам (Эндрюс). Когда она рассказала о своей встрече с человеком возле автомобиля, Уильямс, помощник Кацмана, драматическим тоном спросил ее:
— Встречали ли вы, свидетельница, этого человека потом?
— Да, — ответила Лола Хассам, — в зале этого суда.
Зал притих. Все поняли, что сейчас произойдет.
— Вы его и сейчас видите? — патетически спросил Уильямс при полной тишине в зале.
— Думаю, что да. Да, сэр. Вон тот человек, там, — произнесла Лола Хассам после паузы, указывая обнаженной до плеча мясистой рукой на Сакко.
Сакко вскочил со своего места.
— Я этот человек? — крикнул он, заметно волнуясь, с резким итальянским акцентом. — Вы имеете меня в виду? Смотрите лучше!..
При перекрестном допросе Мур выяснил, что Лолу Хассам посещали Стюарт и Броуллард, которые возили ее в Дэдхемскую тюрьму и показывали Сакко в камере. Два дня он пытался оспаривать достоверность ее показаний и проглядел очень важный момент, который мог серьезно подорвать доверие к ее свидетельству. Дело в том, что человек возле автомобиля объяснил ей дорогу столь подробно, что если бы он говорил с таким явным акцентом, как Сакко, то в своих показаниях Лола Хассам не могла бы этого не упомянуть. И хотя Муру удалось представить суду свидетеля, который рассказал, как Лола жаловалась ему на то, что ей не дает покоя полиция, требующая опознания человека в тюрьме, а она «никогда его не видела и не может вспомнить», судья Тейер несколько раз перебивал этого свидетеля, дискредитируя его показания. Мур представил суду ту самую Джулию Кэмпбелл, с которой Лола Хассам была на Пирл-стрит в роковой день. Женщина показала, что она лично этих людей не разглядела, а Лола разговаривала не с человеком, который вылез из-под машины, а с тем, что стоял рядом, — бледнолицым и худым. Кроме того, в суде выступила хозяйка дома, в котором некогда Лола Хассам снимала квартиру, и показала, что Лоле пришлось отказать, так как жильцы жаловались на ее дурную репутацию, на вереницы мужчин, проходивших через ее квартиру, и грозили съехать. (Обо всем этом прекрасно знали Стюарт и Броуллард — местная полиция дала им исчерпывающую информацию об образе жизни Лолы Хассам. И обоим не стоило большого труда заставить ее заговорить.)
Опознал Ванцетти и Рид, смотритель переезда в Мэтфилде. При его допросе Мур снова имел возможность поднять вопрос о достоверности этого опознания: он спросил Рида, говорил ли тот мужчина с усами громко и ясно, на что Рид ответил утвердительно. И снова вопрос об акценте, который у Ванцетти был еще более явным, чем у Сакко, не был поднят защитой, хотя само отсутствие упоминания о нем в показаниях говорило в пользу Ванцетти, как прежде — в пользу Сакко. Показания одного из свидетелей обвинения были прямой фальсификацией. Карлос Гудридж, мужчина средних лет и неприятной внешности, показал, что Сакко он видел высунувшимся из бандитского автомобиля с револьвером в руке. Представители защиты установили, что Гудридж сам является обвиняемым по уголовному делу (в тот день, когда Сакко и Ванцетти предстали перед судом в Броктоне, Гудридж признался в суде Дэдхема в краже денег у своего нанимателя). Тейер отказал защите в праве отвода свидетеля и в праве представить жюри документы, подтверждающие дэдхемскую историю с Гудриджем.
Последнее выступление обвинения относилось к кепке, которую нашли возле умирающего Берарделли. Кепка в одном месте на подкладке имела протертость, которую помощник Кацмана Уильяме старался представить как следствие того, что Сакко всегда вешал ее на фабрике на гвоздь. Это был единственный аргумент обвинения в пользу утверждения, что кепка принадлежала Сакко. (Позднее выяснилось, что это И. Галливан в поисках опознавательных примет надорвал подкладку. Но тогда об этом ничего не было известно.)
Наступило время решающего, по мнению Кацмана, свидетельства, которое должно было полностью убедить присяжных. Он вызвал в суд экспертов по баллистике. Капитан Проктор возглавлял экспертов обвинения. Седоволосый, подтянутый опытный полицейский чиновник, Проктор отлично знал; что от него требуется. Ему прекрасно было известно о твердой договоренности между министерством юстиции и Кацманом, по которой министерство обязалось оказать прокурору всю необходимую помощь для осуждения Ванцетти и Сакко. Со своей стороны, Кацман должен был предоставить министерству в случае оправдания обоих материал, достаточный для их депортации из США. Поэтому, выступая в суде, Проктор не собирался распространяться насчет своей теории о том, что преступление в Саут-Брейнтри — это хорошо подготовленная и точно выполненная работа профессионалов. Он выступал как эксперт по баллистике и сообщил, что смертельная для Берарделли пуля (с тремя штрихами на донце) была выстрелена из автоматического пистолета тридцать второго калибра с левой резьбой. Среди американского оружия таким пистолетом может быть лишь кольт. Пять остальных пуль были выстрелены из оружия с правой резьбой. Когда Проктора спросили, уверен ли он в этом, он ответил:
— Я могу быть в этом уверен полностью.
А на вопрос, была ли пуля с тремя штрихами выстрелена из пистолета Сакко, капитан Проктор ответил давно обдуманной фразой, которую подготовил после тщательных сравнений смертельной пули с пулями, которые он сам выстреливал из кольта обвиняемого:
— Мое мнение таково, что она сообразна с выстреленной из этого пистолета. (Через полгода капитан Проктор под присягой покажет, что сообщил Кацману после экспертизы о том, что пуля, убившая Берарделли, не была выстрелена из пистолета Сакко, а только сообразна (сходна) с ней.)
Второй эксперт обвинения — Ван Амбург — сформулировал свое мнение так:
— Я склонен думать, что пуля номер три была выстрелена из этого автоматического кольта.[6]
Варне, эксперт со стороны защиты, инженер, тридцать лет проработавший в крупнейшей американской компании, производящей боеприпасы, заявил, что пуля номер три могла быть выстрелена не только из американского кольта, но и из иностранного пистолета, например «баярда». Остальные пять пуль могли быть от «стейера» и «вальтера», а не только от «сэйвиджа», как утверждали эксперты обвинения. На вопрос, выстрелена ли смертельная для Берарделли пуля из пистолета Сакко, Варне ответил:
— Нет, по моему мнению. Она совсем не похожа.
— Пуля номер три не была выстрелена из пистолета Сакко. Я не вижу тех отметок на ней, которые соответствовали бы таковым на пулях, выстреленных из этого пистолета во время эскперимента, — заявил второй эксперт защиты, начальник испытательной лаборатории компании «Кольт» Фитцджеральд.
Так закончили свои показания эксперты.
22 июня наступила очередь защиты представлять своих свидетелей, свои контраргументы. И вот тут Кацман полностью оправдал свою славу судебного крючкотвора. Он засыпал свидетелей обвинения градом вопросов, один запутаннее другого. Интерпретировал ответы свидетелей так, что даже присутствовавшие в зале, видавшие виды репортеры судебной хроники изумленно вскрикивали. И как только дело касалось дат, времени или последовательности событий, следовала его знаменитая «мельница». А стоило Муру возразить против формы вопроса или его характера, как судья Тейер, который, казалось, пребывал в старческой полудреме, презрительно скрипел:
— Протест отклоняется… Протест отклоняется.
Неожиданное подтверждение алиби Ванцетти защита получила от двадцатитрехлетнего торговца тканями Джозефа Розена. Розен рассказал, как 15 апреля он встретил Ванцетти в Плимуте, на Черри-стрит и предложил ему отрез недорогого голубого сержа. Он просил за него немного, так как отрез был в нескольких местах побит молью. Вместе они зашли к Альфонсине Брини, с которой Ванцетти решил посоветоваться. Та хорошо разбиралась в тканях, потому что когда-то работала на трикотажной фабрике.
Она посоветовала Ванцетти купить отрез, и тот заплатил Розену двенадцать долларов двадцать пять центов, а потом добавил еще полдоллара, так как торговец заявил, что теряет на такой сделке. Вышли от Брини около двенадцати часов — вскоре раздалась сирена «Кордэджа» и на улицу хлынули люди, торопясь на ленч.
Все утро Кацман посвятил перекрестному допросу Розена. Он спрашивал его о сделках, совершенных 15 мая 1920 года, 15 июня 1920 года, 15 апреля 1921 года и так далее… Он мог продолжать до бесконечности, потому что все протесты Мура судья Тейер величественно отвергал. Но Розен стоял на своем: он запомнил дату встречи с Ванцетти потому, что в то утро его жена уплатила его избирательный налог, и, когда через день он вернулся домой, она дала ему квитанцию. Эту квитанцию Розен предъявил суду.
Показания свидетелей, удостоверявших алиби Ванцетти, не произвели особого впечатления на присяжных этого затянувшегося судебного процесса. Их ценность, столь очевидная для Мура, была в значительной степени ослаблена иезуитскими перекрестными допросами Кацмана, превосходно пользовавшегося попустительством судьи.
Как указывала защита, 15 апреля Сакко был в консульстве. Он ездил узнавать насчет своего паспорта. На запрос, сделанный в письменном виде (клерк консульства, к которому обращался Сакко, ко времени суда в Дэдхеме находился в Италии), был получен ответ, подтверждающий визит Сакко. Однако и здесь знаменитая «мельница», верой и правдой служившая Кацману, не подвела. Клерк запомнил посещение Сакко и его дату из-за того, что тот принес в консульство огромную семейную фотографию вместо маленькой и этим вызвал немало смеха. Кацман предложил клерку перечислить всех лиц, с которыми тот беседовал 17, 18, 19, 20, 21, 24 и 29 апреля, а также 2, 3 и 4 мая, и описать подробно всех этих людей. Задача была заведомо невыполнимой, потому что в те месяцы через консульство проходило немало людей, но все же Сакко он запомнил благодаря истории с большой фотографией.
Пятого июля на свидетельское место вышел Бартоломео Ванцетти. Это был день, которого все с нетерпением ожидали с начала суда. Стражник отомкнул металлическую дверь, и Ванцетти, спокойно переступив невысокий порог, вышел из клетки и, медленно приблизившись к судебному клерку, поднял руку и произнес традиционную формулу присяги. Высокий лоб с глубокими залысинами, сетка морщин у глаз, глубокая складка над переносицей и пышные, обвисающие усы делали его много старше. Выглядел он на все пятьдесят. Одет он был аккуратно: темный костюм, белая рубашка, галстук-бабочка, черная и гладкая, высокий крахмальный воротничок. Говорил он уверенно, мало жестикулируя, на все вопросы отвечал спокойно, без раздражения. Объясняя свое пребывание в Уэст-Бриджуотере в ночь ареста, Ванцетти сказал следующую фразу: «Нам нужен был автомобиль, чтобы перевезти книги и газеты». Опытные журналисты, сидевшие в зале, настороженно взглянули на Тейера, который широко раскрытыми глазами смотрел на Ванцетти. Мур нервно сжимал мундштук трубки. А Ванцетти продолжал рассказывать, как он и его друзья собирались перевезти эти безымянные «книги и газеты» от людей «в пяти-шести городах и отправить их в надежное место, куда не заглянет полиция, и не пойдет по домам тех, кто активно участвует в социалистическом и рабочем движении, не будет конфисковывать эти книги и газеты, не будет сажать людей в тюрьму и высылать».
Это было первое упоминание об участии обвиняемых в рабочем движении, прозвучавшее в суде. То, о чем догадывались или подозревали многие, перестало быть тайной: в Саут-Брейнтри судили двух радикалов. И когда, объясняя причину своих путаных показаний, данных Стюарту, Ванцетти сказал, что «опасался назвать имена друзей и их адреса, так как знал, что почти у всех есть книги и газеты, из-за которых власти могут их арестовать и выслать», Кацман, отстранив своего помощника, принялся допрашивать Ванцетти сам. И первый же удар, который он нанес защите, заставил многих в зале, сомневавшихся в убедительности аргументов обвинения, почувствовать, что над судьбой обоих итальянцев нависла смертельная угроза.
Кацман заставил Ванцетти рассказать о том, как он вместе с Сакко бежал в Мексику. Но когда Ванцетти стал объяснять мотивы своего отказа идти в солдаты, Кацман прервал его и потребовал, чтобы из протокола заседания эта фраза была вычеркнута. Защита пыталась протестовать, но судья Тейер отклонил протест, мотивировка Ванцетти была вычеркнута.[7]
Допрос Ванцетти продолжался полтора дня. Затем показания давал Сакко, Кацман понимал, что более темпераментный Сакко не сможет продержаться так же спокойно, как его товарищ, и решил это использовать.
После выяснения ряда второстепенных подробностей Кацман осторожно подвел Сакко к истории с поездкой в Мексику.
— Вы говорите, что любите нашу свободную страну. Скажите, а в апреле 1917 года вы ее любили? Вам понятен вопрос? Тогда, пожалуйста, отвечайте.
— Я не могу ответить одним словом, — настаивал Сакко.
— Вы поехали в Мексику, — начал Кацман, — чтобы не стать солдатом той страны, которую вы любите?
— Да, — ответил Сакко, глубоко вздохнув.
— Как вы понимаете проявление вашей любви к этой стране?
Сакко молчал. Он знал, что ему ответить на этот вопрос, но барьер чужого, неродного языка преграждал путь его мыслям, не давал им воплотиться в твердые, почти ощутимо жесткие английские слова. Вместо всех певучих, пламенных итальянских слов и точных, звенящих гласными фраз он произнес короткое и безликое английское «Yes» — и сразу же увидел ехидную, заранее приготовленную улыбку Кацмана.
Здесь вмешались представители защиты. Помощник Мура — Джерри Маканарни, представитель респектабельной бостонской адвокатской фирмы, бывший на процессе официальным защитником Сакко, заявил, что он возражает против этих вопросов обвинения. Маканарни, стараясь как можно мягче объяснить политическое положение обвиняемых, сказал, что «этот человек и Ванцетти принадлежат к классу социалистов, что год назад в апреле происходили волнения, людей высылали; тысяча двести — тысяча пятьсот человек были арестованы в самом Массачусетсе».
Уэбстер Тейер его перебил:
— Собираетесь ли вы утверждать, что то, чем занимались подзащитные, было в интересах Соединенных Штатов и было направлено на предотвращение дальнейших преступлений со стороны властей? — Тейер весь дрожал от возмущения, пенсне — съехало с его переносицы и звякнуло о стол.
— Ваша честь, пожалуйста, — ответил возмущенный явным передергиванием его слов Маканарни, — я протестую против заявления вашей чести, так как оно нарушает права подзащитных, и прошу, чтобы это заявление не учитывалось присяжными.
— Протест отклоняется, — зло проскрипел Тейер, подбирая со стола пенсне и протирая его.
Когда Кацман после долгого препирательства с защитой вернулся к тому же вопросу, Сакко, казалось, полностью овладел собой и заговорил, упорно пробиваясь сквозь дебри английской фразеологии и фонетики. Он вспоминал свое детство, свои первые дни и годы на американской земле.
— Когда я здесь начал работать очень тяжело и работал тринадцать лет, тяжело работал, и я не мог отложить денег в банк. Я не мог послать своего мальчика в школу, многого не мог… Я мог видеть лучших людей, интеллигентных, образованных, их арестовывали и посылали в тюрьму на годы и годы. И Дебс,[8] один из великих людей этой страны, он в тюрьме, все еще в тюрьме, потому что он социалист… Он хотел, чтобы у работающего класса была лучшая жизнь, больше образования, чтобы можно было послать сына в школу, но его бросили в тюрьму. Почему? Потому что капиталистический класс не хотел всего этого, потому что капиталистический класс не хочет, чтобы наш ребенок пошел в школу, в колледж или Гарвард… Я хочу, чтобы люди жили по-человечески…
В зале было тихо. В клетке Ванцетти, подавшись вперед, напряженно слушал товарища. Репортеры поспешно записывали слова Сакко. Розина, его жена, нервно закусила край платка. А Сакко продолжал:
— Мы не хотим воевать, не хотим уничтожать молодежь. Мать, страдая, выращивает сына. Наступает день, когда нужно немного больше хлеба, и в это время мать хочет получить от своего сына этот хлеб, а Рокфеллеры, Морганы и другие, из высшего класса, посылают его на войну. Почему? Что такое эта война? Это не как во времена Линкольна и Джефферсона, — воевать за свободу своей страны, за лучшее образование… Она, война, — для больших миллионеров. Не за цивилизацию человека. А для бизнеса, заработать миллион долларов. Кто дал нам право убивать друг друга? Я работал с ирландцами, с немецкими рабочими, с французами, — с многими другими. Почему я должен идти убивать таких же, как они, людей? Я не верю в войну. Я хочу уничтожить все пушки…
Кацман с видимым удовольствием слушал эту исповедь Сакко. Для него исход этой игры уже не вызывал сомнений. При таком составе присяжных, какой ему удалось организовать, Кацман считал, что Сакко своей необузданной речью, полной социалистических высказываний, сам подписал себе приговор. И когда в полной тишине, воцарившейся в зале после заключительных слов Сакко, Кацман взглянул на присяжных, он понял, что добился своего. Присяжные растерянно переводили взгляды с Сакко, продолжавшего в задумчивости стоять на свидетельском месте, на Тейера, который невидящим взглядом смотрел прямо перед собой, скривив рот в брезгливой гримасе…
Было шесть часов, когда Кацман заканчивал свою заключительную речь. Обращаясь к присяжным, он патетически произнес:
— Вы здесь советчики, джентльмены, все двенадцать человек, и стороны пришли к вам и просят найти, где правда по вопросам виновности и невиновности. Мужи жюри, выполните свой долг. Поступите, как поступают мужчины. Будьте едины, мужи Норфолка!
Этот вечер судья Уэбстер Тейер провел в университетском клубе в Бостоне, готовя свою заключительную речь — наказ присяжным. Формула его была основана на обычных юридических трюизмах: человек невиновен до тех пор, пока не доказана его виновность, что разумное сомнение — это сомнение разумного человека, что косвенные доказательства иногда могут быть столь же вескими, как и прямые, и так далее. Подобно всем тщеславным людям, Уэбстер Тейер стремился придать своей заключительной речи совершенство литературного произведения. Неопределенные и порой двусмысленные метафоры одна за другой соскальзывали с его пера на бумагу: «Пусть звезда справедливого суждения и глубокой мудрости направляет ваши шаги в прекрасное царство, где верховенствуют Сознание, Повиновение Закону и Богу».
Утром, встретившись в столовой клуба с Джорджем Крокером, известным юристом, Тейер подсел к его столу. Еще до этого несколько раз в течение месяца Тейер заговаривал с Крокером о разбираемом деле. И в этот раз он обрушил на Крокера длиннейшие тирады о необходимости для настоящих американцев сплотиться против угрозы «красных», вроде тех, кого он сейчас судит. Старый консерватор, Крокер был шокирован поведением Тейера. Он считал даже упоминание разбираемого дела нарушением судейской этики и права обвиняемых на беспристрастный суд. И когда Тейер извлек из кармана листки со своей заключительной речью — наказом присяжным, и стал цитировать целые абзацы, Крокер был так возмущен, что потерял всякий интерес к своему грейпфруту. Покидая столовую, Крокер предупредил метрдотеля:
— Ради бога, никогда не сажайте этого человека за мой стол!
В день вынесения вердикта, 14 июля 1921 года, зал суда был переполнен. Стол Тейера украшали цветы — их прислали жены Кацмана и Кэйна. В последний раз прозвучал оклик, открывающий заседание, в последний раз Ванцетти и Сакко ответили: «Присутствую». Последние представления защиты предложить жюри считать подзащитных невиновными, которые, как и следовало ожидать, Тейер отклонил.
В семь часов пятьдесят минут присяжные приняли решение. Клерк суда после кивка Тейера спросил старшину присяжных, вынесли ли они вердикт. Потом вызвал:
— Никола Сакко.
Сакко, внимательно рассматривавший лица присяжных, поднялся с места, словно не понимая, что происходит, почему он здесь, отгороженный решеткой, а Розина вместе с их Данте там, по ту сторону.
— Поднимите правую руку, господин старшина присяжных, посмотрите на заключенного. Заключенный, посмотрите на старшину присяжных. Что говорите вы, господин старшина присяжных, виновен заключенный или не виновен?
Голос Рипли, раскатистый и громкий, отчетливо прозвучал в тишине:
— Виновен.
— Виновен в убийстве? — спросил клерк.
— Убийстве, — ответил Рипли.
Смысл услышанного только еще доходил до сидевших в зале людей, а клерк уже вызвал Ванцетти, произнес положенную формулу вопроса, и снова в зале прозвучал каркающий голос Рипли:
— Виновен… Убийстве… Первой степени…
И опять скороговорка клерка, произносящего обычные слова вердикта и задающего вопрос, все ли присяжные согласны с ним, и эхо со скамей присяжных, подтверждающих — «да», «да», «да»…
Неожиданно в эту сумятицу звуков ворвался сильный голос Сакко:
— Sono innocente![9]
Ванцетти все еще стоял с поднятой вверх рукой. Он обернулся к Сакко, а тот снова во всю силу крикнул в зал:
— Соно инноценте!
И когда присяжные, торопливо покидая зал, проходили мимо осужденных, Сакко дрожащим голосом крикнул им:
— Вы убили невиновных! Не забудьте: вы убили двух невиновных людей!
ШЕСТЬ ЛЕТ БОРЬБЫ
Вердикт присяжных, вынесенный 14 июля 1921 года в Дэдхеме, явился для прокурора Кацмана своего рода заключительным аккордом в игре, развернувшейся в точном соответствии с его замыслом. Осталось довольно исходом процесса и министерство юстиции. Двое его агентов — Фрэд Вэйанд и Лоуренс Лезерман — позднее в данном под присягой показании свидетельствовали: «Министерство юстиции и его отделение в Бостоне давно стремилось собрать достаточные для депортации Сакко и Ванцетти данные, но никак не могло их получить… Агенты министерства считали, что осуждение Сакко и Ванцетти за убийство будет одним из путей избавления от этих людей. Кроме того, агенты, располагавшие сведениями о деле Сакко и Ванцетти, прекрасно знали, что, хотя оба и были агитаторами, но никогда не являлись грабителями и не имели никакого отношения к преступлению в Саут-Брейнтри».
Годы, последовавшие за вынесением приговора, были заполнены непримиримой борьбой обеих сторон, участвовавших в процессе. Представители защиты, тщательно проанализировав процесс, указали на нарушение конституционного права Ванцетти и Сакко на беспристрастный и честный суд. Защита представила в соответствии с порядком судопроизводства штата Массачусетс дополнения к процессу с требованием пересмотра дела новым составом присяжных в свете обнаруженных уже после вынесения вердикта данных. Эти данные были настолько серьезными, что поставили под сомнение целый ряд свидетельств, на которых обвинение строило все дело.
Со своей стороны, представители обвинения делали все, чтобы помешать Комитету защиты Сакко и Ванцетти. Куда бы ни направлялись его добровольные помощники, за ними неотступно следовали агенты Кацмана и Стюарта.
Главными среди этих новых данных были: свидетельство капитана Проктора, показания свидетеля Гулда, свидетеля Пельцера и свидетельницы Лолы Хассам.
7 августа 1923 года капитан Уильям Проктор принимал в Бостоне двух посетителей. Во время разговора случайно было затронуто дело Сакко и Ванцетти, продолжавшее волновать весь мир, и капитан Проктор обронил следующее замечание:
— Если бы защита расспрашивала меня более подробно, я сказал бы, что не думаю, чтобы пуля прошла через ствол этого пистолета, да и прокурору Кацману, еще до суда, я говорил, что пуля сходна, но не уверен, чтобы она была выстрелена из того пистолета.
20 октября капитан Проктор подписал письменное свидетельство, главное содержание которого заключалось в следующем: «На суде районный прокурор не задал мне вопроса, нашел ли я какие-либо свидетельства того, что так называемая смертельная пуля прошла через пистолет Сакко… Районный прокурор хотел задать мне этот вопрос, но я неоднократно говорил ему, что, если такой вопрос последует, я буду обязан ответить на него отрицательно».
Как только Кацману стало известно признание капитана Проктора, он немедленно направил судье Уэбстеру Тейеру свое скрепленное присягой контрсвидетельство: Кацман не оспаривал сам факт, что Проктор на этот его вопрос ответил отрицательно, он отрицал лишь многократность расспросов.
Известный бостонский юрист Уильям Томпсон, сменивший Мура (Мур из-за разногласий с анархо-синдикалистами, возглавлявшими Комитет защиты, отказался дальше вести дело), понял, что свидетельство Проктора может стать серьезным основанием для пересмотра вердикта.
Кроме свидетельства капитана Проктора, защита смогла, наконец, получить показания свидетеля Роя Гулда, который 15 апреля 1920 года находился рядом с автомобилем гангстеров, покидавшим место преступления. Именно в него выстрелил бандит, когда автомобиль проехал железнодорожный переезд на Пирл-стрит. Ни один из свидетелей, выступавших во время процесса в Дэдхеме, не имел возможности видеть людей, сидевших в машине, с такого близкого расстояния, как Гулд. Гулд сразу же после происшествия сообщил свое имя и постоянный адрес в полицию Саут-Брейнтри и вскоре покинул город. Он колесил по Новой Англии, и почти не слыхал о суде, над Ванцетти и Сакко. Гулд показал под присягой, что человек, который стрелял в него из гангстерского автомобиля, стрелял почти в упор, не похож ни на Ванцетти, ни на Сакко, которых ему показали.
Луис Пельцер также сообщил представителям защиты, что 15 апреля он не видел стрелявших достаточно ясно, чтобы опознать их, намекнув при этом, что дать показания в суде его заставил помощник Кацмана — Уильямс. Подписав такое показание, Пельцер, вероятно, испугался последствий и в письме на имя Кацмана отказался от него.
Лола Хассам созналась представителям защиты, что ее показания «были сделаны под давлением и влиянием Майкла Стюарта, Броулларда, Уильямса и Кацмана». Она сказала неправду в суде из-за того, что полиции были известны «многие страницы ее интимной жизни, которые она не могла позволить предать гласности».
Все эти свидетельства защита представила на рассмотрение судье Тейеру в качестве оснований для пересмотра дела Ванцетти и Сакко при новом составе присяжных, указав, что вердикт присяжных от 14 июля основан на неверном толковании показаний капитана Проктора и что Пельцер и Лола Хассам являются «лицами, чьи свидетельства не могут служить основой для обвинительного вердикта в деле об убийстве», тогда как свидетельство Роя Гулда является непредвзятым и проливает новый свет на личность человека, который, вероятно, стрелял и в Берарделли и в Парментера.
В начале октября 1924 года судья Уэбстер Тейер закончил рассмотрение всех дополнительных аргументов защиты и контраргументов обвинения.
Касаясь свидетельства Гулда, Тейер заявил, что он сомневается, чтобы Гулд «сохранил правильное представление об образе Сакко (?!) в течение восемнадцати месяцев, если он лишь мгновение видел его, чтобы запомнить, в день убийства». Показания Пельцера, данные им защите, Тейер просто отбросил, указав, что ни Кацман, ни Уильямс не оказывали на этого свидетеля давления. В том, что касается Лолы Хассам, Тейер был предельно лицемерен, патетически восклицая в своем письменном обосновании отклонения ходатайства защиты, что частная жизнь свидетельницы не причина для того, чтобы не верить ее показаниям, данным под присягой. А признание капитана Проктора судья, заведомо зная, что не получит ответа на свой вопрос, свел к риторике: «Если капитан Проктор не обнаружил фактов, удостоверяющих, что смертельная пуля прошла через пистолет Сакко, почему же, когда у него была прекрасная возможность, он не сказал об этом?..» (Капитан Проктор умер в марте 1924 года и, естественно, через семь месяцев после своей смерти не мог ответить на этот вопрос.)
1 ноября 1923 года в Бостонскую ассоциацию адвокатов пришло письмо. На конверте стояла надпись: «Дело Сакко — Ванцетти». В письме некий датчанин Моллер, ожидавший депортации из США в Вашингтоне, сообщал, что, находясь недавно в тюрьме Атланты в заключении, он познакомился с гангстером из Провиденса Джо Морелли. В долгие тюремные вечера Морелли неоднократно рассказывал своему партнеру по камере Эмилю Моллеру о «делах» его шайки. Моллер, частенько писавший по просьбе Морелли различные апелляции и ходатайства в судебные инстанции, настолько расположил к себе гангстера, что тот, правда, не забыв взять клятву о молчании, рассказал ему историю ограбления кассира в Саут-Брейнтри.
В кратком изложении Моллера история выглядела так.
Перед рассветом гангстеры во главе с Джо Морелли собрались в салуне в Провиденсе. В Саут-Брейнтри приехали на «Гудзоне». На Пирл-стрит, вблизи фабрики, уже после «работы», их принял заранее ожидавший украденный «бьюик». На нем доехали до леса, где их уже ждал «гудзон». Там случилось непредвиденное: «гудзон» забуксовал, и они чудом выбрались из леса. (Когда был обнаружен гангстерский «бьюик», рядом с ним действительно заметили следы другого автомобиля.)
Бостонские адвокаты не придали значения этой версии. Однако 18 ноября 1925 года Сакко получил в своей камере какой-то журнал. В нем он нашел следующую записку:
«Настоящим признаюсь в участии в преступлении в Саут-Брейнтри, и Сакко и Ванцетти в вышеназванном преступлении не были.
Селестино Мадейрос».Гангстер Селестино Мадейрос, португалец, находился в тюрьме Дэдхема одновременно с Сакко. Он был осужден за убийство, и его ждал смертный приговор. В то время он мог еще надеяться, что вместо смертного приговора за преднамеренное убийство он получит пожизненное заключение, так как помощник прокурора, который вел его дело, обещал ему это в случае чистосердечного признания. Мадейрос признался. Его соучастники получили пожизненное заключение. Мадейрос же был признан виновным в преднамеренном убийстве. Уверенный в том, что его дело будет пересмотрено, он подал кассационную жалобу. В это же время, находясь в тюрьме в Дэдхеме, он познакомился с Сакко, познакомился настолько, насколько позволял режим изоляции.
Сакко немедленно вызвал Томпсона, и вскоре все трое встретились в приемной Дэдхемской тюрьмы. Португалец согласился рассказать о своем участии в нападении на кассира фабрики «Слэтер и Моррилл». В его изложении события развивались следующим образом.
В четыре часа утра четверо итальянцев заехали за ним в отель «Закс» в Провиденсе (Род-Айленд). Приехали они на пятиместном прогулочном «Гудзоне». В лесу, возле Рэндолфа (штат Массачусетс), их встретил другой итальянец с «бьюиком». Пересев в «бьюик», они приехали в Южный Бостон, остановились в салуне на Эндрюс-сквер. Оттуда отправились в Саут-Брейнтри, где были к полудню. Остаток времени до намеченного часа провели в забегаловке в нескольких милях от фабрики. Во время нападения Мадейрос, по его словам, сидел в «бьюике» с кольтом тридцать восьмого калибра в руках. Он много выпил с утра, его трясло от страха.
— Те четверо, — рассказывал Мадейрос, — уговорили меня пойти с ними на это дело несколькими днями раньше. Это было в Провиденсе, в салуне. Говорили они как профессионалы, хвалились, что такого рода работа для них пустяк. Я знал, чем они обычно занимаются, — грабят вагоны и грузовики с товарами. Они немало поорудовали в Провиденсе. Вы понимаете, что я не могу назвать их имен, — такие вещи в нашем мире не прощают… Двое из них были лет двадцати — двадцати пяти, один лет сорока, четвертый лет тридцати пяти. Все были в тот день в Саут-Брейнтри в кепках. Не помню, были ли они бритые, — я пил с самого утра. Стреляли те двое, что были старшими. Двое из них жили на Норт-Мэйн-стрит в Провиденсе. Я знаю их фамилии — назвать не могу: вы должны меня понять.
Признание Мадейроса нуждалось в серьезном подтверждении, Нужен был умелый следователь, который проверил бы показания. И такой человек вскоре был найден. Герберт Эрманн, так звали этого человека, принялся за свое расследование 22 мая 1926 года.
Прежде всего Эрманн установил, что в апреле 1920 года Мадейрос находился в Новой Англии. К моменту ареста в июне того года у Мадейроса не было денег. Однако, выйдя из исправительного учреждения через шесть месяцев, он сразу получил из неизвестного источника солидную сумму, которая, как обнаружил Эрманн, почти точно соответствовала одной пятой части денег, похищенных грабителями в Саут-Брейнтри, Эрманн почувствовал, что находится на правильном пути. И тогда он решил разузнать, существовала ли в Провиденсе банда гангстеров, занимавшаяся грабежом товарных вагонов и грузовиков.
Старший инспектор полиции Провиденса Генри Коннорс буквально оглушил Эрманна: 18 октября 1919 года полиция арестовала банду гангстеров итальянцев американского происхождения, известных под именем Морелли, именно по такому обвинению! До середины мая 1920 года Джо, Фрэд и Паскуале Морелли находились на свободе. Их выпустили под залог до суда.
Возвращаясь в Бостон, взволнованный Эрманн рассуждал так: если банда Морелли причастна к ограблению в Саут-Брейнтри, то либо кто-то из ее членов, либо их наводчик должен был побывать в городе, выяснить время и день платежей. Вскоре ему удалось установить, что, когда велось следствие по делу банды Морелли, Джо Морелли в сопровождении дорожного детектива Роберта Карнса объезжал Род-Айленд и Массачусетс и указывал места, где банда обнаруживала, откуда производились отправки больших партий товара. Выяснилось также, что в одном из сообщений Карнса упоминалась фабрика «Райс и Хатчинсон» — в шестидесяти метрах от здания фабрики «Слэтер и Моррилл» в Саут-Брейнтри на Пирл-стрит! А в обвинительном заключении по делу банды Морелли числились и товары с этой фабрики.
Томпсон немедленно начал подготовку новых дополнительных показаний по делу Ванцетти и Сакко. И здесь выяснилась поистине поразительная вещь: любое утверждение защиты встречало немедленные контрутверждения обвинения, полученные от тех же свидетелей. И каждый раз Томпсон узнавал, что после того, как его помощники посещали тех или иных свидетелей, к ним немедленно наведывались представители властей и заставляли (иногда путем прямых угроз и шантажа) отказываться от своих же, данных под присягой свидетельств. Необходимо учесть, что обвинение представляло официальные власти штата Массачусетс, и помощникам прокурора штата или его округов не так уж сложно было объяснить свидетелям, в большинстве своем людям с темным прошлым, что полиция может снова заинтересоваться ими. А свидетелю Джимми Виксу, заключенному Чарльзтаунской тюрьмы, который подтвердил показания Мадейроса, рассказав, что тот неоднократно хвастался своим участием в деле в Саут-Брейнтри вместе с братьями Морелли, помощник районного прокурора Дадли Ранни просто пригрозил расправой…
Эрманн тем временем продолжал свои расследования в Провиденсе. Сержант Джэкобс из местной полиции, который в двадцатом году наблюдал за братьями Морелли, нашел в своей записной книжке того времени запись, в которой говорилось, что за несколько дней до 15 апреля 1920 года он видел одного из Морелли в новом черном прогулочном «бьюике». Зная наклонности этого человека, Джэкобс заподозрил, что машина краденая.
— Во время происшествия в Саут-Брейнтри мы подозревали Морелли, особенно в связи с тем «бьюиком»… Однако вскоре были арестованы Ванцетти и Сакко, а у нас твердых улик не было, и мы бросили это дело.
Постепенно Эрманн почти полностью восстановил картину преступления. Он определил всех его участников. Главарь — старший из банды — был Джо Морелли, гангстер, способный тщательно спланировать сложную операцию. Майк Морелли, нерешительный и неспособный к серьезной «работе», вероятно, стерег второй автомобиль. Тонни Манчини, постоянный сообщник братьев Морелли, хладнокровный убийца, по мнению Эрманна, был одним из двух стрелявших. Когда в 1921 году его арестовали за убийство, при нем был обнаружен автоматический пистолет «стар» с патронами тридцать второго калибра.[10] Таким образом, если бы удалось доказать, что именно Манчини стрелял в Берарделли, то дело можно было считать законченным, и невиновность Ванцетти и Сакко была бы доказана. Необходимо было немедленно допросить Джо Морелли и Тони Манчини.
Когда в приемную федеральной тюрьмы в Форт-Ливенуорте, в Канзасе, ввели Джо Морелли, Эрманн на мгновенье растерялся — этот человек удивительно напоминал ему Сакко. Такие же скулы, редеющие волосы, густые брови, нос такой же формы, как у Сакко, только чуть длиннее.
На все вопросы Эрманна Джо Морелли отвечал отрицательно.
Вернувшись в Бостон, Эрманн раздобыл в полиции фотографии Джо Морелли и показал их нескольким свидетелям. Мэри Сплейн уверенно заявила, что это Сакко. Многие ее поддержали.
Тогда Эрманн посетил Манчини в тюрьме Нью-Йорка. Однако и тот не стал подтверждать предположений Эрманна. И Манчини можно было понять — признание в убийстве Берарделли вело его прямо на электрический стул. А когда Эрманн заинтересовался пистолетом Манчини, то выяснилось, что он исчез из вещественных доказательств, хотя и значился находящимся в распоряжении суда и имел свой инвентарный номер. Так осталась непрочитанной еще одна неясная страница в истории уголовного мира, хотя многие признаки говорили за то, что именно здесь скрыта тайна происшествий в Саут-Брейнтри. Без содействия полиции штата было почти невозможно установить достоверно виновность банды Морелли, а о таком содействии и речи быть не могло — ведь в деле Сакко и Ванцетти обвинение представляло само Содружество Массачусетс!
В признании, сделанном Мадейросом, было две неясности: Мадейрос отказался подтвердить или опровергнуть, что в Саут-Брейнтри действовала банда Морелли, и не мог описать подробности ландшафта, ссылаясь на то, что был пьян. Исходя из этого, судья Тейер 23 октября 1926 года отверг апелляцию Томпсона, основанную на показаниях Мадейроса. Именно при рассмотрении этой апелляции и были оглашены защитой данные о сотрудничестве между обвинением и министерством юстиции с целью добиться обвинения Ванцетти и Сакко. Пытаясь скомпрометировать показания бостонских агентов министерства юстиции, помощник прокурора Дадли Ранни заявил: «Лезерман и Вейанд дали свои показания в пользу заключенных и выдали секреты своего министерства».
Все апелляции Томпсона в верховный суд штата оказались бесплодными. Апелляционная инстанция, ссылаясь на то, что Тейер при судопроизводстве руководствовался «принятыми в пределах штата нормами», не усмотрела в его действиях никаких нарушений законности.
Тем временем дело Ванцетти и Сакко давно уже вышло за пределы Массачусетса, за пределы Соединенных Штатов Америки.
С напряженным вниманием следили за судьбой своих зарубежных братьев по классу трудящиеся молодой Страны Советов. Газеты и радио рассказывали о перипетиях процесса, анализировали и разоблачали маневры реакции. 11 августа 1927 года «Правда» писала: «Провокационные бомбы подкладываются искусной рукой и взрываются или «обезвреживаются» невзорвавшимися. Эта кампания устрашения, рассчитанная на то, чтобы нагнать панику на обывателей и буржуазию, проводится систематически и с широким размахом. Американская буржуазия глуха, самоуверенна и, как пишет Ванцетти, твердо верит во всемогущество своего золота. Но грозный гул протестов доходит и до нее. И если она не сдается, то все же он заставляет ее настораживаться и маневрировать. В стране проходят массовые митинги протеста. Всему миру слышен голос советских людей, требующих: «Свободу Сакко и Ванцетти!»
25 декабря 1925 года в «Официальном бюллетене» Комитета защиты появилась статья Юджина Дэбса. В тюрьме Чарльзтауна Ванцетти закончил свои книжки «Подоплека суда в Плимуте» и «События и жертвы».
Активно включился в борьбу за жизнь Ванцетти и Сакко Коммунистический Интернационал. МОПР обратился с призывом к своим членам добиваться освобождения жертв произвола массачусетской юстиции. Движение протеста охватило весь мир. Американские посольства и консульства за границей почти ежедневно получали многочисленные письма протеста, петиции от участников митингов и демонстраций. С самого начала этого движения во главе его стояли коммунисты. «Только прямые революционные действия могут спасти итальянских свободолюбцев Сакко и — Ванцетти от смертной казни, к которой они приговорены», — указывалось в резолюции Центрального комитета действия французских коммунистов. Парижская «Юманите», боевой орган французского пролетариата, организовала сбор средств в фонд защиты Ванцетти и Сакко и призвала народ на демонстрацию к зданию американского посольства. И рабочий Париж вышел на гигантскую демонстрацию протеста. В рядах демонстрантов шли ветераны Парижской коммуны.
Такие же массовые демонстрации проходили в Женеве, Цюрихе и Базеле, Брюсселе и Мадриде, Лиссабоне и Стокгольме. Требования освободить Ванцетти и Сакко раздавались в Гааге, Варшаве, Копенгагене и Лондоне, в Центральной и Южной Африке, в мексиканской Гвадалахаре, в Гаване, в Рио-де-Жанейро.
Комитет защиты жертв фашизма и белого террора направил президенту США Кулиджу телеграмму из Парижа за подписями Анри Барбюса, Ромена Роллана и Альберта Эйнштейна, требующую освобождения жертв массачусетского судебного произвола. Сорок восемь часов в знак протеста против осуждения Ванцетти и Сакко бастовали рабочие и служащие Буэнос-Айреса…
Неотвратимо приближался день вынесения приговора…
ПРИГОВОР
9 апреля 1927 года, холодным, серым, сырым утром Ванцетти разбудили в пять часов. Обычный завтрак Чарльзтаунской тюрьмы: две сосиски, жаренная на соевом масле картошка, кружка кофе. После завтрака в ротонде старой крепости Ванцетти выкурил трубку, ожидая машину в Дэдхем. Там, в библиотеке тюрьмы, он встретился с Сакко. Они крепко обнялись.
Их окружили полисмены с ружьями…
В здание дэдхемского суда впускали строго по специальным пропускам.
Около десяти часов у здания суда остановился автобус. Из него под конвоем вышли Ванцетти и Сакко, скованные наручниками. На несколько минут они задержались на ступенях, ведущих к подъезду суда. Потом их провели через железные ворота наверх, к подъезду, а затем по коридорам в зал суда, в ту же самую клетку, из которой шесть лет назад раздался возглас Сакко: «Я невиновен!»
В зале стояла тишина. Как писал на другой день один американский репортер, ему казалось, что все присутствовавшие сдерживали дыхание. Ровно в десять, едва на колокольне Первой церкви на Черри-стрит пробили часы, в зале суда появился Тейер.
В сопровождении детектива, сгорбленный, с еще более постаревшим лицом, предшествуемый традиционным окликом судебного клерка, Уэбстер Тейер пробрался на свое место, расправил свою черную мантию неуверенными, старческими движениями. Он упорно избегал смотреть в сторону людей, сидевших в десятке метров от него за решеткой словно боялся их. И он действительно их боялся, потому что за те шесть лет, что прошли с его последней встречи с ними здесь, в этом же зале, из грозного вершителя правосудия Уэбстер Тейер, честолюбивый пасынок судьбы, превратился в обвиняемого, а они, там, за решеткой, стали его обвинителями, его судьями. Может быть, впервые Уэбстер Тейер чувствовал себя неуютно и одиноко в этом неприветливом ныне зале суда, где неоднократно раздавался стук его судейского молотка, звуки его скрипучего голоса. Тейер вглядывался в зал, пытался сосредоточиться, но все плыло перед его затуманенным взором. И только голос районного прокурора, невнятно потребовавший вынесения приговора, заставил его вздрогнуть. А судебный клерк уже выкрикнул:
— Никола Сакко, имеете ли вы что-либо сказать, почему смертный приговор не должен быть вам вынесен?
Сакко медленно встал. Посмотрел на сгорбившегося за длинным столом судью. Медленно начал:
— Да, сэр. Я не оратор. Я не очень в ладах с английским языком, и, как я знаю, мой товарищ, товарищ Ванцетти будет говорить следом за мной, и я должен дать ему эту возможность.
Клочок бумаги дрожал в его руке. Слегка постукивая свободной рукой по ограждению, словно подчеркивая ритм своей речи, Сакко продолжал, справившись с первоначальным волнением:
— Я никогда не знал, никогда не слышал, даже не читал, чтобы в истории было что-либо столь жестокое, как этот суд. После семи лет нас все еще считают виновными… Я знаю, что приговор будет между двумя классами — между классом угнетенных и классом богачей; столкновение этих классов неизбежно. Мы братаем людей с помощью книг, литературы. Вы — преследуете людей, тираните и убиваете их. Вы стремитесь раздуть национальную рознь. Поэтому я здесь сегодня, на этой скамье, потому что я из класса угнетенных. А вы угнетатели.
Сакко говорил. Он говорил не очень складно, потому что английские фразы, в которые он облекал свои мысли, не всегда выражали то, о чем он хотел сказать на своем родном языке. Однако зал слушал, слушал напряженно, и в каждом слове, звучавшем со скамьи подсудимых, кричало, рвалось наружу, из этой клетки, рвалось вон из этого затхлого судебного зала с его фальшивыми атрибутами «свободы и справедливости для всех» грозное, суровое обвинение…
Он говорил не больше пяти минут. Его последние слова были обращены к залу, хотя касались непосредственно Тейера:
— Как я уже говорил, судья Тейер знает всю мою жизнь, и он знает: я никогда не был виновен — ни вчера, ни сегодня — никогда.
Сакко сел. Легкое покашливание и осторожное шарканье пронеслось из конца в конец зала, и снова все стихло. А за решеткой уже поднялся со своего места Ванцетти. Он выглядел спокойным, почти веселым. В руке он держал листок бумаги с карандашными пометками.
— Да, — начал он мягко. — Что я хочу сказать, так это то, что я невиновен не только по делу в Брейнтри, но и по делу в Бриджуотере. За всю свою жизнь я никогда не крал, никогда не убивал и не проливал чужой крови. Вот что я хочу сказать. И это не все… Всю свою жизнь я боролся, чтобы искоренить преступления… Все, кто знает вот эти две руки, знают отлично, что мне никогда не нужно было выходить на улицу и убивать, чтобы получить деньги. Я могу сам, своими руками заработать себе на жизнь…
Со своего возвышения Тейер, наконец, посмотрел на говорившего, посмотрел слепым, безучастным взглядом, словно в собственную, любовно вырытую и давно изученную могилу. Он вспоминал свою фразу, сказанную им в наказе присяжным тогда, семь лет назад: «Убеждения обвиняемых преступны», и хотя он сам старательно вычеркнул ее из протокола, она снова и снова возвращалась к нему сейчас, когда он, стараясь казаться равнодушным, а на самом деле со страхом и напряженным вниманием слушал тяжелые, как удары профессионального боксера, слова Ванцетти:
— Мы знаем, что вы высказывали своим друзьям свою враждебность к нам, свое презрение к нам… Я уверен, что если бы люди, знающие все, что вы говорили о нас, обладали гражданским мужеством появиться в качестве свидетелей, может быть, ваша честь, — мне стыдно говорить это, потому что вы старый человек, а у меня у самого отец старик, — но, может быть, вам пришлось бы быть справедливым…
Он говорил об озлобленности Тейера против Мура, о практическом предательстве своего первого адвоката — Вахи.
— …Я уверен, что и вы, и мистер Кацман сделали все, что было в вашей власти, для того, чтобы еще больше возбудить пристрастность присяжных, их предубеждение против нас…
Я страдаю за то, что я радикал, и я действительно радикал; я страдаю за то, что я итальянец, и я действительно итальянец… Но я верю, что даже если бы вы могли казнить меня дважды и если бы я еще дважды мог родиться, я снова посвятил бы свою жизнь тому делу, за которое я ее сейчас отдаю.
Я закончил. Благодарю вас.
Он стоял за решеткой, слегка сгорбленный, бледный, с горящими глазами, удивительно живыми глазами мыслителя.
Тишину прорезал монотонный голос Тейера:
— Сначала суд объявляет приговор Никола Сакко. Решено и повелено судом, что вы, Никола Сакко, понесете наказание смертью путем пропускания электрического тока через ваше тело, в неделю, начинающуюся от воскресенья десятого дня июля, в лето нашего бога одна тысяча девятьсот двадцать седьмое.
— Решено и повелено судом, что вы, Бартоломео Ванцетти, понесете наказание смертью…
И снова из клетки со скамьи подсудимых раздался окрик Сакко:
— Вы знаете, что я невиновен! — Он указывает вытянутой рукой в сторону судьи Тейера. — Эти же слова я произнес семь лет назад! Вы приговорили двух невинных людей!
И когда на Ванцетти и Сакко вновь надели наручники и их друзья, столпившись у решетки, провожали приговоренных, Ванцетти, гордо вскинув голову, сказал им:
— Не падайте духом!
* * *
Их казнили 23 августа 1927 года в Чарльзтаунской тюрьме, в бывшей крепости северян, сражавшихся за американскую демократию.
* * *
Из письма Ванцетти Уильяму Томпсону:
«Я отдал бы половину своей крови за то, чтобы мне позволили говорить снова. Я много говорил о себе, но забыл даже назвать Сакко… Сакко — это сердце, вера, характер, человек, любящий естество, человечество. Человек, отдавший все, пожертвовавший всем для дела Свободы, во имя своей любви к человечеству… Имя Сакко будет жить в сердцах людей и в их благодарной памяти, когда кости Кацмана, его имя исчезнут во времени… когда ваши законы, институты и ваш фальшивый бог станут не более чем призрачным напоминанием проклятого прошлого, в котором человек был волком для другого человека».
(9 апреля 1927 года, одиночная камера Дэдхемской тюрьмы.)Из письма Сакко его сыну — Данте Сакко:
«…Помогай слабым, взывающим о помощи, помогай преследуемым и жертвам, потому что они твои лучшие друзья; это те товарищи, которые борются и гибнут, как твой отец и Бартоло боролись и погибли вчера за торжество радости свободы для всех рабочих…»
(Одиночная камера в отделении смертников Чарльзтаунекой тюрьмы, 23 августа 1927 года)Из письма Ванцетти к Данте Сакко:
«…Наступит день, и ты поймешь, о чем я пишу тебе, твой отец пожертвовал всем дорогим для него… во имя борьбы за свободу и справедливость для всех. И в этот день ты будешь гордиться своим отцом; и если ты вырастешь достаточно смелым, ты займешь его место в борьбе между тиранией и свободой, и ты реабилитируешь наши имена, отомстишь за нашу кровь».
(Одиночная камера в отделении смертников Чарльзтаунской тюрьмы, 23 августа 1927 года)Октав БЕЛЬЯР ВЕСТНИК ИЗ ГЛУБИНЫ ВРЕМЕН
Автор публикуемого рассказа — французский писатель Октав Бельяр был в свое время довольно известен. В 1909 году он выпустил книгу фантастических новелл «Рассказы болтливого доктора», куда и вошел «Вестник из глубины времен», появившийся в 1910 году на русском языке в журнале «Мир приключений».
С тех пор как Герберт Уэллс написал свой роман «Машина времени», путешествия в прошлое и будущее заполнили мировую фантастику. Особенно посчастливилось так называемым хроноклазмам (нарушения, связанные с перемещением во времени), благодаря которым путешественники в прошлое могут «подменять» известных исторических личностей, «организовывать» известные события, «улучшить» или «ухудшить» историю. Но в начале века, когда был опубликован рассказ О. Бельяра, рационалистическое истолкование мифологических сюжетов средствами научной фантастики было такой же ошеломительной находкой, как и неожиданные возможности, открытые «Машиной времени» Уэллса. И недаром этот роман служит О. Бельяру как бы трамплином для развития действия. Отталкиваясь от гениальной выдумки английского романиста (гениальной называет ее сам О. Бельяр), он идет дальше, перенося героя в определенную историческую эпоху и едва ли не первым в фантастической литературе использует хроноклазм.
Вполне понятно, почему «Вестник из глубины времен» еще в детстве произвел такое впечатление на известного советского писателя Юрия Олешу, что запомнился ему на всю жизнь. Впоследствии заметки об этом рассказе вошли в его книгу «Ни дня без строчки», правда, без имени автора и названия произведения.
Развивая тему Уэллса, Октав Бельяр опередил свое время. Вот почему «Вестник из глубины времен» в наши дни не кажется архаичным, хотя и не может произвести особенно сильного впечатления на фоне современной фантастики. В нем есть еще и то главное, что подметил здесь Юрий Олеша: драматизм ситуации и неподдельная человечность. Заметка Ю. Олеши и привела меня к поискам забытого рассказа, который публикуется сегодня в исправленном и заново отредактированном переводе.
ЕВГ. БРАНДИСРисунки К. ЭДЕЛЬШТЕЙНА
I
Жил я тогда в Риме, посвятив свой досуг изучению этого города пап и цезарей, неустанно роясь в пыли воспоминаний, покрывающей вековыми слоями этот прославленный уголок земли. Суровая красота республиканского Рима, пурпурная пышность Рима императоров, непостижимое искусство Микеланджело и Рафаэля что ни день возбуждали во мне новый энтузиазм. Я дошел до того, что не мог уже представить, как можно жить с иными ощущениями в стране, где двадцатый век тщетно пытается заслонить от нас великое прошлое.
Единственно, что заставляло меня возвращаться к действительности, были новые издания, которые я ежемесячно получал от моего парижского книгопродавца.
Охотнее всего я выбирал для чтения какую-нибудь тенистую аллею Пинчио, а особено Палатин, этот Roma quadrata первых цезарей, увенчанный руинами императорских дворцов. Я располагался там в уединении среди кипарисов и красных роз, наполняющих благоуханием сады Фарнезе.
Вскоре я заметил, что, кроме меня, еще один человек постоянно посещает те же места. Это был старик с лицом ученого, который ежедневно поднимался на холм, тяжело опираясь на палку, и просиживал часами на одной из разбитых колонн, оставшихся от терм Ливии. Встречаясь почти каждый день, мы стали обмениваться поклонами.
Грустный вид моего компаньона, горькая улыбка на его губах, странная неподвижность взгляда выдавали затаенное горе.
Без сомнения, не любовь к древностям и не поиски эстетических наслаждений приводили его к этим руинам. Тело и душа его были одинаково надломлены. Он сам казался развалиной, которую по закону избирательного сродства притягивают к себе развалины. Обычно он оставался там до самого вечера, машинально играя своей палкой.
Заинтересовавшись этим стариком, я воспользовался первым удобным случаем завязать с ним знакомство. Не скажу, чтобы наши разговоры были очень оживленны. Синьор Баццоли, так звали старика, не отличался многословием; он никогда не говорил о себе; и если разговор все же поддерживался, то исключительно благодаря моей юношеской восторженности. Однако по некоторым замечаниям, выдававшим необыкновенную эрудицию, я разгадал в нем человека большого ума.
II
В то утро только я успел пожать ему руку, как был озадачен его странным поступком: Баццоли грубо и резко вырвал у меня книгу, заглавие которой бросилось ему в глаза, и потом лишь спросил, охваченный непонятным волнением:
— Вы дадите мне ее прочесть?
Это был роман Герберта Уэллса «Машина времени».
Я взглянул на Баццоли. От лица его отхлынула кровь, пальцы дрожали.
— Охотно, — ответил я.
Присев на колонну, он с жадностью перелистал несколько десятков страниц. Затем его любопытство стало заметно угасать.
— Да, — сказал он необычным голосом, возвращая мне книгу. — Это чистая фантазия. Но все-таки какое совпадение!..
И он задумался, склонив седую голову на руки. Можно было предположить, что чтение растревожило старую рану, пробудило печальные воспоминания… Я сам только что успел прочитать этот фантастический роман с научной подоплекой и не нашел в нем ничего волнующего. Точно так же я не видел причин для волнения синьора Баццоли.
— Что с вами, сударь? — воскликнул я. — Скажите мне, что случилось? Хоть это и гениальная выдумка, но не могла же она вас так взбудоражить! Предположение, что время есть четвертое измерение пространства и что с помощью особой машины можно путешествовать по времени: присутствовать, например, при крещении Хлодвига или при последних часах нашей планеты, — это фантазия, и только…
Видно было, что старик колеблется. Затем под влиянием охвативших его чувств он решился, наконец, на откровенность.
— Воображение иногда дает возможность предсказывать, — сказал он. — Гипотеза Уэллса не фантазия, «Машина времени» была действительно построена.
— Что! Кем?
— Мной!
— Вами? Но это же абсурд… Простите меня! Выходит, что вы изобрели способ перемещаться во времени, как по обыкновенной дороге?
— Вам это кажется нелепостью, но это правда… к несчастью для меня. Вот уже сорок лет как машина изобретена.
Я с сожалением смотрел на своего собеседника.
— Нет, — резко сказал он, — я не сумасшедший, хотя тут и не трудно дойти до сумасшествия. Если в этом романе есть верная мысль, почему же вы находите странным, что я мог ее осуществить? А если это только сплошной абсурд, то почему же вы называете автора гениальным?
— Романист — фантазер, который вовсе не обязан держаться в границах возможного.
— И вы думаете, что мысль, постижимая для нашего разума, не может быть воплощена в жизнь? Нет, тысячу раз нет! Постигнуть идею — значит доказать, что она не абсурдна, а тем самым, что между идеей и ее осуществлением нет ничего, кроме практических затруднений. Эти затруднения мне были известны; и каковы бы они ни были, я справился с ними и достиг успеха… на свое несчастье! — горько прибавил старик, снова впадая в меланхолию.
Меня изумил его решительный тон. С кем же, наконец, я имел дело? На какое несчастье он намекал?
Спросить его об этом я не решился.
Но он сам, чувствуя себя связанным своей полуоткровенностью, пригласил меня к себе. Жил он в невзрачном доме в нескольких шагах от Форума. По знаку Баццоли я спустился за ним в глубокий сводчатый подвал, по-видимому, древней кладки, который он превратил в свою лабораторию. Об этом можно было судить по рядам полок, прогнувшихся под тяжестью книг, по всевозможным инструментам, сосудам и причудливым приборам, разбросанным в хаотическом беспорядке. Масса паутины, неприятный запах плесени позволили заключить, что уже много лет эта комната покинута и работы ученого прерваны.
— У меня такое чувство, будто я спустился в могилу! — пробормотал я.
— Это и есть могила, — медленно произнес старик. — Здесь два трупа…
Непроизвольно я отпрянул к двери, но Баццоли удержал меня.
— Два трупа, — повторил он. — Но так как все здесь необыкновенно, то и они невидимы. Вот! — И он показал мне пустое место посреди подвала. — Вот куда я поставил машину. Она, по всей вероятности, еще здесь. В этом пространстве, но не в нашем времени. А с нею и оба моих бедных мальчика…
Старик опустился на колени и поцеловал землю. В этой безмолвной скорби я угадывал ужасную драму.
— Если хотите посмотреть, вот чертеж моей проклятой машины, — сказал он, указывая пальцем.
Я увидел на стене рамку с каким-то сложным чертежом, в котором, однако, ничего не понял. Мне казалось, что я различаю нечто вроде кузова без колес, с неясными обводами, на каком-то странном, неопределенном основании.
— У меня было два сына-близнеца двенадцати лет… Мать умерла… Умерла от горя и тоски, потому что наука — безжалостная, безраздельная владычица — заставила меня забыть ради нее обо всем на свете, забыть обязанности, связанные с семьей. Все мои помыслы были сосредоточены на машине, которую я тогда изобретал, и ни для чего другого в голове моей места не оставалось. Никто не занимался воспитанием моих детей, которые в двенадцать лет едва умели читать и писать. Похоронив мою бедную жену, я жил один в глубине этого подвала, упорно работая над проблемой передвижения во времени. И вот, наконец, настал день, когда задача была решена. Этот горн, эти инструменты и препараты помогли мне построить орудие моей пытки; и, когда машина была кончена, я не мог на нее нарадоваться. Ах, молодой человек, бог не прощает тех, кто переделывает его законы! В исступлении я бегал по улицам города, чувствуя себя величайшим в мире гением, большим, нежели сам Цезарь или Христофор Колумб. Властелин времени, я изобрел вечность… Вечером, вернувшись домой, я вдруг открыл в своем сердце неведомый мне прежде уголок: отеческие чувства. Я спросил о детях.
Ответ служанки заставил меня содрогнуться: «Они спустились в лабораторию!»
Задыхаясь от ужаса, я опрометью сбежал по лестнице. Опьяненный своим грандиозным успехом, я оставил полуоткрытой эту дверь, которую всегда тщательно запирал. И когда я очутился в лаборатории, машины там не было…
«— А… дети?..
— Исчезли вместе с ней. Несомненно, они уселись на сиденье и неосторожным движением пустили в ход механизм!
Губы старика побелели, и я должен был поддержать его. Мысль о безумии подтверждалась. Очевидно, машина существовала только в воображении несчастного отца, рассудок которого был потрясен одновременной смертью детей, происшедшей неожиданно, но при естественных обстоятельствах. Мыслимо ли, чтоб здесь, в этом пустом пространстве, была какая-то повозка, способная путешествовать во времени?
— Я вижу, вы мне не верите, — продолжал Баццоли. — Повторяю: мои дети исчезли вместе с машиной. В этом подвале только один вход. Нет никакой возможности выйти отсюда другим путем. История исчезновения моих сыновей наделала много шума. Меня привыкли считать чудаком, занятым какими-то странными опытами. И так как я избегал общества, вокруг моего имени создавались легенды. Ничего нет удивительного, что молва осудила меня как убийцу своих детей, и я был арестован.
Мой необыкновенный процесс сделался сенсационным. Я плакал перед судьями, ничего от них не утаивая, но, конечно, мне не поверили. И так как не удавалось найти вещественных следов злодеяния, а мой фантастический рассказ, по мнению профанов, мог только подтвердить душевное расстройство, меня перевели из тюрьмы в дом умалишенных. Там мой рассудок подвергся жестокому испытанию; и если я его выдержал, то только благодаря моей энергии. Я знал, что смогу вернуться в свой дом, к невидимой могиле моих сыновей только одним способом — если притворюсь, что ничего не помню, если внушу моим тюремщикам, что избавился от навязчивых идей. Тогда меня признают здоровым и выпустят на свободу. Так и случилось. Меня вернули к моему уединенному очагу, где я и живу с тех пор в мире с мертвыми…
Этот рассказ — увы! — не рассеял моих сомнений. Передо мной был случай неизлечимого помешательства. Бороться с безумием? Убеждать душевнобольного? Это было выше моих сил. Я попытался лишь облегчить своим участием последние дни несчастного.
— Вам нельзя не верить, — сказал я. — Но откуда вы знаете, что ваши дети умерли?
— Жестокая шутка! Какая же иная участь ждала моих сыновей, унесенных машиной через века и тысячелетия?
— Будем рассуждать здраво. Двенадцатилетние мальчики нечаянно пустили машину в ход. Легко вообразить их ужас и удивление; они видели, как вокруг них все изменилось, стены рушились, поля и леса сменили крохотную четырехугольную лабораторию отца. Допустим, что они пронеслись таким образом через целые века. Но ведь они были далеко не младенцами, чтобы не попытаться искать средства спасения. Трогая то один, то другой рычаг, рано или поздно они должны были натолкнуться на тормоз. Машина остановилась — и теперь они, наверно, ждут в какой-нибудь неизвестной нам эпохе, и надо признать вполне возможным…
— Что я смогу присоединиться к ним?
— Безусловно! Ведь у вас сохранились чертежи!
— Вздорная мысль! Вы хотите, чтобы я по прошествии сорока лет искал своих сыновей, потерянных в пространстве, пусть даже и ограниченном пределами земного шара? Что же тогда говорить о неизмеримой бездне времени, которую надо было бы обыскать год за годом, день за днем, начиная от эпохи зарождения жизни и кончая ее гибелью? Нет, даже соглашаясь с вашими утешительными доводами, признавая даже, что оба юных путешественника во времени счастливо остановились в пути, не встретив какого-нибудь смертельного препятствия; предполагая затем, что их пощадили болезни, резкая перемена условий существования, к которым они не были приспособлены; допуская, наконец, что люди или хищные звери не помешали им вырасти и стать мужчинами, — все-таки они для меня навсегда потеряны!..
Баццоли снова упал на колени.
Есть нечто еще более ужасное, чем бред сумасшедшего, — это помешательство при полном сознании…
III
И все же, как мне показалось, я пробудил надежду в душе несчастного отца.
С этой мыслью я уехал из Рима во Францию, куда меня призывала моя семья.
Через несколько месяцев я снова был уже в Риме и первым своим долгом счел навестить Баццоли.
Я оставил его в таком состоянии, что приготовился к самому худшему. Но он был еще жив, что, впрочем, едва ли было лучше. Зимой он перенес тяжелую болезнь, едва не сведшую его в могилу. Не в силах подняться с постели, он велел перенести себя вместе со своим ложем в лабораторию, которую с тех пор не покидал.
— Вы понимаете, — сказал он, узнав меня, — я не хочу умереть, не увидев еще раз своих сыновей. Я буду ждать их до последней минуты. Но… они опаздывают…
Изможденный, с запавшими глазами, тяжелым и хриплым дыханием, он доживал, казалось, последние дни. Одна лишь безумная надежда поддерживала еще умирающего.
— Как ваши работы?
— Посмотрите, — ответил старик.
В центре подвала была установлена согнутая в виде подковы полоса из какого-то твердого сплава, соединенная проводами с целой системой катушек и магнитов. Считая своих сыновей заблудившимися во времени, он воображал, что изобрел средство остановить их на пути.
— Вы уверены, что вам это удастся?
— Опыт пока еще не подтвердил моих вычислений, но мне кажется, они безошибочны. Машина, двигаясь с умеренной скоростью по времени, должна, встретив препятствие, остановиться без резкого толчка, постепенно замедляя ход. Ведь мой аппарат вовсе не притягивает сразу, как вы могли предположить. Я сконструировал своего рода тормоз, являющийся источником ретропульсивной силы. Если машина войдет в сферу влияния аппарата, то при постепенном замедлении хода можно будет заметить путешественников за несколько мгновений до остановки…
С этими словами, закашлявшись, Баццоли упал на подушку. Припадок продолжался довольно долго; наконец дыхание восстановилось, но кашель довел его до полного изнеможения.
— Это безумие! — вскричал я. — Такому больному, как вы, нельзя оставаться в сыром подвале, без свежего воздуха.
— Да, я и сам чувствую, что убиваю себя, — пробормотал он. — Но мне необходимо быть здесь… на посту. Там, наверху, у меня не хватит выдержки. Ведь я увижу их, может быть, только одно мгновение… перед смертью.
— Вот что, — ответил я. — Мое пребывание в Риме ничем не ограничено, а ваша библиотека достаточно богата. Я готов остаться здесь сторожить вместо вас.
Я предложил эту жертву в минуту острого сострадания, и, прежде чем успел одуматься, старик с благодарностью схватил мою руку.
— Вы действительно готовы мне помочь?
Я кивнул головой. В конце концов мне придется подежурить всего несколько дней: смерть к нему приближалась…
Мы условились с Баццоли, что он перейдет в верхнюю комнату, а в мое распоряжение оставит лабораторию.
Я постарался устроиться как можно лучше. В библиотеке ученого оказалось много редких книг, которые хотя и пострадали от сырости, но не стали от этого менее интересными. Читал я с таким упоением, что испуганно вздрагивал, когда служанка Баццоли но приказанию своего хозяина раз десять на день стучалась в дверь, спрашивая, не произошло ли чего-нибудь и нет ли у меня новостей.
IV
Нет, ничего не происходило. И однако же одиночество, чтение старинных книг, безмолвие этого склепа, тени, которые отбрасывала лампа, во время моего ночного бодрствования, довели меня до того, что я стал поддаваться навязчивым идеям Баццоли. Я смотрел на странный аппарат и начал привыкать к мысли, что с минуты на минуту там действительно кто-нибудь покажется.
Однажды вечером, на десятый день моего добровольного заточения, я декламировал вслух стихи Данте:
Едва ко мне вернулся ясный разум, Который был не в силах устоять Пред горестным виденьем и рассказом, — Уже средь новых пыток я опять…[11]Читая стихи, я неотступно глядел на тревожившую мое воображение металлическую конструкцию, в которой ничего не мог усмотреть, кроме хаотического сцепления деталей. И вдруг… Я оторопел. И сейчас меня бросает в дрожь при одном воспоминании о пережитом. Я видел перед собой как бы бледную тень человеческой фигуры, призрачную и бестелесную. Я призвал на помощь все свое самообладание при виде этого призрака, вызванного страхом. Но, несмотря на все мои усилия, видение не исчезало. Оно делалось все определеннее и приняло наконец форму тела; я успел уже различить вооруженного воина в шлеме, как вдруг под сводами подвала раздался страшный удар, затем дикий крик, посыпались молнии, полетели осколки, один из которых ударил меня в грудь, а другой разбил и потушил лампу. Я очутился на полу, оглушенный, в непроглядной темноте склепа…
Несколько минут я не смел двинуться, дрожа от страха, покрываясь холодным потом.
Потом я прислушался. В тишине можно было явственно различить два дыхания — мое и чье-то другое, оба частые и прерывистые… Это могло свести с ума…
Толстые стены подземелья не доносили никаких звуков извне. Звать на помощь было бесполезно. Рассчитывать приходилось только на свои силы. Ничего не могло быть страшнее этой тишины и этой темноты. Наконец я решился: неуверенно протянув руку за спичками, нащупал коробок. Блеснул свет.
На каменном полу среди обломков лежал человек с закрытыми глазами, оглушенный взрывом; он был громадного роста, с грубым лицом и густой черной бородой. Очевидно, как это ни удивительно, передо мной был не кто иной, как один из сыновей Баццоли, возвратившийся из странствований во времени.
Это заключение придало мне мужества. Я осмелился зажечь свечу, утешаясь мыслью, что это такой же человек, как и я, и вдобавок человек страдающий. Когда я смочил ему виски мокрой салфеткой, он открыл глаза и произнес несколько слов на непонятном языке, в котором я уловил неопределенное сходство с итальянским.
— Кто вы? — спросил я, осмелев.
Он посмотрел на меня с удивлением. Потом повторил те же слова, недоверчиво озираясь по сторонам и с таким напряженным видом, будто мучительно старался что-то вспомнить.
— А! А!.. — сказал он вдруг, просветлев. — Roma… Roma… — Остальное нельзя было разобрать.
Что это — имя? Имя города или его собственное? Баццоли, насколько я помню, не называл мне имен своих сыновей. И тут меня осенило: ведь на полке в библиотеке я видел старые детские книги — грамматику и арифметику.
Я схватил одну из них. На заглавном листе было имя владельца, выведенное рукой, ребенка. Я громко произнес:
— Ромуальдо Баццоли!
Человек улыбнулся, кивнул головой, потом снова закрыл глаза.
Панцирь, сделанный из медных пластинок и ослабивший удар при падении, согнулся на груди воина. Кое-как я расшнуровал его, разрезав кожаные связки и ремни. Ромуальдо инстинктивно помогал мне. Освобожденное от панциря мускулистое тело гиганта казалось онемевшим, но никаких физических повреждений, кроме сильных ушибов, не было заметно. Я помог незнакомцу приподняться и с трудом дотащил его до постели.
Устав от напряжения, я не стал приводить в порядок лабораторию, усеянную битым стеклом и обломками изогнутого металла. Здесь лежала и разбитая «машина времени» — бесформенный, почти распавшийся остов какого-то странного подобия экипажа.
Факт был налицо — ошеломительный, вопреки всяким рассуждениям открывающий изумленному взору головокружительные перспективы… Человек сумел вырваться из своей эпохи! Теперь он сможет перенестись во мглу грядущего или в далекое прошлое, едва освещенное зыбким светом истории.
Из тьмы веков вернулся вестник, который приподнимет завесу, скрывающую от нас будущее и прошедшее. Потом другие, без сомнения, последуют его примеру и будут странствовать по неведомым путям времени! Отныне нет более ни прошлого, ни будущего. Похитив у бога Настоящее, человек сможет теперь перейти из времени в вечность!..
Так закончилась эта памятная ночь.
Беспредельные мечты уносили меня из подземной лаборатории в туманные дали Неизведанного. Задыхаясь под тесными сводами, я с облегчением увидел через замочную скважину розовеющую зарю нового дня как раз в ту минуту, когда угасла догоревшая свеча.
Следовало предупредить отца. Убедившись, что Ромуальдо все еще спит, я тихонько вышел, заперев за собой дверь на ключ, и поднялся в комнату Баццоли. При моем появлении он оторвал голову от подушек и стал засыпать меня вопросами:
— Есть что-нибудь новое?.. Говорите, говорите!.. Они здесь?..
— Нет, нет! Успокойтесь! Я вышел подышать свежим воздухом. Там можно задохнуться.
— Нет, нет! Вы меня не обманете. Ваш костюм в беспорядке, даже разорван… Скажите мне всю правду! Они там, я знаю это!.. Они там!.. Я хочу их видеть!..
— Когда вы немного успокоитесь, я скажу вам, что произошло. Но это не то, что вы ждете.
— Значит, они не вернулись?!
Обессиленный старик опустил голову.
— Нет, они не вернулись, — сказал я многозначительно, — но один человек все же явился.
— Явился? Человек?.. С машиной?..
— Да.
— Боже мой! Человек… их посланный?..
— Нет… Выслушайте меня… Вы ждете двух сыновей, не так ли? Ну вот. Один из них здесь… Ромуальдо!
Старик-ученый хотел что-то сказать, но от волнения потерял голос. Он говорил не словами, а глазами, устремляя лихорадочный взгляд то на меня, то на дверь комнаты. Я должен был повиноваться этому безмолвному приказанию.
Ромуальдо только что проснулся, когда я вошел в подвал. Все следы утомления исчезли. Увидев меня, он схватился за широкий короткий меч, приготовясь защищаться или нападать. Но потом, по-видимому вспомнив события прошедшей ночи, он пробормотал несколько слов на своем непонятном языке.
Мне все же удалось ему внушить, что сейчас он увидит своего отца. Под лохматыми нахмуренными бровями блеснули огоньки радости.
— Pater… Pater… — повторял он и послушно последовал за мной, держа, однако, наизготовке свой острый меч.
Когда мы вошли в комнату, Баццоли, старик, рыдая, протянул к нему руки. Все еще колеблясь и дичась, Ромуальдо смотрел то на своего отца, то на обстановку комнаты, которую, казалось, узнавал. Наконец он понял, что это не сон. Глаза его стали влажными, он бросился к изголовью кровати. Отец и сын крепко обнялись. Начавшийся разговор, если это можно назвать разговором, прерывался новыми объятиями.
Мало-помалу Ромуальдо стал вспоминать родной язык. Среди бессвязных фраз попадались итальянские слова, хотя и с глухими окончаниями и странными интонациями. Отец слушал его, почти не вникая в смысл, словно помолодев на десять лет.
Когда первая радость поутихла, Баццоли спросил:
— А твой брат?
Я видел, как великан содрогнулся, с непонятным смущением провел рукой по лбу, и его взгляд стал черным, как агат.
— Умер! — сказал он просто.
Прибытие Ромуальдо принесло отцу столько радости, что смерть второго сына показалась ему чем-то очень далеким, а может быть, горестное известие не дошло до сознания старика.
Он ответил молчанием на мрачное слово «умер».
V
Выполнив свою миссию, я вернул себе свободу, но любопытство мое не было удовлетворено. Мне хотелось, чтобы Ромуальдо рассказал о своих приключениях, и это удерживало меня в доме Баццоли. Ждать, однако, пришлось довольно долго, а попытки расспрашивать ни к чему не привели: Ромуальдо отвечал с трудом и неохотно. Вестник из глубины времен должен был освоиться с теперешней жизнью, уяснить себе ее смысл. Нужно было запастись терпением, пока мысли его не придут в порядок и сознание окончательно не прояснится.
Особенно его затруднял язык, на котором он не говорил около сорока лет. Он напоминал больного, охваченного длительной афазией[12] когда человек, выздоравливая, должен заново обучаться всему, что когда-то знал и умел.
Если бы в то время кто-нибудь со стороны взглянул на Ромуальдо, то счел бы его полнейшим кретином. Незнание самых элементарных вещей, детская наивность, неуклюжие жесты могли бы в этом только уверить.
Однажды я предложил ему прогуляться по Риму. Прохожие оборачивались на громадного детину, которому было явно не но себе в неудобном и тесном сюртуке. Он смотрел на людей глазами дикаря, нежданно-негадано очутившегося в большом городе. Нелепо размахивая руками, Ромуальдо не шел, а скорее бежал но улицам. Он останавливался перед древними памятниками и всему удивлялся, стараясь ориентироваться в непривычной обстановке. Он долго рассматривал Форум и, казалось, что-то припоминал. На лице его было написано, что он узнает знакомые места, сравнивая виденное прежде с тем, что видит сейчас.
Я мог приблизительно представить себе ход его мыслей.
«Итак, — размышлял он, — я нахожусь в незнакомой стране, и все же, как это ни невероятно, именно здесь я провел свою жизнь. Эти невысокие холмы и лежащие между ними долины хорошо мне знакомы. Если я спущусь по этой улице, то неизбежно выйду к реке…»
Он увлек меня к набережной Тибра, и лицо его озарилось улыбкой, когда он увидел желтые воды.
«Да, — продолжала работать его мысль, — это мой родной город. Я видел когда-то эти памятники, потом они исчезли, и вот они опять на тех же местах. Но я ведь знаю, что вернулся из путешествия во времени и не должен ничему удивляться. И все же магия моих впечатлений сильнее рассудка…»
В этот момент его слегка задел велосипедист. Испуганно вскрикнув, мой спутник бросился наутек. Едва-едва мне удалось его успокоить.
Вечером во время обеда в комнате больного Ромуальдо держался более уверенно. Прогулка по городу привела в порядок его мысли. Вот тогда-то он и заговорил. Обрывистыми фразами, пропуская забытые слова, он поведал нам необыкновенную историю, которую я постараюсь здесь воспроизвести в несколько исправленном виде.
— Трудно восстановить во всех подробностях историю моей беспокойной жизни, но при каких обстоятельствах я исчез отсюда сорок лет назад, я помню так ясно, словно это было вчера.
В тот злополучный день я гонялся за братом по всем комнатам нашего дома. Он был слабее меня. Устав от неотступного преследования, в поисках защиты он бросился в лабораторию, где обыкновенно работал отец. Там я его и настиг. Дверь была открыта, комната пуста. Проникнув туда впервые в жизни, мы с любопытством разглядывали таинственную комнату, где целыми днями пропадал отец. Об игре мы больше не думали.
Наше внимание привлекла машина, стоящая посреди комнаты. Сначала мы ходили вокруг да около, потом осмелели и попытались выяснить, что это за вещь. Непонятное сооружение чем-то напоминало карету. Во всяком случае, там было сиденье. Карета в запертой комнате не внушала никаких опасений. Соблазнившись этой новой игрушкой, мы забрались на сиденье и стали осторожно трогать разные рычажки, украшенные перламутровыми кнопками. Не устояв от соблазна, я повернул первую попавшуюся рукоятку. Машина тотчас вздрогнула. Я продолжал игру; брат смеялся…
Вдруг он с ужасом вскрикнул, протянул руки и прижался ко мне. Я выпустил рычажок и поднял удивленные глаза.
Мы были окутаны густым туманом, застилавшим все вокруг. Куда же делись стены лаборатории, библиотека, рабочий стол? Ничего, кроме серой мглы и сознания непоправимого несчастья…
Почувствовав себя виноватым, я был вне себя от отчаяния. Мы закрыли лицо руками и, рыдая, звали отца. Сейчас мы умрем — нам это было ясно — умрем из-за непослушания, оттого, что вошли в лабораторию, нарушив строжайший запрет!.. Так бывает в сказках, но это произошло в действительности. Мы прочли все молитвы, какие знали, но мрак не рассеивался.
Проходили часы, а может быть, только минуты. И вдруг стало светло как днем. Затем так же быстро опустилась ночь. Не успели мы вскрикнуть от изумления, как снова рассвело и опять стемнело. Свет и тьма беспрестанно чередовались; глаза не могли привыкнуть к этим сменяющимся впечатлениям, к этому беспрерывному мельканию дней и ночей. Мы могли лишь заметить, что уже не были в закрытом пространстве. Легкие наполнились прохладным воздухом, чувствовалось веяние ветерка. «Как же так получилось, — спрашивали мы себя, — как могли мы, не сходя с места, выйти из дому?»
Здесь, вспомнив недавно прочитанный роман Уэллса, я перебил рассказчика:
— Вы должны были видеть на небе большие, светлые полукруги.
— Да, мы их видели; и вызванное этим зрелищем любопытство приглушило страх. Мы поняли, что еще не умираем.
Но мы не знали, что это и почему за такие короткие промежутки времени воздух становился то теплым, то холодным. Брат сказал мне: «Довольно, Ромуальдо, довольно! Остановись! Я хочу вернуться домой!» Я и сам только о том и думал. Но как остановиться? Куда несли нас неведомые силы? Глаза наши ничего не различали, кроме туманных образов. Мы мчались куда-то, и ясно было одно: все эти странные явления были вызваны моим любопытством. Движение началось, когда я нажал рычажок. Вспомнив, какой именно, я повернул его снова. И тогда картина сразу изменилась. Не было больше чередования света и тьмы: все стало серым, непроницаемым, уже ничего нельзя было различить.
Мне опять стало страшно. Прямо передо мной находился циферблат с двумя стрелками, большой и маленькой, похожими на часовые. Только что я видел, как большая стрелка вращалась медленно; теперь она вращалась в том же направлении, но со страшной скоростью, как сумасшедшая. Можно было заметить и движение маленькой стрелки, которая раньше казалась неподвижной.
Заметив эти изменения, я еще раз повернул рукоятку. Тотчас же возникло непередаваемое в своем великолепии феерическое зрелище. Стремительная смена дней и ночей постепенно стала замедляться. Мой брат указал мне на Солнце, проходившее свой путь по горизонту при свете дня, и Луну со звездами, пробегавшими по своим траекториям, когда наступала ночь. Мы поняли тогда значение светящихся арок, которые наблюдали за несколько минут до этого: такое впечатление возникало при быстром движении небесных светил.
Здесь было над чем призадуматься! Что же могло так изменить весь мир? Дни и ночи, мелькавшие каждую секунду, сменялись теперь по минутам. И все из-за того, что я передвинул какой-то жалкий рычажок! Ничтожная причина — и какие грандиозные последствия!
Новое нажатие рычажка, и время, измеряемое прохождением Солнца по орбите, снова замедлилось! Одно из двух — либо я держал в руках талисман, способный изменять вселенную, либо машина в непостижимом движении опережала время. Задача была слишком трудной для наших детских умов!
Дальнейшие наблюдения связаны с замедлением скорости. Мы очутились в центре какого-то города, на площади, обсаженной деревьями. Но людей не было видно. Вернее сказать, мимо нас проносились прозрачные маленькие тени, проскальзывая с такой быстротой, что мы едва успевали заметить их в виде неясных исчезающих ленточек. Здания, поначалу казавшиеся старыми и вполне завершенными, спустя короткое время появлялись перед нами строящимися. Деревья, ветвистые и высокие, постепенно уменьшались, превращаясь в молодую поросль, и затем уходили в землю.
Брат заставил меня внимательно взглянуть на Солнце. Я привык видеть, как оно поднимается с левой стороны и заходит с правой. Теперь оно совершало свой путь в обратном направлении».
При этих словах Баццоли взволнованно приподнялся с подушек:
— Это вполне понятно, — сказал он, — вы шли навстречу времени: машина уносила вас в прошлое.
— Да, но я это сообразил потом. Тогда же это была одна из многих загадок, и я думал только о том, как бы остановить невольное путешествие.
Брат предположил, что, если повернуть рычаг до отказа, можно будет прекратить движение. Я последовал его совету, но доведенный до упора хрустальный рычажок треснул и остался у меня в руке. Скорость не замедлилась.
«Надо покончить с этим!» — простонал брат.
«Да, — согласился я, — «но как?»
Рядом со сломанным рычажком было несколько других, которые я еще не опробовал. Какие нас ожидали новые ужасы, какие катаклизмы, если бы мы опять ошиблись?
В отчаянии брат перевел одну из рукояток. Страшный толчок опрокинул нас друг на друга. Стрелки на циферблате замерли. Впервые с начала нашего путешествия мы увидели в просветах листвы неподвижную луну. Была ночь. Машина остановилась…
Можете представить себе, какой нас охватил страх. Затерянные в неведомых лесах, под ночным небом, дрожа от холода, трепеща, когда доносился малейший шум, превращавшийся в нашем воображении в рыканье хищных зверей, мы сидели на высоком дереве, спрятавшись среди ветвей. С наступлением утра наши страхи не развеялись: нас могли заметить и убить разбойники.
Первое, что пришло нам в голову, — укрыть от посторонних глаз эту загадочную машину, с которой, в случае опасности, мы инстинктивно связывали возможность спасения. Изрядно проголодавшись, мы поели немного диких фруктов с плодовых деревьев, которые тут росли в изобилии.
Первая половина дня не принесла ничего утешительного. Около полудня шум в ближайших кустарниках снова поверг нас в ужас. Показалось стадо коз во главе с бородатым пастухом, человеком огромного роста, покрытым козьей шкурой. Он смотрел на нас с удивлением. Мы бросились на землю, умоляя не причинять нам зла.
Но, без сомнения, он был настроен миролюбиво. Подоив одну из своих коз, пастух предложил нам деревянную чашку с молоком. Эта заботливость лишь удвоила наши слезы. Тогда он взял нас на руки и стал о чем-то расспрашивать, подчеркивая ласковыми интонациями свое доброжелательное отношение. Говорил он на незнакомом языке. Вечером пастух сделал нам знак следовать за ним в его хижину. Жил он со своей женой здесь же, в лесу, в нескольких шагах от того места, где мы с ним повстречались.
Это были бедные люди, для которых необыкновенное появление двух близнецов служило доказательством нашего божественного происхождения. Мы прожили с ними несколько месяцев, выучившись их языку и помогая по мере, сил заботиться о стаде. Мы могли бы и дальше вести простую, здоровую жизнь и чувствовать себя счастливыми, если б нас не преследовала тоска по дому.
Во всяком случае, мой брат не хотел примириться с несчастьем. Он несколько раз побуждал меня выйти из леса, чтобы осмотреть окрестности. Он был уверен, что родной дом находится где-то рядом — ведь наше странное путешествие продолжалось совсем недолго!
Но я был настроен менее оптимистично. Необычные приключения ошеломили меня. Конечно, я не подозревал, что мы скитались во времени. На смутную догадку меня навели дальнейшие рассуждения. Чередование феерических картин, которые мы наблюдали в машине, полнейшее неведение пастушеской четы о городе, который по приметам местности должен был находиться где-то близко, — все это заставляло размышлять.
Однажды, погнав стадо на водопой, мы решили совершить задуманное: оставить наших коз одних пастись у реки и углубиться в лес. Мы брели целый день и только к вечеру вышли на открытое место. То, что мы увидели, заставило нас содрогнуться: на поляне сражались две группы вооруженных людей и с такой яростью рубились мечами, что кровь лилась потоками.
Наше внезапное появление положило конец битве.
Дикие крики воинов мы восприняли как дурное предзнаменование. Солдаты окружили нас и стали совещаться. Несомненно, это приключение закончилось бы нашей гибелью, если бы в ту минуту не выскочил из леса, задыхаясь от бега, наш добрый пастух. Встревоженный нашим отсутствием, он бросился вслед за нами и прибежал как раз вовремя. Умоляюще протянув к солдатам руки, он отважился из любви к приемышам на смелую ложь.
«Великодушные воины, — сказал пастух, — остерегитесь поднять руку на законных наследников наших царей. Я, Фаустул, нашел их заблудившимися в лесу».
В эту минуту на опушке леса случайно показалась старая, беззубая волчица и тотчас же убежала, испугавшись шума. Солдаты замолчали и стали смущенно переглядываться.
«Какое странное предзнаменование!» — сказал один из них.
Фаустул воспользовался этим суеверным страхом, чтобы заставить их поверить в свою басню.
«Доблестные воины! — вскричал он. — Почтите священное животное Марса! Когда эти дети блуждали голые по лесу, волчица, которую вы видели, питала их своим молоком!»
После этих слов все, кто там был, упали перед нами ниц.
Ромуальдо сделал паузу. Я слушал его затаив дыхание. Легенда, знакомая мне чуть ли не с колыбели, показалась так удивительно похожей на только что услышанное, что я даже вскрикнул от удивления.
И тут же, сливаясь с моим возгласом, раздался другой болезненный крик. Старик Баццоли поднялся на кровати бледный, задыхающийся и, протягивая руку к сыну, прохрипел:
— Несчастный! Ты убил своего брата Рема!
VI
Грустно вспомнить, что смерть величайшего в мире гения была так же мрачна, как и вся его жизнь. Последний удар окончательно сразил его. Баццоли умер на другой день, не сделав ни одного упрека своему сыну — братоубийце. Мог ли он принять без содрогания Ромуальдо, зная, что тот убил Рема? Мог ли он отнестись с безразличием к преступлению сына, хоть оно и было совершено почти за три тысячи лет до нашего появления?
Да, Ромуальдо, исчезнув из своего времени, превратился в Ромула истории, а его отец Баццоли — ужасный, невероятный случай! — умер в двадцатом веке при известии об убийстве Рема.
Что же касается меня, то я не чувствовал никакой неприязни к «вестнику из глубины времен» скорее всего потому, что не мог совместить в своем сознании этих двух лиц — персонажа древней истории с моим современником. Ромуальдо, этот простодушный высоченный здоровяк, слишком не похож на первого римского царя, каким я его представляю!
Мое присутствие помогло ему освоиться в новой обстановке. Без меня он не преодолел бы тех бесчисленных затруднений, какие возникали перед ним на каждом шагу. И за то, что я так заботился о нем, он рассказал продолжение своей истории. Я убедился, что она полностью совпадает с рассказом Тита Ливия.[13] Но когда в соответствии с преданием я сообщил Ромуальдо подробности его исчезновения — легенда гласит, что Ромул исчез в блеске молний, взятый на небо богами, — он был немало удивлен.
— Дело обстояло куда проще, — сказал он, — вернее, все произошло более естественно. За несколько часов перед моим возвращением я председательствовал в большом собрании воинов на Марсовом поле. Уже давно глухая молва возбуждала народ против моего правления, которое считали жестоким. В этот день я понял по некоторым признакам, что моему могуществу приходит конец. Я царствовал слишком долго. Назревало восстание.
И вот небо осветилось молнией, грянул гром и остановил занесенные надо мною мечи. Толпа увидела в этом признаки гнева богов, а я, воспользовавшись замешательством, призвал к общей молитве.
Машину я оставил на том месте, где завершилось когда-то наше путешествие. Когда мы расчищали лес, чтобы строить город, я велел покрыть ее навесом. Нередко я уходил туда поразмыслить о своей странной судьбе. Воспоминания и осторожные опыты, наконец, убедили меня в том, что машина перемещалась во времени. Я робко переводил рычажки, двигаясь то в одном, то в другом направлении, не рискуя далеко забираться. Я заметил, что маленькая стрелка на циферблате замерла в момент остановки на двадцать шестом делении. Отсюда я заключил, что в моей власти вернуться к тому моменту, откуда началось путешествие, заставив стрелку пройти тот же путь в обратном направлении.
В этот роковой день, когда я чувствовал себя погибшим при виде возбужденной толпы, заполнявшей храмы, я, сделав вид, что хочу помолиться в одиночестве, вошел под укрытие, где находилась машина. Только я один имел право сюда заходить. Мне оставалось только вскочить на сиденье. Как раз в этот момент удар молнии испепелил крышу, под которой я скрывался. Отсюда, несомненно, и создалась легенда. Но я уже успел пустить в ход механизм, улетая от бури и от этого времени с немыслимой скоростью, которую замедлил лишь тогда, когда положение стрелки показало мне, что приближается момент отправления. Остальное вам известно: я чуть не разбился о неожиданное препятствие…
Как все это необычайно! Так немного времени прошло после этих последних событий! Еще так недавно я был царем Рима — Вечного города, построенного мною, Ромулом, как меня называл мой народ! Трудно вообразить, что тысячи лет отделяют нас от эпохи моего царствования… Вы, кажется, говорили, что Нума сделался моим преемником? Это просто невероятно! Я его хорошо знал, этого маленького льстеца: меч для его руки был слишком тяжел…
И он пробормотал несколько слов на непонятном мне языке, латинском языке первой эпохи существования Рима.
VII
Здесь заканчивается чудесная история человека двадцатого столетия, покинувшего на «машине времени» эпоху, в которой он жил, и очутившегося на лесистых берегах Тибра за семьсот лет до нашей эры. Совершив ряд подвигов, сохранившихся в преданиях, он исчез при блеске молний, чтобы вернуться в рутину современной жизни.
Я постоянно поддерживаю с Ромулом дружеские отношения. Это далеко не гений, каким был его отец. Он ничем не отличается от окружающих людей. Больше того, этот воин древних времен — добрый и мягкий человек, обыкновенный обыватель, неспособный обидеть мухи. Очевидно, нравы зависят от того времени, когда живешь.
Если вы его встретите в Риме, где он продолжает жить, не спрашивайте о его приключениях. Он вам не ответит, усвоив мудрую истину, что лучше молчать, чем говорить. Испытание, выпавшее на долю его отца, который когда-то угодил в сумасшедший дом, — достаточно веская причина, чтобы стараться вести себя вдвойне благоразумно.
Примечания
1
Главы из новой повести.
(обратно)2
Даго — презрительная кличка эмигрантов в США.
(обратно)3
Флипп — начальник секретной службы США, которого А. Палмер назначил директором Бюро расследований в 1919 году для «борьбы с красной опасностью».
(обратно)4
За несколько недель до приведения в исполнение приговора по делу Сакко и Ванцетти защита представит губернатору штата Массачусетс Фуллеру квитанцию транспортной компании, подтверждающую, что 23 декабря Ванцетти был доставлен бочонок угрей. Этот документ таинственным образом исчез из материалов, находившихся в распоряжении губернатора Фуллера, как и многие другие документы и письма протеста крупных общественных деятелей.
(обратно)5
Coraggiol — Мужайтесь! (итал.).
(обратно)6
Ван Амбург через год был уличен в подгонке результатов экспертизы под выводы обвинителя, представлявшего, как и в деле Ванцетти и Сакко, официальные власти. Его «труды» не остались незамечными — Ван Амбург вскоре был назначен руководителем баллистической лаборатории полиции штата Массачусетс.
(обратно)7
Вызывает удивление, что защита вновь сделала ошибку: она проглядела тот факт, что Ванцетти и Сакко не подлежали призыву и всю мексиканскую историю можно было не поднимать в суде.
(обратно)8
Юджин, Дебс (1855–1926) — видный деятель рабочего движения в США, один из основателей социалистической партии США и ИРМ. Во время похода против «красных» был арестован палмеровской охранкой и приговорен к десяти годам тюрьмы.
(обратно)9
Sono innocente!.. — Я невиновен!.. (итал.).
(обратно)10
Эксперты защиты доказали, что, кроме американского кольта, пули, извлеченные из тела Берарделли, могли быть выстрелены из «баярда», «стар» и нескольких других пистолетов неамериканского производства.
(обратно)11
Данте, Ад, песнь шестая. Перевод М. Лозинского.
(обратно)12
Афазия — полная или частичная утрата речи.
(обратно)13
Тит Ливий (59 год до н. э. — 17 год и э.) — римский историк, автор труда «Римская история от основания города» в 142 книгах.
(обратно)


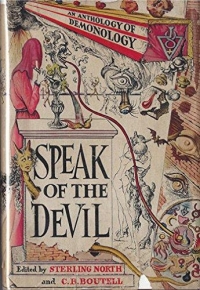
Комментарии к книге «Искатель, 1970 № 05», Автор неизвестен
Всего 0 комментариев