Искатель № 5 1988
Владимир Сухомлинов ВСЕГО ОДНА ТРОПА… Повесть
Николаю Афанасьевичу Толстику и другим, чьи юность и первая любовь остались там, в партизанских лесах…
Он сидел на пожухшей траве под сосной, спрятав руки поглубже в карманы ватника. Осень наступала сырая, промозглая. Хотелось в натопленную хату, согреться, выпить чаю на мяте и почитать любимую книгу о красных конниках. Или об испанском рыцаре и его лукавом оруженосце, о датском принце или об одиночестве Печорина.
Хотелось, чтобы украдкой вошла мама и, обняв его за плечи, тихо шепнула:
— Сынку, скоро уж петухам кричать. Ложись, сынку!
— Ничего, мама не волнуйтесь. Я ещё почитаю. Спите себе спокойно…
Вздохнув, она бы ушла так же неслышно, чтобы не разбудить других детей. Ни одна половица не скрипнула бы. Каждую чуют её ноги…
Антон поднял воротник, глубже закутался в ватник.
Впереди, на дальнем краю большой поляны, переходящей в болото, клубился предвечерний туман.
Летом здесь полным–полно ягод, а такого густого и мягкого мха не найти, пожалуй, нигде в округе. Со своими райкомовцами он не раз забредал сюда.
Это было совсем недавно. А сейчас?
Сейчас Антон Мороз не очень ясно представлял, как жить и действовать дальше, хотя, конечно, в глубине души всё ещё жила надежда на скорое возвращение командира. Не хотелось верить слухам о том, что где–то неподалёку от Медведовки трое неизвестных подорвали себя гранатами в короткой неравной стычке с немцами. Да, они втроём ушли в дальний рейд неделю назад — командир и два бойца. Но, может быть, на немецкую засаду нарвались не они?
Партизаны помрачнели, многие замкнулись. Это больше всего беспокоило Мороза.
Знаешь, братка, вспомнил Антон прощальные слова командира, в душе каждый затаил надежду, что война — это ненадолго, так, напасть, нарыв. Все надеются, что Красная Армия скоро отбросит немцев к границе, станет бить врага на его территории. Хорошо бы… Но, наверное, не завтра и не через месяц мы вернёмся в свои дома. И далеко не все. А потому береги людей и не лезь, не лезь на рожон… Это не паникёрство, братка, не смотри на меня так…
Слова запали в память — командир, бывший донбасский шахтёр, прошёл гражданскую и знал людей.
Сумерки сгущались. Антон поднялся и направился в сторону отрядной стоянки.
Приближаясь к лагерю, Антон решил заглянуть к Максиму Орешко. Вот уж кто никогда не унывает! Посидишь рядом, послушаешь его балагурство — глядишь, полегчает…
— О, комиссар. Явился не запылился! — по–свойски встретил Антона Максим, точно ожидал его прихода. — Садись, гостем будешь!
От работы, однако, Максим не отрывался. Он подбивал чьи–то сапоги.
Напротив Максима сидел сухощавый человек с лицом, густо заросшим щетиной. Он повернулся, и комиссар узнал Андрея Ходкевича — мужика смирного, неразговорчивого, работавшего до войны столяром.
— Ну что ты будешь делать, растуды ж твою растуды! — громко и весело выругался Максим. — Как специально лезут в болота и ломачину! Работу мне, гляди ты, подкидывают. А то других делов нету, растуды твою! Надо, комиссар, декрет на них, что ли, какой выпустить?! «Об отношении к сапогам и валенкам в условиях военного времени». А, комиссар? Скажи, идейное предложение?
Максим рассмеялся и стукнул Ходкевича по колену:
— Ладно, не журись, Андрейка! Справлю тебе сапоги! Будут, растуды твою, первый сорт, люкс с присыпкой!
Ходкевич только кхыкнул.
Антон, освоившись в полумраке, заметил в углу землянки на нарах отрядную медсестру и повариху Зосю Ярмолич. Она сидела, поджав под себя ноги, укрывшись широкой — видно, Максимовой — телогрейкой.
— Что это ты, Максим Платонович, при девчонке–то разошёлся? — осуждающе спросил Мороз.
— Девчонка! — хохотнул Максим. — Да она, поди, лучше нашего чешет! А, Зоська?
Девушка молчала.
— Молчанье — знак согласья, — со смешком проговорил Максим, подмигивая Антону. — А что это ты, комиссар, понурый такой? Думаешь, погиб Лучинец? Не–е… Не такой он человек. Там пройдёт, где никто не проходит. Из любого силка вырвется… Нет, не наши погибли, другие. Плётки, бабьи плётки![1]
Максим повертел в руках сапог.
— Во работа! — сказал с восхищением. — Носить не износить. Век меня, Андрей, помнить будешь… Да ты садись, комиссар. В ногах правды нету. Сейчас чаю сообразим. Это мы мигом! Как говорится, Фигар тут, Фигар там. Зоська, ну–ка, давай! — Орешко рассмеялся. — Другого зелья комиссар не признаёт.
Ходкевич, обув починенный сапог, прошёлся по землянке.
— Да, — кашлянул. — Да, можешь…
И снова сел на своё место. Антон устроился на невысокой чурке. Зося бесшумно шмыгнула из землянки — только дверь скрипнула, да холодком дохнуло.
— Пора за провизией по вёскам[2] пройтись, — сказал Мороз, — ещё два–три дня — и хоть кору вари…. Бульбы мешка три осталось… С Марфы, чёрт её дери, тётка Полина в день каких–то полведра нацеживает. Заодно, может, и о Лучинце что узнаем.
— Оно, конечно, так, — поддержал комиссара Максим. — Узнать надо. И с голодухи, конечно, не очень–то повоюешь. Пусть товарищи колхозные крестьяне пошарят по сусекам. Немцу–то небось подать сдают.
— Зачем брехать? Кто сдаёт, а кто и нет, — глухо проронил Ходкевич. — В Дерковичах вон две хаты с людьми сожгли. Это тебе не просто так…
— А сорок две остались. Знаю я это куркульё! Подкулачник на подкулачнике, — огрызнулся Орешко. — Жить всякому хочется!
— И тем, что живьём сгорели, тоже, хотелось. Что ж ты плетёшь? Да мы… за каждую хату спалённую отомстить должны! — Антон поднялся. — А куркульё не куркульё — кто считал? Старики там наши да матери, да дети…
— Ладно, Антон, чего ты? — примирительно произнёс Максим. — Ну сморозил дурноту. Так не со зла ж!
Антон махнул рукой:
— Тебе б только тары–бары…
Орешко вдруг снова рассмеялся:
— Ох, Антон, матереешь. На глазах матереешь! А я тебя всё за этого, как его, тимуровца держу… Помнишь, застукал вас?… Слышь, Андрей… Иду себе, значит, тихо, погодой дышу, а тут, гляжу, хлопцы с молотком у забора. Ну, думаю, растуды их, калитку заколачивает, чтоб, значит, над хозяином посмеяться. Наверное, думаю, соли он кому–то запустил в одно место, чтоб в сад за яблоками не лазили… Подобрался втихаря, как свистну — всех что ветром сдуло. Один Антон стоит как вкопанный, кулаки сжал — я тебе дам. Мы, говорит, звёзды красные вешаем на калитки геройских бойцов гражданской войны. До свята,[3] говорит, Октября. Да–а… И когда это было? Наверное, в тридцать пятом. Сколько тебе тогда, Антон, стукнуло?
— Пятнадцать.
— Ну вот… Я тебя на все двенадцать годков старше… А теперь нате вам — тары–бары.
В землянку вошла Зося.
— Чай поспел, — выдохнула как–то радостно. — Давайте кружки, пока не остыл…
В свете тускловатой керосиновой лампы было видно, как курится разливаемый в кружки кипяток. Запахло домом.
— Аромат–то какой! — восхитился Максим. — Подмешала небось что?
— Лист смородиновый. Мама так заваривала.
Чай пили молча, обжигаясь о края кружек. Ходкевич несколько раз как бы невзначай постукивал починенным сапогом о деревянный настил, но ничего не говорил. Антон украдкой поглядывал на Зосю, на её красивое, чуть цыганское лицо, на выбившуюся из–под платка прядь тёмных волос. Зося насторожилась, ниже опустив голову, и он понял, что девушка заметила его взгляд, и постарался больше не смотреть на неё.
— Красотища–красота! — Максим дружески толкнул плечом Ходкевича. — Сейчас бы бульбочки со свеженьким укропчиком да поросятинки. Ну и стакашик запотелый, а, Иваныч?
— Мели, Емеля… Тут хоть бы сала ковалочек, — буркнул Ходкевич.
— Ладно, братцы, — поднялся Антон. — Спасибо за чай. Теперь по постам пройдусь.
— Да посиди! Никуда не денутся посты эти! А Зоська нам, может, романсу какую споёт. Посиди! — не отпускал комиссара Максим. Зося, видно, хотела что–то сказать, но не решилась.
— Нет, Максим. Надо идти.
И он вышел, не дожидаясь, что ответит неугомонный Максим.
На воздухе, сразу после землянки — душноватой, пахнущей землёй и потом — было зябко. Беззвёздная ночь опустилась на лес, зыбкими белёсыми полосками светились только стволы редких берёз.
Комиссар уже успел изучить окрестности, мог едва ли не вслепую обойти все три поста, тем более что располагались они рядом друг с другом — с остальных сторон партизанскую стоянку окружали болота. Через топи к занятому врагом райцентру вела всего одна, мало кому известная тропа.
Антону почему–то припомнилась, как и раньше, там, у болота, книга о красных конниках, неизвестно когда и каким образом попавшая в их дом, книга без обложки, первых десяти страниц и оглавления. Он попытался объяснить себе, почему вспоминает о ней именно сегодня, но не нашёл ответа. В книге рассказывалось о таких же молодых людях, каким сейчас был он, и о войне, правда, о другой — далёкой, сабельной. Или всё это только казалось?
…Тук–тук, тук–тук… Скачут по выжженной степи конники. Будёновки, вылинявшие гимнастёрки, пятна пота на спинах. Жарко, сушь сковала губы, горячий ветер ерошит волосы. Маленький отряд скачет в город у моря — за доктором. В тихом сельце на руках у товарища оставили девушку с раной навылет. Вместе с ним она ходила в атаки и умирает рядом с тем, кого любит. Тук–тук, тук–тук, тук–тук… Скачут, скачут всадники…
Антон не заметил, как подошёл к первому посту.
— Стой! Кто идёт? Пароль?
— Неман! — машинально отозвался Мороз. — Как дела, товарищи?
— Да какие дела, комиссар? Дождь да стынь, стынь да дождь, — сказал один.
— Пришла осень — в хату просим, — заметил второй.
— Глядите, может, Лучинец заявится, — сказал комиссар. — А то плетут всякое. Чёрт–те что плетут.
Чуть помолчав, первый постовой спросил:
— А что, Москва держится? Слыхали, в кольце. И Сталин, говорят, уехал. Или это тоже из бабской почты?
— Держится! — уверенно сказал Мороз. — И нам велит не раскисать…
* * *
После проверки постов Антон пришёл в свою землянку, зажёг керосиновую лампу и сел за самодельный, чуть кособокий стол, который тётка Полина накрыла старенькой, но ещё крепкой льняной скатертью.
Вспоминая события минувшего дня, Антон всё больше убеждался: надо собирать отрядный сход, чтобы сказать людям правду обо всём.
Он встал и подошёл к нарам. Из–под подушки, сшитой из мешковины и набитой мягкой травой — снова забота всё той же тётки Полины, — достал общую тетрадь в коричневой обложке. Вот ценность так ценность!
Он усмехнулся. Поди расскажи кому, что неосознанно прихватил её с собой в лес. Тогда, вечером двадцать девятого июня, он жёг в райкомовском дворе документы. Подскочил кто–то из партийцев: «Уходи, Антон! Немцы на окраине. Уходи, в лесу встретимся!»
Плеснув напоследок в пламя костра полкружки керосина, Антон стремглав побежал в свой кабинет и вытащил из ящиков письменного стола райкомовскую печать, две чистых общих тетради и несколько карандашей. Сквозь распахнутые окна доносился гул танков…
Снова сев за стол, Антон раскрыл тетрадь на чистой странице, достал из кармана ватника карандаш, заточил перочинным ножом и вывел строчку: ТЕЗИСЫ К ВЫСТУПЛЕНИЮ НА СОБРАНИИ 28 ОКТЯБРЯ 1941 ГОДА.
Написав этот по–казённому звучащий заголовок, он отметил про себя: вот, чёрт его дери, в другой ситуации можно было бы подумать, что речь идёт о самом что ни есть обычном собрании в канун дня рождения комсомола. Не одно собрание посетил Антон за свою не столь уж длинную комсомольскую биографию, особенно после того, как минувшей весной его избрали первым секретарём райкома комсомола.
Он не любил выступать по бумажке, хотя один опытный обкомовский инструктор и говорил ему, что «первому лицу» нужно готовить к выступлениям хотя бы тезисы, чтоб не сморозить какой–нибудь ерунды. Антон так и не успел осознать себя «первым лицом» и продолжал шпарить с трибун и на встречах с комсомольцами то, что думал. Раза два его, правда, вызывали в обком и ругали за верхоглядство и заигрывание с массами, но в конце концов прощали. Прикрывал Антона и авторитет Лучинца.
Но завтра всё–таки не простой сход. Антон будет и за себя, и за командира. Конечно, у него и в мыслях не было сбиваться на длинную речь. Не до того — не то время, да и болтовня только раздражает и расхолаживает. Просто он решил в самом сжатом виде сформулировать на бумаге две–три главных мысли.
После раздумья Антон написал новую строку: ВРАГ БУДЕТ РАЗБИТ, ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ.
Есть ли что–то сильнее и значительнее этих слов? Они дошли сюда, в глухомань, в болотистый белорусский лес, из самой Москвы и тайно повторялись, твердились людьми, как клятва, как символ надежды и веры. С них и надо начать!
Но тут же Антон подумал, что слова эти уже произнесены, уже успели стать частью сознания людей, их потаённой, глубоко вовнутрь запрятанной струной. Имеет ли он право играть на ней, касаться того, что и так неслышимо звучит в каждом? Не принизит ли он тем самым смысл этих слов? Не сделает ли расхожим то, что принадлежит не ему, а всем?…
Антон вспомнил одну ночную беседу с Лучинцом. Думая о чём–то своём, тот сказал тогда с горечью: «Знаешь, Антон, если кто и погубит нас, так это попугаи. Твердят за кем–то правильные слова, не понимая ни смысла, ни ответственности. Трумботят, тужатся, надуваются, а народ всё это видит, перестаёт и другим доверять…»
Не выступит ли он в роли такого попугая?
Антон провёл несколько жирных линий по написанной строке и, подумав, вывел слова:
МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. ВСЕСОЮЗНАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА. МЕТРО.
Потом задумался и рядышком поставил:
ЛЮБОВЬ ОРЛОВА.
Ещё недавно, до 22 июня, слова эти произносили с нескрываемым восторгом (смотри ты, подземные дворцы и поезда бегают) и с радостным смехом (а Орлова–то плывёт, отфыркивается, глаза выпучила, умора и только! А этот, с бочкой: «Потому что без воды и не туды и не сюды»? С ума сойти можно!…).
Всё это происходило где–то очень далеко, за тридевять земель, на другом конце света. А сейчас Москва будто приблизилась.
Антон задумался, потом вывел в тетради одно короткое слово: СЛУХИ.
Толки о захвате Москвы, пересуды о командире… Хоть прямо не утверждалось, что Лучинец погиб, однако от землянки к землянке потянулась незримая паутина сомнений: после падения Москвы и гибели командира недолго протянет и отряд…
Он был удивительный, Василий Лукич! Антон постоянно что–то открывал в нём, порой неожиданное, пугающее.
Однажды поздно вечером, после возвращения Лучинца из областного центра, он позвал Антона к себе и с раздражением, не свойственным ему, и с какой–то болью спросил: «Ты знаешь, Антон, хромого Ивана с мельницы? Знаешь… Так вот донос на него поступил. Дескать, шпион… Ото ж таке!… Из самой, что ни есть бедноты, воевал у Пархоменко, трудяга, скромница, ну, затворник — так жену его с детьми беляки убили — и… шпион. Я сказал там, что билет партийный на стол выложу, а его в обиду не дам… Эх, господи–господи!… Неужели непонятно, что человеку полезнее верить, чем подозревать его в смертных грехах? Если подозревать, можно воспитать страх и на страхе столько наворочать, даже нужного. Но когда–нибудь страх уйдёт, и тогда может разрушиться всё. Перво–наперво вера. Доверять человеку трудно, брат, но полезнее…»
Боже, ну что за дело Лучинцу до какого–то хромого Ивана, подумал тогда в первую минуту Антон. Может, он и впрямь того. В тихом омуте черти водятся… Но потом, размышляя, решил: потому, видно, и уважают Лучинца люди, что в массе он умеет различить каждого.
И сейчас Антон не мог избавиться от подозрения, что кривотолки о гибели Лучинца могут быть и намеренным вражеским злоречием, подсказанным предателями, знающими цену его авторитету. Об этом тоже надо сказать завтра.
Есть и ещё одна штука, очень важная. Антон старательно, крупными буквами, стоящими словно бы поодиночке, вывел: ДИСЦИПЛИНА.
Конечно, лучше избежать общих слов и призывов соблюдать порядок. Не надо прикидываться, что уж ему–то всё хорошо известно. Как прокормиться, откуда брать патроны, взрывчатку, где обзавестись тёплой одеждой и валенками, как сохранить живой приболевшую корову Марфу? Нет, нужно говорить без утайки. Так, теперь, кажется, всё.
Неожиданно навалилась усталость, и вновь с острой тоской он почувствовал, как сильно не хватает ему Василия Лукича, его уверенности, спокойствия, размеренного, чуть глуховатого говорка с мягким «г». И тут Антон опять, точно наяву, увидел перед глазами выжженную солнцем степь.
Тук–тук, тук–тук… Подгоняя коней и ободряя друг друга криками, скачут красные всадники к городу у моря. Клубами взметается горячая пыль и медленно оседает. Заржав, одна лошадь вдруг падает на полном скаку, сбрасывает всадника. Не сразу осаждают разгорячённых коней его товарищи. Бьётся в агонии загнанная лошадь. Склонившись над ней, осиротевший боец утирает с лица пот.Антон проснулся от лёгкого прикосновения:
— Мама?
— Это, товарищ комиссар, я, Эрнст.
— Эрнст?… Почему? — Мороз различил возле себя щуплую фигуру подростка. — А я тебя послезавтра жду.
— Да вот, — виновато сказал мальчик.
— Садись–садись… С отцом что–нибудь?
— Да нет, служит фюреру.
— Лучинец?
— Нет, Антон Иванович. Ещё неясно. Одно удалось узнать. Двое были в ватниках, а один в красноармейской гимнастёрке. И будто бы все трое без документов… Немцы их где–то закопали — и всё… Отец ещё просил передать, что немцы захватили группу наших, пробивавшихся к линии фронта. Их заперли в бывшем продуктовом складе на улице Чкалова. Знаете, прямо у обрыва? Двенадцать человек. Продержат ещё, наверное, сутки. Может, попробуете освободить?… Склад ведь у реки, рядом лес… Вот и всё. Отец вам привет передаёт…
Мальчик шмыгнул носом, сказал с грустью:
— Тяжко ему, Антон Иванович. Ночью спит плохо, всё ворочается, крутится с боку на бок, а то и стонет… Мать вся высохла. Тихая–тихая стала… Люди–то глазами, что косой косят. Со мной никто знаться не хочет. Этим… гадёнышем называют… Я одному, Броньке–конопатому, знаете, не сдержался, в ухо заехал… Но я–то что — отца жалко.
Антон положил мальчишке руку на плечо.
— Терпеть надо, Эрнст. Нам — здесь, вам — там. Нам без вас гибель. Понимаешь?
— Понимаю, Антон Иванович. Только никогда не думал, что притворяться так трудно. Вы, может, смеяться будете, но я почему–то про артистов вспомнил. Ну и работа!
Мороз улыбнулся:
— Ну артисты это совсем другое дело. Снял грим, парик — и всё, свободен…
— Всё равно не по мне это — переделываться. Я думаю, после войны всё по–другому будет. Мы всех предателей и переделышей соберём, выселим куда–нибудь, а оставим только честных. Никогда больше обмана не будет и подлости.
— Только сначала победить надо. А как победить, если носом шмыгаешь?
— Да это я промок, пока добрался, — смущаясь, сказал Эрнст. — У чёрного распадка в болото влетел.
— Давай раздевайся, приляг, пока одёжка подсохнет.
— Нет, Антон Иваныч, пойду. Ничего со мной не сделается. — Мороз потрепал мальчишку за патлы.
— Зарос, однако. В школе ходил бы сейчас под Котовского… Ладно, решил идти — иди. Тебе виднее. Пойдём, провожу.
Выйдя из землянки, попали под дождь, моросивший уже несколько часов. До тайной тропы через топь шли молча. Рука Антона лежала на плече тринадцатилетнего связного.
Он чувствовал себя старым, видевшим в жизни многое, и ему захотелось ободрить Эрнста, но он сдержал свой порыв. Прощаясь, пожелал пареньку счастливой дороги и крепко, как взрослому, пожал руку.
— Да я тут, Антон Иваныч, хоть с завязанными глазами. Честное слово!
— Ага, — улыбнулся Антон. — Только у чёрного распадка не зевай.
После ухода комиссара засобирался и Ходкевич.
— Пора на нары эти клятые лезть. А ваше дело молодое… Зося стала уговаривать его:
— Дядька Андрей, ещё рано. Куда спешить? Посидим ещё, а, дядька Андрей?
Ходкевич, однако, поднялся:
— Нет, ребята, пойду. Притомился что–то. В сон клонит… Когда остались вдвоём, Максим подошёл к Зосе, обнял её. Зося вырвалась из его рук.
— Не надо, Максим, прошу тебя. Не надо. Давай просто поговорим.
— Одно другому не мешает, — Максим попытался снова привлечь её к себе.
— Я уйду сейчас. Возьму и уйду. И зачем я осталась? Ведь не хотела, — Зося шагнула к двери.
Когда взялась рукой за скобу, услышала:
— Подожди, Зося. Не уходи.
Максим уже мягче, без обычной полуснисходительной интонации, повторил:
— Не уходи, Зося. Я не буду…
Она вернулась, присела на скамью у стола. Максим устроился по другую его сторону на одной из чурок. Какое–то время молчали. Зося ослабила платок на голове, высвободила тугую косу. Максим тёр кулаком щетину.
— Скажи, Зося, ты давно с тёткой Полиной живёшь?
— Как мама умерла, мы с Иванной к ней и перебрались. — Зося вздохнула.
— А правду говорят, что мать твоя от любви умерла? Что недолго отца пережила?
Зося, помолчав, сказала:
— Не знаю… Наверное… Это семь лет назад случилось. Мы с Иванной ещё девчонками были. Отец в январе в прорубь провалился. Пока домой добрался, закоченел. Мама его греть, растирать. Не помогло, слёг. В больницу в область отвезти хотели. Не поеду, твердит, сам оклемаюсь. Экое дело — в проруби искупался… Сначала вроде на поправку пошло, а потом… В пять дней сгорел. Мама молчаливою стала, в себя ушла. Всё по головкам нас гладила, жалела. А сама молчит и молчит… Однажды осенью позвала рано утром Иванну, она ведь старшая. Доченька, говорит, дрэнна[4] мне, сердце давит. Принеси водички… Иванна стрелою в сени, возвращается… И как закричит!… Похоронили маму рядом с батькой. Так два холмика и стоят один возле другого. Над маминым — крест, над батькиным — звёздочка. А сейчас и не знаю — гады эти, может, звёзды уж посшибали. Тётка Полина сразу после маминых похорон забрала нас с сестрою. Одна она из родни осталась. На вид ворчливая, а душа как рана — всё чует…
— Моя тоже умерла в одночасье, — сказал Максим после молчания. — Она звеньевой была в колхозе имени Будённого. Буряка сдавала чуть не за целую бригаду. В тридцать девятом, летом, в Москву направили на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. Воротилась с грамотой, красивым отрезом на платье, панбархат, что ли, такая, мягкая ткань, вишнёвого цвета. Фотографию привезла — она в группе стахановцев, а в центре сам Калинин. Ну и, конечно, баек всяких воз и маленькую тележку… Знакомые валом валили. Она ведь норовом была заводная, весёлая — пошутит, так от всей души. Это отец — молчун, ему б только подмётки прибивать, и чтоб никто не трогал. Да он и старше матери на пятнадцать лет. Потому, видно, и сил у старого хватило только меня одного сделать. Хотя, знаешь, жили они без ругани, правда, каждый сам по себе. У мамы всё работа в поле да в хате, а батька — так из того и в праздник слова не вытянешь… Месяца через три после Москвы, в октябре, мать занемогла. Погода стояла дурная. Сначала дожди поливали, потом заморозки ударили. Буряк в земле закис. А она — грамоту, что ли, отработать хотела — не вылазила с поля… Сломалась. Хорошо помню, что двадцатого октября мать не вышла на работу. И отец дома остался — горела она вся. Ну а я что — в исполком. Мы как раз недавно машину получили, «эмку», я должен был Лучинца в область везти. Под вечер вернулись. Тут прибегает сосед — Иван Хромой. Беда, говорит, Максим, с мамкой плохо. Бежим!… Какое там! Она к тому часу уже кончилась… Помню, стоят на крыльце доктор, маленький такой, толстенький, с чёрным саквояжем в руке, и отец тут же — сгорбленный, одна нога в сапоге, другая почему–то в портянке съехавшей… Доктор на меня накинулся — что ж вы мать–то свою не уберегли, с двусторонним воспалением лёгких на работу гоняли? Я его чуть не пришиб — такая злость взяла. А тут ещё отец стоит, слёзы растирает, трясётся. Рванул я в хату. Но с того света как вытащишь, даже если и мать?
— Эх, всё под богом ходим, как говорит тётка Полина.
Максим усмехнулся:
— Слышал бы тебя комиссар — в религиозности обвинил.
— Не обвинил бы. Он справедливый. Весной меня в комсомол принимали, кто–то спросил: «Зачем вступаешь?» Я: «Чтоб друзей было больше». Все смеяться, потом высказываться: надо, товарищи, отложить приём Ярмолич. Зашумели, заголосили: да, не созрела идейно, отложим. Мороз молчал, потом говорит: «У меня другое мнение. Работает Зося на фельдшерском пункте хорошо, на добро к больным не скупится. Говорят, что поёт и стихи в самодеятельности читает. Чувствуется, и газеты знает, радио слушает. А что друзей новых хочет заиметь в союзе нашем, так чем плохо? И не прячется за правильные слова…» Проголосовали. Три человека только воздержались, остальные «за».
— Не знаю, — сказал Максим. — Странный он. Жила их семья через три дома от нас. Большая семья. Остальные его братья, а их — сколько же? — всего шестеро, как на подбор. Крепкие мужики, не зря пошли по военной линии. А Антон, сколько его помню, всё носом хлюпает да книжки таскает. Вот только пацанва вокруг него вилась. «Кузнечиком» звали. Чуть что — «кузнечик сказал». И чем брал?…
Зося вздохнула и встала с места.
— Пора уже. Пойду я.
* * *
Антон поднялся задолго до рассвета, вышел из землянки. Он всегда плохо переносил осеннюю сырость, и сейчас першило в горле, слезились глаза. Втайне он завидовал тем, кому холод и зной не страшны. Вон Максим — телогрейка нараспашку, под ней рубашка на голое тело.
Со стороны кухни донёсся звон посуды. Антон как раз и собирался повидать тётку Полину.
Повариха чистила котёл. Удивительно, думал про себя Антон, как за эти тревожные дни и недели после начала войны у всех, особенно у женщин, обострилась крестьянская привычка вставать ни свет ни заря. И руки сами тянулись к работе, словно за нею можно было хоть ненадолго забыть о том, что происходит вокруг.
Рядом с тёткой Полиной сидела Зося и чистила картошку. Уловив взгляд Антона, с любованием посмотрела на Зосю и тётка Полина и не удержалась, выразительным жестом показала — хороша–то как дивчина!
— Эх, Антон, — сказала вдруг тётка Полина, — вспоминаю вот мужа, царство ему небесное! Говорил он мне: придёт, Поля, время, власть Советская памятник красивый в Москве рядом с Красной площадью поставит. И напишут на нём: «Нашим бабам…» Смеялся, конечно… Но меня, Антон, он берёг, ох, берёг…
— Надпись, может, и не самая подходящая, но правильная. Маму вспоминаю — как только всё успевает?
— И не жалуется! — подхватила тётка Полина. — Тянет своё и тянет.
— Марфа–то как? — спросил Антон. — Всё хворает?
— Да как? Сегодня, слава богу, лучше. А вчера ещё тяжёлая была, вялая, есть не ест, бедняжка, смотрит жалостно… Мы уж и сараюшко утеплили, и вымя ей тёплой водицей согрели. Может, дай бог, поправится. Без молочка–то никак. И разве только без молочка? Всё, Антон, на исходе. Надо посылать наших по вёскам. Люди поделятся. Мы ж для них что власть Советская. Иначе с голоду попухнем.
— Знаю, — сказал Мороз. — Давай, тётка Полина, вечерком обмозгуем, куда и за чем идти. Дело–то непростое. Ты подумай, что нам надо, без чего никак не обойтись.
— Добра, добра, Антон. Подумаю,
— Спасибо, тётка Полина. Через полчаса сход.
— Придём! Куда денемся!? — задорно проговорила тётка Полина, и лукавая улыбка появилась на морщинистом лине. — А ну–ка затяни, девка, мою любимую!
Зося вскинула голову, взглянула с удивлением на тётку Полину, но подчинилась просьбе:
Отчая земелька — Лес, поля, болота, Бея залита кровью, И могил без счёта.
Отчая земелька — Ей ещё сражаться… В бой идёт, кто хочет Белорусом зваться.
Отчая земелька Хочет жить раздольно… Есть ли что милее Нам отчизны вольной?
— Да, хорошая песня! — сдержанно похвалил Антон. — Правду Максим говорит — надо концерт устроить.
— А то как же! — только и сказала повариха…
Максима Антон застал у его землянки. Низко склонившись над металлическим бруском, тот ловко выпрямлял сапожные гвозди. Каждый гвоздь был на учёте — в лесу скобяной лавки не сыщешь.
На приветствие комиссара он поднял голову.
— Видишь, — сказал, усмехаясь, — начальство встречаем в согбенном виде. Как положено.
— Мели, Емеля — язык без костей. Я к тебе не за байками пришёл.
— Давай, выкладывай.
Мороз рассказал Максиму всё, что знал о военнопленных.
— Пойдёшь в разведку. С собой возьми Ходкевича, Только будьте осторожнее. Разведайте, что к чему, и обратно.
— Вот это дело для мужиков! — воскликнул, потирая руки, Орешко. — Сколько можно торчать в берлогах? Зима впереди. Ещё нагуляем жиру!…
Выступление Антона на сходе, как он и хотел, было коротким. Сказал всё, что задумал ночью, и по лицам людей, по их возгласам понял: очевидно, подходящие слова и момент нашёл нужный, чтобы развеять сомнения и слухи.
— Правильно, комиссар, правильно!
— Славяне вам не французы!
Вдруг кто–то произнёс громко, даже весело:
— Неизвестно ещё, что будет. Раскудахтались, аники—воины! Это вклинился Пётр Наркевич — до войны знаменитый на
всю область тракторист.
— Ты чего? Как неизвестно?! — запальчиво переспросили из толпы. — Известно, оборвём гаду чуб!
— Разогнался! А видел, сколько у него техники? Куда ты супроть неё со своей берданкой? — не унимался Наркевич.
— Тише, товарищи, тише! — попробовал прервать перепалку Мороз. — Конечно, враг шагнул далеко. У Ленинграда стоит, к Москве подкрался. Что есть, то есть, и не будем закрывать на это глаза. Но я верю, твёрдо верю — нет такой силы, что может нас одолеть. Кто только ни хотел затоптать нашу страну. Помним мы баронов всяких и кайзеров, беляков и атаманов. А она стояла и стоит.
— В точку, в точку, комиссар!
— Закрой поддувало, Петро!
— А ему что ни молоть, лишь бы всем наперекор!
— Самый умный выискался! Мы единством сильны! Кое–кто из партизан, правда, помалкивал в ходе перепалки,
но по их глазам Мороз понял, что вряд ли они на стороне Наркевича. Прочёл он на отдельных лицах и сомнение, жгучий вопрос — да, комиссар, всё ты, конечно, правильно говоришь, складно, но кому знать сейчас, как дело повернётся? Что будет?
А разве Антон сам не задумывался над этим? Разве не естествен этот вопрос, пока жив человек, волею судеб поставленный в чрезвычайные обстоятельства? И разве подлинная вера исключает сомнения?
Раздались голоса:
— Шабаш! Всё ясно! Держаться надо, хлопцы!
Чувство благодарности и теплоты к этим полуголодным, небритым, грубоватым людям подступило горячим комком к горлу Антона, он остро ощутил какое–то особое родство с ними, как если бы все они вместе были одна семья, со своими, понятно, бедами, неурядицами, но где по глазам только, по одному только дыханию другого видишь, о чём думает он сейчас и что у него на душе.
Даже выступление Наркевича, уверенного в том, что техника — это всё, показалось Антону самым что ни есть обыкновенным отголоском вполне объяснимого желания выделиться — вот, мол, каков я, первый парень на деревне.
Закрыв сход, Антон оставил возле себя Максима Орешко и Андрея Ходкевича и, заговорив с ними, снова поймал себя на том, что где–то на краю сознания разрастается, обжигая, волновавшая с детства картина южноукраинской степи, по которой скачут красные всадники:
Потерявший скакуна юный будёновец поднимает глаза на товарищей, горько говорит: «Скачите! Я вам обуза. Скачите! Я так хотел сам показать вам доктора. Он живёт на первой улице направо, она ведёт к морю. На доме петух–флюгер. Доктора зовут Серафимов, там табличка на двери… Скачите! Мы должны спасти её!…» Молчат товарищи. «Она не должна умереть, вы поняли? Она такая красивая. У них родятся красивые дети. Они продолжат революцию, которую мы начали. Они будут лучше и проживут достойнее…» Всадники молча поворачивают коней в сторону белого города. Мысль и нетерпение мучают сильнее, чем жажда. Всадники не оглядываются… Тук–тук, тук–тук, тук–тук… Летит, летит мимо почти белая, как июльское солнце, степь…
Мгновенно, точно вспышка, промелькнуло в памяти это видение, оставив после себя печальный след. Почему он постоянно вспоминает ту давнюю книгу? Антон не находил объяснения.
Опять пошёл дождь — шумный, сильный, короткий. Потом ненадолго выглянуло солнце, и снова тучи потянулись по небу, сталкиваясь, гонимые осенними переменчивыми ветрами.
Двое партизан шли быстрым шагом.
— Ловко это комиссар про Любовь Орлову, а, Андрей? — рассуждал на ходу Орешко.
— Ловко, — согласился Андрей.
— Да ты хоть видел Орлову?
— Видеть, кх, не видел. Слышал по репродуктору. Голосистая. А так, говорят, ладная бабёнка.
— Ладная, голосистая… Я в Минске три раза смотрел «Волгу–Волгу». Вот это да! Живот надорвёшь!
— Тебе б только скалиться, — пробурчал Ходкевич. — Хватит лясы точить. Подходим.
Они вышли к реке. Здесь, в узком горле, с берега на берег было перекинуто гладкое, без сучьев дерево.
Осторожно, чтобы не поскользнуться на мокром после дождя стволе, перебрались на ту сторону. Максим чуть было не свалился в реку в каких–нибудь полутора метрах от берега. Почуявший неладное Ходкевич успел обернуться и выбросил навстречу Максиму руку. Орешко устоял.
— Шустрый ты, дядька! А тетерей прикидываешься.
— Сам ты, кх, тетеря, — отрезал Ходкевич. — Лучше под ноги смотри, а то сверзишься!…
До городка оставалось не больше километра. Партизаны крадучись пробирались в прибрежном лозняке.
Идущий первым Ходкевич вдруг обернулся и рукой указал Максиму вперёд. На крутояре они увидели большое бревенчатое строение.
— Оно, — шепнул Ходкевич.
До склада было около двухсот метров. Вход в него находился с противоположной стороны. Как тут определишь, сколько часовых? Да и есть ли? Может, быть, пленных уже погнали дальше на запад?
— Гля! — громко выдохнул Максим. Ходкевич показал ему кулак.
Из–за угла вынырнула фигура в длиннополой шинели, с автоматом на груди. Сделав три шага в сторону обрыва, немец повернул обратно и скрылся из виду.
Партизаны пролежали ещё с четверть часа. Никого,
Орешко заёрзал на месте:
— Чёрт его дери! Куда задевался? Рванём ближе!
— Погоди чуток. Может, кх, объявится.
Туман усилился, загустел. Земля отдавала накопленную за ночь влагу. Очертания склада и редких деревьев за ним расплывались, серели, точно в дымке, и приходилось напрягать глаза, чтобы хоть что–то разглядеть,
— Ладно, давай тишком, — сказал Ходкевич и пополз к складу. За ним бесшумно двигался Максим. Проползли метров пятнадцать — к песчаной отмели у реки. Дальше нельзя — впереди ни Кустика.
Из–за угла появился охранник — плотный, чуть сутулый. Опять три шага к обрыву и — обратно.
Неожиданно тишину распорола автоматная очередь. Спустя мгновение из–за склада показался человек с перебинтованной головой, в красноармейской гимнастёрке, грязных обмотках вместо ботинок. Он передвигался с трудом, припадая на левую ногу. Следом выскочили двое красноармейцев и тоже бросились с крутояра вниз, к песчаной отмели.
Показались ещё двое. Один придерживал другого за пояс, но двигались они довольно быстро. Было слышно, как скрипит под ногами беглецов песок.
Откуда–то из мглистого тумана гулко ударил пулемёт. Упали те двое, что выбежали последними. Один из них прополз немного и уткнулся лицом в песок, вытянув руки к реке.
Пулемёт строчил не переставая. Упал ещё один из красноармейцев.
Из–за угла выскочил человек в форме красноармейца с немецким автоматом в руках. Он укрылся за выступающим срубом и стал стрелять короткими очередями.
Ходкевич клацнул затвором винтовки, прицелился. Максим бросился к нему, сбивая ствол вниз:
— Ты что?
— Так перебьют же наших, как кур!
— Лежи! И людей не спасём, и сами загинем! Лежи, чёрт тебя дери!
Возле красноармейца с автоматом взорвалась граната. Когда дым рассеялся, партизаны уже не увидели у стены никого.
Последний оставшийся в живых бежал к реке. Ему оставалось около десяти метров до воды. Он обернулся, услышав, что выстрелы стихли.
Раздалась длинная очередь.
Красноармеец грузно рухнул на песок.
Тут же Орешко и Ходкевич увидели, как, резко затормозив, у края обрыва остановились два мотоцикла с колясками. Сквозь треск моторов донеслась громкая речь, отрывистые команды. Над строением вспыхнул огонь, пламя быстро окутало дом.
Выбирая путь отступления, Максим увлекал за собой напарника. Ходкевич то и дело оглядывался на пылающий дом, и на скулах его ходили желваки.
— На наших глазах. — выдавил он, — а мы…
— Не стони! И людей не спасли б, и сами загинули!… Вот и переправа!… Да не поскользнись, Иваныч! Держись!
Ходкевич брёл по лесу, спотыкаясь, оборачиваясь, как будто хотел разглядеть что–то или вернуться обратно к реке. Кхыкая, он повторил несколько раз: «Как же так? Живых людей… в огне. Как же так?… На наших глазах, кх, а мы…»
— Не трави душу! — резко огрызнулся Орешко — Без тебя, растуды твою, тошно! Куда бы ты со своей берданкой против пулемёта?…
Потом шли молча. Зарядил дождь, мелкий, тягомотный.
Чем ближе подходили к стоянке отряда, тем отчётливее, как на киноленте, в памяти Максима раз за разом всплывала страшная картина: красноармеец, застигнутый пулей в нескольких метрах от воды, вдруг взмахивает руками и грузно валится на песок…
Под вечер Мороз собрал на кухне у тётки Полины нескольких партизан. Обговаривали, куда отправиться за провизией, что добыть в первую очередь, каким путём доставить продукты в отряд. Прикидывали, как зимовать — холода ведь не заставят себя ждать. Вдруг кто–то тронул Антона за плечо. Обернулся — Зося.
— Товарищ комиссар, — прошептала девушка, наклонясь к нему. — Там Стаська пришёл. Бледный весь. Вас спрашивает.
— Какой Стаська? — не понял сразу Мороз.
— Ну, Эрнст, сын учителя того, что у немцев служит. А Стаськой это его так кличут.
— А–а… Пусть подождёт, я сейчас…
Приближаясь к устроившимся у входа в его землянку Эрнсту я Зосе, Мороз ещё издали — только увидев, как напрягся и сжался в комок мальчишка — понял, что вслед за событиями у реки стряслась, очевидно, новая беда. Зося держала руку подростка в своей, что–то горячо говорила. Мальчик молчал, низко наклонив голову.
— Вот всё спрашиваю его, спрашиваю, — с обидой сказала Зося, — а он ни слова. Хочу помочь, а он…
Эрнст поднял на комиссара глаза. Они были печальны.
— Спасибо, Зося, мы тут разберёмся. Пойдём, Эрнст, в землянку…
Когда сели за стол, Мороз спросил мальчика:
— Пить хочешь?
— Нет, Зося напоила.
Мороз нарочито небрежно, даже укоряюще сказал:
— Что ж ты, брат, нарушаешь порядок? Я тебя в ночь жду, а ты вот он — тут как тут. Иль случилось что? Рассказывай.
— Лютовать немцы начали, — выдохнул мальчик, теребя в руках шапку. — После побега. Ну как пленные бежали. Убили там офицера и двух солдат ихних. Они и начали.
— Так…
— В полдень согнали народ на площадь, а там виселица… Скамейку внизу поставили… Народ молчит, а бабы всё крестятся, крестятся… Потом наших привели. Троих. Без шапок, руки за спиной связаны… Одного я не знаю, какой–то хромой, Иваном его бабы называли… Других знаю. Сапожник старый Платон Орешко, маленький такой, сутулый, и бывший учитель ботаники из второй школы Игнатий Купревич, постарше Орешко будет, длинный, седой–седой, с бородкой, его ещё Дон Кихотом звали.
Эрнст глотнул воздуха.
— Тут офицер вперёд вышел. Встал напротив виселицы… Сегодня, говорит, был убит очень кароший немецкий офицер и два зольдатен фюрера. Мы тоже будем убивать три мужчины. Нельзя, говорит, убивать зольдатен фюрера, будем сильно наказать…
Наших повели к виселице, тут бабы в крик, а немцы строчить стали поверх голов. Скамейку кто–то выбил, я отвернулся… А бабы голосят и крестятся. А те трое уже висят…
Антон поднялся, подошёл к мальчишке, обнял его, прижал к себе. Худенькие плечи подростка дрожали.
— Гады, гады! — выкрикнул он. — Гады!…
— Ни в чём не повинных людей, — выговорил Мороз. — Стариков… Хромой Иван… Сапожник Орешко… Ботаник… Он ещё выставку бабочек делал в клубе в тридцать девятом, помнишь? Больше ста бабочек, самых разных. В коробочках красивых, на бархате… Игнатий Петрович, с бородкой. Тихий, улыбчивый. Точно — Дон Кихотом его звали.
— Гады…
«Боже, — подумал Антон. — И мой отец мог быть там. Безоружных уничтожают. Стариков и увечных — как же так?»
Он прошёлся по землянке, стараясь успокоиться. Потом спросил:
— А что отец?
— Он велел идти. Явился домой днём, часа в три, хотя обычно, знаете, чуть не за полночь приходит. Сказал, что вчера поздно вечером — уже после того, как мне сообщил о пленных, — во время допросов сумел передать записку одному нашему, пожилому с забинтованной головой. Может, засёк кто, сказал отец, сердце неспокойно. В записке той он написал, что партизаны все знают, и указал направление, куда бежать, чтобы попасть к вам. Вот они и рыли подкоп. Только к рассвету управились. И рванули.
— Понятно, — сказал Мороз. — Понятно, брат.
До Антона яснее дошёл смысл происшедшего, и он со стыдом и горечью осознал, что не смог предвидеть такого поворота событий, считая, видно, что пленные будут сидеть и дожидаться освобождения, а немцы дадут возможность провести разведку и лишь затем тщательно продуманное нападение. Что бы сказал обо всём этом Лучинец? Уж он–то ни при каких обстоятельствах не наделал бы подобных глупостей. Но разве не его советом — беречь людей — руководствовался Антон, когда посылал на задание Орешко и Ходкевича?
Видно, никакие, даже самые умные советы нельзя принимать слепо. Нельзя цепляться за них без умения правильно оценить реальные обстоятельства и реальных людей. Надо больше надеяться на себя и прислушиваться к себе… Как же быть теперь?
— Вот что, Эрнст, — сказал комиссар, — думаю, тебе надо остаться в отряде. Располагайся–ка у меня. А там видно будет.
Мальчишка поднял на Антона печальные глаза, сказал с беспокойством, но решительно:
— Как? А отец? А мама? Я пойду!
— Не торопись, не торопись. Сейчас тебе появляться там — только гусей дразнить. Скажи лучше, нельзя ли в случае чего объяснить твою отлучку тем, что ты пошёл к родичам в соседнюю вёску? Есть родичи? Вот и отлично… Давай, располагайся. А я пройдусь. Скоро буду. Согласен? Ну чего ты так на меня смотришь? В дом твой мы человека пошлём. Понял?
Подросток молчал. Мороз усмехнулся:
— Упорный… Это хорошо. Но сейчас нам всё по уму надо делать. По уму. Согласен?
— Согласен, — вздохнул Эрнст.
У островерхой сосны возле землянки Орешко комиссар увидел группу партизан. Среди них выделялся Пётр Наркевич. Залихватски сбив на правое ухо шапчонку, дымя самокруткой, он выразительно жестикулировал, видно, не соглашался с кем–то. Подойдя ближе, Антон услышал:
— Не–не, никак не уразумею, откуда ж мотоциклет взялся?
— Откуда–откуда? Почём мне знать, растуды твою! — устало и сердито отвечал Максим. Очевидно, вопрос задавался уже в сотый раз. — По случаю, видать, откуда–то выскочил. Бывает же!
Немолодой партизан Титыч, бывший сторож в пекарне, заметил писклявым голосом:
— И всё ж, хлопцы, трэба вам было, это самое, пульнуть. Отвлекли б немчурню. А наши солдатики, это самое, и сбёгли б!
— Пульнуть, пульнуть, — обернулся к нему Максим. — Куда? В небо? Так от этого ни холодно, ни жарко. Говорю же: мы фрицев засекли не сразу. Туманом всё кругом заволокло. Да и чесали они, не поймёшь откуда!
— Когда засекли, тогда б, это самое, и пульнули. А хоть бы и в небо! Короче, зубы трэба было показать.
— Мёртвому припарка! Наши уже тогда лежали убитые на отмели. Мы и глазом не моргнули… Да и, — Максим заметил Мороза, — …и задача была — на–блю–дать. Правильно говорю, комиссар?
Мороз ответил не сразу:
— Предполагалось сперва выяснить, что к чему, а уж потом принимать решение. А в жизни вон оно как…
— Не знаю, Антон, что оно к чему, но, это самое, думаю так: коль нашим крушат головы, так сам погибай, а товарища выручай. Иль не так, это самое?
— Так, Титыч, — твёрдо произнёс Мороз. — Так. Правду говоришь. Хотя всё, конечно, произошло неожиданно. Максим и Андрей сообразить ничего не успели.
— Неожиданно, — с какой–то обидой и в то же время примирительно сказал Титыч. — Теперь трэба и нам, это самое, отплатить гадам… неожиданно.
— Отплатим, Титыч. Дай только час!
Установилось молчание. Мороз взял Максима под локоть.
— Есть разговор. Отойдём в сторонку.
Они сделали несколько шагов. Максим выжидательно взглянул на Мороза, спросил:
— Чего тянешь, Антон? Говори! Заладили всё одно и то же: «Трэба было пальнуть, трэба было пальнуть!» Так я считал и считаю, повторю ещё раз — и людей не спасли б, и сами головы ни за что положили.
Мороз подумал, что «ни за что», наверное, не самое точное определение, однако вслух ничего не сказал. Надо было ведь сообщить Максиму совсем о другом, о смерти отца, а как? Как?… Запас слов в таких случаях скуден.
— Горькую весть принёс тебе, Максим. Сегодня в райцентре на площади немцы повесили троих наших. Кого могли, согнали на казнь… Один из повешенных… твой отец… Мужайся, Максим.
Орешко вскинул на Антона глаза, словно не веря, ожидая ещё какого–то подтверждения.
— За что? Кто сообщил?
— Пришёл связной. Он был на площади, всё видел… Немцы сказали, что месть… Наши при побеге трёх немцев убили. Both…
— Как же это? — простонал Максим. — Работал всю жизнь, никого не трогал, тише воды, ниже травы. А тут его — раз–раз, и конец…
Максим замолчал, потом выдавил:
— Всё… Один я остался. Больше никого. Один на земле орешек…
Он посмотрел на Мороза затуманенными глазами:
— Молчи, Антон, молчи. Отца не вернёшь, — и тяжело пошёл прочь.
Стараясь подавить в себе озноб, комиссар вернулся к партизанам, рассказал о событиях в городке.
— Да что ж это? Иль они совсем не люди? Как же, это самое? — горячо заговорил Титыч.
Кто–то произнёс недоумённо:
— Вот это вояки — стариков душить.
— Ну и гады! Ни совести, ни жалости!
— Да какая совесть? Ты для них — быдло, червь. С тобой можно, как он захочет. Растереть и наплевать.
— Эх, — воскликну. Титыч, — танк бы заиметь!
— Где ж его заимеешь? Завод в лесу не откроешь. Без танка придётся, дед, — резко сказал Мороз и двинулся прочь.
Отойдя чуть поодаль и немного успокоившись, он решил пойти на кухню, найти Зосю. Ещё в землянке, во время разговора с Эрнстом, Антон подумал о том, что в дом учителя, очевидно, следует послать именно Зосю. В первый момент он не находил объяснения такому решению. Как воспримет она гибель старого Орешко? Ему хотелось смягчить, отдалить её страдания.
Подходя к кухне, Антон ещё не был до конца уверен в правильности своего выбора — оставались какие–то неясности и противоречия, но он уже принял решение.
Зося была одна.
— А где наша старшая кормилица? — спросил Мороз, стараясь выглядеть спокойным, даже весёлым.
— По дрова пошла, Антон Иванович, сейчас будет. Нужно что?
Мороз начал без предисловий:
— Зося, тебе надо выйти в райцентр, найти дом Эрнста. Это улица Первого Мая, восемнадцать, там как раз напротив калитки колодец с высокой крышей и журавлём. Знаешь?
Зося кивнула.
— Так вот, — продолжил Антон. — нужно сначала присмотреться хорошенько, — в доме может быть засада, — и только потом заходить. Если увидишь, что там никого нет, пусто, возвращайся без всякого промедления. Если же повезёт, расспроси Евдокию Петровну обо всём, что ей известно. Думаю, учитель арестован. Но не будем загадывать…
Зося вскинула на Мороза глаза:
— Как? Учитель же немцам служит! Я ещё думала: надо ж как — мальчик нам помогает, а отец продался. Разве он наш?
— Наш, Зося, наш. Надо узнать, что с ним. Только ещё раз повторяю: если дом пуст, сразу назад, в отряд. Не спеши за щеколду браться… Выходить надо сейчас. Тётке Полине я всё объясню. Мы с Эрнстом тебя проводим. — Он пристально посмотрел на девушку. — Не боишься?
— Не знаю, — сказала она тихо и поднялась с пенька. — Я сейчас, быстро. Ведь это надо…
— Надо Только ты… платок, Зося, потемнее да постарее возьми, если есть. Всё–таки не такая будешь… красивая, — смущаясь, попросил вдруг Антон и тут же выругал себя. Как будто платок мог чем–то помочь, наткнись Зося на полицаев или немцев.
Они распрощались с ней на опушке леса. Договорились о встрече в два часа ночи здесь же. Одна Зося не нашла бы тропу через топь.
Обратно в отряд они с Эрнстом шли молча. И опять в сознании Мороза быстрой, но яркой картиной промелькнули страницы его любимой книги, и он вдруг ощутил, что сам, своей фантазией дорисовывает, расцвечивает их.
Тук–тук, тук–тук, тук–тук… Скачут всадники. И вот с высокого холма они видят город. Он лежит в белёсой дымке, упираясь точной окраиной в берег моря. Сквозь дымку белеют дома и хаты, вдали краснеют черепичные крыши. Радостью наполняются молодые сердца. Гикнув, всадники устремляются вниз по пыльному шляху.
Первая улица направо. Где же докторский дом с петухом–флюгером? Вот он — за палисадником, скрытый раскидистыми вишнями и старыми акациями. Они идут к дому по дорожке, посыпанной песком. Вот скрипит под ногами крыльцо. Стучат в дверь с бронзовой табличкой и надписью в завитках — «Доктор К. К. Серафимов». Долго никто не отвечает. Наконец слышатся глухие шаги. Дверь открывает старушка. Она в голубом чепчике. Светлые, почти прозрачные глаза. Их вид пугает её. «Не лякайтесь, мамо. Наши души милосердны. Тут дэсь е доктор. Трэба спасти добру дивчину», — говорит самый смелый, батрак с Полтавщины.
Она уходит. Бегут секунды. Из темноты и прохлады комнат появляется большой человек в тёмно–малиновом халате с бородкой клинышком и чистыми красивыми руками. Они спрашивают: «Вы доктор Серафимов?» — «Да, — отвечает он. — Я Константин Константинович Серафимов, доктор». Они говорят: «Помогите спасти дивчину. У неё рана навылет». — «Где же она?» — «В Симоновке, двадцать вёрст отсюда». — «Хорошо, судари, я готов. На чём едем?» Они смотрят друг на друга. Им хочется стонать от бессилья. У них нет повозки. Есть только взмыленные кони и горячие собственные сердца.
«Вы можете верхом?» — «С юности не пробовал». — «Ничего, мы будем рядом. Мы сделаем всё». Доктор кивает, снова уходит в темноту и прохладу. Один из всадников должен остаться. Появляется доктор. В руке чёрный аккуратный саквояж. Все выходят на улицу. К доктору подводят коня, помогают ему забраться в седло. Тот, кто остался, видит, как исчезают вдали всадники…
Партизанский лагерь, взбудораженный событиями дня, долго не засыпал. Лишь ближе к полуночи люди угомонились и улеглись. Но и ночью они думали о том, что вступили в войну, которая принесёт много, очень много бед и страданий. Зачем и кому она нужна, если погибнет столько и тех и других, и неужели есть что–то, что может стоить этого?
* * *
В темноте Зося услышала, как стукнула щеколда и, скрипнув, отворилась дверь, кто–то, звякнув ведром, вышел на крыльцо. По шагам, мягким, осторожным, Зося поняла — женщина. Зося ступила из–за угла дома и тихо, но отчётливо позвала:
— Евдокия Петровна, подождите, не бойтесь. Я Зося Ярмолич, ваша ученица, принесла вам привет от Эрнста.
Женщина медленно обернулась, проговорила спокойно:
— Пройдём в дом.
Через сени, пахнущие кислым молоком, они прошли в большую комнату. Потрескивала печь. Они сели рядом с ней на скамью. Учительница не зажгла ни свечей, ни керосинки.
— Где мой сын? Как он? — Голос её звучал напряжённо.
— Жив–здоров, — поспешила заверить Зося. — Всё хорошо. Он у нас в отряде. Всё беспокоится, как вы.
— В отряде? — переспросила женщина и повторила с какой–то грустью. — В отряде… Мне никто ничего не говорил. Ни сын, ни муж. Всё втайне от меня. Будто я не мать, не жена…
— Вас берегли, — сказала Зося, вспоминая комиссара, который предполагал, что среди первых вопросов будет, наверное, и такой. — Да это и действительно тайна. Ведь война…
Евдокия Петровна вздохнула:
— Берегли… А сами не убереглись… Мужа взяли. Сюда приходили с обыском. Перепотрошили всё, вверх дном подняли, насилу расставила по местам. Убрались злые, видно, не нашли того, что искали. Про сына спрашивали. Я сказала, что у родственников в Низковичах, может, через два–три дня вернётся. Как чуяла…
— А кто сказал, что муж арестован?
— Эти–то… потрошители молчали, хотя, конечно, я догадывалась, что беда стряслась. А недавно заскочила Катя Будкевич, ученица моя бывшая, дочь бакалейщика — он теперь в полиции служит. У, говорит, ненавижу батьку. Обед–ужин ему ношу, говорит, а сама, грех–то какой, думаю — чтоб бы подох… Страшно, Зося, правда?
— Очень страшно, Евдокия Петровна, очень.
— Да–а… Он–то и сболтнул Кате. Вот, мол, повязали, наконец, твоего наставничка, допрыгался, буквоед паршивый… Посадили пока в полицию — туда, где раньше районная милиция располагалась. Это у них что–то вроде камеры предварительного заключения. Видно, сомневаются в чём–то или доказательств не хватает. Это я так думаю… Может, всё и не так… Теперь не поймёшь…
Она помолчала, потом сказала с болью:
— Почему же, Зося, мои ничего мне не говорили?
Зося не знала, что ответить. Она не могла сказать, поделилась бы на месте Эрнста всею правдой с матерью или нет.
— Э, да о чём я спрашиваю. Прости, Зося. Скажи лучше, как Эрнст?
— За него не беспокойтесь. Там ведь кругом все наши. Мы как семья большая… А он сильный и смелый. И такой терпеливый. Лес очень хорошо знает. Молодец!
Евдокия Петровна кивнула, поднялась, открыла печь, пошуровала головешки кочергой.
— Догорают. Одни угли остались.
Они с минуту молчали. Потом Евдокия Петровна спросила:
— Про казнь знаешь?
— Казнь? Какую?
— Началось тут… Немцы повесили троих наших. Сегодня. Учителя Купревича, он ботанику преподавал до тридцать пятого года, пока не занемог. Теперь уже старый–старый. Но ты, наверное, не помнишь его. А ещё Ивана Бусла, хромого, он раньше на мельнице работал, скромный, замкнутый человек. И сапожника Орешко Платона…
— Что? — спросила Зося, теряя голос.
— На площади повесили, изверги… Боже мой, а я всё ещё думала, ну почему, почему муж прямо на глазах изменился. В себя ушёл, ночами не спит… Не по себе ему было. Сейчас корю себя за то, что могла сомневаться в нём. Конечно, Зося, верить и думать мне не хотелось, что он может всерьёз пойти к фашистам в услужение. Да и говорил он, что думает добиться со временем открытия школы, чтобы снова преподавать. В какой–то момент решила — оправдания себе ищет, совесть очистить хочет. И, знаешь, как–то отошла от него, отодвинулась. Всё молчком–бочком. И за Эрни боялась, как бы он, глядя на отца, не сделался оборотнем. Только теперь представляю, как мучился муж, как стыдно ему было, что течёт в нём немецкая кровь. Или, может, не стыдно — горько. Ах, милая, как же тяжело всё–таки… Нация, давшая миру Гёте, Бетховена… Те возвышали людей, эти — топчут…
Зося молчала
— Что ты, милая? — тронула её за колено Евдокия Петровна. — Ты плачешь?
— Нет, — сказала Зося, утирая слёзы. — Просто жалко их, Всех жалко… И мужа вашего, и повешенных…
— Эх, голубушка моя… Не зря говорится: пришла беда — открывай ворота. А такая беда сроду к нам не захаживала. Сначала кур стреляли, поросят. Теперь за людей принялись…
Зося вдруг поднялась.
— Спасибо вам, Евдокия Петровна. Мне пора.
— Куда же, на ночь–то глядя? Переночуй в тепле. В землянке какой сон? Накормлю тебя. Голодная небось?
— Нет–нет, я пойду. Меня ждут.
Она повязала платок, повернулась к выходу.
Евдокия Петровна проводила её до сада.
— Спасибо вам, — снова сказала Зося, прощаясь. И вдруг спросила: — А, может, вы со мной, Евдокия Петровна?
— Нет, голубушка, нет. Где муж, там и я. Нитка за иголкой. — Да–да, конечно, — согласилась Зося. — Вы правы.
— Эрни скажи, пусть будет сильным и вспоминает о нас. Прощай!
— До свидания!…
В поле Зося расплакалась. Слёзы текли по лицу, перемешиваясь с дождевой моросью, и Зося не утирала их. Она даже и не понимала, о чём плакала. Обо всем, наверное.
Теперь и она, и Максим стали совсем одинокими, только у неё ещё есть тётка Полина, где–то остаётся, может быть, живая сестра, а он совсем один. Хотя почему один? А она? Зося должна быть с ним, и она будет с ним. Он чем–то похож на её отца, и Зося поможет ему во всём, скрасит его одиночество любовью и лаской.
Вот только была бы ещё дудочка… её простая дудочка из липы, о шести отверстий, подарок её отца… она бы играла Максиму… хочешь, сойкой запою?… Фью–фью, фью–фью–фью, фью, фью–фью… хочешь, как свиристель?… а почему же я тогда устыдилась, что мама слышит, как я играю под яблоней… мамы устыдилась!… чудная!… это ведь мама, не кто–нибудь… А хочешь, Максимушка, я, как ручей, запою?… Всё, как хочешь… и почему я не взяла с собой дудочку?… что они с ней сделают?… они кур стреляли, поросят, теперь людей… айн, цвай, драй… дудочка такая маленькая, хрупкая, её легко сломать… мама тогда улыбалась счастливо, а я устыдилась… Евдокия Петровна очень хорошая, а близкие ей ничего о своём потаённом не сказали… она бы всё стерпела, за ними куда угодно пошла… я, Максим, всем с тобой поделюсь и буду с тобой до последней секундочки… мы не одинокие, раз мы вместе… что сыграть тебе, прикажи?… но ведь дудочки нет.
Комиссар первым заметил в ночи Зосю. Промокнув до нитки, она отвечала на вопросы после долгих пауз, точно пробиваясь к смыслу сквозь пелену дождевой мороси.
Когда пришли в лагерь, перед расставанием она сказала, подняв на Антона грустное, красивое лицо:
— Неужели, Антон Иванович, никогда не будет, чтобы без страха? Чтобы люди не с винтовками шли друг к другу, а с подарками? Ведь дарить же лучше. Сам себе люб…
При виде тихонько сопящего Эрнста Антон с горечью вспомнил расставание с Зосей. Душу вновь опалила печаль её глаз, и он подумал: сколько же испытаний выпадет Я на эту дорогую ему дивчину, и на этого спящего мальчика, и на весь народ. Какую стойкость надо иметь, чтобы всё выдержать, превозмочь, не утратить веры в добро и человечность? Он вдруг с пронизывающей остротой почувствовал, как разрастается в нём гнев против той нелепой, чудовищной силы, которая породила это поле ненависти и вражды. Антон ощутил, как вскипевший в нём гнев требует выхода, требует действия хотя бы на этом маленьком, заброшенном в болотистом лесу участке. Они должны, давно должны дать понять врагу — вызов принят. Надо прежде всего вызволить учителя. Вызволить во что бы то ни стало!
Как легко было бы вырваться из землянки, схватить автомат, добраться побыстрее до городка и разрядить весь диск в первых же попавшихся врагов.
Он не имеет на это права. Сейчас его автомат — это спокойствие и логика решений.
Он лёг на свою жёсткую лесную постель.
Времени оставалось в обрез. Это стало совершенно ясно после встречи Зоей с Евдокией Петровной.
Учителя держат, не выпускают — значит, выжидают? Или ищут других доказательств? Может быть, ждут, когда появится Эрнст? Наверняка они проверят и родственников. Всё–таки своевременно он послал в Низковичи Наркевича. Успеет ли тот? Он вышел почти сразу за Зосей. В случае удачи немцы будут «знать», что мальчишка рано утром распрощался с родственниками, а по дороге собирался зайти в одну–две попутные вёски обменять носильные вещи на продукты. Ищи его там, как ветра в поле…
Перед рассветом Антона разбудил Наркевич. Исцарапанный, с красными от усталости глазами, он то и дело потирал чуть ниже колена левую ногу, морщась от боли.
Да вот, сказал, чёрт попутал, в яму, будь она неладна, угодил заместо медведя. А чего ж это ты не на мотоциклетке, с серьёзностью спросил его Мороз, быстренько бы туда–сюда… Ну, комиссар, ну, язва, захохотал Наркевич. Отсмеявшись, сказал, что крестьянские ноги — лучший мотоцикл. Ладно, усмехнулся комиссар, успел? А як же?! Родственников нашёл, куда им деться, предупредил по всей форме. Обещали сделать всё, «як трэба». Хорошо, иди лечи ногу, скоро понадобится, весело сказал Антон.
Наркевич ушёл, озадаченный необычной простотой и весёлостью серьёзного не по годам, сдержанного комиссара.
Мороз подвёл первые итоги. Похоже, сегодняшний день отвоёван партизанами. А, может, и предстоящая ночь.
Теперь, рассуждал он, следует организовать наблюдение, во–первых, за домом учителей, и, во–вторых, за полицией. Учительский дом стоит на самой окраине городка — за ним легко наблюдать через реку с лесной опушки. А вот с полицией, конечно, будет намного сложнее. Так просто не сунешься.
Надо послать туда Ивана Голубовича. Парень смекалистый, ловкий, а главное — дом его престарелых родителей через каких–нибудь два двора от полиции. С чердака можно уследить за всем, что происходит вокруг. Только бы добраться без шума!…
Антон пошёл к Ходкевичу, разбудил его, и они вместе направились к Титычу обсудить план действий.
Через полчаса, ещё до рассвета, двое партизан отправились на задание.
Проводив их, Мороз столкнулся возле кухни с Максимом Орешко и Зосей. Они стояли, облокотившись на телегу, переговаривались. Лицо Максима, обычно весёлое и живое, было угрюмым. Всклокоченные волосы торчали из–под шапки. Зося выглядела грустной, озабоченной, под глазами легли тёмные крути.
Мороз поздоровался, пожал руку Максиму.
— Вот жизнь, комиссар, — сказал тог хмуро. — Даже похоронить батьку не могу по–человечески… Свезут старого на погост — и дело с концом…
— Да, — сказал Мороз, — беда. После паузы добавил:
— Что поделаешь. Поживём ещё, повоюем. Держитесь, ребята…
Они промолчали, только Зося теснее придвинулась к Максиму.
Уходя, Антон вдруг поймал себя на том, что невольно ускоряет шаг — он всегда чувствовал стыд, когда был бессилен помочь в чужой беде.
Кроме того, Антон с удивлением ощутил, что восприятие казни мирных людей в райцентре, причинившее ему столько боли ночью, теперь, на свету, словно притупилось, спряталось, забилось куда–то вглубь. Неужели и к таким бедам, даже к самой смерти, так скоро привыкает человек? Наверное, шар ненависти подминает под себя сострадание, ожесточает и огрубляет всех, кто встаёт на пути, кто просто оказывается рядом. Очевидно, это самая большая всеобщая жертва войны. Не случайно же — запомнилось с детства — над остывшим, захолодевшим пожарищем вьются только чёрные птицы, а трава, зелёная кожа земли, прорастает медленно…
— Антон Иваныч! Антон Иваныч! — услышал Мороз мальчишечий голос. К нему со стороны кухни бежал Эрнст. — А где Зося? Не видели? Она вернулась, я знаю, тётка Полина сказала, — выпалил он. — Где она?
— Занята сейчас. Я тебе сам всё расскажу.
— Мои живы? — перебил его подросток.
— Живы. И отец, и мама. Отец арестован, не буду от тебя скрывать. Но это ничего. Вызволим отца. Думаю, вызволим…
Антон посмотрел прямо в глаза мальчика. Тот молчал. Антон положил ему руку на плечо:
— Пойдём–ка, брат, покажу тебе одно местечко, где гнездились аисты. Никак не пойму, почему так далеко от жилья? Раньше всегда прибивались поближе к людям. А вот этой весной в чащобу завеялись. Я бывал здесь — бульбу в углях пекли — и тогда что–то не замечал этого. Пойдём?
— Пойдём… Правда, почему в чащобу? Неужели войну чуяли?… — Чуть помолчав, мальчик спросил: — Правда, вызволите?
— Думаю, вызволим, — повторил Мороз. «Смотри, какой молодец, — подумал он про себя. — Даже голос не дрогнул…»
Около часа дня вернулся Андрей Ходкевич, сам вызвавшийся вести наблюдение за учительским домом. Он видел, как утром пришли два полицая, вытолкали Евдокию Петровну во двор и повели.
Около восьми вечера явился Голубович, Утром у него всё получилось удачно — прошмыгнул как мышь. А на обратном пути чуть не столкнулся нос к носу с немцами. Чудом успел проскользнуть в чей–то двор и спрятаться за собачьей будкой в малиннике. Вот все руки исколол и не только — он потёр ниже поясницы. Слава богу, что хоть пустой была будка–то…
Голубович подтвердил: около одиннадцати в полицию привели учительницу. После двух дня приехал в чёрной легковушке фашистский офицер. Пробыл часа полтора и укатил. Затем до самого вечера всё затихло. Ни учителя, ни его жену не выводили. Часовой у входа сменяется через два часа.
Мороз спросил о казнённых. Голубович насупился. Мать передала, что рано утром полицаи отвезли трупы на кладбище и закопали, где попало, никого не допустив на похороны. Креста на них нет, возмущалась мать, где ж это видано, чтоб над покойным человеком никто слезы не пустил. Сволочи! Как будто не людей хоронили, а собачню какую…
Попросил Иван мать и ещё об одном, — осторожно потолкаться вечером возле полиции. Она, правда, ничего особенного не заметила. Ходили туда–сюда с десяток полицаев, вечером бутыль с самогоном притащили.
Так, остановил парня Мороз, кто и куда притащил? Да эти полицаи, к себе, сказал Голубович. Весело им, рыгочут…
Вскоре Мороз собрал небольшой совет, хотя совещаться особенно было не о чем. Исходили из того, что полицаи неспроста запаслись самогоном. А коль так — попойка закончится не скоро, полицаи наверняка захотят покуражиться, почувствовать себя властью, хозяйчиками — для таких мерзавцев нет ничего желаннее, чем война или смута. Выходит, нападать разумнее всего после четырёх утра.
Определились и с тем, кто пойдёт на операцию: Андрей Ходкевич, Максим Орешко, Иван Голубович, который знал в округе каждый закоулок, и два Петра — Наркевич и Слизков, знаменитый на весь район охотник. Ну и Мороз, понятно.
Договорились выйти из лагеря в час ночи.
Ближе к двенадцати Антон решил прилечь, подремать хотя бы часок. Но сон не приходил. Перед глазами беззвучно махали крыльями какие–то большие чёрные птицы, закрывая собой горизонт и солнце, а потом откуда–то донёсся усталый, но нетерпеливый стук копыт…
Тук–тук, тук–тук… Скачут всадники. Трое молодых в выцветших гимнастёрках. Ещё один пожилой и степенный — в красивом светлом костюме и соломенной шляпе на тесёмочке. «Вы кто?» — неожиданно спрашивает доктор того, кто скачет рядом с ним. «Красные бойцы. Мы бьёмся насмерть с буржуями за мировую революцию. Мы хотим, чтобы всё кругом было по справедливости и трудовым людям жилось счастливо и спокойно, а детям их ещё лучше». — «И потому вы стреляете в таких же людей, как сами?» — не унимается доктор. «Мы стреляем во врагов трудового народа, чтобы больше никогда и нигде не стреляли. Революцию нашу хотят задушить в колыбели, как малое дитя, но мы не дадим. Есть и те, кто пока ничего не понимает. Но скоро все–все на этом земном шарике увидят, что мы хотим добра, и пойдут за нами как миленькие». — «И вы уверены в этом?» — «Мы, очень крепко уверены и спокойны за это, — отвечает всадник, смахивая на скаку пот со лба. — Ведь все хотят справедливости, мира и радости. Никого нет, кто бы этого не хотел, кроме буржуев и спекулянтов. И всё это даст наша революция, вот увидите».
* * *
Возвратившись от комиссара, Максим застал в землянке Зосю.
— Я думал, ты уж десятый сон смотришь.
— Да вот, — сказала Зося, поднимаясь. Одеяло с её ног соскользнуло на пол.
Он подошёл, поднял его.
— Обними меня, — попросила она.
Максим неловко притянул её к себе. Её дыхание было горячим.
Зося припала к нему, поднимая и немного закидывая назад голову, прижимаясь, точно птица, бьющаяся в силке.
— Я люблю тебя, Максим.
Он отпустил её, сделал три шага назад, чтобы закрыть дверь на крючок, затем вернулся к девушке…
Когда он перенёс её на лежанку, она взяла его руку и погладила. Максим сказал:
— Зося, пора тебе. Скоро за мной придут.
— И что? — сказала она. — Я ведь жена тебе. Нам никто ничего не запретит. И нам никогда не будет одиноко. Мне с тобой хорошо…
— И мне… А теперь иди… За мной комиссар заглянет.
— Он хороший, добрый, — сказала она.
— Хм, — усмехнулся Максим. — Начальник.
— Он не начальник, он всё понимает.
— Всё да не. всё, — заметил Максим, помогая Зосе подняться с лежанки.
— Поцелуй меня, — попросила она. — Только по–настоящему. Крепко–крепко.
Он поцеловал.
— Я люблю тебя, Максим. Мне с тобой хорошо.
— И мне. Ты такая красивая, ласковая. Опустив голову, Зося пошла к выходу.
— А ты куда? — обернулась она уже на пороге.
— Есть одно дело.
* * *
Ночь была холодная и ясная. У площади перед зданием полиции Мороз дал знак Слизкову и Голубовичу — пора, как и Договаривались, выходить на противоположную сторону улицы и там затаиться на случай, если понадобится прикрытие. Сам он с Петром Наркевичем оставался в засаде на этой стороне, совсем близко от здания, проникнуть в которое надлежало Орешко и Ходкевичу.
Антон чувствовал, как учащённо стучит сердце. Ладони вспотели, и он то и дело машинально вытирал их о телогрейку. Антон старался унять волнение, но это никак не удавалось. Лишь только когда увидел часового, перестал ощущать сердцебиение, стремясь lie выпускать из вида охранника.
Долговязый и худой немец с поднятым воротником шинели то топтался у крыльца, то прохаживался вдоль здания, то направлялся к центру площади.
Наверное, это и насторожило Максима с Андреем. Они медлили. Наконец, комиссар и Наркевич увидели, что две фигуры, прижимаясь к забору, двинулись к зданию. Впереди мягко крался щуплый Андрей Ходкевнч, за ним, в двух шагах — Максим.
Они почувствовали момент, когда часовой остановился у крыльца, и замерли. Затем он повернул направо, и они стремглав бросились к углу дома. Немец, словно предчувствуя какую–то опасность, вернулся к входу, постоял там, пошарил зачем–то по карманам шинели, снова двинулся по площади, опять возвратился к крыльцу и затем вновь повернул в противоположную сторону. Но вот двое услышали шаги часового совсем рядом. Орешко в нетерпении подтолкнул Ходкевича. Но Андрей выждал ещё немного, он словно никак не мог решиться сделать то, что должен был. Ходкевич никогда не убивал и вдруг почувствовал, как трудно решиться на это, даже если перед тобой враг. На какие–то мгновения его руки и плечи точно одеревенели, и он почти вслепую настиг часового, ударил в спину ножом, когда тот уже собирался повернуть обратно к крыльцу…
Стряхнув оцепенение, Ходкевич снял с убитого часового автомат, машинально распихал по карманам телогрейки запасные магазины. Он видел лицо немца, на которое падал свет висящей над крыльцом тусклой лампочки.
— Господи. прости, молодой совсем… Орешко торопил Андрея.
Они взбежали по ступенькам на крыльцо, прислушались, осторожно открыли дверь и вошли внутрь.
Слева за невысокой загородкой различили в блёклом свете керосинки дежурного полицая. Он заснул за столом, положив голову на скрещённые руки.
Впотьмах Максим задел табуретку — она со стуком опрокинулась. Полицай поднял голову, с трудом разлепляя мутные, непонимающие глаза. Партизаны узнали в нём Будкевича, заведовавшего до войны бакалейной лавкой. Начиная приходить в себя, тот стал подниматься с места, завёл назад правую руку, пытаясь нащупать кобуру пистолета. Ходкевич бросился к полицаю и успел опередить Будкевича, закрыв ему рот левой рукой, а правой ударив ножом в спину.
Будкевич застонал, обмяк, и Ходкевич, не решаясь бросить полицая, осторожно уложил его на пол.
— Где они? — торопливо спросил Орешко, как будто Ходкевич мог знать ответ.
— Тише ты, — не сразу соображая, о чем речь, отозвался Ходкевич. — Тут, видать, — кивнул на дверь позади лежащего полицая.
На двери с висячим замком поблёскивало маленькое, с чайное блюдечко, зарешеченное оконце. Ходкевич загнал под скобу нож, с силой потянул на себя. Противно скрипнул металл о металл, но скоба не поддалась. Ходкевич вытащил нож, попробовал просунуть ствол «шмайссера» — нет, не идёт. Снова взялся за нож.
Удар и пауза — придержать нож. Удар и пауза, удар — скоба поддалась!
Распахнув дверь, они увидели в полоске блёклого света полулежащих на тряпье у стены мужчину и женщину. Прижавшись друг к другу, те с надеждой и испугом смотрели на вошедших.
— Подъём, товарищи! — радостным шёпотом скомандовал Ходкевич.
— Только быстро! Быстро! — почти выкрикнул Максим.
Он шёл первым. Перешагнул через убитого полицая и оказался у двери, приоткрыл сё — на площади безлюдно. Тихо выскользнул наружу, оглянулся. За ним шли остальные.
Тут в коридоре раздались шаркающие шаги, кашляние, справа в проёме двери показался дюжий полицай. Различив чужаков, полицай протёр глаза. Вытолкнув женщину, Ходкевич метнул в него нож. Спьяну или со сна тот не сумел увернуться — лезвие угодило в плечо. Застонав, полицай рванулся обратно.
Ходкевич перескочил через невысокие перильца на крыльце и бросился бежать. Орешко с учителями успели добраться до выходящей на площадь улицы, где находились Мороз и Наркевич. Сзади раздались выстрелы. Ходкевич почувствовал, как обожгло правый бок. Следом ударила автоматная очередь, пуля угодила Андрею сзади в левое плечо. Он как раз добежал до угла улицы, за забором. Боли Ходкевич почти не чувствовал. Впереди он увидел комиссара.
— Андрей Иваныч! — крикнул тот. — Подналяг!
Через калитку ворвались в какой–то двор, проскочили его и, обогнув хату, оказались в огороде.
Вокруг лаяли собаки. Доносились ругань полицаев, гулкие винтовочные выстрелы и беспорядочные автоматные очереди. Полицаи, очевидно, не могли установить, куда скрылись партизаны.
— Антон, — не удержался Ходкевич, — убил я… Этого собаку Будкевича… Он и не вякнул…
— Да ну?! — обернулся Мороз. — Раньше первый, сука, флаги красные вывешивал… по праздникам… Патриот…
— Душу прятал! Ох, сволочь, рука немеет…
— Потерпи, Иваныч, потерпи!…
— Да терплю!… Хоть одну сволочь порешил… А знаешь, Антон… жутко. Обличье–то человечье…
— Только обличье и осталось. Ненавижу их, прихвостней паршивых! За кусок сала мать не пожалеют.
Миновали ещё один огород. Позади послышались крики: «Правей, правей бери! Там они!… Да вон жа–а!…»
Где–то застучал мотоцикл.
Проскочили узкий двор с разбросанными дровами и старыми колёсами от телеги, оказались на параллельной улице и рванули вправо — всё ближе и ближе была река, а за нею — лес.
Каждый шаг давался Ходкевичу с трудом. Боль острыми, Резкими стёжками впивалась в плечо. Расстояние между ними и бегущими впереди росло.
— Поднажми, поднажми, родной! — сбиваясь с дыхания, просил Мороз. — Поднажми!…
— Ты, Антон, давай вперёд. Я догоню, догоню!
— Ещё что? З глузду съехал?![5] Вон река!…
Когда до берега оставалось около пятидесяти шагов и они поняли, что остальные уже перешли реку, их заметили. Но отрыв был всё ещё большим и мешал прицельной стрельбе. Пули свистели над ними.
У самого берега, зацепившись в темноте за корягу, Мороз упал, в кровь рассадив ладонь и поцарапав лицо.
— Фу, чёрт, ноги не держат, гори они! — вскочил, ругаясь, Антон. — Ну, поднажми чуток, Иваныч! Давай, родной!…
Река. Почти скатились в воду. Она обожгла холодом, но люди словно не обращали на это внимание и упрямо шли по дну к другому берегу.
* * *
Пробираясь через заросли лозняка, они натолкнулись на Максима Орешко.
— Где остальные? — хрипло спросил Мороз.
— Все ушли, комиссар.
— Кто все? — словно не верил Мороз. Руками он стряхивал с себя воду. В сапогах хлюпало.
— Учителя, Слизков, Голубович, Наркевич. Все! — отчеканил— Максим.
— Молодцы! — Мороз посмотрел назад. — Надо задержать собак. Нельзя дать увязаться.
— Давай я, — сказал Ходкевич. — Я всё одно покуроченный.
— Нет, — резко сказал комиссар. — Останусь я. Идите. Я прикрою, а потом догоню. Не теряйте времени!
— Дурнота! — спокойно возразил Ходкевич. — Тебе нельзя, комиссар. За тобой люди, отряд.
— Ты ранен. Останусь я. Задержу — и следом. Отходите. Приказываю!
— Тогда хоть с Максимом, — Ходкевич поморщился: ныла рука. — Вдвоём и есть вдвоём.
Мороз посмотрел на Максима и кивнул. Ходкевич сказал:
— Только вы, хлопцы, не очень. Попужайте и — в лес. Ага?… Левая его рука болела всё острее, вдобавок он намочил её,
переходя реку.
— Ага, Иваныч, ага! — согласился Антон. — Давай, жми отсюда. А мы их встретим!…
Ходкевич отдал Морозу «шмайссер», патроны, забрал винтовку и, озираясь, двинулся в лес.
Мороз и Орешко вернулись к лозняку. Молча залегли бок о бок.
К реке, там, где только что бежали партизаны, спускались тёмные пятна. Мороз насчитал их пять. Одно взял на прицел и нажал на крючок.
Силуэт резко и странно осел — точно его на полном ходу кто–то повалил на землю. Донёсся шум падающего тела, пятна на откосе слились с темнотой. Притаились и двое в лозняке. Любая выигранная секунда приближала к спасению их и тех, кто пробирался сейчас по ночному лесу.
«Пристрелят тут, возьмут и пристрелят, — подумал вдруг Максим с тоской. Ему вспомнилось, как падал на песчаный берег красноармеец с перебинтованной головой. — Пристрелят, а потом ещё, гады, сожгут. Не закопают же по–христиански. Никто и не узнает… Отца убили, гады… У комиссара семья какая — одних братьев сколько… Я один теперь… один… Никто и не увидит…»
Он повернул лицо к Морозу, позвал:
— Комиссар… Ты прав. Зачем… зачем двоим–то? Неумно… Да и вроде уж дали им по ушам. Может, по одному тикать будем, а? Я пойду, может?… Зоська… там… одна… Одна Зоська… Наши уже смылись, никто не догонит… Ты тут раз–два… и в лес… за мной… А?
— Зоська? — с трудом вникая в смысл его слов, переспросил Мороз. — А вон ты что!… Ну уползай, уползай. Давай, уползай!…
Пятясь на четвереньках, Максим выскользнул из кустарника и, привстав, бесшумными стелющимися шагами побежал в лес.
Мороз услышал за рекой треск. На косогор, ведущий к реке, выскочил мотоцикл. Из коляски длинной очередью застучал ручной пулемёт. Мороз ответил, и ему опять повезло — он попал в колесо машины. Мотоцикл резко развернулся и опрокинулся — водитель слетел с сиденья, стрелка придавило мотоциклом.
Мороз решил поменять позицию и рывком перекатился вправо. В то место, откуда он только что стрелял, ударили из нескольких стволов.
Антон пустил веером длинную очередь, не давая врагам собраться вместе. Они, видимо, ещё не понимали, сколько партизан им противостоит.
Вжик–вжик–вжик… Вжик–вжик… Посыпались на голову срезанные ветки.
Он снова поменял место и снова дал очередь. У реки кто–то вскрикнул от боли.
Можно отступать, решил он, остальные должны уже уйти далеко. Только бы Ходкевич догнал их!
Как только подумал об этом, вдруг сделалось страшно — ведь могут убить.
Страшнее всего, если пуля угодит в позвоночник. Тогда не пошевельнуться. И будешь остывать здесь, на холодной траве–щетине, в двух шагах от леса, за кромкой которого спасение. И враги рядом.
Что скажет Лучинец? Разве имел право он, комиссар, в такой ситуации жертвовать собой?
А в какой жертвуют? Кто знает?…
Он ещё раз сменил позицию и обстрелял врагов, а затем снова переполз в другое место и опять, стараясь бить наверняка, дал очередь в укрывшихся за мотоциклом и на косогоре. Ему ответили тремя короткими, прицельными очередями — на голову посыпались срезанные ветки. Перекатившись вправо, он заменил магазин, пустил ещё одну длинную очередь и опять рывком отполз метра на два.
Затем чуть боком, не выпуская врагов из поля зрения, Антон стал отходить, а когда оказался на более–менее ровной поляне, резко поднялся и наискосок побежал в лес.
Удалившись, наверное, на полкилометра от реки, Мороз услышал где–то близко приглушённый стон. Неужели Ходкевич? Не может быть! Хотя он мог потерять много крови и не догнать своих.
Мороз пошёл на стон, меняя на всякий случай магазин в автомате — это был последний.
Антон едва не наступил на человека, лежавшего на небольшой, зажатой густым перелеском поляне среди жухлого папоротника. Приподняв человека и повернув окровавленным лицом к себе, он не сразу понял, кто перед ним. Постепенно он узнавал знакомые черты, потом различил большой, слипшийся от крови чуб. Придерживая раненого за спину, Антон почувствовал на руке что–то липкое, поднёс ладонь к глазам и скорее ощутил, чем увидел, что это кровь. Максим был ранен в спину.
— Орешко! — позвал Мороз! — Максим!
Один глаз раненого приоткрылся, он попробовал что–то сказать, но только прохрипел:
— Жить… жи… помоги… — а потом точно выдохнул: — Никто…
— Максим! Максим! Орешко молчал.
Мороз с трудом взвалил его на себя, сделал шаг по словно просевшей под ним мягкой земле.
Максим был очень тяжёлым. Спустя десяток шагов Мороз опустил его на траву и, стараясь не причинить боли, снял с раненого телогрейку. Рану, надо перевязать рану!
Комиссар разделся, снял нагельную рубашку и, разорвав её, перевязал Максиму рану на спине — пуля вошла сантиметров на десять ниже правой лопатки. Забинтовать лицо никак не удавалось — повязка не держалась, соскальзывала. Мороз проклинал себя, вспоминая, как гонял своих райкомовцев на санитарные курсы, а сам так и не научился простому, но столь необходимому теперь умению.
Антон надел на голое тело ватник, сырой и холодный, взвалил на себя Максима. Сделал шаг, ещё один.
Прошло около часа. Сквозь загустевающую пелену в сознании — перед глазами подпрыгивали мельчайшие слепящие солнца, и Мороз из последних сил старался выдерживать правильное направление, — комиссар почувствовал, как обмяк Орешко, прервалось его тяжёлое, почти судорожное дыхание, и он стал ещё тяжелее. Тогда Мороз до боли в немеющих пальцах сжал одежду Орешко, боясь уронить эту ношу.
Он дотащил Максима до первого поста, когда уже занялось утро, и впервые за последние недели из–за туч выскользнули, то и дело перебиваясь, робкие, трепетные, как паутинки, солнечные лучи. Мороз уже не почувствовал этого, как и не узнал лица постового партизана, с трудом признавшего в шатающемся, измождённом, словно потерявшем зрение человеке комиссара своего отряда.
Тук–тук, тук–тук… Сквозь предзакатную пелену всадники видят старую тополиную рощу. Окраина Симоновки! Они смотрят друг на друга, словно не веря своим глазам. Наконец! — радость наполняет их. До цели доскакало всего двое — совсем недавно погиб, загнанный, ещё один конь. Но этот человек с медицинским саквояжем и красивыми гладкими руками — вот он, рядом. Доктор Кэ Кэ Серафимов!
Окраина. Белая хата. Раскидистые вишни. Под ними, в холодке — телега… Но никто не бросается навстречу всадникам. На телеге два порубанных тела — одно рядом с другим — породнённые смертной кровью. Нет больше девушки. Зарублен белыми и тот, кто любил её. Погиб их юный товарищ, первым потерявший в степи скакуна, — лежит под вишней с наганом в мёртвой руке… Опоздали быстрые всадники. Не поспели… Тихо–тихо шелестит листьями вишня. Кругом бесконечная южноукраинская степь. Знойное лето, вечереет, трещат цикады…
…Открыв глаза и осознав, что находится в собственной землянке, Антон Мороз с большим трудом восстанавливал в памяти события минувшей ночи.
Дверь землянки отворилась. Антон узнал в вошедшей тётку Полину. Привстал на лежанке, преодолевая ломоту в теле.
— Здравствуй, здравствуй, голубь мой!
— Здравствуйте, тётка Полина! Рад видеть вас!
— Как ты, сынок?
— Да как? Слава богу, жив. Разлёживаться некогда.
— Я вот похлёбки принесла тебе грибной да хлебца свежего.
— Спасибо вам, тётка Полина. Садитесь. Как Ходкевич?
— В жару мечется… Пока плохо… Учителя возле него хлопочут. Как бы не помер… А Лучинец… Лучинец погиб. Нет больше командира…
Она повернулась к Морозу, её губы тряслись мелкой дрожью.
— А Зоська… Зосенька, девочка моя, ходит, всё про Максимку спрашивает… Не в себе совсем… Насилу уложила её…
Тётка Полина не смогла сдержать рыданий и уткнулась лицом в накидку у него в ногах…
Он ещё не знал, скажет ли когда–нибудь всю правду о бегстве Максима и перестрелке у реки. Всю? Что значит всю? Всей правды, наверное, никто и никогда не узнает.
Даже он сам о себе…
Где же моя дудочка?… почему я не играю на ней?… а где же Максим?… вставай, Максимка, вставай, я сыграю тебе на дудочке… фью–фью–фью, фью–фью–фью… как хорошо, правда? Мама улыбалась, а я смутилась, глупая… вставай, Максимка, мы пойдём к маме, и я вам сыграю на дудочке… фью–фью, фью–фью–фью, фью–фью… но где же дудочка?… ну, вставай же, любимый, вставай… И почему я не узнаю тебя?… Вставай, разве ты не живой? Не живой? Не живой?…
Молодые фантасты
Малеевские дебюты
Уже шесть лет существует Всесоюзный семинар молодых литераторов, работающих в жанре приключений и научной фантастики. С прошлого года он носит имя Ивана Антоновича Ефремова. Мы собирали молодых авторов сначала в Доме творчества «Малеевка» под Москвой, последние три года — в Доме творчества «Дубулты» под Ригой, но по традиции круг людей, прошедших школу нашего семинара, зовёт себя малеевцами. Круг этот немаленький — 150 фантастов, около сорока «приключенцев»… По логике сюда следует причислить и руководителей — В. Д. Михайлова, С. А. Снегова, Г. М. Прашкевича, Л. Т. Исарову, П. А. Шестакова. Первым в этом списке следовало бы назвать Д. А. Биленкина — прекрасного фантаста, настоящего наставника молодых. В прошлом году Дмитрия Александровича не стало.
Конечно, семинар — не инкубатор. Не следует представлять дело так, что каждый год мы выпускаем в свет четыре десятка писателей–бройлеров. Попадаются люди случайные, приезжали авторы с чрезмерно завышенным самомнением, но с весьма скудной мерой таланта. Однако те, за кого можно поручиться, — это пять десятков фантастов и примерно двадцать «приключенцев» — люди одарённые, с чёткой гражданской позицией, с уверенной уже рукой. Авторы пытливые и смелые, ищущие новых путей…
Каждый год бывает несколько настоящих открытий, без скидок на возраст и поправок на профессиональный опыт.
Александр Тарасенко. Пишет несколько лет, в двери семинара стучался года два. Первые опыты были весьма средненькими — стандартные пришельцы, обязательные земляне–«прогрессоры» на других планетах… И вдруг — быстрый рост. («Вдруг» — конечно, для стороннего наблюдателя, мы, признаться, ожидали прогресса). К Тарасенко пришло ощущение стиля, в рассказах стала формироваться Судьба человеческая — драгоценное обретение, без которого настоящему писателю не быть.
Владислав Петров — ветеран «Малеевки». Он был участником первого семинара в 1982 году. Он полностью оправдал наши надежды: по–писательски возмужал, обрёл уверенность, его проза носит ныне черты тонкого психологизма — качество, от века присущее лучшей фантастике и, увы, весьма редкое.
Ежегодным встречам предшествует длительная подготовительная работа: поиск авторов, оценка рукописей, тщательный отбор кандидатов. Таким именно образом и «нашёлся» Георгий Вирен, который прислал свою первую повесть «Путь единорога» в «Искатель». Она включена в семинарскую подборку как бы авансом: Вирен поедет в Дубулты только в этом году.
Н. М. Беркова,
заместитель председателя Совета по приключенческой
и научно–фантастической литературе СП СССР,
руководитель семинара
Георгий Вирен ПУТЬ ЕДИНОРОГА Фантастическая повесть
Зрителей на стадионе было трое. Они сидели бок о бок, в серых плащах с поднятыми воротниками и молча смотрели на пустое поле. Стадион был маленький, неухоженный. Дождь заладил моросить с ночи, шёл всё утро, а теперь с неба летела мокрая пыль. Старик, сидевший посередине, поглядел на часы, и сосед слева — лет сорока, с лицом, пухлым, как булка, поспешно успокоил:
— Сейчас начнут, сейчас…
И тут же раздался треск мотора. Из–под трибун неторопливо выехал странный серый автомобильчик, похожий на сильно вытянутую каплю — узкий, почти острый спереди и толстый, круглый сзади. Он ехал осторожно, словно пробуя гаревую дорожку, сделал круг, ещё один, стал набирать скорость, всё быстрей, быстрей…
Старик вздохнул.
Третий круг автомобиль прошёл стремительно, будто и правда превратился в невесомую каплю, гонимую ураганом. Звук мотора стал тонким, зудящим… Из задней части машины выдвинулось нечто вроде крыльев, она задрожала на ходу и вдруг оторвалась от земли, быстро и плавно взлетела метра на три и легла в крутой вираж. Круг за кругом, подымаясь всё выше, она облетела стадион. Потом быстро снизилась, резко ударилась задними колёсами о землю, подскочила и покатила по дорожке, снижая скорость. Крылья спрятались. Автомобиль остановился и постоял, как будто в ожидании. Трое на трибуне не двигались. Наконец поднялась дверца машины, оттуда выбрались двое водителей, постучали ногами о колёса, что–то сказали друг другу и медленно направились к зрителям. Первым шёл высокий парень с испачканным лбом и улыбался.
— Ну как? — довольно крикнул он ещё издали.
Старик поднялся, его спутники тоже.
— Стоило мокнуть, — мрачно сказал он и пошёл к выходу.
Улыбка исчезла с лица чумазого парня, он подбежал к оставшимся.
— Постойте, товарищи! Вы же обещали…
Человек–булка развёл руками, а второй — аскетичный брюнет вежливо пояснил:
— Это не то, что мы ищем…
— Да чего искать, чего искать–то? — заволновался водитель. — Наш «Икар» по своим параметрам не имеет аналогов в отечественном автостроении и выигрывает у машин зарубежных! Да вы что, товарищи! И мы это всё своими руками! Каждую детальку! В сарае, без всяких условий! Если нам базу дать, так мы…
— Брось, Коля, не унижайся, — зло крикнул его напарник. — Ты же видишь — этим чинодралам на всё начхать!
— Ну зачем же так! — Человек–булка всплеснул руками. — Вы меня простите, но вы нас и Николая Николаевича ввели в заблуждение. Может быть, невольно, я понимаю, но всё–таки, всё–таки! Вы обещали показать нам уникальное достижение человеческой мысли, так? А показали всего лишь автомобиль, ну пусть даже летающий…
— Ни фига себе! — возмутился Коля. — Ну если это не уникальное достижение, то я не знаю, какого рожна вам надо! Это же «Шаттл» советских магистралей! Неужели непонятно? Это же революция на транспорте, ё–моё!
— Мы этим не за–ни–ма–ем–ся! — как глухим, крикнул «булка».
— Но хоть как–то помочь вы можете? — сбавил тон Коля. — Ведь этот ваш… Николай Николаевич, вы говорили — академик?
— Да, академик. А мы вот — доктора наук. Но мы не занимаемся автомобилями…
— Но связи у вас небось есть… Ведь мы ради дела старались, — сказал Коля совсем жалко, и напарник его аж плюнул от злости.
— Хорошо, — сказал брюнет. — Я попрошу Николая Николаевича позвонить… Кому звонить? — спросил он «булку».
Тот пожал плечами.
— Может, в КБ АЗЛК? — подсказал Коля.
Брюнет нервно дёрнул головой.
— Я не знаю, что такое АЗЛК. Николай Николаевич позвонит заместителю Предсовмина, который курирует автомобильную промышленность, и тот вас примет.
— Правда, что ли? — недоверчиво хмыкнул Коля.
— Вы только серьёзно подготовьтесь к разговору, продумайте ваши аргументы, представьте техническую документацию…
— Да мы уж, конечно, — начал было воспрявший Коля, но брюнет оборвал его:
— Будьте здоровы. Мы свяжемся с вами.
* * *
Старик, то бишь Николай Николаевич, ждал в «Волге» у ворот стадиона. Когда «булка» и брюнет забрались на заднее сиденье, он сказал шофёру: «В институт» — и уткнулся в цветастый шарфик. Все молчали. Разбрызгивая лужи, «Волга» выбралась на шоссе.
— Прагматики чёртовы! — вдруг буркнул академик. — А ты, Семён, тоже хорош — клюнул!
— Николай Николаевич! — попытался оправдаться «булка». — Они темнили. Говорили, что покажут нечто сверхъестественное, а что именно отказывались сказать…
— Мне это приглашение на стадион сразу не понравилось, — сказал брюнет.
— Разве дело в месте, Костя? — уныло ответил Семён.
— Люди сориентированы на немедленную практическую пользу, неожиданно академик заговорил чеканным лекционным тоном. — Это беда современного мышления. Человек ограничен праксисом, не желает заглянуть за его границы. Технократический образ мысли резко снизил его реальные возможности…
— Они не виноваты, — вздохнул Семён.
— Виноваты! Во всём, что происходит с людьми, виноваты сами люди и никто другой — просто некому больше, — рассердился академик и вдруг спросил с упрёком: — Костя, ты ищешь Зеркальщика?
— Пока безуспешно, — сухо ответил брюнет.
— По–моему, это миф, — сказал Семён.
— Вот и докажи, что миф! Бросай своих Монгольфье и экстрасенсов, присоединяйся к Косте.
— Хорошо, Николай Николаевич. Но я почти уверен, что все эти слухи бред.
— А нам и нужен бред! — тонко крикнул старик. — Нам не нужны изобретатели порхающих сенокосилок и ночных горшков с дистанционным управлением! Мы должны иметь дело только с чудовищным, невообразимым бредом, с нелепицей, с абракадаброй! Только там нужно искать! Только там!
* * *
Матвею приснилась зима. И ещё во сне, малым, неуснувшим краем сознания он понял: зима пришла наяву. Утром открыл глаза и увидел, что комнату залил прозрачный свет — не такой, как в прежние дни мутной осени. Матвей встал, тронул ладонями печку — она ответила угасающим теплом: выстыла за ночь. В окно увидел, что и ждал: покрытые тонким снегом огород, дровяной сарайчик, дорожку. Накинув тулуп, Матвей вышел в сени, открыл дверь и постоял на пороге. Втягивал свежий запах снега, пропитывался им. Не хотел сделать ни шагу за порог, чтоб не нарушить чистый покров, брошенный на семь ступенек крыльца. Скоро замёрз и похромал в дом.
Он ждал эту зиму, с августовской теплыни ждал, через бабье лето и промозглый, дождливый октябрь. С тайной радостью видел отъезжающих дачников, обнаруживал по вечерам, что вот ещё один дом стал тёмным, и ещё, и ещё. Он знал, что совсем один не останется, но всё–таки жизнь замрёт, затаится зимой, опустеет и вымерзнет. Не раз уже снилась ему многоснежная зима с сугробами до окон и гулом метелей, и виделась почему–то свечечка в его окне, затепленная, как лампада у церковных врат. Зима снилась безлюдная, исчёрканная заячьими и лисьими следами, примятая волчьими лапами. Иногда он говорил с собой, называя себя, как мать звала, а больше никто и никогда: Матюшкой. Осенью часто ныла увечная нога, и он заговаривал боль, успокаивал себя: «Подожди, Матюшка, придёт зима — сразу легче станет». И казалось ясным, что зиму он ждёт просто из–за ноги, вот и всё, ничего больше. Но тем же самым, не спящим ни во сне, ни наяву краешком сознания знал он, что ни при чём тут боль (ему ли, горящим комком выбросившемуся из охваченного пламенем истребителя, ему, ли, дважды при ясном рассудке уходившему в клиническую смерть, перенёсшему десяток операций, ему ли бояться боли?), а дело в том, что…. Не мог он сказать, а только чувствовал, как зверь, чуял, что сейчас нужна зима. Потому что она — одиночество и покой, и заброшенность, и свечечка грошовая, от покойницы бабки Груни оставшаяся. А всё это вместе — исцеление. Не от болей — с ними свыкся, с ними и в могилу, — от смуты душевной, от наваждений минувшего года.
И вот теперь пришла зима, и он знал, кто остался в посёлке. На сорок домов — четыре живых души.
Старуха сдвига Витольдовна — сморщенный остаток человека, — прожившая жизнь такую страшную, что Матвей побаивался узнавать подробности — берёг себя от ещё одной беды. Старуха уже много лет была почти невидима: о том, что она пока существует на свете, соседи узнавали — зимой по расчищенной дорожке от калитки до дома, а летом по раскрытому в любую погоду окну на веранде. Продукты ей обычно приносила почтальонша, а сама старуха с участка почти не выходила. За всё прошлое лето Матвей видел её один раз, да и то мельком — в заросшем саду заметил сгорбленную фигурку с огромной лейкой. Впрочем, зимой Ядвига Витольдовна изредка гуляла по посёлку. С Матвеем она раскланивалась дружески: года два назад он починил ей радиоприёмник.
Дядя Коля Паничкин — ветеран пьянства. «Первую рюмку, — счастливо вспоминал он, — опростал я на масленой в двадцать третьем году! Ты вникни, вникни — это ж какой стаж! Ты посчитай — ахнешь! Седьмой десяток пошёл. А было мне тогда неполных тринадцать лет». В посёлке уже не осталось никого, кому бы дядя Коля не впечатал навеки в память эту масленую двадцать третьего года. Каждую весну он отмечал юбилей тот события, и до глубокой ночи над посёлком разносилось: «Мы рождены, чтоб сказку сделать пылью…» Дядя Коля сознательно пел не «былью», а «пылью», вкладывая в это особый антирелигиозный смысл, так как под «сказкой» разумел конкретно Библию, а также всё имеющее отношение к вере. Он любил рассказывать, как в годы задорной комсомольской юности они всей ячейкой «распатронили» соседнюю церковь, и было понятно, что воспоминание греет ветерана. В конце лета дядя Коля обходил дома посёлка и просил у хозяев по пятёрке, обещая всю зиму сторожить от покражи. За такую пену никто не отказывал, и дядя Коля с карманами, полными пятёрок, направлялся к магазину. Если же зимой какой–то дом всё–таки взламывали (шпана из райцентра набегала), то дядя Коля шёл к хозяевам каяться: «Виноват! Оплошал, не уберёг добро, родные мои! Вертаю средства, совесть не позволяет, раз оплошал!» — и благородно возвращал деньги. Поскольку за зиму обычно обкрадывали только две–три дачи, то дядя Коля не оставался внакладе.
Ренат Касимов, приятель и ровесник Матвея, филолог. Он так устроился в своём институте, что ездил туда раз или два в неделю, а остальное время сидел в огромном пустом доме и писал — который год писал исследование о временных отношениях в поэзии. Дача сначала была не Рената, а его жены. При разводе от отдал ей всё, нажитое двадцатилетними научными трудами: квартиру, мебель, машину и попросил только дачу. Он вселился туда с чемоданом одежды и несколькими сотнями книг.
А четвёртая живая душа — он, Матвей Басманов, военный пенсионер, майор в отставке, сорокадвухлетний лётчик–испытатель, списанный по инвалидности семь лет назад после катастрофы. Он давно снимал комнатёнку у одинокой тёти Груни сначала на лето, а потом и вовсе переехал сюда из подмосковного городка, где у него была квартира. А перед смертью тётя Груня возьми, да и завещай ему дом.
Матвей растопил печку и, сгорбившись, сидел перед ней на низкой скамеечке, одно за другим бросал в пламя берёзовые полешки. Огонь заворожил его. Матвей вроде и собирался пойти на кухоньку согреть себе чаю, позавтракать, но вот никак не мог оторваться от огня. Нога совсем не болела, жар из печки разливался по лицу, по груди приятным теплом, и Матвей подумал, какая же странная штука — исполнение желаний. С каким судорожным отчаянием ждал он новой поры, немо звал её, и вот она пришла, а он как будто не готов. А он как будто медлит вступить в неё, и что это с ним — растерянность счастья? Страх обмануться?
— Эх, Матюшка, нелепый ты человек, — громко сказал он и, резко оттолкнувшись обеими руками, встал со скамейки. Сильно, с хрустом потянулся, как в молодости, и сразу ощутил себя здоровым и простым. И удивительное дело — тут же захотелось ему видеть людей, захотелось поговорить, и он решил пойти к Ренату — позвать к завтраку, а то небось сидит на книжках в холодной даче и зубы на полку.
И вдруг вспомнил про Карата, резво захромал к двери, спустился по крыльцу, погубив нежный снег, и крикнул, направляясь к будке:
— А где же моя собачка? У нас же сегодня новоселье с моей собачкой!
Карат — овчарка–полукровка — рванулся на цепи из будки, заурчал, забил хвостом, взмётывая снег, запрыгал и даже гавкнул от радости. Матвей схватил его за толстую шею, потрепал по густой шерсти, отстегнул ошейник, и Карат вырвался, стремительно обежал участок, оставляя крупные ясные следы. Летом я осенью Карата держали в будке, а на зиму переводили в лом, в сени — такой порядок завела тётя Груня, и Матвей следовал ему. Он с удовольствием следил за Каратом, который носился по участку, принюхивался к новому времени года, по–щенячьи радовался… «Вот и хорошо, так и надо», — бормотал Матвей. Потом отвязал цепь от будки, взял миску с обглоданной костью и, многозначительно поглядывая на Карата, понёс всё это в дом. Карат понял перемену жизни и, ошалев от радости, бросился на Матвея, чуть не сбив его мощными лапами. Матвей достал из кладовки толстый половик, положил его в сени, рядом поставил миску, накрепко привязал к специальному кольцу цепь и опять поймал собаку за шерстяную шею: «Вот теперь мы вдвоём будем, собачара, теперь вместе в доме», — и в довершение праздника отрезал Карату здоровый ломоть колбасы. Потом посадил пса на цепь и пошёл через три Лома к Ренату.
Никто ещё не ходил по улице, только кошачий след тянулся с краю.
— Эй ты, салям–алейкум, зиму проспишь! — закричал Матвей, стуча кулаком в дверь. Послышалось шарканье, стук запора, дверь отворилась, и появился Ренат в ватнике на голое тело.
— Заходи, заходи, — восторженно сказал он и побежал обратно. — Ты вот как раз вовремя, заходи, — крикнул уже из комнаты. — Иди–ка сюда, послушай, как интересно…
Матвей плюхнулся на продавленный диван, а Ренат, сидя на колченогом стуле напротив, уже настраивал гитару.
— Хорошо живёшь — песни с утра…
— Ты погоди! Вот послушай — только внимательно…
Ренат, как слепой акын, запрокинул голову и запел медленно и монотонно, растягивая слова, рокочущим басом, какой появлялся у него только при пении.
— Понедельник, понедельник, понедельник дорогой…
При первых словах Матвей скривился, как от боли, но быстро взял себя в руки и опустил лицо, стал глядеть в пол. Ренат этого не заметил.
…Ты пошли мне, понедельник, Непогоду и покой. Чтобы роща осыпалась, Холодея на ветру, Чтоб спала, не просыпалась Дорогая поутру… Дорогая поутру.— А теперь скажи, — торжествуя, продолжил Ренат, — когда это написано?
— Лет пятнадцать назад, может, больше, — мрачно ответил Матвей.
— Я не про то! — отмахнулся Ренат. — В какой день недели, в какую погоду?
— Шут его знает, — пожал плечами Матвей. — В понедельник, наверное… с утра…
— Вот! И я так думал! Но это чушь! Стихотворение написано в воскресенье, поздно вечером, даже ночью! То есть написано оно могло быть хоть в среду, по настроению — в воскресенье ночью. В дождь! И ветер резкий, осенний! Листья не осыпаются — их срывает, несёт, они липнут к заборам, к пороге, к деревьям. А вечером, только что, было тягостное, долгое выяснение отношений с этой женщиной, мучительное объяснение, не первое уже, понимаешь? И тогда ночью — мольба о понедельнике! Обращение в будущее: пусть будет непогода, пусть холод, но пусть — покой! Мольба о покое, понимаешь?
— Вроде так…
— Только так и именно так!
— Ну а что потом?
— Потом — суп с котом, — чуть–чуть обиделся Ренат. Это для меня важно, подтверждает мою мысль. Попросту говоря, эмоциональный эффект достигается симультанно со сдвигом по временной координате.
— Действительно просто, как я, дурак, не догадался? — Матвей наконец улыбнулся. — Обычный сдвиг по координате.
— Вот ты смеёшься, а это чрезвычайно интересно!
— Кто спорит, — Матвей встал и, взял Рената за плечо. — Пошли ко мне завтракать, а то загнёшься без жратвы, симультанный ты мой.
Ренат хотел пойти, как сидел — в ватнике на голое тело, но Матвей удержал его.
— Очнись, салям–алейкум, зима на дворе!
— Неужели? — Ренат подслеповато глянул за окно. — И правда — бело…
На улице он всё приглядывался к снегу, вдруг заметил следы и обрадованно закричал:
— По кошачьим следам и по лисьим, По кошачьим и лисьим следам Возвращаюсь я с пачкою писем В дом, где волю я радости дам!И счастливо засмеялся, сморщив плоский носик. Глядя на него, Матвей заставил себя тоже засмеяться, а Карат, услышав голоса, загавкал, тут же раздался близкий вороний грай, и первая зимняя тишина заходила ходуном, рухнула, рассыпалась, и вот так они вошли в новое время года.
* * *
— Товарищи, она действительно чудеса творит, то есть без всякого преувеличения. — Семён вытер потный лоб и расстегнул воротник под галстуком.
— Что это ты, Сеня, вроде нервничаешь? — подозрительно сказал Костя.
— Ну при чём тут, при чём? — Семён ослабил галстук и укоризненно покачал головой.
Академик глубоко вздохнул и вяло откинулся в кресле.
— Хорошо, Семён Борисович, давайте её.
Семён открыл дверь и крикнул в коридор:
— Антонина Романовна, заходите, пожалуйста.
Круглолицая женщина в тёмном платке, мужском пиджаке и длинной серой юбке, в сапогах, как вошла, сразу встала у порога и опасливо оглядела кабинет, полный стеклянных шкафов с ретортами, пробирками и какими–то блестящими металлическими инструментами, какие у зубных врачей бывают. Женщина остановила взгляд па академике и его помощнике, сидевших за длинным столом, и поклонилась.
— Здравствуйте вам.
— Проходите, Антонина Романовна. — Семён легонько подтолкнул её к столу.
Женщине можно было дать и сорок лет, и шестьдесят. Она села, сжав колени, и стала теребить край пиджака.
— Ну, голубушка, расскажите о себе, — сказал академик и вдруг старчески трогательно улыбнулся.
— Чего сказывать–то, — ответила похожей улыбкой женщина, — из Семиряевки мы.
— А где трудитесь, кем?
— В совхозе у нас, скотницей, — она поправила платок и добавила: Имени Семнадцатого съезда совхоз. Речицкого района.
— Ну так, голубушка, покажите нам что–нибудь из своих умений. Академик вынул из наружного кармана пиджака очки и положил их на середину стола.
— Двигать, что ль? — опасливо спросила Антонина Романовна, кивнув на очки.
— Если сможете, — осторожно ответил академик.
— Не, очки не буду, жалко…
— А почему? — удивился он.
— Вещь нужная, а разобьются, — смущённо пояснила женщина. — Я ж как двину, они и полетят… вона… в угол, — показала она в дальний конец комнаты.
— А потише не получится? — иронично спросил Костя.
— Нет, никак не получится, — решительно сказала Антонина Романовна. А потом у меня на них злости нету, от очков польза людям… Людям, поправилась опять смущённо.
— А вы обязательно должны разозлиться? — заинтересовался академик.
— Ага, — виновато кивнула женщина. — Лучше всего — если по–настоящему. Но можно и так… невзаправду. Чтоб подумать — мол, ах ты, зараза этакая, пошла с моих глаз… Ну и тогда выходит. А лучше взаправду. О прошлом годе у нас дожди были, а асфальт эвон когда проложить обещались, ещё при Хрущёве, а всё нету его, асфальту, вот и застряла машина. С картошкой машина–то. Витьки моего, старшего. Он и так непутёвый, а тут ещё скажут — мол, все люди ездиют, а тебя, косорукого, тягачом выволакивать надо. Такое меня зло взяло — я как глянула, так её будто танком потащило — метров на десять, — Антонина Романовна засмеялась и сразу прикрыла рот ладошкой.
— Ну хорошо, хорошо, Антонина Романовна, давайте всё же попробуем… ну вот, хотя бы сей предмет, — академик поднял с пола на стол пузатый портфель. — Тут ничего нет бьющегося, не бойтесь.
— Портфель? — как будто у самой себя спросила женщина и опустила глаза. — Это ладно, это можно…
Она резко подняла лицо, из её глаз полыхнула такая ненависть, что Костя, как будто задетый взрывной волной, отшатнулся на стуле, чуть не упал. Та же волна приподняла портфель над столом, перевернула и сильно отбросила метров на пять. Он ударился в стеклянный шкаф, тот зашатался, задребезжал, но устоял. Антонина Романовна тут же вскочила и побежала поднимать портфель, бережно отряхнула его и поставила обратно.
— Извиняйте, если что…
— Антонина Романовна, если не секрет, — ласково сказал академик, — а что вы подумали про этот портфель, за что на него разозлились?
— Чего ж секретничать? — Женщина опять поправила платок. — Я подумала, будто в нём все наши семиряевские похоронки собраны. Семьдесят две за войну и ещё две нынешних, с Афганистану.
— Спасибо, — тихо сказал академик.
— А скажите, Антонина Романовна, когда вы впервые заметили у себя… дар? — спросил Семён.
— А когда Фёдор выпивать стал. В семьдесят первом году. Сорок лет мужик был как мужик — ну, выпьет на праздник, и будя. А тут вдруг заладил: «Гибнет, мать, хозяйство, пустит нас новый председатель по миру», — и так каждый день, и всё к злодейке прикладывается. Я уж ему говорила, говорила и даже бить пыталась, только он здоровый у меня бугай — поди сладь с ним! И вот, как сейчас, помню: прихожу с фермы, дело, значит, в среду, ясный день на дворе, ни праздника, ничего, а он сидит, подлюка, в обнимку с поллитровкой. Уж такое меня зло взяло! Я как глянула на ту бутылку — да пропади ты пропадём! А она, ровно птичка, порх со стола и в стенку! На мелкие кусочки! Ох, я испугалась! А Федька — тот вообще онемел, только к вечеру отошёл… Ну мы, конечно, таились, не говорили о том даже ребятам нашим… Но разве удержишься… Скоро на ферме ремонт был, ну и, конечно, ушли ремонтники, а мусор вставили. А телята — они ж дурные, тычутся в кучить, а там — стекло, железяки… Я рассердилась — и весь этот мусор сгребла… А одна наша баба увидела — пошло–поехало… Потом привыкли. Если там где бревно мешает или ещё что — иной раз зовут да ещё и деньги суют, это ж надо! — Женщина опять засмеялась тихо и смущённо.
— Антонина Романовна, — вкрадчиво спросил Семён, — а если, допустим, вы бы захотели поджечь что–нибудь, вот так, на расстоянии? А?
— Да чтой–то вы такое говорите! — возмущённо вылрямилась женщина. Мне такое и в голову не придёт. Али я разбойник, поджигатель?!
— Не обижайтесь, Антонина Романовна, — поспешил успокоить академик. Это вопрос чисто теоретический… Ну–с, голубушка, больше мы вас не будем задерживать… Вы где остановились?
— Да в этой… как его… номер у меня в гостинице… хороший, чистый… Только скучно одной–то, всё телевизор смотрю, уж надоело… Товарищ учёный, — искательно обратилась она к академику, — вы, может, замолвите, где надо, словечко, пускай меня домой отпустят, как раз картошку убирать, а я тут прохлаждаюсь. Я уж покупки сделала, врачи ваши меня обмерили всю, как есть. Можно мне домой–то?
Николай Николаевич вопросительно поглядел на Семёна.
— Понимаете, Николай Николаевич, — торопливо ответил тот, — Антонина Романовна, собственно, находится в распоряжении группы профессора Авербаха, а я, так сказать, позаимствовал временно, на день…
Академик недовольно покачал головой.
— Дело в том, Антонина Романовна, — мягко сказал он, — что науке крайне необходимо знать всё о вашем даре. Вы сейчас не прохлаждаетесь, вы приносите огромную пользу науке, нашей Родине, понимаете? Считайте, что вы выполняете задание особой важности.
— Ну что ж, — вздохнула Антонина Романовна, — если задание, я, конечно, готовая.
Когда она вышла, в комнате повисла тяжёлая тишина.
— Семён Борисович, у меня складывается впечатление, сказал наконец академик отстранённым тоном, — что вы не понимаете стоящей перед нами задачи.
— Ну почему же, почему? — засуетился Семён.
— Почему — это другой вопрос, — перебил его академик. — Нас интересуют открытия и явления, лежащие за пределами современных научных понятий…
— Но она пятитонный грузовик на десять метров швыряет, разве это входит в понятие?! — вскрикнул Семён.
— Явление телекинеза всего лишь недостаточно изучено, но отнюдь не отрицаемо наукой. Вот пусть Андрюша Авербах и изучает его, зачем лезть в его работу. Помимо всего прочего, Семён Борисович, это неэтично.
Семён всплеснул руками, и его круглое лицо скривилось в обиде.
— Николай Николаевич, я действительно не понимаю! Это же как в сказке: пойди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что! Я вам всё, что угодно, достану, я вам снежного человека на верёвочке приведу. Вы скажите — и завтра у нас в бассейне на первом этаже Лохнесское чудище будет плескаться, но я не могу так, вслепую!
— Не обижайтесь, Семён. Я ценю вашу инициативу, но мы действительно идём вслепую, — смягчился академик. — То, что мы ищем, не просто не лежит на поверхности. Оно спрятано так, что о нём и слуха нет.
Он встал, медленно прошёлся по комнате, остановился рядом с Семёном, положил ему руку на плечо.
— Друзья мои, я оторвал вас от ваших лабораторий, от исследований, от монографий, но я честно предупредил: может быть, мы потратим годы впустую. Мне–то было легче, чем вам, принять такое решение: в науке я сказал достаточно. Может быть, всё, что мог. Возможно, наше нынешнее дело просто стариковская блажь. Я не держу вас, Семён, Костя. Поверьте, если вы сейчас уйдёте, я не обижусь, я пойму… Решайте.
Академик встал у окна, отвернулся, стал смотреть на улицу, словно не желал смущать взглядом помощников, делавших выбор.
— Я остаюсь, — резко и как будто с обидой сказал Костя.
— Я тоже, — вздохнул Семён. — Только поймите, Николай Николаевич, мне не очень–то сладко всё время быть дураком с инициативой.
— Вы правы, Семён, — не отводя глаз от окна, сказал академик. Больше всего достаётся тем, кто что–то делает… Пока, — сказал он после долгой паузы, — у нас есть одна зацепка, которая мне нравится: Зеркальщик. Что–нибудь новое появилось?
— Практически ничего, — нервно отозвался Костя.
— А не практически? — настоял академик.
Костя пожал плечами.
— Вот что, Константин Андреевич, давайте–ка суммируем всё то, что у нас есть по Зеркальщику, и подумаем, как дальше быть…
— Одни сплетни есть, — вздохнул Семён.
— Сплетни из ничего не родятся, — почему–то весело сказал академик. Расскажите всё сначала, может быть, мы что–то упустили… Сами знаете, друзья, бывает, что бьёшься–бьёшься, а тот самый фактик–ключик давно у тебя под носом лежит. И ждёт, голубчик, когда ты его заметить соизволишь… Итак?
— Итак, — подхватил Костя, — около года назад я впервые услышал о Зеркальщике. К нам в клуб книголюбов захаживает забавный старикан лет восьмидесяти, бывший гримёр из Малого театра. Он не член общества, никто к нему всерьёз не относится, но из клуба не гонят. Зовут его Панкрат Иванович, а собирает он мистическую литературу начала века — всякую там ахинею: столоверчение, видения Блаватской, тибетские тайны лектора Бадмаева. Так вот, я пришёл тогда в клуб вместе с другом, Сергеем Прокошиным, — слышали, наверное, фамилию, он из сагдеевского института. Он всегда над дедом Панкратом посмеивается, и в тот вечер тоже. Увидел его и сразу…
— Ну ответь мне, мистериозный старичок, как твой друг и ровесник Нострадамус смотрит на перспективы перестройки?
Панкрат Иванович привык к беззлобным издёвкам молодых библиофилов и только слегка нахохлился.
— Перестройка, молодой человек, как любое грандиозное явление, суть равнодействующая бесчисленных астральных тел. А посему определённый и сиюминутный ответ на ваш вопрос невозможен. Это будет шарлатанство. А вот, скажем, ваша личная судьба вполне исчислима, вполне…
— Дык ведь тута без кофейной гущи никак не раскумекать, а кофе нонеча в дефиците, — опять засмеялся Сергей.
— Кофейная гуща — метод ненадёжный, — вдруг перешёл на шёпот Панкрат Иванович и приблизил лицо к собеседнику. — Ныне пришёл человек, являющий въяве лицо судьбы. Так–то, молодёжь.
— Это как — въяве? — тоже зашептал Сергей, подмигнув приятелю.
— А натуральным образом! Посредством зеркальца…
— Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи? Так, что ли?
— Вот именно! — тихо обрадовался старик и опасливо огляделся по сторонам. — Вы смекните — откуда в сказках сие зеркальце пророческое? Ведь из ничего и выйдет ничего, а если что–то есть, то, стало быть, из чего–то…
— Это, дедуля, нам не по мозгам, ты уж нам, лапотникам, попроще…
— То–то и вижу, что не по мозгам! — озлился старик. А дело это потайное, его не каждому понять. Только одно скажу — уже пришёл человек, и в руке его — Зерцало судьбы. Вот и смекайте, молодёжь…
И всегда словоохотливый дед Панкрат отвернулся от собеседников, натянул на самые уши кепку и заспешил к выходу…
— …Так я впервые услышал о Зеркальщике, — продолжал Костя. — И конечно же, сразу выкинул из головы стариковский трёп. Но прошло месяца три, и я снова наткнулся на этот слух. В молочном, в очереди. Сзади меня стояли две женщины лет но пятьдесят — обычные городские тётки, — и одна говорила другой, что слышала, будто секретные учёные изобрели аппарат, который, как в телевизоре, всё будущее показывает. И теперь, мол, ищут для опытов людей, большие деньги обещают, а никто не идёт. И правильно, мол, не идут, потому что если бы мне, то есть этой тётке, в двадцать лет показали, какой я в пятьдесят стану, то я и жить бы не захотела. Я слушал вполуха, тёток из вила упустил, и только вечером, дома, вдруг связал слова деда Панкрата и этот разговор. А месяц назад жена принесла. С чего–то у нас зашёл разговор о том, что наука требует жертв… Да, вот как было: по телевидению показали сухумский памятник обезьяне, а Галина пожалела: тоже, говорит, живые существа, имеем ли мы право распоряжаться их жизнями? Она у меня сентиментальна. Я стал объяснять, что к чему, а она вдруг объявила, что у её сослуживицы есть знакомая, а у той знакомой — дочка, которую учёные–психологи зазвали на свои опыты по определению будущего, и в результате этих опытов девица попала в психлечебницу. Я было усомнился, но тут вспомнил прежние слухи… И вот тогда рассказал всё вам, Николай Николаевич.
Костя замолчал.
— Ну а дальше, дальше давайте, — весело поторопил академик. Отчитывайтесь, рапортуйте, профессор Сорокин.
— А дальше через жену связался с её сослуживицей, а потом — с той самой знакомой, у которой дочку якобы погубили учёные. Оказалось, что никакой дочки у неё нет, а историю эту она слышала от своей портнихи, у которой, в свою очередь, есть знакомая, у которой дочка…
Академик вдруг рассмеялся:
«Который пугает и ловит синицу, которая ловко ворует пшеницу, которая в тёмном чулане хранится в доме, который построил Джек!»Костя укоризненно взглянул на него, и старик смутился.
— Продолжайте, продолжайте, Константин Андреевич.
— Дальше подключился я, — сказал Семён. — Связался со знакомой портнихи, назвался представителем Академии наук, объяснил, что мы обеспокоены слухами об опасных для людей психологических опытах и хотим точно выяснить, откуда эти разговоры идут. Женщина оказалась очень нервной — она кассир в Смоленском гастрономе, — перепугалась до смерти и стала отнекиваться. Пришлось долго объяснять ей, что у нас нет ни намерений, ни полномочий кого–либо преследовать за клевету, и Академия хочет узнать лишь одно: есть ли реальная почва у слухов? Наконец, бедная кассирша призналась, что у неё действительно есть дочка, но она жива–здорова, а вот с дочкиной подружкой что–то такое приключилось. Две недели я эту дочурку пытался поймать: дома она не ночует, где болтается — даже мать не в курсе. Наконец застал её Лома. Здоровущая, розовощёкая кобылка лет двадцати пяти — нигде не работает, не учится. Расспросов моих испугалась, но я нажал, и она созналась, что есть у неё со школьных времён подружка — по фамилии Кудрина, — которая год назад попала в психушку, а до этого путалась с каким–то не то учёным, не то конструктором, хотевшим изобрести машину для предсказания будущего, автоматическую гадалку. Кобылка призналась, что, хотя и рассказала все эти страсти матери, сама им не очень–то верит. Она, то есть кобылка, думает, что Кудрина просто нарвалась на мужика, который ей мозги запудрил, а потом бросил, вот она, то есть Кудрина, и тронулась она вообще всегда была слегка шизо…
— Шизофреничка? — переспросил академик.
— Нет скорее всего. В молодёжной терминологии «шизо» — значит немного со странностями. Кобылка сказала, что Кудрина всегда с ума сходила по всяким тайнам, загадкам и ещё поэзию любила… Дальше — я добрался до матери Кудриной, представился инспектором Академии наук. Выяснил, что девица действительно в больнице, но мать довольно резко сказала, что дочка просто перезанималась, готовясь к экзаменам в институт, и настоятельно просила не беспокоить девочку. Я узнал: она лежит в психиатрической больнице номер четыре на Потешной улице. К ней меня не пустили…
— Тем временем, — вступил Сорокин, — я нашёл Панкрата Ивановича. Он долго увиливал от ответа и только через месяц сказал, что слышал о Зеркальщике на книжной толкучке от неизвестного человека, который искал сборник Ходасевича «Путём зерна» 1920 года издания. Вместе с дедом Панкратом мы трижды были на толкучке, но того человека не встретили. Думаю, поиски бесполезны, потому что тот человек, судя по всему, попал на толкучку случайно и, может, там ещё год не появится. Финита.
— Знаете, друзья, вот теперь, когда вы всё рассказали, — бодро сказал академик понурым сотрудникам, — я уверен, что дела наши отнюдь не плохи. Есть эта Кудрина, надо на неё выйти, вполне официально, я позвоню главврачу, а вы ступайте завтра к лечащему и добейтесь свидания. Путь прямой и ясный…
Академик нажал на кнопку селекторной связи, вызывая секретаршу.
— Ирочка, найдите–ка мне телефон психиатрической больницы номер четыре на Потешной улице… а лучше сами позвоните и узнайте телефон главврача и его имя–отчество… Бороться и искать, найти и не сдаваться, не так ли, друзья мои?
Академик подмигнул коллегам. Они оба сидели с бычьими лицами и в ответ шефу синхронно вздохнули.
— Костя, по итогам этой операции, — мрачно сказал Семён, — мы с тобой должны получить звания майоров физико–математических наук и именные ЭВМ с портретом Штирлица.
* * *
«Господи, неужели теперь всегда так будет?» — вдруг подумал Матвей, проводив Рената. Он пытался забыть эту песенку про понедельник, а она всё лезла, лезла. И с щемящим страхом Матвей подумал, что никуда ему не деться от памяти, и не поможет снежное затворничество, ничто не поможет, если только не обратиться в беспамятного манкурта, но ведь убивать прошлое ещё хуже, чем предсказывать будущее. Он сидел за столом, с которого не убрал остатки завтрака, смотрел в окно на белый сад и старался думать о том, что дров надо наколоть, что пора веранду на зиму забивать, что надо Карата выпустить погулять, и в то же время боролся с желанием обернуться, посмотреть на стоявший за спиной диван, потому что не мог вспомнить, какой на нём узор — цветочки или листочки? И обернулся наконец, и уже не смог гнать песенку про понедельник, а вместе с ней — Милу, и вдруг встал, бросился к дивану, упал лицом в его блёклые листочки, и оказался там, в прошлом времени, где Мила, распустив по плечам лёгкие, невесомо вьющиеся волосы, поджав под себя ноги, сидела на этом диване, перебирала истёртые струны, пела тонко и чисто: «Понедельник, понедельник, понедельник дорогой, ты пошли мне, понедельник, непогоду и покой…»
— …Матвей, ты любишь дождь?
— Нет.
— Почему?
— Потому что нелётная погода.
— Ну это раньше, а теперь?
— И теперь не люблю.
— Почему?
— Потому что нелётная погода.
— А я люблю. Особенно мелкий, негромкий, осенний. Он так тихонько шуршит, как будто кто–то идёт не спеша. Говорят: идёт дождь. Он правда идёт. Я его представляю человеком, который идёт ко мне в гости. Иногда бежит кто–то большой, шумный, этакий сердитый великан. А тихий осенний дождик — он старенький и добрый, он сказки рассказывает, он всех любит, всех успокаивает. Он мой друг. А вот ливень я не люблю — он кричит на одной ноте и похож на электричку над ухом.
— Фантазёрка ты, — Матвей обнял её и ткнулся лицом в плечо.
— Это не фантазии, Матвей, это всё правда, — серьёзно сказала Мила. Это всё есть. Если мы чего–то не видим, то не значит, что этого нет. Я когда была маленькой, думала, что Деда Мороза со Снегурочкой можно увидеть, и много раз в новогоднюю ночь старалась не заснуть. Потом я недолго была дурочкой и думала, что сказки — это неправда. А когда стала взрослой, то поняла, что всё, о чём мы думаем, все сказки, все фантазии, как вы их зовёте, — всё это правда. Это есть, это с нами, это в нас. Ты понял?
— А наш дядя Коля Паничкин, пьяница поселковый, поёт: «Мы рождены, чтоб сказку сделать пылью!»
— Я не знаю, зачем твой дядя Коля рождён, но только им это никогда не удастся… Слышишь, Матвей, слышишь? — Она вдруг привстала. — Слышишь дождь уходит!
— У меня слух никудышный, самолётами порченый, — вздохнул он виновато.
— Да? — Мила с жалостью поглядела на него, а потом тонким пальчиком провела по его щекам, по бороде. — А я всё равно тебя люблю.
…Господи! Каким давним, каким неправдоподобным казалось то время, когда Матвею говорили: «Люблю!» Новёхонькие формы, острые складочки на брюках, фуражечки с форсом набок — курсантское времечко! Танцы, гулянья, ночные провожания, Кати, Светы, Вали в тугих кримпленовых платьях, и музыка, томительная, медленная музыка, и руки на их упругих талиях, спинах, открытые губы и наивные: «Люблю»… И скоро, очень скоро — совсем другая музыка, и одна из них — то ли Катя, то ли Света — у закрытого гроба, в двадцать лет вдова с годовалым пацаном. «Никогда! Никогда! — зло и упрямо повторял про себя Матвей, стоя в почётном карауле у гроба первого офицера из их выпуска. — Смотри! — заставлял он себя не отводить глаз от женщины. — Смотри и помни! На всю жизнь, сколько её тебе осталось, запомни. И не смей плодить сирот и вдов». Над скорбящим посёлком рвали сверхзвуковой барьер самолёты, как будто салютовали лётчики погибшему однополчанину, а Матвей твердил: «Вот твоя судьба — эти ревущие, прекрасные машины и эта музыка в конце. И не смей никого припутывать к своей жизни!»
Он сдержал своё слово, остался одиноким. Иногда искал лёгких отношений с лёгкими женщинами, а если вдруг понимал, что с тайной, невольной надеждой начинает прилепляться к подруге, та рвал — резко и грубо, не боясь причинить боль, зная, что эта боль — лишь тень настоящей, той, вдовьей.
Он сам определил себе срок — тридцать три года. Порой подсмеивался над своей рисовкой — тоже Христос нашёлся — а всё–таки верил в этот срок, рассчитывал под него жизнь. И спешил. Ещё не бывал в Армении? Едем! На Байкале? Слетаем хоть на два дня! Не читал Достоевского? Фолкнера? Бунина? Надо успеть! И жизнь не скупилась. Раз — и нежданно–негаданно кинула его в Африку, на берег Средиземного моря: год работал там, обучал хватких алжирцев водить самолёты. А на обратном пути — езде подарок! — на два дня попал в Париж. И, нагулявшись по Монмартру, по набережным Сены, увидев с Эйфелевой башни дымчатый утренний город, уверился: так дарят только напоследок. В двадцать восемь лет составил список дел на пятилетие — 44 пункта. И за день до тридцать третьего дня рождения выполнил последний из них: обновил памятник родителям и поставил новую ограду на могиле — «на нашей могиле», как говорил он привычно. А после… Не то чтобы искал смерти, но будто дразнил её, подманивал, брался за самые опасные испытания. И благодарил судьбу за то, что она оттягивает последний удар.
В смерти своей одного принять не мог — разрывающих тело, мутящих разум болей. А душа отлетала спокойно, с облегчением и ясностью, ни о чём не жалея. Но воскресал Матвей с недоумением и обидой, потому что снова мучился от рвущих болей. И снова умирал, уносился по длинному тоннелю свернувшегося пространства, свободный от мук тела, радостный и лёгкий. И снова воскресал — уже с раздражением, с отвращением, и хотел скорее уйти окончательно, и просил врачей, стараясь говорить сдержанно, с достоинством, по–мужски: «Оставьте, меня, ребята, дайте помереть». А они матерились: «Ты у нас будешь жить, мы на тебя месячный запас крови извели, а ты, тудыть твою растудыть, кобенишься!»
И когда он на новеньком, непритёршемся, скрипучем протезе навсегда уходил по песчаной дорожке, по берёзовой аллее из госпиталя, ничего, кроме недоумения и растерянности, не было в его душе. Как же так?! Ведь если б знать, как дело повернётся, то жизнь по–другому бы отстроил. И сейчас бежали бы навстречу по песочку несбывшиеся Ванечка и Танечка и давно потерянная то ли Катя, то ли Света, то ли Валя… И был бы дом. И было б настоящее будущее, а не это пустое время, зияющее перед ним… Как же мы все неправильно живём! Какие же мы слепые котята! Колька Пастухов давно в могиле, молодая его вдова из городка сбежала, и Колькин сын теперь другую фамилию носит и другого отцом зовёт. А я вот — жив, да никому не нужен… Как же можно жить, не зная будущего?! Не зная, к чему готовить себя? Не видя ничего за пределом сегодняшнего дня, часа?!
И как же мне быть теперь, когда я понял нелепость слепой этой жизни?
— …Мила, — протяжно позвал он, и в пустом доме голос прозвучал одиноко, глухо. И сразу заскулил Карат. Матвей тяжело встал с дивана, вышел в сени — Карат бросился к нему, стал тереться о ноги, будто почуял тоску хозяина, захотел утешить его.
— Ничего, пёс, ничего, это пройдёт, — сказал Матвей, глядя в тёмные собачьи глаза.
* * *
— Вот видите, — сердитый молодой заведующий отделением, весь в бороде, потряс перед гостями историю болезни, — фактически иду на должностное преступление. Я бы вам и слова не сказал, потому что о наших пациентах мы даже родственникам имеем право не всё сообщать, а уж посторонним — вообще ни–ни. Вам просто повезло, я Николаю Николаевичу отказать не могу. Он учитель моего отца…
— Так вы что же, — обрадовался Семён, — профессора Николаева сын?
— Знаете его?
— Как же нам Вениамина Захаровича не знать! — почти возмутился Константин. — Обижаете, Андрей Вениаминович! В прошлом году он меня к себе в Новосибирск пригласил лекции читать, целый месяц каждый день виделись…
— Так вы даже коллеги? А зачем вам эта несчастная девица? Как она–то связана с теоретической физикой?
— Понимаете, Андрей Вениаминович, — замялся Семён, она, возможно, связана с людьми, исследования которых… любительские, так сказать, исследования, соприкасаются с темой, которой сейчас занят Николай Николаевич…
Врач с подозрением посмотрел на бубличное лицо Семёна.
— Ну ладно, — и раскрыл историю болезни, стал листать. — В общем, ничего хорошего… Суицидальный синдром… Впрочем, вам наши термины ни к чему, буду проще… Двадцать пять лет ей. Закончила музыкальное училище, работала преподавателем музыки в детском саду… ушла оттуда… нигде не работала… Лечащий врач говорил мне, что подозревает… ну, очевидно, она пела в церкви: иногда начинает петь что–то религиозное, вроде псалмов, но бессвязно. А нам попала в октябре прошлого года. До этого — за три дня две попытки самоубийства. Причина неизвестна. Первый раз наглоталась не знаем чего — каких–то таблеток, но её просто вывернуло… Это её мать рассказала, вдвоём с матерью они живут… Два дня лежала пластом, а потом, значит, вскрыла себе вены. Повезло: мать со службы вернулась раньше обычного. Вызвала «скорую», всю в кровище её в Склифосовского привезли. Спасли. Оттуда — прямо к нам. Там один раз пыталась повеситься на простынях. У нас тоже была попытка… В первые месяцы бывали истерические приступы, сейчас — потише. В контакт не вступает ни с кем, почти не говорит. Вообще речь нарушена, бессвязна. Чрезвычайно неряшлива, не умывается, не причёсывается… Вообще же физически она совершенно здорова. И чувствуется, что была красива. Если вы хотите с ней поговорить, то с полной ответственностью предупреждаю: ничего не выйдет. Во всяком случае, пока.
— А как долго продлится это «пока»? — осторожно спросил Константин.
— Не могу привыкнуть, — вдруг с натянутой улыбкой сказал врач. — Уже пятнадцать лет в психопатологии, а не могу. Наверное, никогда не смогу… Вот когда мне такой вопрос задают, чувствую, как у меня сердце смещается. Просто физически чувствую, как оно — раз и набок… Такой вот эффект странный… Ну, вы не родственники, вам скажу просто: это самое «пока» может вовсе не кончиться. Никогда. Через год–два сдадим мы девицу в другое учреждение, и там она будет… до могилы. Но, впрочем, это не единственный вариант. Организм очень крепкий, молодой, и всё ещё может нормализоваться. Но необязательно. Вы ведь, как учёные, понимаете, что на самом деле мы ни черта ещё не знаем ни о человеке, ни о природе… Что вы, физики, что мы, врачи, только диссертации защищаем да щёки надуваем, а по правде–то…
Заведующий отделением не договорил, захлопнул историю болезни и безнадёжно махнул рукой.
* * *
…В босоножках с перепонками, похожих на детские сандалики, в сереньком платьице, скромном, никаком, в платочке, по–сиротски повязанном, она возникла из тумана и спросила совсем негромко, а Матвей ясно услышал, хотя и был далеко от калитки. Услышал, будто над ухом сказали:
— У вас комната на лето не сдаётся?
Ходить с этим вопросом начали с января, и Матвей всегда отвечал «нет». Но комната была, и тётя Груня берегла её для неведомой Матвею усть–лабинской племянницы, которая когда–то давно приезжала гостить и теперь тоже ожидалась. Не первое лето ожидалась, да всё никак не ехала и на тёти Грунины приглашения не отзывалась. Комната пустовала, а в сентябре тётя Груня понятливо вздыхала: «Конечно, у них там, в Усть–Лабинске, благодать, лето до октября, чего ей тут делать…»
Матвей неизвестно отчего вдруг решил распорядиться не своим жильём и даже не подумал, как объясниться с хозяйкой.
— Смотрите, — открыл он дверь в узкую комнату.
Девушка поглядела на обтёрханный древний столик, на стул ему под пару, на матрац с ножками, на картину «Витязь на распутье» и подошла к окну. Заглянула, привстав на цыпочки, — что там, под ним. Там был сад, начинавшийся сразу от дома — яблоньки, кустики вразброс…
— Сколько вы берёте?
— За всё лето — триста, — ответил Матвей наобум и, войдя в роль хозяина, спросил: — Вы одна или с детьми?
— Одна…
— А вот здесь — готовить, — показал он на кухоньку.
Девушка взглянула небрежно.
— Я в конце мая приеду. То есть на той неделе. И всё время, наверное, буду жить. Вас тут много людей?
— Я да старуха.
— Это вы жену так зовёте? — насмешливо посмотрела она на Матвея.
— Нет, хозяйку, — почему–то смутился он. — Она настоящая старуха, семьдесят пять лет…
— А–а, — протянула девушка и опять заглянула в окно. — А цветы у вас есть?
— Растут какие–то…
Матвей не помнил точно, есть ли цветы на участке.
— Вы — жилец? Снимаете?
— Да.
— На лето? Или весь год?
— Весь год. Я живу тут.
— Значит, договорились.
И когда она исчезла — не ушла, а именно исчезла, — Матвей протёр глаза, как будто со сна, и вдруг быстро похромал к калитке, выглянул на улицу… А девушки там не было. Туман был, туман майского утра — лёгкий и нежный. И тогда ему показалось, что девушка соткалась из тумана и растворилась в нём, и было в её явлении нечто загадочное, нечто не принадлежащее твёрдому миру вещей и простых событий, нечто родственное наваждению, мороку, и то была не шутка, не обман чувств и напряжённых нервов: Матвей вдруг понял, что с самого начала подспудно смутило его Карат, голосистый, заливистый Карат почему–то смолчал на этот раз и теперь лежал у крыльца, тихо урчал и косил испуганным тёмным глазом.
Опираясь на клюку, вернулась из магазина хозяйка.
— Тётя Груня, а я комнату сдал, — склонил он повинную голову.
Старуха постояла молча, обдумывая.
— Кому сдал–то? — спросила наконец.
— Какой–то девушке. Она одна. На всё лето.
Подобие улыбки скользнуло по морщинистому старухиному лицу.
— Ну и ладно сделал, — махнула она рукой и пошла в дом. Уже с крыльца спросила:
— За сколько сдал–то?
— За триста…
— Ирод бессовестный, — беззлобно сказала тётя Груня. — Ты б ещё за триста рублёв Каратову вон будку сдал. Оглоед.
* * *
…А тогда, после песочной дорожки, после берёзовой аллеи жить стало невозможно. То есть жить даже очень можно — с военной–то пенсией здоровому бездельнику (ну и что, что на протезе? Не в инвалидной ведь коляске! А боли… Стерпеться нельзя, что ли?). У, ещё как можно жить–то, и не доживать, а именно жить («Ста лет тебе не обещаю, — сказал лечащий врач на прощанье, — но до восьмидесяти можешь дотянуть. Если не сопьёшься»), наконец, жить, не считая сроков! Но не мог.
Плотно закрыл окна в комнате и на кухне. Двери из кухни в прихожую и из прихожей в комнату открыл настежь. Пустил газ на полную из трёх конфорок и лёг на диван в белой рубашке и в тренировочных брюках. Думал, что заснёт себе тихонечко — и привет. Но сна ни в одном глазу не было. Лежал, вытянув руки по швам, и пытался вспомнить детство, но вспоминались только мать и отец — рядком, как на свадебном фото, а вот этого вспоминать не хотелось. Он красиво придумал, что перед смертью вся жизнь пробежит перед мысленным взором, замедляя бег на счастливых мгновениях, показывая их вновь и вновь, как показывают рапидным повтором голы на экране, но ни хрена почему–то не бежало. И будто в насмешку вылезли толстые голые ляжки безымянной от времени девицы и его, Матвеево, давнишнее глупое, почти мальчишеское удивление: «Вот это да! А под юбкой и незаметно было, что такие толстые!» Завоняло газом. С раздражением встал, достал бутылку водки, зубами сорвал пробку, налил сразу стакан и вылил сразу. И кинулся к окну, чуть не вышибив раму, распахнул его — глотнул прохладный чистый воздух летней ночи. Стоял, вбирая его. Выталкивал газ из лёгких. В тишине ловил ничтожные звонки, расшифровывал их (машина… ветер в листьях… шаги прохожего… чёрт его знает что… скрип рамы…). Дрожал то ли от холода, то ли от предчувствия. И внезапно, разбив тишину, раздался привычный взрыв — невидимый, однополчанин прорвался за звуковой барьер, ушёл в иное измерение и подмигивал оттуда, недоступный судьбе.
Наутро помер майор Басманов, а выживший Матвей отправился в своё другое измерение. Уходил он медленно, по пути меняясь, день за днём обрастая новыми подробностями: появились борода и тяжёлая суковатая палка по руке, неспешным, тяжёлым стал шаг, слова порастерялись, набралось молчания… А потом этот дом в посёлочке возник, и бабка Груня, и Карат, и зимний тулуп, и ватник на осень и весну, и хватка колоть дрова, и с печкой управляться, и многое другое, что могло показаться сутью, но было лишь предисловием к сути.
А суть нарастала медленно. Матвей сопротивлялся: она представлялась ему тёмной пульсирующей массой, набухающей, вяло клокочущей, страшной до озноба, до мурашек, колюче бегущих по коже от затылка к пяткам, а потом по рукам, по кистям, да самых пальцев, и пальцы дрожали. Просыпался посреди ночи, выходил курить на крыльцо, вполголоса говорил звёздам: «Не дай мне Бог сойти с ума…», и звёзды согласно мигали: «Не дай…» Он отталкивал нарастающую суть, пугался её, называл безумием и содрогался от прежде неизвестного ему страха. И неравная эта борьба тянулась долго, выкручивала нервы, высасывала душу, пока однажды, обессиленный, измотанный, дрожащий, не вышел он на обычное своё крыльцо… То всё как–то ночью выходил, а тут — под утро проснулся.
И увидел рассвет.
Просто рассвет. Июньский. Обычный — розовеющий с востока.
Заворожённый, не мог оторвать взгляд. Не шелохнувшись, стоял до чистого утреннего неба.
И тогда отчётливо понял, что это — чудо. А значит, глупо не верить в чудеса.
Вот и прорвался он за барьер — без взрыва, в тишине. За барьер трезвого смысла, одномерности и расчёта.
Лишь потом, много спустя, он всё это вспомнил, обдумал, исчислил и назвал именами, а тогда словно стронулось что–то в мире, переменилось, и только одно откровенно и ясно предстало перед ним: он обречён на войну с этой слепой жизнью, не знающей своего будущего. Он победит тьму, развеет её, и каким бы диким, нелепым ни казалось со стороны это противоборство, он вступит в него. Ради этого были лётные годы, ради этого — самообман сроков, ради этого — мучительное воскрешение. Всё не случайно: он избран, отмечен, предназначен.
Исчезла тёмная, клокочущая масса, исчез страх, внезапно обнажилась суть, и была она прекрасна.
* * *
— …Что это вы не спите? — сказал Матвей, и вышло грубо, будто был он сварливый хозяин и цеплялся к жиличке.
Он смутно увидел её в тёмном открытом окне, сидящую с ногами на подоконнике, когда вышел по старой привычке покурить часа в два ночи. Кончался май, она переехала на дачу неделю назад и жила незаметно, почти не соприкасаясь ни с хозяйкой, ни с Матвеем.
— Я очень люблю ночь, — сказала она едва слышно. — Я сова. Если б можно было, я жила бы ночью, а днём спала.
— И что б вы делали ночью? — с усмешкой спросил Матвей и опять почувствовал неуместность своего тона. Но она будто не заметила этого.
— На помеле летала бы, — серьёзно сказала она.
— А–а, так вы, значит, ведьма? — засмеялся Матвей.
— Нет, я колдунья.
— Злая или добрая?
— Очень добрая.
Глаза Матвея привыкли в темноте, и ему показалось, что он различил на лице девушки улыбку.
— Ну так сделайте что–нибудь хорошее.
— А что вам нужно?
— Мне… — Матвей задумался. — Если вы колдунья, то сами должны знать!
— Я знаю, — решительно сказала девушка. — Вам нужна вера в собственные силы.
— Точно! — удивился Матвей.
— Видите, я действительно знаю. Я почти всё про вас знаю.
— Расскажите, — попросил он насторожённо.
— Только не обижайтесь, я правду буду говорить. Так вот, вы не верите в свои силы с самого детства, потому что все ребята были нормальные, а вы — хромой. Они бегали, играли в футбол, в хоккей, а вы за ними не могли поспеть. И вам стало казаться, что вы — хуже. И отсюда всё пошло. Учиться в институте вы, наверное, не стали, спрятались в этом посёлке…
— Так, так, — подбодрил Матвей, сдерживая смех.
— …Профессии настоящей не получили, ведь вы не работаете? Завели себе мастерскую и сидите в ней целыми днями, соседям утюги чините. Семьи у вас нету. А всё потому, что вы не верите в себя, считаете себя хуже других. А ведь это совсем не так! Ну что из того, что вы хромаете, подумайте! — «Колдунья» увлеклась, и её голос звонко разносился по ночи. Вы могли бы выбрать любую профессию. Мало ли таких дел, для которых неважно — хромой ты или нет, ведь правда?
— Конечно, правда, — покладисто сказал Матвей.
— Никогда не поздно начинать! Надо только поверить в себя! Вот взяли бы, например… и выучили какой–нибудь иностранный язык. Вы ведь ни одного не знаете, — сказала она убеждённо, и Матвей не выдержал — расхохотался.
— Вы ужасно молодая, ужасно самоуверенная и совсем плохая колдунья! Он откашлялся и запел. — «Аллонз анфан де ла патри…»
И с чувством довёл «Марсельезу» до конца, подчёркнуто грассируя.
— Вы знаете французский? — растерянно сказала девушка.
— Да, милая колдунья, я год работал в Алжире, был и во Франции, правда, недолго.
— А кем же… А кто же вы? — совсем растерялась она.
— В Алжире я был советником…
— Вы — дипломат?! — почему–то ужаснулась она.
— Нет, я был военным советником, точнее — пилотом–инструктором.
— Вы — лётчик?! А как же… нога?
— Вот тут–то и есть главная ваша ошибка. Я не просто хромой, я без ноги, но вовсе не с детства, а всего шесть лет.
Девушка помолчала и вдруг захихикала:
— Ой, какая же я дура! Я думала — сидит такой бирюк в бороде, примуса починяет…
— Да это просто соседи иногда заходят, я и помогаю…
— Бы не сердитесь?
— Напротив! Вы меня повеселили. Я теперь знаю, как выгляжу со стороны.
— Нет, нет! Вы гораздо лучше выглядите, честное слово! Я всё–таки чуть–чуть, совсем капельку колдунья, и я угадала, что вы не должны быть таким бирюком, что вы намного лучше и интереснее. Правда! Иначе разве я стала бы всё это вам говорить?
Он засыпал с лёгким сердцем. Почему–то казалось, что, в сущности, жизнь прекрасна, в той самой своей потаённой сущности, столь редко раскрывающейся людям, она прекрасна и чудесна, то есть полна чудес и загадок, разгадывать которые заманчиво и радостно. С чистой душой, готовой верить любым обещаниям жизни, заснул он. И увидел сон о Единороге.
Увидел себя маленьким, лет семи, на краю леса. Замшелого, буреломного, сказочного леса. Матюша стоял на солнечной опушке, по пояс в траве, и слышал, как в глубине, в чащобе хрустят под грузным телом ветки. Мальчик знал, что там гуляет Единорог, и не боялся его. Он сделал шаг к лесу. Близко, над самым ухом невидимая мать попросила: «Осторожней, сынок». Матюшка кивнул и вошёл в лес. Сразу на плечо ему спрыгнула золотая Белка, прижалась к щеке, обвила пушистым хвостом шею. «Эге–гей!» раздалось издалека, и Матюша понял, что это спешат его друзья: Серый Волк и Иван–Царевич. Волк был ростом с мальчика, с длинной шерстью, он пах по–домашнему — теплом и печкой. «Здравствуй, Волк», — Матюша обнял его за толстую шею, спрятал лицо в шерсти, а Волк лизнул его щёку горячим мокрым языком. «Здравствуй, Ваня», — сказал мальчик, и Царевич (с отцовским лицом — давним, запечатлённым на фотографии военных времён, когда Матюши ещё не было на свете, и никто не знал, ждать ли его) поклонился. Солнце острыми лучами проникало в лес, и каждый луч падал на яркую кровавую бусинку брусники. Шаги Единорога слышались рядом, но он не приближался, а словно кругами ходил, не спеша, уверенно — то ли время не пришло ему показаться, то ли просто гулял сам по себе. Белка перепрыгнула с Матюши на Волка и села у него на загривке. «Звал нас?» — спросил Царевич, и мальчик кивнул. «Вы обещали взять меня в лес». — «Ещё не пора, — печально сказал Царевич. — Ты подожди немного». Совсем рядом шумно вздохнул Единорог, а затем тяжело повернулся, и шаги его удалились. Пока они не стихли, Матюша, Царевич, Волк и Белка молча смотрели в ту сторону, куда ушёл Единорог. «Вот видишь, — сказал Царевич, — ещё рано». Матюша услышал тихий, облегчённый вздох и понял, что это мать, с опаской следившая за ним, отпустила тревогу и страх. «Хорошо, — покорно сказал мальчик. — Я буду ждать». И снова обнял тёплого Волка, прощаясь.
Он отвернулся от друзей и, сделав всего несколько шагов, оказался на опушке, заросшей травами. Над ними летали бабочки, множество бабочек, и каждая оставляла короткими цветной след. Следы вспыхивали, исчезали, переплетались, путались, от этого в воздухе дрожало многоцветное марево, и спящий Матвей словно услышал мысли мальчика: «Вот лето кончится, а потом зима, а потом опять будет лето, я приду сюда и обязательно увижу его».
На этом сон кончился, но Матвей провидел, что продолжение есть, и оно казалось ему второй жизнью. И если от первой жизни он прожил большой кусок, то эта вторая — таинственная, манящая — только начинала своё медлительное течение, устремлённое в баснословный край, исполненный сияния.
…Он проснулся с разгадкой. Как будто незримый покровитель нашептал ему, спящему, те слова, которые Матвей искал уже два года — бился, маялся, а найти не мог. И вот теперь всё вдруг стало ясно — до деталей. Он окончательно понял принцип Машины. Теперь дело было за техникой, всего лишь за техникой, которая должна воплотить принцип в реальность. Техника подвела Матвея только однажды, но теперь–то он знал, что тогда, во время катастрофы, не техника не сработала, а просто судьба, исполняя предназначение, повернула жизнь Матвея в иное русло. А теперь судьба вела его к удаче, и техника не могла подвести.
* * *
…Он тащил эту ветку тяжело, упрямо и с иронией думал: «Я похож на муравья» — ветка была в два человеческих роста длиной и толщиной, как нога толстяка.
— Вы такой хозяйственный, экономный, — сказала она нараспев и поднялась навстречу со скамеечки у крыльца. — Можно, я помогу!
— Вот ещё! — буркнул недовольно и даже отстранил её жестом.
Кинул ветку к дровяному сараю, отряхнул руки и закурил.
— С чего вы взяли, что я экономный?
— У вас полный сарай дров, а вы всё тянете… ветки, ящики…
— Понимаете, — Матвей присел рядом, — вот эта берёза, например, моя ровесница или около того. Если её распилить умело и топить тоже умело, то хватит на три, ну четыре зимних вечера. Представляете, целая жизнь прошла, а всего–то — на три вечера обогреть старуху да инвалида. А если на весь год — значит, нужен нам небольшой лесок. Он рос, жил, а мы его — раз и спалим. И чтобы вырос такой же, нужно ещё лет сорок. Мне стыдно хороший лес жечь. Вот и хожу, как побирушка, по посёлку и вокруг, ищу сухие ветки, деревья, старые ящики, заборы, доски — если губить, то отработавшее, послужившее, не живое. Чтоб справедливо было.
— Вы в справедливость верите? — спросила она с удивлением.
— А почему нет? — в ответ удивился и он.
— Но ведь жизнь несправедлива!
Они смотрела удивлёнными ясными глазами, чуть–чуть недоверчиво, будто подозревала его в подвохе и ждала, что он и сам сейчас рассмеётся, признается, что пошутил, конечно.
— Вы уверены в этом? — спросил он и впрямь с подвохом.
— Ой, вы же смеётесь надо мной! — как будто обиделась она. — Ну где же справедливость в жизни? Все эти случайные смерти, болезни, все эти лавины и сели, машины с пьяными водителями, гололёд, бандиты и хулиганы… А в природе?! Ведь там тоже нет никакой справедливости! Жизнь жука или божьей коронки так же случайна, как жизнь человека… А само рождение разве не случайно? А где случайность, там не может быть справедливости.
— Философы называют случайность формой проявления необходимости…
— Ой, да не знаю я этой философии! Я вижу, что нет в природе ни справедливости, ни правды! Справедливость только в сказках… Поэтому дети их так любят… Дети вообще хотят справедливости… а потом привыкают, что её нет в жизни…
— Конечно, нет, — согласился он неторопливо. — В природе нет. И в жизни нет… Но…
Матвей помедлил, словно не решаясь продолжить. Затянулся в последний раз, затоптал бычок.
— Но в том–то и штука, что человек эту справедливость может принести в мир. Человек — царь природы не потому, что изобрёл луноход. А потому, что он, только он один может изменить мир по законам совести, справедливости. И смысл появления человечества — не покорение природы. Смысл — принести справедливость. Если каждый будет так жить, то… случайности, конечно, никуда не денутся… но справедливости в мире будет всё больше, и больше, и потом, может быть, настанет…
— Царство божие?
— Это уж как назвать.
— Вы, Матвей, философ. Только всё это теория, в жизни по–другому.
— А разве жизнь не от нас зависит?
— Нет! — крикнула она с обидой. — Вот почему я ушла из детсада?
— А вы там работали?
— Да, музвоспитателем. Я и детей люблю, и музыку, и вообще это самая хорошая профессия — учить детей музыке, а я всё равно ушла. Там, в детсаду нашем, все воровали. Повара воровали, бухгалтер воровала, половина воспитательниц воровали и, конечно, директор всех покрывала и сама воровала. Масло, сахар, муку, просто деньги — скажем, на ремонт выделят, а они как–то так сделают, что половина денег у них в карманах остаётся. Ну и что я могла сделать?! В милицию пойти? Так у них там все свои. Написать куда–нибудь, чтоб комиссию вызвали? Были и комиссии, гак их тоже покупали. А кто пожалуется — тому ещё хуже. Одна воспитательница против них пошла, так они её саму чуть не посадили — еле убежала. А я вовсе не боец, не знаю я всех этих уловок, даже не понимаю, как им удаётся воровать, только видела не раз, как они вечерам на «рафик» — мешками, ящиками…
— Понимаю, — кивнул Матвей. — А всё–таки это ничего не меняет. Сами–то вы не воровали. И что ни делай с вами, всё равно не стали бы воровать. Вот я и говорю, что всё от человека зависит… А воруют… Что ж — это всегда было. Будущего своего не знают — вот и гадят. А посмотрели бы на себя лет через десять в арестантских куртёнках где–нибудь в Сосьве авось по–другому жить бы стали…
Она засмеялась тоненько, и Матвей взглянул удивлённо.
— Извините, — смутилась она. — Просто вы мне одного человека напомнили… Вас только двое таких, наверное…
— Кого же?
— Отца Никанора. Моего… ну, как это сказать… даже не знаю…
— Отца?
— Ну да, он священник. Я–то неверующая, так воспитана. Ну а когда из детсада уволилась, не знала, куда идти. Не хотела ни другого сада, ни школы — там всюду одно и то же: враньё и гадость. А у меня голос хороший и слух абсолютный. И я пошла в церковь, сказала, что готова петь в хоре. Отец Никанор пригласил меня к себе домой — рядом с церковью домик у него. И представляете, что меня там поразило — у него там рояль. Концертный «Петрофф», старый, вполне приличный. Он меня усадил, я стала петь, играть, потом он тоже, под конец даже арию царя Бориса исполнил — и так здорово! Оказалось, что он до семинарии учился в консерватории. Молодой ещё… лет сорок ему… Он был рад вспомнить прошлое… И согласился меня взять. А я ему тогда честно сказала, что, наверное, иногда не смогу петь. У меня бывает, что голос пропадает, если настроение плохое. Я боялась, что он меня будет уговаривать, мол, дело есть дело, тем более — если деньги, мол, артист должен петь в любом состоянии… Или вовсе прогонит… Но он… знаете, вот как вы, — понимаю, говорит. К господу, говорит, надо с тихой душой идти, а если не спокойно вам, то обратитесь к Нему с молитвой в сердце своём. И когда не сможете петь, то не надо. Он поймёт. Я чуть не заплакала… Нам же всю жизнь одно — и в школе, и в училище: ты обязан, у тебя долг, надо заставлять себя, преодолевать слабость, надо воспитывать в себе и в учениках волю, ответственность, ты должен, должен… Я в храм, как на праздник, лечу… А если нет настроения… Молиться я так и не научилась, хотя теперь много молитв и псалмов знаю… В бога не верю, нет… не отвергаю, но не верю… ещё не готова… Я в лес иду. Слушаю птиц, дождь… А зимой — просто смотрю — белые деревья и синее небо ничего нет лучше… А завтра я пойду в храм. Завтра ведь большой праздник — Преображение Господне. Я готовлюсь к нему. И все наши тоже готовятся, и весь причт тоже… Будет очень хорошо, настоящий праздник будет… Приходите, Матвей! Правда, приходите к нам завтра!
— Спасибо за приглашение… Но ведь я неверующий…
— Ну и что? Я тоже, не в этом дело!
— Понимаете, Мила…
О, каким обманом была его трезвая рассудительность и как мало спокойствия было в душе! Нацеленный на дело, на борьбу, единорогом прущий к цели, о которой и подумать страшно, отринувший во имя этой цели всё, решивший и жизни не пожалеть, и уже загодя зачеркнувший эту жизнь, выделивший себя из круга людей, отделившийся от них заповедной зоной, он внятно ощутил растущую тревогу за эту счастливую беднягу и понял, что не сможет пройти мимо и что путь к цели не обок этой девочки лежит, а через её душу, слишком хрупкую для беспощадного, действительно несправедливого мира. Он почувствовал груз той самой нелюбимой Милой ответственности, от которой не мог уклониться, не мог сбежать в леса и храмы, потому что был старше, сильней, опытней, потому что играл уже в гляделки со смертью и вынес её взгляд. Он в бога не верил, но знал, что есть в мире силы, смысл которых огромен и до поры не ясен и мощь неизвестна. Он бросил им вызов осознанно и дерзко, а в ответ — он понимал это! — получил Послание, и явилось оно в облике Милы. Он силился разгадать тайный код, уловить смысл Послания, но весь великий смысл оборачивался большими тёмными глазами, тонким, звенящим голосом и всей её хрупкой фигуркой, соткавшейся из тумана и готовой раствориться в нём. Смысл ускользал, а Матвей, ворочаясь ночью на топчане, всё гнался и гнался за ними, не отступая, потому что погоня уже привычно вошла в его кровь, потому что много лет гнался он за принципом Машины и догнал его, понял во сне и теперь воплощал в провода и диоды, в микросхемы и экран, в медь и пластик. Воплощал в реальное, твёрдое и знал, что дойдёт до конца — воплотит. Одного не знал — что дальше случится, но готов был ко всему. Тут и настигло его Послание зыбкое, многозначное…
Ночь — его время, и опять она помогла. Он проснулся внезапно — с готовым ответом. Ошеломлённый его простотой, он вскочил с топчана, бросился на крыльцо, настежь открыл дверь в ночь. Беззвучно шевелил губами, повторял, обращаясь к немигающим звёздам: «Я люблю её… Я просто люблю её…»
* * *
— Успокойтесь, Анна Сергеевна, пожалуйста успокойтесь, — Костя хотел дотронуться до её руки, лежавшей на столе, но женщина резко отшатнулась.
— А я спокойна! Я спокойна! — истерически крикнула она. — Девочка просто перезанималась, устала, вот и всё! Она отдохнёт и поправится, мне обещали! Я ведь вам это ещё в первый раз сказала! Чего вы хотите, я вообще не понимаю!
— Да ведь, наверное, не в том дело, что дочка ваша перезанималась? Или вернее — не только в том дело, не так ли, Анна Сергеевна? — мягко сказал Семён.
— А в чём? В чём ещё?! И какое вам дело?
— Я же объясняю, — сказал Костя, — у нас есть сведения, что ваша дочь перенесла сильное душевное потрясение. И связано это с неким человеком или людьми, ведущими… ну, определённые научные работы… Мы интересуемся этими людьми, понимаете?
Женщина безвольно сложила руки на коленях, опустила голову, и стала заметно, что она вся а некрасивых клоках и пятнах седины.
— Вы, наверное, из КГБ, — сказала ока наконец спокойно. — Так бы и сказали сразу, а то всё кругами ходите… Ничем я вам, товарищи чекисты, не смогу помочь. Только одно скажу — никаких иностранцев у ней знакомых не было, это точно. А после того как из детсада ушла, она и домой–то редко заглядывала. Может, я сама виновата: всё пилила её, мол, хватит гулять, надо серьёзным делом заняться. А занималась она…
Женщина вздохнула, с опаской, исподлобья глянула на гостей.
— Ну чего уж скрывать… В церковном хоре она пела. Тем к жила.
— Где? В какой церкви? — быстро спросил Семён.
— В церкви Успенья Богородицы, в селе Романове… Это недалеко, по Киевской дороге… Там где–то рядом и комнату снимала.
— А адрес вы знаете?
— Вы мне только правду скажите, товарищи чекисты, ей за это что будет? — Женщина переводила глаза с Семёна на Костю, а потом, выбрав Костю, жалобно попросила: — Только честно скажите!
— Анна Сергеевна, ну что же вы такое говорите? — мягко укорил её Костя. — Да пусть пела, разве это запрещено? Никто вашу дочь не думает преследовать, честное слово. Нам нужны только люди, с которыми она общалась в последнее время.
— Я–то там не бывала ни разу, но Люда сказала, что она живёт… Нет, не в самом селе, — женщина силилась вспомнить, но что–то застило её память. — Рядом — посёлок дачный… Забыла название… Сосновка, что ли? Нет, не помню…
Семён досадливо хлопнул ладонью по коленке, и женщина вздрогнула.
— Извините, — сказал он. — Может быть, детали вспомните? Что за дом? Что за хозяева?
— Да, помню! — обрадовалась Анна Сергеевна. — Помню! Люда говорила, что от посёлка до церкви ей четверть часа идти — сначала лесом, а после полем. Что хозяйка — старушка. И ещё в доме инвалид живёт.
— Имя, имена не говорила?
— Имя? Ой, что–то крутится… То ли Михаил этот инвалид, то ли… Макар? Или Андрей?… Нет, не помню.
* * *
— Костя, мы что–то не то делаем, — ожесточённо сказал Семён, когда сели в машину. — Мы делаем что–то не то, — повторил он размеренно и зло. Не тебе объяснять, как я уважаю Деда. Он для меня и мать, и отец, и Альберт Эйнштейн. Но я не могу из–за любви к нему обслуживать его блажь, не могу! — сорвался он на крик.
— Успокойся ты, остынь, — ответил Костя.
— В свои семьдесят семь он может позволить себе каприз, а я?! Работа стоит, лаборатория срывает план, сотрудники скоро забунтуют, а я устраиваю дела каких–то автомобильных лётчиков с их дурацким «Шаттлом»! Из плана полетела моя монография, на конференцию в Лондон я не поехал, а ведь меня Говард приглашал, сам Бенджамен Говард! А я сейчас вместе с тобой должен искать какое–то Успенье Богородицы! Что мы там найдём?! Ну богомольная старуха, ну инвалид юродивый, дальше что?! Ну секта, какие–нибудь трясуны–баптисты…
— Баптисты — не секта и не трясуны, — возразил Костя.
— Я ничегошеньки в этом не понимаю! Я синагогу от мечети не отличу, я физик — и не самый плохой! — а не поп и не сыщик! Я понимаю, Костя, я всё понимаю, я знаю, что без Деда я бы и сейчас преподавал «Физику» Пёрышкина в шестом классе Омской школы, но ведь… Ведь это что выходит — я тебя породил, я тебя и убью?!
— Семён, — сказал Костя напряжённо, — тебе не кажется, что мы в тупике?
— Да! Именно в тупике! С самого начала всей этой странной затеи!
— Я не о том, — нервно перебил Костя. — Не кажется ли тебе, что все мы, учёные, в тупике? Ведь всем давно ясно, что мы раздробили науку на тысячи осколков, направлений, узеньких штреков, каждый долбит свой лаз и не видит общей цели. Движение для нас — всё, а зачем, куда? Считается неприличным, наивным задавать этот вопрос. А Дед — гений. Он ищет принципиально новые пути, парадоксальные, невероятные. Поверх барьеров. Их нельзя выдумать за столом, их надо отыскать в жизни, понимаешь? Позавчера был у него на даче. Он выписал себе штук сто книг по философии, истории, этнографии Индии и Китая, обложился ими с трёх сторон, сидит — и конспектирует, как первокурсник. Ищет. Уверен, что все возможные глобальные открытия предугаданы много веков назад. Думаешь, почему он так вцепился в Зеркальщика? Потому что — «свет мой, зеркальце, скажи да всю правду доложи…». Откуда это взялось? Вся история цивилизации переполнена предсказателями будущего — пророками, прорицателями, оракулами, пифиями. И ведь угадывали, черти, не раз угадывали! А Дед сидит, чешет лысину линейкой, приговаривает. «Нет дыма без огня! Бороться и искать…», и пишет, как всегда, двумя карандашами: синим — конспект, красным — свои соображения. Анна Егоровна мне жаловалась на кухне; по двенадцать часов сидит, как молоденький, она его гулять силой вытаскивает… Семён, скажи честно: неужели ты допускаешь, что Дед свихнулся?
Семён убито вздохнул.
— Нет, конечно…
— Вот так–то. Ладно, едем в Романово, — Костя включил мотор. — А Бенджамен Говард тебя подождёт. И Нобелевская — тоже…
* * *
…Сначала Матвей относился к нему с иронией, потом с симпатией, а потом стал считать как бы другом. Отрезав себя от старых друзей и связей, он хотел одиночества, но выходило так, что совсем без людей нельзя. После смерти тёти Груни и ухода Милы Матвей остался с Каратом, и доходило до того, что тянуло повыть с ним на пару. Тогда он шёл к Ренату, отрывал его от работы, и тот — близоруко и покорно — соглашался идти обедать, или дрова колоть, или в лес.
А впервые Ренат сам пришёл к Матвею с наивно–наглой просьбой: не может ли он дровами помочь, а то холодно. Матвей подивился на здорового мужика, который не удосужился дровами запастись, а теперь клянчит на дармовщинку. Но что–то удержало его от резкого отказа: наверное, нелепый вид Рената — ватник, золотые очки и лаковые мокасины, заляпанные глиной. Когда с вязанкой дров пришли на Ренатову дачу, Матвей огляделся и разом всё понял про жизнь хозяина: веранда с безногим столом и битыми стёклами, пустая комната, заваленная пыльными газетами и журналами, ещё одна такая же — поменьше и погрязней, с продавленным диваном, тощий кот с фосфорическими голодными глазами, в закутке–кухне — газовая плита, во много слоёв заляпанная подгоревшим варевом, и наконец — большая жилая комната с облупившейся печкой и сотнями книг на полках и в стопках, рабочим столом с аккуратно разложенными листами бумаги, карандашами, ручками и элегантной, сверкающей хромом пишущей машинкой.
— Такой дом протопить тебе, знаешь, сколько дров надо? — грубовато сказал Матвей.
— Я как–то… привык… к холоду. Работается лучше… и вообще, извинился Ренат.
— Ты что, писатель?
— Не–ет, — засмеялся он, — я литературовед.
Матвей не мог серьёзно относиться к такой работе, она казалась ему не мужским делом, а баловством дамским. Раньше, в лётные голы, он бы посмеялся в открытую. Тогда он вовсе не считал нужным присматриваться к людям, делил их на мужчин и всех остальных: женщин, детей, стариков. У «остальных» были точно определённые функции: у одних — спать с мужчинами, рожать детей и вести хозяйство, у других — расти и учиться, у третьих доживать и помогать молодым. А мужчины, в свою очередь, делились на «шляп» и мужиков, то есть на тех, кто тусуется помаленьку при жизни, ловчит и бездельничает, и тех, кто эту самую жизнь на себе тянет. Картина была без полутонов, чёткой. И особенно чёткой от того, что, как в рамку, помещалась в решённые Матвеем сроки. Но рамка рассыпалась, и он стал приглядываться к людям: ведь оказалось, что среди них ещё долго, наверное, жить, и стоит, пожалуй, разобраться получше. По прежней мерке Ренат был стопроцентной «шляпой» и даже не просто «шляпой», а «шляпой с пёрышком», то есть находился на последней ступени мужского падения, донельзя приблизившись к бабам. Теперь же Матвей не спешил с оценкой. И мало–помалу, отвечая на вопросы, которые сам себе задавал, он ощутил, как растёт его симпатия к «шляпе» и меркнет ирония. «Трудяга или бездельник?» — спрашивал Матвей. Ну хорошо; пусть работа его непонятная и бестолковая, но ведь трудяга! И не просто, а фанат. Готов не есть, не пить, а целыми сутками вкалывать. Если бы все так ишачили, давно уже коммунизм был. Ловчила? Смешно сказать достаточно взглянуть на его логово. Балбес? Ну уж нет — в своём деле дока, ас. А вот похитрей вопрос, наивный на вид, из драчливого детства: пойдёшь с ним в разведку? И ответ вполне взрослый: насчёт разведки не знаю, а вот то, что этому парню верить можно — факт. Такие не продаются и не покупаются, как их ни заманивай, ни стращай. Матвей, конечно, не мог доказать этого, но он почувствовал в Ренате упрямую силу его предков степных наездников, — и тогда привязался к нему. Может быть, потому, что он, Матвей, бросив вызов неведомым мрачным силам, тоже должен был быть настырным фанатом, но порой ощущал в себе и неуверенность, и робость, и даже страх, и даже подлое желаньице плюнуть на всё и на всех, завалиться на диванчик у телевизора и жить вот так — бездумно и безбедно. Но он приходил в пустой промёрзший Ренатов дом, видел этого чёрта упрямого в ватнике на майку, замотанного в драный шарф, в очочках, еле сидящих на плоском носу, и Матвею делалось стыдно, он называл себя «шляпой с пёрышком», рохлей, слюнтяем, тюфяком, штафиркой, бабой, и в нём подымалась тогда та самая злость, которая города берёт. Ведь смелость это так, для стороннего глаза, а на самом деле города берут от обиды и злости.
А разобравшись в этом, Матвей честно попытался понять смысл Ренатова дела. И Ренат столь же честно, без издёвки постарался объяснить ему.
— Я изучаю литературу. Некоторые очень наивные и не очень грамотные люди считают, что мы должны помогать писателям лучше писать, а читателям лучше понимать их. Ерунда. Этим критики, наверное, долины заниматься, но уж никак не мы. Мы — такие же учёные, как химики, физики, биологи, мы изучаем природу, мир. А литература — это часть мира, это такая же реальность, как… ну как деревья или камни. И вот минералоги, геологи, геохимики разбираются в составе этих камней, структурах, качествах, а мы точно так же копаемся в литературе, стараемся понять её законы и структуры, и таким образом расширяем знания человечества о мире. Литература — огромна, и каждый из нас выбирает себе её часть. Я вот временные отношения в поэзии. По существу дела, я изучаю время — то, как оно отражается в маленькой части мира — в поэзии… Я коплю наши общие знания о времени.
— Ну и что же такое — время? — тревожно улыбался Матвей.
— Форма существования материи, если тебя интересует определение из учебника, — отвечал Ренат с виноватой улыбкой. — А если нет, то… Загадка. Самая великая загадка. Понимаешь, время — один из самых важных факторов эволюции живых организмов. И не исключено, что именно время таит разгадку принципов организации жизни во Вселенной.
Поминутно поправляя очки на переносице, Ренат читал:
«Что войны, что чума? Конец им виден скорый; Их приговор почти произнесён. Но как нам быть с тем ужасом, который Был бегом времени когда–то наречён?»— Ну и как же нам быть? — криво усмехнулся Матвей, пряча растерянность.
— Согласно моей гипотезе, — серьёзно пояснял Ренат, — наиболее сильные эмоциональные всплески возникают на временных сломах, как я их условно определяю. Ну, например, пушкинское:
Я вас любил. Любовь ещё, быть может, В душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит: Я не хочу печалить вас ничем.Это один из классических образцов лирической, то есть высокоэмоциональной поэзии, и одновременно — подтверждение моей гипотезы. Здесь в четырёх строках — все три времени: прошлое, настоящее, будущее. Таких примеров у меня сотни, самых разных. Я разработал типологию временных отношений в лирике, систематизировал их. Эту гипотезу я почти доказал. Почти — работа ещё не завершена. Но если докажу, то из неё произойдёт другая гипотеза, которая строго говоря, пока ещё не гипотеза, а лишь догадка. А именно: эмоциональная жизнь человека невозможна без пересечения в нём трёх временных координат. То есть человек без прошлого лишён эмоции, без будущего — обращён лишь в прошлое, ущербен и, по сути дела, мёртв. Ну а настоящее — это вообще условная точка пересечения прошлого и будущего. Я не могу назвать человеком того, кто живёт лишь мигом настоящего, — это робот. Если сильно примитивизировать, то в самых общих чертах именно такова суть моих поисков…
— Ты считаешь, что это большое открытие? — осторожно спрашивал Матвей.
— Во–первых, открытия пока вовсе нет, есть догадки, не больше… А что касается открытия… Скажи, ты помнишь из школы, что сделало человека человеком?
— Ещё бы — труд сделал!
— Вот именно. А если когда–нибудь моё открытие состоится, то оно будет означать, что человека сделало человеком осознание фактора времени. А труд только вытесал из обезьян материал для человека.
— Ну это ты, брат, загнул…
— На научном языке это звучит примерно так: «На мой взгляд, уважаемый коллега, ваша гипотеза нуждается в глубоко фундированных исследованиях», смеялся Ренат. — Но только эта гипотеза выходит далеко за рамки литературы — в психологию, философию. Правда, литература тем и хороша, что выводит на самый широкий круг гносеологических проблем…
— Чего?
— Проблем познания. Но это всё впереди, пока я за философию всерьёз не брался, пока — вот, конкретика, — и он обеими руками хлопал по стопкам книг. — А вообще–то мне хочется верить, что все мы — дети времени, что от него зависит вся наша эмоциональная жизнь, жизнь души. Но это я только с тобой так распускаюсь, а в другое время не позволяю себе увлекаться далёкой перспективой. Иначе — прости–прощай, моя научная объективность и добросовестность!
Не раз и не два «пытал» Матвей Рената и всё примерял его мысли к своей потаённой работе, всё старался понять, как же изменится человек, когда откроется ему будущее.
И однажды намекнул, в общих чертах рассказал о том, чем занят дни напролёт на чердаке. Но Ренат отреагировал странновато. «Что ж, — сказал он, — это дело интересное. Желаю удачи». И перевёл разговор на другую тему…
* * *
— …Ты мой бирюк, — шептала Мила и водила пальчиком по его бороде. Раз, два, три…
— Что ты считаешь?
— Седые волосы…
— Я уже старый.
— Только семь. Не старый.
— Я уже прожил одну жизнь, а теперь живу вторую. Я старше всех абхазских долгожителей.
— Наоборот, ты ещё совсем маленький малыш в этой второй жизни. И у тебя есть детские тайны, как у малыша…
— Не надо, Мила.
— Но ведь я всё равно узнаю, чем ты там занят на чердаке целыми днями.
— Узнаешь, если сделаю…
— Что?
— Самогонный аппарат, — засмеялся Матвей.
— Ты смеёшься, потому что считаешь меня дурочкой. Сам не хочешь сказать, но я всё равно догадалась…
— О! Я, кажется, снова слышу знаменитую колдунью!
— Смейся, смейся… Ты хочешь узнать будущее.
— Ты… Ты… — опешил Матвей. — Как ты догадалась?
Теперь засмеялась Мила.
— Вот так–то, таинственный бирюк! Колдовство!
— Нет, правда, откуда?
— Ты не знаешь, что ты говоришь по ночам?
— Неужели? — искренне удивился Матвей.
— Мне это приятно, — опять засмеялась Мила. — Это значит, что ты никогда не жил ни с кем… долго.
— И что ж я говорю?
— У тебя есть любимая фраза: «Человек должен знать будущее» — я её раз пять уже слышала. А иногда ты говоришь так жалобно: «Слепые мы, слепые, как так можно!» — и будто всхлипываешь. Или вдруг заскрипишь зубами страшно и как крикнешь: «Ты покажешь будущее, покажешь!» Я сначала даже пугалась, а теперь привыкла. Я тебя вот так поглажу — и ты сразу успокаиваешься и спишь. Посапываешь, как малыш…
— Да, в разведку меня посылать нельзя, — улыбнулся Матвей смущённо.
— Я и не пущу тебя ни в какую разведку, выдумал! А ещё… Обещай, что ты не будешь сердиться! Ну!
Матвей молчал.
— Ну обещай, а то не скажу!
— Обещаю.
— Один раз я решила попробовать… Я слышала, что если человек говорит во сне, то в это время надо взять его за мизинец и задавать любые вопросы — он ответит честно… Я так и сделала однажды… Я тебе только три вопроса задала.
— Какие? — спросил Матвей недовольно.
— Ну не сердись, пожалуйста, Матвей! Я спросила, правда ли, что ты хочешь сделать что–то такое, чтобы угадать будущее. И ты сказал: «Да». Но это был второй вопрос, а сперва я спросила… Не сердись! Я сбросила: любишь ли ты меня? И знаешь, что ты ответил?
— «Да», что же ещё…
— Нет! Ты ответил: «Очень!»
— Это я могу и наяву сказать…
— Ну а мне хотелось, чтобы совсем–совсем–совсем правду…
— Правдолюбка, — улыбнулся Матвей и чмокнул её в щёку. — А третий вопрос?
— Понимаешь, Матвей, ты во сне иногда говоришь о каком–то Единороге… Я не понимаю, что… И я спросила: «Кто такой Единорог?» Но ты ничего не ответил. Я снова спросила, и ты забормотал что–то про чуму, войну, время… Я не поняла. Кто это — Единорог?
— Да никто, — сказал Матвей. — Проста сказку, наверное, вспомнил. Я в детстве сказки любил, мифы… Спи, колдунья.
— Не могу…
— А что случилось?
— Знаешь, мне и хорошо и тревожно. Хорошо, потому что люблю тебя, а тревожно — не понимаю почему… Как будто что–то на нас надвигается… Я чувствую — вон с той стороны, из–за леса. Как будто там что–то собралось, скопилось и медленно–медленно ползёт к нам через лес… Страшно.
— Не бойся, ведь я с тобой, — сказал он неуверенно.
— У тебя бывает так — когда и хорошо и страшно?
Он не ответил.
Ещё бы не знать ему этого! Он испугался, как точно высказала Мила то же, что чувствовал он, и поразился этому совпадению, и сразу же понял, что не совпадение тут, а родство, единство, а значит — соединение судеб. И это, именно это, а не взвесь тревоги и счастья всерьёз испугало его. Ведь он снова, как в лётные годы, не мог, не имел права соединять свой путь с душой другого человека. Он бросил свою судьбу против неведомых, угрюмых сил и сам, только сам должен был выиграть или проиграть. А проигравший должен быть смят, растоптан, безвозвратно изувечен и выброшен вон из мира, который останется тогда несправедливым, немилосердным.
И никого не должно быть рядом, никто не должен быть вместе с ним сокрушён смертельным ударом.
Но вот не вышло. Не сумел. И теперь отвечает за Милу. Но нечем ему ответить, выбора нет. И остаётся идти тем же путём навстречу неизвестности и уповать на свои силы, на удачу, на благое предназначение, может быть, дарованное ему судьбой.
А Мила подсказала точно — именно там, куда уходит солнце, копилась и зрела угроза. Он не боялся, а только знал, что это близится схватка. Потому что одновременно, днями напролёт работая над Машиной, чувствовал приближение последней спайки, последнего туго закрученного винта. Техника и вправду не подводила. И по мере долгой работы росла его любовь к Машине, и всё ясней и ясней ощущал он, что Машина отвечает такой же любовью.
Он засыпал с предчувствием Сна. Но раз за разом предчувствие обманывало, и ночи были пустыми, чёрными, а пробуждения беспамятными. Сон пришёл нежданно, когда Матвей, расслабленный и счастливый, заснул безо всяких предчувствий, уткнувшись в Милины пушистые волосы.
Вокруг был дождь — он шёл из серого неба ровно, буднично, несильно, давно. Лес промок до мха, и на полянах земля уже не вмещала воду, и она выступала чистыми лужицами. Но на Матюшу дождь не попадал, а штаны он высоко подвернул и с радостью ступал по мокрой тёплой земле, по прозрачным холодящим лужицам. Он уходил всё дальше в лес и ничего не слышал там, кроме дождя. Вдалеке от опушки увидел знакомую берёзу — старую, толстую, раскоряченную, почерневшую, в Матюшин рост покрытую мхом. Он знал её не один год, а недавно услышал слова былины: «У той ли берёзы, у покляпыя», и сразу понял, что вот эта его берёза и есть «покляпыя». Он погладил её мох, поглядел на соседние молодые берёзки и подумал, что они тоже когда–нибудь станут такие же покляпые. Он пожалел их всех и молча пообещал им потом, на обратном пути, придумать, как сделать так, чтобы они навсегда остались светлыми и стройными. За старой берёзой начинался лес — совсем глухой, страшный, и Матюша пошёл к нему. «Вернись, сынок», — сказала берёза маминым голосом. Он обернулся, посмотрел на высокий просвет серого неба, увидел, как капли дождя исчезают, не достигая его лица. Потом посмотрел на старую берёзу и покачал головой.
Он шёл долго и слышал только дождь. И всё чаще и чаще попадались на его пути кровавые бусинки брусники, но Матюша не трогал их, опасливо обходил стороной.
И вдруг дождь стих. Матюша видел, как падают тысячи одинаковых капель вокруг, сливаясь в чуть посверкивающие линии, видел, как вздрагивают листья и травы от дождя, но не слышал его. И в наступившей тишине раздались далёкие, грузные шаги. Матюша замер в сладком испуге, счастливый и дрожащий. «Ваня, Ванечка!» — невольно вырвался зов. Но никто не откликнулся, не послышалось лёгкого волчьего бега, а тяжкие шаги Единорога близились.
И Матюша пошёл навстречу. Раздвинул густые ветви — и вдруг увидел перед собой широкий ручей, по обоим бережкам плотно укрытый кустами и деревьями. Матюша помнил, что ещё недавно никакого ручья здесь не было, а теперь вот — бежал. Прозрачный, быстрый, бесшумный. А шаги были совсем рядом — за ручьём, за плотной оградой зелени. И вдруг — стихли. Матюша понял, что вон там, где свисая над ручьём, дикий малинник переплёлся с высокой травой, стоит Единорог. Мальчик услышал его прерывистое гулкое дыхание.
И вокруг — Единорог завозился, зашумел, затопал и стал уходить! Шаги его удалялись, удалялись и скоро стихли совсем. Со слезами на глазах слушал их Матюша. А потом настала тишина, и мальчик повернул назад. И как только он сделал первый шаг от ручья, по лесу пронёсся вздох, и мощно, с шумом обрушился на Матюшу дождь. Словно ушёл, растворился невидимый покров над ним.
Он вынырнул из дождя, вбежал в сухой чистый дом, и там его встретил ласковый и грустный взгляд матери.
— …Что с тобой, Матвей? Ну что с тобой?
Он отмахивался от Милы, не отвечал. Ходил мрачный, страшный, перестал бриться и зарос почти до глаз. Уходил в лес, курил там по пачке за раз, возвращался — и падал лицом на топчан. Лежал молча, не спал. Приходила Мила, гладила его, целовала в затылок.
— Не надо приходить, — процедил он через силу.
— Ну что с тобой, Матвей?! Что?! Я не могу так!
Он и хотел ответить и знал, что надо ответить, но слова застревали в глотке, язык не ворочался. Всё оказалось липой! Всё! Всё!
Сумасшедший фанатик ждал грома небесного, явления запредельных сил в облике какого–нибудь там чёрного ангела Азраила, смертельной схватки и, может быть, смерти в сиянии славы, а может, неслыханной победы и жизни, восстающей над прахом поверженного Зла! А вышел–то пшик! Блеф! Пустота!
…Вскоре после Преображения тихо отошла тётя Груня. Незадолго до этого отписала ему дом, он отнекивался, потом благодарил. Перед смертью слегла. Матвей и Мила ухаживали за ней, как за матерью, а она уж и говорить почти не могла, но улыбалась и тяжёлой рукой крестила их обоих. А вечером, перед кончиной, поманила Матвея пригнуться и прошептала:
— Помирать–то легко. Хорошо. А вы любитесь.
Наутро умерла. И когда отпевали её, голос Милы чисто взмывал под самый купол церкви, к добрым ангелам, поселённым там богомазом. И память по тёте Груне осталась светлая, лёгкая, помогавшая жить.
Матвей и жил, вдвое больше и быстрей, вминая в краткие дни всё больше работы. Исхудал, лицо почернело, осунулось, а ходил весёлый. Тревога ослабла, а ожидание удачи и счастья для всех вдруг разрослось, заполнило и его, и мир вокруг. Дело было не только в том, что Машина стояла почти готовая и совсем мелочишка оставалась до конца. Матвей неожиданно ощутил радость от слияния своей судьбы и судьбы Милы. Всю жизнь запрещал себе любить и ещё недавно испугался за Милу, а тут вдруг понял, что сорок с лишним лет прожил дураком, не знавшим счастья родства душ. А теперь узнал, оттого и жил вдвое больше, вдвое богаче.
И как–то так запросто, без всяких знамений и пеших снов, пришёл миг, который Матвей ждал семь лет новой своей жизни. Он протёр Машину тряпочкой, будто телевизор от пыли, — Машина действительно напоминала телевизор, деловито сел в кресло перед ней и без торжественной паузы приладил к себе клеммы. Он давно решил, что первую пробу проведёт на себе. Ловко, как будто не впервые нажимая клавиши, набрал давно просчитанный код и затем уверенно и аккуратно надавил на большую, красную, выточенную из пуговицы от старой тёти Груниной кофты кнопку «пуск». Машина заворчала, Матвей почувствовал тепло, идущее от клемм по телу. Он совсем не удивился, когда на посветлевшем экране увидел черты своего лица. Правда, он рассчитывал, что изображение будет чётче, но и так нормально.
Машина имела одно ограничение — чисто техническое, которое потом несложно будет исправить: у неё был точечный диапазон — она заглядывала на 17 с половиной лет вперёд, ни больше ни меньше. Матвей вычислил, что ему будет тогда 58 лет, а на дворе — апрель. Он верил, что доживёт. И без страха смотрел па экран, где должно было появиться его пятидесятивосьмилетнее лицо.
Машина бурчала, клеммы грелись. Лицо на экране немного дрожало, плыло. Вот сейчас оно должно совсем расплыться, и на его месте возникнет будущее. Матвей учитывал и то, что он, возможно, не доживёт до этого возраста — тогда на экране появится чёрное пятно. Что ж, пусть, ведь это всё равно будет означать победу, и лучше короткая осмысленная жизнь, чем протяжные пустые годы. Ну давай!
Он просидел пятнадцать минут, а лицо на экране всё так же дрожало и ничуть не менялось. И вот — щёлкнула, вылетая, залипшая кнопка «пуск», клеммы сразу стали остывать. Так и было задумано — автоматика чётко отключилась, сеанс окончен. Но главного не произошло!
Пушистой, без мыслей и чувств, он повторил всё сначала. И всё без изменений повторилось. Матвей вдруг усомнился в расчёте кода, бросился к микрокалькулятору, судорожно проверил… Всё было правильно.
Ни техника, ни математика не подводили его. Спокойно и властно вмешались незримые силы и положили предел самонадеянным потугам.
Без грома и молний.
«Без грома и молний», — повторил он потерянно.
И впал в тоску. Онемел. И не мог ответить на Милино отчаянное: «Ну что же с тобой?!»
…А потом нашло оцепенение. С утра как сел за столом в большой комнате, так и сидел. Тянул одну «беломорину» за другой, забывал о них, они гасли, он закуривал снова. День был солнечный, октябрьский, синий с золотым, красивый до изнеможения глаз, а он не смотрел за окно. Скрёбся в дверь Карат, а он не слышал. Смеркалось, а он не замечал.
Вернулась со службы Мила. Заглянула в комнату, ничего не сказала. А потом пришла, села на диван, поджав ноги. Сняла со стенки ветхую тёти Грунину гитару…
Понедельник, понедельник, понедельник дорогой,
Ты пошли мне, понедельник, непогоду и покой…
И он вдруг заново увидел её — с распущенными по плечам пушистыми волосами, услышал тоненький её голос и то, как звенело и переливалось в нём птичье «ль»… И понял, что здесь спасение, или хотя бы возможность спасения, или хотя бы надежда на спасение, но даже если только тень надежды, то спасибо милосердной судьбе за эту тень.
Стоя перед диваном на коленях, уткнувшись бородой в Милины нежные руки, он рассказал ей всё — до конца. Рассказал сбивчиво и, как казалось ему, неясно, путано, но она всё поняла.
— Мы начнём сначала. Потерпи, милый, — сказала шёпотом на ухо, и он вдруг услышал не её голос, а тот странный голос матери–берёзы из сна, остерегавший Матюшу. — Покажи мне Машину, — попросила Мила обычным голосом, и он повёл её на чердак.
Машина стояла холодная, равнодушная, и Матвей вдруг понял, что некогда шедший от неё ток любви иссяк. Стояла мёртвая железка.
А Мила вдруг загорелась:
— Матвей, а дай мне попробовать!
Он пожал плечами.
— Какой толк?
— Ну пусть никакого, дай!
— Пожалуйста.
Мила села, и он закрепил клеммы. На микрокалькуляторе посчитал код для Милы.
— Матвей, значит, семнадцать с половиной лет? Это… мне будет сорок один! Как тебе сейчас! Ой, совсем старуха! засмеялась Мила.
Он набрал код, нажал «пуск», машина загудела, и на экране проявились черты лица Милы, дрожащие и чуть расплывчатые.
— Ой, смотри, смотри! — обрадовалась она.
— Да что смотреть, — отмахнулся Матвей. — Это ведь ты теперешняя. Ящик с такой картинкой тебе любой слесарь смастерит…
— А жжётся, — сказала Мила довольно и прикоснулась к клеммам. Значит, работает.
— Как же, работает она, — проворчал Матвей, почему–то разом успокоившись и не держа зла на Машину. В конце–концов, она–то чем виновата? Железка — и всё.
Вдруг гудение стихло и перешло как бы в шорох. Одновременно черты лица Милы на экране поплыли, смешались, на его месте забегали, изгибаясь и мигая, прерывистые линии, чёрточки, экран стал темнеть, на нём вспыхивали яркие точки, потом он посветлел по краям, а темнота начала сжиматься к центру…
Матвей до боли вцепился в ручку кресла: он понял, что сейчас на экране возникнет тёмное пятно. Ещё недавно он был готов увидеть его с торжеством, как доказательство победы, но сейчас! И сквозь ужас беспомощности одно лишь вспомнил с облегчением: он не объяснил Миле значение чёрного пятна! Не успел объяснить! И вгонял, что обманет: посетует на то, что Машина так и не заработала. А она заработала!
— Гляди, гляди, Матвей! — радостно крикнула Мила.
Неожиданно пятно стало как бы светлеть изнутри, и вот на экране образовалось тёмное кольцо, оно стремительно утончалось, вот исчезло, экран непонятным образом будто бы обрёл глубину, и из неё стали медленно проступать неразборчивые, размытые черты лица. И вдруг, словно с экрана разом убрали пелену, очистили его от тумана, и возникло лицо. Чётко, гораздо чётче, чем прежнее. Женщина с экрана смотрела прямо в глаза Миле, Матвею. Он узнал её. Рука Матвея лежала на плече сегодняшней, живой Милы, а глаза видели ту, другую…
— Кто это?! Матвей, кто?! — закричала она.
Обрюзгшее, в морщинах и тяжёлых складках, с жидкими, растрёпанными космами волос, бессмысленным взглядом заплывших глаз… Один глаз дёргался в тике, и каждый раз одновременно, как будто в страшной ухмылке, кривилась вывороченная губа… Но это была она, Мила…
— Нет, нет! Это не я! Матвей, это не я, не я!
Страшная женщина на экране будто всматривалась в Милу и Матвея, будто старалась разглядеть их, а что–то мешало ей, и вдруг, словно разглядела наконец, беззвучно, идиотски засмеялась, вывалив толстый язык. Тряслись складки лица, жидкие волосы, мешки под безумными глазами…
Живая Мила вжалась в кресло и чужим голосом хрипела: «Нет!… нет… нет!»
Щёлкнула кнопка «пуск», экран погас. Матвей вышел из оцепенения, лихорадочно сорвал с Милы клеммы, она обмякла, не могла встать, он подхватил её на руки, снёс вниз, в комнату, положил на диван. Закрыв глаза, она мерно качала головой и только одно слово с хрипом выталкивала из себя: «Нет… нет… нет».
Всю ночь он провёл рядом с ней, держа её руку в своей. Гладил, напевал материнскую колыбельную, которая вдруг вспомнилась сама собой. В сердце своём обращался с мольбой ко всему, что было в его жизни доброго, к матери, к отцу, к высокому небу, к молчаливым лесам и полям. Молил их спасти любимую, охранить её, пронести сквозь беду невредимо…
Сном забылся под утро, а проснулся от яркого солнца и гавканья Карата. Милы рядом не было. Посмотрел на часы — одиннадцать! Обежал дом не было Милы.
И тогда он сообразил: зная о ней всё, изучив, как свою, её душу и каждый изгиб тела, он не знал простого, — её фамилии, адреса, телефона…
Проклиная хромоту, бежал к храму Успенья Богородицы. Застал старушку прихожанку, дневавшую там и ночевавшую. Она рассказала, что Мила была совсем недавно, часа два назад. И долго молилась у иконы Богоматери, стояла на коленях. Старушка порадовалась: раньше–то Милочка вовсе не молилась, а тут так истово… А потом ушла. Вроде к станции. Матвей нашёл отца Никанора, и тот развёл руками: знаю, конечно, знаю рабу божью Людмилу и люблю за чистую душу, ну а больше мне знать ни к чему, на что нам адреса–фамилии?
Он бросился в город. День за днём обходил его улицы, вглядывался в женщин. Понимал, что это бессмыслица, но не мог прекратить поиски. Иногда вдруг обжигала мысль: а если ока сейчас вернулась? И кидался обратно в посёлок. Но там его встречал пустой дом и унылый, изголодавшийся пёс. Матвей снова ехал в город к один за другим обходил его храмы, слушал хоры, а потом дожидался хористов, смотрел им в лица… Бывало, ночевал на вокзале, чтобы с ранней обедни снова начать обходить все «сорок сороков» московских церквей… Однажды задремал на вокзальной скамейке. Не заметив, уронил на пол кепку. А когда очнулся, нашёл в ней два пятака и новенький гривенник… Сначала не понял — откуда это, а потом пошёл взглянуть на себя в зеркало: увидел исхудавшего, измождённого старика с седой бородой, в грязном, истёршемся ватнике. И вернулся домой.
* * *
…Карат залаял весело. Матвей разбирался в его лае. Тихий, почти скулящий: «Пусти гулять!», или лютой зимой: «Пусти в комнату, замёрз!»; спокойный, короткий, остерегающий: «У ограды остановился чужой!»; злобный, громкий, частый: «Чужой вошёл на участок!»; тоже громкий, но заливистый, весёлый: «К нам пришёл знакомый!». А знакомый — это значит Ренат, иногда дядя Коля Паничкин. Матвей с утра уже был у Рената, попросил чего–нибудь почитать, тот порылся, достал том: «Читал?» — «Нет». — «Да ты что! — остолбенел Ренат. — Пока не прочтёшь, я тебя культурным человеком не считаю!» Матвей пригляделся: «Махабхарата». «Слушай, салям–алейкум, ты мне сейчас дал бы чего попроще, такое настроение. Юлиана Семёнова нет?» «Есть Юлиан Отступник на французском, но пока не прочтёшь „Махабхарату“, я тебе ничего не дам». Делать нечего, Матвей завалился с книгой на топчан… и как–то быстренько задремал. Услышав заливистый лай Карата, очухался и решил, что Ренат зачем–то пришёл. Нехотя поднялся, лениво прошёл к крыльцу. В сенях крутил хвостом и лаял Карат. Матвей открыл дверь, приготовив приветствие: «Спасибо, салям–алейкум, за книжку — идеальное средство от бессонницы», но слова замерли… Внизу, у крыльца, опираясь на палку, стояла Ядвига Витольдовна. Карат рванулся к старухе и почтительно обнюхал её.
— Прошу простить меня, уважаемый Матвей, — медленно сказала она с явным акцентом, — у меня маленькое несчастье. Совсем пропал звук у телевизора. Я думала, что оглохла, но потом включила радио и всё хорошо услышала. Значит, пропал звук у телевизора. Вы не могли бы посмотреть этот аппарат? Может быть, ещё возможно вернуть ему звук?
— Да бога ради, разумеется, сейчас посмотрю, — охотно откликнулся Матвей.
— Я вам чрезвычайно благодарна, — говорила старуха по пути к дому. Знаете, я ещё не очень старая женщина, мне семьдесят семь лет, и я всё могу сама. Я и читать могу, но у меня стали быстро уставать глаза, и я почти перестала выписывать газеты. Но я привыкла быть в курсе всех дел жизни и смотрю телевизор — от него мои глаза не устают. Но пропал звук! Прекрасное изображение, а звука совсем нет.
— Звук, Ядвига Витольдовна, не самое страшное, авось починим.
— Я буду так благодарна вам, уважаемый Матвей.
Дело и вправду оказалось пустяковое — от старости телевизор совсем разболтался и требовал просто капитальной чистки. Матвей сбегал домой, натащил кучу деталей, и уже через час старуха благодарила его:
— Вы замечательный мастер, уважаемый Матвей! Ведь не только появился прекрасный звук, но и изображение намного лучше стало! Я напою вас чаем!
Он присел к столу и огляделся. Ядвига жила чисто и скромно: этажерка с десятком книг, старенький, но ещё крепкий платяной шкаф, маленькое уютное кресло у телевизора, короткая кровать, застеленная клетчатым пледом, рядом — столик с шитьём… Матвей провёл взглядом по шитью — и вокруг вернулся, пригляделся. А потом даже встал, чтобы удостовериться: да, действительно, на столике были сложены детские платьица, штанишки, рубашечки, а одна распашонка лежала раскроенная, но ещё не сшитая. Матвей улыбнулся: подрабатывает старушка, что ли?
Она как раз вошла в комнату с чайником в руках.
— Мы будем пить чай и смотреть телевизор, уважаемый Матвей! И нам всё будет слышно!
— Ядвига Витольдовна, — сказал он, — у вас внуки есть?
— О, нет, нет! — покачала она головой. — Я совсем одна, совсем. Виновато улыбнулась и осторожно поставила чайник на подставку.
— А это? Хобби? — шутливо спросил Матвей, указывая на детские вещички.
— О, это в воду, в воду, — и она опять неловко улыбнулась — то ли жалобно, то ли просительно.
— Куда, простите? — не понял Матвей.
— Это поплывёт по реке, далеко–далеко… Садитесь, я налью вам чаю. Он свежей заварки и чудно пахнет.
«Не дай мне бог сойти с ума», — подумал ошарашенный Матвей.
Ядвига Витольдовна налила ему чаю, придвинула крохотную сахарницу и блюдечко.
— Берите сахар, уважаемый Матвей, — сказала чинно и сама отхлебнула. — О, вполне удачно, вполне! А варенье у меня, конечно, своё — вишнёвое, крыжовенное, малиновое, смородиновое, — она указала на четыре одинаковые хрустальные вазочки с вареньем и без паузы продолжила: — Я была первой красавицей Варшавы…
«Бедняга», — подумал Матвей.
— Разумеется, сейчас в это трудно поверить, но это было так. В двадцать восьмом году я танцевала с Дзядеком! Ну — с Пилсудским, все его звали Дзядек, по–польски — дедушка, и, честно признаться, он был прелесть! В конце зимы на балу в Вилянуве он сам пригласил меня, и вся Варшава смотрела на нас. Он, конечно, был реакционер, но тогда я этого не понимала. Я помню ту зиму, ту весну — вокруг только и разговоров про будущие выборы в сейм, а у меня голова шла кругом от поклонников и кавалеров. Из высшего общества, разумеется… Мой отец был… Впрочем, теперь это неважно… — Она чопорно отхлебнула чай, вновь довольно покивала. — А потом я вышла замуж. Если честно признаться — не вышла, а убежала. Отец был против того, чтобы я выходила за небогатого и неродовитого студента. Да мало этого — ещё и коммуниста! Скандал. Но я всё–таки вышла замуж, потому что очень любила Збигнева. А потом мы оказались в Москве — Збигнев стал работать в Коминтерне. И всё было чудесно. Родилась Басенька, потом — Янек. Мы жили… О, это был кусочек настоящего счастья… До мая тридцать восьмого года, до всей этой ужасной истории…
Она помолчала. Матвей слушал насторожённо.
— Вы знаете? — вдруг строго спросила она.
— Нет, нет, ничего не знаю, — поспешил он ответить.
— В мае тридцать восьмого Коминтерн распустил Коммунистическую партию Польши по ложному обвинению в измене её руководства. Это был страшный удар… Ваш Сталин нанёс страшный удар польским патриотам… Впрочем, я не хочу об этом говорить, история уже осудила его. А мы со Збигневом и детьми вскоре оказались в Белоруссии. С сентября тридцать девятого он работал в западных районах… А потом началась война. Збигнев сразу ушёл в войска, мы с детьми должны были эвакуироваться, но не успели. С Басенькой и Янеком я убежала в деревню, к знакомым. Пришли немцы, но мы были там свои, нас, конечно, никто не выдал. И так — до апреля сорок второго года… до второго апреля… Они согнали детей со всех окрестных сёл, много–много ребят, приходили в дома и выгоняли только детей — их было несколько сотен и совсем малышей и ребят постарше. Они повели их к реке, она называется Свольно. Снег ещё не сошёл, и на реке был лёд, тонкий, весь в полыньях. Они сталкивали их в воду, а тех, кто мог плыть, стреляли из автоматов. Многие матери бросились за детьми в воду, я бы тоже бросилась, но в толпе потеряла Басеньку и Янека, я их вначале видела, Басенька держала Янека за руку и, как большая, гладила… вот так, по голове. Ядвига Витольдовна провела рукой в полуметре от пола. Басеньке было уже шесть, а Янеку только четыре. А потом они пропали в этой толпе, я кричала, но вокруг все кричали, мы не знали, куда их ведут, мы думали, их будут угонять в Германию, а на Басеньке были тонкие осенние сапожки — я думала, ей будет холодно, — а у Янека такие маленькие валеночки… Они все утонули, уважаемый Матвей, только шапочки остались на воде и уплыли далеко–далеко… Я не знала, что в то время Збигнев был уже неживой… Потом меня угнали в Германию… Ну я не хочу говорить об этом… И после, здесь, в России… нет, не хочу… и после войны я приехала туда, к Свольно. Встретила многих своих соседок, у них тоже не было деток. И мы решили отмечать их память. К каждой годовщине мы шьём для них платьица, рубашечки и второго апреля опускаем туда, в реку… Каждый год я ездила туда, а теперь вот уже три года ездить не могу. Но я посылаю всё, что шью, по почте моей дорогой соседке Люции Казимировне. У неё было трое деток Марысе было уже двенадцать — она была красивая серьёзная девочка с большой косой, Витеку — восемь, и он очень мило дружил с Басенькой, мы с Люцией Казимировной даже шутили, что поженим их когда–нибудь, а Збышеку — только пять, он был ужасно смешливый, я с утра до вечера слышала его смех… Вот сейчас закончу распашонку для Янека, она простая, но тёплая. А потом я придумала — по телевизору видела, как танцевали девочки из школьного ансамбля, и у них были чудесные платьица, очень нарядные — здесь оборочки, здесь маленький вырез и такие пышные рукавчики. Я всё хорошо разглядела и теперь сошью такое Басеньке… Пейте чай, уважаемый Матвей, — она указала на варенье. — Пожалуйста, не обижайте меня.
Матвей вспомнил о чае и залпом выпил свою чашку — горло пересохло.
— Я налью ещё, — улыбнулась Ядвига Витольдовна.
Они долго сидели молча. Наконец старуха тихо сказала:
— А теперь, уважаемый Матвей, расскажите, что случилось у вас. Я так понимаю, что эта милая девушка вас покинула? Я давно её не вижу.
— Да что теперь говорить, — пробормотал Матвей растерянно.
— Надо, надо говорить. Было бы кому слушать. А я готова слушать вас долго. Я терпеливая и всему знаю цену, поверьте.
— Я верю вам, Ядвига Витольдовна, — вдруг вырвалось у Матвея.
И он рассказывал до темноты.
* * *
— Да ты никак не поднялся ещё? — с удивлением и укором сказал дядя Коля, когда в восемь утра заспанный Матвей под лай Карата открыл дверь.
Дядя Коля был трезв и чист, серьёзен и даже немного торжествен — так показалось Матвею, когда он пропускал его в дом. Гость по–хозяйски уселся за столом, зачем–то постучал по полу, будто пробуя его крепким сапогом.
— Сидай, — пригласил Матвея. — И слухай, дело серьёзное.
Поскольку всё действительно серьёзные дела для Матвея миновали, он не торопясь ополоснул лицо из рукомойника, отпустил Карата побегать, поставил на плиту чайник и только после этого сел напротив дяди Коли. Тот ждал со значительным видом. Матвей закурил.
— Ну, дядь Коль, давай, чего у тебя стряслось с утра пораньше?
— Вот сам и рассуди, — начал он вдруг горячо, — место у нас глухое, народу, считай, нет почти. Зимой, конечно. Так?
— Ну так, так, — улыбнулся Матвей.
— Руки у тебя с головой, то есть, значит, по технической части ты соображаешь. Теперь смотри сам — обстановка напряжённая, не ровен час, жахнет, и поминай, как звали.
— Это ты о чём?
— О положении в мире, — весомо сказал дядя Коля.
Матвей засмеялся.
— Ты чего, дядь Коль, предлагаешь над нашей Берёзовкой систему противоракетной обороны соорудить?
— Не шуткуй, — строго оборвал его дядя Коля. — Ты вникни, а там уж посмеёмся. От напряжённой обстановки — общее расстройство нервов. Как говорится, ни сна, ни отдыха. Опять же — пенсия. Восемьдесят шесть рублёв — не разбежишься. У тебя побольше, но тоже через край–то не переливается…
— Мне хватает…
— Хвата–ает! — с издёвкой протянул дядя Коля. — То–то твоя молодуха сбежала! Но это я так, к слову, — осторожно поправился он. — А суть такая, что пора начинать.
— Чего начинать? — давя смех, спросил Матвей.
— Экий ты, парень, бестолковый! — рассердился старик. Я уж тебе всё по косточкам разложил, а ты всё чевокаешь!
— Да ты говори прямо!
— Куда прямей–то! Аппарат пора ставить — ясное ж дело! Не на продажу — этого ни–ни, я себе не враг, но для души–то — одна прямая польза. Дешевле — раз, место наше одинокое — два, успокоение нервам — три, ну и так далее. У меня чего–то не выходит, а у тебя технические руки, у тебя пойдёт!
— Самогонку, что ли, гнать? — наконец понял Матвей.
— Для общего блага, — торжественно сказал дядя Коля.
— Не–е, дядя Коля, ты меня в такие истории не втравляй.
— От–т чудак–человек! Да кто ж в нашей глухомани нюхать будет! У нас участкового, когда надо, не дозовешься, а чтоб он сам прибыл — я такого за тридцать лет не помню.
— Да зачем тебе самогон?
— Говорю ведь — восемьдесят шесть рублёв! По нынешним временам это ж не деньги, а один намёк.
— Дядь Коля, тебе восьмой десяток, пора и бросить пить–то.
— Бро–осить? — возмутился старик. — Да с чем я останусь тогда?
— То есть?
— Вот тебе и то есть До моих лет доживёшь — тогда поймёшь. Мне жизни осталось — может, год, может, три, а макет, и до субботы не дотяну. Это ж понимать надо! Ты–то мужик молодой, тебе ещё бабу подавай, а я? Мне чего ждать, каких таких радостей? А как выпью — так я сам себе хозяин. Захочу и будет мне двадцать. Думаешь, чего пою–то, чего играю ночь–заполночь? Это ж я дружков своих созываю. Иду по улице, будто в двадцать седьмом году, и жду — сейчас вот оттуда Митька Савелов выскочит, а с того проулка — Петька да Гришка Ковалёвы — и уж на всю ночь гульба! У околицы уже девчата хороводятся, Сенька–гармонист с тальяночкой своей…
Дядя Коля вдруг замолчал, и Матвей увидел, как перед счастливыми его глазами побежали, побежали живые картинки — и лица, и слова, и песни, и ещё много другого, уже ставшего небылицей, пылью, уже развеянного временем и только малыми песчинками застрявшего в памяти старика. «А почему, собственно, малыми?» — спросил себя Матвей. Старик сохранил всё, и нужен только лёгкий толчок, чтобы всплыло оно нерушимым и живым.
А старик сгорбился, ушёл в память, и вдруг Матвей увидел на его щеке медленную тягучую слезу.
«Ну что тут сделаешь, придётся с утра начинать», — вздохнул малопьющий Матвей и полез искать бутылку.
Оба быстро опьянели. Дядя Коля обнимал Матвея, тыкаясь в бороду, а тот, фальшивя, терзал гитарные струны и печальным речитативом тянул одну из песен, услышанных от Милы:
И в Коломенском осень… Подобны бесплодным колосьям Завитушки барокко, стремясь перейти в рококо. Мы на них поглядим, ни о чём объясненья не спросим. Экспонат невредим, уцелеть удалось им. Это так одиноко, и так это всё далеко. Этих злаков не косим…— Нет! — кричал дядя Коля. — Это не наша песня! Она не зовёт! Давай нашу:
Мы рождены, чтоб сказку сделать пылью, Преодолеть пространство и простор!…И невольно подпевая ему, Матвей вдруг ощутил обратный ход времени и оказался не то в двадцатых, не то в тридцатых годах, и каждой клеточкой тела, каждой паутинкой души стал человеком того времени, стремящимся всё выше, и выше, и выше, в счастливые сороковые, сияющие пятидесятые, и дальше, дальше — в изобильное будущее, перед которым поповский рай покажется скудным и жалким, скучным и пустым… А дядя Коля уже не плакал и не жаловался: из своих убогих восьмидесятых он вызвал счастливые двадцатые, и они пришли к нему, гремя и ликуя.
…Уже после полудня дядя Коля вышел от Матвея, и холодный ветер разом отрезвил его. Он нагнулся, зачерпнул ладонью снега, потёр им лицо. И степенным стариковским шагом направился к дому — на соседнюю улицу. Он ещё не дошёл до угла, когда там внезапно появилась и затормозила чёрная «Волга». Из неё не спеша вышли двое мужчин. Дядя Коля замедлил шаг. «Это ещё кто такие?» — спросил он себя, и неприятный холодок пробежал по его спине. Люди не понравились дяде Коле. А они огляделись и лениво направились навстречу ему. «Господи, совсем опешил старик. — Вот тебе и глухомань, вот тебе и участковый! Накаркал, дурак!» И остановился.
— Товарищ, — крикнул ему один из мужчин, — можно вас на минуту?
«Ой, не к добру», — подумал он и ответил угодливо:
— На минуту — это пожалуйста. Отчего же нельзя на минуту…
— Скажите, пожалуйста, вы не знаете, где тут живёт Матвей–инвалид? — спросил, приближаясь, тот, что был повыше и похудей, чернявый.
— А чего ж не знать! — обрадовался дядя Коля. — Вона его дом, крыша зелёная.
— А сам он где сейчас?
— Да там и сидит… А вы, товарищи, откуда будете?
— Мы так… по пенсионным делам, — пробормотал второй, толстый.
— Это — да, он — инвалид, пенсию получает, — покивал дядя Коля. — Там у него собака, смотрите, — сказал в спины мужчин, уже шедших к дому Матвея.
«Как же! — думал он, уходя побыстрей и в то же время стараясь не терять степенности. — Ежели бы по пенсионным делам на чёрных „Волгах“ разъезжали, у нас бы у всех пенсии были по полтыщи. Небось обэхаэс. Накрыли Мотьку на нетрудовых доходах. А и правильно, поделом — мало что военную пенсию получает, так ещё на ремонте зашибает — кому телевизор, кому утюг… То–то от аппарату отказался — хватает ему, говорит! Ещё бы не хватало… А теперь небось прижучат его. И правильно. Жизнь — она штука справедливая».
А мужчины замедлили у калитки.
— Может, не стоит сегодня, Семён? — сказал Костя.
— А почему? — удивился тот.
— Да как–то… не чувствую себя готовым. Очень уже быстро нашли. Надо продумать разговор, с Дедом посоветоваться…
— А может, сразу накроем? — азартно спросил Семён.
В доме коротко, насторожённо гавкнула собака, почуяв, очевидно, чужих людей.
— Слышишь? — сказал Костя. — Думаешь, он так тебе сразу и выложит про зеркало? Наверняка тот ещё жук…
— Это конечно, — согласился Семён. — Правильно, без Деда нельзя. Мы нашли, а уж теперь пускай сам. Поехали.
И они быстро вернулись к машине.
* * *
…Ренат стал ходить по комнате — торопливо, даже суетливо: туда–сюда, туда–сюда. Он поминутно поправлял очки и сквозь них испуганно косил на Матвея. Тот смотрел на приятеля с испугом: не ждал такого. После ухода дяди Коли Матвей стал маяться, места себе не находил, от выпитого противно загудела и закружилась голова, и он по морозцу побежал к Ренату. И там, почти неожиданно для себя, рассказал ему о прошлогодних событиях. Всё — как недавно Ядвиге Витольдовне. Старуха тогда замолчала так надолго, что Матвей решил, будто она ничего не поняла. Потом сказала: «Человек не может быть богом». Перекрестила по–католически и ласково проводила Матвея — мол, привыкла ложиться пораньше.
А Ренат, выслушав, забегал, задёргался — и всё молчком. Вдруг как–то боком, в углу встал, забормотал:
«Там, где жили свиристели, Где качались тихо ели, Пролетели, улетели Стая лёгких времирей…»Испуганно, исподлобья взглянул на Матвея и снова забормотал, как молитву, забубнил:
«В беспорядке диком теней, Где, как морок старых дней, Закружились, зазвенели Стая лёгких времирей…»И тут кинулся к Матвею, с разбегу бухнулся на колени, завопил дурным голосом:
— Ты гений, гений!
Очки свалились–таки, он стал шарить по полу, ползал, тыкался в Матвеевы ноги и всё повторял: «Гений, гений!»
— Брось, Ренат, что за шутки? — недовольно сказал Матвей.
— Ты гений! — заорал он опять и вскочил с колен. — Всех времён и народов!! Как же мне повезло в жизни, что я знаком с тобой!
— Перестань, — раздражённо буркнул Матвей.
— Ты что, не понимаешь?! — возмутился Ренат. — Ты сделал грандиозное открытие. Доказал, что будущее существует в нас всегда! Насчёт прошлого и настоящего никто не сомневался, а вот будущее представлялось какой–то зыбкой неопределённостью. Твоя Машина строит образ будущего на основе энцефалограммы, кардиограммы, принимает но внимание и ритм дыхания, и биополе человека, ведь так?
— Ну да, примерно, — согласился Матвей вяло: не о том он думал, когда рассказывал Ренату о Машине.
— Сигналы сегодняшнего состояния человека она экстраполирует в будущее, расшифровывает, рассчитывает весь процесс их изменения на семнадцать лет! Это значит, что время заложено в нас! Я то же самое сколько лет пытаюсь доказать на материале литературы, а ты… Ты — гений! И то, что мы называем судьбой, роком — это программа! Карма — программа! «Не властны мы в самих себе». Гениально! И тогда само собой разумеется, что моя гипотеза вовсе не гипотеза — аксиома! Человек есть человек потому и постольку, поскольку в нём заложены три временные координаты!
Ренат восторженно носился по комнате, вдруг ему стало тесно, он кулаком распахнул дверь, с конским топотом пробежал по другой комнате, по веранде.
— Не властны мы в самих себе! — заорал он оттуда счастливо.
— А чего радоваться? — угрюмо спросил Матвей. — Чего же хорошего, что не властны?
Ренат вернулся в комнату, сел, немного успокоившись, напротив Матвея.
— Как всякий гений, ты чудак, — сказал снисходительно. — И рядом с тобой должен быть человек с умом средним, но дисциплинированным. То есть я. Иначе ты сам себя не поймёшь. Я не тому радуюсь, что мы в себе не властны. Если бы ты доказал, что властны, я бы точно так же был счастлив. Учёному безразличен знак открытия — плюс или минус, да или нет — ему важно знание само по себе и его значение. А значение знания, которое ты добыл, всемирно. Революционно.
— Ну а как же Мила? — вдруг сказал Матвей, никак не разделяя радости Рената.
— Что — Мила? — будто не понял он.
— Ей–то как теперь жить?
— Ну… ну, — растерялся Ренат, — это я, ей–богу, не знаю… Ну как–нибудь образуется…
— Вот я и спрашиваю: как образуется? — гнул своё Матвей.
— Да откуда мне знать! — крикнул Ренат раздражённо. — При чём тут она? При чём тут ты, я, дядя Коля?! Все мы в конце концов смертны! Речь о человечестве! Твоё открытие меняет судьбу человечества, его взгляд на себя, ты что, не понимаешь?! Это даже смешно, это картинка, достойная пера: сидит бухой гений в ватнике и талдычит про какую–то Милу, а сам только что цивилизацию перевернул!
Матвей пустил длинным армейским матюгом и резко пошёл к двери. Ренат кинулся ему на плечи, удержал.
— Ты псих! — кричал он радостно. — Ты классический гений–идиот! Два года назад, когда ты мне первый раз про свой план рассказал, я решил, что ты шизанулся. Каюсь — даже на книжной толкучке про тебя как анекдот рассказывал. Теперь я точно вижу — ты псих! Но и гений, вот что грандиозно!
Ренат обнял его, тянулся поцеловать. Матвей отпихнул его, пошёл прочь.
— Проспишься, приходи! — кричал Ренат вдогонку. — Ещё тяпнем, Нобелевский ты мой!
Пошёл снег — сначала неспешно, потом быстрее, быстрее и вдруг повалил густой, тяжёлый… Матвей остановился и почему–то оглянулся на свои следы — их засыпало, прятало на глазах. Так он и дошёл до дома, всё время оборачиваясь на свои исчезающие следы.
* * *
…Иван–Царевич с отцовским лицом. Волк в густой мягкой шерсти, с грустными глазами. У него на загривке — застывшая золотая Белка.
Матюша оглянулся ещё раз и запомнил их на всю жизнь, но ни «до свидания», ни тем более «прощайте» сказать не сумел.
Лето кончалось, изнутри леса проступала осень — редкими, желтеющими листьями, пожухшей травой. Бабочки исчезали, воздух становился суше и прозрачней. Тихо было в лесу, только Матюшины шаги шуршали. В эту сторону он не ходил раньше, и, когда Иван–Царевич указал ему путь, мальчик удивился как это он весь лес облазил, а там никогда не бывал…
Он снова обернулся, но не увидел друзей — вокруг стояли тёмные ели. Большие — до неба и маленькие — до облаков. Облака были рваные, в дырках, их низко нёс неслышный ветер, они цеплялись за ёлки снова рвались и улетали маленькими клочьями.
Матюша пошёл дальше, и отчего–то захотелось ему крикнуть — не позвать, а просто крикнуть погромче: «Эге–гей!» Но он не сумел: то ли голос исчез, то ли нельзя было в этом лесу кричать.
И ничего не случилось, ничто не изменилось, но вдруг замерло Матюшино сердце, и весь он наполнился предчувствием. И сразу раздались знакомые тяжёлые шаги, сразу — близкие, и послышалось натужное гулкое дыхание огромного существа. Матюша застыл, а потом побежал, сорвался с места и побежал, задевая ёлки, укалываясь о ник, без страха наступая на бусинки брусники, побежал навстречу шагам. И сам собой, легко вырвался крик: «Я здесь!» «Матю–юша–аа!» — услышал он дальний, замирающий голос матери, но не остановился, не обернулся на него, а бежал всё быстрей, оступаясь, падая, поднимаясь, уже задыхаясь, бежал… И только одного боялся: что снова незваные хранители бросят перед ним зеркальный ручей. И лишь на миг замедлил: понял, что за этими вот густыми, переплетёнными ветвями откроется сейчас поляна — и там будет Он. Матюша набрал полную грудь воздуха и обеими руками изо всех сил раздвинул, как распахнул, ветви.
И увидел Единорога.
Тот стоял посреди полянки, заняв её почти целиком, — неправдоподобно огромный, закрывающий небо и свет. Налитыми кровью большими глазами он смотрел на мальчика, победно выставив могучий рог.
Оба застыли, глядя друг на друга. Единорог медленно мигнул. И вдруг заговорил, и от его голоса задрожали деревья, трава, и как будто земля колыхнулась.
— Зачем ты искал меня?
— Я искал… я искал тебя, — ответил мальчик с испугом и восторгом, потому что ты — самый чудесный в нашей сказке. Ты — самый большой и сильный, и чудесный!
— Чего ты хочешь?
— Я… — смешался мальчик. — Я ничего не хочу. Я просто хотел тебя видеть.
Единорог осклабился и коротко хохотнул, тряся складками шкуры.
— А тебе сказали, что меня нельзя просто увидеть? Всех, кто видит меня, я или наказываю, или награждаю, сказали тебе?
— Да, я знаю, — собрав всю смелость, звонко ответил Матюша.
— И чего ты попросишь у меня?
— Мне ничего не надо, — тихо ответил он.
Единорог шумно вздохнул и прикрыл кровавые глаза.
— Кто научил тебя ничего не просить?
— Никто… Я сам.
— Мне нравятся мальчики, которые ничего не просят, — сказал Единорог и снова открыл глаза. Упёрся взглядом в Матюшу, но не было в том взгляде ни доброты, ни симпатии. — Ты хочешь всего добиться сам?
— Я постараюсь, — робко ответил Матюша.
— Мне нравятся мальчики, которые хотят всего добиться сами, — снова осклабился Единорог. — Иногда из них выходят сильные мужчины. Очень храбрые мужчины. Очень уверенные в себе.
Единорог хрипло засмеялся, листва посыпалась наземь.
— И когда они бросают вызов мне, я не отказываю, я прихожу. Ведь они такие сильные и храбрые. Мне нравится делать из них пустое место, ничто.
Единорог наклонил голову, горой нависая над Матюшей.
— Иди, мальчик. Добейся в жизни всего, я не стану мешать. Но знай своё место и никогда, даже в мыслях, не зови звеня. Отныне ты только человек, и не тебе бороться со мной. Иди, сказка кончилась.
И тут перед глазами Матюши, как на экране Машины, Единорог беззвучно задрожал, черты его гигантского тела поплыли, смешались, исчезли, стало темно, в темноте замигали яркие точки, и вдруг разом всё посветлело, очистилось, и уже не было ни леса, ни поляны, а на их месте возникло чётко, ярко лицо сорокалетнего Матвея: поседевшая борода, запавшие чёрные глаза… «Мама! — жалобно закричал катюша. — Мамочка!» впервые запросил помощи, и немедленно вошла в него, заполнила слух и душу старенькая мамина колыбельная: «Баю–баюшки–баю, баю деточку мою… Баю–баю–баю–бай, поскорее засыпай…» И будто с огромной высоты стремглав упал он в мягкий ворох перин, подушек, одеял, и стало тепло, и в полусне–полуяви поплыл он по колыбельной реке, в колыбельное море, и казалось, что не было вовсе страшного Единорога, а впереди — всё ещё ждёт, всё ещё манит баснословный край, исполненный сияния.
* * *
Карат залаял в голос, ожесточённо и зло. «Кого ещё чёрт несёт?» буркнул Матвей и пошёл открывать. Карат бесился в сенях, прыгал, бил передними лапами в дверь. Матвей выглянул в окно: внизу, у крыльца, стояли трое мужчин — пожилой в лисьей шубе и с ним двое лет по сорок, высокий брюнет без шапки и толстячок с круглым лицом.
— Подождите, собаку привяжу, — крикнул Матвей.
Открыв дверь, сразу сказал:
— Если вы насчёт на зиму дачу снять, то у меня не сдаётся.
— Нет, нет, мы по другому вопросу, — поспешил толстяк.
— По какому? — подозрительно спросил Матвей, не приглашая их в дом.
— Может быть, вы разрешите нам войти, а там и поговорим? — веско произнёс старик.
Матвей пожал плечами.
— Заходите…
Долго топтались, раздевались, гурьбой проходили в комнату, наконец расселись за столом. Матвей устроился на диване и закурил.
— Прежде всего давайте знакомиться, — дружелюбно начал старик.
— Да уж, — нелюбезно отозвался хозяин, но старик сделал вид, что не заметил этого.
— Моя фамилия Никич, зовут Николаем Николаевичем. Я — физик, действительный член Академии наук СССР…
— Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, — добавил толстяк.
— Ну уж, если всё перечислять, — улыбнулся академик, — то не забудьте и две Сталинские премии… А это мои друзья, учёные, помощники — доктор наук, профессор Сорокин Константин Андреевич и доктор наук Колесов Семён Борисович.
— А я — Басманов Матвей Иванович, майор ВВС в отставке, действительный инвалид СССР, — с мрачным сарказмом представился Матвей.
— Ну это мы знаем, — добродушно сказал Никич, — иначе б и не беспокоили вас. Я думаю, в прятки нам играть не стоит, начну сразу с дела, откровенно. Матвей Иванович, мы наслышаны о ваших опытах и хотели бы с ними познакомиться.
— Наслышаны? — удивился Матвей. — Я что–то не припомню, чтоб в последние сорок лет публиковал статьи или лекции читал.
— Это верно, — с неколебимым добродушием продолжал академик. Человек вы скромности незаурядной и к славе, судя по всему, не стремитесь. Но заслуженная слава — вещь недурная, не так ли, Матвей Иванович?
— Бюст на родине и колбасу вне очереди — кто ж откажется? — с издёвкой сказал Матвей, обратившись к толстяку Колесову, и тот отвёл глаза.
— Впрочем, дело, конечно, не в славе, — ничуть не смущаясь, сказал Никич, — а в науке, в знаниях. По нашим сведениям, у вас есть кое–что полезное для науки. — И, помолчав, с укором добавил: — Для нашей науки.
— Для вашей? — быстро спросил Матвей.
— Для нашей, — согласился Никич. — Для нашей, советской, нашей мировой науки.
— Ну, во–первых, — сказал Матвей наконец–то серьёзно, никаких таких сведений у вас быть не может. Если уж вы предложили говорить откровенно, то не надо мне с первых слов лапшу на уши вешать, достопочтенный Николай Николаевич. А на деле вот что. Я действительно ставил некоторые опыты и в самом начале работы кое–что рассказал о них приятелю, который оказался трепачом. Кроме того, я догадываюсь, что одна… женщина могла кое–что передать своим подругам, и в виде сплетен это могло поползти дальше. Но, опять–таки, эта женщина могла говорить только о самых первых опытах, Матвей помолчал. — Об итоге работы она едва ли могла рассказать… Итог же, уважаемые физики, таков: блеф, пшик, фук с маслом. Если вы знаете суть эксперимента, то не вам объяснять, что дилетант, знающий физику только в применении к летательным аппаратам, да к тому же без основательной технической базы, не мог добиться не только успеха, но и сколько–нибудь значимых результатов. Не мог — и не добился. Вот и всё. — Матвей развёл руками, пожал плечами и скорчил скорбную мину. — Увы, увы! Ничем не могу быть полезен.
— Так уж и ничем? — осторожно подал голос чернявый Сорокин.
— Ровным счётом ничем! — с той же юродской ухмылкой ответил Матвей.
— А эта… женщина… о которой вы помянули… это, вероятно, Людмила Алексеевна Кудрина? — глядя вбок, в стену, тихо спросил Никич.
Ухмылка сползла с лица Матвея, он понял — речь о Миле.
— Вы знакомы с ней?
— Как вам сказать, — вяло ответил Никич.
— Откровенно. Как и обещали, — зло сказал Матвей.
— Да ведь вы–то с нами вовсе не откровенны, вот в чём беда, — с нарочитой ласковостью возразил Никич.
— Вот что, гости дорогие, — с угрозой сказал Матвей. Пока я не получу адреса Милы, я вам не скажу ни слова. Хотите разговора — давайте адрес, а не хотите… вот бог, а вот порог.
Никич по–старчески тяжело вздохнул.
— Ох, Матвей Иванович, голубчик. Полно нам комедию–то ломать. Ведь уйди мы сейчас, так пороги–то вы у нас обивать будете, всё принесёте, что просим. Только зачем нам эта игра? Вы уж извините, мы вас не знали, опасались, конечно, что за человек? А вы человек разумный, не маньяк — это видно. Только очень недоверчивый человек, скрытный. Но мы вам не враги, а союзники. И не беспокойтесь: ни славы, ни приоритета мы у вас вас отнимем, что ваше — то ваше. Тут я вам слово даю, а я давно уже не вру, с пятьдесят четвёртого года греха на душу не брал. Ну а Людмила Алексеевна ваша в четвёртой психиатрической больнице…
— Что с ней?
— Утешить не могу, голубчик. Очень она плоха. Душевное расстройство, — мягко сказал старик. — Очень сильное. Так что не такой уж пшик ваши опыты, верно? Или они ни при чём?
Матвей молчал долго. Закурил ещё. Гости не торопили.
— Это случилось с Милой, — сказал он наконец, — после того, как она увидела себя через семнадцать с половиной лет. Это было страшно уродливое, безумное лицо… Я бы никогда не позволил ей подойти к Машине, но вышло так, что я сначала попробовал на себе — и ни черта не вышло. Я думал, что опыт мой не удался, что не сработала Машина, и тогда позволил Миле… ну, побаловаться, что ли…
— Разрешите посмотреть Машину? — осторожно спросил Сорокин.
— Я уничтожил её, разбил! — крикнул Матвей и в этот миг поверил себе.
— Ах ты, чёрт! — не удержался Колесов.
— Это не беда, — мягко сказал Никич. — Ведь главное — принцип, схема. Уж если вы в таких условиях смогли её сделать, то в наших мы за неделю десяток Машин соберём.
— Нет, — сказал Матвей чётко.
— Почему? — удивился Никич.
— Нельзя.
— Да почему же?
— Помните, в «Борисе Годунове»: «Нельзя молиться за царя–Ирода, Богородица не велит». Вот и здесь — Богородица не велит.
Костя с Семёном испуганно переглянулись.
— Странный аргумент для выдающегося учёного. А вы бесспорно выдающийся, великий учёный, — ласково сказал академик. — Так почему же всё–таки нельзя?
— Я же вам сказал, — закричал Матвей, — нельзя молиться за царя–Ирода! Эта Машина только горе людям принесёт! Это страшная Машина! Машина белы, слёз, смерти, безумия! Нельзя!
— Успокойтесь, Матвей Иванович, голубчик, — протянул к нему дрожащие руки старик, — что вы так–то, не надо…
— Я ничего не скажу, — упрямо сказал Матвей. — Этой Машины не должно быть. И запомните: если будете наседать на меня, я лучше помру, чтоб никто не узнал…
— Вы наивный человек, Матвей Иванович! — воскликнул Никич. — Да ведь если мы знаем, что такая Машина возможна, то уж поверьте — мы все силы бросим и откроем её заново. А силы у нас немалые…
Матвей глядел затравленно, втянув голову в плечи.
— Более того, — продолжал Никич. — Даже если, допустим, мы сейчас по пути в город погибнем в автокатастрофе, всё равно Машина будет существовать! Через десять лет, через двадцать, через пятьдесят, у нас или в США, или на каком–нибудь Таити — она всё равно возникнет! Прогресс человечества нельзя остановить, а можно только притормозить. И если вы доказали, что Машина возможна, то зачем же тормозить прогресс?
— Это ужасно, ужасно, — поморщился Матвей. — Пусть будет, что будет, но я эту тварь в мир не выпущу. Лучше умру.
— Зачем же умирать, Матвей Иванович, — мягко сказал Никич. — Вы действительно выдающийся учёный, такими раз в сто лет рождаются. Вы нужны науке.
— Если блеск тысячи солнц разом вспыхнет на небе, человек станет Смертью, угрозой Земле, — процитировал Матвей, угрюмо глядя в глаза академику.
— Не надо исторических аналогий, они хромают. И Хиросима, и Чернобыль — вина людей, а не природы, не прогресса, не науки. А вы своё открытие отдаёте в надёжные руки. Я не о нас говорю, хотя и мы не безумцы. Я о нашем народе говорю.
— Нет, — твёрдо ответил Матвей.
— …Он придёт к нам, — сказал Никич, захлопнув дверцу автомобиля. Я уверен, он одумается и придёт. Не сможет не прийти. Он сейчас не в себе из–за этой женщины, а потом успокоится, и ему понадобится дело. Он же молодой ещё. И придёт к нам.
— Неужели ждать? — спросил Костя.
— Ещё чего! Шума подымать не будем, я оформлю закрытую тему, под неё создадим спецлабораторию — и за дело. Подбирайте, братцы, людей. Лучших. Со всего Союза. Немедленно.
— А может, всё–таки блеф? — спросил Семён.
— Не исключено, — согласился академик. — Но я этому мужику поверил…
— Уж очень он странный, прямо шизоид… Глаза ненормальные…
— А ты что хочешь! — возмутился академик. — Запомни этот день, Семён. Очень может статься, что ты первый раз в жизни говорил с гением. Через триста лет его именем, может быть, города называть будут, а ты хочешь, чтоб он был как все… Дудки, так не бывает!
* * *
Ночь — его время, и он вышел из дома, встал на дорожке, запрокинул голову и долго смотрел на ясное звёздное небо. Вдыхал его, вбирал в себя. Силился найти тайные знаки, знамения, но не различал их. Он вдруг подумал, что это не настоящее небо, а только чёрный покров между ним и людьми. Но покров старый, в дырах, и сквозь них просвечивает настоящее небо, а люди называют эти дыры звёздами.
И вновь, как когда–то, ощутил он приближение угрозы. Там, на западе, скопилась неясная вязкая масса — чернее ночи — и стремительно накатывала на него. Матвею захотелось сбежать, укрыться за двумя, тремя дверями, за надёжными стенами дома… Спрятаться под одеяло — в детстве там не пугали никакие страхи, там была зона абсолютной безопасности. Но он остался и скоро ощутил, как незримо окружила его вязкая масса.
И дрогнула земля, и пронёсся ветер, и на миг погасли звёзды, и завыла собака, и властный, неумолимый голос спросил:
— Матвей Иванов Басманов?
— Да, — ответил Матвей на это ветхозаветное обращение, и страх отпустил его.
— По своей воле будешь мне отвечать?
— По своей воле, — твёрдо сказал Матвей.
— Как ты осмелился пойти против меня?
— Людей жалко стало.
— Виновен! — грозно сказал Голос, и пронеслось вокруг, дробясь и рассыпаясь, как эхо: «Виновен! Виновен!»
— Куды ж виновен–то? — неожиданно раздался шамкающий старушечий голосок. — Нешто он кого обидел? Я вон помирала, так Матвей холил меня, как не всякий родной станет…
Матвей узнал этот голос: покойница тётя Груня заступалась за него…
— Он мне, убогой, за сына был, а кто я ему — никто, считай. Он сам пострадавший, вот и к людям сочувствие имеет… Нету его вины!
— Знаешь ли ты, — продолжал неумолимый Голос, — что в этом мире положен предел человеку?
— Я в это не верил.
— И ты хотел переступить предел?
— Хотел.
— Виновен! — прогремел Голос, и снова подхватило стоустое эхо: «Виновен! Виновен!»
Но сразу два знакомых голоса смешались в один:
— Он гений! — кричал Ренат.
— Он гений! — кричал Никич.
— Он выше других людей, он неподсуден! — кричал Ренат.
— Для гения нет предела и нет вины! — вторил ему Никич.
— Знаешь ли ты, — сказал Голос, — что в мире людям даны законы?
— Они мне не нравятся.
— Знаешь ли ты, что человек не может знать будущего?
— Твой мир несправедлив! Он страшен! — закричал Матвей.
— Мой мир неизменен, — ответил Голос, и Матвею почудилась в нём усмешка.
— Нет! — опять закричал он. — Мы изменим его! Он будет, будет справедливым!
— Кто это «мы»? — с презрением спросил Голос.
— Люди! — Матвей охрип от крика.
— Люди? Ты пробовал изменить Закон, и что из этого вышло?
Матвей поник.
— Молчишь?
Он не смог ответить.
— Виновен! Виновен! Виновен! — с нарастающей силой говорил Голос, и эхо вокруг зашумело, как буря. И вдруг сквозь гром и гул чисто пробился тоненький голос, и Матвей сжался.
— Не верь, мой дорогой, мой бирюк, не верь им. Я ни в чём не виню тебя, а значит, ты прав и ничего не бойся. Я всегда с тобой и люблю тебя…
В наступившей тишине он услышал ещё один голос — дальний, улетающий.
— Не верь им, сынок, ты ни в чём не виновен…
Матвей ощутил, что вязкая тёмная масса исчезла, он стоял один под чёрным звёздным небом. Ни звука, ни ветерка не было в зимнем этом мире…
И внезапно, словно властная рука сдёрнула чёрный ветхий покров, я за ним, над всей землёй открылось настоящее небо, нестерпимо блистающее небо из одних звёзд.
…И тогда он вскочил с топчана, будто его толкнули, и долго сидел, мотая гривастой головой, тёр лицо руками. Он понял этот сон, легко раскодировал его: оправдания душа ищет, вины своей не приемлет. Ах, как не хочется быть виноватым, ах, как хочется быть чистым и святым, хочется оправдать и благословить себя, хочется, значит, бежать, искать академика, всё открыть ему…
— Сволочь ты, Матвей Иванов Басманов, — сказал он себе и похромал на крыльцо.
Ночь и вправду была ясная и звёздная, тихая ночь, благая.
Но наяву Матвей не хотел и не ждал прошения.
А может быть, сон пророчил иное, совсем иное?
«И только и свету, что в звёздной колючей неправде», —прошептал он строчку и вернулся в дом.
* * *
…Заливисто, весело лаял Карат, и Матвей увидел у крыльца Ядвигу Витольдовну.
— Добро пожаловать! Неужели опять телевизор?
— Нет, нет, не беспокойтесь, уважаемый Матвей, — ответила старуха, осторожно поднимаясь по ступенькам. — Телевизор работает прекрасно. И вот я решила поблагодарить вас за труд. Я принесла вам свой пирог. О, это особый пирог, со сливками и орехами, его научила меня делать моя мама, почти семьдесят лет тому назад, в Варшаве.
— Стоило ли беспокоиться, Ядвига Витольдовна, — засмущался Матвей.
— О, чрезвычайно стоило и непременно! С одной стороны, — говорила она, ставя пирог на стол, — вы очень заслужили награду. А с другой — я вдруг подумала, что скоро умру и вкус маминого пирога никто на свете не будет помнить. А вы человек молодой, вы проживёте долго и через много лет скажете кому–нибудь: «Одна старая полька как–то угощала меня пирогом, который её научили делать лет сто тому назад в Варшаве! Вот это был пирог так пирог!» И значит, маленький кусочек маминой жизни перейдёт в двадцать первый век. Двадцать первый — подумать страшно! Ну скажете? — спросила она, глядя, как Матвей пробует пирог.
— Непременно скажу! — ответил он с набитым ртом.
— Тогда я довольна, — улыбнулась Ядвига и отщипнула от пирога. — Да, хорошо, — оценила она. — Знаете, у настоящих хозяек считается моветоном хвалить свои кушанья. Надо всегда говорить, что вышло плохо и тебе просто стыдно ставить это на стол, но ничего другого, к сожалению, нет. Я тоже так когда–то говорила. Но сейчас я скажу честно — пирог удался. Потом я как–нибудь ещё раз сделаю, чтоб вы получше запомнили и всё рассказали там… Ах, уважаемый Матвей, всё так быстро проходит! Я это часто слышала в юности от стариков, но, конечно, не верила им, ведь у меня были такие длинные дни! Утром я занималась с учителями французским языком и танцами, потом непременно в открытой коляске каталась по Аллеям Уяздовским, у парка Лазенки, потом были свидания в парке, потом обед у отца, и там всегда много интересных людей, потом — опять свидания, театры, балы, милые уютные суаре — так много всего! А потом действительно — всё так быстро прошло; и юность, и зрелость, и семья, теперь вот старость проходит… Вы ещё не замечаете?
— Нет, пожалуй. Сейчас моя жизнь тянется, как тянучка, длинная, скучная, тягомотная, вся одинаковая…
— О, это ненадолго! Это маленькая пауза в жизни, люфт–пауза. А потом снова дни понесутся, не успеете оглянуться — двадцать первый век… Да, кстати, уважаемый Матвей, у меня к вам маленькая просьба, очень лёгкая…
— Бога ради! Для вас, Ядвига Витольдовна, я всё, что могу, хоть трудное, хоть лёгкое…
— Очень лёгкое, — с улыбкой продолжила старуха. — Покажите мне вашу Машину.
— Машину? — удивился Матвей.
— Да, мне интересно. Уважьте любопытную старую женщину.
— Я, собственно… пожалуйста… — Он опешил и не сумел сразу отказать. — Только она на чердаке, туда лестница крутая, вам не трудно будет подняться?
— Почему же? Я ещё вполне бодрая женщина, я хожу осторожно, с палкой, не падаю, — с толикой гордости ответила Ядвига.
— Идёмте, — покорился Матвей.
— …Так вот она какая, — старуха осторожно потрогала панель Машины. — Довольно простая, как телевизор… Я думала, она намного больше…
— Увы, — развёл руками Матвей.
— Вот что — я хочу попробовать! Сюда садиться? — Старуха решительно указала на кресло.
— Нет, нет, нельзя! — всполошился Матвей и загородил кресло руками.
— Отчего же, уважаемый Матвей? Мне–то что угрожает? Неужели вы думаете, что я расстроюсь, если увижу это чёрное пятно? Я давно готова умереть, совсем не боюсь смерти и знаю, что могу умереть сегодня, завтра. Я совсем спокойно этого жду. Но вдруг я проживу ещё семнадцать лет? Мне будет девяносто четыре — ведь так бывает. Тогда я буду жить немного по–другому: отремонтирую дом, буду больше следить за собой, чтоб совсем не развалиться к тому времени, обязательно куплю собаку, я ведь люблю собак, но уже три года без собаки, потому что они, бедные, так привязываются к хозяевам, а потом совсем не могут без них жить… Ну дайте, дайте, Ядвига нетерпеливо отвела руки Матвея от кресла и села.
«А ведь правда, — подумал Матвей. — Ей–то действительно ничего не грозит. Наверняка пятно будет. Но и тут ничего страшного: может быть, и десять лет проживёт, а то и шестнадцать…»
Он приладил клеммы к рукам и голове старухи и включил Машину. Стал считать код.
— Ядвига Витольдовна, тут уж честно скажите — вам семьдесят семь лет? Это нужно для вашего кода, иначе ничего не выйдет.
— Это абсолютная истина. Мне семьдесят семь лет и три месяца.
Он нажал «пуск», раздалось гудение, и на экране стали медленно проступать черты лица старухи.
— Предупреждаю, клеммы будут греться, этого не пугайтесь, даже жечь немного будет…
— Я весьма терпелива, — гордо сказала Ядвига и вдруг воскликнула с детским восторгом: — О, смотрите, это же я! Честное слово, я!
— Да, это вы, — горько сказал Матвей, вспомнив ту же радость Милы.
— А почему нечётко видно? — требовательно сбросила старуха.
— Ну это же не кино, — усмехнулся Матвей.
— Жаль, — вздохнула она.
Машина гудела, изображение подрагивало, но не менялось.
— Ну а дальше? — попросила Ядвига Витольдовна.
— Кто её знает, может, и вовсе ничего не выйдет, как у меня…
И только он сказал это, лицо на экране свернулось, смялось, будто в комок, потом комок уменьшился до точки и пропал, Экран затянуло, как туманом, ровным серым цветом. Потом на сорим замаячили неясные тени… «Ну, вот и пятно собирается, — подумал Матвей. — Работает, гадина».
Внезапно туман исчез, будто занавес убрали, и на экране появились три лица. У Матвея по коже, от висков к ногам, волнами, одна за другой, побежали мурашки.
Необыкновенной красоты молодая женщина с тонким гордым, даже немного надменным лицом и весёлыми глазами смотрела с экрана. Она слегка улыбалась, ветер развевал её пышные светлые волосы, на них держалась маленькая шляпка с лентами, падавшими на белое платье. Женщина сидела на каком–то диванчике, и с обеих сторон к ней прижимались дети — тёмноволосая девочка лет восьми, с робкой улыбкой на умном личике и белокурый мальчик лет пяти, в белом костюмчике. Он поднял лицо на женщину и смотрел с обожанием, держа её за руки.
— Боже! Янек! Басенька! — закричала старуха и протянула к ним сухие руки. — Дети мои, дети! Это же мои дети, мой Янек, моя Басенька, это я в тридцать лет!
Внезапно, как будто камера отъехала от людей на экране, стало видно, где они. Ядвига с детьми сидела в открытой коляске, катившей по широкой улице мимо парка.
— Это Аллеи Уяздовски! Это Лазенки! — закричала старуха. — Это Варшава! Мы никогда там не были вместе, но, значит, будем, будем, будем!
Вдруг гудение Машины стихло, и в тишине раздалось цоканье копыт.
— Я слышу! Слышите, слышите, Матвей! — Ядвига плакала и смеялась.
И тогда они услышали голос мальчика:
— Мама, а когда я вырасту взрослый, можно я каждый день на лошадке буду кататься?
— Можно, милый, — ответила мама.
— Мама, а когда я вырасту взрослый?
— Вот пройдёт время, а потом ещё немного времени, а потом ещё чуть–чуть, и однажды настанет день, когда…
И тут коляска исчезла с экрана, но сразу появилась на нём вновь: сдвига и Матвей видели и слышали, как удаляется она под цокот копыт, видели вьющиеся волосы женщины и две детские головки, прильнувшие к ней.
— Боже, какое счастье, какое счастье! — плакала старуха, не отрывая глаз от экрана. — Я увижу моих детей, я их снова обниму!
Матвей сжал руки в кулаки, отчаянно напрягся, чтобы вновь почувствовать свою упрямую, жёсткую силу: предвестие звука коснулось его. Он понял, что сейчас услышит знакомые грузные шаги.
А Ядвига Витольдовна смеялась сквозь слёзы и всё вглядывалась в почти неразличимую, укатившую вдаль коляску, в которой вели разговор мать и сын.
«Пора! — молил Матвей. — Пора! Иди же, иди, я вызываю тебя! Слышишь?! Иди!»
Александр Тарасенко ПИСЬМО УШЕЛЬЦА Фантастический рассказ
Здравствуй, дорогой Н. Н.!
Начну своё письмо с того, что сегодня я пришёл домой как обычно, в шестнадцать двадцать. Как обычно, выпил стакан холодного хлебного кваса и принял освежающий душ. Каждый день, возвратившись с работы, принимаю освежающий душ под эстрадные извержения стоящего на кафельном полу ВЭФа. Смываю всё то, что успело пристать ко мне в промежутке между половиной восьмого утра и четырьмя часами дня. Пыль, пот, рукопожатия дружеские и официальные, аврал последних дней месяца, краску, мастику, кислоту… Одним словом, смываю часть жизни, отданную на благоустройство общества.
Зачем я пошёл сегодня на работу? Законопослушание? Нет, в последний день можно было сделать «под зад коленом» жизни добропорядочного гражданина. Последний взгляд? Возможно… Да, пожалуй, мне захотелось ещё раз (последний?) прожить третью часть суток в той обстановке, которая окружала меня в будни уже пять лет. Пять лет на одном месте — пустяк, казалось бы, но вот руки знают личный инструмент на ощупь. Я отработал сегодняшний день, будто ничего не случилось. Впрочем, пока ничего и не случилось.
Я сижу за письменным столом и пишу письмо. Волосы ещё влажные, желудок переваривает импровизированный ужин. Ах, зги импровизированные ужины! Что может быть прекрасней процесса удовлетворения голода! Горбушка чёрного хлеба, нарезанное тонкими ломтиками сало, пара зубчиков чеснока и холодный квас — всё это поглощается стоя, по мере того, как прожёвывается предыдущая порция и нарезается следующая. Я пью квас из большой кружки с отбитой ручкой, а на спину с плохо вытертых волос скатываются капельки воды.
Н. Н., скоро минет год со дня нашей последней встречи. Подумать только, мы расстались под вальс снежинок. Сегодня последний день сентября, и за всё это время нам некогда было даже созвониться! Помните, прощаясь, мы пожали друг другу руки и расстались друзьями, договорившись через год встретиться вновь. В наших дипломатах лежали плоды трудов уходящего года (трудов уже устаревших), а в головах зрели планы на будущий год. Тогда, помнится, был крепкий мороз, а мы сняли перчатки для рукопожатия, улыбнулись и вернулись к своим проблемам. Но вскоре единомышленники вновь соберутся, чтобы обменяться трудами, мнениями и планами, потом разъедутся и опять съедутся… И так из года в год съезжаются и разъезжаются, обмениваются и делятся, выпивают море кофе и выкуривают множество сигарет…
Извините, Н. Н., звонит телефон.
Звонил мой школьный товарищ. Интересуется, не нужны ли мне сейчас деньги более книг. Книги… Спутники жизни. Учителя. Собеседники, мнением которых дорожишь. Друзья, приязни которых добиваешься. Но вот на горизонте появляется сияющий айсберг — женщина. Тогда я продаю книги и покупаю цветы и коньяк. Красивые цветы и хороший коньяк. Устилаю цветами и поливаю коньяком свой путь к вершине айсберга. Достигнув вершины, перевожу дух. Чувствую удовлетворение данным отрезком жизни. Размягчаюсь под прямыми лучами солнца. Вдруг скольжу вниз и окунаюсь в отрезвляющую холодную воду. Блистающий мир на миг исчезает. Я понимаю, что теперь отрезан от него подобно отросшему сверх принятой нормы ногтю. Ноготь аккуратно подпиливали и покрывали лаком, им любовались. Он стал слишком длинным, и его обрезали. Вот так и меня… Пока я переваливаюсь через борт своего утлого судёнышка, всё время неотступно следующего за айсбергом, ледяная глыба уже успевает отдалиться на значительное расстояние. Теперь она уже не кажется мне такой внушительной и сияющей. Неожиданно начинает проявляться её подводная часть — огромная, не столько видимая, сколько угадываемая. Мне становится тоскливо и одиноко. Вот, думаю, вот то неведомое, что я хотел узнать ещё до восхождения на вершину и что порой затмевало моё кратковременное счастье колеблющейся тенью. Впрочем, говорю я себе, повернувшись спиной к айсбергу, всё это уже позади. Лучше поставить кассету с «Yesterday» «Битлз», приглушить звук и почитать что–нибудь для души. Что–нибудь для души у меня всегда найдётся. Нельзя же расстаться с последними, самыми любимыми книгами, даже если нет времени их перечитывать. Вот поэтому я ответил школьному товарищу отказом.
Так о чём это я? Ах, да, прошлогодняя встреча единомышленников. Сколько же было всего и всякого за этот год! Точнее, год с небольшим. Жизнь переменилась в тот июньский день, когда я позвонил Вам, Н. Н., и получил приглашение посетить столицу с «неофициальным дружественным визитом». Жизнь вдруг сорвалась с места и побежала так, что только пятки засверкали. Вы тогда критиковали мои работы не для того, чтобы высказать своё мнение и оставить на самотёке, нет. Вы тогда решили, что я вполне созрел — как овощ, который намереваются включить на правах необходимого компонента в творческий салат. Да, чёрт возьми, жизнь завертелась. Я почувствовал себя кому–то необходимым, на что–то способным. Я взялся за дело, требующее полного напряжения сил. Шесть часов сна, чашка крепкого чая с бутербродами и работа до отупения, до смертельной усталости. Таков распорядок выходного дня. В будни необходимо прежде отдать восемь часов жизни обществу и только потом заняться собой. Я отдавал третью часть суток обществу и успевал немного поработать. Жил работой. И вскоре она вытеснила из будней их серость. Стало интересно жить. Но… жить мне одному. Творческая работа, которой отдаёшься полностью, невольно отчуждает тебя от окружающих. Отдаляет даже от тех, кому ты нужен сам по себе, без работы. Близкие замечают твою фанатическую преданность любимому делу и нередко страдают от подобной преданности. Посторонние почти не замечают её, и оттого страдаешь ты, ибо занимаешься своим делом не только из–за душевных свойств и состояния души, но и из–за несовершенства первых и умиротворённости второго у посторонних, которые почти не замечают твоих страданий и стараний… Короче говоря, с того дня в первых числах июня прошлого года по сегодняшний последний день сентября в мире ровным счётом ничего не изменилось. Ни в большом мире, ни в малом. Даже погода стоит такая же. И сейчас я опять проделаю ту процедуру, которую проделал тогда.
Новый абзац я начинаю после того, как слева от пупка появилось красное пятнышко. Неприятный для глаза след укола. Неприятное слабое жжение в месте укола. Неприятная процедура, которая ничем не отличалась от той, которую я проделал вечером в тот июньский, начала месяца, день. Без четверти семь я выключил телевизор и пошёл на кухню. Тридцать единиц простого инсулина в подкожно–жировой слой живота йо–хо–хо, и бутылка кваса! Мир вдруг распался на четыре части, объединённые в две самостоятельные и не влияющие друг на друга пары. В Москве политический обозреватель ЦТ вёл первый выпуск сегодняшних мировых новостей, уделяя основное внимание внутреннему положению и внешней политике США, а здесь, на юге Украины, я стоял босыми ногами на линолеуме под дерево, прижимал проспиртованную ватку к месту инъекции и смотрел в окно, за которым независимо от положения дел в Москве, Вашингтоне и подкожно–жировом слое моего живота существовал свой мир. Мирок. На лавочках возле подъезда сидели молодые мамаши с малышами на руках, мамы молодых мамаш, их соседки и подруги. Громко разговаривая, они дружно щёлкали жареные семечки и сплёвывали шелуху себе под ноги. Порой раздавался нервный окрик одной из молодых мамаш или детский рёв, следовавший непременно за рассерженным выговором издёрганной мамаши и шлепками по мягкому месту. Женские голоса перекрывал мужской, врезавшийся в птичий гомон хлопками орлиных крыльев. Голос принадлежал человеку, который имел маленькую внучку, выпирающий живот и гордый вид хозяина этого птичника. Сейчас он докурит сигарету и двинет в соседний двор, где в компании пенсионеров «забьёт козла». Самое время высыпать на стол костяшки домино, которые соберут обратно уже на следующие сутки. Самое время продолжить полировку крышки стола шершавыми ладонями пенсионеров и гладкими костяшками домино. Сейчас бросит окурок в урну, успел подумать я, на секунду опережая мыслью его действие. Он выбросил сигарету и двинул со двора. Так было, так есть, так будет. В той же последовательности происходили события почти полтора года назад, разве что тогда малыши были младенцами и не раздражали своих мамаш настойчивыми попытками исследовать необъятные просторы этого маленького мира, да обстановка в Персидском заливе была спокойней…
Как всегда, в семь я выключил телевизор, настроил приёмник на короткие волны в диапазоне двадцати пяти метров и занялся ужином. Сегодня я решил уйти отсюда. Из квартиры, в которой так хорошо одному. Из мира, в котором так трудно одиноким. В холодильнике останется кое–что из продуктов. Здесь, в провинции, туговато с продуктами. Почти всё, что удаётся произвести, отправляется в крупные центры. Остальное попадает в холодильники граждан, не имеющих желания простаивать в очередях свободное от работы время. Отключить холодильник или нет — вот в чём вопрос. Если отключён холодильник и задраены окна, значит, ожидать хозяина бесполезно. Знаю точно, что возьму с собой ключ от входной двери. Как память, например. Фетиш. И вообще, Кэтрин сказала, что и могу вернуться. Что я захочу вернуться.
Кэтрин…
Проглотив ужин, состоявший из яичницы с салом и помидорами, чёрного хлеба с тонким слоем сливочного масла и большой кружки холодного кваса, я продолжаю излагать на бумаге мысли человека здравомыслящего и думаю о Кэтрин. Неприятное ощущение в месте инъекции исчезло, и теперь я могу застегнуть джинсы на пуговицу. Тело расслабляется — следствие ужина и мыслей о Кэтрин.
Робинзон Крузо окрестил спасённого им аборигена Пятницей по той причине, что в пятницу избавил его от съедения каннибалами. Я встретил Кэтрин в подъезде — она грелась у змеевика батареи — и предложил погреться в моей квартире горячим чаем. Она согласилась, вошла в обитель холостяка и увидела на диван–кровати открытый на иллюстрации–вставке роман «Прощай, оружие!». Уходя, я оставил его открытым на иллюстрации, изображающей сестру милосердия Кэтрин Баркли. Когда я вошёл в комнату, барышня, подперев голову руками, рассматривала будущую жену лейтенанта Генри глазами художника О. Верейского.
Я присел у ног барышни и посмотрел ей в лицо. Невольно воскликнул:
— Чёрт возьми! Кэтрин…
— Кэтрин? — Она пожала плечами. — Пусть будет Кэтрин.
Я достал из серванта два высоких узких стакана тонкого стекла с гоночными автомобилями — красивая и практическая память о первой любви — и открыл на кухне банку сока. Наполнил стаканы на три четверти берёзовым соком, бросил в каждый по две вишни из варенья, выдавил остатки сока из подсохшей на срезе половины лимона и добавил медицинского спирта из стограммового аптечного пузырька. Опустил в жидкость две соломки. «Что же это происходит? — подумал я. — Вот сейчас, в моей квартире, со мной, человеком здравомыслящим и общительным, но не имеющим возможности общаться?»
Так я познакомился с Кэтрин. Так я назвал её Кэтрин.
Вы знаете, Н. Н., как редко человек придаёт значение своим словам. Когда его дела подтверждают ранее сказанное им же, он непременно воспользуется случаем связать слово и дело как нечто само собой разумеющееся. Сами представляете, как порой хочется быть хорошим. Честным. Справедливым. Положительным героем, короче говоря. Я не мог предполагать, чем для меня обернётся моё приглашение ей заходить в любое время суток. Почему я так сказал? Может быть, оттого, что, просидев у меня всего час, она вдруг поднялась и заявила, что ей пора уходить? Не знаю… Я просто сказал:
— Заходи, когда захочется. В любое время суток, ладно?
Она ничего не обещала и просила не провожать. Да чёрт с тобой, подумал я на пороге. Вслух сказал: «Чао, бамбино!» Каждый ходит своей тропинкой. Она скрылась с глаз моих, а я побежал дальше, туда, где мы встретились с Вами впервые за несколько лет знакомства на официальном уровне, — побежал на встречу единомышленников. По дороге припал к ручью и жадно пил. (Самое яркое впечатление в жизни — утоление жажды. Болезнь такая…) А вскоре пошли один за другим праздники: Новый год, день служивых, день женщин мира. Праздники, работа, зарплата…
Каково было бы Вам проснуться среди ночи от подсознательного чувства постороннего присутствия и увидеть сидящую на постели женщину, с которой вы всего–то выпили по бокалу однажды полгода назад? Вы улыбаетесь? А мне было не до веселья.
— Кэтрин? — Кажется, я отодвинулся к стенке. Или отпрянул.
Она растянулась на постели. Вздохнула. Вздох её был похож на тихий стон.
— Можно мне немного поспать? Ты ждал меня, правда?
Она уснула! Не раздеваясь. Я и сам порой засыпаю одетым. На вижу смысла стелить постель, которую через несколько часов придётся убирать. Да и что стелить: белую простыню, белое покрывало? Спешите насладиться белизной мирного и сытого времени, дорогие граждане! Не приемлю также подушек и перин. Но со стороны Кэтрин было явным свинством ложиться одетой в чужую постель. Она сонным движением потянула на себя лёгкое покрывало, заменявшее мне одеяло. И сразу же окунулась в сон. Ни «здрасте», ни «извини». Барышня без предрассудков. С этим у них там, видимо, нет проблем. Где у них? Чёрт возьми, не надо только приписывать молодой особе умение проходить сквозь стены. Я мог просто забыть захлопнуть дверь…
Что же ты собой представляешь, существо с жёсткими волосами и губками бантиком? Откуда ты и зачем здесь? Я совсем не знаю тебя, но интуитивно доверяю. Почему? Быть может, чувствую в тебе нечто не от мира сего? Нечто… Всё красивое с вуалью тайны влечёт меня к себе. Чепуха! Самая что ни есть обыкновенная советская женщина. Вот я тебя сейчас поцелую…
Всю оставшуюся часть ночи я бодрствовал рядом с крепко спящей Кэтрин. Собирался её поцеловать, но почему–то не поцеловал. На рассвете, обретя наконец веру в завтрашний день, я задремал. Не могу знать своей дальнейшей судьбы, но предполагаю, что в то утро я последний раз уснул со спокойной душой. Самая что ни есть обыкновенная…
Вскоре я понял, что обманываю себя.
Впрочем, обманывать себя — дело привычное. Другое дело, когда тебя не посвящают. Просто приходят, одаряют лаской и, получив ответную, уходят без прощальных слов. Только поцелуют, скользнут в ванную и не вернутся. А я лежу в постели с открытыми в зашторенную темноту глазами, курю и стараюсь ни о чём не думать. Если отбросить человеческую гордость и не вспоминать о неоконченной рукописи во втором ящике письменного стола, можно сказать, что, в принципе, я не так уж плохо устроился. Скорее даже неплохо. Не каждый имеет такую Кэтрин. Жизнь прекрасна!
Вот только вспыхивающий в ночи огонёк сигареты напоминает мне о том, что дела вовсе не так хороши. И даже вовсе плохи. Труба дело. Всё равно как саркастический голос с задних рядов, подпускающий дёгтя в мёд общего согласия на собрании.
Пятьдесят три дня прожил без сигарет. Почувствовал вкус свежего воздуха, запах весны. В ту ночь сорвался. Распечатал пачку ленинградского «Мальборо», которую из принципа держал нераспечатанной. Закурил. И потом курил «Мальборо» в каждый визит Кэтрин. Пачки хватило ненадолго — Кэтрин зачастила с визитами. Майские праздники мы встретили вдвоём. Через месяц отметили моё двадцатипятилетие. Четверть столетия и половина жизни. Полжизни — ничего не сделано. Такую дату следовало отметить подобающим образом. Собрались друзья. Подняли бокалы в честь новорождённого. Торжественная часть длилась недолго. Гитара, которую я держу для умеющих играть на этом сплачивающем компанию инструменте, прервала нежным плачем голоса ораторов. Гитара напоминала всем, что на свете существует что–то более ценное, чем двадцатипятилетие, отмеряющее для больного человека половину жизни. Гитара пошла по кругу. Гитару мы все любим — даже если не можем ничего исторгнуть из её струнной души. Интересно, подумал я тогда, любит ли Кэтрин гитару? И какие песни любит Кэтрин?
В одиннадцатом часу, когда уже стемнело, гости стали прощаться. Говорили, что всё было хорошо, что я отличный парень и что мне пора жениться. Да, да, говорил я, всего хорошего. Спокойной ночи. Будьте здоровы! Непременно. В следующий раз, конечно же, у вас, дорогие и любимые мои… м–м… чмок!
Я поставил в сервант чайный сервиз, вымытый женщинами перед уходом, и выскочил во двор с мусорным ведром. Высыпав мусор в бак, остановился у распахнутых дверей подъезда. Я стоял один: курил и смотрел на звёзды. Облачко сигаретного дыма охватило никотиновой туманностью несколько звёздочек на тёмном–тёмном небе. Вон там — или нет, вон там, возле той звезды, живёт Кэтрин. Ходит босыми ногами по щиколотки в плазме, шевелит короткими пальчиками в плазменных струях, вылавливая там маленькие сгустки вещества с чудовищной температурой, и думает о гуманоиде, который сейчас стоит у подъезда безликой многоэтажки, построенной двадцать лет назад в районе Млечного Пути, на Земле, и грезит о маленьких, с розовыми ноготками пальчиках Кэтрин. Сейчас Кэтрин выйдет из плазменной заводи и окунётся в межзвёздный холод. Усладив тело контрастной ванной, ринется вниз по незримому лучу, проложенному моим взглядом от Земли к вон той звёздочке. Она будет скользить к Земле с головокружительной высоты, оставляя во Вселенной вскипающий след. За мгновения своего пути Кэтрин невольно создаст ещё одну чёрную дыру, взорвёт сверхновую и приведёт в бешенство утихшие магнитные бури. Она ничего не заметит, ибо будет скользить с закрытыми глазами и замершим сознанием. А я буду ждать её, заволакивая звёзды облачком сигаретного дыма…
Было хорошо. Только на было Кэтрин. Её отсутствие обостряло моё одиночество. Одиночество нахлынуло за пять минут до прихода гостей, когда я расставил приборы на столе. Одиночество подкралось после ухода гостей, когда я докуривал сигарету во дворе. Надо было возвращаться в квартиру, в которой уже ликвидированы следы посещения друзей. Друзья приходят столь редко, что каждый их визит можно назвать Посещением. Квартира уже проветрилась после их шумного посещения. Надо вернуться в неё и завалиться спать.
Тут я услышал мужские голоса. Приглядевшись, различил в разбавленном светом окон мраке их обладателей. Знаете, этакие баловни судьбы и родителей. Аккуратные стрижки, узкие брюки и галстуки, печатки. В кармане — ключи от последних марок «Жигулей». Мусор достатка. Наверняка выпившие.
Послышался смех, своим довольством напоминавший хрюканье. Наступила тишина. Тишину вспорол женский голос: «Дерьмо!» Вдруг группа молодых людей распалась. Трое стояли — трое свалились подобно кеглям. Осталась только женщина. Кэтрин! Перешагнула через одного — того, чьё падение я успел увидеть, словно смотрел быстро прокручиваемую плёнку, — и поспешила к подъезду. Она не видела меня. У подъезда остановилась, вскинула голову и невольно отпрянула.
— Ах, милый, чуть не столкнулись!
— К счастью. Иначе меня постигла бы их участь.
— Пустяки. Не обращай внимания. Пойдём к тебе?
— Пойдём.
Открывая дверь, спросил:
— Почему ты сегодня не появилась как обычно — вдруг?
— Сегодня нельзя.
— Почему?
— Трудно объяснить.
— Опять женские радости и печали?
— Опять.
— Ол райт, оставим это. Копайтесь сами в своих трудностях.
Знаете, Н. Н., как обычно бывает? Она не звонит по телефону или в дверной звонок. Просто вдруг появляется. Входит в комнату, будто выходила на кухню напиться воды и теперь вернулась. За несколько секунд до её появления учащается сердцебиение, как от телефонного звонка, разорвавшего тишину ожидания, дыхание перехватывается жгутом волнения. Потом входит Кэтрин. «Привет!» — говорит она, останавливаясь на пороге и теребя ковёр детскими (хотя сама далеко уже не ребёнок) пальчиками. «Привет, — говорю я, расслабляясь. Проходи».
Послушайте, Н. Н., способна ли молодая особа раскидать в стороны трёх верзил так, чтобы те после падения не спешили принять вертикальное положение? Вы считаете, не способна? Вот и я так думаю. Весёлое у меня было настроение…
Ночью я стараюсь не смотреть в любимые глаза. Днём в этих коричневых зрачках отражается мир (чей?). Днём карие глаза Кэтрин сводят меня с ума. Ночью я боюсь их. Ночью я только целую их. Впрочем… я привык. К страху привыкаешь, не правда ли?
Однажды, под закрытие сезона, мы отправились цехом к морю. Я поехал единственный раз за весь сезон и чуть было не утонул. После ста граммов водки и сигареты (побочные продукты прогресса) полез в воду. Заплыл до буйка — отлично. Повернул назад и захлебнулся. Тону, захлёбываюсь, на помощь не зову, говорят, даже поплыл прочь от берега. Ничего уже не соображал. Находившиеся рядом люди считали, что я наслаждаюсь жизнью, солнечным днём. Только когда я сорвал с лица солнцезащитные очки, поняли, что требуется помощь. Какой–то парень схватил меня за руку и подтолкнул к берегу. Я нащупал ногами дно и пошёл к берегу самостоятельно. Так я и не узнал, кто пришёл мне на помощь. Один из свидетелей этой сцены обещал передать парню просьбу «обмыть» моё спасение. За бутылкой коньяка никто не явился. Но бутылка стоит нетронутой. Это особая бутылка. Её можно откупорить в честь Кэтрин — прекрасной незнакомки. Незнакомец вытащил меня из глубин моря, незнакомка — из глубин океана лозунгов и директив. Нет, не побегу. Ухожу без сожаления. Ухожу с холодком в душе. Впереди неизведанное. Так вперёд же!
А знаете, Н. Н., что я сделаю с бутылкой марочного коньяка «Таврия»? Возьму с собой! Последняя реликвия. Ларец с костями «старых добрых времён». Пусть в бутылке преломляются лучи чужого солнца. Какое оно? Большое и голубое? Оранжевое? Или в мире Кэтрин два светила? Или её нежная кожа предназначена противостоять роковому притяжению чёрной дыры, с которым не может справиться даже свет с его сумасшедшей скоростью? Быть может, Кэтрин хочет укрыться от ставшего опасным светила, которое вот–вот займёт объём, очерченный орбитой её родной планеты? Вопросы, вопросы… Кэтрин не рассказывает ничего о своей родине. Её интересует только любовь. Луна между верхушек деревьев, шелест листьев… Напряжением мысли расплескать шампанское из фужера для неё дело обычное. Насвистывать какой–то мотивчик, так что кнопки на моей куртке нежно звенят чеканными шляпками, — обычная забава. Нарисовать вверх ногами мой портрет за пять минут, да так красиво, как на Арбате не сдюжат — просто способ развеять тоску. А вот грамматика интимной близости для неё всё равно, что китайская грамота. Странная она, честное слово. Совсем иная шкала ценностей. Ценностей! Слово–то какое! Земное. Есть ли у них понятие ценностей? Трудно сказать. Знаю, что она не из мира землян. Она совсем другая. Разница в наших с ней взглядах на жизнь напоминает мне разницу во взглядах первых европейцев, ступивших на землю Америки, и коренных американцев. Показательным примером можно считать её попытку сделать мне приятное…
Представляете, Н. Н., является однажды Кэтрин со свёртком в газете. Разворачивает её, а там гора не совсем новых десятирублёвок! Очень просто: взяла в моём кармане червонец и пустила через копировальную машину. У меня нет денежных долгов, но нет и денег. В размерах достаточных, чтобы не считать каждый рубль. А тут порядочная сумма в мятых банкнотах. Упаковка натуральная — в свой прошлый визит Кэтрин прихватила с журнального столика старую газету. И вот лежит теперь эта газета на полу, засыпана деньгами, и только краешек какой–то статьи выглядывает наружу. Со вздохом наклоняюсь, тяну газету за угол. Деньги рассыпаются, и я читаю название статьи: «Много ли человеку надо?» Вдруг меня прорывает смехом. Смеюсь от души. Кэтрин стоит передо мной, засунув любимые пальчики в узкие карманы вельветовых джинсов, и удивлённо смотрит на меня. Я начинаю захлёбываться от смеха.
— Ты, дурак, наверно? — спрашивает Кэтрин.
Я перестаю смеяться. Пожалуй, тут не до смеха. Лицо моё застывает в печали и тоже. Кэтрин, милая, неужели и ты пешка?
— Нет, я точно дурак! Иди сюда, пожалуйста.
Я прохожу по деньгам и мягко тяну её за руку к диван–кровати. Она обижена. И не сопротивляется. Стараюсь поймать её губы. Говорю тихо–тихо, только для нас двоих:
— Слушай меня внимательно, Кэтрин. Вон там, за окном, чужой тебе мир. Я знаю. Это мой мир, но он чужой и для меня, поэтому пусть остаётся за окном. Он нам не нужен. Такой серый и слякотный… Пообещаем друг другу не предавать то, что есть только у нас. Никогда не предавать, ладно? Или тебе всё равно?
— Мне не всё равно, — говорит Кэтрин, уткнувшись лицом в моё плечо.
Я глажу её чёрные вьющиеся волосы. Пальцы застревают в них. Её волосы имеют невероятный, дурманящий запах, не поддающийся описанию.
— Ты это сама придумала?
— Сама. — После долгого молчания вопрос губами в плечо. — Тебе не нужны деньги?
— Глупенькая. Разве они понадобятся мне в ближайшем будущем?
— Не надо, не ходи туда.
— Я хочу. Ведь там нет Цензора, верно?
— Что это такое?
— Значит, нет… Понимаешь, мне порой снится сон, в котором я послал Цензору перчатку. Тот срезал перчатке пальцы и прислал её обратно. Вызов принят, понял я. Теперь мне нельзя расставаться со своим пером. Я сажусь за стол и пишу, пишу… Но нот за дверью слышатся медленные уверенные шаги и шорох — как будто что–то волочат по полу. Дверь открывается, и я вижу на пороге Цензора с ножницами и сетью в руках. Он криво усмехается и говорит: «У тебя, кажется, прорезались крылышки, дружище. Я придам им нужную форму!» Я вскакиваю со стула, а Цензор набрасывает на меня сеть. Неторопливо подходит и срезает одно крыло. Я пытаюсь найти в сети прореху, сделанную предыдущими жертвами Цензора, а мой палач уже схватил второе крыло. Наконец–то нахожу прореху, высвобождаю руку и замахиваюсь своим пером… И лишь тогда просыпаюсь. Значит, Цензора у вас нет, верно?
— Верно. Но тебя не поймут.
— Да уж…
Кэтрин старше меня, как можно предположить. Она вряд ли сможет иметь здесь ребёнка. Она довольна тем, что здесь я принадлежу ей. Мы могли бы вступить в официальный брак. Или в гражданский. Нам было бы хорошо. Здесь. На Земле, за стенами моей квартиры. Но это невозможно. Невозможно познать счастье для двоих на Земле, укрывшись от Земли в стенах кооперативной квартиры. Время такое. Мир такой. Каждый индивидуум где–то приписан и для чего–то предназначен. Лев Толстой пробовал протестовать, пробовал уйти от титула графа и славы писателя с мировым именем. Роберт Фишер не захотел служить Архимедовой ванной для измерения объёма шахматной короны. На свете существуют две истории: с большой и малой букв. Так вот с малой, микроскопически малой буквы пишется история будней. С детства мне внушали, что малую букву необходимо дописать в большую, а для этого каждый должен быть где–то приписан и для чего–то предназначен, пусть даже для производства никому не нужного барахла.
Хочу уйти отсюда. К чёрту всё! Хочу выспаться. Выспаться до телесной усталости. И чтобы, проснувшись, видеть море солнца и улыбок — только не море рапортующих народу средств массовой информации. Хочу уйти туда, где нет слов — лишних и необходимых; где только глаза, пальцы, губы, мысли… Оголённое сознание без вуали высокоморального человеческого сознания. Где нет научно–технических революций и жертв этих революций. Нефтяных вышек в океане и мусорных свалок. Бруклинского моста и пепелища Хиросимы. Дикторов и диктаторов… Где есть только сознание, пульсирующее в ритм пульсации местного светила. Сознание, обретённое сразу и целиком. Где есть осознание мира как единого целого. Осознание мира и себя как единого и неделимого целого. Всё для всех или ничего никому. Осознание Пространства как Времени и Времени как Пространства. Где тёмными ночами слышны скрипы и шорохи Вселенной. Вселенная, словно уставший в долгом плавании корабль, скрипит, нет — стонет корпусом и такелажем. Фантастика… Там, где нас нет, верно?
Н. Н., говоря откровенно, Вы напоминаете мне упитанного длинношёрстного кота, занятого вылавливанием из большого аквариума золотых рыбок. Я показался Вам маленькой рыбкой с пробивающимся на плавниках золотом. Вы осторожным, но ловким движением выловили меня из мутной воды большого аквариума, очистили от налипших водорослей и бросили в маленький аквариум, до отказа наполненный живительной, чистой, родниковой водой. Мир стал интересен и прекрасен — следствие насыщенности воды кислородом. Я увидел множество маленьких рыбок с золотистыми плавниками. Они не проявляли резвости и веселья. Рыбки медленно плавали, часто застывали на месте и шевелили плавниками. Интересная деталь: от шевеления плавниками вовсе не возникает ток воды. (Быть может, он слишком слаб, чтобы быть различимым?) Я подплыл ближе к одной из рыбок. Она не реагировала на моё приближение. Я подплыл к ней морда к морде и пустил изо рта несколько пузырьков воздуха: «Товарищ!» Рыбка посмотрела на меня отсутствующим взглядом, разинула раз–другой рот: «Вы правы, наш аквариум прекрасен, наше общество идеально и здорово…» — и показала мне хвост.
И тогда через толстое стекло аквариума, искажающее внеаквариумный мир, вплыла рыбка по имени Кэтрин. На сё плавниках и чешуйках играл отблеск пожара. Великолепное зрелище! Но отблеск пожара играл переливающимися огнями только для меня. Остальные обитатели аквариума продолжали своё глубокомысленное шевеление позолоченными плавниками и безмолвное, вялое хлопание зубастыми на вид челюстями. Недолго думая, я спросил Кэтрин: «А я смогу вот так, через стекло?» Она скользнула по мне чешуйчатым боком и ответила: «Сможешь. Только зачем? Нам и здесь будет хорошо». Видите: будет хорошо! Мимикрируй, и тебе достанется место под солнцем.
Во время нашей короткой беседы в аквариум бултыхнулась ещё одна рыбка с широко распахнутыми в мир глазами закоренелой оптимистки. Она крутанулась на месте, разглядывая окружающее пространство, и заметила нас с Кэтрин — единственных общающихся обитателей позолоченного аквариумного мира. Рыбка быстро приблизилась к нам и уже открыла было рот, но я не дал вырваться пузырькам умиления. Я вернул рыбку в действительность одной фразой: «В ухе твои товарищи!» Затем сказал Кэтрин: «Стекло. Проклятое стекло. Научи меня ломать его сопротивление». Кэтрин ответила: «Хорошо. Я приду за тобой».
Кстати, Н. Н., что Вы думаете о причине визита Кэтрин? Зачем всё это: зачем опьянение последнего дня жизни приговорённых к смертной казни и этот длящийся полгода последний день жизни, этот пир во время чумы? Зачем эта связь, сравнимая с рюмкой водки и сигаретой, причитающимися приговорённым перед казнью? Зачем? Что она не имеет в родном мире? Глупости любви? Обстановки земного общества двадцатого века (страх за стальными ставнями, всеобщее отравление химическими веществами и цинизмом и пр.), благодаря которой любовь становится на вес золота? Ну вот, любви определили цену! Всё, всё в этом мире получило ярлык, бирку с указанием химсостава, рекомендацией к применению и ценой.
Ценой… Опять деньги! Самое очевидное и самое невероятное в человеческом общежитии. Логически вытекающее и не поддающееся разумному восприятию. Научная фантастика. Не обладаю деньгами в таких размерах, которые превращают просто сумму в сбережения. Зачем их иметь? Всё своё носите с собой! Завтра ожидаются осадки, не исключена война…
Темнеет. Вот уже закончилась программа «Время». В мире неспокойно. Где–то опять стреляют. Падают самолёты с атомными зарядами на борту. Крах на бирже. Очередной скандальчик с воссоединением семьи. За время программы «Время» солнце удалилось от окна моей квартиры ещё дальше на запад, туда, где убитых и умерщвлённых стало ещё больше за время программы «Время». Каламбур. Чёрный юмор. Чёрный, как атмосфера политическая и просто атмосфера. Атмосфера накаляется, а добрых, человеколюбивых и человекоподобных пришельцев всё нет. «Уж полночь близится…» Вы правы, Н. Н., фантасты в своих произведениях ни в коем случае не должны приучать читателя к мысли о необходимости вмешательства клинобородых профессоров в дела земные. Вы правы, каждый должен лично участвовать в мировой свалке за лучшее, светлое и звёздное будущее человечества. Вперёд к звёздам, и пусть никогда не закроет их пелена атомного пепла! Я участвовал в этой борьбе. Даже сегодня делал работу, возложенную на меня государством. Теперь я решил сменить спецовку на дорожный костюм.
Сердце бьётся… Сейчас появится Кэтрин, обнимет меня и спросит: «Пойдём?»
Послушайте, Н. Н., Кэтрин сказала, что я обязательно вернусь. Вы такие, сказала она. На письменном столе я оставляю чистые листы и авторучку. Если я и вернусь… Послышалось!… Пройдёт немало времени. О чём тогда писать? Неужели и тогда единственное, о чём можно писать, будет то, что видел где–то там, где нас нет? Ведь это чистые листы, на них должно писать лишь…
Явилась Кэтрин.
Сегодня её волосы застыли чёрными лучами. (Странно, не правда ли? Чёрные лучи…) На вид они такие жёсткие, а я утонул в них губами. От её тела веет холодом. Тело облачено во всё чёрное. Какая–то необычная одежда… Кэтрин была мне милей в чёрных вельветовых джинсах или юбке–шотландке. Впрочем, сейчас это не главное.
Явилась Кэтрин. Исследователь подошёл к стеклянной клетке и постучал ногтем по стеклу. Белый мышонок — единственный обитатель клетки — встал на задние лапки и ткнулся носом в то место, к которому прикоснулся палец исследователя. Глаза белого мышонка посылают слабые лучи в глаза исследователя. Глаза исследователя равнодушны. Они привыкли видеть смерть таких милых белых мышат. Исследователь устал от однообразия смерти. Он отработанным движением опускает руку в клетку и касается пальцами белой шёрстки. Мышонок благодарно трётся шёрсткой о кисть существа в красном балахоне с узкими прорезями для глаз. Исследователь переносит мышонка из клетки на лабораторный столик и берёт заранее приготовленный шприц с…
Чёрт возьми, в пальцах Кэтрин ничего не было, когда они коснулись моих губ, но я ощутил крупную горошину и сжал инстинктивно губы. Кэтрин протолкнула горошину языком. Псом поцеловала меня. Кажется, дело сделано. Так просто и обыденно. Неожиданно просто и…
Всё не о том! Я уже не ощущаю рук, не владею ими, не вижу их, однако авторучка продолжает оставлять след на бумаге. Хлынул звёздный дождь. Звёздные струи хлещут в окно. Звёзды влетают в чёрный кроем окна и, ударившись о подоконник, перепрыгивают на стол. Звёзды гаснут на столе или в окружающей стол темноте. Они угасают в свете настольной лампы.
В темноте Вселенной пятно света от настольной лампы.
В пятне света по листу бумаги бегает авторучка.
На бумагу ложатся слова. Строка за строкой.
В пятне света гаснут звёзды.
В пятне света нет меня…
* * *
P. S. Уже одевшись, я попросил Кэтрин подождать минутку. Мы стояли у двери. И тогда я вспомнил…
Помните, Н. Н., в первый же час моего визита в столицу Вы поили меня чаем на кухне из большой чашки с двумя ручками? Вам пора было в редакцию. Вы уже опоздали. Мне было страшно неудобно. А Вы заботливо отпаивали меня с дороги чаем. Потом сказали: «Мой дом — твой дом». И это было сказано через два года после нашей первой встречи, длившейся час с небольшим. Мне тогда даже нечего было ответить. Вы — единственный человек, сказавший мне это. Даже Кэтрин не сказала этих слов. Помните, Н. Н., даже Кэтрин! Каждый визит к Вам даётся мне с большим напряжением — Ваша супруга ревниво оберегает время и кров своего мужа. Вот теперь уход в мир иной — туда, где мне не скажут: наш дом — твой дом. Понимаете, что я хочу сказать? «До встречи?»
Владислав Петров ПОНИМАТЕЛЬ Фантастический рассказ
В студенческие годы я подрабатывал в организации, занимавшейся художественными переводами, — корректировал подстрочники. С тех пор в голове задержалось: «Глаза у него были как у арабской лошади, запряжённой в телегу». Такие глаза, наверное, были у меня, когда я уходил от Иры.
Вышел, а дождь как из ведра. И хорошо, что дождь: слёзы, текущие из моих арабских глаз, смывает. Чушь, конечно, какие там слёзы, но себя жалко. Хлопнул я дверью и будто что–то сломал в себе.
Я долго не решался зайти домой — топтался на лестнице и лепил улыбку. Скакун с грустными глазами приволок к жене телегу непонятой любви. Глупо и смешно.
— Устал я, — говорю прямо с порога. — Работы невпроворот.
И не вру, между прочим. Мне всегда хватает работы. Пишу всё: начиная с передовиц и кончая некрологами. Бывает, средненько, без души пишу, но зато сдачу материала никогда не задерживаю. Редактор меня ценит, хотя и не любит.
— Я блинов напекла, — кричит жена с кухни. — Раздевайся скорее, пока не остыли.
Разделся. Поел. Теперь самое тяжкое: обязательный час общения перед вечерним фильмом. Я не хочу ей лгать и не лгать не могу. И не в Ире здесь дело. Невыносимо каждый вечер говорить про одно и то же и делать при этом заинтересованное лицо: что в магазине давали, да какое платье жена Барсукова купила, да что завтра на обед готовить. А ведь я любил её, точно знаю — любил!
Час общения я сократил, сказал — голова болит. Жена знает: главное средство от головной боли для меня — душ.
Заперся, открыл воду. Сел на край ванны. Тяжко жить на свете пастушонку Пете.
Голову пришлось намочить, иначе зачем я в ванной два часа проторчал. Расчесался. Из зеркала глядит здоровенный бугай. Вот только глаза. Не нравятся мне эти глаза. Грустно–тупые глаза. Ну ладно, на сегодня налюбовался. Нарцисс…
Свет в комнате не горит. Значит, жена уже спит.
Достаю рукопись. Иду на кухню.
Если можешь не писать — не пиши. Вернее не скажешь. Однако я этому мудрому совету не следую: не писать могу, но всё равно ежевечерне расчехляю машинку. Не столько по зову души, сколько из природного упрямства, остаточного рвения, как любит говорить в таких случаях ответственный секретарь нашей газеты Амиран. Рвение осталось с тех времён, когда я ещё не мог не писать.
Просидел над машинкой час, не высидел ни строки, зато изрисовал с десяток листов. Точку в повести я поставил полгода назад. Можно клеть в папку покрасивше — и бегом по редакциям. Но одно останавливает: каждое слово выверено, а ощущения правды нет. Как тут быть? И я ежевечерне расчехляю машинку…
Спрятал рукопись. Покурил. На сегодня всё. Спать.
Засыпаю я в последнее время тяжело.
* * *
Выхожу из лифта. Редакционный коридор. Привет, привет, привет…
Отсиживаю случку. Пардон, так у нас именуются редакторские пятиминутки.
И наконец, за работу.
Пишу очерк. О человеке, у которого 21 июня сорок первого года была свадьба. А потом призыв, тяжёлое ранение в первом же бою, концлагерь. В сорок четвёртом во время восстания заключённых он, безоружный, бросился на пулемёт. В маленьком польском городке его именем названа улица. Его сын, которого он никогда не видел, сидел вчера напротив меня вот в этой самой комнате и рассуждал о перспективе покупки «Жигулей» в импортном исполнении.
Очерк не идёт. Трудно писать о герое, чей сын, скомкав рассказ о поездке на родную могилу, начинает деловито выяснять, нет ли для таких, как он, сынов героических отцов, льгот на приобретение автомобиля.
Очерк не идёт. Но я знаю, что его напишу. И не потому, что строкаж сдавать надо. Стыдно не написать.
А пока откидываюсь на стуле к прикрываю глаза. Что же всё–таки со мной происходит? Почему всё не так? И кто виноват в этом? Ах, как хочется найти виноватых!
И я нашёл уже: виновата жена, нечуткая, непонимающая. Кто ещё? На кого ещё выплеснуться?
Всё по–прежнему. И всё не так. Как будто вдруг потеряна точка опоры. Мне кажется: недавно со мной произошло что–то очень плохое, а что — не помню.
Или я просто устал?
* * *
— Чай будешь? — спрашивает меня Шурик, с которым мы делим редакционную комнату. — Если будешь, сходи за водой.
Вечно мы препираемся из–за этой воды. Шурик походы с графином по очереди возвёл в принцип, лишний раз ни за что не сходит. Это раздражает, но сейчас я даже рад, что он меня окликнул.
Выхожу с графином. В конце коридора замечаю Иру; с ней Валерия, секретарь нашего редактора.
Ира идёт к нам. Она с завидным постоянством появляется в нашей комнате. Три раза в день. По ней можно проверять часы. Она приходит покурить, хотя с тем же успехом может сделать это у себя в корректорской. Мне неприятно, что и сегодня она не изменила своей привычке. Зачем ей это? А может быть, надо опросить иначе: почему я придаю этому такое значение?
Возвращаюсь, на миг замираю перед дверью. Сейчас я стану не похож на себя. И как раз потому, что мне очень хочется быть собой. Насчёт телеги непонятой любви — блажь, но… Быть собой не получается.
А какой я? Где я настоящий? «Вот тогда мы прочувствовали, что заблудились в пространстве, среди сотен недосягаемых планет, и кто знает, как отыскать ту настоящую, ту единственную планету, на которой остались знакомые поля и леса, и любимый дом, и все, кто нам дорог…» Это Сент–Экзюпери, «Планета людей».
А какой я? Этого вопроса достаточно, чтобы заблудиться в пространстве. А пока мы в нём ищем себя, нас настигают дела и делишки, которые ещё больше всё запутывают. Что остаётся делать? Как жить, чтобы не оказаться в офсайде? Сжать зубы и вслед за Сент–Элом повернуть на Меркурий?
* * *
— Какой я! Я — страстный! — орёт, подвывая, Шурик и тянется к Валерии.
Это первое, что я слышу и вижу, открыв дверь. Во всём десятке редакций, расположенных в нашем здании, нет, наверное, ни одной мало–мальски симпатичной особы женского пола, хотя бы раз не побывавшей у нас в комнате. Приходят они, конечно, не ко мне, а к Шурику.
— Принёс воду? Давай чай заваривай! — приказывает Шурик, не выпуская талию Валерии; и снова на всю редакцию: — О, Валерия, любовь моя, выходи за меня замуж!
Ира сидит у окна, молча наблюдает за ними. Мне она кивнула, как постороннему. Ну и бог с ней. Сажусь за стол и питаюсь писать.
Я никогда не сумел бы броситься на пулемёт, но в концлагере, верю, в подлеца не превратился бы. Легко рассуждать об этом, постукивая одним пальцем по машинке. Особенно если не вспоминать усвоенную через синяки банальную истину: настоящую цену словам определяют только конкретные обстоятельства. Мой одноклассник Лёня Карапетян довёл до гипертонического криза школьного военрука, на полном серьёзе доказывая бессмысленность подвига Александра Матросова, а через девять лет погиб в Афганистане, вызвав огонь на себя.
Визг. Это Валерия обороняется от Шурика. На пол летят бумаги, стаканчик с карандашами.
Открывается дверь. На пороге редактор.
Валерия вмиг выпархивает в коридор. Редактор — седина в бороду, бес в ребро — ревнив, как Отелло. Сейчас последуют санкции. Он выйдет, потом минут этак через пять позвонит и скажет деревянным голосом: «Александр Васильевич, зайдите ко мне». Обращение по имени–отчеству для него высшая форма иронии.
И точно: не успел Шурик привести стол в порядок, как зазвонил телефон. Шурик с ухмылкой — нет в нас почтительности к начальству удаляется. Мы с Ирой остаёмся наедине.
Она затягивается дымом по–мужски глубоко, улыбается.
— Так чего же это ты вчера испугался? — говорит она.
Я не знаю, как отвечать.
Вчера (я дежурил по номеру) у нас неожиданно слетел материал на полполосы. Я позвонил жене, чтобы рано не ждала, а тут всё переигралось в обратную сторону. Индульгенция на позднюю явку была, однако, уже получена.
— Зайдёшь? — спросила Ира, когда я проводил её до дому. После развода она живёт вдвоём с матерью; неделю назад мать уехала в санаторий.
— Зайду, — кивнул я.
И зашёл. А вскоре позорно бежал, убоявшись назревающего адюльтера.
Ира для меня нечто вроде Прекрасной Дамы. Каждому нормальному мужику, даже если сам он в этом не признаётся, нужна Прекрасная Дама. Если её нет, её стоит выдумать. Я выдумал Иру, и в этом не обманываюсь. Но адюльтер с Прекрасной Дамой — вещь противоестественная. И мне нечего сказать Ире.
— Так чего же ты вчера испугался? — повторяет она.
Хоть бы телефон зазвонил, что ли…
Ира хочет ещё что–то оказать, но… входит Пониматель. Слава тебе, Пониматель, спаситель мой!
На, фоне наших взаимных приветствий Ира исчезает незаметно.
Я не знаю газеты, которая не имела бы своего сумасшедшего. В «Вечёрку», например, захаживает Вождь Народов Мира, а к нам вот Пониматель. Он никогда не скажет: «Я тебя слушаю». Он скажет: «Я тебя понимаю», — наполняя это «понимаю» каким–то глубинным, реликтовым смыслом. Правильнее даже будет писать вразрядку: «п о н и м а ю».
Обычно Пониматель ждёт, пока заговорит собеседник, так ему легче п о н и м а т ь. Но сегодня он начинает первым.
— Времени у меня в обрез, — говорит он, — а я ещё не выбрал, кого оставить вместо себя. Я, конечно, вернусь, но это может случиться не скоро, а людей надо п о н и м а т ь постоянно. Ты справишься, если я выберу тебя?
— А куда ты собрался?
— Перечитай «Маленького принца» и всё поймёшь. Через несколько дней моя звёздочка появится надо мной. Экзюпери очень точно описал всё это.
Я хорошо отношусь к Понимателю. Для меня он нормальнее многих нормальных. Но всё равно с трудом удерживаюсь от улыбки: небритый, неухоженный Пониматель мало похож на Маленького принца.
— Так справишься? — переспрашивает он.
— Мне бы прежде, чем браться за других, в себе разобраться сначала. Может быть, лучше Толя? — применяю я запрещённый приём, попросту говоря, пытаюсь спихнуть Понимателя на Толю Ножкина. Правда, я уверен: Толя на меня не обидится, они с Понимателем друзья.
— Я поговорю с ним, — тут же соглашается Пониматель; он ни с кем никогда не спорит. — Только запомни: пока не поймёшь того, кто рядом, себя тебе не понять.
* * *
Возвращается Шурик. Привычно высказывается о шефе. Извлекает из стола дежурный бутерброд. Кто–то пошутил однажды, что по дороге на работу Шурик платит за провоз бутерброда, как за провоз багажа, — такой он большой. Бутерброд и в самом деле гигантский. Шурик наглядно опровергает ломоносовскую формулу: «Сколько чего у одного тела отнимается, столько присовокупится к другому». Еда исчезает в нём в невероятных количествах, но, мы знакомы уже пять лет, он остаётся всё таким же вопиюще худым.
— У Ножкина сидит Пониматель. Не дай бог сюда явится, начнёт мозги компостировать, — говорит Шурик с набитым ртом. — Толя с ним чуть ли не в обнимку, прямо близнецы–братья…
Когда–то, говорят, Толя Ножкин был неплохим журналистом, но с тех пор много воды утекло. Или он исписался, или семейные неурядицы его добили, но на моей памяти он не столько пишет, сколько мучает бумагу. Лишь изредка Толя преображается. На прошлой неделе, к примеру, он выдал отличный фельетон о строительстве Дворца муз. Но в газету фельетон не попадёт. Редактор сказал: «Так писать п о к а ещё рано. Подождём». Он большой любитель ждать, наш редактор.
Обычно за свои материалы Ножкин не борется, а тут пытался возражать, но куда там!… Шеф подрядился к нему в соавторы и три дня превращал фельетон в нечто глубокомысленно–тягомотно–бессмысленное. Толя переживал и… со всем соглашался. Что поделаешь: оказавшись в редакторском кабинете, он перестаёт говорить нормальным человеческим языком и вообще похож на кролика, приглашённого удавом на завтрак.
Ира утверждает, что Ножкин как личность уже исчерпался, но она же часто повторяет: «Толя — совесть редакции». И верно: Ножкин честен, как зеркало, и потому беспощаден к себе. Редакторского гневя (а гнев этот падает только на тех, кто даёт слабину) он боится не из трусости, а оттого, что знает за собой грех великой гордыни и, следовательно, способность наговорить шефу таких гадостей, что лишь дверью хлопнуть останется. И куда тогда деваться ему, журналисту, потерявшему перо, но ничем иным зарабатывать себе на жизнь не умеющему? Идти в нетребовательную безгонорарную многотиражку? А дома — семья, дома — больная жена, которую приходится возить в столицу (на одних билетах разоришься) на какие–то сложные процедуры.
Когда месяц назад мы отмечали сорокалетие Ножкина и, ясное дело, желали ему дожить до ста, не меньше, он тихо отвечал: «Мне бы, ребята, десятка полтора годков ещё, чтобы дочь поднять, и больше ничего не надо». Я знаю: в этих словах нет позы. Он именно так и думает, именно ради этого и живёт.
Хорошо знать, ради чего живёшь!
* * *
А ради чего живу я?
Ради работы? Я люблю её. Но покривлю душой, если скажу, что на ней для меня замыкается мир. Ради «вечной книги, которую я обязательно напишу» (строка из дневника пятнадцатилетней давности)? Нет, я давно уже понял, что мне не вытянуть «вечной книги». Ради будущих детей? Но сначала я заканчивал университет, потом жена институт, потом мы решили пожить, потом… Так ради чего?
Иногда найти нужный, единственно необходимый вопрос труднее, чем ответ на него. Но когда такой вопрос найден, он требует немедленного ответа, который сразу расставит все по местам.
Но ответ не находится.
И я — так бывает (но мне ещё рано, рано!), когда подходишь к пределу, за которым пустота, — вдруг понимаю, чувствую кожей, что должен ответить сегодня, сейчас.
И я, повинуясь нервному срыву, — так бывает, когда подходишь к пределу, за которым пустота, — звоню жене на работу и, дождавшись, пока её позовут, говорю:
— Я ухожу от тебя.
— Надолго? — Жена в хорошем настроении и воспринимает мои слова как шутку; одно время у нас были в ходу такие дурацкие шутки.
— Навсегда.
— Значит, к обеду не ждать?
Я не отвечаю, моя решимость растаяла. В трубке смеются сразу несколько голосов.
— У Ленки лень рождения, — объясняет жена. — Она такой торт принесла!
Следует пространный рецепт.
— Я не приду сегодня домой, — говорю я, вклиниваясь между тестом и кремом.
— Командировка? Как всегда, не вовремя! Неужели, кроме тебя, загнать больше некого?! — возмущается жена.
— Да, командировка, — говорю я, презирая себя, — дней на десять. Уезжаю через два часа.
Мы говорим ещё долго — о том о сём. Шурик успевает доесть бутерброд и принимается за пирожное, принесённое Валерией.
Я кладу трубку. Состояние полнейшего унижения.
— Шурик, можно, я у тебя поживу немного?
— Сколько угодно, — отвечает Шурик, отправляя в рот остатки пирожного; он живёт один и привык к просьбам подобного рода.
Силюсь вчитаться в начало очерка — два десятка скучно–правильных строк. Комкаю лист. Нет, сегодня я писать не способен. Выясняю у Шурика, когда можно к нему явиться, одеваюсь.
В коридоре стоит Пониматель.
— Почему же я, старый дурак, раньше… — бормочет он. Я очень боюсь. Его звёздочка тоже вот–вот… Вероятность десять к одному… Опасность велика…
Нет желания вникать в его лепет.
На улице сворачиваю к набережной. По широкому тротуару ветер гонит листья. Поворачиваюсь так, чтобы он дул в спину, — мне всё равно, в какую сторону идти. Иду быстро, будто спешу куда–то, но листья обгоняют меня, стайками перелетают через парапет и парашютируют к пенной грязной воде.
* * *
К Шурику я попал затемно.
— Ты извини, — мнётся он, открывая дверь, — я тебя не дождался, поужинал.
Шурик (факт общепризнанный) отлично готовит. Но мне есть не хочется, хотя от голода подташнивает. Или это от курева? Сколько я сегодня выкурил? Две пачки? Три?
— Мой руки и за стол, — приглашает Шурик. — И я, чтобы тебе скучно не было, тоже сяду.
Он садится напротив меня, прямо под большой, в чёрной раме фотографией матери. Она умерла в прошлом году. Незадолго до этого Шурик пристроил её вахтёром в наш, говоря официальным языком, «газетный корпус». Вся сморщенная, похожая на обезьянку, она сидела в маленькой стеклянной будочке у входа, в одиночку охраняя десяток редакций от посягательств извне. Когда в руки ей попадала наша газета, здание можно было растащить по кирпичику; но она не читала — она искала фамилию сына. Если находила, начинала промокать глаза.
В феврале сорок второго её вывезли из Ленинграда через замёрзшую Ладогу. Она стала санитаркой в больнице, где её отвоевали у дистрофии. И жила здесь долго в дощатой пристроечке, и сына здесь зачала, и отсюда он пошёл в школу. Получив квартиру в новом доме, она никак не могла поверить: «Неужто это нам, Шурик, такие хоромы?» Но пожить в «хоромах» ей не пришлось. Она угасла быстро, словно не желая обременять сына своей болезнью. За день до смерти в голове у неё помутилось; она металась по квартире, беспокоилась, а потом вдруг исчезла. Шурик всю милицию на ноги поднял, мы с ним ночь напролёт по больницам звонили. А она вернулась на следующий день сама, тихая и счастливая, легла и не проснулась…
— Ты ешь, ешь, — говорит Шурик.
А есть уже, в сущности, нечего. В кастрюльке, что он поставил передо мной, а после машинально придвинул к себе, просвечивает дно.
Я по привычке пытаюсь сострить…
* * *
На работу опаздываем. В открывшиеся двери лифта видим: в конце коридора стоит, уткнувшись в стену, Валерия. Она вроде бы смеётся. Подходим ближе — плачет.
— Толя умер, — говорит она.
— Кто?
— Толя умер…
Собираемся у редактора. Шеф молчит, отсутствующе перебирает бумаги на столе. Шурик, глядя перед собой, шёпотом повторяет глупую фразу:
— Это как же так? Как же так, братцы?!
Толя умер от инфаркта.
— Болезнь неравнодушных. Какой честный, какой порядочный был парень, — говорит шеф.
В коридоре встречается Пониматель. Необычно прямой, торжественно–печальный. Выбритый.
— Толя умер, — говорю я ему.
— Я знаю. Его звёздочка взошла в два часа ночи.
— Ночью шёл дождь, ты не мог видеть этого.
Затевать с ним спор — великий идиотизм, но мне трудно сдержаться. Никогда не спорящий Пониматель неожиданно твёрд:
— При чём здесь дождь? Я п о н я л это.
О, господи!
* * *
В середине дня едем к Толе домой.
Его жена безучастно сидит в углу, глаза сухие, воспалённые. Увидела нас, не заплакала. Девочка ещё ничего не понимает, удивляется, почему её не повели в садик. Берёт у Шурика — и когда он успел захватить? — плитку шоколада, с шелестом разворачивает её.
В квартире хлопочут соседи. Помогаем выносить из комнаты мебель, после бесцельно толчёмся на кухне. Я стою напротив двери, вижу: сползла накидка с зеркала в прихожей. Прилаживаю её на место, старательно убираю складки, опять снимаю, нахожу кнопки и прикрепляю, теперь уже намертво; Надо чем–то занимать себя, невозможно просто стоять и ждать.
Толю должны привезти вечером.
О какой опасности говорил вчера Пониматель? Неужели чувствовал? По ассоциации перескакиваю на кошек, которые будто бы предчувствуют землетрясение… Спрашиваю:
— В котором часу это произошло?
— Было ровно два ночи, — отвечает соседка. — Галя закричала за стеной…
Вот тебе и дар кошек!…
* * *
Темнеет.
День испаряется окончательно, и… отключается электричество. Обыкновение новостроек, помноженное на закон бутерброда. Дверь на лестницу распахнута; слышно, как соседи звонят в управление энергоснабжения, кричат: «У нас в доме покойник, а вы!…»
Привозят Толю. Вокруг машины много народа, каждый что–то советует.
Толина квартира на восьмом этаже. В лифт не войти. «Нужно ногами вперёд», — говорит кто–то. Разворачиваемся. Идём по лестничным маршам. Впереди нас несут подсвечник с тремя свечами. Громадные тени на стенах. Ощущение чего–то совершенно ирреального. Мы с Шуриком несём сзади. При наклоне Толя начинает сползать, и мне приходится свободной рукой поддерживать его. Вдруг кажется: лоб его тёплый. Мелькает невероятное, за пределами здравого смысла: врачи ошиблись, он спит.
Мы идём, отбрасывая громадные триединые тени. Мы идём вверх. Мы уже на третьем, на четвёртом, на пятом этаже. Мы несём своего товарища. Но его смерть ещё не осознана нами. Когда это случится, каждый из нас — я верю! — поймёт в себе нечто, чего не понимал раньше. Я твёрдо верю в это.
Мы идём вверх. Мы уже на шестом, на седьмом этаже. Включается свет, бьёт по глазам. И я чувствую, как одеревенело плечо, как устала рука. И я вижу заострившееся лицо, складки, натёкшие к тонкой, почти как у мальчика, шее.
И я вижу: Толя Ножкин умер.
Но понимание себя не приходит.
* * *
Если умирает близкий знакомый, поневоле начинаешь вспоминать, когда ты его видел в последний раз, как он выглядел, что говорил. Но я не моту вспомнить, каким видел Толю в последний раз. Не запомнилось.
Ира сказала мне как–то: «Ты очень похож на Ножкина. Только у тебя нет опыта поражения». — «А это обязательно?» — невпопад спросил я. «Для таких, как ты, да. Вам это нужно, чтобы окончательно определиться: либо сломаться, либо утвердиться на ногах». — «И Ножкин, по–твоему, сломался?» — «Он уже исчерпался, сошёл на нет…»
При воспоминании об этом разговоре я всегда испытываю не совсем понятное мне самому раздражение.
* * *
Мы опускаем Толю на застланный ковровой дорожкой топчан.
Немного спустя в подъезде крик. Из М. приехали родители Толи, с ними деревенские родственники. Утром, говорят, должен прилететь старший брат офицер, несущий службу где–то в Сибири.
В квартире становится тесно. Уходим.
По дороге говорим о Толе. И другими — и знаю, я уверен, я чувствую другими глазами смотрим друг на друга. Каждый думает сейчас о себе, но думает так, что делается добрее к другим.
Я не знаю, как назвать это.
* * *
Пришли к Шурику. Поели. Сыграли в шахматы. Разговор всё время возвращается к Толе.
Мне надо писать «Памяти товарища». Утром мы договорились с Амираном, что оба напишем по варианту, потом выберем лучший, либо сделаем из двух один.
Редактор отвёл под некролог сто строк. Из–за этого с четвёртой полосы слетел мой материал о безалкогольной свадьбе. В типографии эти сто строк должны быть завтра к полудню. Когда редактор подпишет некролог в печать, в канцелярской книге, где у нас ведётся учёт сданного сотрудниками строкажа, против фамилии автора появится торопливая запись: «Пам. тов. 100 стр.».
Сто строк памяти о товарище. Журналистский долг. Всё правильно. Но отдашь его, и появится шанс–соблазн отгородиться от Толиной смерти, сказать себе: я сделал всё, что мог. А это не так. Главное — впереди, главное — несмотря ни на что, хранить вину перед ушедшим товарищем. Суть её проста: он — мёртв, мы — живы. Пока мы будем помнить это, мы будем немного лучше, чем есть на самом деле.
Пишу — не дописывая предложений, сокращая слова. Боюсь потерять, не успеть передать то, что чувствую, что мимолётно возникнув, пока ещё живёт во мне.
Я пишу «Памяти товарища».
Я пишу о себе.
* * *
Мне в редакцию рано. Надо отпечатать написанное к приходу Амирана.
В стеклянной будке, положив голову на руки, дремлет одноногий инвалид, наследовавший матери Шурика. Входя, случайно грохаю громадной металл и стекло — дверью. Страж не просыпается.
Появляется Амиран. Молча ждёт, пока допечатаю. Прочитав, поднимает на меня свои прозрачные глаза, говорит:
— Шефу не понравится. Но мы зайдём к нему в самый последний момент, когда менять что–нибудь будет поздно.
* * *
Без десяти двенадцать вступаем в редакторский кабинет. Шеф надевает очки. Читает. Мрачнеет.
— Мы не можем дать это. Так некрологи не пишут.
Амиран бесстрастно:
— Через пять минут некролог должен быть в цеху.
Шеф надевает очки.
— Надо переписать. Дадим в следующий номер.
Амиран, глядя в окно:
— Следующий номер юбилейный.
И верно: следующий номер юбилейный, пятитысячный для нашей газеты. Он готов к печати давно, уже с месяц. Его содержание никак не сочетается с некрологом. Жизни — жизненно, как говорится.
Шеф снимает очки.
— Но мы не можем совсем не давать некролог. Умер наш сотрудник, наш товарищ…
— Конечно, не можем, — поддакиваю я.
Шеф надевает очки. Внимательно изучает меня (появляется ощущение, что не все пуговицы застёгнуты), говорит назидательно:
— Некрологи публикуются, чтобы вызывать в людях память о человеке. Умер наш сотрудник, наш товарищ, и, значит, некролог, что вы написали, наша память о нём. Некролог — это статья, содержащая сведения о жизни и смерти человека…
Подобным образом редактор способен рассуждать бесконечно, поэтому Амиран всё тем же бесстрастным тоном прерывает его:
— Если через две минуты некролог не попадёт в цех, будут неприятности с типографией.
Шеф снимает очки, снова надевает, ставит, где полагается, закорючку подписи и вяло машет рукой: несите, мол.
Мы с трудом удерживаемся от смеха.
* * *
В нашей комнате импровизированное собрание. Шурик прикидывает, кто даст деньги «на Толю», в столбик пишет фамилии. Вдруг подскакивает, протягивает список.
Шестым в столбике значится Ножкин.
* * *
«Толю не вернёшь, а жизнь продолжается». Я всё жду, что кто–нибудь, исполнившись философичности, произнесёт эти слова, но пока мои ожидания не оправдываются.
А жизнь, как бы то ни было, продолжается. И надо работать. И я лишу тот самый очерк, что должен был написаться ещё при жизни Толи. Редактор сегодня осведомлялся о его судьбе. Я ответил: «У машинистки». Очерк и в самом деле сейчас печатается: я печатаю сам, доканчиваю восьмую страницу, без мудрствования и натуги. Если ничего не помешает, требуемые пятьсот строк лягут через час на стол Амирана. Каждая из них будет честна, правдива, и всё же вместе взятые, они не выразят того, что я мог, но не сумел сказать.
На девятой странице входит Пониматель. Садится рядом.
— Выбора теперь нет ни у меня, ни у тебя. Моя звёздочка взойдёт послезавтра. Ты должен успеть подготовиться.
— Должен? Кому должен?
— Толе должен, мне должен, себе должен! — в голосе Понимателя несвойственный ему металл.
— А если моя звёздочка тоже вот–вот?…
— Это случится не скоро. А «вот–вот» тебя позовут к редактору.
Заглядывает Валерия.
— К шефу!
Я недоуменно смотрю на Понимателя. Он усмехается.
Иду к редактору, не сомневаясь, что он собирается взять реванш за некролог, но нет: он вызвал меня по делу. Ему позвонили из стройтреста: на участке, где возводится Дворец муз, сегодня собрание. Мы курируем эту стройку. Мне вменяется в обязанность поприсутствовать, послушать и, может быть, написать. «Только без всяких ухищрений, это рядовой материал», предупреждает меня редактор.
— Это тема Ножкина, — говорит он напоследок. Что поделаешь: Толю не вернёшь, а жизнь продолжается.
Возвращаюсь к себе. На столе под стеклом фотография жены, попавшая сюда в стародавние времена. Вынуть её не поднимается рука. Была любовь… Была! И только это мешает драме обернуться фарсом.
* * *
Собрание идёт своим чередом. Поднимаются люди, читают по бумажкам: цитата в начале, цитата в конце. Лица постные, о деле ни полслова. И я вспоминаю, как Ножкин пытался взбаламутить это болотце. И забываю о собрании, начинаю думать о Ножкине.
Срок пребывания человека среди живых не есть единственно его жизнь: его секундомер включается, когда мать подумает о нём, ещё, может быть, не зачатом, и останавливается, лишь когда уходит последний из незабывших его. Я не помню, где моя память захватила это слово — «жизнесмерть». Оно красиво–неясно–страшноватое — точно обозначает предмет моего рассуждения. Я — один из творцов Толиной жизнесмерти. Я делаю это небескорыстно, с надеждой, что кто–то будет творить и мою жизнесмерть. Ибо я могу смириться с краткостью своего физического существования, но не могу и не хочу мириться с абсолютным концом. Если слаться, смысла в жизни останется не больше, чем в смерти…
— Это здорово, что прислали именно вас! — за спиной знакомый голос.
Поворачиваюсь. Так и есть — но так бывает только в кино: позади, согнувшись в три погибели, стоит сын героя моего очерка. Вот уж с кем я не чаял здесь встретиться.
— Это я — по поручению управляющего, конечно, — звонил вашему редактору. Я вам верю, что бы там ни говорили, вы сможете написать про наши дела как надо.
— А как надо? Мне никто ничего не говорил.
— Да? — Он глядит на меня подозрительно, но быстро светлеет лицом, словно осознав что–то. — Если вам нужно, мы получили чешскую сантехнику. Такие нежно–голубые тона…
— Нет, мне не нужно.
— Нет?… А итальянский кафель, бежевый такой, с поволокой?
— Нет, спасибо.
— Смотрите, а то разойдётся. Между прочим, десять метров пошло на дачу самому Г. В. Хороший кафель!…
* * *
Иду домой, точнее — к Шурику. Ветер. На душе кошки скребут. Интересно, Ножкина тоже пытались купить за импортный унитаз? Наверняка пытались. А он не продался. Но спасовал перед редактором. Нежно–голубые тона с поволокой, чёрт бы их побрал!… Представляю, как он переживал. А мы его тюкали, поучали, «Кто же, мой друг, виноват? — выговорил Амиран. Умей настоять на своём». А он не умел и на этот раз не сумел тоже. И клял себя за это, не мог не клясть. «Толя — совесть редакции…» А сердце не камень, сердце не выдержало.
К Шурику не хочется. В голове почему–то вертится: «И старый мир, как пёс бездомный…» При чём здесь «старый мир»? А вот пёс к месту, только у Блока, он, кажется, «безродный»…
Я решаю идти в редакцию. Мне надо подумать. По дороге я должен пройти мимо дома Иры. Когда до него остаётся перейти через улицу, я уже знаю, что возле подъезда остановлюсь, помедлю немного и пойду вверх по лестнице…
* * *
Я сумел уйти от Иры, не разбудив её. Я тихо собрал вещи, бесшумно оделся, без звука закрыл за собой дверь.
Теперь, когда я сижу в редакции, приходит мысль: она не спала, она наблюдала сквозь щёлки глаз, как я, путаясь в темноте, собираю одежонку, и посмеивалась про себя.
Как она развеселилась, когда я попытался рассказать ей, что она Прекрасная Дама! Она смеялась, но я смеялся громче…
Семь утра, ещё темно. Открываю окно. Воздух, холодный и влажный, заползает под пиджак…
* * *
Появляется Шурик. Держится обиженно.
— Мог и предупредить, я беспокоился. Ты вернулся в лоно семьи!?
— Зашёл к знакомому и застрял. Извини.
— У тебя ухо в помаде. Пойди отмой.
Насчёт помады, конечно, блеф. Но «отмыть» — идея. Внизу у нас имеется душ для типографских работников. Отличная вещь — душ, хорошо проясняет голову.
После душа меняю рубашку. По настоянию жены я всегда храню на работе свежую рубашку, и вот — пригодилась.
Захожу к Амирану. Он протягивает мне сегодняшний номер нашей газеты. На четвёртой полосе некролог с фотографией. После ретуши Толя не похож на себя. Вторую полосу открывает материал под призывным заголовком; «Работать лучше!» Под ним подпись в рамке «А. Ножкин», «Работать лучше!» — то самое серо–буро–малиновое, что получилось из фельетона о строительстве Дворца муз. Амиран разводит руками: «Шеф приказал в один номер с некрологом…»
Половина десятого. Пора на случку.
Пятиминутки обычно продолжаются у нас часами. Привычно изучаю трещину на потолке. Она почти незаметна, но если ежедневно смотреть в одну точку…
Наконец дело доходит до меня. Сообщаю о ситуации вокруг строительства Дворца, предлагаю готовить критический материал.
— Но мы только что выступили в совершенно ином ключе, — редактор тычет пальцем в сегодняшний номер. — Газета не флюгер. Мы не можем постоянно менять своё мнение.
— Даже когда предыдущее мнение ошибочно?
— Предыдущее мнение — мнение Толи. Нельзя так легко поступаться памятью умершего товарища!…
Пауза. У редактора ходят желваки на скулах; он понял, что сказал глупость, но на попятную не пойдёт. Да и я не дам ему сделать это.
— А если вам позвонит Г. В. и попросит изменить своё мнение, вы тоже откажетесь?
Шеф не знает, как реагировать.
— Вы забываетесь!… Вы… вы пьяны!…
Все прячут глаза.
— Вы убили Толю, — говорю я тихо: каждое слово — выдох.
Редактор потрясён. Он беспомощно озирается, бормочет:
— Что он говорит? Что он говорит?…
Он не может, не хочет понять, что происходит.
— Вы и такие, как вы, убили Толю, — повторяю я.
Шеф лихорадочно роется в карманах. Достаёт трубочку нитроглицерина.
— Выйди, — говорит мне Олег, заместитель редактора.
Я мотаю головой.
— Я прошу тебя, выйди.
Редактор дрожащей рукой извлекает таблетку. Выхожу.
Стою в коридоре уверенный: сейчас ребята скажут ему всё, что думают, и тоже окажутся здесь. Но проходит минута, пять, десять — никого. Бреду к себе. Через полчаса звонит Олег и просит зайти.
У него набито народу.
— Безумству храбрых поём мы славу, — встречает меня Олег.
— Громко вы все её пели в редакторском кабинете…
— Ты требуешь от нас массового героизма. А это явление нечастое.
— Ага, он, как тот крысолов, — добавляет Шурик. — Дудит в свою дуду и зовёт нас топиться, а мы, помня, что редактор одной ногой на пенсии, топиться не хотим.
— Резонно. Каждый умирает в одиночку.
Я хочу уйти.
— За кого ты нас принимаешь?! — останавливает меня Амиран. — Если что, мы тебя в обиду не дадим. Тебе интересно, что сказал редактор, когда ты вышел?
— Что?
— Он оказал, что вы оба погорячились. Ты согласен, что ты погорячился?
— Да, я погорячился…
Шурик прыскает. И смеёмся все. Цунами смеха. Обида заползает куда–то вглубь. В самом деле, чего я хотел от них? Чтобы хором объявили забастовку? Чтобы коллективную жалобу в обком накатали?
А у меня — уходя, я забыл запереть дверь — сидит Сын героя (про себя я почему–то наименовал его именно так). Сидит, закинув ногу на ногу, и читает очерк о своём отце.
— Вам никогда не говорили, что нельзя брать бумаги с чужого стола? Мне хочется обидеть его, унизить.
Но он и не думает обижаться. Такие люди, когда надо, умеют не обижаться — этакие необижающиеся ваньки–встаньки. Он подскакивает, ровняет листы в аккуратную стопочку.
— Они лежали, и я думал… Знаете, у меня сын растёт, десятиклассник. Мечтает быть похожим на деда. Нельзя ли его тоже упомянуть, в смысле продолжатель традиций? Ему в будущем году в институт поступать, способный такой мальчик… Лишняя подпорка…
Раздражение как–то сразу уходит. Ощущение такое, будто присутствуешь на вскрытии (однажды побывал, когда писал о патологоанатоме), — и муторно, и любопытно.
— И вы будете показывать газету приёмной комиссии?
— Мало ли… — он делает неопределённый жест и тут же спохватывается: — Я принёс вам протокол вчерашнего собрания и выступление управляющего.
— А разве он был на собрании?
— Не был, а выступление есть.
Входит Шурик. В руках у него здоровенный кусок яблочного пирога.
— Шурик, — говорю я, — тебе не нужен чешский унитаз? Нежно–голубые тона.
Сын героя напрягся. Ни дать ни взять, спринтер перед стометровкой.
— Какой ещё унитаз? — не понимает Шурик. — Хочешь штруделя отломлю? Хорошо звучит — штру–дель…
— Нужно про сына вот этого товарища надписать. Молодой парень, десятиклассник, общественник. Общественник?
— Общественник, общественник! — благодарно глядя на меня, кивает Сын героя.
— Участник? — спрашивает Шурик.
— Что? Чего участник?
— Чего–нибудь.
— Он очень хороший мальчик, комсомолец, марки собирает.
Шурик подозрительно изучает меня.
— Я сейчас, — говорю я, — мне нужно по делу.
— У меня тоже есть дело, — наконец просекает ситуацию Шурик.
Но я уже успеваю вскочить в коридор.
* * *
Шурик встречает меня недобрым ворчанием. Оказывается, Сын героя подверг его жуткому прессингу, даже в туалет сопроводил. Сулил подарить английский смеситель.
Я виновато молчу. Шурик распаляется: «Что за идиота ты на меня навесил!»
Нет, Сын героя — не идиот, не примитив, убеждённый, что за смеситель можно купить все и вся. Он отлично знает, что кое–где и не обломится. Но у него нет комплексов. Если бы он имел герб, на нём был бы начертан гордый девиз: «Добиваться своего!» В конце концов победитель не тот, кто получил меньше щелчков, а тот, кто добился желаемого. Самолюбие, чувство собственного достоинства — понятия неконкретные, а то, что не имеет чётко обозначенной цены, для него и вовсе цены не имеет. Он не хочет быть лидером, это всегда риск. Его устраивает роль шестёрки. Он не трус, но на пулемёт не пойдёт — ни ради других, на даже ради исключительно собственной выгоды. Добьётся своего тихой сапой, не высовываясь. Ну а не добьётся подождёт и, если очень надо, повторит попытку. И в концлагере он выживет, не став предателем. А если уж и донесёт на соседа по нарам, то разве что в самом крайнем случае, когда деваться будет некуда…
Сын героя мне ясен. И потому его родство с Героем кажется противоестественным. Я не знаю, каким он был, человек, поднявшийся на пулемёт, но верю: шкурничать в нашей обыденной сложно–простой жизни он не стал бы.
Я должен верить в это. И гоню прочь все сомнения. Не верить в это нельзя.
* * *
После работы едем к Толе. В семь вечера панихида. Шурик берёт с собой пачку газет с некрологом — для родственников и соседей.
Нас много — редакция в полном составе.
Лестничная площадка у Толиной квартиры ярко освещена. У открытой двери стоит подполковник. По очереди пожимаем ему руку, говорим слова соболезнования.
Проходим внутрь. Пожимаем руку отцу. Старик — молодец, держится прямо, рука твёрдая.
Идём по узкому проходу между гробом и сидящими у стены женщинами. Толина мать уже не плачет — хрипит. Галя сидит в изголовье, молчит. Редактор наклоняется к ней, что–то убеждённо говорит.
Я смотрю на Толю. Он мало изменился, только лицо стало упрямым, непреклонным. Возле рук, на саване, лежит газета с некрологом. Я ловлю себя на желании сообщить кому–нибудь, ну хотя бы стоявшему в дверях подполковнику о своём авторстве.
Редактор поправляет гвоздику, склонившуюся Толе на плечо, обходит гроб. Мы идём следом. Я отвожу взгляд, чтобы не встречаться с глазами Гали.
Выходим на площадку, как по команде, достаём сигареты.
* * *
Утро. С неба сыплет снежок, первый в этом году. Мы собираемся у Толиного подъезда.
Толю будут хоронить в М. Там родовое кладбище Ножкиных. Через два часа вереница машин пристроится в кильватер автобусу с траурными полосами по бокам. Сорок километров до М. — последний путь Толи.
Нас пока немного, остальные подойдут к выносу.
— Давайте наверх, — говорит Амиран. — Может быть, надо помочь.
Но в квартире полно людей. Наша помощь не требуется.
На тумбочке в прихожей раскрытый альбом. Перелистываю его. Толя малыш в ползунках. Толя — пионер. Толя — солдат. Толя с матерью. Толя с женой. Толя с дочкой. Толя…
!!!
Здесь говорят только шёпотом, мой вскрик вызывает переполох. Из комнаты, где лежит Толя, выходит Галя. У неё красивое, слепленное с иконы лицо и уродливые, толстые, как тумбы, ноги.
На фотографии рядом с Толей сидит, положив ему руку на плечо…
— Это Игорь, — говорит Галя. — Мы вместе жили в коммуналке.
— Они дружили? — спрашиваю я.
— Если это можно назвать дружбой… Толя ни с кем не сходился близко. Они часто спорили, Толя горячился, выходил из себя, а Игорь посмеивался, будто специально заводил его. Иногда он откровенно издевался над Толей, но Толя ничего не хотел замечать. А от меня отмахивался: дескать, Игорь сам не понимает, какой он несчастный человек. Как–то я не выдержала и сказала Игорю, чтобы он больше не приходил. Толя, узнав об этом, неделю со мной не разговаривал и тогда же вклеил в альбом эту фотографию. Кто Толю знает… знал, этому не удивится. Ты знаком с Игорем?
— Да, случайно.
— За несколько дней до… — она осекается, боясь назвать то, что уже свершилось. — Сидим ужинаем, и Толя вдруг без всякой связи говорит: «Если тебе встретится Игорь, перейди на другую сторону улицы». И всё. Вопросы задавать ему было бесполезно. — Она поправляет чёрную косынку. — А назавтра после этого Игорь неожиданно пришёл сюда. Он вёл себя странно, говорил, что Толе не простят какую–то статью, что в тресте, за который Толя взялся, сидит мафия, просил меня повлиять на Толю. И я, дура, когда Толя пришёл с работы… Он разнервничался, раскричался. В последние дни он всё время раздражался, меня совсем не слушал, а чуть что, сразу кулаком по столу и кричит, кричит на меня, а перед собой будто кого другого видит… Жалко его становилось, слов не найти…
На фотографии рядом с Толей сидит, положив ему руку на плечо, Сын героя.
Пауза затягивается.
— Ты мне сё покажешь? — спрашивает Галя.
— Кого её?
— Ту, что он… Словом, я всё знаю… Игорь… Ты не бойся, я только посмотрю…
(Той ночью Ира сказала мне: «А ведь Толя когда–то делал мне предложение». — «А ты?» — «А я испугалась. Он жил слишком сложно, будто две жизни прожить собирался». — «Испугалась — значит любила?…» Ира не ответила, она вздохнула и спрятала глаза на моём плече…)
— Покажу, — говорю я.
— Спасибо. Я пойду, мне надо быть с ним. Ты стань в дверях, кивни, если она придёт.
— Хорошо.
Галя возвращается в комнату.
И почти сразу по нервам бьёт музыка. Кто–то включил магнитофон.
Моцарт, «Реквием». Скоро вынос.
* * *
А мне вспоминается поездка в М. — командировка из тех, что «письмо позвало в дорогу». «Давай съезжу», — сказал я Олегу (редактор был в отпуске, и в редакции царила казацкая вольница), когда Ножкин, выудив это письмо из почты, явился ко мне. «Я бы и сам, — горячился он, — но я вроде как лицо заинтересованное…»
В письме шла речь о памятнике, поставленном в М. не пришедшим с войны односельчанам. (Толя, помню, показывал фотографию: стела с именами, Вечный огонь; там, на стеле, четверо Ножкиных увековечено.) Вскоре после открытия памятника сменился директор местного совхоза. Он начал с возведения нового здания дирекции, естественно, в центре села. Во время строительства газовую магистраль перенесли в сторону, и памятник остался без Вечного огня. «Нет труб», — сказал директор пришедшей к нему депутации.
И вот я поехал. Выхожу из автобуса и вижу… Ножкина! Чудеса в решете!
— А я, — говорит он, — взял три дня без содержания. Старикам моим крышу надо помочь залатать.
Вместе идём к дирекции. Проходим мимо памятника. В чаше Вечного огня стаканчик из–под мороженого.
— Нет труб, — разводит руками директор. — Нет, и всё тут!
Он собирается в город на совещание, требует от своего экономиста какую–то справку, ему не до нас. Он непробиваемо уверен в себе, мои слова отскакивают от него, как дождинки от камня.
— Я уезжаю, — говорит он. — Буду через два дня. Приезжайте, поговорим. Сейчас нет времени.
Я теряюсь. И применяю приём не самый чистый с точки зрения журналистской этики.
— Я напишу про вас. И ославлю вас, как только смогу.
— Пишите, — улыбается директор, — а я прочту и исправлюсь. Но… вы не будете писать. Хотите, довезу до города?
Он почти не ошибся. Прибывший из санаторных краёв редактор — ему позвонило высокое сельскохозяйственное начальство — зарубил мой материал на корню.
А в тот день, когда мимо нас пронеслась в город директорская «Волга», Толя сказал:
— Я со сторожем совхозного склада договорился. Он отвернётся, когда мы трубы потащим. Пока этот вернётся (он кивнул вслед угасающему пыльному шлейфу), всё закончим. Здешние ребята помогут. А сварку шабашники сделают, они тут свинарник строят. Ну, скинемся им…
Сначала собралось человек пять. Потом подошли ещё. Потом народа набралось столько, что все поучаствовать смогли только символически. Было хорошо — как бывает всегда, когда много людей единодушно делают доброе дело. Толя стоял в сторонке и беззлобно ворчал на подходивших: «Где же вы раньше были?…»
Шабашники денег не взяли. Толя принёс от родителей здоровенную бутыль домашнего вина, и мы — что греха таить — распили её спаявшимся за время работы коллективом. Толя, захмелев, сказал:
— Письмо это я сам написал…
* * *
Появляются наши. Я стою в прихожей, рядом Амиран и Шурик. Нам видно, как редакция, строго соблюдая субординацию, выстраивается на лестничной площадке в колонну по одному. Впереди, понятно, редактор.
Шеф в точности повторяет вчерашнюю процедуру: наклоняется к Гале, шепчет ей на ухо, после поворачивается к гробу поправить цветы. Цветы сегодня в порядке, но он всё равно проводит по ним рукой — поправил, значит. Ребята по очереди подходят к Гале, она кивает каждому, но, по–моему, никого не слышит.
Входит Ира. Я хочу, как обещал, дать знак Гале, но она уже смотрит на Иру во все глаза. Как она узнала её? Как Пониматель — п о н я л а?…
Ира не идёт вокруг гроба, она застывает у двери. Так, чтобы видно было непреклонное лицо Толи. Она бледна, губы её плотно сжаты. Она здесь, и она далеко. И я вижу: ничего у меня с ней не было, ничегошеньки.
Вдруг что–то происходит. Я не сразу соображаю: умолкла музыка, кассета открутила свои полчаса.
Кончилась музыка. Кончилась жизнь.
Тишина. Шелест шагов и голосов.
Щелчок. Снова реквием.
Жизнесмерть Толи Ножкина продолжается.
Входит Пониматель. Становится рядом со мной.
* * *
Выносят цветы. «Ой, Толя, Толя!…» — кричит какая–то бабка, одетая в плюшевый малахай.
Сосед — мужичок с ноготок, принявший на себя ношу распорядителя (редко когда не найдётся такой мужичок), говорит:
— Гроб должны нести товарищи.
Товарищи — это мы.
На повороте Олег оступается. Остальные удерживают гроб, но он наклоняется, и Толины руки, до того покойно лежавшие на груди, начинают сползать вбок; видно, что запястья притянуты друг к другу бинтом.
Связанные ради покойницкого порядка руки — как подрезанные крылья зоосадовских птиц.
Выходим на улицу. Я меняю Амирана. Впереди подставляет плечо Пониматель.
* * *
На земле тонкая плёнка снега. Но небо чистое, голубое. Не холодно.
Мы проносим Толю мимо людей, столпившихся у подъезда, мимо машин, которые повезут нас в М., мимо редакторской «Волги», со скучающим шофёром за рулём.
У траурного автобуса заминка, заело дверь.
Стоим, ждём. Онемела рука. За спиной плач.
Понимателю тяжело. Он дышит хрипло, отрывисто. Я моложе, мне легче. Больно режет плечо.
Пониматель поворачивает голову ко мне. Как я не заметил этого раньше: у него и у Толи одинаковое выражение на лицах — строгое, непреклонное.
Наконец задвигаем гроб в автобус. Брат Толи хочет залезть следом. Мужичок–распорядитель его останавливает.
— С гробом поедут товарищи. Родственники должны в машине.
Подполковник не спорит. Только оборачивается и бросает короткий и виноватый взгляд на строгое лицо младшего брата.
— Самые близкие, пожалуйста, — просит–командует мужичок.
У Толи не было близких друзей. Самые близкие — мы. И мы Амиран, Пониматель и я — забираемся в автобус.
Занимает своё место шофёр. Включает — прогреть — мотор.
Я смотрю в окно. Вижу, как ребята толпятся у «рафика», одолженного по такому случаю у типографии; лицо Иры белее снега, с нею неладно; Амиран (он, похоже, тоже кое–что знает, наш молчаливый Амиран) выходит, берёт Иру под руку. Вижу, как бьётся в крике Толина мать, — её никак не могут усадить в машину. Вижу, как; прижав к себе дочку, стоит потерянно Галя. Вижу, как некурящий редактор просит у шофёра сигарету, затягивается и кашляет.
А рядом, у моих ног, лежит в деревянном ящике Толя — совесть редакции. А рядом — напротив меня — сидит Пониматель.
Автобус медленно трогается, и я вижу, как из переулка выбегает Сын героя с венком в руках. Он растерянно оглядывает готовые поехать машины и, увидев свободные места в редакторской «Волге», дёргает дверцу. Пока он втискивает венок на заднее сиденье, я успеваю прочесть на ленте: «Другу Толе».
Слышу (откуда–то издалека) голос Понимателя:
— Сын героя боялся Толю. Такие, как он, всегда боятся таких, как Толя. Сын героя боялся Толю и завидовал ему.
Сына героя зовут Игорем.
— Мне больше нравится, как назвал его ты. В этом есть смысл.
— Откуда ты знаешь, как я его назвал? Кто ты, Пониматель?
— Пониматель и есть, только с маленькой буквы. Это не прозвище, это призвание.
— Телепат по призванию… Или нет, иллюзионист в маске сумасшедшего…
А рядом, у моих ног, лежит в деревянном ящике Толя — совесть редакции. Нелепый разговор, и всё — нелепо.
— Ни то и ни другое, — отвечает Пониматель. — Всё дело в бомбе. Нет, не в атомной, в каждом из нас спрятана бомба во сто крат её страшнее. Помешать катастрофе может только п о н и м а н и е человека человеком. Потенциально к этому готовы все люди; но ждать — смерти подобно, и они, Пониматель вдруг машет рукой вверх, в потолок автобуса, — они решают ускорить естественный эволюционный процесс. Они отбирают по каким–то им одним ведомым признакам группу людей и будят в них п о н и м а н и е.
Шизофренический бред, замешанный на благородных помыслах и безудержной фантазии, стирающий грань между откровением и прописной истиной.
— Они — зелёные человечки?
— Называй их как тебе нравится И верь мне.
Он возвращает меня к действительности. Только ненормальный способен вести такие речи, сидя подле покойника в автобусе–катафалке. Передо мной снова тот Пониматель, которого я знаю давно, — назойливый, но безобидный чудак. Необъяснимое и необъяснённое сразу отходят на второй план. Стыдно становится, что я поддался на этот разговор.
— И много вас… понимателей? — спрашиваю я скорее по инерции и как–то разом чувствую усталость.
— Не знаю, — говорит Пониматель. — Тех понимателей, чья звёздочка ещё не взошла, знать не дано никому. Но многих из ушедших могу назвать: Рублёв, Моцарт, Экзюпери… Есть и другие, незнаменитые. Мать Шурика, например.
— И к каждому из них приходили зелёные человечки?
Надо бы замолчать, перевести разговор на другое, но я… Прости меня, Толя!
— Всё проще. Помнишь, мать Шурика исчезла перед самым концом? Когда пониматель п о н и м а е т, что его звёздочка скоро взойдёт, он ищет себе преемника. Зелёные человечки лишь запустили машину, а дальше уже крутят люди.
— И тебя в пониматели тоже завербовал человек?
— Да, это случилось в сорок шестом. Мне было пятнадцать, и я только что потерял родителей. Оуновцы загнали их в дом и подожгли, а меня отшвырнули к плетню: «Смотри и запоминай!» Жить не хотелось. И тут пришёл он и сказал, что его звёздочка взойдёт, когда наступят сумерки, а сумерки уже были близки. Просил, умолял меня — я был единственным, так сказал он, кто годился в преемники. Он был пасечник. И сделал меня понимателем и спас меня…
Он продолжает говорить — страстно, убеждённо. А я понимаю (п о н и м а ю?), что так же, как он меня сейчас, сорок лет назад убеждал его пасечник. И вдруг я понимаю, что Пониматель не только назначает преемника, но, может быть, сам того не сознавая, отдаёт долг человеку, выдумавшему для потрясённого горем мальчишки красивую сказку.
— Я согласен, — говорю я.
А рядом лежит в деревянном ящике Толя. Прости меня, Толя! Я оказался плохим товарищем в твоей последней дороге.
— Ты не веришь мне, — огорчённо мотает головой Пониматель. — Что ж, я могу тебе доказать. В свой последний день пониматель способен на всё. Тебе, чтобы поверить, нужен аттракцион. Ты получишь его. Хотя я пасечнику поверил на слово…
— Я верю…
— Молчи! Видишь, впереди поворот? Сразу за ним на дорогу выбежит заяц. Смотри внимательно!
Но я — не знаю почему — оборачиваюсь. За нами кавалькада машин: «Жигули» — в них родители Толи, брат и жена с дочкой; «газик» с военным номером; неказистый, покрытый пятнами шпаклёвки «Москвич» с мужичком–распорядителем за рулём; машина редактора и «рафик», в котором едут ребята. Лучше бы мне быть там, с ребятами.
— Смотри сюда! — резко разворачивает меня Пониматель.
Из лесу прямо под колёса автобуса вылетает заяц, чудом выворачивается и несётся, счастливый, что остался цел, по бело–коричневой земле к кустарнику на пригорке.
Я, езде не до конца осознав происшедшее, смотрю на Понимателя.
— А теперь спрашивай, спрашивай! — говорит он.
И я, запинаясь, задаю дурацкий вопрос:
— Зайца ты… заставил?
— Нет. Я просто п о н я л, что он выскочит.
— Почему ты выбрал меня?
— Потому что это необходимо тебе.
— Я не сгожусь…
— Сгодишься.
— Ты забыл, как сказал мне об этом впервые? Ты сам сомневался…
— Я не сомневался. Но понимателем должен был стать Толя. — Пониматель улыбается… — Сказать, о чём ты сейчас подумал?
— О чём?
— Тебе сделалось неприятно, что я держал тебя в дублёрах.
— Ну почему же…
Пониматель улыбается.
Жутко, когда в тебе чувствуют то, в чём ты даже себе не хочешь признаться.
— Ты читаешь мои мысли?
— Да.
— Так было всегда?
— Нет, только сегодня. Время моё истекло, и я п о н я л суть вещей.
— Тогда — ты бог.
— Я не бог и даже не ясновидящий. Я всего лишь п о н и м а ю вероятность событий, и чем ближе подхожу к концу, тем лучше это делаю.
— Я буду тебе неравноценной заменой. У меня не хватит терпения. Позади едет Сын героя. Ты сможешь смотреть спокойно, как он станет юродствовать на могиле?
— Этого не будет.
— Всё равно. Знать его подноготную и терпеть? И таких, как он… Зло непобедимо? Ответь!
— Непобедимо добро.
— А зло?
— Всё зависит от тебя.
— От меня?
— Именно от тебя. Ты выбрал себе нелёгкую судьбу.
— За меня выбрал ты.
— Не будем спорить. Всё п о й м ё ш ь после.
Дорога запетляла вверх. Тёмные пятна исчезли — всюду снег.
Белый снег. Голубое небо. Бело–голубой мир. Жить да жить…
А рядом в деревянном ящике лежит Толя — совесть редакции.
— Скажи, Пониматель, ты веришь, что это исходит от… нелюдей? Ты же всё п о н я л, ты же не можешь не знать…
— Я верю, что это нужно людям, — отвечает он. — До тех пор по крайней мере, пока выбежавший на дорогу заяц будет значить для них больше простых человечьих слов.
Мы смотрим в глаза друг другу.
Машина редактора съезжает на обочину, из неё выскакивает, размахивая венком, Сын героя. Сделав виток по серпантину дороги, мы видим сверху, как он безуспешно пытается остановить попутку. Редактор из машины не вылез.
Попутки здесь а такую погоду редки. Гололёд.
— Как жить мне дальше, Пониматель?
Он улыбается и молчит. Улыбается и молчит.
Въезжаем в М. Едем мимо стелы, на которой увековечены четверо Ножкиных. У её подножия шелестит Вечный огонь.
Мы с Понимателем смотрим в глаза друг другу.
* * *
Просторное сельское кладбище, где у каждой фамилии свой ряд.
Снег. Только к разверстой могиле протоптана дорожка.
В голубое — ни облачка — небо упираются корабельные сосны.
— Папочка, не умирай! Не умирай, папочка, я буду хорошо вести себя! Папочка!…
— Уведите ребёнка! — надрывно кричит кто–то.
И мы засыпаем могилу.
Прощай, Толя! Я не стесняюсь слёз.
* * *
Обратно возвращаемся в «рафике». Пониматель сидит впереди, рядом с шофёром. Вдруг кричит:
— Стой! Стой!
Выпрыгивает наружу и бежит, скользя по обочине. Останавливается, поднимает что–то. Я догадываюсь: венок.
Шурик говорит, ни к кому не обращаясь:
— У меня деньги на книжке, от отца алименты. Мать гордая была, ни копейки не истратила. Что, если я их Гале? Будет девчонке приданое, разве плохо?
— Не возьмёт, — откликается Амиран. — Но если завтра ты, успокоившись, не перерешишь, попробуй уговорить.
— И уговорю. А своим детям успею ещё заработать.
— Ты детей заимей сначала, — говорит Валерия.
— Дурное дело — не хитрое. Ира, перестань плакать. Толя бы не одобрил. Давай поженимся и детей разведём. Жизнь–то не окончилась.
Шурику, большому ребёнку разношёрстной редакционной семьи, всё сходит с рук. Шурик — он и есть Шурик.
А Пониматель срывает с венка ленту, аккуратно скатывает её и кладёт в карман, а венок швыряет что есть силы. И катится венок, бренча, — я не слышу, но мне так кажется; почему–то я вдруг думаю, что он жестяной, — и катится венок, бренча, по каменистому склону.
На въезде в город догоняем машину редактора. Её тащит на тросе мусоровоз. Редактор и Сын героя о чём–то мирно беседуют.
— Странно, что шеф не пересел в головную машину. Начальство всё–таки… — комментирует Шурик.
* * *
— И такая мразь топчет землю!… — думаю я о Сыне героя.
Пониматель поворачивается ко мне.
— Побереги эмоции, — говорит он, не раскрывая рта. — Сына героя можно пожалеть: он умрёт в колонии, забытый всеми. Статья, которую ты напишешь, сыграет в этом не последнюю роль. После неё всё и закрутится. Его арестуют за хищение соцсобственности.
— И что, он много украл?
— Он — немного. Но его хозяева выкачали из своего треста столько, что каждой музе можно построить по дворцу.
— Зачем Сын героя приходил к Гале?
— Нервы не выдержали, да и напакостить очень хотелось. Живя в одной квартире с Ножкиными, он видел однажды, как Ира утром уходила от Толи. Галя ездила к матери.
— Вот как…
— Толя считал себя виноватым перед Ирой, но виноват он был только перед самим собой. Он любил Иру до последнего дня.
— А она?
— Не знаю. Она и сама не знала.
— Толя никогда бы не бросил больную жену. И дочь, не забывай про дочь! Дочь была для него главным в жизни!
— В том–то и дело! Ира вышла замуж, уехала, и Толя поверил, что, женившись, сумеет забыть её. А вышло наоборот: Ира скоро вернулась, и он оказался в цугцванге, любой выход заканчивался для него тупиком. Он был силён честностью и оттого — беззащитен. Сын героя знал это лучше всех.
— Сын героя — мерзавец! Его конец справедлив!
— Это страшный конец. На его могиле не будет даже фамилии, только инвентарный номер. Он считал, что живёт ради сына. Сын не приедет его хоронить.
— За что боролся, на то и напоролся. Яблочко от яблони…
— Ты ошибаешься. Его сын разыщет очевидцев гибели деда и напишет книгу о нём. Это будет честная книга. Так что ты с чистой совестью можешь похерить свой очерк. Он у тебя не получился. Не беспокойся: ничто не будет забыто, всем воздастся по заслугам.
— Ладно, похерю. И от редактора отобьюсь, он давно его жаждет прочесть.
— Отбиваться не придётся. После вчерашнего разговора с тобой редактор написал заявление об уходе на пенсию. Не будь к нему так суров. Он несчастный, давно потерявший себя человек. Его один раз напугали в тридцать седьмом, когда забрали отца, и ему хватило. Он прожил мучительно–бесполезную жизнь. Толя простил бы его…
— Кто–то не должен прощать, чтобы такие, как Толя, оставались жить. За всё надо платить.
— И всё–таки Толя простил бы…
— Вряд ли. Но, возможно, п о н я л бы.
— Мне нравится, как ты думаешь, но п о н и м а т ь ты будешь иначе, чем я. Ты жёстче.
— Нет. Но время моё — другое.
— Я могу езде как–нибудь помочь тебе?
— Я сам. Необходимо многое п о н я т ь самому.
— Тогда помоги мне ты. Побудь сегодняшний вечер со мной. Всё–таки страшно…
* * *
Все едут поминать Толю, а мы прощаемся. Толя п о н я л бы…
Выходим из машины возле редакции. Падает крупный снег. Темнеет.
— Уже скоро, — говорит Пониматель. — Тебе покажется, что я умираю, но это неправда. Это всё равно, что сбросить старую оболочку… У тебя есть двушка?
— Что?!
— Двушка. Двухкопеечная монета.
— Позвонить можно из редакции.
— Мне нужно отсюда. Ты иди, я поднимусь следом.
Вхожу в лифт, а он идёт к телефону–автомату в вестибюле. Двери лифта закрываются. Кажется, что сейчас, когда они откроются, я проснусь.
Но нет. Редакционный коридор. Пустой и полутёмный.
Жизнь начинается заново? Я — пониматель?
Захожу к себе. Включаю настольную лампу.
Жизнь начинается заново. Я ещё не пониматель, но я должен им стать. Это — долг. Перед Толей, чью жизнесмерть мне предстоит продолжать. Перед Героем, поднявшимся на пулемёт. Перед женой — мне ещё предстоит п о н я т ь свою вину перед ней. Перед Шуриком — как я хочу, чтобы он не передумал назавтра. Перед Понимателем. Перед Амираном, Ирой, Валерией, Галей, Олегом, перед Толиной дочкой, перед людьми, для которых пока ещё увы! — заяц, выбежавший на дорогу, значит больше простых человечьих слов.
Шаги в коридоре. Это Пониматель.
— Вот и всё, — улыбается он. — Ты не огорчайся, тут нет ничего печального. Прислушайся, звёзды смеются. Ну же, ну!
И я слышу тихий перезвон.
— У тебя будут звёзды, которые умеют смеяться. Как будто я подарил тебе целую кучу бубенцов. Прислушивайся к ним, когда будешь писать.
— Я могу не писать и писать не буду. Я пишу искренне, но пишу ложь. Я не знаю, в чём она, но она есть.
— Ты пишешь правду. Ложь была в тебе самом. Но теперь всё пройдёт. Почаще запрокидывай голову. Звёзды не лгут. Взгляни: они смотрят на нас.
Я вглядываюсь в тёмное снежное небо.
— Вон, вон она, видишь — восходит, — вдруг кричит Пониматель. — Это она, она!…
Лицо его горит, глаза широко раскрыты.
— Это она… она… — повторяет он. — Верь: Моцарт не умирает, он всегда возвращается. Слепота ещё не конец. Можно выжечь глаза, но нельзя убить душу. Экзюпери вернётся. Я вернусь. Она восходит, восходит…
И я вижу звезду. И около неё множество других звёзд. Они перемигиваются, они смеются, как бубенчики на колпаке у мудрого и грустного шута.
Звонит телефон. Я не подхожу. Звонит долго. Умолкает. Снова звонит.
Звезда восходит над миром.
— Сними трубку, — говорит Пониматель.
Голос жены.
— Проходила мимо, смотрю — свет. Неужели, думаю, вернулся. Я внизу, меня вахтёр не пускает.
— Я не…
Пониматель бьёт по рычагу.
— Иди! — кричит он. Глаза его безумны.
— Иди, — просит он тихо, еле слышно. Глаза его бездонны.
— Иди… — легонько подталкивает он меня к выходу.
А звезда восходит над миром.
— Иди. Так надо. Не забывай слушать звёзды. У тебя родится сын, сделай его человеком. И Моцарт не умрёт… Иди!
Жена стоит в вестибюле. Жалкая, неприбранная, из–под пальто выбился ворот домашнего платья.
— Проходила мимо, смотрю — окно у тебя горит. Вдруг, думаю, вернулся… О, господи, что же я… Я… Он позвонил, сказал, тебя надо спасать. Сказал: глаза слепы, искать надо сердцем. Я не поняла… Я знаю: ты не уезжал. Я видела некролог, так мог написать один ты… Он позвонил, он просил… Я плохая жена…
Она поворачивается к выходу.
— Подожди! — я беру её за руку. — Подожди! — говорю я ей. — У нас родится сын! — говорю я ей. — Ты прости меня! — говорю я ей. — Ты прости меня… — шепчу я безысходно.
Она плачет. Беззвучно, закусив губу.
— Глупый!… Какой ты глупый!… — плачет она.
Стук, как выстрел, — вахтёр уронил костыль.
— Там Пониматель, — говорю я ей. — Его звёздочка… слышишь, звенят бубенцы?… Ты подожди, ты только не уходи… Я должен быть с ним… Ты только не уходи, только не уходи!…
Я не жду лифта. Я несусь наверх через три ступеньки.
Я должен быть с ним.
Примечания
1
Плётки (бел.) — сплетни, пересуды.
(обратно)2
Вёска (бел.) — деревня, село.
(обратно)3
Свята (бел.) — праздник.
(обратно)4
Дрэнна (бел.) — плохо, дурно.
(обратно)5
З глузду съехал (бел.) — с ума сошёл.
(обратно)

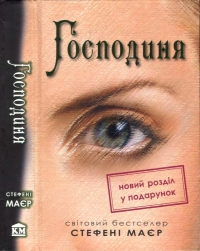
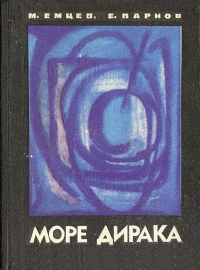

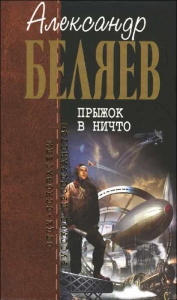
Комментарии к книге «Искатель, 1988 № 05», Владимир Валентинович Сухомлинов
Всего 0 комментариев