Михаил Харитонов Рассказы (сборник)
Корм (Зеркало рассказа Огонь)
Посвящается Песаху Амнуэлю
Польша, 1943.
Дверь захлопнулась, лязгнули засовы.
Загорелся неяркий свет. Тощие, измождённые люди стояли босиком на бетонном полу, вплотную друг к другу. Все были голыми: одежду у них отобрали. Никто не разговаривал. Негромко поскуливала женщина с разорванной мочкой уха: охранник польстился на бирюзовые серёжки. Седой старик сидел на полу, закрыв лицо руками, и тихо молился, мешая жаргон и французский.
Скрипнула другая дверь, и в помещение вошёл невысокий человек в чёрном мундире и чёрных очках. Он нёс с собой какой-то небольшой цилиндрический предмет, тщательно обёрнутый в плотную ткань.
Человек встал так, чтобы его было видно. Поднял руку. Блеснул золотой шеврон.
— Achtung! — крикнул он и театральным жестом поднял покрывало.
Через несколько секунд раздался стук падающих тел. Последним упал старик.
— Шма Исраэль, — сказал человек в мундире и грустно улыбнулся. Взвилось и запахнулось покрывало, надёжно укутывая непонятную вещь.
Он ещё раз осмотрел помещение, повернулся и вышел.
На улице моросило.
Человек в мундире направился к соседнему зданию, увенчанному длинной трубой. Над ней поднималась шапка искрящегося красного пламени, мерно вспыхивающего и угасающего — казалось, что огонь дышит. От высоковольтных проводов, уходящими под крышу здания, шёл пар.
«Надо бы поставить пламягасители» — в который раз подумал человек в мундире и ускорил шаги.
Боливия, 2004.
«Не видать мне отражения вершины Игерота в водах залива Пласидо, не бывать мне в Западном Государстве, не разгадывать письмена Боливара в той библиотеке, которую я пытаюсь представить себе отсюда, из Буэнос-Айреса, и которая, несомненно…» — Иосиф Цойфман механически повторял про себя начало борхесовского «Гуаякиля», некогда переведённого им на иврит. В то время он всё ещё считал себя литератором. Впоследствии он избавился от этой иллюзии, равно как и от некоторых других. Однако привычка заполнять внутреннюю пустоту звоном испанской речи осталась с ним навсегда.
Он стоял посреди городской площади, пыльной и пустой. Перед ним возвышался аляповатый, как и всё в этой стране, конный монумент какому-то местночтимому герою — какому-нибудь Хуану Паредесу или Педро Хуаресу, в стародавние времена с лихвой исполнившего предназначение мужчины: убить много других мужчин, после чего самому пасть от руки сильнейшего.
Иосиф попытался подавить в себе подступающее отвращение к позеленевшему от времени идолу, но потерпел неудачу. Тогда он повернулся к фонтанчику с водой. Фонтанчик нехотя выталкивал из себя кривую струйку толщиной с палец, наводя на мысль о судорожно преодолеваемой импотенции. На краю чаши виднелись следы птичьего помёта.
Услужливая память тут же обогатила неприятный образ детским воспоминанием о проваленном экзамене по латыни: юный Иосиф срезался на цитировании «Exegi monumentum», придав Аквилону эпитет impotens вместо inpotens, то есть заместив классическое «неистовство» ветра незаслуженным «бессилием». Вышло безвкусно, но отчасти уместно: профессор Цойфман физически ощущал своё бессилие перед чужой незнакомой страной, перед безлюдной площадью, перед позеленевшим от времени бронзовым мачо, перед всей этой дурацкой ситуацией, в которую он попал по собственной воле.
Мысль о воле снова вернула его к борхесовскому рассказу, и он в очередной раз задумался, следовало ли переводить его последние слова, которые автору заблагорассудилось написать на французском. Иосиф ещё раз взвесил все за и против, и в очередной раз понял, что не знает ответа. «Возможно, эта способность самозабвенно увлекаться чужой культурой и выдаёт во мне настоящего еврея», привычно подумал он, и привычно возразил себе: в конце концов, рассказ привлёк его внимание потому, что он касался взаимоотношений арийца и семита — темы почти столь же скользкой и столь же захватывающей воображение, сколь и отношения мужчины и женщины.
В портфеле застрекотал и тут же замолчал радиотелефон. Цойфман знал, что звонок был предупредительным: он сигнализировал, что очередной этап проверки пройден успешно. «Если вам позвонят, значит, всё в порядке» — говорил старик-немец с извилистым шрамом на лысине, который дал ему этот адрес. За последний год профессор Цойфман повидал много таких стариков: ветхих, как Завет, но упорно цепляющихся за свою призрачную, выморочную жизнь. Они были живучи, эти старики, нечеловечески живучи. Это и отличало их от тех ординарных нацистов и нацистиков, которые — с теми или иными церемониями, или вовсе без таковых — уже отправились в свой персональный ад. «Существуют только два народа — мы, и народ Амалека: остальные — трава, которая утром растёт, а вечером её бросают в огонь» — Цойфман попытался вспомнить источник цитаты, но не смог этого сделать. От царя Амалека, Агага, произошли все антисемиты. Гитлер, безусловно, был из народа Амалека. Гитлер существовал на самом деле. Значит, и всё остальное тоже было на самом деле. Этот паралогизм вдруг показался профессору исполненным какого-то глубинного смысла.
Он успел ещё подумать о том, что Аша, кажется, всё-таки намерена обзавестись ребёнком; что аспиранты сейчас стали, пожалуй, более разносторонни, но менее внимательны, и одно не извиняет другого; что «Западный край» Ледантека — плохая, вторичная книга; что кондиционер — не менее сомнительное изобретение, нежели компьютер; что интеллектуализм как жизненная позиция несостоятелен. Потом его окликнули.
Он оглянулся, и успел заметить край светлой рубашки, и клетчатый платок, который стремительно приближался к его лицу. Через мгновение он охнул и сел в пыль, глупо улыбаясь.
— Пойдём, — услышал он как сквозь сон. Чья-то рука взяла его за воротник, а потом он шёл, не зная куда. Мыслей не было. Не было ничего.
Когда он пришёл в себя, во рту было кисло.
— Сейчас будет хорошо, — господин Йорг Визель стоял над ним, держа в руках закупоренную скляночку. — Сглотните раз, другой, и всё пройдёт.
Профессор машинально сглотнул слюну. Через несколько секунд зрение сфокусировалось, но в голове царил хаос.
— Я не помню, как я попал сюда. И что тут делал, — сказал Иосиф, пытаясь собрать рассыпающиеся мысли.
— Мы немного поговорили. Вы рассказали о себе, а я — о себе, — любезно улыбнулся господин Визель. — Попробуйте это, — хозяин протянул гостю высокий бокал. — Shorle. Вино с газовой водой. Очень освежает в жару.
Профессор Цойфман полулежал в глубоком кресле с повязкой на лбу. В затылке пекло. На рубашке остались следы пыли. Он взял бокал и чуть-чуть отхлебнул, не почувствовав вкуса напитка.
— Sonnenbrand… зной… здешнее солнце очень коварно, — наставительно произносил господин Визель, — кажется, что всё в порядке, а потом… как это будет по-английски… Обморок. Да, обморок.
— Я живу в Эрец Исраель, — Иосиф нашёл в себе силы возразить словоохотливому собеседнику. — Там жарко. Со мной не было обморока.
— Я этого и не говорил, — охотно согласился хозяин. — У вас, кстати, больные сосуды. Попробуйте вот это, — хозяин кабинета одним движением извлёк откуда-то из недр заваленного диковинами письменного стола крохотную скляночку с красной каплей на дне. — Сейчас всё пройдёт. Позвольте, — он открыл пробку и протянул флакончик гостю.
Профессор вдохнул, и почувствовал себя несколько лучше.
— Это… это был наркотик? — наконец, сформулировал Иосиф.
— Не совсем. Мы называем это Mahtmittel, «принуждающее средство». Достаточно вдохнуть один раз. Человек делает то, что ему велят. В частности, говорит правду… К сожалению, очень дорогое снадобье. Оно делается из корня истинной мандрагоры… — он испытующе глянул в лицо профессора. — Так о чём мы беседовали?
— Не помню, — пробормотал Иосиф. Мысли путались, мешая друг другу.
— Ну, давайте тогда я… Вы — Иосиф Цойфман, историк. «Историк современности», как вы себя отрекомендовали.
— Не помню, чтобы я представлялся… — поморщился профессор.
— Неудивительно, средство довольно сильное… Пройдёт, пройдёт. Вы пейте, пейте. Не бойтесь, это просто вино и газировка. Простите, что я был вынужден подвергнуть вас этому… этому маленькому дознанию. В конце концов, — усмехнулся он, — у меня есть все основания опасаться некоторых израильских организаций. Я вхожу в список Симона Визенталя. Который, — он опять усмехнулся, — существенно укоротил жизнь многим моим друзьям. Франц говорил мне…
— Кто? — в голове у Иосифа несколько посветлело.
— Франц Стангль, комендант Треблинки. Его, кажется, взяли в Бразилии. Так вот, он говорил мне…
Иосиф слегка застонал и покрутил головой.
— Да, простите, я отвлёкся. Итак. Вы — историк современности. Всю жизнь занимались второй мировой войной и связанными с ней вопросами. С особенным вниманием к теме Холокоста. Насколько я понял, это связано ещё с личными переживаниями. У вас в роду есть погибшие… разумеется, я соболезную…
— Вся семья матери, — механически сказал Иосиф. Он постепенно возвращался в норму, но головокружение всё не проходило.
— Да, да, это ужасная трагедия, — вежливо добавил господин Визель. — Итак, вы всю жизнь занимались этой темой. Первоначально вы исходили из традиционной версии. Ваша первая книга была посвящена судьбе венгерского еврейства. Кажется, она принесла вам некоторый успех? Нет-нет, не отвечайте, на все интересующие меня вопросы вы уже ответили…
— Не очень большой успех. Я писал эту книгу в память о родителях моей матери. Она — венгерская еврейка, — пояснил профессор. — В коммунистической Венгрии моя книга была запрещена.
— Ну, это уже половина успеха. Засим последовала книга о предвоенном Алжире…
— Очень неудачная, — профессор окончательно пришёл в себя: окружающий мир перестал крутиться и подпрыгивать перед глазами.
Иосиф Цойфман обвёл взглядом комнату, в которой он так неожиданно оказался. Она была невелика, но хорошо обставлена. Два кресла, декоративный камин. Огромный письменный стол, заваленный бумагами и безделушками, за нам — тёмные буковые полки книжного шкафа. В углу на журнальном столике стоял террариум. Между камешками и веточками блестел лоснящийся бок крупной змеи. Стены украшали ковры. Под самым потолком был укреплён длинный витой рог неведомого животного.
— Рог единорога, — любезно пояснил господин Визель, проследивший направление взгляда гостя. У меня в коллекции есть кубок, вырезанный из основания такого рога. Согласно гримуарам, такой кубок нейтрализует любой яд, всыпанный или влитый в питьё… Суеверие, разумеется. Но всё же приятно. Коллекционная вещь.
Иосиф улыбнулся.
— Единорогов не существует, — сказал он. — Моей книги про Алжир тоже не существует, с точки зрения традиционной академической науки. Как, впрочем, и с точки зрения окологуманитарной публики. Знаете, что мне сказал мой издатель?
— Вы это тоже рассказали, — улыбнулся хозяин. — «Делайте больше мышей».
— Простите? — не понял Цойфман.
— Это легенда. Когда Уолт Дисней нарисовал мультфильм про трёх поросят и выпустил его в прокат, его продюсер отбил ему телеграмму: «Поросята не пошли делайте больше мышей». Ваш издатель посоветовал вам сосредоточиться на теме уничтожения евреев. Как более продаваемой, так он выразился?
— Именно так, — Иосиф прищурился, пытаясь разглядеть причудливый предмет на столе хозяина — то ли вычурный подсвечник, то ли статуэтку. — В те времена выражения типа «рынок научного знания» были ещё не в ходу. Я даже попытался оскорбиться. Между прочим, этот человек был евреем. Он не понял меня. Я его тоже.
— Потом занятия литературой. Иврит. Стихи. Роман. Переводы…
— Всё впустую, — закончил Иосиф. — Я снова занялся тем единственным, что умел делать. Больше мышей, вы говорите? Я стал делать больше мышей. И я делал это хорошо. Настолько хорошо, что теперь сижу здесь… в гостях у старого нациста, убийцы тысяч евреев. Я не извиняюсь, господин Визель, — добавил он.
Хозяин кабинета вежливо промолчал.
— Всё началось, когда я занялся большой работой о концлагерях. На сей раз меня интересовала механика дела. Техника, если угодно. Про это написано очень много, но я хотел установить всё точно. Сколько газовых камер было в каждом конкретном лагере. Сколько человек входило в каждую из них. Сколько времени требовалось на всю процедуру. Как газ подавался по трубам… Нечто подобное.
— Ну да, ну да. Фактология всегда была вашей сильной стороной. Изучение конкретики. Как это вы замечательно писали в той статье про назначение историка? «Статистический факт — это оксюморон, нечто вроде горячего льда. Статистика и факт — противоположности. Статистика есть то, что позволяет обойтись без фактов, без обращения к земле. Наше направление есть обращение к земле истории — к детали, к фрагменту, к частности, через которую можно познать целое. Факт есть деталь. Отдельное высказывание, частное письмо, фотография, конкретная вещь, — пепельница, табакерка, портсигар, — обладает хотя бы тем скромным достоинством, что существует на самом деле…» — извините, дальше не помню…
— У вас превосходная память, — сказал Иосиф, чтобы что-то сказать.
— Нет, просто эта мысль мне близка, поэтому запомнилось, — заметил хозяин, пододвигая к себе какие-то бумаги. — И к чему же вы пришли?
— К тому, что я нашел кривые швы и белые нитки! — профессор Цойман подался вперёд, на минуту забыв о своём дурном самочувствии. — Я хорошо чувствую ложь, господин Визель… Кстати, — растерянно заметил он, — а когда вы мне представились? Откуда я знаю, что вы — тот самый Йорг Визель?
— Не беспокойтесь, я и есть тот самый Йорг Визель… — старик неопределённо мотнул головой. — В начале допроса… то есть, простите, в той части нашей беседы, которую вы не помните… я представился.
Цойфман, наконец, присмотрелся к своему собеседнику. Чувствовалось, что время покусало, но не сжевало его до конца: он казался довольно крепким. «Этот ещё поживёт» — решил Иосиф, и удивился, не ощутив приступа ненависти.
— Ложь, — повторил Иосиф. — Я хорошо её чувствую.
— Да, я помню. Это ваша излюбленная тема. Из лекции про исторический метод: «Современники исторических событий — это обычные люди, которые склонны ко лжи, сознательной или бессознательной, в большинстве случаев охотно рискующими ради удовлетворения этой склонности своей репутацией, а иногда и материальными и жизненными интересами». Видите, как внимательно я вас читал… Вы продолжайте, продолжайте.
— Ложь, — в третий раз сказал Иосиф. — Все эти описания, схемы. Даже сами здания. Я работал в одной из сохранившихся газовых камер. Там есть щели в стенах. Щели величиной с палец! Но ладно, ладно… Зондеркоманды, которые работали без противогазов — тоже ладно. А пропускная способность печей? Нацисты физически не могли сжечь столько трупов…
— И что же? — поинтересовался Визель.
Иосиф пожал плечами.
— Вы пришли к выводу, что никакого Холокоста не было? — с интересом спросил Визель.
— Не надейтесь, — жёстко сказал Цойфман. — Я знаю, что Холокост был. Что евреев убивали. Как убили мою бабушку. И моего дедушку. Моя мать чудом осталась жива, — добавил он.
— Да, но, может быть, убивали, но не столько? Не шесть миллионов, а меньше?
— Возможно, меньше. Но в любом случае счёт идёт на миллионы, — так же твёрдо сказал профессор. — Это установлено точно, здесь слишком много фактов. Установленных фактов. Вы убили всех этих людей.
— Не отрицаю, — хозяин кабинета сделал странную гримасу. — Но…
— Но не так, как мы думаем, — закончил профессор. — Возможно, газовых камер не было. Но было что-то другое. И я хочу знать, что это было.
— Зачем вам это? — помолчав, спросил Визель. — Вы никогда не сможете ничего опубликовать.
— Я знаю. Это нужно мне лично. Мне самому. Я хочу знать правду, господин Визель, бывший комендант специального объекта номер триста семь…
— Это было не очень известное место, — заметил хозяин кабинета. — Как вы меня нашли?
— Вы же знаете, — вздохнул Цойфман. — В последние годы я обзавёлся большими связями среди бывших нацистов. Большинство, правда…
— …были не очень-то дружественны, так? — Визель тяжело вздохнул. — Да, это не очень приятная публика. К тому же среди них много антисемитов, как ни глупо это звучит… Но вам повезло. Вы случайно вышли на нужного человека, который действительно кое-что знал.
— Да, — сказал профессор. — Мне повезло. Тот старик-подводник…
— Фриц, — улыбнулся Визель. — Мой старый знакомый. Действительно, работал с подводной лодкой. Я не оговорился — работал с подводной лодкой…
— Да, я понял. Он мне кое-что рассказал, этот человек. Невероятные вещи, — профессор невольно поёжился. — То, во что никто никогда не поверит. Но я поверил. И понял, что всю жизнь занимался мифами. Но мне уже всё равно. Теперь я просто хочу дойти до конца. Ради этого я и приехал сюда. Вы передали мне через Фрица, что согласны на откровенный разговор…
— Ну да. Вас интересует, почему я согласился? Давайте об этом несколько позже… Вы уже пришли в себя?
— Да, — сказал профессор. Головокружение действительно прошло.
— Хорошо. В таком случае не будем терять времени, — господин Йорг Визель привстал, оказавшись неожиданно высоким, и, потянувшись к шкафу. Достал альбом, обтянутый выцветшим бархатом.
— Посмотрите пока, — он положил вещицу на колени профессору. — Мне нужно покормить змею.
Профессор осторожно открыл обложку. На первой странице была наклеена выцветшая фотография: какие-то молодые люди на скамеечке, рядом — велосипед и собака.
— Это моя семья, — Визель возился с террариумом, и даже не повернул головы. — Вам это неинтересно.
Иосиф перевернул страницу. Было что-то неприятное в этой старой фотографии.
Следующее фото было парным. Два высоких молодых немца, одетых в национальные костюмы, в круглых шляпах с прицепленными к ним веточками дуба, старательно улыбались в объектив.
— Всё это старые дела. То, что вас интересует — в середине альбома.
Профессор Цойфман перелистал ещё несколько страниц. Промелькнули неизвестные люди в форме и без, какая-то девушка в шляпке, потом — горный пейзаж… Наконец, пошло узнаваемое.
— Это внешний вид объекта триста семь, — пояснил хозяин, отвлекшийся, наконец, от своих занятий и занявший своё место за столом. — Собственно, его главная часть. Электростанция.
— Очень похоже на крематорий, — заметил профессор, разглядывая фотографию.
— Ну, можно сказать и так… И тем не менее. А вот следующее фото вас наверняка заинтересует.
— Не понимаю, — профессор вертел в руках альбом. — Вы хотите сказать, что…
— Да, именно так, любезнейший профессор. Перед вами — три фотографии. Они были сделаны с интервалом в три минуты. Это, как вы изволили выразиться, конкретная вещь. Обладающая тем скромным достоинством, что она существует на самом деле. Разумеется, всякую вещь можно подделать. Люди склонны ко лжи, не так ли? При этом не нужно спрашивать, почему они лгут и зачем это им надо. Повод для лжи примысливается к самому действию. Вы можете подумать, например, что я тщеславный психопат, и пытаюсь произвести на вас впечатление…
— Не тяните кота за хвост, — невежливо прервал его Иосиф. — На первой фотографии — помещение, заполненное людьми. Видимо, это евреи, предназначенные к уничтожению. На второй — то же самое, плюс немецкий офицер. На третьей — гора трупов, плюс тот же самый немецкий офицер. Вы утверждаете, что промежуток между фотографиями — три минуты…
— Может быть, четыре, — рассеянно заметил Визель. — Не отвлекайтесь.
— Все эти люди мертвы. Кроме офицера. То, что подействовало на них, не подействовало на него. Вы изобрели какой-то способ умерщвления… из тех, о которых рассказывал Фриц. Это вы хотите мне сказать?
— Мы его не изобретали, — мягко поправил собеседника Визель. — Это очень, очень старый способ. Вот, — он протянул Иосифу ещё одну фотографию. — Между прочим, этот снимок стоил фотографу жизни. Тогда у нас не было автоматических камер…
На пожелтевшем квадратике плохой фотобумаги был виден кусочек столешницы. На ней стояла полуприкрытая покрывалом клетка. Покрывало было откинуто, и было видно, что внутри сидит странное существо: небольшой зверёк размером с кролика, но с петушиной головой. Снимок был не очень хорош: похоже, фотограф не успел навести объектив на резкость.
— Это царёк, или василиск. Очень редкое магическое существо, — пояснил хозяин. — У него есть способность убивать взглядом. По преданию, всё живое, на что он посмотрит, обращается в камень. На самом деле это, конечно, сказки, просто мышцы моментально твердеют… Очень интересный эффект. Трупы можно грузить, как брёвна. Работать с василиском очень рискованно, но альтернатива была ещё хуже…
— Подождите, — профессор сжал голову руками. Альбом сполз с коленей и упал на пол. — Подождите, не сразу. Поймите, я вам верю. Я достаточно общался с вашими бывшими коллегами, Йорг, и меня очень трудно удивить. Фриц рассказывал мне о том, что такое были ваши подводные лодки…
— А он рассказывал вам о том, как взбесившаяся субмарина сожрала весь его экипаж? — с интересом спросил Визель. — Очень поучительная история.
— Рассказывал, — профессор чуть улыбнулся. — Но я позволил себе ему не поверить.
— И правильно, — заметил Визель. — Типичная моряцкая байка. На самом деле личинки морского змея очень преданы своим дрессировщикам… Сейчас их уже не осталось, — добавил он. — Последнюю субмарину убили англичане. Поговаривают, что их военные до сих пор держат одну неактивную личинку в этом своём озере… как его… Лох-Несс. Но я в этом сомневаюсь. Хотя личинка может находиться в таком состоянии несколько столетий, пока не найдётся достаточно сильный маг… Но среди людей таких нет. А мы вряд ли снова пойдём на сотрудничество с людьми.
— Кстати, Йорг, у меня к вам ещё один вопрос. Фриц говорил… Впрочем, неважно. Скажите, вы человек?
— Ах, вы и это знаете, — ухмыльнулся Визель. — Я кобольд. Ничего особенного, довольно распространённый народец. Вот фюрер был баньши, причём чистокровный, это большая редкость. У баньши исключительные гипнотические способности, к тому же дар предвидения… Когда немецкие маги предложили нам сотрудничество, они хотели, чтобы Германию возглавил именно баньши. Хотя наша сторона настаивали на гоблине. И были правы, замечу. Впрочем, теперь всё это неважно.
Профессор Цойфман вздохнул.
— Лично мне понадобилось немало времени, чтобы переварить этот факт. Что существуют, э-э, как бы это выразиться…
— Мы называем себя «магические народы». Народы, способные к магии. Или, скажем так, имеющие отношение к магии. Нас очень немного, и мы предпочитаем не ввязываться в человеческие дела. Та ситуация с нацистами больше не повторится. Никогда не повторится. Кстати, — Визель неожиданно сменил тон, — откуда вы узнали, что единорогов не существует?
— Фриц говорил, — вспомнил профессор. — По его словам, он всю жизнь мечтал увидеть единорога…
— И узнал, что их больше нет. Последнего единорога убили крестьяне в семнадцатом веке веке. За то, что загрыз девушку… Ужасная потеря. Я имею в виду единорога, разумеется. Магических животных вообще очень мало, и все они живут в труднодоступных местах. Вы не представляете себе, какой ущерб потерпела магическая фауна в результате этой нелепой войны! Нет, нет, больше никогда.
— Всё-таки, откуда вы взялись? Тролли, гоблины, кобольды? Вы относитесь к виду Homo, или?.. — профессор не договорил.
— Ах, профессор, на этот счёт существует множество мнений, — Визель картинно развёл руками. — Не думайте, что историческая наука у нас находится в лучшем состоянии, нежели у людей. Скорее наоборот. Чего греха таить — мы всё ещё пребывали в первобытной дикости, когда у вас уже существовала высокая цивилизация. Сатиры, кентавры — всё это были жалкие дикари, не знавшие огня и едва владевшие членораздельной речью, и прекрасные древние греки совершенно напрасно им поклонялись… Увы, способность к магии отбивает охоту к совершенствованию орудий труда, а значит, и к мышлению. Фактически, какое-то движение вперёд у нас началось во времена вашего средневековья, и то только благодаря человеческим магам. Которые нам дали цивилизацию… и, увы, время от времени использовали в своих целях. — Визель запнулся. — Кстати, профессор, вы тоже принадлежите к магическому народу. Вы это знаете?
— Мне что-то говорили об этом, но я так ничего и не понял, — вздохнул Иосиф. — Честно говоря, я так и не смог заставить себя поверить в богоизбранность евреев, несмотря на большие усилия. Хотя, разумеется, я отдаю себе отчёт в том, что еврейская культура и религия — это исключительные явления. Но их исключительность…
— Простите, профессор, я вас перебью, — Визель улыбнулся. — Вы не хотите посмотреть на мою змею?
Иосиф, недоумевая, поднялся с кресла и подошёл к террариуму. Там под мощной лампой грелся полоз. В середине его тела было заметно небольшое утолщение.
— Она только что съела жабу, — пояснил хозяин. — Вы знаете, что, оказавшись в желудке змеи, жаба выделяет полезные вещества, помогающие змее её переваривать?
Иосифа передёрнуло.
— Вижу, вам неприятно. А я вижу в этом ещё одно проявление Weltweisheit, мировой мудрости… Вы верите в целесообразность космоса? Я — да. Мир, несомненно, устроен как большое целое, каждая часть которого находится на своём месте. Разумеется, каждому существу его место кажется недостаточно уютным. Но оно, как правило, не замечает тех благ и преимуществ, которыми оно пользуется как чем-то само собой разумеющимся. В конечном итоге всё уравновешивается, и каждый получает своё.
— Jedem das Seine, — не удержался Цойфман. — Вы это имели в виду?
— Я хотел подвести вас к той мысли, что положение жабы и положение змеи в некотором высшем смысле равноценны. А теперь давайте посмотрим ещё один альбом.
Он повернулся к полке.
— Невероятно, — профессор перебирал снимки трясущимися руками. — Невероятно. О них мне никто ничего не говорил.
— Ну ещё бы. Это была одна из самых больших тайн Рейха. К тому же с ними могут работать очень, очень немногие. И мы очень мало знаем о них. А теперь, наверное, никогда не узнаем. Их больше нет. Как и единорогов, — Визель улыбнулся каким-то своим мыслям.
— Саламандры… — прошептал Иосиф. — Огненные духи. Я мог бы предположить что-то подобное.
— Ну почему же сразу духи? Они телесны, и нуждаются в пище. Им требуется das Futter… как это по-английски?
— Корм, — подсказал Цойфман. — Жратва.
— Вот именно… Но, как вы понимаете, аппетиты у них специфические. Поэтому, кстати, они так редки. Например, земляные драконы нуждаются в особого рода папоротнике, который сейчас почти нигде не встречается, а друкхульмы едят побеги так называемой истинной мандрагоры, которые сейчас продаются на чёрном рынке по цене бриллиантов. Василиски, к счастью, питаются обычными змеями… Ну, а морские драконы, онокентавры, саламандры, и прочие — плотоядные. Причём они нуждаются в плоти магических существ. Понимаете?
Иосиф промолчал.
— Вижу, вы уже догадались… Да, правильно. Чтобы было совсем ясно, позволю себе ещё одно сравнение. Молодых змей откармливают головастиками. Головастик — это ещё не лягушка. Сам по себе он малоспособен к полноценному существованию. У него имеется минимум полезных функций, которые позволяют ему выжить. Зато головастики — великолепный корм. Помните, что я говорил о полезных веществах, помогающих пищеварению? Так вот, евреи, в некотором роде, тоже великолепный корм. Вы — магические существа, но магическая способность в вас подавлена. Вы не способны управлять этой энергией, во всяком случае индивидуально. Разумеется, на коллективном уровне её наличие иногда позволяет вам творить чудеса. Без этого вы не выжили бы… Зато евреи — идеальная жертва. В этом и состоит ваша избранность, Иосиф. В рамках мирового равновесия вы предназначены для того, чтобы быть жертвой. Начиная с церемоний, где требуется умерщвление магического существа, и вплоть до банальной кормёжки… Кормить, кстати, лучше живыми: магические энергии покидают труп очень быстро. Поэтому-то нам и пришлось использовать василиска. Он же, собственно, не убивает — скорее, вводит в коматозное состояние. Нечто вроде общего наркоза. Можно было бы, конечно, обойтись и без таких церемоний. Но живые люди, сгорая, сопротивляются, кричат, а саламандры боятся шума. К тому же это негуманно. Мы не звери, что бы вы о нас не говорили…
— Зачем вам понадобились саламандры? — перебил Цойфман.
— Вы так и не поняли? Всё это началось ещё до войны. Германия была почти полностью лишена собственных ресурсов, особенно энергетических. Немцам отрезали уголь, нефть, в общем всё. А для подъёма экономики нужно было электричество. Много дешёвого электричества. Саламандры способны его вырабатывать в любых количествах, но для этого их надо хорошо кормить. Сначала мы, впрочем, думали обойтись минимальными жертвами, которых было легко набрать среди политических преступников. Хватило бы коммунистов и либералов, благо там было много евреев… Гитлер, впрочем, с самого начала предчувствовал, что этим дело не ограничится, поэтому загодя начал насаждать антисемитизм. Но война спутала все карты. Особенно её вторая половина. Пришлось строить крупные электростанции. Потом их назвали «лагерями уничтожения».
— Они такими и были, — сказал Иосиф.
— Ну, ну. Я уже вижу, что вертится у вас на языке. Каннибализм — вы хотели сказать это слово? Да, каннибализм. А что такое война, как не каннибализм? Кем, по-вашему, были немецкие юноши, уходившие на фронт? Пушечным мясом, не так ли? Вас убивали гуманными средствами, без мучений. А как умирали немцы? Замерзали в русских степях? Горели в танках? Не кажется ли вам, что…
— Нет, не кажется, — профессор Цойфман посмотрел на Визеля исподлобья. — Вы пытаетесь поставить на одну доску преступников и жертв. Ничего другого я, впрочем, от вас и не ожидал.
— Вот как? А вот я ожидал от вас более широкого взгляда на эти вещи… Ну так теперь вы удовлетворили своё любопытство?
— Я услышал много нового и интересного, — процедил сквозь зубы профессор. — Кроме того, мне показали пачку старых фотографий. Которые так несложно подделать.
— Ну вот, вы начинаете защищаться… Зря, зря. Ведь вы на самом деле мне поверили, Иосиф, — заметил Визель. — У вас действительно хороший нюх на ложь. Но если вы хотите увидеть настоящие доказательства — извольте. Я, собственно, за этим вас и пригласил.
Он слегка приобнял профессора за плечи, и на свет снова появился клетчатый платок. Профессор успел отшатнуться, но неожиданно сильная рука на мгновение прижала тряпку к лицу гостя, и тот замер, как вкопанный.
Профессор Иосиф Цойфман стоял, привязанный к металлическому столбу. У его ног на земляном полу лежало прозрачное яйцо размером с грецкий орех, внутри которого плавал крохотный огонёк. Рядом стояла клетка с василиском, до поры закрытая тёмной шалью.
Йорг Визель, переодетый в рабочий халат, раскладывал на длинном верстаке какие-то инструменты.
— Это последнее сохранившееся яйцо саламандры, — болтал Визель, протирая ножи. — Оно может храниться очень долго, но сейчас зародыш уже почти исчерпал свою жизненную силу. Вы подвернулись очень вовремя, профессор. Не беспокойтесь, больно не будет. Василиск действует мгновенно, вы ничего не почувствуете…
Иосиф глупо улыбнулся.
— Никто не знает, что я её спас, — старик продолжал сыпать словами, пытаясь скрыть возбуждение, — все думают, что саламандры исчезли как вид. А каково было мне? Я скрывал яйцо от всех, и ждал, ждал… Вы спросите, зачем мне саламандра? О, профессор, вы не знаете, на что она способна! Например, она может осуществлять трансмутацию металлов, немцы таким способом получали золото… неужели вы думаете, что кто-то и в самом деле вырывал изо рта трупов золотые зубы? — Визель хихикнул. — Нет, дорогой профессор, это был куда более чистый металл… ах да, вы же сейчас не коммуникабельны. Ну и ладно… Саламандра — почти неисследованный вид. Но сейчас, с нашими современными возможностями, со всеми этими лабораториями — я думаю, мы на пороге великих открытий. Разумеется, я намерен соблюдать осторожность. Проще всего её, конечно, продать. Чёрный рынок магических предметов — о, там обращаются огромные деньги! Но я не настолько беден, чтобы торговать саламандрами…
Старик поднял голову от верстака, и посмотрел на свою будущую жертву.
— Вас, наверное, слегка беспокоят все эти ножики? Нет-нет, это не для того, о чём вы могли бы подумать. Это может понадобиться, чтобы помочь саламандре пробить скорлупу. Она сожжёт ваше тело без всякой посторонней помощи, знаете ли… У них внешний способ питания, как выражаются биологи. Так сказать, желудком наружу. Саламандра черпает энергию из своего огня… Сейчас здесь будет много огня. Взрослая саламандра, конечно, спалила бы весь этот сарай к чертям, но это всего лишь нимфа…
Цойфман шевельнулся.
— Нуте-с, сначала тест. Это чистая формальность, профессор, но я люблю всё делать по правилам. Попробуем вашу кровь… — старик приблизился к профессору с каким-то острым блестящим предметом. — Дай руку! — скомандовал он, и Иосиф механически протянул ему правую руку.
Визель помял ему палец, потом сделал небольшой надрез. Выступила кровь. Визель наклонился и слизнул каплю. Поцокал языком. Удивлённо приподнял бровь.
Цойфман отчаянно задёргался. Действие магического снадобья постепенно проходило.
— Стой смирно! — скомандовал Визель, и ещё раз попробовал кровь. Сморщился, плюнул. Потом, тяжело сопя, обошёл вокруг столба и разрезал путы, оцарапав при этом профессора ножом.
— Пошёл вон, — с невыразимым презрением сказал старик.
Иосиф стоял у столба, неспособный двинуться с места.
— Кому сказал? Пошёл вон отсюда. Выход там, — старик мотнул головой куда-то в сторону.
— Я… я требую объяснений, — пролепетал профессор.
Йорг Визель неожиданно расхохотался.
— Ausgezeichnet! — наконец, выговорил он, вытирая выступившие слёзы. — Что делает с людьми воспитание! Вы, кажется, недовольны тем, что не пригодились? А кто, интересно, сказал вам, что вы еврей?
Яйцо саламадры внезапно вспыхнуло оранжевым светом.
— Полюбуйтесь, — мрачно заметил Визель. — Сейчас она вылупится — и умрёт, не найдя подходящей пищи… Так с чего вы взяли, что вы еврей? Кто вам это сказал? Мама? Покажите мне вашу маму!
Яйцо засияло красным, потом окуталось радужной дымкой. Внутри светового кокона раздался тихий звон.
— Лопается оболочка… Как же я не учёл такой простой возможности! Вся семья погибла в концлагере. Какой ужас. А может быть, молодой мадьярке просто нужно было сбежать из дому? В Америку, например? Тогда так делали многие. В послевоенной неразберихе так просто было выдать себя за сироту. Потом прибиться к еврейской общине. И лгать всю жизнь. То-то вы так тонко чувствуете ложь… Кстати, ваш официальный отец — еврей?
— Еврей… — Иосиф никак не мог прийти в себя.
— Интересно, зачем она тогда родила ребёнка от какого-то поляка? Или русского, я не разобрал… Наверное, это такое изощрённое проявление антисемитизма. Всю жизнь жить с евреем, ненавидеть его и себя, и рожать детей от случайных любовников — какой сюжет для дешёвого романа! И не кривите губы, — старик демонстративно отвернулся. — Как и все существа моей расы, я чувствую кровь. Вы — полумадьяр-полуславянин. В вас нет ни капли еврейской крови. Кроме того, — с удовольствием добавил он, — вы плохой историк. Я читал ваши статьи ещё и для того, чтобы выяснить, стоит ли пускать вас в расход…
Внутри светящегося яйца засверкало золото.
— Вот она, нимфа… Скоро она выйдет из яйца. И умрёт. Сейчас ей нужна пища, а её здесь нет. Уходите, вы здесь не нужны. Или я вас прикончу! Вы даже недостойны василиска. Есть и другие способы… Не трогайте это!..
Старик не успел договорить. Его глаза остекленели, колени подогнулись. Тело упало на землю с глухим деревянным стуком.
Цойфман аккуратно запахнул шаль и поставил клетку на пол.
Золотое сияние вокруг яйца погасло, и он увидел саламандру. Крохотное сияющее существо напоминало своим видом морского конька. Саламандра плыла по воздуху в колеблющемся сполохе прозрачного белого огня.
Иосиф с трудом подтащил тело старого кобольда к столбу. Он оказался неожиданно тяжёлым. Потом, подхватив клетку, отошёл подальше, чтобы его не опалило жаром.
Саламандра подплыла к телу Визеля, спускаясь к лицу. Издали это напоминало поцелуй. Запахло жареным мясом и горелой тканью.
Саламандра опустилась ещё ниже. Тело кобольда изогнулось, потом издало странный шипящий звук, и внезапно взорвалось: на несколько секунд всё вокруг было охвачено пламенем. Иосиф не успел отшатнуться, и только прикрыл лицо рукой, едва удержав клетку. Всполошённый василиск заскрёб когтями и заклёктал.
Через минуту всё было кончено. Около столба плавала в своей огненной колыбели сияющая саламандра. Теперь её пламя отливало красным.
Цойфман поставил на землю клетку с василиском, аккуратно расправил складки шали. Нагибаясь, он заметил на полу какой-то маленький предмет, и поднял его. Это оказалась оплавленная пуговица.
— Verzeihen Sie, Herr Визель, тысяча извинений. Но другого магического существа поблизости не нашлось, а малютка хотела кушать, — с чувством произнёс профессор, соображая, что делать дальше.
Предстояла большая работа. Разобрать бумаги в кабинете Визеля. Выйти хотя бы на ближайший круг его контактов. Также связаться с Фрицем: возможно, он что-то знает о чёрном рынке магических существ. Обязательно найти литературу о саламандрах. Лучше бы какие-нибудь инструкции. В конце концов, её придётся транспортировать… Поискать в доме деньги или какие-нибудь ценности: ему потребуется свободная наличность.
Да, ещё василиск.
— Ты, наверное, голодный? — профессор наклонился к клетке. Василиск зашебуршился.
— Ну, это просто, — пробормотал профессор, вспоминая полоза в террариуме. — Положение жабы и положение змеи в некотором высшем смысле равноценны, не так ли?
Лондон, 2006.
— …Должен признать, господин Цойфман, что вы прекрасно держались на этих переговорах, и проявили подлинный патриотизм, — человек в соседнем кресле щёлкнул гильотинкой, отрезая кончик сигары.
Иосиф пододвинул к себе пузатую рюмку. Погрел в ладонях, чтобы ощутить аромат хорошего коньяка. Ему было хорошо и уютно. Впервые за весь последний год он мог себе сказать, что никуда не торопится.
— То есть вы хотите сказать, что я безбожно продешевил, — заметил он. — Что ж. Когда сделкой интересуется государство, гражданином которого ты являешься, отказываться от переговоров недальновидно.
— Ну, не так уж вы и продешевили, — усмехнулся собеседник, — просто саламандра бесценна… Американцы, наверное, дали бы вам больше. Если, — он осторожно вдохнул сигарный дым, — не предпочли бы сэкономить. Честно говоря, очень странно, что вас не убили.
— Да, этот рынок довольно жёсткий, — заметил профессор. — Мне несколько раз приходилось прибегать к помощи моего маленького друга, — он покосился на клетку. На сей раз она была закрыта специальным чехлом.
— Кстати, вы не хотите его продать? В частном порядке?
— Нет, — сказал Цойфман.
— Всё же подумайте. Я бы его у вас купил. Дорого. В конце концов, он вам больше не понадобится. К тому же, с помощью этого существа убивали евреев…
— Благодаря нашему правительству, я больше не нуждаюсь в средствах. Надеюсь, мои дети тоже будут довольны своим папочкой. Кстати, моя жена Аша на следующей неделе…
— …поздравляю… — предупредительно откликнулся собеседник.
— Вообще, я к нему привык, — закончил профессор. — Мы с ним хорошо понимаем друг друга. Что касается прошлого… Будем думать о настоящем. Вы же не задумываетесь о тех евреях, которыми будут кормить саламандру?
— Вы прекрасно знаете, что евреи бывают разными, — в тон ему ответил человек напротив. — Некоторые из них не заслуживают ничего, кроме…
— Да-да, я понимаю. Хорошо, что они есть, эти негодные евреи. Правда ведь? — Цойфман осторожно пригубил коньяк. — В общей гармонии мироздания у них тоже есть своё скромное место.
Собеседник кашлянул.
— Василиск мог бы облегчить их мучения.
— Обойдутся инъекцией. Кстати, — добавил профессор, — у меня есть для вас небольшой подарок. Вот, — Цойфман положил перед собой книжку в изящном сером переплёте. — Сигнальный экземпляр.
Человек в соседнем кресле взял книгу в руки, повертел, заглянул под обложку.
— Ах, да. «Мой Холокост». Об этом много говорят. Газеты пишут, что это чуть ли не новый дневник Анны Франк?
— Газеты преувеличивают. Проза историка — сейчас это модно. Это книга о моей семье. Точнее, о семье моей матери. Нечто вроде исторического расследования. Грустная история. Надеюсь, она найдёт своего читателя.
— И номинатора. Насколько мне известно, книга уже выдвинута на премию имени…
— Давайте об этом не будем. Чтобы не сглазить, — профессор улыбнулся. — Но, разумеется, я рад своему возвращению в литературу. Знаете, — он сделал ещё один маленький глоток, — раньше мне казалось, что занятия историка и литератора противоположны по интенции. Теперь я так не думаю.
Застрекотал телефон. Профессор взял трубку, немного послушал, потом молча положил её на край стола.
— Благодарю вас, — сказал он. — Деньги переведены на мой счёт. Вы выполнили свои обязательства.
— Мы всё-таки представляем правительство Израиля, — улыбнулся собеседник. — Было бы странно с нашей стороны…
— Кстати, вы гоблин? — неожиданно спросил Иосиф.
— Да, как и все чиновники такого уровня… Извините, профессор, мне пора. Ох, да! — собеседник хлопнул себя по лбу. — Совсем забыл. У меня тоже есть небольшой подарок для вас… и для вашего василиска.
Он нагнулся, открыл пузатый портфель, стоявший у него в ногах, и извлёк оттуда большую коробку, аккуратно заклеенную со всех сторон. В крышке были проделаны небольшие отверстия. Внутри что-то шуршало.
— Благодарю, — с чувством сказал профессор Цойфман. — Очень кстати.
— Не за что. Все уже знают, что вам принято дарить змей. Но мне и в самом деле пора.
Собеседник ещё раз попрощался, подхватил портфель, щёлкнул замочком, и удалился.
Иосиф остался один. Он осмотрел коробку, прочёл латинскую надпись на крышке.
— Надеюсь, — сказал он, глядя на клетку, — тебе это придётся по вкусу. Редкий вид. Ты же у нас лакомка…
Голодный василиск щёлкнул клювом.
— Weltweisheit, — констатировал профессор. — Мировая мудрость.
Кабы не этот Пушкин
Посвящается Песаху Амнуэлю
16 августа 1924 года по традиционному стилю.
Российская Империя, столица.
Всё смешалось в доме Аполлона Аполлоновича Аблеухова. Начать с того, что с самого раннего утра его высокопревосходительство изволили быть на ногах — и в прескверном настроении. Даже не посетив туалетную комнату, он, весь во власти мрачной сосредоточенности, настрого велев не беспокоить ни по какому случаю, даже если турки нападут, заперся в кабинете на ключ.
Напрасно верный Мустафа прикладывал ухо к двери, надеясь расслышать звон колокольчика — Аполлон Аполлонович не любил новомодных электрических звонков, предпочитая старинные средства — но увы: из кабинета доносился только стук открываемых ящиков бюро и шорох раскрываемых папок. Судя по всем приметам, дело предстояло нешуточное.
Беспокойства, однако, на этом только начинались. Вначале загудел телефонный аппарат в малой зале. Телефонную линию в дом Аблеуховых провели недавно, и обслуга ещё не свыклась с его присутствием. Это ввело Мустафу в колебание: звать ли его высокопревосходительство к трубе, несмотря на повеление не беспокоить, или оставить аппарат без внимания, рискуя тем самым навлечь на барина немилость: понятно ведь, что тревожить Аполлона Аполлоновича в такое время могло осмелиться лишь только вышестоящее начальство, а выше Аблеухова не было никого, окромя ближайших к Государю… Терзаемый противоречащими чувствами, Мустафа всё же решил звать и робко постучал в дверь.
Аполлон Аполлонович изволили открыть, но вид у него был прегрозный. Отодвинув замершего от ужаса Мустафу, он проследовал в малую залу к гудящему аппарату. Видимо, разговора по аппарату его высокопревосходительство ждали. Во всяком случае, вместо обычного «алло» Аблеухов позволил себе нетерпеливое «eh bien?», а дальнейшая с его стороны беседа свелась к короткому «oui» и «que diable!» в конце.
В крайнем раздражении бросив трубку, его высокопревосходительство, чернее тучи, вновь скрылось в кабинете, дав указание скорейше занести в кабинет шербет и водку.
Мустафа затрепетал: такого рода указания он получал всего дважды за всё время службы, и оба раза они знаменовали события страшные и чрезвычайные. Впервые на его памяти Аблеухов потребовал с утра водку в день своего знаменитого выступления в Государственном Собрании, когда была произнесена та самая, вошедшая в историю фраза — «бюджет государства и есть его подлинная неотменимая Конституция, перед коей смиренно склоняют головы даже тираны, если не желают лишиться выгод своего положения» — за каковой последовала трёхмесячная опала. Второй раз такое случилось перед заседанием Высшего Совета, когда Аблеухов в присутствии Государя, угрожая отставкой, отказался выделить средства на продолжение африканской кампании. Это было безумно смелый демарш: либералы чуть ли не записали канцлера себе в сочувствующие. Зато после Аксумской катастрофы, когда племена ороро, вооружённые новейшими австрийскими пулемётами, наголову разгромили англичан, Государь публично назвал Аблеухова «вернейшим и преданнейшим слугой Российской Империи». Как выяснилось вскорости, за этим лестным определением последовали и практические выходы: Аполлон Аполлонович стал приглашаем на вечерние чаепития в Высочайшем Присутствии, на коих обсуждались наиважнейшие вопросы… Мустафа, volens nolens осведомлённый даже о таких подробностях, вчуже трепетал — похоже, опять настало опасное время.
Он явился перед Аблеуховым самолично — с подносом, на котором стояла чаша с шербетом и графин с охлаждённым хлебным вином.
Его высокопревосходительство было в самом дурном настроении. Аблеухов даже не выбранил Мустафу за нерасторопность, хотя следовало бы: до такой степени канцлер был не в духе. И водку-то он налил себе не на два пальца, а целую стопку, и опрокинул-то единым махом, закусив, по обыкновению, шербетом.
— Мустафа, — внезапно обратился он к домоправителю, — вот скажи: ты знаешь ли стихосложение?
Оторопевший Мустафа думал почти что целую минуту.
— Когда я служил у французского посланника, — наконец, нашёлся он, — я сопровождал его дочь в театр. Там говорили стихами. Мне не понравилось. Глупость.
— Это потому, что ты природный турок, — рассеянно заметил Аполлон Аполлонович, — а турецкий язык есть язык военный… Образованный перс оценил бы сладость творений Расина.
— Персы слишком образованы, чтобы быть хорошими воинами, — не смолчал Мустафа.
— Что ж, в этом ты прав, — вздохнул барин. — Взгляд, конечно, очень варварский, но верный. Распорядись насчёт экипажа. Я еду.
Этот короткий разговор Мустафе очень не понравился. Что-то нехорошее, неладное ощущалось в этом неожиданном интересе Аполлона Аполлоновича к поэзии.
Сборы тоже принесли мороки и беспокойства. Особенно нехорошо было то, что одна из лошадей, когда её запрягали в коляску, забилась: примета была самая дурная. Когда же коляску вывезли во двор, прямо перед ней дорогу перебежала кошка. Это русское суеверие дополнительно встревожило прислугу — все только о том и шептались, что барину пути не будет.
Аполлон Аполлонович предпочитал закрытые экипажи. В жарком, слипающемся воздухе белое лаковое полотно коляски хотя бы напоминало о прохладе. Оставалось надеяться, что к вечеру хоть чуточку разветрится.
Откинувшись на сиденье, Аблеухов размышлял о предстоящем разговоре. Впервые за все эти годы ему предстоит высказываться по вопросу, не связанному напрямую с финансами Империи. Причём по вопросу сложному, тонкому, и — чего уж там — соблазнительному. Да, соблазнительному. Потому что у него, Аблеухова, тоже есть сердце. Русское сердце, жаждущее славы, признания. Но не такой ценой. К великому сожалению, он сейчас единственный, кто понимает всё значение этой экономической категории. Цена: вот что определяет всё. Французский посланник, звонивший утром, эту цену ясно обозначил. И эта цена — существенное похолодание в русско-французских отношениях. Что является почти верной гарантией победы прогерманской партии, а значит — возвращения к ситуации четырнадцатого года, когда Россия прошла буквально на волосок от гибели…
Остаётся надеяться, что Государь Император, как и прежде, прислушается к его скучным советам. Хотя, конечно… Аполлон Аполлонович вздрогнул от внезапно настигшего понимания: будь он сам на месте Государя, он не послушал бы действительного тайного советника первого класса Аблеухова, хоть бы он был бы трижды прав. Он, на месте Государя, дозволил бы сомнительную публикацию. А значит… — Аблеухов, невзирая на страшную жару, похолодел, — Государь и в самом деле его не послушает. И всё то, что он готовил эти дни, включая сегодняшнее утро — всё это было зря и ни к чему.
И нужно всё забыть и всё продумывать заново. В эти последние минуты, когда коляска неумолимо приближается к Высочайшей Резиденции.
Правильное решение явилось само — когда он, растерянный и несчастный, уже ступал по устланной алым бархатом ступеням.
* * *
— Виктория! Полная виктория! — молодой коллежский асессор Борис Бугаев, в последние годы ближайший помощник и личный друг Аполлона Аполлоновича, не скрывал ликования от успешной интриги. — Но как, как вам пришло подобное решение? Я-то думал, вы будете протестовать прямо, в лоб… Иезуитский ход!
— Ну вот, ваше высокоблагородие, сравнили тоже, — благодушно отдуваясь, Аполлон Аполлонович пододвинул поближе стопочку — на сей раз законную, обеденную. — Какие уж там езуиты. Обыкновенная государственная предусмотрительность. Ну, что ж вы-то не присоединяетесь?
— Невозможно, Аполлон Аполлонович, — с сожалением, но твёрдо ответил Бугаев, с тоской глянув на свою пустующую стопку. — Возбраняется Служебным Уставом от тысяча девятьсот девятнадцатого года…
— Ах да, вы же на работе, капитан… В таком случае я, как ваш непосредственный начальник, наделённый соответствующими моему званию полномочиями, отправляю вас в немедленный краткосрочный отпуск до… — он извлёк старинные золотые часы на цепочке, поднёс к лицу циферблат, — до трёх часов пополудни по местному времени. Засим, уже на правах частного лица, предлагаю разделить со мной эту скромную трапезу…
— Другое дело… То есть сердечно благодарю, Аполлон Аполлонович, и с удовольствием принимаю приглашение, — уважительно склонил голову Бугаев, и тут же, не чинясь, сам налил из графинчика, опередив поспешившего было к столу Мустафу. Впрочем, тот нашёл чем пригодиться: поправил салфетки в салфетнице и выставил графинчик ровно на середину.
— А что, Мустафа, — Аблеухов улыбнулся, отчего лицо его стало похоже на сморщенное печёное яблочко, — не хочешь ли маленькую? У нас сегодня победа. Мы изрядно пригодились Государю и Отечеству.
— Это достойная причина, — важно сказал Мустафа. В руке у него мгновенно появилась серебряная с чернью рюмка, которую он обычно прятал где-то в рукаве. Домашние знали, что в другом рукаве у него был спрятан трёхвершковый кинжал с узким лезвием.
Графинчик одобрительно булькнул.
— А Коран что говорит? — подкузьмил турка Бугаев.
— Виноградное вино запрещено Пророком, мир ему, ибо оно погубило нашего прародителя Ноя, — невозмутимо ответил Мустафа. — Когда-то глупцы, не отличающие правую руку от левой, говорили нам, что водка — это то же вино. Но правоверные теперь знают, что про водку в Коране ничего не сказано. Я читал Коран, там ничего не сказано о водке.
— Ну что ж, значит, в Коране есть много хорошего, особенно среди того, что в нём не сказано, — подытожил Бугаев. — Давайте, что-ли…
Все встали: первый тост всегда был за Государя.
Мустафа хлопнул стопку, не изменившись в лице.
— Закуси, — предложил Борис, но Мустафа покачал головой и отошёл на свой наблюдательный пост.
— Они после первой никогда не закусывают, — объяснил Аполлон Аполлонович. — Такой уж у них обычай.
— Чья работа, с водкой-то? — капитан был человеком осведомлённым, ибо никогда не упускал случая прибавить к своим познаниям лишний скрупул.
— Четвёртое Отделение, — усмехнулся Аблеухов. — Полковника Валерия Брюсова секретный план по смягчению культурных различий. Дело тонкое, деликатное. В лучших традициях покойного Фёдора Михайловича.
— Кстати, я слыхал, что полковник не пьёт, — вспомнил Бугаев. — Совсем.
— Потому что от спирта не пьянеет, — объяснил Аполлон Аполлонович, — а в винах не ощущает вкуса… По второй?
— А то как же!
На этот раз Мустафа успел разлить водку по стопкам.
— Ну-с, — Аблеухов меленько перекрестил себе левую грудь, где сердце, — пронесло. Послушал ведь Государь меня, старика… За то и выпьем.
Выпили. Закусили оливками.
— Простите, Аполлон Аполлонович, за возможную дерзость, — набрался смелости Бугаев, — но вы сами роман-то читали?
— А то как же. Последнюю неделю на то и убил. Вечерами, конечно, на досуге, — добавил Аблеухов на всякий случай.
— Я тоже, — сообщил Борис Николаевич, наклонившись к портфелю, с которым не расставался ни в каких обстоятельствах, — вот, — он выложил прямо на скатерть голубой томик, на котором значилось: «Leon Tolstoy. La Guerre et la Paix. Tome I.»
— М-м, — Аблеухов прищурился, — на французском читаете? Я вот в переводе знакомился.
— В котором: Виноградова или Паскевич? — блеснул знанием предмета Бугаев.
— Госпожи Воронцовой-Дашковой, — поправил его Аблеухов. — Княгиня Ирина свои переводы девичьей фамилией подписывает. Европейская, знаете ли, мода… Но на французском я тоже того… знакомился. В общем, предпочитаю оригиналу перевод. Всё-таки граф Толстой коренной русак, хоть и изменник.
— Изменник ли? — прищурился капитан. — Как же он подкузьмил французам! И хитро: уже объявлен классиком, академик, «бессмертный»… имя-то уже со скрижалей не смоешь. И тут вдруг — неизвестный роман! Да какой! Приговор Наполеону и возвеличение русского оружия!
— А всё же изменник, — не без сожаления в голосе заключил Аблеухов. — Рождён бы русским, а переметнулся во французы, эмигрировал, кафоликом заделался, тьфу… Этого ли не достаточно?
— Папа Римский его от ихней церквы отлучил, — напомнил Бугаев. — А перед смертью он хотел бежать в Россию. Знаете эту историю с железнодорожной станцией?
— Анекдот, — отрезал Аблеухов. — Да хоть бы и хотел. Государь Николай Павлович на тот предмет придерживался единственно верного мнения. Кто раз предал, тот предаст и второй раз, и третий. И в этой самой «Войне и Мире» я то же самое вижу. По мне, так если уж эмигрировал, будь же ты предан новой родине. А не так вот, чтобы с кукишем под полою…
— Голос крови, — неопределённо заметил Бугаев. — Толстые всегда по русской государственной части шли. Как-никак, с петровских ещё времён…
— Ну и шёл бы по государственной части, как подобает, — отрезал Аполлон Аполлонович. — А не бежал бы к лягушатникам.
— Всё же единственный писатель русского происхождения, известный в Европе, — вступился Бугаев. — Какая-никакая, а нам слава.
— Вот! Вот чем нас европейцы-то берут! — вскипел Аблеухов. — Славой! Как будто нет другого достойного поприща, кроме как развлекать досужих бездельников!
— Досужие бездельники обычно составляют важнейший класс цивилизованного общества, — вздохнул коллежский асессор.
— И слава Богу, что мы ныне обитаем за пределами цивилизации, опустившейся столь низко, — твёрдо сказал Аполлон Аполлонович. — Вот уж воистину утончённое варварство!
— Повторяете Тютчева, — заметил его сотрапезник, поправляя салфетку.
— И что же? Хорошее повтори и ещё раз повтори… Шербет, — распорядился он, и Мустафа тут же скрылся на кухню.
— Но ваше решение… Не дозволить публикации романа в Российской Империи на законных основаниях, чтобы не поссориться с французами, при том негласно поощряя распространение переводов. Тонко! Только вопрос — клюнут ли либералы…
— Клюнут, — уверенно сказал Аблеухов. — Либералы наши делают заключения механически, подобно автоматам. Ежели начальство что-то запрещает — так значит, это самое нужно всячески поднимать на щит. Тем более, хорошей либеральной литературы в России не появляется. Читали ль вы пресловутое сочинение Герцена?
— По долгу службы, — скривился Бугаев.
— И как?
— Любопытно… для любителей несвежих сплетен. Но к художественной прозе отношения не имеет, — молодой помощник пожал плечами.
— Вот-вот, — мстительно поддакнул старик. — Никого у них нет.
— Разве Боборыкин? — вспомнил Бугаев. — Хотя, конечно, никакой он не либерал, а просто фрондёр.
— Что Боборыкин? Сравнительно с любым европейским писателем средней руки весь Боборыкин — пфуй! — он сдунул с ладони несуществующее пёрышко.
Принесли шербет и горячее. Мустафа, напустив на себя командирский вид, принялся распоряжаться расстановкой блюд и приборов, как будто это были части и дивизии.
— А Толстого роман — не пфуй, — вздохнул Борис, прижимая вилкой кусок только что сдёрнутого с шампура кебаба и занося над ней нож. — Посудите сами даже с точки зрения материальной. Четыре тома. Шестьсот сорок пять персонажей. Охвачена эпоха в семнадцать лет. Вставки на русском языке…
— Велик почёт — вставки на русском! Я лично считаю лучшим достижением нашей словесности вот его, — он показал глазами на Мустафу. — Потому что они учат русский, а не английский какой-нибудь, хоть на английском написаны шекспировы сонеты.
— Это скорее по части побед русского оружия, — заметил Борис.
— Оно-то верно, — Аблеухов согнул палец крючком, как это он делал, желая высказать сложную идею, — однако и недостаточно. Я в плохое время тоже вот думаю о бренности наших усилий. Да, крест на Святую Софию мы вернули, что нам на небесах зачтётся. Но нет у нас тех, кто воспел бы сей подвиг на земле. Зато европейцы перелагают свои жалкие войны и поражения самым соблазнительным образом. А ведь книги суть летописи подвигов народных… Но на это есть одно существенное контрсоображение. Тут недавно презентовали мне сочинение китайского мудреца Сунь-чи. В котором сказано…
— Простите великодушно, Аполлон Аполлонович, — почти невежливо перебил нахмурившийся Бугаев, — но что за охота читать поделки Форейн-Офис? Вы же получше меня знаете, из какого места у всех этих древних мудрецов ноги растут. Теософия, будхизм, спиритуализм там всякий. А разгадка одна: англичанка гадит!
— Пшшшт, — Аполлон Аполлонович выставил сухонькую ладошку, — не учи учёного. Сочинение Сунь-чи переведено в гумилёвском ведомстве для внутренних надобностей.
— У Гумилёва китайцев переводят? Неужели?! — молодой офицер невольно выпрямился, глаза блеснули голубой сталью.
— Сиди, сиди… Теперь не в армии, чай. Если что, так это не сейчас. Мы ещё тут-то, в Царьграде, на новенького будем, — он кивнул в сторону окна, где за прозрачной шёлковой занавесью сиял золотом Босфор. — Столицу перенесли из Петербурга всего четыре года как. Закрепиться, окопаться — вот что на первом плане.
— Пока будем закрепляться да окапываться, англичанка Китай себе оттяпает, — огрызнулся Бугаев. — Ох, простите, ваше высокопревосходительство… Что там с мудрецом-то?
— Вот как раз очень кстати тот мудрец сказал: «твоя непобедимость находится в тебе самом, возможность твоей победы находится в противнике». Гумилёв в комментариях это изъясняет на примере двух пасхальных яичек. Знаете такое простонародное развлечение в России — колотить яйцо об яйцо? Чьё расколется — тот и проиграл?
Борис кивнул головой и вздохнул, вспомнив далёкий дом.
— Так вот. Крепость яйца определяется не толщиной скорлупы, а трещинками. Если скорлупа хоть чуточку надтреснута — всё развалится. Государства — те же скорлупки. У России скорлупа тоньше, чем у тех же англичан. Зато в нашей скорлупе мало трещинок. Наше общество единообразно и монолитно, противоречия между классами малы, интеллигенцию вывели на нет, либеральная оппозиция немногочисленна. Поэтому наше яичко до сих пор никто не разбил. А теперь подумайте: ну вот была бы у нас, скажем, великая литература, как у тех же англичан и французов. Фёдор Михайлович тоже ведь в молодости бумагу марал. Вообразите на минуту, что Достоевский, вместо того, чтобы искоренять крамолу, вложил бы все силы в карьеру писателя? Вместо того, чтобы бороться со злокозненностью и предрассудками глупцов, стал бы, напротив, угождать публике?
— Фёдор Михайлович ничего противогосударственного не написал бы, — уверенно сказал Бугаев.
— Прямо — нет, Аблеухов скомкал салфетку, отставил в сторону тарелку с недоеденным кебабом. В такую жару он ел мало. — Но угождающий толпе должен подыгрывать её предрассудкам и тайным страстям. А Достоевский, с его-то умом и талантом — угождал бы самым тайным, самым скрытым сквернам человеческим. Играл бы на тех струнках, о самом существовании которых люди обычно и не догадываются. Проницал бы словом тонкие трещинки, что можно найти даже в стальном сердце, не говоря уж о сердцах плотяных… Другие же литераторы, не столь даровитые, стали бы восполнять огрехи слога клеветами на начальство, разжиганием неудовольствий в низших классах общества, и так далее. Тут-то англичанка бы к нам и влезла.
— Может быть и так, Аполлон Аполлонович, — Бугаев положил прибор на тарелку. — Да только, извините за откровенность, рассуждение ваше напоминает лафонтенову басню про лисицу и виноград. Дескать, не дано нам, ну и не надо, оно и к лучшему. А на самом деле — видит око, да зуб неймёт. Вот, к примеру: согласитесь же, что на русском языке не может быть хорошей поэзии. Слова длинны, грамматика тяжела, рифмы бедны. То ли дело итальянский, с его певучестью и изобилием равнозвучных окончаний!
— На стишках свет клином не сошёлся, — насупился Аблеухов. — Да и потом: были же у нас Жуковский и Веневитинов. Особенно Жуковский, сей плод союза двух непоэтических народов, русского и турецкого…
Мустафа навострил уши.
— Хотя, конечно, перекладчик с немецкого не есть поэт самостоятельный, — закончил канцлер. — Ему бы войти в настоящий поздний возраст, в гётевские года — тогда, возможно, его лира обрела настоящий голос. Так умереть! В расцвете душевных сил… от руки молодого негодяя.
— Жуковский сам его вызывал, — напомнил Бугаев.
— Да, вызвал! За гнусную эпиграмму, оскорбительную для мужчины и для дворянина, — Аполлон Аполлонович пристукнул по столу стопкой. — За одну рифму «Гете, Грею — гонорею» следовало бы прострелить ему то самое место, где она заводится. Прав был Суворов: пуля — дура… Ну, а тот, разумеется, сбежал за границу. Заяц.
— Ну, там его радушно не встретили, — усмехнулся Бугаев. — Кажется, его прикончил какой-то французский бретёр. Жаль, конечно, что пал не от русской руки…
Его высокопревосходительство молча поднялся из-за стола, давая понять, что дружеское общение на сегодня закончено и пора приступать к делам.
— А если подумать, — Бугаев тоже встал, — а что, кабы вовсе не было этого Пушкина? Жуковский был бы жив и в поздние лета создал свой шедевр. Им вдохновившись, расцвела бы русская словесность. Случилась бы у нас в Отечестве великая литература? Как мыслите, Аполлон Аполлонович?
— Я так мыслю, что история сослагательного наклонения не ведает, — строго заметил канцлер. — Да и что вам дались стишки?
— Уж признаюсь во грехе, — смутился молодой офицер, — я в молодости того… рифмоблудствовал. Даже издавал что-то. Подписывался для секретности «Андрей Белый». Дрянь, конечно, стишки. А на французском свиристеть, как всякие Бальмонты, не хотелось. Пришлось пойти по государственному поприщу. Верите ли, иногда грущу…
— Вздор, — решительно прервал его Аблеухов. — Займёмся насущным. Что у нас там с докладом?
— Закругляемся, Аполлон Аполлонович! К вечеру представлю первый вариант, вам под карандашик…
— Хм, к вечеру? К семи… а лучше к шести. Тогда я за вечер управлюсь. Что же, успеваем?
Молодой капитан ухмыльнулся, щёлкнул каблуками, накрыл голову левой ладонью, изображая головной убор, и приложил правую к виску.
Собачья жара (Автопародия)
Посвящается Андрею Кураеву
Римская Республика, Александрийский Мусейон.
961 год эры Христа Освободителя
Высокоучёный Аркисий Ном осторожно погрузил босые ступни в бассейн. Вода была подобающе подготовленной: горячей, но не обжигающей, с должным содержанием соли, целебной серы и пихтовой смолы. Аркисий был последователем школы гиппократика Дориона Коринфского, утверждающего, что действие воды и тепла на кожные покровы расслабляет и успокаивает. Сейчас он в этом особенно нуждался: последнее заседание Учёного Совета проходило бурно.
Купальня вмещала два бассейна и четыре ложа. На соседнем, довольно покряхтывая, возлежал логик Феомнест. Молодая слушательница-эфиоплянка только что сделала ему массаж, и теперь он блаженствовал, закутанный в горячие льняные простыни по самое горло.
— Обычный стариковский досуг, коллега, — сказал Аркисий, осторожно опуская ноги ниже, давая привыкнуть к жаре, — сидеть в тепле и болтать о пустяках.
— «Звёздный ярится Пёс», — процитировал Феомнест избитую алкееву строфу и повёл подбородком вверх, под купол.
В круглом окне бушевало египетское солнце. Недавно верхнее стекло сменили на затемнённое, но огненные клыки светила оказались крепче чёрного хорезмского хрусталя.
— Да, собачья жара, — откликнулся Аркисий.
— Простите невежду, — подал голос богослов Эбедагушта Марон, возлежащий на третьем ложе, — откуда взялось это выражение? Жарко, конечно, но при чём тут собаки?
Аркисий тем временем осторожно встал на дно бассейна. Дно было выложено галькой: в соответствии с учением Дориона, острые грани камней, врезаясь в подошвы, передавали телу некие благотворные токи. По правде сказать, высокоучёный Аркисий Ном в это не верил. Просто ему нравилось стоять босиком на гальке.
— Ты молод, — наставительно сказал он сирийцу, — как и ваш народ. А мы, греки, стары, и помним языческие байки. У нас был миф о пастухе Икарии, которому бог Дионис преподнёс мех с вином и научил виноделию. Икарий принёс вино в Аттику и напоил им крестьян. Но те приняли вино за яд из-за производимого им действия, и убили винодела. Дионис превратил его в созвездие Пастуха, а его невинную дочь, умершую от горя над телом отца — в созвездие Девы. Его же пёс Меру был превращён в созвездие Большого Пса…
— По другой легенде, в созвездие был превращён Лайлап, преследовавший Термесскую лисицу, — заметил Феомнест. — Весьма известная апория.
Арксий махнул рукой:
— У вас, у логиков, только апории на уме. Кстати, в чём заключается эта? Не могу вспомнить, — он потёр морщинистый лоб ладонью.
— Термесская лисица могла убежать от любой погони, а пёс Лайлап мог догнать любую добычу. Когда Лайлап погнался за Термесской лисицей, возник парадокс, и боги, чтобы не допустить разрушения умостроя Вселенной и ввержения её в хаос, превратили пса в созвездие, — охотно объяснил Феомнест, потягиваясь на ложе.
— Я слышал похожую историю от магистра Ли Хао, — осторожно заметил Марон, — только там речь шла о непробиваемом щите и всепробивающем копье. Но всё-таки: при чём тут жара?
— Главная звезда созвездия, — вернул себе слово Аркисий, — была названа Сириусом, или, по-латински, Каникулой, то есть «собачьей». Когда Солнце вступает в созвездие Псов, начинается жара.
— Весьма благочестивая история, — почтительно сказал Эбедагушта, осторожно вытягиваясь во весь рост. Ложе было коротковато для долговязого сирийца.
— Про Лайлапа? Да, боги поступили ответственно, в отличие от нашего правительства, — съязвил Аркисий, вспомнив о дебатах в Совете. — Эти готовы ввергнуть в хаос всё что угодно, лишь бы остаться на тёплых местах.
— Я имел в виду, — вежливо ответил Эбедагушта, — первый миф, о пастухе. Ведь он иносказательно повествует о Гае Кесаре Предтече. Тот принёс миру вино, то есть истинное Учение. Но народ не понял его, а Брут и Кассий, да простит Господь их души, убили святого. Однако, милостью Отца нашего душа Кесаря была вознесена на небо, то есть, согласно вашему мифу, стала созвездием. Созвездия являют путь кораблям, так и души праведников являют путь народам. Дева же, его оплакавшая, есть Церковь, Собрание Верных, ведомое истинным Солнцем, то есть Христом Августом Освободителем…
— Потрясающе! — воскликнул Феомнест и зааплодировал. — Если не считать того, что миф родился за тысячелетие до Воплощения, — добавил он ехидно.
— Сирийцы, — вздохнул Аркисий, — способны увидеть благочестивую аллегорию даже в таблице умножения.
— Достопочтенный авва Ксенайя сочинил подобное упражнение, — без тени улыбки ответствовал сириец. — Например, умножение двойки на единицу и наоборот объясняется как раз через историю Кесаря. Брут и Кассий, да простит Господь их души, убили Гая Юлия Кесаря. Кесарь же своей смертью явил миру две новые добродетели, которых не знал языческий мир — смирение перед волей Божьей и благодарность Творцу даже в несчастье… Но простите меня, я перебил вас. Так почему же вступление Солнца в созвездие Псов знаменуется столь неслыханной жарой?
— Это связано с вращением Земли… — начал было Аркисий, но Эбедагушта перебил:
— Да, я немного знаком с наукой о небе, но я имел в виду религию. Есть ли какое-нибудь символическое объяснение?
— Дон! Дин! Дон! — неожиданно прозвенела медная решётка приёмника. Потом раздалось чистое трезвучие: первая фигура первой тональности, основа основ музыкального строя. Это значило, что за ним последует экстренное правительственное сообщение.
— Внимание! — затрубил голос диктора. — Говорят все передающие станции Священной Римской Республики! Римские граждане! Сегодня, двенадцатого дня третьего месяца девятьсот шестьдесят первого года от рождества Спасителя нашего Кесаря Августа Христа, с Веспансианова мыса в провинции Северная Атлантида произведён запуск космического корабля «Аспер», ведомого человеком. Имя кормчего — Георгий Гагар, тебеец. Корабль построен Бехрамом Пур Шахом, сузянином, подготовкой полёта ведал Марк Элеазар Галлай из Никополиса.
Заиграла торжественная музыка, потом голос продолжил:
— Верховный Ординатор Римской Республики, Первый Гражданин Публий Фаларика выпустил обращение, в котором сказал, что отныне земная твердь перестаёт быть пределом устремлений Республики и Римского Народа. Запись обращения Верховного Ординатора прозвучит в начале вечерней стражи по римскому времени. Слава Римскому Народу!
Снова прозвучало основное трезвучие и приёмник отключился.
Присутствующие потрясённо молчали.
— Н-ничего себе, — пробормотал, наконец, Феомнест.
Эбедагушта рывком поднялся и обхватил голову руками, уподобившись известному изображению Августа Промыслителя.
— Я слышал о подготовке полёта, — сказал он, — хотя все говорили, что его перенесут на осень. Но почему именно сейчас?
— Политика, всего лишь политика, — пожал плечами Аркисий Ном, тщетно пытаясь придать своему голосу оттенок лёгкого презрения, подобающего интеллектуалу в разговоре о подобных предметах.
— Но всё-таки? — не отставал любопытный сириец.
— Всё очевидно, — с удовольствием вклинился Феомнест, который даже не пытался делать вид, что его не интересуют политические сплетни. — Фаларика даёт оплеуху Сенату. Даже не опеуху — это удар… Теперь они примут годовой бюджет без всяких поправок.
— Всем нужны деньги, — вздохнул сириец, — как будто в деньгах Всевышний.
— Фаларика вложил в космические исследования десять миллиардов сестерциев, — сказал Феомнест. — Несмотря на противодействие Сената. Интересно, где он их нашёл.
— Официально космическая программа финансируется из частных пожертвований, — вступил Аркисий. — Но я не думаю, что наши золотые пояса так просто расстались со своими сестерциями. Скорее всего, Первый Гражданин что-то кому-то пообещал. Думаю — втайне от Сената и народа Рима. Не думаю, что это принесло пользу отечеству.
— Что он мог пообещать такого, чего они не могли бы купить за деньги? — не понял Феомнест.
— Теперь это уже неважно, — скруглил тему сириец. — Если, конечно, корабль успешно вернётся на Землю и этот Йурий Гагар останется в живых.
Аркисий Ном слегка поморщился — варварское произношение греческого имени резануло слух.
— Знаете что? Я уверен, корабль уже вернулся, — Феомнест потянулся на ложе. — Иначе наш Ординатор не стал бы анонсировать такую речь… Гагар. Смешное прозвище. А ведь оно теперь войдёт в историю.
— Вот именно, — не утерпел высокоучёный Аркисий Ном. — Если бы Фаларика обращал хоть немного внимания на изящную словесность и больше думал о славе отечества, он подобрал бы для столь ответственной миссии человека с более подходящим именем. Что-нибудь вроде… — он задумался, подыскивая благозвучное прозвище… — скажем, Германа Тита…
— Боюсь, — перебил логик, — что создателей корабля более волновала телесная мощь и умственные способности кормчего. Скорее всего, они нашли лучшего из тех, кого можно было подготовить за столь краткий срок.
— И всё-таки! Какой-то Гагар, да ещё тибеец! — воздел руки к небу почтенный филолог. — Надеюсь, хотя бы его внешность подобает его деянию.
— Ну, такую ошибку они всё же не сделают, — заметил Феомнест. — Портрет этого тибейца будет отныне висеть на каждом углу.
— Я верю в наших мастеров, — улыбнулся Марон. — При должном тщании они могут облагородить даже звериный лик до человеческого, не нарушая при том сходства.
— Вот именно, — Аркисий Ном склонил голову. — Остаётся уповать на то, что нас обманут достаточно искусно. И всё из-за проклятой спешки в таком важном вопросе! Можно было подождать год-другой, пока для исполнения миссии не нашёлся бы человек, совершенный во всех решительно отношениях. Но нет, политиканство испортило страницы наших хроник. Просто я не знаю, что это…
— Сейчас сенаторы в загородных имениях спешно пакуют вещи, — усмехнулся Феомнест. — Наверняка спекулянты уже скупают билеты до Центральной Станции.
— Доколе, спекулянты, вы будете испытывать наше терпение, — Эбедагушта Марон, не вставая, резким движением выбросил вперёд правую руку, изображая оратора на площади, — вы, кровопийцы, преступно разоряющие наших обожаемых сенаторов, бедность коих вошла в римские пословицы…
Феомнест хихикнул.
— Следовало бы нашей пресловутой Инквизиции перестать преследовать инакомыслящих и взяться и за сенаторов, и за спекулянтов, — пробурчал Аркисий. — А излишки средств передать на нужды Мусейона, который, видит Всевышний, нуждается.
Высокоучёный Феомнест вёл подбающий учёному мужу скромный образ жизни и отличался редким бескорыстием. Но он постоянно ворчал по поводу недофинансирования Сенатом фундаментальных наук, особенно гуманитарных. Его возмущало, что естественнонаучные факультеты благоденствуют, в то время как филологи и историки, составлявшие славу древнего Мусейона, ютятся в постройках, воздвигнутых чуть ли ни до пришествия Освободителя.
— Доброго дня всем! — неожиданно раздалось над сводами зала.
— Хайре, — доброжелательно отозвался логик.
— Хайре, Световит, — аккуратно выговорил сириец, — Ты слышал новость?
— Ещё бы! — вошедший легко пересёк зал и начал устраиваться на свободном ложе.
Был он высок, светловолос, черты лица выдавали в нём славянина. Этот новый народ, чьи исконные нравы напоминали о древних спартанцах, за последнее столетие стремительно цивилизовался, но северная диковатость всё же давала о себе знать как в облике, так и в манерах.
Световит работал в самом сердце Мусейона, Вычислительном Центре, имея дело со сложнейшими устройствами. К сожалению, хорошее образование не мешало ему возлегать, не омывшись с дороги.
— Поздравляю, коллеги! Теперь всё будет по-другому, — начал он, по-варварски широко открывая рот, — пришла новая эпоха…
— Не вижу ничего особенно нового, — раздражённо сказал Аркисий, так и не поприветствовав вошедшего, — первый спутник был запущен лет двадцать назад. Тогда тоже ждали какую-то новую эпоху…
— Какой ещё спутник? — не понял Световит. — Я о главной новости!
— Я о полёте корабля с человеком, — недовольно заметил высокоучёный Ном.
— Ну да, и я о нём. На корабле была установлена станция цифропередачи. Мы установили прямую связь с Кесарией Атлантийской. Передано восемьсот мегаоктетов, связь устойчивая. Это значит, — завершил он, глядя на недоумённые лица слушателей, — что задача построения всеримской сети обмена данными решена.
— Ну да. Осталось поставить вычислитель в каждый дом, — съязвил Аркисий, — и радиостанцию.
— Радиостанции можно ставить в удобных местах и соединять с домами граждан проводами, — не принял иронии славянин, — а что касается вычислителей — кто видел новые машины хорезмской работы?
— Я видел, — заявил Феомнест, — они называются настольными, но не всякий стол выдержит такую тяжесть.
— Значит, новых ты не видел, — констатировал Световит. — Их привезли в Центр позавчера. Они и в самом деле настольные. Ёмкость постоянной памяти, — добавил он гордо, — пятьсот мегаоктетов. Рабочая частота вычислительного кристалла доходит до восьмидесяти килоэмпедоклов…
— Ничего не понимаю в октетах и эмпедоклах, — заворчал Аркисий Ном, почуяв, что разговор клонится в неинтересную для него сторону, — давайте лучше послушаем, что делается в мире, пока Фаларика не начал упражняться в красноречии. Световит, включи звук.
Молодой варвар покосился на высокоучёного Нома несколько недовольно, но перечить уважаемому старику, разумеется, не стал. Вместо этого он поднялся и выкрутил ручку приёмника до отказа.
— Вы слушаете первый канал, — загрохотало из-за решётки. — Новости…
— Пожалуйста, потише, — попросил Феомнест. — Невозможный грохот.
Славянин подкрутил звук и вернулся на место.
Все замолчали.
— Новости науки. В Берском Мусейоне объявлено, что обнаружен возбудитель болезни, известной как персидский огонь или северная язва. По заявлениям учёных, отыскание целебного средства следует ожидать в ближайшее время. Сенат Рима и Первый Гражданин Публий Фаларика объявил, что если средство будет найдено в течении года, Берский Мусейон будет представлен к награде и получит автономию…
— Автономию? Их так называемому Мусейону не исполнилось и двух веков! — не поверил своим ушам Ним. — Они лишились рассудка, наши сенаторы! Их пора отпаивать черемицей, и двойную дозу дать Первому Гражданину!
— Нашему Мусейону это ничем не угрожает, — вступился Феомнест. — Что касается чести, ведь мы не занимаемся инфекционными заболеваниями, не так ли?
— Потому что такие исследования опасны! — вскричал старик. — Я не хотел бы умереть от какой-нибудь скверной болезни, только потому, что неловкий лаборант разобьёт сосуд, — несколько успокоившись, добавил он.
— Вот именно, но кому-то надо это делать, — ответил Феомнест. — И те, кто уже двести лет подвергает свою жизнь опасности, заслуживают награды. В конце концов, основатель Бера, высокоучёный Гладиус, привил себе тиф, чтобы исследовать ход болезни.
— Лучше бы он не подавал таких ужасных примеров, — серьёзно сказал Эбедагушта Марон, — ибо подобные опыты над естеством могут стать орудием самоубийства, что является тягчайшим грехом перед Господом…
— Наместник Армении обратился в Римский Сенат с просьбой о долгосрочном кредите для постройки тоннеля, нужного для спасения обмелевшего Гегамского Моря… — зазвенела решётка.
— Опять траты! — взвился Аркисий, как будто деньги требовали с него лично. — Бесконечные траты! Теперь — на какое-то никчёмное море, в то время как наука задыхается от нехватки средств! Куда смотрит наша Инквизиция? — последнее он произнёс, почему-то покосившись на Световита.
— Да, средств не хватает, — неожиданно поддержал его славянин, — к тому же выплаты из казны задерживаются. Мы ещё не расплатились за те хорезмские машины.
— Я подавал прошение о новом комментированном издании «Принципов высшей логики» Гилберта Порфирского, — тут же припомнил Феомнест, — и до сих пор не получил ответа.
— Труды Гилберта весьма ценны для математики, — вежливо заметил Эбедагушта Марон, — но если не разобран архив аввы Дорофея, а это обедняет наше знание о предметах божественных. Что может быть важнее?
— Вот! — высокоучёный Ном торжествующе поднял руку. — Вот именно! Все разумные люди думают одинаково! Но нашим сенаторам нужны голоса избирателей, а не образованность и знания, — высказал он своё глубочайшее убеждение. — Поэтому прогресс и движется черепашьим шагом.
— Продолжаются бои в Южной Атлантиде близ Тиуанако, — забился о решётку хорошо поставленный голос оратора. — Вооружённые силы Римской Республики блокируют город. Условия, выдвинутые Римом, остаются прежними — полное прекращение человеческих жертвоприношений. По этому поводу демагог Гипербол огласил очередное обращение к Сенату, в котором от имени прогрессивной общественности потребовал прекратить агрессию и вывести римские войска. Обращение поступит к рассмотрению Сената завтра. А теперь — рекламная пауза…
— Выключите, — попросил Ном. — Ненавижу рекламу. Я бы вообще запретил перебивать важные политические новости криками торгашей. Вот уж от кого ещё меньше пользы отечеству, нежели даже от сенаторов! Просто я не знаю, что это…
— Лучше уж крики торгашей, — не выдержал Световит, которому пришлось снова вставать с ложа, — чем речи смутьяна Гипербола.
— Он честный человек и у него есть своя правда, — заявил Аркисий с какой-то неожиданной злостью.
— Ходят слухи, — понизив голос, сказал логик, — что этот Гипербол имеет отношение к… — он понизил голос ещё, — к некоторым специальным службам.
— К Инквизиции? Или к Провокации? — поинтересовался Световит таким тоном, каким спрашивают о погоде или о мелкой светской сплетне.
Отвечать никому не захотелось. Стало слышно, как шумит горячая вода в трубах.
— А по-моему, всё это сплетни, — отважился сломать молчание Аркисий Ном. — Распускаемые всё той же Провокацией, если хотите. Они любят выдавать честных людей за своих агентов.
— Если человек ведёт себя как провокатор, — заметил Феомнест, — значит, он таковым и является, состоит он на службе в Провокации или нет. Это называется «объективное вменение признака», аналогичный пример разобран Логвином в его парадоксе о мальчике, воспитанном амазонками, и не знающем о своём поле…
— Я уверен, что Гипербол честный человек, — упёрся Аркисий.
— Строго говоря, честность и служба в Провокации вполне совместимы, если у человека есть определённые убеждения, — принялся было за своё въедливый логик, но старик махнул рукой:
— Давайте не гадать о том, кто он такой, а послушаем, что он говорит. Всё ведь просто. Маленький народ отстаивает свою независимость, а римляне, такие гуманные и цивилизованные, пытаются принудить их жить по своим обычаям. В сущности, это крайне несправедливо.
— Их пытаются принудить не убивать людей перед статуями демонов, — кротко заметил Марон.
— Я не одобряю этого, — возвысил голос Ном, — но считаю, что добро нельзя творить с помощью насилия. Если они злы, это не значит, что мы должны им уподобляться во зле!
— Мы уже посылали к ним проповедников. Помните, что они с ними сделали? — так же кротко поинтересовался Эбедагушта.
— Я же сказал, что не одобряю насилия ни в каком виде! — взвился высокоучёный Ном. — Насилие порождает насилие, зло творит зло, неужели мы до сих пор не можем усвоить такой простой истины? Наша история темна и кровава! Сколько ещё веков понадобится нам, чтобы стать воистину разумными людьми?!
— О, кстати! — вдруг вспомнил Световит. — У Харитона вышел новый роман, как раз на историческую тему.
— Что Харитон может написать нового, если он давно умер? — удивился Эбедагушта Марон. — Или найдено какое-то неизвестное его произведение? Я читал в молодости повесть о Херее и Каллирое, она была недурна…
— Наш друг, — ответил логик, — говорил не про Харитона Афродисийского, но про современного сочинителя, фантаста в лукиановом духе. Если, конечно это тот Харитон, который родом из Мегалы.
— Он самый, — подтвердил Световит.
— Кстати, не понимаю, почему этот небольшой городишко называют «великим», — придрался Ном.
— Мегала по-славянски — Вышгород, в значении не «великий», а просто «высокий», — начал было объяснять Световит, но рассмеялся и махнул рукой, — хотя в Италии есть деревни больше нашей столицы. Пусть будет Мегала. Или Михала, как говорят славяне.
— Я что-то такое читал… — Ном потёр лоб. — Безвкусная политическая риторика. Что-то про заговоры против отечества.
— Политические взгляды его довольно радикальны, — признал логик, — но в литературном отношении он интересен.
— Он, кажется, ещё и противоаравийски настроен, — вспомнил Ном. — Приличные люди стоят выше подобных предрассудков.
— Ну почему же, — вступил Марон, — аравийские народы не любили многие великие мужи, вот тот же Ноам из Хомы — великий филолог, его теория порождающей грамматики перевернула науку. При том он постоянно обличает аравийцев, хоть сам аравиец по крови… Будем снисходительны. Читаем же мы того же Лукиана, несмотря на все заблуждения его относительно нашей святой веры? Световит, так что за новый роман?
— И где он издан? — заинтересовался Феомнест. — Пожалуй, куплю: почитаю на досуге.
— Пока нигде, — по-славянски развёл руками Световит. — Я читал я его с экрана вычислителя. Мне переслали его друзья из издательства, но я поклялся, что никому не покажу его, пока не выйдет книжка, а это нескоро. Иначе я нарушу римский закон об обращении данных.
— Закон суров, но это закон. Но рассказать-то о романе ты можешь? — осведомился Феомнест. — Неизвестно, когда ещё его издадут. А меня интересует не столько слог и мелкие детали, сколько общая идея.
— Слог важен, как и мелкие детали, — тут же возразил сириец, — в деталях обитает Бог. Но именно поэтому я не против того, чтобы узнать содержание заранее: ведь это не испортит мне удовольствия от чтения, если я буду это читать.
— Простите старика, — желчно сказал Аркисий, — но я лучше послушаю речь Гипербола, чем буду обсуждать творчество сомнительного писаки, от которого нет никакой пользы отечеству.
Все сконфуженно замолчали. Некоторое время было тихо, только плескалась вода в бассейне. Славянин нахмурился и внимательно посмотрел на высокоучёного Аркисия.
— Ладно, — наконец, махнул рукой старик. — Пожалуй, я погорячился. Световит, расскажите. Вы избавите меня от нужды знакомиться с этим сочинением.
— Хорошо, — не стал чиниться славянин. — Это так называемая альтернативка. Роман охватывает историю нашего мира, какой она могла бы быть, если бы история Персии сложилась иначе…
— Вот уж невыигрышный сюжет, — фыркнул Аркисий. — В истории Персии нет ровно ничего непредсказуемого. Если бы он избрал Египет или Лидию, это было бы, по крайней мере, любопытно. Но Персия?
— Это-то и интересно, — невежливо перебил славянин. — В эпоху царя Ахашвероша…
— Артаксеркса? Какого именно? — уточнил дотошный Аркисий.
— Самого первого, Благого. Так вот, в его правление случился такой эпизод: истребление племени иудеев. Около пятисот лет до Рождества Августа.
— Да, припоминаю, — наморщил лоб Аркисий. — Геноцид — ужасное преступление, но в те времена бывало и не такое. Хотя, — он сморщился ещё заметнее, напрягая ослабевшую память, — вроде бы племя с таким названием истребил бабилонский царь? Как же его звали? У него какое-то длинное неблагозвучное имя…
— По-гречески — Навуходоносор, — сказал логик. — Очень неудачливый правитель. Его внук, Бальтасар, или как его там, известен сказкой об огненной руке, начертавшей на стене некое пророчество, которое никто не смог прочитать, в чём можно усмотреть забавный логический парадокс…
— Припоминаю, — перебил его Эбедагушта Марон. — Один из сирийских отцов истолковал эту историю в благочестивом духе…
Аркисий Ном охнул и зажал уши ладонями. Друзья переглянулись и дружно рассмеялись.
— История такова, — принялся за рассказ Феомнест. — Племя иудеев попало в плен к бабилонянам, а потом к персам. Персы обращались с ними хорошо, и даже разрешили иудеям вернуться на родину, но они предпочли остаться в Персии. Там они захватили все ключевые позиции в торговле и в администрации. Сейчас нечто подобное говорят об аравийцах…
— Вот-вот, — встрепенулся Ном. — Я думаю, этот Харитон намекал именно на это, чтобы разжечь страсти.
— В общем, — перебил логик, — министр обороны Аман пошёл к царю и пожаловался ему на это несносное племя. Царь разрешил истребить тех иудеев, кто чинил обиды народу. Жертв было около семидесяти пяти тысяч, в основном тех, кто занимал хорошее положение. В дальнейшем, — в голосе Феомнеста послышалось некоторое сомнение, — Амана обвинили в жестокости и клевете на невинных. Кажется, в конце концов он был повешен… Но выжившие иудеи лишились своего положения и стали изгоями. Потом подобное случалось в иных местах, где иудеи обитали — кажется, этот народец успел надоесть всем. Остатки племени растворились в других племенах. Поговаривают, аравийцы произошли от тех самых иудеев, смешавшихся с какими-то другими чужестранцами, но это сомнительно, — закончил он.
— Авва Фалассий Ливийский писал что-то об этих иудеях в своей «Истории ересей и лжеучений», — припомнил Эбедагушта Марон. — Кажется, иудеи поклонялись некоему могущественному демону, называя его Богом и Творцом, чтобы снискать его милость?
— Такое учение контрадикторно противоположно учению гностиков, которые говорили, что сам Творец является могущественным злым демоном, — включился Феомнест, — и оба эти учения контрарно противостоят учению афеистов, согласно которому в мире не существует никаких духовных сущностей, ни добрых, ни злых…
— Можно мне продолжить? — перебил грубоватый славянин. — Харитон описывает, каков был стал мир, если иудеи не были бы истреблены. По его версии, из-за какой-то еврейской красавицы, соблазнившей персидского царя и оклеветавшей праведного Амана, царь передал всю власть её дяде, злодею Мордехаю. Под его началом иудеи уничтожили персидскую знать, вырезав всю элиту страны. После этого они стали действовать как настоящие грабители и вывезли из Персии огромные сокровища, тем самым навеки подорвав её мощь. Потом часть иудеев переселилась в местность, на которую они издревле посягали, и назвали её своим именем. Но большая часть племени осела в цивилизованных краях, в том числе и в Риме, где они достигли за счёт финансовых махинаций неслыханного могущества. В конце концов они приблизились к тому, чтобы захватить власть в самом Риме, а также в других царствах. Управлялись же иудеи из своей страны, где они выстроили храм их главного демона.
— Интересно, — вклинился Эбедагушта, — а как же Воплощение? Неужели Господь наш Август потерпел бы подобное? И как вывернулся этот Харитон?
— Тут он отступает от христианской веры, — вздохнул Световит. — По его версии истории, опасность, угрожавшая Вселенной от иудеев, была столь велика, что Творец воплотился не в Кесаряе Августе, как это было на самом деле, но в каком-то иудее, бродячем проповеднике. Он пошёл на это, чтобы разрушить еврейский заговор изнутри.
— Кощунство, к тому же неумное, — сириец повёл смуглыми плечами.
— Да, неудачно, — согласился логик. — Очевидно ведь, что Господь, став человеком, не мог не стать могущественнейшим из людей, что Он и совершил, выбрав участь величайшего правителя своего времени. Иначе как бы он освободил людей? Разве кто-нибудь, кроме Кесаря Августа, мог бы запретить рабство, сделав всех свободными, равно как и уравнять граждан и неграждан, патрициев и плебеев, открыв дорогу человеческим способностям?
— Вообще-то такие реформы пытались проводить многие правители, — принялся рассуждать высокоучёный Аркисий. — Даже в Египте был фараон, мечтавший о чём-то подобном, равно как и в Китае находились правители, любившие людей и мечтавшие о переменах. Что касается Персии, мы знаем, что последователи Маздака проповедовали полное равенство и общность имуществ…
— Это было уже после Воплощения Августа, — уточнил Феомнест, — и под влиянием его деяний. Интересный пример логической ошибки: вывод более сильного тезиса из менее сильного. Из равенства возможностей не следует равенства действительного, и равенство прав не означает равенства полномочий…
— Так или иначе, — перебил Эбедагушта, — никакой смертный правитель не способен провести такие реформы, так как за ними неизбежно следует всеобщий бунт сильных мира сего… Взят был Кесарь Христос бунтовщиками, ведомыми Пилатом Понтийским, сим Брутом новым, и судим был судом неправедным, и распят на конском ристалище, — нараспев прочёл благочестивый сириец из Краткого Евангелиона, — и страдал, и умер, и был погребён. И воскрес во славе, и покарал злодеев, и утвердил новый закон Рима. И по завершению славных деяний взошёл живым на Небеса, и сел одесную Отца. И паки грядёт со славою судить живых и мёртвых.
Собеседники замолчали. Всем представилось одно: Рим, Циркус Максимус, беснующаяся толпа, и посреди главной арены — высокий крест, к которому пригвождён истерзанный человек в золотом венце.
Даже скептик Аркисий невольно прошептал: «Господи Августе Христе, сыне Божий, помилуй нас».
— Но вернёмся же к нашим баранам, — отвлёк присутствующих от высоких переживаний Феомнест. — Что дальше?
— Дальше Харитон становится неубедителен, — признал Световит. — У него Кесарь Август — всего лишь человек, хотя и могущественный. Творец же, как и уже сказал, воплотился в нищем иудее, который своей проповедью подрывал единство иудеев, за что и был казнён.
— Пилатом? — на всякий случай уточнил логик.
— Да. В харитоновском романе Пилат — римский наместник в Иудее в должности перфекта. У Харитона он вступает в сговор с иудеями, распознавшими во Христе врага их мерзкой религии.
— Ну хоть это не лишено убедительности, — снизошёл Ном. — Что же дальше? Кесарь воскрес и покарал вредоносное племя?
— О воскресении Харитон пишет невнятно, — сказал Световит. — Во всяком случае, Рим остался языческим. Христианство же тайно распространилось среди иудеев, а потом и среди других народов. Но один из кесарей, Тит Праведный, узнаёт от христиан о злочестии иудейского племени и их планах по порабощению мира. Тогда он нападает на их страну и главный город, и даже разрушает храм, где они приносили своему демону кровавые жертвы. Иудеи, однако, успевают спасти свои сокровища, которые прятали в храме. Потом они умерщвляют праведного Тита с помощью какой-то женщины, иудейки, бывшей его тайной любовницей…
— Два раза один и тот же сюжетный ход? Плоско, — заметил Феомнест.
— После же, — продолжал славянин, — иудеи основывают заговор против Рима и всех людей, рассчитанный на столетия. Свои сокровища они тратят в основном на то, чтобы вскормить врагов цивилизации, ибо принимают решение стереть с лица Земли образованность и культуру и погрузить наше отечество и весь мир во мрак невежества…
— Ну, это уже полная чепуха, — сказал Аркисий. — Жизнь невозможно повернуть назад.
— Почему же? — не согласился Феогност. — Представьте себе, что, скажем, Мусейон был бы уничтожен пожаром, как при Гае Кесаре Предтече. Это не остановило бы прогресс, но задержало бы его надолго.
— Вот, вот именно! — Световит поднял палец. — Собственно, в романе описывается именно это, а всё остальное — лишь предыстория. Харитон написал книгу о том, как иудеи вложили средства в уничтожение Мусейона. В двести семьдесят третьем году они подкупили кесаря Аврелиана, который нуждался в деньгах для подавления бунта. Условием кредита было сожжение библиотеки Мусейона, что тот и исполнил.
— Дешёвая конспирология, — Аркисий Ном вытянулся на ложе до хруста в спине, — к тому времени уже существовало книгопечатание.
— В мире, измышленном Харитоном, иудеи не допустили его появления, — ответил Световит. — Они тайно убивали изобретателей и учёных, а если не могли — истребляли или порочили их труды. Так они поступили и с трудами Герона!
— То есть эолипил не было создан, и сила пара осталась неизвестной людям? — уточнил Феогност. — Мне кажется, это излишнее предположение. В мире, где сохранилось рабство, мускульная сила должна быть дешевле пара, особенно на первых порах. Только там, где рабочие руки стоят дорого, возникает потребность в технике. Труды Герона остались бы просто невостребованы…
— Давайте заканчивать, — попросил Аркисий. — Что там дальше?
— Я пока не дочитал до конца, — признался славянин. — Кажется, мир погружается в упадок, именуемый у Харитона Тёмными Веками. В эпилоге описывается наше время, представленное в виде диком и отталкивающем.
— Ну что ж, любопытно, — не без разочарования в голосе подытожил Феомнест, — хотя я ожидал от Харитона чего-нибудь более оригинального, с множественными перипетиями и неожиданным финалом. Похоже, ему не стоит браться за большую форму.
— Странно и непонятно, — добавил сириец, — зачем этому Харитону понадобилось богохульствовать, представляя Спасителя нашего в неподобающем виде. Это не только кощунственно, но и безвкусно…
— О, насчёт вкуса, — логик досадливо хлопнул себя по лбу, — как я мог забыть? Мой друг Камерарий, ботаник, путешествующий по Индии, вчера прислал мне корзину смокв необычайной сладости: интересный природный феномен. Я продегустировал их с охлаждённым белым хиосским вином — разумеется, в научных целях. Сочетание показалось мне интересным. Не желают ли коллеги принять участие в исследовании?
— Пожалуй, — оживился сириец, — сегодня ведь, кажется, вино дозволено.
— Суеверие, — не удержался высокоучёный Аркисий, — Христос Август не вводил никаких постов, всё это позднейшие выдумки суеверных людей.
— Стоит ли это обсуждать, — удивился логик, — ведь мы же говорим о фигах и вине, то есть о дозволенном в любом случае. Не всё ли равно, запрещено ли нам что-нибудь иное, если мы на него не посягаем? С логической точки зрения…
Световит демонстративно зажал уши.
— Кратко, но убедительно, — признал Феомнест. — Что ж, давайте справим скромные Плинтерии и не забудем про дар Икария.
— Простите невежду, — спросил Эбедагушта Марон, вставая с ложа, — но о чём идёт речь? Плинтерий — это какой-то древний бог?
— Плинтерии — языческий праздник в честь Афины-Мудрости, — принялся объяснять Феомнест, — он праздновался как раз в это время. Богине приносили в жертву фиги…
— Что касается смокв, — оживился богослов, — вчера мне попалось интересное толкование аввы Феона на притчу Августа о смоковнице, где он сравнивает её с Римом…
Логик открыл было рот — и поперхнулся.
— Иногда фига — это просто фига, — сказал он, откашявшись. — Давайте, что-ли, в самом деле попробуем плоды на вкус, а то наша беседа стала пресноватой.
— Тому виной неудачно избранная тема, — заметил сириец. — Что касается обсуждавшегося опуса, его цель кажется мне странной и непонятной, — добавил он.
— Но что страннее, что непонятнее всего — не удержался Аркисий, — это то, как авторы могут брать подобные сюжеты. Во-первых, пользы отечеству решительно никакой. Во-вторых… — он запнулся, потом решительно махнул рукой, — но и во-вторых тоже нет пользы. Просто я не знаю, что это…
— Ах да, — Световит звонко хлопнул себя по лбу. — Я хотел переговорить с высокоучёным Номом по одному вопросу. Мы присоединимся позже, — бросил он логику и богослову.
Феомнест кинул на него странный задумчивый взгляд и вышел. Следом прошлёпал босыми ногами сириец.
Световит прислушался к шагам. Когда те затихли, он повернулся к Аркисию, сидящему на ложе.
Старик смотрел на Световита тяжёлым взглядом исподлобья.
— Fac quod debes, — сказал тот на латинском, — у тебя есть три месяца.
— Я не буду разговаривать на языке приказов, — решительно сказал старый учёный. — В любом случае, я ничего не должен. Принуждение не есть долг, как сказал бы Феомнест.
— Я могу повторить то же самое по-гречески, — холодно сказал Световит, — но смысл от этого не изменится. Ты прекрасно понял, что должен сделать и к какому времени.
— Три месяца? Даже если бы я согласился, это невозможно, — старик выставил перед собой руку, закрываясь от Свентовита. — У меня уходит не меньше недели на маленький рассказ.
— Брось, — резко оборвал его славянин. — Ты ведь написал за месяц ту непристойную повесть, подписанную аравийским именем?
Аркисий посмотрел на того с бессильной злостью.
— Если это тебя утешит, — добавил славянин, — вспомни Овидия. Он тоже пострадал из-за допущенной им непристойности.
— Чрезвычайно лестное сравнение, — сказал Аркисий с горечью, — но неточное. Овидия всего лишь сослали, а не заставляли писать под диктовку офицера Провокации. К тому же Спаситель Август его всё-таки простил.
— Странно было бы, если бы тайная служба была милосерднее самого Господа Нашего, — усмехнулся Световит. — В конце концов, чем ты недоволен? Ты не в тюрьме, не в ссылке. За свою работу ты получаешь вполне приличные деньги. К славе ты не стремился, даже наоборот — скрывал авторство. Страсть к злословию ты удовлетворяешь за наш счёт, причём твои сочинения не передаются тайно их рук в руки, как прежде, а публикуются уважаемыми издательствами…
— Мой Харитон непопулярен, — заметил старик. — Последняя книжка до сих пор пылится в книгохранилищах.
— Пусть тебя это не заботит, — поморщился славянин. — Важно, что её прочли несколько владельцев вилл в Альбанских холмах.
— Это важно вам, но не мне, — отбрил высокоучёный Ном.
— А разве не важна польза отечества? — нажал Световит. — Ты делаешь то, что доступно немногим — предотвращаешь злые умыслы.
— Я в это не верю, — старик глянул на собеседника исподлобья. — Зачем вам мой стилус, когда у вас есть мечи?
— Я объяснял тебе это много раз, — сказал офицер, подавляя зевок. — Когда злодеяние совершено, мы имеем право пользоваться мечами. Такими делами занимается Инквизиция. Но если нужно заранее разрушить замыслы противника, потребны иные средства. Для этого и существует Провокация. У нас есть свой арсенал средств, начиная от подкупа и шантажа…
— Вот именно, — не удержался Аркисий. — Это-то вы умеете.
— Да, и это тоже, — офицер не изменился в лице, — но иногда нужно воздействовать не на страхи и пороки человека, а поразить самый корень его намерений, то есть воображение. В частности, когда человек читает в развлекательной книжке о том самом, о чём он думает ночами, это не просто пугает, это сковывает волю. Многие преступные и нелепые замыслы были убиты в зародыше именно таким способом.
— По-моему, вы морочите голову и себе и начальству. Но вас не переубедить, — Аркисий бессильно уронил руки на колени. — К чему такой запутанный сюжет? И на кого в данном случае намёк? Опять на козни аравийцев? Вам не надоело?
— Чрезвычайно, — ответил Световит искренне. — Но пока аравийцы существуют, с этим придётся считаться. Золото, которое получают демагоги вроде Гипербола — аравийское.
— Вы так боитесь этого Гипербола? — усмехнулся старик. — До чего силён Рим, овладевший миром, но не могущий победить одного человека!
— Мы овладели миром, потому что не относились с пренебрежением ни к одному человеку, — ответил Световит, — и вовремя вырывали с корнем те слабые ростки, из которых могли вырасти большие беды. Гипербол — как раз такой росток. Но сейчас речь не о нём. А о другом, чьё имя ты сегодня услышал. Георгий Гагар, кормчий «Аспера», первого космического корабля. Настоящее имя его — Ури Хагар, и он аравиец. Сегодня он стал знаменитым. У знаменитых людей может быть большое будущее в политике. Нас это беспокоит. Как и слепая страсть Первого Гражданина к космическим исследованиям.
— Но если вы это знали, почему? — Ном не договорил.
— А кто, по-твоему, оплатил космическую программу? Фаларика взял деньги у аравийцев. Иначе наш Первый Гражданин не отчитался бы перед Сенатом, и с ним бы сделали то, что ты так красочно описал в своём злополучном опусе.
— Если вы так боитесь, — Аркисий Ном посмотрел в лицо офицеру, — что вам стоит устроить этому Гагару несчастный случай во время полёта? Или Инквизиция неспособна на такую жестокость?
— Мы способны на многое, — заметил Световит. — Но мы не желаем Гагару зла, он смелый человек. Пусть только наш новый Икар поймёт, что его крылья скреплены воском, и если он поднимется слишком высоко, Солнце этот воск растопит, а он падёт. Впрочем, объяснить это нужно не Икару, а Дедалу. То есть тем, кто запустил его в полёт. И я не имею в виду уважаемых инженеров… Поэтому ты напишешь для нас историю о кесаре Аврелиане, который непредусмотрительно взял деньги из рук некоего маленького народца с большими амбициями.
— А что случится потом с этим Аврелианом? — поинтересовался Ном.
— Думаю, ничего хорошего, — Световит неприятно улыбнулся. — Скорее всего, он погибнет. Например, будет зарезан своим секретарём, тайным иудеем, опасающийся разоблачения. Надеюсь, ты понял?
— Даже так? — спросил учёный. — Боюсь, — продолжил он после паузы, — что я не возьмусь за такую работу. Можете обнародовать авторство той злосчастной повести. В обоих случаях могущественнейший человек станет моим врагом: или за то, что я смеялся над ним, или за то, что ему угрожал. Сильные мира сего ещё могут простить насмешку, даже грубую, но не прощают тех, кто пытается воздействовать на их волю, лишая уверенности.
— В таком случае, — развёл руками Световит, — все узнают правду об авторстве той повестушки. Кроме того, боюсь, что вопрос о финансировании гуманитарных наук в Мусейоне будет поставлен на следующем же заседании Сената. Могут быть приняты крайне радикальные решения, в том числе и кадровые. А Фаларику ты переоцениваешь. Наш Координатор достаточно мелок, чтобы опуститься до личной мести за глумление над своей священной персоной, но испугается намёка на крупные неприятности… Пожалуй, я пойду. Займусь вином и фигами, если от них ещё что-нибудь осталось.
— Подожди. Почему вам нужен именно я? — Аркисий Ном посмотрел на своего мучителя с мольбой. — У вас полно дешёвых писак, они написали бы всё, что нужно вашей конторе…
— Нашей конторе не нужны дешёвые писаки. Чтобы воздействовать на воображение умных людей, нужен дар. У тебя он есть, — сказал Световит. — Поэтому мы и возимся с тобой. Хотя, признаться, мне это в тягость.
— И всё-таки это подло, — процедил старик сквозь зубы. — Вы подловили меня на невинной, в сущности, вещи. Ну да, я написал этот злосчастное продолжение «Херея и Каллирои»! Да, я подписал его именем Йудика из Шерм! Да, я позволил себе… некоторые вольности с героями! Но я не имел в виду… я не хотел всерьёз… Это была всего лишь литературная шутка!
— В таком случае считай, что ты неудачно пошутил, — отрезал Световит. — Например, непристойная сцена в бане с участием Первого Гражданина была не совсем хороша. И тебе придётся после этого прошутить немного больше и дольше, нежели ты предполагал.
Горлум и Ласталайка
«…Однако, в староанглийском языке наречие а, означавшее „всегда, вечно“ — сокращенная форма от полной формы awa, родственной латинскому aevum и греческому aion, что, вопреки общепринятому пониманию этого слова…» — Толкиен потянулся за линейкой. Тонкая полоска китайской бронзы легла вдоль строки. Профессор чуть помедлил, потом одним взмахом вычеркнул из рукописи ненужный период. Подумал о том, что ему хочется йогурта и апельсинового сока, а в доме есть только холодная индейка и несколько перезрелых бананов. К тому же за едой нужно идти в дом. Нет уж, не по такой погоде. Лучше сварить кофе на спиртовке.
С улицы донёсся далёкий звук хлопающей на ветру парусины. На крыше зашебуршились вороны.
Профессор вытянулся в кресле и зажмурился, внимая шуму дождя и грохоту вороньих лап по жестяной кровле. Лучший дар Илуватара смертным — одиночество. И ещё, пожалуй, мужская дружба. В сущности, это одно и то же.
Надо будет посвятить статью Дэвиду. Кто о нём сейчас помнит? Вдова? Вряд ли. Женские слёзы быстро высыхают, об этом всё сказали скальды. Он попытался вспомнить подходящее к случаю древнеисландское стихотворение, но память осталась тёмной и пустой. В последние годы это с ним случается всё чаще.
Ветка клёна осторожно коснулась оконного стекла, помаячила немного в окне, потом пропала.
Всё-таки этот маленький кабинет в старом гараже, вне дома — самое любимое его место. Раньше он прятался здесь от Эдит. В последние годы она стала совсем невыносимой. Почему женщины не хотят принимать жизнь как она есть? Он делал то, что должен был делать. И достиг успеха. Что касается цены, то за это обычно платят гораздо дороже, она должна бы это понять… В конце концов, он всего лишь человек.
Впрочем, Эдит хорошо готовила кофе. И бельё всегда было по-настоящему чистым, не то что теперь.
Толкиен кожей чувствовал, что рубашку пора менять. Или это ему теперь надо чаще брать ванну? В последнее время он стал ощущать в своём дыхании неприятную примесь — кисловатый запашок больных внутренностей. Н-да, это старость. Странное время: ничего не хочется, только длиться и длиться, как вода в реке. Жить. И всё. Ну, или почти всё. Есть ещё некоторые вещи, которые…
Всё, хватит, об этом не надо думать. Закругляемся с вводной частью.
«…Сочетание индоевропейского ne и a в cтароанглийском дало наречие na, „никогда“. Вместе с существительным wight, „существо“, оно породило слово nawiht со значением „ничего“ — которое перешло в noht и развилось в форму постглагольного отрицания, not.»
Профессор усмехнулся: в Книге он воскресил давно умершее wight, использовав его для именования нежити, живущей в курганах, barrow-wight. Красивое, весомое слово, достойное Оксфордского словаря.
Профессор вновь занёс перо над бумагой — и тут незапертая дверь распахнулась настежь. В комнату ворвался вихрь, пронёсся над письменным столом, разворошил рукописи. Жалобно звякнула бронзовая линейка.
На пороге стояла босая, насквозь промокшая девушка в узеньких шортиках и закатанной на животе майке с надписью «Who killed Bamby?». У её ног лежала огромная бесформенная сумка.
— Я промокла, — заявила девушка совершенно будничным голосом. Вошла. Осмотрелась. Подобрала сумку, бросила у порога.
— Дверь только закройте, — проворчал профессор.
Девушка с шумом захлопнула за собой дверь.
— У вас тут миленько, но тесно, — сообщила она, пытаясь отклеить от щеки мокрую прядь цвета воронова крыла. — Можно, я сниму майку? Ненавижу мокрое.
Толкиен подумал, потом кивнул.
— Там у меня сиськи, — предупредила девушка, закрывая за собой дверь. — Можете отвернуться. Или посмотреть хочется?
— Я ещё помню, что это такое, но давно не числю в списке интересов, — усмехнулся Толкиен, разглядывая девушку. Без интереса, но внимательно — как невычитанную корректуру.
— Врёте, — заявила гостья, — Все вы, старые хрычи, одинаковые. Только бы на молодые дойки попялиться. Ну и ладно. Нате вам.
Она стянула майку через голову. У неё была маленькая грудь с остренькими, съёжившимся от холода коричневыми сосочками, торчащими чуть в разные стороны, как рожки.
Потом, испытующе взглянув на профессора, девушка расстегнула шортики.
— Это… тоже… мокрое, — сочла нужным она объясниться, прыгая на одной ноге и с трудом выдирая другую из сбившегося комка мокрой ткани, — не… ненави… жу… ой! — она взмахнула руками, ловя равновесие, и звонко шлёпнула ладонью о покосившийся книжный шкаф. Сверху зашуршало, и с верхней полки слетели два пожелтевших листочка какой-то старой рукописи. Девушка выхватила из воздуха один листок, просмотрела. В недоумении свела брови.
— Бросьте, — не меняя тона, сказал профессор. — Это не то, что вас может заинтересовать.
— Откуда вы знаете? А, ну да, к вам же постоянно лезут. Поклонники, да? А чего вы сидите, когда дама стоит? У вас в Англии так не принято, — она переступила ногами, выбираясь из своей одежды. Потом вытерла об неё ноги.
— Тут вроде чисто, — извиняющимся тоном сказала она, — а я с ногами грязными. Ну так можно сесть?
— Вы умеете делать кофе? — спросил Толкиен, и, не дожидаясь ответа, встал, и начал возиться со спиртовкой.
— Ненавижу кофе. То есть кофе люблю, готовить ненавижу. У меня всегда пенка убегает. Зато я умею жарить цыплят. Я родилась в штате Кентукки. Это такая дыра… А вы ведь, наверное, сноб и шовинист. Не любите американцев. У нас нет культуры? Нет интересных людей, да?
— Ну что вы… Я уверен, что в Америке есть великое множество умных, интересных, и в высшей степени культурных людей… Просто они слишком хорошо воспитаны, чтобы быть заметными широкой публике, — спокойно ответил профессор, осторожно насыпая в турку кофейный порошок из жестянки.
— Это шутка? Ненавижу английский юмор. Фу, готовый порошок. Мне один чёрный парень говорил: кофе надо молоть самому. Должна быть эта штука… ручная мельница, — девушка забралась с ногами в профессорское кресло, обняв руками колени. Между худеньких ножек виднелась плохо выбритая промежность.
— Давайте так, — не оборачиваясь, произнёс Толкиен. — Будем считать, что вы отчаянно трусите, и поэтому ведёте себя вызывающе. Тем самым вы пытаетесь сломать те сценарии разговора, которые вы успели сочинить. И, как всякий неумелый сочинитель, надеетесь выйти из положения, нагромождая аффекты. Оскар Уальд был прав в одном: недостаток воображения — это грех. Я даже иногда думаю, что таков всякий грех. Во всяком случае, худшие вещи в мире порождены именно недостатком воображения. Например, фашизм. Или коммунизм. Или Реформация. Да и падение наших прародителей, если уж на то пошло, случилось по той же самой причине.
— Я вообще-то левая, — девушка рассеянно водила взглядом по потолку. — Даже хотела сделать себе на сиськах татуировки. Вокруг каждого соска красная звезда. Здорово? Я думаю, это очень сексуально, — жалобно добавила она.
— Вы опять за своё, — профессор ловко убрал с огня турку с поднимающейся шапкой бурой пены, — я же сказал, что нагромождение аффектов — это верный признак вялой фантазии, а в данном случае мне не хочется в это верить…
— Только не выгоняйте меня. Я никуда не пойду, — девушка сжалась в кресле. — У меня проблема, я приехала поговорить с вами о ней, и я не уйду просто так.
— Ну разумеется, не уйдёте. За этим вы и мокли под дождём, за этим и раздевались, за этим и вытирали ноги об эти свои штанишки. Кто же выбросит на улицу голую мокрую девушку? А в сумке, я так понимаю, лежит чистое и сухое? И складной зонт?
Девушка промолчала.
— Вы кладёте сахар в кофе? Я не кладу, — Толкиен разлил ароматный напиток по чашечкам. — Успокойтесь, я вас не выгоню. Но оденьтесь всё-таки. Я не ханжа, но я за соблюдение приличий.
— Нра-авственность, — забавно сморщила нос гостья. — Прили-и-ичия.
— Скорее уж, здравый смысл и серьёзное отношение к жизни. Наши предки, рыцари и разбойники, знали, что меч должен покидать ножны только в бою. Женское тело — тот же меч: оно создано Богом, чтобы поражать мужчину. В иное время его следует скрывать. Надеюсь, вы пришли сюда не для того, чтобы заняться, э-э-э, чем-то таким, для чего необходимо обнажиться?
— Бр-р-р! — девушка содрогнулась. — То есть я… ну это…
— Да, да, понимаю. У меня ещё осталось сколько-то мужского чутья, чтобы понять, что вы девственница. То наивное бесстыдство, с которым вы показывали мне себя, это подтверждает. Хотя и не делает чести вашей изобретательности. Видимо, вам кто-то сказал, что старики безопасны, но при этом их легко шокировать. Вот, возьмите, — он положил сумку на подлокотник.
— А вы не очень-то вежливы, — огрызнулась гостья, держа открытую сумку за ручки, и сосредоточенно вытряхивая себе на колени ворох разноцветного тряпья.
— Простите за бестактность, но вы тоже со мной не церемонились. Да, а где ваш автомобиль? Вы ведь приехали на автомобиле? Впрочем, наши местные нравы не успели испортиться окончательно. Скорее всего, вы можете не беспокоиться за сохранность своего имущества… Я, однако, никак не могу привыкнуть к женщинам за рулём.
— У нас без этого сложно жить, — пробормотала девушка, укутываясь в пушистый оранжевый халат. На её ногах болтались мягкие тапочки-котята с коричневыми плюшевыми ушками.
— Вот теперь другое дело. Можно и разговаривать… Возьмите вашу чашку.
— Вы прям Гэндальф, — впервые улыбнулась гостья и сделала глоток. — И чисто тут… — девушка одним движением скинула груду тряпок прямо на пол. — И кофе волшебный! — она заискивающе улыбнулась.
— Скорее уж, я похож на Шалтая-Болтая… Кофе как кофе. Всего лишь дополнительная ложечка харари, и кое-какие специи. На самом деле в этом магическом искусстве я полный профан. Моя Лучиэль обращалась с туркой и кофейником не в пример ловчее…
— Лучиэль? Это что, ваша… ой! — девушка еле успела подхватить коварно сползающий с плеч халат.
— Эдит, — сухо пояснил Толкиен. — Моя жена. Она умерла.
— Я знаю. Я про вас вообще всё знаю, — гостья неожиданно сменила тон, — ну, из того, что опубликовано было. Три месяца подряд читала муть всякую. Ну почему я никак не могу начать? Я прилетела в эту дурацкую Англию… извините, не дурацкую, конечно. Это мне сначала так показалось. Потом потусовалась в Лондоне, привыкла. Начала чего-то понимать. Англичане на самом деле прикольные, только это не сразу видно.
— Ничего. Обычная реакция американца. Привыкнуть — значит понять. Очень характерно. В то время как для человека культурного дело обстоит как раз наоборот: понимание начинается с удивления. Это сказал Аристотель.
— Я… я не очень хорошо знаю классику, — гостья слегка смутилась. — Аристотель — это который «Фауста» написал?
Толкиен не сдержался и фыркнул. Девушка не обратила на это внимания.
— Профессор, у меня проблема. Я могу поговорить о ней только с вами. Понимаете ли, вот в чём дело… Я — эльф.
Толкиен ничего не ответил.
— Я понимаю, как это звучит. Дурацки, да. К вам, небось, постоянно такие ходят. Начитались Книги, и теперь воображают себя… эльфами, гномами. Хоббитами там всякими. Но со мной всё по-другому. Я не тот случай. Я правда эльф. Понимаете?
— Пока что, — Толкиен аккуратно отставил чашечку с кофе, — я не знаю даже, как вас зовут. Мне ли судить о том, кто вы на самом деле?
— Ласталайка, — голос девушки дрогнул. — Это моё имя.
— Ласталайка… На квенье — «остроухая». Конечно, понимаю. Вы предпочитаете воображать себя эльфийской принцессой?
— Нет. Не принцессой… Я не знаю, кто я. Я только знаю, что я эльф… Понимаете, я жила… ну как такая обычная девчонка из провинции. Без странностей. Ну, то-сё, поехала учиться. У нас в кампусе Книга популярна, даже если кто не читал, всё равно знают. Знаете, «Фродо жив», и всё такое? Ну вот оно самое. С этого всё пошло.
— Простите, я плохо воспринимаю на слух ваш, э-э-э, американский язык, — Толкиен снова взял чашечку, и сделал крохотный глоток. — Пока что я понял следующее. Вы — студентка какого-то американского колледжа, которая прочитала мою скромную писанину. Вам понравилась книга?
— Ну-у… не то чтобы не понравилась… — девушка помолчала, потом, решившись, выпалила: — Можно честно?
— Можно? Скорее, желательно, — тон профессора, впрочем, стал чуть суше.
— Я не дочитала. Скукотища потому что. Вот.
Профессор хмыкнул.
— По крайней мере, вы откровенны, милая барышня…
— Только вы не подумайте чего, — на глазах девушки неожиданно выступили слёзы, — это я такая дура, а у нас все ребята и девчонки с ума сходили. Вот у меня подруга есть, Сара… той сны снятся про эльфов. Они с ней разговаривали на квенье. Вообще-то она еврейка, — некстати добавила девушка, — у неё всегда был интерес к своим корням, к предкам, всё такое. Это сейчас модно. Она мне рассказывала, когда учила этот свой иврит, ну у неё было такое чувство, как будто вспоминала. Как будто в детстве говорила на этом языке, но забыла, а теперь вспомнила. А потом то же самое говорила про эльфов. И квенью она выучила очень быстро. Тоже, говорит, идёт как родной язык. Говорит, в неё всё внутри перевернулось. Мне кажется, она слишком впечатлительная, — девушка вздохнула. — У меня ничего такого не было. А потом начались знаки. И получается, что я эльф. Такие вот дела. Я потом много про эльфов прочитала. И у вас, и вообще.
— Лучше бы вы читали учебники, милая барышня, — вздохнул профессор.
— Я читала учебники. Я по психологии специализируюсь. И хожу к психоаналитику, кстати.
— Какая гадость… и недешёвая к тому же?
— Мне родители оплачивают, — призналась девушка.
— Н-да. Вы, значит, отдаёте себе отчёт в том, что у вас есть родители, и они отнюдь не эльфы? Надеюсь, вы не воображаете себя приёмным ребёнком? Как я слышал, это распространённая фантазия…
— Я и есть приёмная, — обиженно сказала гостья, — чего мне воображать-то? Но я очень люблю маму и папу. Они меня взяли, когда мне годика не было. Мне всё сказали, когда я стала понимать такие вещи. Мои родители очень ответственные. Папа мне даже разрешил называть себя по имени, а не папой. Но я всё равно зову его папой. Только у меня к нему нет эдипова комплекса, или как он там для девочек называется? В общем, у меня его нету. То есть я не хочу с ним трахнуться. Это неправильно, наверное, потому что должен быть эдипов комплекс. Ну я вообще не очень насчёт секса, если честно. Я, наверное, ещё не готова к таким отношениям. Вы только не подумайте чего, я современная девушка, я феминистка. И понимаю, что чувственность надо развивать и освобождать…
— Теперь слово «чувственность» означает то, что раньше именовали «испорченностью», — вздохнул профессор. — Освобождать её не надо, от неё надо освобождаться. Хотя это и сложно. Вам в колледже рассказывали что-нибудь о десяти заповедях? Хотя бы на каком-нибудь спецкурсе по сравнительной антропологии? Или изучение культуры белых людей в вашей замечательной стране теперь не поощряется?
— Я всё время не о том говорю, а вы меня ещё подначиваете! — девушка всхлипнула.
— Ну прекратите же, Ласта… Кстати, Ласталайка, а как вас называют мама с папой?
— Так и зовут. Я им сказала, что это моё имя. Они уважают мой выбор. Они у меня замечательные. И они меня нисколечко не угнетают. Только боятся за меня очень.
— А сокурсники и преподаватели?
Девушка сердито сверкнула глазами.
— Они считают меня дурой набитой. И у них всегда такой вид, будто я им котёнок какой-то. И меня достаточно погладить по головке, чтобы успокоить. Ненавижу!
— В детстве я тоже ненавидел этот жест. Ласка как знак презрения — в этом есть что-то противоестественное. Впрочем, вся наша так называемая цивилизация противоестественна. Не сочтите за стариковское ворчание. Я и в самом деле так думаю.
— Ну вы опять за своё… Короче, потом были знаки. Слушайте, пожалуйста! Мне кажется, вы не слушаете.
— Я и так уже слушаю вас довольно долго, причём стою на ногах, а мне это уже в тягость…
— Могли бы и лишний стул завести! Извините. Я совсем коротко. Понимаете, на втором курсе я влюбилась.
— До чего оригинальное начало…
— Ну послушайте же! Я влюбилась. В нормального такого парня. Он хирург. Косметолог. Модная профессия. Я хотела за него замуж. Он был не против. Он даже не заставлял меня… ну, это… трахаться. Согласился подождать до свадьбы. Очень мило с его стороны, вы не находите? Мы обручились. Он меня даже познакомил с родителями, коллегами по работе, и научным руководителем.
— А вот это и в самом деле оригинально…
— А потом он мне позвонил, и сказал, что я его обманула. Что не рассказала ему кое-чего очень-очень важного. И что ему нужны нормальные, красивые дети, которым никогда не понадобится хирург… И что я хотела за него замуж потому, что знала… что он понадобится… — на этот раз девушке удалось удержаться от слёз.
— Что?
— Научный руководитель ему сказал, что я подвергалась пластической операции. В детстве. Он на этом собаку съел, и видит следы вмешательства не хуже рентгена. Он сказал, что меня исправляли. Что у меня подрезаны ушные хрящи. Я поклялась, что этого не было. А любимый мне не поверил, и мы расстались… то есть он меня бросил. Для него было важно доверие. Знаете, консервативная семья и всё такое.
— Да, понимаю.
— Я потом спрашивала у родителей. Они посмеялись. Сказали, что ничего такого не было. Что меня не резали. Тогда я пошла в клинику. Заплатила за обследование. Сказала, что это вопрос денег. Что от результата зависит установление отцовства, и может потребоваться экспертное заключение. Наплела им, короче, с три короба. Они отнеслись серьёзно. Подтвердили, что ушные хрящи как-то хитро подрезаны. Скорее всего, в раннем детстве, или даже во младенчестве. Очень тонкая работа — чтобы ушки выросли как надо. У меня должны были быть острые уши!
— Значит, поэтому и Ласталайка? Н-да… Итак, у вас есть на руках врачебное заключение о том, что вы подверглись пластической операции. Какое отношение это имеет к эльфам? Я, кстати, нигде не писал о том, что у эльфов заострённые уши.
— Подождите, профессор, я так путаюсь. Про уши я рассказала. А потом я нашла у себя на теле… татуировку. На очень необычном месте. На ноге… то есть на ступне. На подошве. Вот.
Она скинула тапочек, показав грязную ногу. В ложбинке между пальцами и пяткой что-то синело.
— Так не видно. Вы посмотрите. Там какая-то надпись. На квенье. Я смотрела в зеркало. Там надпись.
— Смотреть? Зачем? Я вам и так верю… И что же?
— Но я не делала никаких татуировок! Я не так воспитана, чтобы делать татуировки. Я спросила маму и папу. Они сказали, что это всегда было на мне. Но ведь Книга появилась позже! Как могла появиться на ноге эта надпись? Как?
— И что там написано? Простите, милая барышня, но разглядывать ваши ступни я сейчас не буду.
— Там написано «Ласталайка, госпожа». Я так поняла, что это моё имя. И ещё есть вторая надпись, между пальцами ноги. Там написано…
— Чувствую, это надолго. Я, пожалуй, всё-таки принесу себе из дома что-нибудь, на чём можно сидеть. Подождите.
— Не надо! Я… я сейчас слезу… Чёрт, я на столе могу посидеть! Я хочу сказать, что там написано, крошечными такими буковками…
— Ну уж нет! Сначала вы заняли моё кресло, теперь не хотите, чтобы я уходил. Подождёте, не маленькая.
Толкиен ловко достал из-за шкафа огромный зонт с резной деревянной рукоятью. Подошёл к двери, открыл, немного постоял на пороге, вглядываясь в тёмную пелену дождя. Потом, кряхтя, потянул за рукоять зонта. Раскрывшийся купол загородил дверной проём. Старик сделал шаг, второй, водяная пыль размыла контуры фигуры, заштриховала, зачеркнула.
Ворона на крыше захлопала тяжёлыми крыльями и хрипло каркнула. Через миг эти звуки были смыты немолчным шумом ливня.
Гостья немного подождала, вглядываясь в темноту. Потом встала, закрыла дверь, и подошла к столу.
* * *
Профессора не было довольно долго. Когда он вернулся со складным стулом под мышкой, то застал гостью задремавшей в кресле. Бумаги на столе были разбросаны, один ящик выдвинут.
Толкиен с трудом пристроил сушиться мокрый зонт: вздувшийся чёрный горб занял полкомнаты. Потом раскрыл стул, и кое-как устроился на неудобном сиденье.
— Проснись, Ласталайка, — тихо сказал он. — Проснись.
Девушка вздрогнула, захлопала глазами, очумело завертела головой.
— Это что?.. А, ну да. Извините. Я что-то говорила, а потом вы ушли…
— Это уже неважно. У нас мало времени.
Лицо девушки приобрело более осмысленное выражение.
— Нам надо поторопиться. Скоро они будут здесь. Но сначала я должен тебе кое-что рассказать.
Гостья наморщила лобик, потом испуганно посмотрела на профессора.
— Кто — они? Кто будет здесь?
— Эльфы. Ты и в самом деле эльф, деточка. Таких, как ты, эльфы называют «потерянными детьми».
Дождь пошёл сильнее. Водяные жгуты разбивались насмерть о раскисшую землю.
— Я заснула. Мне приснился гусь в камилавке, — невпопад сказала девушка. — Мама говорит, это к добру. Ну такая типа примета.
Профессор ничего не ответил.
— Так Средиземье существует? — выдавила из себя гостья.
— И да, и нет, — Толкиен подошёл к шкафу, провёл пальцем по стеклу. — Сейчас его, во всяком случае, нет. Возможно, оно скоро возникнет. Снова.
— Но оно было?
— Совсем не такое, как в книжке. Твои настоящие родители родом оттуда. Это далеко на юге.
— В Африке?
— Я же сказал, далеко на юге. То есть вблизи южного полюса.
— Возле южного полюса… — девушка наморщила лобик. — Антарктида? Да, я что-то читала. Она сейчас во льдах, а раньше там была жизнь. Миллионы лет назад. Значит, Средиземье…
— Ну что за дурацкое пристрастие к экзотике? Всё гораздо проще. Народ, который сейчас называет себя эльфами, когда-то жил на больших островах около Австралии. Тасмания и Новая Зеландия. Валинор и Средиземье. Австралию они называли Мордором…
— Нам что-то рассказывали на занятиях по антропологии, — оживилась девушка, — Тасмания… но ведь там произошло… как это? Ну, в общем, что-то ужасное. Я всё время забываю это слово.
— Геноцид. Аборигены Тасмании были уничтожены белыми людьми. Все до единого. И этот факт очень редко ставится белым в вину. Потому что аборигены были… По официальной версии они были людоедами. На самом деле, к сожалению, они ими не были. Всё гораздо хуже.
Девушка слушала, покачивая ногой и высунув кончик языка.
— Подождите, подождите… Они же темнокожие. В татуировках, с палочками в носу. А ведь эльфы не такие?
— С кольцами в носу? Такие там тоже были. Низшие классы эльфийского общества состояли из темнокожих. Их называли орками. Но это были рабы… ну, точнее, те, кто исполнял роль рабов. Верхушка Невидимого Государства была белой. Европеоиды. Но, кажется, всё-таки не европейцы. Или — очень давно отделившиеся от европейцев.
— Невидимое Государство? — девушка почему-то вздрогнула.
— Да, Невидимое Государство. Авалон. Гринландия, Зелёная Земля. Ультима Туле. Это всё о них. Кто же знал, что они прячутся на другой половине Земли? Хорошо, что им было так сложно добираться до Европы. Эльфы всегда были неплохими мореходами, но путь был слишком длинный и тяжёлый. Иначе они её, конечно, покорили бы нас ещё в Средневековье. Хотя это им и так чуть было не удалось.
Профессор неожиданно легко вскочил со стула, и принялся расхаживать вдоль шкафа, смешно задирая голову.
— Эльфы создали отвратительную цивилизацию. Возможно, самую страшную из всех когда-либо существовавших на Земле… хотя по-своему совершенную. Они решили основную проблему человечества: разделение на господ и рабов. Решили её раз и навсегда. Тебе интересно, как? — Толкиен скривился, как от зубной боли. — Очень просто. Химически чистый способ. Эльфийская пыль. Самый совершенный наркотик, известный человеку. В отличие от нашего опиума или героина, она безвредна для здоровья, но при этом сильнейшим образом стимулирует мозг. Помнишь, в Книге? Три кольца эльфам, семь — гномам, девять — людям. Имеются в виду дозы. Они так меряют: насыпают порошок его тонким слоем внутри кольца определённой толщины и диаметра. Девять колец в месяц — максимальная доза. На девяти кольцах сидят самые низшие. У них нет никаких намерений и желаний, кроме двух — выполнять приказы, ну и размножаться. Рабочие классы, гномы, употребляют семь колец. Это даём им возможность много работать, не уставая, и даже получая наслаждение от работы. Сами эльфы употребляют всего три кольца пыли высшего сорта в месяц. Такая доза обостряет интеллект и улучшает память. Правда, можно увлечься… — профессор картинно развёл руками, — Высшие, имеют неограниченный доступ к пыли. Втянуться очень легко: несколько передоз — и ты уже в самом низу. Но это тоже полезно, так как служит самоочищению класса: все слабые духом и любящие удовольствия, так сказать, сами освобождают место… Остаются те, кто умеет себя ограничивать. Лучшие. Не зависящие от источника наслаждений. Сверхлюди, если можно так выразиться.
Он немного помолчал, потом начал снова:
— Эльфы боролись за господство в Европе, боролись тайно и ожесточённо, — не обращая внимания на гостью, вещал профессор, глядя куда-то в пространство, — Иногда это выплывало на поверхность. Альбигойцы… Катары… Средневековые королевства, подчиняющиеся так называемым магам… Не спеша, потихоньку, эльфы прибирали нас к рукам. Если бы они были едины, то никакой Европы не состоялось бы. Но после исчезновения рецепта пыли они уже не могли контролировать нас. Мы стали освобождаться от их влияния. После этого началась эра европейских технологий… Ты знаешь историю Возрождения?
Девушка пожала плечами.
— Ну конечно, откуда же вам в Америке!.. Странное было время. Расцвет наук, искусств, утонченной философии, невиданный прежде. И одновременно — страх перед колдовством, охота на ведьм и колдунов, в конце концов — Святая Инквизиция… На самом деле это было очищением, великим очищением. Европейцы освободились от того тумана, в котором жили столетиями, и осознали, что ими ловко манипулируют… Но этого не случилось бы, если бы эльфы не потеряли свой главный секрет. Эльфийскую пыль. Способ её производства очень сложен, и был известен очень узкому кругу посвящённых. И однажды он стал слишком узким. Пыли стало производиться мало, её едва хватало для самих эльфов. Это привело к восстанию низших. Они требовали пыли… и не получали её. Тогда они подняли руку на посвящённых. По преданию, последний, знающий тайну её изготовления бросил манускрипт с рецептом в жерло вулкана. На самом деле, наверное, его просто зарезали за последнюю понюшку пыли…
— А ведь вы ненавидите нас, — тихо сказала гостья.
Профессор осёкся, потом неопределённо махнул рукой:
— Какое-то время они держались на старых запасах. В Европе до сих пор остались тайники. Так называемые алхимики… Философский камень, блестящий красный порошок, который дороже золота… Но об этом потом… Европейцы стали преследовать и убивать Дивный Народ. В конце концов эльфы спрятались на своём острове на той стороне Земли, но мы настигли их и там. И убили всех, кого могли. Вырезали полностью — чтобы не осталось даже на семя. Но они всё-таки сохранили себя — в самой Европе. Теперь они готовят национальное возрождение. Поэтому им потребовалась Книга.
— Зачем? — без интереса в голосе спросила девушка.
— Высшие классы, — тараторил профессор, совершенно не слушая гостью, — подвергались очень жёсткой селекции. Побочным следствием отбора была эта самая пресловутая эльфийская красота. И острые уши. Редкий генетический дефект, свойственный эльфийской высшей касте. Очень полезный для тех, кто охотился за эльфами. Кстати, твои врачи не ошиблись: ушки тебе подрезали во младенчестве. Просто эльфийская хирургия совершеннее нашей. Ещё бы! Они извели столько людей на медицинские опыты…
— Интересная версия, — процедила сквозь зубы Ласталайка.
Профессор внезапно осклабился.
— Эльфы прятались, скрывались, и плели свои сети. Когда началась война, я был, конечно, на стороне своей страны, да, но я хорошо понимал Гитлера, потому что я знал тайну. Его великой миссией было очистить Европу от эльфов. К сожалению, пострадали и другие народы. Впрочем, евреи всегда сотрудничали с эльфами, у них есть нечто общее… В тайных иудейских кругах бытует мнение, что эльфы — это потерянные колена Израилевы. Хотя в этом, — профессор неожиданно закашлялся, и он снова опустился на стул, свесив руки по швам, — ещё надо убедить самих эльфов. Те презирают евреев так же, как и нас… И Книга у них другая. Моя Книга. Ты знаешь, что это такое — моя Книга?
Лицо старика пошло красными пятнами, но голос оставался разборчивым.
— Меня наняли, чтобы я им сделал нечто вроде песней Оссиана. Или, скажем так, краледворские рукописи. Знаешь, что это такое — краледворские рукописи? Ну конечно, в вашей стране… Ладно, ладно, не обижайтесь, нам не до этого. Лучше послушайте. Когда в Австро-Венгрии шло славянское возрождение, чехам нужна была история… Великая история, и великая литература. Очень кстати обнаружились какие-то древние свитки, на чешском, с преданиями, с героями… Потом выяснилось, что это была фальсификация. Но дело было сделано: чешская интеллигенция поверила в себя. Здесь — всё наоборот. Книга — это не сказка. Это подлинная эльфийская история, для тех, кто понимает… Как магистр Фродо бросил в огонь рецепт изготовления эльфийской пыли… и всё с этим связанное. Но большинство прочтёт это как увлекательную сказку. Через некоторое время эльфы станут популярны. Появятся люди, которые захотят стать похожими на эльфов. Это будет массовое движение, о, я-то знаю… Миллионы людей захотят играться в эльфийские игрушки. Потом будет снят фильм по моей книге. Не сейчас. Не скоро. Но будет. Они мне это говорили. Фильм будет снят на родине эльфов, в Новой Зеландии. Остров станет центром паломничества для любителей всего эльфийского. А потом… потом он станет Средиземьем на самом деле. Потому что появятся эльфы. Настоящие эльфы. И множество людей с восторгом подчинится им… Теперь у них снова есть то самое, чем они правят. Они восстановили рецепт пыли. Европейская химия оказалась на что-то годной… Впрочем, в зельеварении эльфам всё равно нет равных. И раньше не было, а уж теперь и подавно.
Ласталайка молча рассматривала собственные коленки.
— Они уже сделали несколько заходов. Первым был абсент. «Зелёная фея». Этот напиток покорил половину Европы, прежде чем мы разобрались, что это очередное эльфийское зелье, и запретили его. А заодно и культуру модерна, созданную вокруг абсента… Потом — синтетические наркотики. Потом будет ещё что-то. Эльфы не собираются делиться с нами своим секретом, но им нужна развитая наркокультура — это облегчит их задачу. На фоне тяжёлых наркотиков эльфийская пыль покажется выходом из положения… Если это не получится, они придумают ещё что-нибудь. Рано или поздно они поработят нас, теперь уже навсегда. А я помог им в этом. Да, я им помог.
Профессор утёр рукавом выступившую на лбу испарину.
— Когда я начал работать на них, я всё интересовался, первый ли я, кому они предложили сотрудничество. Например, Уэллс… Они ему тоже предлагали. Он, кажется, смог отказаться. Ты знаешь, он ничего не писал… до определённого возраста. Когда столкнулся с ними. И потом сочинил эту свою книжку… про машину времени. Про элоев и морлоков. Элои — это эльфы, ты понимаешь? А морлоки — гномы, рабочие особи. И они там внизу, — речь профессора стала несвязной, несколько слов он просто промычал себе под нос, — вот так оно всё у них и случилось. Да, вот так, и никак иначе… Я думаю, — внезапно сменил он тему, — они не простят нам геноцида. Они ничего нам не простят, — он снова вскочил, рванулся к креслу, схватил девушку за руку. — Послушай меня! Нам надо бежать. Другого случая не представится. Эльфы скоро будут здесь. Но я спрячу тебя. Я давно ждал такого случая. Меня они побоятся трогать. Я слишком важен, да, я слишком важен для них, для всей их проклятой лавочки. Мы соберёмся сейчас же. Мы поедем… поедем… мы уедем отсюда. У тебя ведь есть автомобиль? Отлично. У меня есть план. Я давно его готовил… втайне… я разработал прекрасный план. Мы разыграем всё как по нотам. Они купятся. Потом я свяжусь с ними, и поставлю им условия. Они мне дадут всё, что нужно — за тебя. Но мы их обманем, правда? Мы ничего им не отдадим, — он хрипло расхохотался. — Мы их обведём вокруг пальца, этих красавчиков эльфов! Они ещё не знают профессора Толкиена! Но теперь они его узнают! И они больше не посмеют… не посмеют…
Дверь распахнулась и тут же с треском захлопнулась.
Вошедший был высок, худ, и скор в движениях. Он легко взял профессора за ворот и отшвырнул в угол, как котёнка. Тот рухнул прямо на зонт, нелепо растопырив руки.
Чёрная ткань затрещала и лопнула.
У гостя было длинное породистое лицо, со странно заострёнными ушами, плотно прижатыми к черепу.
— Моё имя Леголас, — сказал он девушке. — Ты пойдёшь с нами.
Девушка вцепилась в подлокотники кресла и отчаянно замотала головой.
— Ах, да… Он говорил про побег. Он всем это говорит. Странный выверт психики.
Профессор копошился в обломках зонта, пытаясь встать.
— За что вы его так? — чуть слышно спросила девушка.
— Ничего-ничего, — эльф усмехнулся, — он не в обиде. Сегодня у него праздник. За тебя он получит тройную дозу.
Он достал из кармана крохотную деревянную коробочку. Покрутил её между пальцев.
Лежащий в углу Толкиен жалобно заскулил.
— Он продал тебя всего за шесть колец пыли, — презрительно бросил Леголас. — Видимо, его запасы на исходе. Раньше он пытался торговаться.
— Раньше?
— Многие потерянные дети находят надписи на своём теле, или просто чувствуют голос крови, — серьёзно сказал Леголас. — И в конце концов приезжают сюда — поговорить с автором Книги. К кому им идти, как не к сочинителю историй про эльфов? Ему остаётся только позвонить нам. И он всегда звонит. Покажи ножку, Ласталайка.
— Откуда вы знаете, как меня зовут? — невпопад спросила девушка.
— Он про тебя всё рассказал. Покажи ступню и раздвинь пальцы ног.
Ласталайка покорно вытянула ногу. Эльф встал на колени и внимательно осмотрел грязную ступню девушки. Потом встал и улыбнулся.
— Хорошо. Наш друг не соврал, а то с ним это иногда бывает… Ты и в самом деле эльф из высшей касты.
— Что с профессором? — девушка никак не могла прийти в себя. — Он так странно со мной разговаривал…
— Ничего особенного. Когда наркоману показывают дозу, его начинает трясти от возбуждения. Вот, смотри, — эльф кинул коробочкой в профессора.
Тот неожиданно легко вскочил на ноги и поймал её на лету.
— Прелесть… моя прелесть… — заворковал старик, пряча коробочку куда-то за пазуху. — Моя пр-р-релесть…
— Вот что такое люди, — заметил Леголас, — а ведь этот ещё не худший. Лучиэль, его жена, ручалась, что он по-настоящему твёрд. Поэтому она и вышла за него замуж. Мы редко позволяем нашим женщинам вступать в связь с людьми, но тут нам пришлось уступить. Разумеется, при условии, что он будет работать на нас. Он согласился на всё. И какое-то время он жил так, как подобает эльфу: три кольца в месяц. Пыль стимулирует лобные доли мозга, так что профессор блистал интеллектом. Какое-то время. Но потом… Ладно. Одевайся и пошли.
Он кинул ей на колени сумку.
— Я так поняла, у меня нет выбора? — осведомилась девушка, роясь в недрах сумки.
Эльф промолчал.
Девушка прикусила губу. С усилием выдернула из-под тряпья хрустящий полиэтиленовый пакетик с новенькими розовыми трусиками.
— Тогда отвернитесь хотя бы. Не люблю, когда на меня пялятся.
Леголас пожал плечами и повернулся к девушке спиной.
— Только не делай глупостей. Не пытайся бежать, или доставать пистолет, если он у тебя есть… Я услышу, и у меня хорошая реакция, — предупредил он.
— У меня нет пистолета, — вздохнула девушка и взмахнула рукой.
Лёгкая деревянная стрелка с острым наконечником вонзилась эльфу в шею. Тот захрипел, схватился руками за горло, и рухнул.
Девушка быстро и умело обшарила его одежду. Достала две коробочки и перепрятала их себе в сумку. Потом подошла к профессору.
— Дай сюда, — она протянула руку.
Скорчившийся старик с ужасом смотрел на гостью.
— Кто ты? — наконец, выдавил он.
— Не то, что ты думаешь, слизняк, — презрительно бросила Ласталайка. — Мне нужна пыль. И эта, и вся твоя заначка. У тебя же есть запас? Когда я пришла, ты сидел и марал бумагу. Ты ведь не можешь работать без пыли? Хотя бы на восьмую часть колечка… Не хочешь? Ну, сейчас мы с тобой поработаем. Я буду делать тебе больно. До тех пор, пока ты не скажешь, где пыль.
— Ты наркоманка. Тебя изгнали, — сказал профессор. Это было утверждение, а не вопрос.
— Да, меня изгнали! — взорвалась девушка. — Мои кретинские соплеменники! Но я не наркоманка. Мне просто нужно немножко больше, чем другим, вот и всё. Но эти индюки… что они понимают…
— Я тоже говорил это себе, деточка, — профессор на глазах приходил в себя, — но у моих работодателей было другое мнение… Ты была эльфом. Ты подсела на пыль. Согласно традиции, тебя лишили прав эльфа. Какое-то время ты добывала пыль воровством. Ко мне ты пришла, чтобы украсть мои запасы: ты понимала, что я работаю на эльфов, и догадывалась, чем мне платят. Не надо было только рыться в столе, там ничего нет…
— Вообще-то я рассчитывала, что ты сам мне дашь немного. Когда меня делали эльфом, меня угостили пылью. Остальное я отобрала бы у тебя сама. А так… Хорошо, что хоть этот пришёл, — она дёрнула шеей в сторону трупа Леголаса.
— Теперь ты докатилась до убийства.
— Кретин! Убийца — ты. Здесь найдут тебя — и его. Они решат, что ты наврал насчёт меня, и вызвал Леголаса, чтобы получить своё зелье на халяву.
— Они поймут, в чём дело, когда не обнаружат пыли, — сказал профессор, пытаясь подняться на ноги.
— Ерунда всё это, — отмахнулась Ласталайка. — Меня не найдут. Я разработала прекрасный план. И разыграла всё как по нотам. Все купились, не так ли? Отдай мне свою пыль, уродец. Или…
— Ты ничего не получишь, — голос Толкиена дрогнул.
— Посмотрим-посмотрим, — нехорошо улыбнулась эльфийка, — это ты сейчас такой смелый. Я раскалю на твоей спиртовочке что-нибудь металлическое, и начну с тобой работать. Времени у нас достаточно…
Она угрожающе наклонилась над стариком.
Грохнул выстрел. Зазвенело оконное стекло.
Ласталайка тоненько взвизгнула и упала навзничь.
* * *
— И всё-таки это была наша ошибка, — профессор протянул руку к полному кофейнику.
Господин Вильгельм Шталь на секунду прикрыл глаза.
— Ценю английскую вежливость. Вы хотите сказать, что это была моя ошибка. Но вы же понимаете: её нельзя было оставлять в живых. Она могла бы что-нибудь с вами сделать, профессор.
— Я отдал бы ей все запасы этой дряни, вот и всё, — Толкиен нахмурился. — Потом позвонил бы по тому же телефону, и объяснил ситуацию эльфам.
— И разоблачили себя перед ними. Ни один настоящий наркоман не отдаст свой запас зелья добровольно. Вся наша многолетняя игра пошла бы насмарку.
— Они компенсировали бы мне все потери.
Шталь рассеянно посмотрел на стену. На стене висела истрёпанная карта Европы на французском языке.
— Признаться, — вздохнул профессор, — мне чертовски надоело изображать из себя старого торчка, теряющего самообладание при мысли о дозе. Я плохой актёр. А вот девушка была хорошей актрисой. Я купился.
— Это у эльфов в крови… Что до актёрства, то, прежде всего, вы член «Фауста», — заметил Шталь. — Вы дали клятву.
— Я всю жизнь давал клятвы, — усмехнулся Толкиен. — Родине, жене, эльфам. Вам, наконец. И почти все нарушил, кроме последней. С точки зрения Данте, моё место — в девятом круге, среди предателей.
— В сущности говоря, вы соблюли все свои клятвы, — успокаивающее сказал Шталь. — Разве вы изменяли жене?
— Нет. Но её народу — несомненно. И своему — тоже.
Шталь с трудом подавил зевок.
— Опять про это… Вы, англичане, удивительно упрямы. Допустим, я — немец. Допустим также, что наш нынешний руководитель…
— Саруман Белый, — улыбнулся Толкиен. — Он из Штауффенбергов, не так ли?
— Я в этом не уверен… Но «Фауст» — не немецкая организация. У нас работают люди из всех стран Европы. Наша цель — защита нашей цивилизации. В сущности говоря, мы нужны даже этим несчастным эльфам. Сейчас мы осознаём, что геноцид был ошибкой… Но другие будут не столь терпимы. К тому же, — добавил он, наливая себе кофе, — вы ведь не сотрудничали с Германией во время войны?
— Разумеется, нет. Хотя — сочувствовал, ибо понимал, что происходит… Но мы об этом говорили. Ещё тогда, во время вербовки. Помните?
— Ещё бы не помнить!.. Признаться, тогда я был против контакта с вами. Не верил, что вы пойдёте на сотрудничество. Во-первых, жена-эльф. Во-вторых, они давали вам щедрой рукой всё, чего вы хотели…
— Я был дважды дурак… Зато, когда они решили, что я крепко подсел на это зелье, от любезностей не осталось и следа. Они были уверены, что я буду вкалывать на них за это чёртово снадобье. Признаться, у меня бывало искушение и в самом деле попробовать… Ладно, всё это в прошлом. А сейчас нам нужно как-то выкручиваться. Что я скажу эльфам?
— Возможно, что и ничего. Судя по нашей информации, Леголас скрыл ваш вызов. Поехал один, никого не предупредив. Видимо, он имел свой интерес в деле.
— Ему понадобилась девчонка? — Толкиен выглядел озадаченным. — Не верю. Эльфы брезгливы, и к тому же очень разборчивы. Если эльфу нужна женщина…
— Нет, не то. Я думаю, он намеревался её продать в какую-нибудь ортодоксальную эльфийскую семью — в качестве наложницы. Он ведь думал, что к вам пришла наивная девочка из «потерянных детей». Такие ценятся.
— Хм, вполне возможно… Но эльфы всё же постараются провести своё расследование. Хотя — будем надеяться на лучшее. Да, кстати, — профессор достал из кармана коробочку, — это подачка Леголаса. Три кольца пыли. Вы просили сдавать вам такие вещи.
— Да, разумеется. Благодарю, — Шталь спрятал коробочку в недрах письменного стола.
— Кстати… — профессор чуть замялся, — я собираюсь несколько пополнить свою библиотеку. Мне нужна обычная сумма. Если не сложно, переведите её через Америку.
— Через Америку нам уже сложно работать. Может быть, мы устроили бы это дело как авансовый платёж от какого-нибудь издательства… но это тоже не вполне удобно. Будем думать.
— Придумайте что-нибудь. Вы ведь всегда находите изящный выход из любого положения. Извините, мне пора. Я так и не закончил статью для сборника, а университетская типография больше не может ждать. Они и так мне телефон оборвали. На этом позвольте закруглиться. Всего доброго.
— Auf Wiedersehen, профессор.
Толкиен встал, коротко кивнул собеседнику, и вышел из кабинета.
Господин Вильгельм Шталь дождался, когда шаги старика затихнут в коридоре. Вытащил из недр стола деревянную коробочку. Трясущимися руками открыл её.
На дне тонким слоем лежала блестящая красная пыль.
— Моя прелесть, — сладко улыбнулся Шталь, и переложил коробочку себе в карман.
Схема
Солнечный свет, едва пробивающийся сквозь бурую завесу воздушных корней, внезапно провалился в случайную прореху. Попрыгал по сонной речной воде, вспыхнул на никелевой пуговице, украшающей ширинку сержанта, перескочил на рябое лицо капитана, кольнул в глаз. Капитан свирепо сощурился и прижал ладонь к лицу, выпустив из рук весло. Капризная туземная лодка, давно дожидавшаяся такого момента, кокетливо повела кормой, разворачиваясь против течения.
Сержант-итальянец помянул вслух — негромко, но ответственно — непорочное лоно Святой Девы и взялся за шест. Лодка нехотя выровнялась.
Капитан в который раз подумал, как славно было бы раскатывать по этой речушке на катере с антигравом. Увы, законы воспрещали открытое использование земного оружия и транспортных средств в отсталых мирах. В случае поимки антиграв послужил бы отягчающим. Для контрабандиста со стажем это означало лишние пять-семь лет на какой-нибудь скверной планете. Куда более скверной, чем эта.
— Чьи тут земли? — спросил сержант, ловко орудуя шестом.
— Нгуэнго, — ответил капитан, напряжённо всматриваясь в береговую полосу. — Сейчас они должны нас заметить.
Тупоносая стрела с белым оперением — знак мирных намерений — вылетела из джунглей, клюнула борт, упала в воду. Из воды выскочила рыбина, пёстрая и некрасивая, как биография капитана. Рыба сцапала деревяшку и потащила в глубину.
— Хорошая примета, — заметил сержант, налегая на шест. — Наваримся.
— Не сглазь, — осадил капитан. — У нас ещё четыре ящика, и всё надо продать. Поворачивай.
Лодка пошла к берегу. Тёмная, зацветшая вода недовольно заколыхалась, оставляя на бортах следы тины.
Из-за бурой стены растительности показался туземец. Свистнув, он бросил сержанту верёвку.
Капитан осторожно ступил на хлипкие сходни, напряжённо вглядываясь в лесной сумрак. Оттуда, из глубины, доносился какой-то ритмичный шум.
Потом они шли через мокрые джунгли, воняющие корицей, баней и помойным ведром. Зеленоватая грязь звонко, с оттяжкой, чвакала под ногами. Сетка воздушных корней над головами уплотнилась, нагоняя темень. Зато шум впереди усилился. Капитан решил, что туземцы что-то справляют — может, свадьбу, а может, большую нужду.
Капитан шёл налегке. Сзади кряхтел сержант, нагруженный ящиком с бусами. Ящик был куда тяжелее, чем казался с виду. Увы, тяжесть была платой за безопасность. Простодушные дикари иной раз поддавались искушению прибрать товар за так, прихватив на память и шкуры продавцов. Поэтому ящик был сделан из неразрушимого материала. Зато его можно было дистанционно взорвать. После нескольких инцидентов туземцы сообразили, что лучшая война — это торговля.
Наконец, землян вывели на относительно светлое место, где воздушные корни над головой были срезаны. Местное рыжеватое солнышко, — маленькое, жгучее, крапивное, — жарило вовсю, так что в середине полянки было почти сухо.
Там-то и ждала гостей торговая делегация племени нгуэнго.
На циновке лежал — навзиничь, раскинув ноги и выставив вперёд большое, твёрдое на вид пузо, — местный вождь. Как все местные, он был маленьким, колченогим, смуглокожим. С шеи свисали мотки стекляруса, руки и ноги сверкали от бисерных браслетов. Даже причинное место было украшено бижутерией.
Вокруг толпились приближённые — тоже раскормленные, тоже увешанные стекляшками. Они держали в руках маленькие барабаны и трещотки, услаждая любимого руководителя шумом. Нгуэнго любили шум.
— Доброго прибытия, дорогой гость, — вежливо, почти как к равному, обратился вождь к капитану.
Шум тотчас прекратился. Приближённые почтительно попятились, освобождая место.
— И тебе доброго пребывания, дорогой хозяин, — столь же вежливо ответил капитан.
Капитан хорошо знал местные порядки. Поэтому он, оставив сержанта с ящиком за пределами освещённого участка, подошёл и лёг на приготовленную для него циновку. Нгуэнго считали, что обсуждать серьёзные вопросы следует именно лёжа.
Как обычно, разговор начался с обмена любезностями. У вождя родился третий внук от младшей дочери, это хорошо… Дожди в этом сезоне всё никак не кончатся, это плохо… Племя уичлимобо собиралось напасть на нгуэнго, но умные нгуэнго увидели это во сне, первыми напали на уичлимобо, убили много мужчин и захватили много женщин. Это хорошо… Женщины уичлимобо очень ленивы. Это плохо. Но они ласковые и любят мужчин. Это хорошо… Приготовлен свежий эликсир. Это очень хорошо… Но его мало, очень мало. Это очень, очень плохо… Да, это очень плохо. Поэтому нгуэнго придётся оставить весь эликсир себе, ведь нгуэнго очень слабые люди, и если на них нападут уичлимобо, они не смогут защищаться, а эликсир даст им силы. Ну, может быть, несколько капель нгуэнго готовы отдать дорогим гостям. Практически за бесценок. Всего лишь за ящик стеклянных бус. Нет, уважаемые гости не могут отдать ящик бус за несколько капель эликсира, ведь бусы — очень, очень ценная вещь. Лучше они пойдут к народу уичлимобо. Уичлимобо тоже умеют готовить эликсир. Уичлимобо отдадут весь эликсир за одну связку стеклянных бус, ведь они так любят стеклянные бусы. Ну, если уважаемым гостям так необходим эликсир, нгуэнго готовы пойти навстречу и отдать целых десять капель эликсира за один-единственный маленький ящичек бус…
Торговля шла своим чередом. Через два часа вождь нгуэнго согласился платить по десять капель за каждую снизку, через три — по капле за каждую бусину. На этом можно было бы остановиться, но капитан чувствовал, что вождь нервничает — и ещё через час выторговал за бусину две капли. Из чего он сделал вывод, что вождь уичлимобо, скорее всего, даст три за две: уичлимобо были прижимистее нгуэнго, потому что уичлимобо были беднее. И эликсира у них было меньше.
Тем временем сержант вовсю строил куры: к нему ластилась местная красотка с жёлтыми цветами в волосах. За любовь она хотела бисерный браслет. Сержант предлагал две бусины. Вообще-то за те четыре капли эликсира, которые стоили бусины, на Земле можно было устроить себе безумную ночь, и не одну, с эскорт-леди экстра-класса, воплощением профессионализма и пластической хирургии. Правда, до Земли ещё нужно было добраться. Тайными трассами, миновав минные пояса, обводя вокруг пальца патрули Таможенной Службы, оставив немалую долю добычи проводникам, потратившись на подкуп чиновников, а главное — оплатив содержимое топливных отсеков. Правительство всё строже контролировало запасы кваркитового концентрата. Проклятые военные требовали всё больше К-топлива. Политики тоже требовали увеличения военных расходов: их беспокоила растущая галактическая империя хаттифнаттов. Политики и военные хотели войны. На которую призовут всех, но не все с неё вернутся… а полногрудая девушка была готова на всё ради одного-единственного бисерного браслета. Которое сержант предусмотрительно заныкал на такой случай.
Когда дело дошло до обмена, он как раз собрался по-быстренькому сбегать вместе с красоткой за край поляны. Пришлось отвлечься: надо было набрать код, который делал ящик прозрачным. Нгуэнго могли полюбоваться на его содержимое, но и только.
Вождь нехотя перевернулся на живот. Потную спину местного руководителя украшала татуировка, изображающая сношающихся мартышек. Сержант, увидев это, сплюнул через плечо, помянул святое Авраамово лоно, после чего сам отправился заниматься обезьяньим делом.
Тем временем капитан достал маленький прозрачный сосуд, — небьющийся, жаропрочный и с водоотталкивающими стенками: ни одна капля драгоценного эликсира не должна была пропасть. Вождь опустил в него мерную тростинку с рыбьим пузырём на конце, заполненным прозрачной жидкостью.
— Одна… вторая… третья… — считал вождь капли. — Четвёртая… пятая… шестая… восьмая…
— Седьмая, — сказал капитан и ловко зажал трубку пальцами. Капля на конце набухла, но не упала.
— Конечно, седьмая, — вождь сыграл лицом искреннее недоумение. — Разве я сказал «пятая»?
Капитан вздохнул и разжал пальцы. Капля налилась и выскочила.
Подсчитывая капли, капитан думал — в который раз — о том, что такое всё-таки этот самый эликсир. Земные специалисты извели немалое количество драгоценной жидкости, размолачивая её буквально на атомы. Каждый раз выяснялось, что это самая обычная вода с кое-какими органическими добавками естественного происхождения. Почему эта вода лечит практически любые болезни, омолаживает организм и к тому же действует как мощный стимулятор физической и умственной активности, никто не понимал. Физики с важным видом рассуждали про следы каких-то там «квазиорганических лептонных микроструктур», над чем смеялись биологи. Всё ясно было только земному правительству. Следуя закону, согласно которому инопланетные вещества, обладающие биологической активность, запрещены ко ввозу на Землю (закон был принят после эпидемии Синей Чумы — вируса, занесённого из космоса), они начали охоту на добытчиков и распространителей эликсира. Поговаривали, впрочем, что конфискованный товар не уничтожается, а идёт прямиком в высокие кабинеты… Капитан в этом даже не сомневался.
Ещё больше вопросов вызывало происхождение эликсира. Туземцы объясняли, что некоторым из них во сне являются духи и указывают, что в этом сезоне эликсир можно выжать из сока сладкой травы, растущей на таком-то плоскогорье, а в этом — из крови золотистых жаб, обитающих в таком-то ручье. Современные средства слежки и контроля это подтверждали: дикари и в самом деле шли на болото или к ручью, добывали траву, жаб или что-нибудь ещё — и путём нехитрых манипуляций изготовляли эликсир. Несколько пойманных и допрошенных с применением специальной химии туземцев доказали только то, что дикари и в самом деле верят в духов. Они были свято убеждены, что им во сне являются некие голоса и дают ценные указания. В конце концов, все махнули рукой. Ведь это не мешало зарабатывать деньги…
Наконец, пятьсот капель эликсира перекочевали в сосуд. Капитан его тщательно запечатал: содержимое стоило целое состояние.
— Счастливого пути, дорогой друг, — вежливо попрощался вождь.
— Счастливо оставаться, дорогой друг. Ящик с бусами откроется сам, когда солнце уйдёт, — пообещал капитан. К сожалению, нгуэнго ещё не до конца усвоили, что лучшая война — это торговля. Впрочем, по сравнению с теми же уичлимобо их можно было считать цивилизованными…
Сержант оттолкнулся шестом от низкого берега. Лодка развернулась и медленно отступила по зелёной воде, уходя на глубину.
— Интересно, — сказал итальянец, когда лодка отошла от берега. — Зачем им столько бус? Мы же продаём чёртову уйму этого барахла.
— Думаешь о всякой ерунде, — буркнул капитан. — Да какая разница, куда они их девают? Навешивают на себя, вот и вся недолга. Дикари любят стекляшки, это всем известно.
— Не получается, — вздохнул сержант. — Я уже прикидывал: даже если они все обвешаются нашим товаром до самых пяток, всё равно много.
— Значит, хранят где-то. И надевают каждый день разные. Сегодня голубые, завтра красные. Они дикари… Ладно, давай греби. Нас ждут уичлимобо.
* * *
Вождь лежал перед горой стеклянных бус и тянул из деревянной плошки священный напиток — отвар из корня бурой лианы с эликсиром. Вообще-то яд бурой лианы убивает за десять ударов сердца. Эликсир позволял сохранить жизнь, но бурая жидкость всё равно была очень противной. Вождь кривился от горечи, но всё равно пил: ему нужно было поговорить с духами.
Вообще-то духи могли являться людям во сне. Но во сне человек плохо соображает. Только ядовитая лиана и эликсир, смешанные вместе, погружали человека в то состояние, когда он способен видеть духов и говорить с ними, не теряя ума. Ну, почти не теряя.
На этот раз напиток подействовал быстро. Потемнело в глазах, затылок налился тяжестью, а потом голова наполнилась сухим, трескучим шорохом. То были голоса духов, их безмолвная речь, недоступная человеку.
Наконец, они заметили его. Треск не прекратился, но ослабел.
— Доброго появления, дорогой друг, — вежливо, почти как к равному, обратился к вождю дух-посредник.
Таким голосом — сухим и бесплотным — могло бы говорить трухлявое дерево.
— И тебе доброго пребывания, дорогой друг, — столь же вежливо ответил вождь.
Как обычно, разговор начался с обмена любезностями. Второй внук вождя от старшей дочери прошёл посвящение священным напитков и уже разговаривал с духами. Это хорошо… Духи стали реже являться людям племени нгуэнго. Это плохо… У людей нгуэнго вышло небольшое недоразумение с людьми уичлимобо из-за неправильного сна: одному глупому нгуэнго приснилось, что уичлимобо нападут на нгуэнго. Он решил, что это послание от духов, а это был самый обычный сон. Это очень, очень плохо… Тот глупый нгуэнго погиб во время войны с уичлимобо, иначе он был бы очень сильно наказан. Это хорошо… Но теперь уичлимобо непременно нападут на нгуэнго и убьют многих мужчин. Это очень, очень, очень плохо. Поэтому нгуэнго нуждаются в эликсире: ведь нгуэнго очень слабые люди, и если на них нападут уичлимобо, они не смогут защищаться, а эликсир даст им силы. Может быть, духи пожалеют несчастных нгуэнго и подарят им немного эликсира? Нет, духи не готовы дарить людям нгуэнго эликсир, ведь духи оставляют в эликсире частицы своих тел. Но ведь уважаемые духи не имеют тел? Духи имеют тела, но не такие, как у нгуэнго. И духи идут на жертву, оставляя часть себя в грубой материи. Нгуэнго очень, очень жаль, что духи приносят такую огромную жертву. Нгуэнго готовы подарить духам великолепное стеклянное ожерелье — если духи спасут несчастных нгуэнго от ярости уичлимобо. Нужно всего-то две тысячи капель чистого эликсира, это совсем-совсем мало. Нет, духи не могут обменивать две тысячи капель эликсира на одно-единственное стеклянное ожерелье. Они могут предложить одну каплю эликсира за одно ожерелье…
Торговля шла своим чередом. Время от времени вождь приходил в себя, голоса духов в голове пропадали. Тогда он снова пил священный напиток, валился на циновку и продолжал переговоры. Через четыре чаши священного напитка дух согласился платить по сто капель за каждую снизку бус, через восемь чаш — по десять капель за бусину. На этом можно было бы остановиться, но вождь чувствовал, что духи в хорошем расположении — и ещё через две чаши выторговал двенадцать капель. Подумал, что уичлимобо, наверное, получат по пятнадцать капель за стекляшку: их вождь был прижимистее вождя нгуэнго, к тому же им сейчас требовалось больше эликсира.
Наконец, дело дошло до обмена. Вождь допил остатки напитка, но не лёг, а сел и попытался сконцентрировать взгляд на горе стеклянных бус. Теперь его глазами видели духи.
Он взял одну снизку, разорвал хлипкую бечеву, на которую были нанизаны стеклянные кругляши, и начал их отсчитывать. Каждая отсчитанная бусина падала и исчезала в воздухе. Вождь не знал, как это делают духи — да и не очень интересовался. Главное, что духи были аккуратны в делах и оплачивали свои покупки вовремя и полностью.
— Одна… вторая… третья… — считал про себя вождь. — Четвёртая… пятая… шестая… восьмая…
— Седьмая, — прошелестел дух у него в голове.
— Конечно, седьмая, — вождь сыграл лицом искреннее недоумение. — Разве я подумал «пятая»?
Дух тихо, печально затрещал что-то на своём языке, и счёт продолжился.
Когда все выторгованные бусины исчезли, дух сказал:
— Твоему второму внуку сегодня приснится сон. Он увидит дальнее болото и приведёт ваш народ к нему. В нём живут чёрные пиявки. Из их сока вы приготовите эликсир. Внук скажет, как.
— Благодарю. Счастливого пути, дорогой друг, — вежливо попрощался вождь.
— Счастливо оставаться, дорогой друг, — прошелестел дух, и треск в голове затих.
Вождь тут же опрокинул заранее приготовленную чашу со сладким вином. Горечь не прошла — слишком много было выпито отвара. Тем не менее, он был доволен удачной сделкой.
Как обычно, вождь задумался, зачем бесплотным существам бусины. И, как обычно, решил, что духи очень глупы. Они берут стекляшки — красивые, конечно, но совершенно бесполезные — и платят за них бесценным эликсиром. Даже глупые уичлимобо, и те умнее.
Вождь отпил ещё вина и позвал к себе девушку, терпеливо дожидавшуюся на соседней циновке. Это была его младшая дочь.
— Ты получила что-нибудь от белого человека? — спросил он её.
Дочка молча протянула ему бисерный браслет.
— Хорошо. Ты уверена, что сейчас у тебя наступила пора?
— Конечно, отец. Сейчас я готова зачать, а этот глупец так распалился, что…
— Я понял. Если ты родишь мальчика, я верну тебе этот браслет.
Девушка молча поклонилась.
Толстые губы дикарского царька растянулись в циничной усмешке. Маленькие племена, живущие вдоль большой реки, страдали от вырождения. Ради свежей крови приходилось торговать и воевать. Недавно нгуэнго добыли много женщин уичлимобо, это хорошо. Но нгуэнго и уичлимобо давно перемешались, это плохо. А вот кровь белых людей, приходящих издалека, и в самом деле свежая. Каждый раз, когда белые люди приходят к нгуэнго, одна из дочерей вождя всегда оказывалась поблизости. Пока, правда, детей не было. Но на этот раз всё должно получиться. Хорошо, если родится мальчик со светлой кожей. Нужно, чтобы таких детей стало больше и они были бы крепкими и сильными, как их отцы. Тогда можно подумать о новой войне — на сей раз с племенами, живущими в джунглях. Новые победы, новые женщины, новые дети. Если, конечно, хитрые уичлимобо не успеют раньше…
Вождь мысленно помянул нехорошими словами уичлимобо, духов, белых торговцев, дожди, которые никак не хотят кончаться, а также собственную щедрость. Надо было содрать с торговцев три капли за две стекляшки.
* * *
Огромный чёрный шар неподвижно висел над пропастью. Внизу горел метановый лёд. Вокруг ревел ураган. Рёв его был оглушителен, но чёрный шар не воспринимал звуки.
Ураган нёс с собой миллиарды ледяных игл, острых, как бритва, и летящих со скоростью пуль. Льдинки разбивались о тело шара, не оставляя на нём ни малейшего следа.
Планета была похожа на Юпитер — море метановой атмосферы, аммиачные ураганы, огромное давление. Выжить в таком мире могли только существа с очень прочными телами — или не имеющие тел вовсе. Именно поэтому он использовался для передачи дани от бестелых народу Воителей.
Бестелые, конечно, не были совсем уж бесплотными. Они представляли собой квазиорганические лептонные микроструктуры, существующие на субатомном уровне. Народ Воителей, напротив, был сугубо материален. Каждый Воитель выглядел как чёрный шар размером с дом и весом примерно в тысячу тонн. Впрочем, с тех пор, как Воители научились управлять гравитацией, вес перестал иметь значение. Тогда они покинули родную планету — которую к тому времени почти разрушили — и принялись воевать в космосе.
Цивилизацию Воителей можно было бы назвать агрессивной, если бы у чёрных шаров имелось бы само понятие агрессии. Война была для них естественным состоянием — как дыхание, питание или размножение. Она же была и высшим наслаждением. Воины искренне удивились, когда поняли, что большинство галактических рас не разделяет их мнения на сей счёт. Впрочем, их это не заботило: воевали они в основном друг с другом. Другие расы оказались даже полезны в качестве источника ресурсов и технологий. Воителям нужны были оружие и энергия. Всё это можно было купить или взять силой…
— Умри как можно скорее, ненавистный враг, — воспринял чёрный шар мысль бестелого.
Это была формула вежливости, принятая среди Воителей, когда общались равные. Что такое «друг», Воители не знали. Всякий непобеждённый был врагом, все остальные были побеждёнными, то есть рабами или трупами. Бестелые всё же не были побеждены окончательно, хотя и платили дань.
— И тебе скорой и лютой смерти, ненавистный враг, — церемонно ответил чёрный шар. — Проклянём друг друга перед боем?
Разумеется, и это тоже было формулой вежливости. Чёрный шар не собирался сражаться с бестелым. Свою войну бестелые проиграли очень давно. Они наивно понадеялись на то, что их тела неуязвимы для материальных воздействий. Они не знали, что чёрные шары к тому времени овладели субатомными силами. Это заблуждение им дорого обошлось…
Как обычно, разговор начался с обмена любезностями. Недавно Воителю удалось уничтожить четыре корабля народа хаттифнаттов. Это хорошо, хаттифнатты неприятный народ… Он также уничтожил одного Воителя, сбросив его в недра звезды. Это ещё лучше, пусть Воители как можно больше убивают друг друга… После таких подвигов Воителю нужна энергия. Это понятно, энергия нужна всем… Если бестелый принёс то, что требуется Воителю, он отпустит из плена одного бестелого — из тех, кого Воитель захватил на той войне… Бестелый принёс то, что требуется Воителю, но обменять запас кваркитового концентрата на всего лишь одного пленника — это несерьёзное предложение. Речь может идти о двух тысячах захваченных Воителем бестелых: тогда ещё можно о чём-то разговаривать…
Торговля шла своим чередом. Через два часа Воитель согласился отпускать по десять пленных бестелых за каждую кассету кваркитового концентрата, через три — по одному за каждую порцию. На этом можно было бы остановиться, но бестелый чувствовал, что Воителю очень нужен кваркит — и ещё через час выторговал свободу двоих соплеменников за одну дозу.
Наконец, дело дошло до обмена. Внешне всё происходило незаметно: на поверхности чёрного шара вспыхивали и гасли серебряные искорки — это освобождались пленённые гравитационной ловушкой бестелые. С другой стороны вспыхивали красные искорки: в недра шара перекочёвывали капсулы концентрата.
— Одна… вторая… третья… — считал Воитель капсулы. — Четвёртая… пятая… шестая… восьмая…
— Седьмая, — сказал бестелый. Искорки перестали вспыхивать.
— Конечно, седьмая, — шар колыхнулся. — Разве я сказал «пятая»?
Наконец, все капсулы были поглощены шаром. Зато вокруг роился бесплотный хоровод освобождённых душ.
— Я слишком занят, чтобы сражаться с тобой. Скорейшей тебе смерти, ненавистный враг, — вежливо попрощался Воитель.
— И я занят в другой битве. Скорейшей и мучительнейшей смерти тебе, ненавистный враг, — как обычно, ответил бестелый и тут же исчез вместе со своими соплеменниками.
Медленно поднимаясь над пропастью, Воитель думал, что странное пристрастие к себе подобным является уязвимым местом всех рас, кроме его собственной. Потом его мысли переключились на то, откуда бестелые берут кваркитовый концентрат. К-топливо, вещество со свободными кварками, встречалось во Вселенной крайне редко. Найти новое месторождение кваркита было почти невозможно. Конечно, бестелые, для которых пространство не являлось преградой, могли в своих странствиях случайно наткнуться на ничейную залежь. Но это был не кваркитовый песок или пыль, а обработанное вещество. Значит, они его откуда-то получают…
Воитель не успел додумать эту мысль до конца. Аммиачное небо расколола вспышка, и в тело Воителя вонзился инфралазерный луч.
Будь масса воителя чуть больше, он имел бы шансы выжить.
* * *
— Завалили зверя, — засмеялся хаттифнатт-канонир, потирая хитиновые лапки почти человеческим жестом.
— Рано радуемся. Готовьте детектор кварковой массы, — распорядился старший по званию хаттифнатт и грозно щёлкнул клювом.
Корабль хаттифнаттов спускался вниз, в плотные слои атмосферы планеты. Это было рискованно: внизу ревел ураган. Миллиарды ледяных игл прошивали пространство со скоростью пуль. Силовому полю хаттифнаттов достаточно было отключиться хотя бы на долю секунды, и летящие иглы счистили бы обшивку с корабля, как шелуху с луковицы.
Тем не менее, рисковать стоило Туша Воителя была ценным трофеем: в ней, если покопаться, можно было найти много ценного. Сначала, правда, нужно её взять.
— Снижаемся! — распорядился хаттифнатт-навигатор.
Силовое поле вокруг корабля вспыхнуло: корабль вошёл в ураган.
Сквозь пелену виднелось расплывчатое чёрное пятно: тело Воителя застряло в расщелине.
Лицевой диск детектора вспыхнул. Капитан корабля взглянул на показания и помянул — негромко, но ответственно — педипальпы Ктулху, милосердного божества хаттифнаттов.
— Этот зверь под завязку набит кваркитом! — закричал он. — Берём!
Бодро защёлкали клювы: хаттифнатты предвкушали добычу.
* * *
Центральный офис корпорации «Межзвёздные вооружения» был великолепен. Знаменитый бизнес-центр в Луна-Сити мог бы гордиться таким строением, но директора предпочли расположиться подальше от суеты лунной столицы. Невесомая игла, отделанная плавленым реголитом, вознеслась прямо посреди Моря Ясности — молодого, но очень перспективного района, ныне активно застраиваемого.
Вид, открывающийся из среднего окна президентского кабинета, был великолепен. Тридцатисантиметровое стекло, выдерживающее прямое попадание метеорита и не пропускающее свирепый солнечный ультрафиолет, не мешало любоваться хороводом теней в белых скалах, муаровыми переливами пыли, и, наконец, сапфировым сиянием Земли над близким горизонтом.
Но президент корпорации, сэр Ален Писклов, Bt., лауреат Премии Мира, действительный член Лунной Академии Наук, один из богатейших людей земной сферы влияния, а также, last not least, «Политик года» по последней версии информпортала «Яндекс-медиа», рассматривал этот пейзаж без восторга. Хуже того: на безупречно аристократическом лице президента проступала самая вульгарная досада.
— Итак, в чём у нас проблема? — осведомился Йозеф Берлянт, привольно расположившийся в хозяйском кожаном кресле. Рядом с ним терпеливо дожидался внимания столик на колёсиках. На нём сидели, каждая на своём блюдечке, две чашки розового фарфора. На них косился маленький заварочный чайник, похожий на стоячую варежку. Из большого пальца поднимался нежный, застенчивый пар.
Берлянт невольно улыбнулся: чайный набор был его подарком хозяину кабинета. Тот обычно доставал эту посуду только особым случаям — когда надеялся развести друга Йозефа на сантимент.
— Да как сказать, — замялся сэр Ален, не поворачиваясь, — не знаю даже… Я намереваюсь сделать одну вещь и прошу твоей помощи. Но как бы это объяснить…
— Человек, — наставительно сказал Берлянт, — может делать что-то по трём причинам. Либо от души, либо сдуру, либо это его работа. Судя по тому, как ты мямлишь, речь идёт не о работе?
— Ну это как сказать, — окончательно смутился Писклов. — Посмотри, пожалуйста, вон туда, — он указал длинным холёным пальцем куда-то влево.
Йозеф легко поднялся с кресла, и мячиком — чуть подпрыгивая, как все земляне на Луне, — проскакал к окну. Прищурился. На самом краю видимой части котловины можно было различить маленькие белые кубики.
— Я распорядился скупить всю территорию вокруг, чтобы нам не портили пейзаж, — почти жалобно сказал президент «Межзвёздных вооружений». — Но вот тут стоит какой-то маленький заводишко. Штампует бижутерию из реголита. Бисер всякий, бусы, прочую ерунду. Я думал, с ним не будет проблем. Владельцы упёрлись. Они не хотят продавать бизнес.
— Это бывает, — заметил гость. — Даже бизнес можно вести от души или сдуру… Закурю, не возражаешь?
Не дожидаясь ответа, он достал из кармана недокуренную сигару и принялся щёлкать старинной зажигалкой, добывая огонь.
На сей раз на холёном лице сэра Алена Писклова не отразилось ни малейшего недовольства. Он не любил табачного дыма, но Йозеф Берлянт был почётным гостем корпорации и личным другом сэра Писклова. Более того, последний прекрасно понимал, что из чего следует. Дружба Йозефа Берлянта стоила дороже, чем все титулы сэра Писклова, вместе взятые.
При этом Йозеф никогда не занимал никаких статусных постов и должностей. Просто он был очень влиятельным человеком. И большим другом всех влиятельных людей. Даже в резиденции сэра Аякса Тонто, нынешнего президента Земли, Берлянт чувствовал себя как дома. Впрочем, как и во многих других резиденциях. Он бывал везде и всем бывал полезен: давал советы, оказывал мелкие и крупные услуги, устраивал дела, сводил нужных людей и разводил ненужных. А также утешал, развлекал, болтал о пустяках и беспрерывно курил недорогие сигары, к которым пристрастился ещё в Итоне, да так и не отвык…
Дым достиг ноздрей президента, и тот всё-таки чуть-чуть поморщился. Всё-таки этот дешёвый табак отвратительно воняет. Уж если курить, то настоящую гавану… Впрочем, у гениев свои причуды. В гениальности же Йозефа сомневаться было бы нелепо
— И что же с тем заводиком? — Берлянт выдохнул белый клубочек и положил тлеющую сигару на подлокотник кресла. Хозяин кабинета деликатно отвёл глаза. В конце концов, даже если Берлянт прожёг бы этой сигарой дыру в обивке, это — по сравнению с общим объёмом оказанных благодеяний — было бы незначительной мелочью, не стоящей внимания.
— Мы пытались договориться. Предложили помощь с переездом. В конце концов, залежей реголита на Луне хватает, — сказал президент. — Но эти туполобые парни не захотели переезжать. Им, видите ли, нравится реголит из этой котловины. Говорят, стекло получается светлее. В общем, ни в какую.
— А если надавить? У тебя есть всякие возможности, — заметил Берлянт, снова принимаясь мусолить сигару.
— В том-то и проблема, — уныло вздохнул президент. — Мы поговорили с администрацией, та пообещала закрыть производство в ближайшее время… и никакого результата. Говорят, что понаехала какая-то комиссия с Земли и впаяла им по самые гланды.
— Похоже на мафию, — прищурился Берлянт. — Ты ведь подумал, что это похоже на мафию?
— Ну, допустим, — нехотя признал сэр Писклов. — Но в этих кругах у нас тоже есть каналы. Выяснилось, что продукция заводика идёт каким-то контрабандистам. Ну, знаешь, которые торгуют с дикими планетами в обход законодательства.
— Да, опасные люди, — Берлянт скорчил смешную физиономию. — Кстати, ты ведь пьёшь эликсир? А ведь это контрабанда.
— Пью. Как и мы все, — вздохнул Писклов. — Нужно ведь как-то держать себя в форме. Мне уже восемьдесят семь, приходится думать о здоровье… Но я говорил про заводик. Ты можешь что-нибудь сделать? Как-нибудь убрать его отсюда?
— Скажем так: я решу проблему, — сказал Берлянт. — А пока мне хотелось бы знать, как продвигаются твои переговоры с хаттифнаттами.
— Как обычно, — президент тяжело вздохнул. — Сначала обмениваемся любезностями. Доброго прибытия, дорогие гости, — передразнил он сам себя. — И вам доброго пребывания, дорогие хозяева, кр-р… — он довольно похоже изобразил хаттифнаттовский клювный скрежет. — Как долетели? Без приключений? Это хорошо. Луна-Сити вам понравился? Очень, очень здорово. Как идут боевые действия? Успешно? Просто замечательно. Вы, несомненно, победите этих отвратительных Воителей. Кстати, мы могли бы вам предложить новейшие инфралазерные излучатели, специально адаптированные для ваших услови й. Всего лишь за три тысячи капсул К-топлива каждый, это очень дёшево. О нет, что вы, мы не можем покупать такую дорогую технику. Мы обратимся к марсианам, они предлагают то же самое всего за тысячу капсул…
— Очень натурально у тебя получается, — Йозеф заставил себя улыбнуться.
— В конце концов мы договоримся. При обмене обязательно обнаружится, что несколько капсул пусты или их содержание повреждено. Мы выразим удивление, они выразят сожаление. Почему после шестой капсулы идёт восьмая? Это ошибка, наш счётчик показывает на пятую… Дальше опять переговоры по новой партии. Эти хаттифнатты — настоящие скряги. А нам позарез нужен новый источник кваркита.
— Всем нужен источник кваркита, — философски заметил Берлянт.
— Ты когда-нибудь видел кваркитовую капсулу? — неожиданно спросил Писклов.
Берлянт пожал плечами.
— Я живу в мире абстракций, — сказал он. — Кваркит для меня — это несколько страниц из учебника физики плюс биржевые сводки. Вещество с высокой концентрацией свободных кварков. Химический состав может быть, в сущности, любым, лишь бы там были свободные кварки. Практически неисчерпаемый источник энергии. Миллиграмм кваркита — это десяток-другой полётов в дальний Космос. В известной нам части космоса открыто всего пять месторождений кваркита, все они поделены между могущественными цивилизациями и почти выработаны. Самое дорогое вещество во Вселенной. Приблизительно всё.
— Ну так полюбуйся на самое дорогое вещество во Вселенной. Хаттифнатты подарили мне образец товара в некапсулированном виде. Не знаю, считать ли это взяткой.
Писклов вынул из кармана крохотный стеклянный шарик и бросил его Берлянту. Тот поймал его на лету.
— Напоминает бусину, — задумчиво протянул он.
— Там в середине даже дырочка есть, — сказал президент. — Как будто эти штуки нанизывали на нить.
— Странная технология, — заметил Йозеф, разглядывая шарик на свет.
— Я уверен, они нашли какой-то примитивный народ, — Ален заложил руки за спину и принялся расхаживать по кабинету, — который случайно наткнулся на месторождение. Какие-нибудь дикари, которые сами не понимаю, чем владеют. Делают из кваркитового песка какие-нибудь украшения. Вроде бус или ещё чего-то подобного.
— Насколько мне известно, хаттифнатты добывают кваркит из тел убитых Воителей, — заметил Берлянт.
— Они лгут, — убеждённо сказал президент компании. — Они нашли месторождение на какой-то отсталой планете и пользуются им. И теперь они имеют неизмеримое преимущество над нами. Наверное, военные правы. Нужно остановить их сейчас, пока они не стали слишком сильны.
— То, что ты говоришь, очень серьёзно… — начал было Берлянт, вынул изо рта сигару и рассеянно потушил её о подлокотник. Выделанная кожа задымилась.
Йозеф с ужасом уставился на дело рук своих.
— Ален, дружище, — растерянно сказал он, — похоже, я насвинничал… то есть насвинячил… — он с трудом поднял взгляд. — Не знаю, как это получилось… Короче говоря, завтра здесь будет такое же кресло. И я постараюсь компенсировать тебе это… чем захочешь.
— Это земной антиквариат, — напомнил Писклов. Кресла было жаль, но виноватый вид всесильного Йозефа доставил президенту удовольствие. — Найти такую вещь непросто. Если вообще возможно.
— Я сказал завтра, и, значит, это будет завтра! — зарычал Берлянт. — Я ещё на что-то гожусь! Подожди минутку, я кое с кем переговорю… — он ринулся в туалет, на ходу выдирая из брючного кармана коммуникатор.
Сэр Ален Писклов тихонько вздохнул. Теперь о продолжении разговора не могло быть и речи: Йозеф не успокоится, пока не перевернёт мир, чтобы компенсировать убытки. А потом он улетит на Землю. Ничего, основные вещи он уже проговорил. Берлянт не из тех, кто забывает.
* * *
Президент Земной Конфедерации Аякс Тонто протянул толстую волосатую руку к бутылке граппы. Не глядя, налил себе в рюмку на два пальца, потом добавил ещё немного. Выпил, скривился. Заел пресной пастилкой.
Йозеф Берлянт тонко улыбнулся. Он-то знал, что в бутылке не было ничего, кроме минеральной воды напополам с эликсиром. Врачи запретили президенту употреблять любимый напиток, оставив в качестве маленького утешения бутылку с этикеткой.
— Что будем делать? — наконец, спросил он.
Берлянт отвёл глаза. За огромным окном президентской резиденции расцветали тропические деревья. Солнце едва пробивалось сквозь блестящую жирную зелень, бомбардируя бликами три стены, отделанные кипарисом.
— Не вижу другого выхода, — сказал, наконец, Йозеф. — Я очень любил Алена, он был славный малый. Разумеется, он был глуповат и нелюбопытен. Но на этот пост нам такой и был нужен. Но он всё-таки сунулся куда не следует. Проклятые хаттифнатты с их образцом. Теперь он начал бы думать. И рано или поздно ему пришла бы в голову идея сопоставить некоторые обстоятельства.
Аяксу Тонто внезапно захотелось выпить. Настоящей граппы. Он-то знал, что Йозеф говорит в прошедшем времени только о покойниках. Или о тех, кому суждено скоро стать покойником.
— Кого поставим? — только и спросил он.
— Какого-нибудь кретина. Главное, чтобы он не страдал эстетихмом. Писклова, видите ли, раздражали корпуса нашего маленького предприятия. А ведь сейчас мы расширяем производство. Так вот, нужен человек, которому было бы абсолютно безразлично, что там за окном. Да, и чтобы не лез в вопросы обеспечения безопасности здания. В этом отношении наш покойник был идеален: он вообще ничего в этом не понимал. Иначе он очень удивился бы, если бы узнал, что периметр безопасности устроен так, что прикрывает не столько его штаб-квартиру, сколько этот самый заводишко. А если бы он покопался в документах, то выяснил бы, кто именно плавил реголит для обшивки здания штаб-квартиры. И кто именно присоветовал строить штаб-квартиру посреди Моря Ясности, а не в Луна-сити. А также всякие другие обстоятельства… Короче, нам нужен полный, стопроцентный идиот. Возьми кого-нибудь из Адмиралтейства, например. Там пропадают очень ценные кадры.
— Поищу, — пообещал Аякс, — а ты прозондируй почву в совете директоров. Всё-таки «Межзвёздные вооружения» формально являются частной корпорацией.
— А, пустяки, — отмахнулся Берлянт. — Считай, что этот вопрос решён.
— И всё-таки, — протянул президент Тонто, — мы в идиотской ситуации. Сидим на богатейшем во Вселенной месторождении кваркита и покупаем его за безумные деньги. Ты знаешь, сколько сейчас стоит грамм этой дряни?
— Знаю. Ну и что? Ты, Аякс, всё-таки иногда рассуждаешь как бизнесмен, а не как политик. Да, если хочешь, с точки зрения бизнесмена мы делаем очень хреновый бизнес. Мы покупаем через четвёртые руки сами у себя товар, за который безумно переплачиваем. Я уж не говорю, каких трудов мне стоило выстроить всю цепочку и заставить схему работать.
— Я до сих пор не понимаю, как ты додумался до такого варианта и как тебе удалось всё это провернуть, — признался президент.
Берлянт даже не стал делать вид, что польщён.
— Это-то как раз ерунда, — махнул он рукой. — Бестелые искали посредников для переговоров с Воителями по поводу выкупа своих пленных. Ты же знаешь, я интересуюсь такими заказами. Дальше я простроил цепочки в две стороны. Кое-где слил информацию, кое-где поучаствовал в переговорах… Стандартная процедура. Проще, чем разводить кроликов.
— Допустим. Но всё-таки. Ты мне объяснял, что легализовать наш кваркит мы не сможем, потому что у нас его отберут. Но сейчас-то мы всё равно не имеем никакой пользы для себя. Он уходит за гроши, в виде этих дурацких бус! Может быть, просто прекратить производство?
— Извини, Аякс, но ты меня удивляешь, — Берлянт постарался сказать это спокойно. — Но если сейчас перестать подкармливать Воителей кваркитом, они начнут искать новые источники ресурсов. То есть начнут большую войну со всеми, у кого хоть что-то есть. В том числе и с нами. Мы платим за мир, вот и всё.
— Мы выиграем эту войну. Хаттифнатты долбят Воителей нашим оружием, — напомнил президент.
— Выиграем. Мы можем даже уничтожить всех Воителей. Они и сейчас-то не так уж сильны, и к тому же всем надоели. Но вот только есть одна деталь. Во время войны власть принадлежит военным. А ты не очень-то популярен. Вояки это понимают и так рвутся с кем-нибудь подраться. А уж после…
В углу тихо загудел принтер: какое-то срочное сообщение. Переливающийся красками лист тонкой бумаги выполз из щели, заворачиваясь в трубочку, и, свёрнутый, свалился прямо в огромную, стоявшую на полу чашку с недопитым кофе.
Президент виновато посмотрел на чашку. Йозеф перехватил его взгляд и неодобрительно покачал головой. Кофе президенту тоже был противопоказан, но в этом вопросе доктора делали послабление.
— Военных можно прижать к ногтю прямо сейчас, — без особой уверенности сказал президент. — Давно пора устроить чистку в армии. И вообще, лучшая война — это торговля.
— Нет. Армию нужно держать на поводке, но в готовности. Потому что торговля может кончиться в любой момент. Если сегодня кто-нибудь что-нибудь пронюхает про месторожление, завтра же корабли хаттифнаттов будут висеть на земной орбите. Разве что Воители не успеют раньше. Но скорее всего, они объединятся. Потому что единственная причина, по которой хаттифнатты ведут войну с Воителям — это кваркит. Они потрошат тела Воителей и добывают из них концентрат. А мы исправно снабжаем хаттифнаттов оружием, специально разработанном против этих чёрных мячиков для пинг-понга…
Президент бросил тоскливый взгляд на распечатку в кофейной чашке.
— И это ещё не всё, — дожимал Берлянт. — Нам, лично нам с тобой, нужен эликсир. Делать его умеют только бестелые. Но мы не можем у них его купить. Им ведь ничего не нужно. Вообще ничего материальное. Кроме одного: свободы соплеменников, которые попали в плен к Воителям. После той неудачной войны эти подгоревшие колобки набрали чёртову уйму пленников. И бестелые будут их выручать. ДЖля этого им нужен концентрат, то есть наши бусы. Расплачиваясь с дикарями столь нужным нам эликсиром. Который они готовят буквально из себя.
— Может быть, хотя бы это звено можно сократить? — почти жалобно сказал президент, подливая себе в рюмку воды из бутылки. — Мы можем продавать бестелым концентрат напрямую. За тот же эликсир.
— Чтобы они добрались до Солнечной системы, нашли наше месторождение и обчистили его втихую? — в голосе Берлянта зазвучала усталость учителя, вынужденного в который раз проговаривать элементарные вещи. — Сейчас они завязаны на дикарей, которые, даже если бы хотели, не могут толком объяснить, кто и откуда привозит им эти стекляшки… Нет, эта прокладка совершенно необходима. Кстати, несколько раз бестелые выходили на прямой контакт с контрабандистами. Правда, те принимали голоса духов за галлюцинации. А бестелые сами не очень поняли, с кем общаются.
— Это хорошо, — кивнул президент и сощурился: солнце прорвалось сквозь зеленя, мазнуло по лицу, укололо глаз.
— Ещё лучше, что контрабанда эликсира запрещена нашими законами, столь благостно идиотскими, — добавил Йозеф. — Несколько кораблей пришлось расстрелять прямо в космосе. Очень жаль.
— Писклова тоже жаль, — сказал Аякс Тонто.
— Да, конечно. Когда я понял, что у нас нет другого выхода, я… разволновался, — признался Берлянт. — Представляешь, прожёг ему кресло. Сигарой.
— Ага, знаю я твою чувствительную натуру. Наверное, ты был очень огорчён. И предложил Алену возместить потерю, не так ли?
Йозеф кивнул, подумав про себя, что Аякс всё-таки иногда соображает достаточно быстро.
— Вот, значит, как… Подлокотники, вымазанные ядом, или радиоактивный источник под сиденьем?
— Оставь, пожалуйста, техническую сторону дела мне, — не пожелал вдаваться в подробности Берлянт. — Яды и радиация — вчерашний день. Так или иначе, всё произойдёт быстро и без следов. Ты подстрахуй следствие по своей линии. Они ничего не найдут, но я не хочу, чтобы слишком долго копались. Пусть это будет обычный сердечный приступ. В его-то возрасте… И как можно скорее назначить нового.
— Всё-таки это очень рискованно, — президент скорчил озабоченную мину. — Мы сидим на бочке с сокровищами, а вокруг бродят всякие парни, которые не прочь у нас её отобрать. Прихватив себе на памятьл наши шкуры. Рано или поздно твоя схема даст сбой. И что тогда?
— К тому времени мы придумаем что-нибудь ещё, — развёл руками Берлянт.
Президент Земной Конфедерации почесал затылок. Потом помянул вслух — негромко, но ответственно — непорочное лоно Святой Девы.
Арест (Отрывок из романа Лиона Фейхтвангера «Семья Оппенгейм»)
Берлин, 1937
«…Они отняли у нас всё», — аккуратно вывел Высокородный Господин Абрахам Оппенгейм в тайной тетради. Поставил точку, подышал на страницу, полюбовался на свой почерк — ровный, красивый, с лёгким наклоном вправо. Потом закрыл тетрадь, погладил кончиками пальцев красный сафьяновый переплёт, и с тяжёлым вздохом уложил её на дно потайного ящика. Нажал на дощечку. Секретная пружина, заговорщицки скрипнув, втянула ящик в недра письменного стола.
Абрахам привычно посмотрел вверх, на книжные полки, и невольно скривился. Он никак не мог привыкнуть к пустому чёрному провалу там, где некогда золотились кожаные корешки собрания сочинений Шекспира. Шекспир угодил в реестр запрещённой литературы совсем недавно — за «Венецианского Купца», кажется.
Господин Оппенгейм с отвращением перевёл взгляд на пузатую Тору с нацистским могендовидом на обложке. Почему-то вспомнилось, что, по мнению Аристотеля, у паука шесть ног. Высокородный Господин поморщился: он с детства не любил насекомых.
В тишине хлопнула дверь, и в воздухе повисло тоскливое ожидание какой-то новой беды. «Во имя всего святого, что они ещё приготовили для нас?» — привычно подумал Абрахам, вставая.
Вошла Рахиль. Её голова была закутана всё тем же чёрным платком. Неделю назад нацистские молодчики поймали её на улице и насильно обрили голову. Её привезли домой на полицейской машине: она кричала, вырывалась, и чуть было не порезала лицо одного из парней отнятой у него же бритвой. Аккуратный немец, улыбаясь и кланяясь, предъявил Высокородному Господину Абрахаму Оппенгейму соответствующий пункт Положений об Избранном Народе, где чёрным по белому было сказано, что Высокородные Еврейские Женщины обязаны наголо брить голову… Там была ещё какая-то мерзость про ногти, вспомнил Абрахам. Кажется, их надо стричь под корень.
— Я больше не могу, — тихо сказала Рахиль. — Я так больше не могу.
— Что на этот раз? — помолчав, осведомился господин Оппенгейм, вертя в руках перо.
— Приходили люди из этой новой школы… и сказали мне… что наш маленький… — Рахиль не договорила — голос перехватило от рыданий.
Абрахам понял, что речь идёт о младшем сыне. С тех пор, как его заставили ходить в эту отвратительную нацистскую «ешиву», мальчика словно подменили.
— Они проходили Закон о Субботе, и спрашивали детей, чьи родители работали в субботу… и наш сын!.. прямо на уроке… что я… прибиралась по дому…
Господин Оппенгейм опустился в кресло и тяжело задумался. Нарушение Закона о Субботе грозило серьёзными неприятностями. С тех пор, как в проклятом тридцать третьем году к власти в стране пришли сумасшедшие хасидим с этим полукровкой Гитлером во главе, «еврейские законы» (так обычно назывались Положения об Избранном Народе) становились всё строже и строже. Но Имперский Закон о Субботе был введён одним из первых, и соблюдался особенно тщательно.
Всё началось с жуткой «хрустальной ночи», когда «возмущённая толпа» немцев и евреев, науськанная раввинами, разгромила все еврейские лавочки и магазины, открытые в Святой День. Потом полиция взяла манеру отлавливать в субботу евреев, спешащих по делам, или просто несущих в руках какой-нибудь груз. Первоначально дело ограничивалось штрафами, но данные о нарушителях заносились в личные дела, которые по первому требованию предоставлялись в хасидские синагоги… Абрахам поёжился.
Нет, в который раз подумал он, надо было уезжать, пока была такая возможность. Эмиграцию евреев окончательно запретили в тридцать шестом, когда нацисты окончательно утвердились в своей бредовой концепции прямой зависимости благополучия Рейха от положения дел с Избранным Народом и его религиозным рвением.
— Может быть, мы всё-таки воспользуемся предложением господина Вольфа? — осторожно спросил Абрахам.
Господин Вольф, пронырливый полукровка из негалахических (евреем он был только по отцу, и не торопился с гиюром, несмотря на нажим со всех сторон), умело пользовался своим двусмысленным положением, состоя одновременно в дюжине разных нацистских организаций. Он везде числился на вторых ролях, но везде имел доступ к разного рода бланкам с печатями, на чём и делал свой гешефт. Не так давно он предлагал господину Оппенгейму некий сомнительный комплект справок, вроде бы позволяющих оформить кратковременный выезд за пределы Рейха. Например, в Швейцарию, откуда многие бежали дальше, за океан.
Проблема была в том, что выезд оформлялся без детей. Выпустить еврейского ребёнка за границу — этого нацистские власти допустить не могли.
Рахиль подняла голову. Глаза её были сухими.
— Это наш сын, Абрахам. Какой бы он ни был, это наш сын.
— Ты настоящая еврейская мать, — пробормотал Абрахам нацистский лозунг. — Ты знаешь, — уныло добавил он, — позавчера я застал нашего сына в своём кабинете. Он рылся в книжках, что-то искал. Возможно, запрещённую литературу. Чтобы донести на меня, конечно. За что он меня так ненавидит?
— Доктор Фройд сказал бы… — начала было Рахиль, и тут же замолчала. Сочинения доктора Фройда, содержащие в себе грязные антиеврейские инсинуации, были торжественно сожжены хасидами накануне прошлого Йом-Кипур, официально заменившего в Германии Новый Год.
Внизу что-то зашуршало: старая Марта вытирала пыль в гостиной, как всегда, напевая себе под нос какую-то песенку.
— Я больше не могу, — повторила госпожа Оппенгейм. — А ведь ты был активистом… агитировал за них.
Абрахам потупился: он терпеть не мог напоминаний о том, как он, старый человек, маршировал с жёлтым могендовидом на рукаве, и вскидывал руку в нацистском приветствии.
— Я думал о нашем народе, — как обычно, ответил он. — Я думал, что немцам нельзя больше доверять власть. После той войны, которую они развязали. После поражения. После революции. После этой пародии на республику, как будто немцы могут жить при республике… Я думал, что мы, евреи, наконец должны исполнить свою историческую миссию, возглавить эту страну, вывести её из этого европейского Египта… И что наша религия, наконец, возрождается. Я никогда не был особенно религиозным, но когда я видел, как по всему Берлину горят ханукальные свечи — моя душа пела… Мы все ошибались, — горько закончил он. — Теперь я думаю, что социал-демократы были во многом правы. Нацистов привели к власти крупные немецкие тузы. Они прикрылись нашим народом, как грязным носовым платком, чтобы снова обделывать свои обычные дела.
Абрахам помолчал.
— Не знаю, когда я это понял. Наверное, когда я впервые увидел полицейского, бьющего еврея с криком «Учи Тору». Или когда мне впервые не пустили в кафе в субботу. Или когда…
Рахиль посмотрела в лицо мужу.
— Как ты думаешь, будет война? — тихо спросила она.
Абрахам пожал плечами.
— Ещё месяц назад я сказал бы «нет». Сказал бы, что они не безумцы — воевать с Англией ради никому не нужного клочка земли. Но… знаешь, вчера я шёл мимо школы. На плацу стояли дети. Немецкие дети. Они просто стояли с поднятыми руками, и кричали. Знаешь, что они кричали? И как они это кричали?
— «В следующем году в Иерусалиме», — прошептала Рахиль. — «В следующем году в Иерусалиме».
— Им нужен повод, — заключил Абрахам. — Им нужен только повод. Защита еврейского народа, ихуй[1] между немцами и евреями — это повод. Иерусалим — тоже повод.
Внизу что-то упало и покатилось. Госпожа Оппенгейм вздрогнула.
— Не будем больше об этом… Хотя бы сегодня, Абрахам, не будем, — нервно сказала она, и тут же продолжила: — Я была у Руфи. И слышала… страшные вещи. О «специальных поселениях». Где евреев заставляют соблюдать все шестьсот тринадцать мицвэс. Насильственно заставляют. И про господина Гринберга. Ты знаешь, что с ним сделали?
— Я запретил тебе ходить к Руфи! — взвился Абрахам, но сник под тяжёлым взглядом жены.
— Я ходила к Руфи, — продолжала Рахиль, не отводя глаз, — и она показал мне… письмо. Это был грязный клочок бумаги. Но это был почерк Эриха, слышишь! Это был почерк Эриха Гринберга!
— Эрих Гринберг был коммунистом, предателем еврейского народа, — Абрахаму казалось, что он слышит свои слова как бы со стороны. Он провёл рукой по лицу, но ощущение не исчезло. — Ты же знаешь, он не скрывал своих убеждений, и…
На первом этаже раздался шум, звон разбитого стекла. Марта ойкнула. Потом шум повторился.
Господин Оппенгейм оттолкнул окаменевшую от страха жену и бросился в кабинет.
Он как раз пытался засунуть в камин тетрадку в сафьяновом переплёте, когда дверь распахнулась, и вошли люди в чёрно-жёлтой форме.
Август 1998 (Отрывок из романа Л. Подервянского «Единая и Неделимая»)
<…>
Глава 5
Из окна малой залы был виден стеклянный купол Верховной Рады и бодро развевающийся червоно-блакитный прапор над ним. Такой же красно-голубой флаг, только размером поменьше, украшал восточную стену залы.
Президент недовольно покосился на премьера.
— Товарищ Ющенко, это что такое? — он слегка повёл бровью. — Где союзное знамя?
Ющенко скривился.
— Вы прекрасно знаете, товарищ Кучма, — раздражённо заметил он, — тут иногда бывают люди из Москвы. Не хватало ещё и красного флага. Они и так нас подозревают.
— В чём же это они нас подозревают? — Кучма развернулся к Ющенко всем телом. Его простое, открытое лицо потемнело от гнева. Ющенко невольно отступил на шаг.
— Так в чём нас подозревают господа москвичи? — уже спокойнее спросил Президент.
Премьер пожал плечами.
— Как обычно. В империализме. В великодержавных замашках. В…
— Они каждый день пишут об этом в своих газетах, — Президент, казалось, успокоился, но Ющенко понимал, что это ненадолго. — Каждый день они пишут о том, что Украинская Русь спит и видит, как бы посягнуть на независимость Российской Федерации… И на её природные богатства, — с горечью закончил он. — Они будут трубить об этом на всех перекрёстках, что бы мы не делали…
— В любом случае, нам не нужны лишние конфликты, тем более сейчас, — вежливо, но твёрдо заметил Ющенко. — Что нам важнее — дешёвые жесты, или перспектива воссоединения?
— С кем мы собираемся воссоединяться? С братским великорусским народом, или с бандой Ельцина? — Президент опять завёлся. — Так вот, с бандой Ельцина мы воссоединяться не будем. Законное место этих людей — на нарах. А не в Кремле.
— По нашим данным, именно так думают девяносто пять процентов россиян, — подал голос товарищ Рабинович.
Старый разведчик стоял, облокотившись о стену, и раскуривал самокрутку. Рабинович курил табак, который сам выращивал на маленьком огородике, у себя на даче. Покупной табак он не жаловал.
— Только нам с того никакого толку. Потому что шестьдесят два процента тех же самых россиян, что считают Ельцина вором и подонком, категорически за независимость России… И не хотят видеть у себя в Москве никаких киевских интеграстов. Им там здорово промыли мозги, — помолчав, добавил он.
Скрипнула дверь, и в залу вбежал товарищ Пинчук, держа под мышкой кожаную папку с какими-то бумагами.
— Здравствуйте, товарищи, — небрежно поздоровался он, и лихо уселся на подоконник. — Опять разговорчики на любимую тему? Что ещё вытворили кляти москали?
— Вот, не дают товарищу Ющенко повесить красный флаг, — невесело пошутил Президент. — По этому поводу товарищ Ющенко собирается подавать жалобу в Совет Европы.
Пинчук хохотнул. Остальные тоже заулыбались.
— …где уже неделю как дебатируется крымский вопрос, — напомнил товарищ Рабинович.
Смех тут же оборвался.
— Как там наши? — Пинчук подался вперёд.
— Вроде пока держатся, — ответил Ющенко. — Правда, всё дело идёт к тому, что нас опять лишат права голоса. Особенно прибалты стараются.
— Может, всё-таки уйдём из этой лавочки? — с надеждой в голосе спросил Рабинович. — Лично мне, как бизнесмену, и как еврею, банально жаль тех денег, которые мы платим этим евробюрократам. За то, что они нас учат жить…
— Кого учат, а кого и жучат, — вздохнул Президент.
— Кому таторы, а кому — ляторы, — добавил Рабинович. — Так мы и дальше будем терпеть эту гидоту?
— Да, вы уже знаете про последний скандал в ихней Думе? — Пинчук ухватил какую-то бумажку в папке, та потянула за собой ещё несколько листочков, которые закружились в воздухе. Пинчук спрыгнул в подоконника и бросился их ловить, одновременно продолжая:
— …это анекдот… ф-фух… вы представьте себе… ага, так… им теперь не нравятся наши деньги. Товарищ Рабинович, могут ли кому-то не нравиться деньги?
— Это, наверное, относится к числу тайн великорусской души… — Рабинович, кряхтя, наклонился за упавшей к его ногам бумажкой.
— Так вот, — Пинчук близоруко прищурился, перебирая свои листочки, — они, значит, заметили, что на десятирублёвке у нас изображён Хрущёв…
— …который подарил Украине исконно российский Крым, — прогудел из угла удобно устроившийся в глубоком кресле товарищ Медведчук. Он был допущен на тайные заседания совсем недавно, но уже успел обзавестись роскошным троном на львиных лапах. В отличие от сухонького и быстрого Пинчука, совершенно равнодушного к комфорту, Медведчук любил во всём основательность. Это, впрочем, не мешало ему в случае надобности не спать по пять суток, мотаясь по всей стране на своей легендарной красной «Волге», которую он всегда водил только сам, вне зависимости от времени суток, усталости, и количества выпитой горилки. Президент закрывал на это глаза: Медведчук был ценным работником, которому приходилось прощать кое-какие барские замашки. К тому же он был отличным водителем, и ни разу не попал в серьёзную аварию.
— Что у нас в Крыму, кстати? — поинтересовался Президент у Ющенко.
— Как всегда, — отозвался премьер-министр. — Сегодня предотвратили очередной теракт.
— Где? — скрипнул зубами Кучма.
— Железная дорога, — ответил премьер. — Поезд с отдыхающими. Большинство — россияне. Это у них называется «турецкая схема». Понимаете, курды делают один маленький теракт — а Турция теряет миллионы долларов на туристах…
— А что в таком случае потеряем мы? С учётом дотаций краю? — поинтересовался Медведчук.
— С учётом дотаций — ничего, — отозвался Рабинович. — Фактически, мы возим россиян отдыхать у моря почти бесплатно, чтобы не простаивали здравницы… Разумеется, крымские сепаратисты в это не верят. Они думают, что Центр…
— Да ничего они не думают, — парировал премьер. — У них простая логика: чем хуже — тем лучше. Если россияне не будут приезжать в край, исчезнет работа для множества крымчан. В этом, как всегда, обвинят Киев. Ряды сепаратистов пополнятся…
Все замолчали. Президент отвернулся к окну.
— Я люблю великорусский народ, — с усилием произнёс он. — Но я не понимаю, откуда в нём эта тяга к обособлению. К обособлению ценой разрушения. Сначала бандит Ельцин разрушил Советский Союз, навязав нам беловежские соглашения…
— Ну, положим, с нашей стороны тоже нашлось, кому их подписать… — вставил своё Рабинович.
Президент сделал резкое движение шеей.
— Я не оправдываю Кравчука! — крикнул он. — Но тот получил по заслугам. И теперь сидит отнюдь не в президентской резиденции…
— Мне больше нравится, как белорусы обошлись со своим Шушкевичем, — усмехнулся Медведчук.
— Ну, так тоже нельзя, — немедленно подал голос Пинчук. — Законы должны соблюдаться. Кстати, как идёт подготовка к подписания договора?
— Плохо, — откровенно признался премьер. — Белоруссы готовы объединяться с Украиной, но боятся России. Не забывайте, они зависят от российской трубы больше, чем мы.
— Труба, труба… Всё упирается в эту проклятую трубу, — опять скрипнул зубами Кучма. — Любые наши инициативы, любые шаги — всё упирается в трубу. Что бы мы не делали, банде Ельцина достаточно повернуть газовый кран…
— Психология мелких лавочников, — с горечью сказал Медведчук. — Они просто всё проедают. Нефть, газ, никель, алмазы… Заводы стоят. Фабрики стоят. Корабли ржавеют на приколе. Помните, что они сделали с Черноморским флотом? Они тысячу раз обанкротились бы, если бы не трубопроводы…
— …из которых, между нами говоря, кое-что пропадает, — ехидно бросил Рабинович. — С неофициального благословения нашего горячо любимого президента, между прочим.
Президент невольно улыбнулся: он по-своему любил упрямого старикана, не боявшегося ни чёрта, ни дьявола, ни самого товарища Кучмы.
— Это, кстати, плохая политика, — недовольно заметил Медведчук. — Да, мы имеем лишние деньги. Зато банда Ельцина имеет с этого лишние пропагандистские козыри. Какой сюжет — хохлы, ворующие газ! А потом вы удивляетесь, что у московского посольства…
— Это была срежиссированная акция, — спокойно сказал Ющенко. — Обыкновенная провокация.
— Ну конечно, — ощерился Медведчук, — обыкновенный русский национализм. Ложный, фальшивый, феесбешной выделки. Но это понимаем мы. А как это аукается здесь? Украинцы видят по телевизору толпу у своего посольства в Москве. Украинцы видят эти плакаты… как там было?
— «Украина, отдай наш газ! Украина, возьми свой сахар! Нам надоел твой Кучма-интеграст! Украина, иди ты на…» — охотно процитировал Рабинович.
— Вот-вот, — поспешно перебил старика Медведчук: несмотря на стопроцентно пролетарское происхождение и тяжёлое детство, знаменитый организатор украинской тяжёлой промышленности органически не переносил мата. — Простой украинец это видит, и задумывается — а стоит ли жить в одном государстве с людьми, которые бросают ему в лицо…
— Кто там у нас простой украинец? Простых украинцев не бывает! — донёсся из коридора молодой весёлый голос. Через пару секунд и сам обладатель голоса появился на пороге залы.
— Здравствуйте, товарищи дорогие, — Дмитро Корчинский, по прозвищу «Провидник», бессменный руководитель Всесоюзной Комсомольской Организации, ослепительно улыбнулся, и пригладил непослушный вихор. — Что, опять строим козни против московской незалежности?
— Строим, строим, — добродушно прогудел Медведчук. — Вот решаем, как быть с трубой. Есть идеи?
— Есть, — чётко отрапортовал Корчинский. — Трубу послать на хер. Жить следует по-христиански. Нищенством и грабежом.
В зале как будто посветлело от улыбок.
— И кого же собирается грабить украинская молодёжь? — поинтересовался Президент.
— Надо отделить Крым, потом напасть на него, и уйти с добычей, — тут же отпарировал Корчинский. — Потом ещё что-нибудь отделить, и снова напасть. Донбасс, например.
— В Донбассе брать нечего, — буркнул Медведчук.
— Это неважно. Если есть намерение пограбить, будет и то, чего грабить, — Корчинский лихо закрутил смоляной ус. — Вообще, всё зло в мире от объективной реальности.
— Это у вас, товарищ Корчинский, получается субъективный идеализм, — начал было Пинчук, но Корчинский невежливо перебил его:
— А вы хотите посмотреть на человека, которому эта самая объективная реальность по енто самое место?
Президент резко повернулся.
— Что? Неужели? Получилось?
Сияющий Корчинский кивнул.
— Ага. Получилось. На пересылке. Они его в бронированном вагоне везли. Ну да что нам та броня…
— Вот как надо работать, товарищ Рабинович! — Президент грозно взглянул на старика. — Помните наш разговор? Вы мне что говорили? Невозможно, объективно невозможно… а наши комсомольцы, от горшка неделя… сделали!
— От горшка два вершка, — поправил Президента Рабинович. — И никакого бронированного вагона там не было.
— Не было, — легко согласился Корчинский. — А хорошо, если бы был. Наши ребята так надеялись… А так — обычная засада на шоссе. Они его тайком перевозили. Боялись, значит, народных мятежей. Эх, жаль!..
— Никаких мятежей не предвиделось… — начал было Рабинович, но тут в коридоре послышались шаркающие шаги.
— Мой любимый писатель, — тихо сказал Ющенко. — Всю жизнь мечтал… автограф… А у меня сейчас даже нет его книги.
Дверь открылась.
— Салют, камарады, — вошедший чуть подволакивал левую ногу. Его тонкое, породистое лицо обрамляли совершенно седые волосы. На скуле были видны следы ожога. Глаза были внимательными и холодными.
— Это я, Эдичка. Спасибо вам, что вытащили.
— Как доехали? — встрял неугомонный Пинчук.
— Ничего. В тюрьме было хуже, — скупо проронил знаменитый писатель. — Вы не боитесь международного скандала?
— Боимся, — честно признался Президент. — Но ведь они собирались вас убить.
— Могли? Они это делали, — Лимонов криво усмехнулся. — Вы знаете, что такое российская тюрьма, и как там обращаются с политическими?
— Послушайте… Нам предстоят ещё кое-какие формальности, — заторопился Ющенко. — Мы готовы предоставить вам политическое убежище, но не готовы взять на себя ответственность за ваш побег…
— Я уже предлагал один вариант. Я могу сначала появиться на территории третьей страны. Скажем, в Тирасполе. Там меня знают.
— Тираспольское правительство не признаёт никто, кроме Украины, — вздохнул премьер.
— Вот и мы поддерживаем сепаратистов, — подал голос Медведчук.
— Они за Союз, — возразил Пинчук. — И никогда не выступали против территориальной целостности Молдавии. Они борются с кишинёвским режимом, а не…
— Все эти тонкости объясняйте Совету Европы, — парировал Медведчук.
— Кстати, — Лимонов по-прежнему стоял в дверях, не делая попыток войти, — вы можете как-нибудь… э-э… помочь Дугину и Проханову?
Сидящие в зале переглянулись. Президент опустил глаза.
— Нет, не можем, — тихо сказал Ющенко. — Поймите, — его голос дрогнул, — мы всё знаем… мы знаем, где их держат… и как их ломают… но они выдержат. Ельцин не будет их ликвидировать. Их головы нужны ему для большой игры, как средство давления на нас. А вот вас он ненавидел лично. За ваши книги. За то, что вы говорили людям правду. Понимаете?
— Что ж. Спасибо. Признаться, я предпочёл бы, чтобы вы вытащили оттуда не меня, а товарища Дугина. Он гений, а я просто бойкий литератор, — так же холодно сказал Лимонов. — Извините, я пойду.
Дверь закрылась.
В зале повисло молчание.
— Н-да… Вот тебе и автограф, — начал было Пинчук, и осёкся под взглядом Ющенко.
— Когда-нибудь, — наконец, сказал Президент. — Когда-нибудь.
— Теперь можно говорить, — наконец, сказал гость, убирая в сумку сканер-блокиратор. — Все «жучки» блокированы. Скрытые камеры тоже.
Хозяин кабинета посмотрел на гостя с невольным уважением.
— Откуда у вас такая техника? Американская? У нас ничего подобного нет…
— Почему же американская? — гость с удовольствием устроился у окна, и дёрнул за шнур. Жалюзи поднялись, и он увидел то, что снилось ему по ночам все эти десять лет: набухшую красными огоньками артерию Калининского проспекта.
Хозяин кабинета ждал.
— Техника наша, — гость усмехнулся. — Теперь Южмаш делает отличную электронику.
Хозяин кабинета поднял бровь.
— Вы говорите — наша? В смысле — украинская?
— Наша. Просто наша, — веско ответил гость.
— Я хочу вам сказать одну вещь, — хозяин кабинета нервно почесал переносицу. — Разумеется, я остаюсь патриотом… и, конечно, верю… верю в то, что мы будем вместе. Рано или поздно. Но… я уже давно живу здесь. В России. И… я стал лучше понимать русских.
— Великороссов, — веско поправил гость.
— Ну да, великороссов… это, конечно, правильнее, но у нас так не говорят… — хозяин едва заметно выделил слова «у нас».
— Вот оно что… А может быть, у вас — гость жирно подчеркнул голосом последние слова — уже принято называть себя как-нибудь ещё? Скажем, арийцами?
Хозяин кабинета искоса посмотрел на гостя.
— Вот так мы будем разговаривать, Вадим? После десяти лет?
— Вот так мы будем разговаривать, Сергей. После десяти лет. Если ты так… изменился.
— Я уже сказал, что я патриот, — хозяин кабинета раздражённо отвернулся. — И я хорошо знаю, в чём состоит мой долг. Я о другом. Но, кажется, тебе это неинтересно. Говори тогда, с чем пришёл, и закончим с этим.
Гость немного помолчал, что-то соображая.
— Прости, Сергей, — наконец, сказал он. — Кажется, я действительно немного… того. Но и ты меня пойми. Ты не выходил на связь…
— Потому что я не мог рисковать! — хозяин кабинета снова сорвался. — Потому что у мне сверкнул шанс, уникальный шанс, один из миллиона… я вцепился в него зубами, и я его вытянул. Вот теперь и я в банде Ельцина, — он улыбнулся, показав аккуратные мелкие зубки.
— Ты не просто в банде. Ты теперь премьер, — серьёзно ответил гость. — Ещё раз прости, я всё понимаю. Но когда я думаю об этих… у меня внутри всё сжимается.
— У меня давно уже перестало что-либо сжиматься, — так же серьёзно ответил хозяин кабинета. — В общем-то, люди как люди. Конечно, то, что они сделали — чудовищно, но… Не обязательно быть злодеем, чтобы творить злодейство. Они ведь тоже имели причины… и где-то даже были по-своему правы…
Хозяин кабинета замолчал. Молчал и гость. В воздухе прорезалось тихое поскуливание кондиционера.
— Очень у тебя, товарищ Кириенко, великорусская логика прорезалась, — наконец, выдавил Вадим. — Вечная рефлексия, вечный надрыв… И те правы, и эти правы… Да все правы! — он неожиданно стукнул кулаком по столу. — И все неправы. Вот так-то она, жизнь, устроена…
— При чём тут великорусская логика? — хозяин кабинета усилием воли взял себя в руки. — Речь идёт о фактах. Мы, украинцы — имперский народ. Мы так устроены, что нам обязательно надо чем-то жертвовать во имя высокой цели. Мы создали империю…
— …с центром в Москве, — ехидно добавил гость. — И совсем недавно эту империю называли «русской». Пока русские не отделились.
— Ну да. Сейчас русские с удовольствием подсчитывают процент украинской, немецкой, грузинской, и чёрт знает ещё каких кровей у своих правителей… Даже Феофана Прокоповича вспоминают… Отвратительное занятие, но ведь их тоже можно понять. Фактически, они впервые осознали себя нацией. На-ци-ей, а не «русским народом», о который всегда вытирали ноги. И эта нация… она ведёт себя иногда глупо, иногда грязно… Но больше всего она хочет, чтобы её просто оставили в покое. Русские фактически ещё не жили…
— А что, при Ельцине они живут? — спросил гость.
— Ельцин… — задумчиво сказал хозяин. — Я теперь вижу его чуть ли не каждый день. Раньше я его просто ненавидел, а теперь…
— Что же теперь?
— Пожалуй, ненавижу ещё больше… Но он умён, очень умён. Умён каким-то подлым умом. И гораздо грамотнее, чем о нём думают. Кстати, он марксист, — неожиданно закончил хозяин кабинета. — Да, марксист, самый настоящий. Базис-надстройка, это в него забито. Знаешь, как он объясняет украинский интегризм?
— Нефтью, — без интереса сказал гость.
— Ну да. У Украины нет нефти, поэтому она хочет вернуть себе Россию… Но интересно, что он говорит дальше. Он считает, что шанс России — это экономический подъём на Украине и в других интегристских государствах. Он желает нам удачи, представляешь себе? Дескать, тогда нищая Россия никому не будет нужна. Кстати, мне кажется, что он именно поэтому закрывает глаза на газ… Дескать, пускай поднимаются, пускай развиваются, чем дальше мы уйдём от них — тем лучше… А ещё мне кажется, — Кириенко почему-то перешёл на шёпот, — весь этот ужас, что делается в России с экономикой… весь этот развал, хаос… он для этого был нужен. Чтобы русских оставили в покое. Представляешь себе: развалить собственную экономику, лишь бы тебя оставили в покое? Это как крейсер «Варяг». Это очень русское…
— Ты опять впадаешь в национал-романтизм. Это действия правительства, а не народа. Кстати, ты не ответил на мой вопрос, — отрезал гость. — Таки при Ельцине великорусский народ стал, наконец, счастливым?
— Ну, в общем, нет… — промямлил хозяин кабинета. — Бедность, пьянство, вымирание… безработица. Русские девки на Крещатике — тоже реальность… И всё-таки у них есть независимое государство. Которое мы сейчас собираемся — давайте уж честно — аннексировать. Силой присоединить к Украине. И опять назвать всё это «Союзом». И начать строить светлое будущее. На русских костях… Я, наверное, слишком пафосен, да? Но в последнее время я об этом стал задумываться. Серьёзно задумываться. И если бы не этот кошмарный режим, не эти репрессии, не эта ложь с экранов, не эта кошмарная бедность… Деньги есть только у причастных к трубе. Знаешь, сколько сейчас стоит однокомнатная московская квартира на окраине?
— Нет, — вошедший всё смотрел на проспект.
— Иногда — несколько сотен долларов. Редко тысяча. Московская кварплата, свет, вода — всё это людям не по карману. Особенно старикам тяжело… Это бывает так: сытые, мордатые менты вышвыривают стариков из квартир, а вслед кидают вещи. Называется «свободный рынок». И я должен подписывать указы, которые всё это…
— Ты мечешься, Серёжа. Ты очень мечешься, — констатировал гость. — Скажи: ты получил инструкции?
— Да, — ответил хозяин кабинета.
— Ты в состоянии выполнить задание?
— Да, — это было произнесено после небольшого колебания. — Да.
— А себя не жалко? — гость отвернулся от окна, и посмотрел в лицо Кириенко. Тот выдержал его взгляд.
— Жалко. Очень. Народ жалко. Русский народ. Доволен?
— Значит, себя не жалко?
— Нет, не жалко. Страшно — да, это есть. Но не жалко. Чего меня жалеть-то? Да на месте любого русского мужика я бы себя пристрелил. Как бешеную собаку. За то, что я сделаю с его страной. Которая никогда не была его, понимаешь? Его, этого самого русского мужичка. Не была, факт. А теперь уже никогда не будет…
— Понятно, — ответил гость. — Думаю, что с тобой всё в порядке.
— Тебя за этим послали? — зло спросил хозяин кабинета. — Выяснить, каково у меня на душе? Плохо у меня на душе, если это интересует лично товарища Рабиновича. Плохо и скверно.
— Это хорошо, что тебе плохо, — неожиданно мягко сказал гость. — Это правильно, что тебе плохо. Потому что… если бы ты бодро отрапортовал, что, дескать, всё в порядке, и ты готов… Рабинович, наверное, снял бы тебя с этого задания.
— В смысле снял?
— В том самом смысле, — гость улыбнулся. В свете ночных огней блеснули железные зубы. Кириенко знал, что Вадим потерял свои клыки в российской тюрьме, куда попал якобы за хулиганство, но просидел там четыре года: сроки ему набавляли «за поведение».
— То есть ты был послан меня убить. Если я откажусь выполнять планы Рабиновича. Делать России дефолт. Так вот, я…
— Стоп, стоп, угомонись, я не про то, — гость развёл руками. Снова блеснуло железо во рту. — Убить, не убить… Мы же фактически собираемся убить Россию. Ну пусть не Россию, а Российскую Федерацию. Ну пусть не убить — оглушить. Оглушить дубиной из-за угла. Для её же пользы, разумеется. При этом сколько-то этих несчастных великорусских стариков умрёт от голода… Хорошо хоть, не от холода. Холод — это очень плохо… сам знаю.
— Да, сейчас тепло, — Кириенко поёжился. — Не могу привыкнуть к московскому климату. Даже когда здесь жарко — мне холодно. Тепло бывает в Киеве… Эх, сейчас бы погулять по Крещатику, как тогда, помнишь?
— Мы ещё пройдёмся по Крещатику, Киря, — гость назвал хозяина его старым школьным прозвищем. — Ты сделаешь дефолт. Российская экономика рухнет. Через несколько месяцев, когда американские кредиты у них кончатся, в Москву придём мы. И у нас снова будет Союз.
— Империя, — добавил зачем-то хозяин кабинета. — Империя, — ещё раз повторил он. Слово застряло в застоявшемся воздухе.
— Хорошо. Пусть империя, — Вадим провёл пальцем по губе, приглаживая усы. — Дугин тоже говорит об империи. Кстати, ты не знаешь, где его держат?
— После побега Лимонова их всех перевели во вторую спецтюрьму. Дугина, Проханова, Алксниса… Впрочем, нет. Кажется, Алкснис уже всё.
— Его убили?
— Не знаю. Наверное.
— Он же был совершенно безопасен! Он ведь типичный правозащитник!
— В общем, да, — нехотя сказал Кириенко. — Кабинетный человек, занимался бумажками. Но я его за что-то любил. Наверное, за человечность. Помнишь, как он говорил: «Когда мы объединимся, я сам буду защищать Ельцина и Руцкого, требовать честного суда над ними…»
— Ага. А наш комсомолец Корчинский ему пообещал, что тогда он его посадит в хорошую украинскую тюрьму, где кормят салом и горохом…
— А помнишь, как он на митинге не смог подойти к трибуне, потому что извинялся?
Друзья взглянули друг на друга и заулыбались.
— Да, было дело… Дугин потом говорил…
— Ну, нашёл кого вспомнить! Дугин собирал площади… Помнишь его речь в Киеве, в российский день независимости? Когда он требовал от всех правительств стран СНГ объявить национальный траур? Это было сильно. Все просто плакали.
— Помню. Ещё бы. Кстати, кассеты с речами Дугина в Москве есть. На чёрном рынке. Недёшево, кстати, стоят. И за это ещё можно получить по шапке. Так-то.
— Ну, это всегда было… Красиво говорит, чертяка! То-то Ельцин его так не любит. Сам-то, небось, двух слов связать не может… — Вадим заметно оживился, оттаял, и теперь был не прочь поболтать.
Внезапно на столе Кириенко зазвонил чёрный телефон без диска. Тот поднял трубку, с минуту слушал, потом швырнул её на рычаг.
— Так. У нас новости. Политзаключённый номер один…
— Дугин? — оживился гость.
— Проханов. Проханов бежал. Из спецтюрьмы. Я должен срочно быть на совещании.
Маленькая жизнь Стюарта Кельвина Забужко
Hi!
Моё имя Стюарт Кельвин Забужко. Мой возраст девять лет.
Это моё настоящее имя и мой настоящий возраст. Моя история — настоящая невыдуманная история. Подлинность всех фактов заверена компанией Real Security Alliance. Сертификат прилагается к этому файлу.
Поэтому я имею право разместить этот текст на сервере «Невыдуманные истории со всего мира» и предлагать это вашему вниманию с коммерческими целями денег.
Агент из «Невыдуманных историй» предлагал мне всё переписать литературным путём, чтобы это было более взрослым и можно читать как красивая литературная история. Но я вовремя узнал, что такая переработка, помимо денежных затрат, кроме того уменьшает достоверность с категории A- до категории B+ и это и это не вступает в мои намерения. Ведь читатели этого сервера посещают его для настоящих историй из жизни. Поэтому я буду писать как получится сам.
Также я вынужден признать барьер языка. На Цивилизованном языке я говорю хорошо, но на своём родном языке южно-польском у меня пока получается лучше. Только наш язык очень быстро изменяется, потому что имеется прогресс и в нём становится много новых Цивилизованных слов. Мы к сожалению всё ещё довольно отсталое государство. Так что обычно я пишу по южно-польски. Перевод на Цивилизованный язык создан программой Ultral LinguoDemi 8.3. Мне сказали, что это самая лучшая бесплатная программа переводящая с моего родного языка на Цивилизованный. Я, к сожалению, теперь не имею достаточно денег для услуг человеческого перевода.
В руководстве для писанию историй на этом сервере советуют сообщать факты относительно места, где живёшь, и людей окружающей среды, затем предлагать несколько интересных историй, и затем постепенно проходить к себе и своим проблемам. Я буду пробовать следовать за этим советом.
Извините, если какие-нибудь ошибки. Спасибо за понимание.
Так, сейчас мне уже исполнилось девять лет и я маленький житель своей страны. Я живу в Западной Украине. Это государство поблизости от Польши и Словакии, но на юг. Мы Цивилизованное Европейское государство, принятое в Большую Европу и в военно-культурном отношении относимся к зоне влияния Польши.
Если вас заинтересовались моей родной землёй, вы можете найти её на любой большой карте мира. На Цивилизованном языке она называется Western Ukraine. Я горжусь своей маленькой славной Родиной. Особенно приятно мне, что в её названии имеется такое хорошее слово как West.
Хочу с гордостью сообщить также, что у меня есть все гражданские права кроме права быть избранным, которое даётся с десяти лет. Наша страна прогрессирует в смысле предоставления всех возможностей для Рыночной жизни каждому жителю несмотря на ограничения возраста, пола или ещё чего-нибудь нецивилизованного.
Я живу в главном городе нашей страны Львiве. Раньше москали называли его Львов, и это оскорбительное название до настоящего времени остался на некоторых картах и в книгах. Пожалуйста, если вы будете видеть такое название, то вспомните, что этот город фактически называется Львiв и что в нём расположена самая крупная военная база Цивилизации в нашем регионе!
Наш город очень красивый. Наиболее красивое в нём, конечно, Центр Сороса и военная база Цивилизации. Для их постройства были привезены строительные материалы из самой Цивилизации непосредственно! Когда я был маленький, я ходил к папе в Центр Сороса, чтобы своими руками потрогать кусочек настоящей Цивилизации. Стены очень гладкие и равные как стекло. У нас строения хуже, потому что они построены из всяких плохих материалов. Но мы также стараемся развивать высокий уровень жизни.
Хотя красивее всего, конечно, военная база! Когда я ходил на её помойку, я всегда любовался её величеством и силой. Очень было бы желательно посетить её внутри или даже посмотреть одним глазом на её устроение. Ради этого я записался бы в солдаты или хотя бы в прислугу. Жаль, что наше население ещё не настолько продвинуто, чтобы Цивилизация принимала наших солдат в свои Мировые Forces. Но говорят, что скоро нас тоже будут принимать, и тогда можно будет подумать про это.
Но историческое строительство также есть у нас. Например красивый памятник Захер-Мазоху. Это знаменитный человек, который придумал для всех людей мазохизм. В Цивилизации имеются много поклонников этого образа жизни. Пожалуйста не пропустите, что изобретатель этого, Захер-Мазох жил в нашем маленьком городе, который таким образом принес вклад в глобальную культуру!
Памятник, очень красивый на этом Захер-Мазох, который порет женщина в мехе. Также это изображение — торговая марка нашей фирмы UkroNude, где я работаю.
Теперь я буду рассказывать о себе непосредственно.
К сожалению моя жизнь не богата большими событиями, но всё-таки в ней случались трудности и вызовы. Возможно кому-то будет интересно, каким способом я преодолел эти вызовы, стремясь к цели.
Начать придётся с самого моего рождения и даже раньше. Когда Цивилизация освободила нас от москалей, меня на свете ещё не было. Но моего папу проверяли, нет ли у него москальской крови и может ли он жить в демократическом сообществе. Меня поэтому тоже проверяли, и выяснилось, что у меня нет совсем москальской крови никакой. Так что я реальный маленький украинец! И вы можете благополучно связываться и общаться со мной, не подвергаясь никакой мозговой опасности или ментального неприятия, которые бывают от москалей.
Я планирован как единственный ребёнок в нашей семье. Мои родители принадлежат Среднему Классу, хотя для этого им приходится очень много работать. Но я так думаю что они чрезвычайно прогрессивные у меня. Если я вырасту и всё останется в порядке, я тоже буду прогрессивным и обязательно вступлю в Средний Класс.
Мама родила меня, когда Цивилизация уже придумала Демографическую Программу и распространила её во всём мире для нужд развития населения. Папа решил, что наша семья будет в ней добровольно участвовать. Мама сначала была против, но папа мой — самый прогрессивный человек, потому что он работает в Центре Сороса. И он решил, чтобы мама сходила в Центр Планирования Семьи и сделала все нужные уколы. То есть уколы делали мне, только через маму. Такие специальные очень маленькие приспособления, они называются микрокапсулы, и запускаются в кровь матери, а потом подплывают к плоду и делают над ним всякие генные модификации. Это всё опробовано и применяется в самой Цивилизации, так что папа был совершенно спокоен за здоровье меня.
Но сначала мама и папа заключили со мной договор. Мне тогда было три недели и подписывать никакие бумаги и даже читать их я не был способный. Поскольку я не имел даже глаз, и тем более развитого мозга, чтобы воспринимать юриспруденцию. Поэтому мою сторону представляла страховая компания Mitton Servo. Компания по согласованию с родителями определила цену, которую я буду должен им оплатить когда выросту. А если я не смогу, они заплатят моим маме и папе компенсацию. Это очень Рыночный механизм. Если они будут назначать слишком большую цену, то все дети не смогут выплатить своим родителям, и компания потеряет деньги и будет разрушена. А если очень маленькую, то она тоже разорится, потому что не будет делать хорошую прибыль. Так что всё очень хорошо устроено и само собой Рыночно происходит. И там поэтому работают очень хорошие специалисты, которые знают свой бизнес.
Так я был рожден, и история моей жизни начинается с этого момента.
Я был нормальный здоровый ребёнок почти в три килограмма и довольно большой. Мама очень переживала по этому поводу, что будет большой шрам. Но Цивилизованные врачи из Военного Госпиталя справились со своей задачей просто чудесно! У мамы до настоящего времени красивый плоский живот, и только один маленький шрамик. Его не видно совсем если не смотреть слишком интенсивно. Можно было бы его абсолютно убрать с кожи путём регенерации ткани, но мы сейчас имеем проблемы с ресурсами денег. Такую сложную операцию можно делать только в Цивилизации, а мы пока ещё не можем себе туда позволить. Но мы обязательно когда-нибудь соберём денег и полетим туда! Я мечтаю о этом каждую ночь перед сном. Как мы с папой и мамой идём, все счастливые. И мы садимся в огромный самолёт и летим далеко-далеко! И я ещё хочу увидеть Атлантический океан и великие города Цивилизации — Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Лондон, Лас-Вегас, Солт-Лейк-Сити, и все остальные. И, конечно, познакомиться со всеми людьми, которые там живут!
Когда я был маленький, думал, что там живут люди из золота, у них золотые руки и головы, даже глаза из золота. Потом мне папа объяснил, что Золотой Миллиард — это просто такое выражение, и фактически они не из золота, а просто правильно питаются, пьют витамины и ходят в солярии. И поэтому у них всех блестящая золотая кожа.
Мне тоже хотелось бы иметь золотую кожу, но у нас нет денег на солярий. Кстати одна девчонка из класса хотела загореть, но у её родителей тоже не было на солярий, и она тайно загорала на крыше дома, чтобы иметь золотую кожу и хвастаться, как будто лежала под Кварцевой лампой. Но мы её обнаружили и всё рассказали классной. Потом на уроке Демократии классная нам говорила что обманывать ужасно, а девчонке был позор, что она всех хотела обмануть. С такими девочками мы Цивилизацию у себя не построим — вот что сказала классная.
На самом деле она конечно хорошая девчонка, эта Мэрька, просто она из не благополучных. Потому что её произвели на свет неправильно.
Я забыл написать про одно обстоятельство. Если вы живёте в Цивилизации или в Цивилизованной стране, вы может быть не знаете относительно некоторых наших проблем. Нашу страну, к сожалению, исторически долго мучили проклятые москали, которых в Цивилизации называют красными или commy. Москали мучили нас и не пускали в Цивилизацию свободно развиваться. Это грустный факт нашей истории и это нас очень задерживает в развитии. Если бы Цивилизация нас не спасла от москаликов, мы бы оставались дикими и вонючими и у нас не было бы автомобилей и компьютеров и других Цивилизованных вещей. А только дикость и ужасы у нас были.
Но по причине москалей у нас всё ещё бывают некоторые отдельные явления. Например, такие, что до сих пор некоторые дети рождаются неправильным способом. Не через кесарево разрезание живота, а как у животных. Такой способ рождения ввели москали и научили его нам. Это было сделано для того, чтобы оглупить Украинских людей. Потому что если ребёнок рождается матерью как животное, тогда его голова и тело при рождении движется по животному проходу, а тело матери и стенки этого прохода сдавливают ему головку и повреждается мозг. И ребёнок становится глупым и послушным для москалей. Нам всё это объяснили в школе. И показывали съёмки «родов». Страшные очень съёмки. Девочки плакали а я не плакал потому что мне мама заранее дала конфету против плакса. Я бы девчонкам дал обязательно такую конфету. Но она действует только для меня потому что я Модифицированный.
Но вот у нас случается, что рожают как животные. В Цивилизации такой способ конечно запрещён долгое время назад. А у нас в Западной Украине абсолютно недавно и до настоящего времени имеются много нарушений. Также то, что я не понимаю: ведь это же больно и грязно, а делают. Больно очень и жутко, но всё равно делают, чтобы только накономить денег или делать лишних детей неясно зачем?
Конечно, дети, рождённые как животные, воспитываются и обучаются отдельно, потому что они содержат в себе риск и опасность. Нарушения могут быть всякие или что-нибудь похуже. Но мы к ним все относимся гуманно и почти не дразнимся. Однажды только мальчик Майк Науменко задразнил одного такого из спецкласса, называя его грязной тварью, потому что он вылез из грязного женского места. И это, вы видите взаправду, было реально так! Но тот парень как безумный на Майка накинулся, еле оторвали от него. А потом он ещё плакал. Хотя на самом деле Майка он побил больше чем тот его побил, и не должен был плакать. Видимо его ум действительно повреждён. Надеюсь ему никогда не дадут никаких прав человека, чтобы он не нанёс вред Цивилизации.
Но Мэрька всё-таки позволено учиться в обычном классе вместе с нами, потому что она очень продвинутая и умная. К тому же её мама после её рождения сделала себе стерилизацию а это очень прогрессивно и было принято во внимание. Конечно все из нас осуждают Мэри за её неправильное происхождение, и иногда дразнят, что она вылезла из грязного женского места. Но она на это никогда не показывает обиды. Хотя я застал её однажды: она плакала, когда думала что её никто не видит. Я сказал классной и мы на уроке Демократии устроили ей психологический тренинг — называли зверюшкой и вонючкой и смотрели на её реакции. Но она всё перенесла и мы её простили.
Но когда один глупый мальчишка назвал её москалючкой, она подала на него в наш школьный суд и отсудила у него завтраки на один семестр вперёд. Учителя теперь приводят Мэри в пример как гражданское сознание.
Я пропустил ещё одно важное обстоятельство. Ещё одна большая проблема нашей страны в том, что многие дети до сих пор бывают с москальской кровью. Москалям размножаться запрещено, но они находят всякие способы, пользуясь тем, что с виду они совсем как люди. Имелась даже идея завезти к нам в Украину гены людей с чёрной кожей, чтобы они нас Цивилизовали и очистили от москальских генов, потому что чернокожие гены доминантные, а москальские нет. И Президент нашей страны Джулия Тимошенко уже подписала договор с Гвинеей. Но Украина не смогла оплачивать Гвинее экспорт ихней хорошей чёрной спермы. Папа мне рассказал эту историю всю как есть и про сперму тоже прямо так и сказал. Потому что я большой и должен знать про политику и другие такие вещи. А потом сказал что гвинейцы заломили неправильную цену за свою малафью. Я ему из школьного урока смеялся, и говорил что любая цена правильная, потому что цена определяется Рынком, а Рынок умнее всех на свете! А папа тоже смеялся, и потрепал меня по волосикам. И сказал что меня правильно учили, но в жизни есть всякие сложности которые я пойму потом.
Я кстати очень люблю, когда меня папа треплет по волосикам. И мне ещё хочется дожить до того, чтобы стать взрослым и всё понять, когда выросту. И полететь в Цивилизацию на красивом большом самолёте.
Но я опять отошёл от истории своей жизни. В общем, я был окружён любовью и заботой, ведь я был послушным и старательным ребёнком. А если я вдруг не слушался, мама давала мне конфету, самую-самую любимую вкусную-превкусную, и я сразу начинал слушаться. Папа мне потом объяснил, что конфета содержит вещество, который мой модифицированный организм воспринимает как химический приказ, и я от него сразу успокаиваюсь и перестаю думать плохие вещи.
Жаль, что теперь мне не дают больше эту конфету, без неё я становлюсь беспокойным и начинаю думать.
Ещё есть такие конфеты, которые мне надо кушать каждый день. Раньше, если я в чём-то провинился или ленился и не радовал маму с папой своими успехами, то мама вздыхала и говорила мне — знаешь, Стю, ты сегодня ленился и не имел никаких успехов. И на ночь не получишь конфету для хорошего сна. И сегодня к тебе не придёт добрый Оле-Лукойе с цветным зонтиком, а придёт злой москаль с чёрным зонтом, и ты будешь видеть всякие плохие сны.
Я сначала жутко плакал и просил маму отдать мне конфету. Потому что если я не ем такую конфету, мне взаправду будет сниться очень страшное и слёзное. Но мама мне про это говорила, что это полезное наказание а иначе я не буду трудолюбивым. И что слёзы не украшают мужчину. И я терпел. Только ночью сильно кричал от ужаса.
Потом я конечно понял как это всё правильно устроено для меня. Другие дети в классе были не Модифицированные, и они постоянно ленились хулиганили и драчливили, потому что у них не было таких конфет для поведения. Мамы и папы были даже иногда их шлёпают по разным местам, хотя об этом все молчат. Потому что мы Европейская страна и стремимся к Цивилизации, и у нас тоже приняты законы про насильственное прикасание к детям от родителей. Так что кое у кого могли быть большие неприятности. А я вот видел, как старый папка Мэрькин лупил Мэрьку прямо по попе! А Мэрька молча переносила это.
На самом деле, если честно, у Мэрьки классный папаша. Он просто очень старый и многих современных вещей не понимает. У него фамилия: Клименко. Сейчас таких фамилий как его или моя у молодых Украинцев всё меньше и меньше, потому что мы развиваемся в Цивилизацию. Ему бы кстати заменить звучение фамилии на Климэн или Клименкоу. Но папа Мэрьки старый. Он говорит, что уже привык, и теперь его не переделаешь. Зато он очень заслуженный. У него, говорят, много медалей на груди мундира. Я не видел, потому что мундир он не надевает. Но они у него точно есть.
Мэрька ещё хвастала, что её отец он командовал Сводной Карательной Группой и сам сжёг напалмом пятьсот москалей на Майдане Незалежности в Киеве. Это было когда казнили всех киевских москаликов.
Сейчас, конечно, такими вещами гордиться не принято, потому что мы теперь Цивилизованная страна. Но, с другой стороны, это часть нашей истории, которую мы должны уважать. И к тому же как ещё мы смогли бы избавиться от дикости москалей, если в одном Киеве их была так много? Хотя жечь тоже плохо, даже москалей, достаточно просто повесить или там утопить. Но тогда другие москали не испугались бы так сильно, и могли осмелиться вредить.
Но Цивилизация через десять лет после этого дела осудила нашу страну за излишнюю жестокость. А бывшего нашего Президента Ющенко даже судили в Гааге, только я не знаю, чем там всё кончилось. Это стоило нашему государству большого штрафа в пользу развития прогресса на Земле.
Я рассматриваю это как разумную политику. Потому что нельзя уподобляться москалям и дикарям, а сразу вести себя правильно. Конечно это не просто. Но мы постепенно становимся Цивилизованными и демократическими, благодаря помощи Цивилизации и Золотых Людей.
Я говорил относительно Киева. Киев — это имелся такой город в Восточной Украине. На этом месте теперь невозможно жить. Там кое-что случилось, я не знаю точно, что именно. Вроде бы в киевской главной военной базе Цивилизации взорвалась какая-то специальная бомба. Или её взорвали москали. В общем не знаю. Никто ничего по-моему тоже не знает точно. Папа Мэрькин ей говорил что это всё к лучшему, потому что в Киеве всё равно оставалось очень много москалей, и ещё выблядков с москальской кровью. Прямо так свободно ходили по улицам и понуждали наш народ к дикостям. Так что теперь когда Киева нет, мы стали ещё ближе к Цивилизации и Европе.
Я никак не могу сосредоточенно рассказать про себя. Ещё ведь надо упомянуть День Рождения с тортом — иначе всё остальное будет неясно.
На День Рождения мне обязательно дарят торт. Торт надо съедать до последнего кусочка. Я раньше не знал зачем. Но когда мне было семь лет, я на День Рождения объелся печенья и не смог есть торта. И тогда папа стал серьёзным и сказал мне что совершенно необходимо этот торт есть. Его мне с пяти лет лично присылают из страховой компании Mitton Servo. Там особые вещества внутри. И если я не съем этого торта то умру в течение месяца. Так у меня был запрограммирован организм. Это нужно на тот случай если я вырасту плохой и не захочу зарабатывать деньги на расплату с родителями, а попробую сбежать куда-нибудь в дикие края.
Я обижался ужасно тогда — что папа мне не доверяет и думает, я буду бегать от него куда-то и не платить. А он меня успокаивал и объяснял, что это не он придумал, а страховая компания. Он-то меня знает лучше всех на свете и даже не думает, будто я убегу и не буду платить ему деньги за отцовство. А страховая компания меня никогда не видела, и она очень подозрительная, потому что её все хотят облапошить. И поэтому они придумали такую штуку с тортом, а Центр Планирования Семьи это поддерживает, потому что это вносит порядок в жизнь людей. И что Золотые Люди тоже так делают, потому что Цивилизация ввела везде Демографическую Программу ввела во всём миру. И если даже настоящие Цивилизованные люди из Золотого Миллиарда так делают, почему же у нас должно быть по-другому? Ведь мы будущая украинская элита и должны быть Цивилизованными.
Я спросил почему дети вырастают и не платят родителям. Ведь родители их любили и заботились о них, а всякая забота должна быть оплачена, если мы не хотим быть дикарями. Папа стал серьёзным и мне всё рассказал. Что не все дети такие хорошие, как я. Некоторые очень жадные или неталантливые, или даже со скрытой москальской примесью крови. И не умеют много работать, чтобы оплатить родителей. В таких случаях родители поступают тоже по-разному. Некоторые даже продавали детей для рабства и ещё всяких ужасных вещей. Продавали даже на органы или ещё чего. Это всё очень отвращало людей от Демографической Программы. Зато модифицированного ребёнка моего типа бесполезно продавать, потому что он если не будет получать всех этих конфеток и особенно торта, то он всё равно быстро помрёт. И никакой прибыли от него не будет. И это правильная политика, потому что это снизило численность всяких гадких преступлений, связанных с Модифицированными людьми. И что надо переносить какие-то неудобства, для того чтобы усвоить нормы Цивилизации.
Но мне всё равно было жалко, что пришлось стошнить то вкусное печенье.
Надо признаться, неудобства с едой у меня довольно большие. Например, я не могу есть школьную пищу, потому что она не сделана в Цивилизации, а нашего местного производства. А мой организм настроен только на Генетически изменённую еду, делаемую в Цивилизации, и я могу есть только её. Это очень правильно сделано. Когда все люди будут Модифицированные, то Цивилизация сможет с помощью еды держать в порядке весь мир! Потому что Генетически изменённая еда делается только в Цивилизации, и если произойдут какие-то беспорядки, Цивилизация просто не даст беспорядочникам еды и они быстро одумаются.
Но пока что не все люди Модифицированные, и поэтому у меня есть трудности, которые не имеют другие.
Зато все мне сочувствуют. Даже в школе. Ведь я единственный Модицифированный ребёнок в школе и это гордость. Так что бывало, если я голодный, а в школьной столовой не было Цивилизованной еды, то для меня по всей школе собирали правильную еду, чтобы не нарушить мой организм. Хочу обратить ваше внимание: всё это делалось для меня бесплатно или очень дёшево! Это очень самоотверженно со стороны людей так мне помогать, ведь они мне ничего не должны. Очень жаль, что это прекратилось, когда я стал работать омегой, о чём я ещё напишу впоследствии.
Вообще в жизни мне помогали очень много. Конечно, больше всех это делают мои замечательные родители. Больше всего я благодарен, конечно, маме. Во-первых она меня родила, оказав тем самым неоценимую помощь. Во-вторых, она занималась моим воспитанием. А когда я прошёл конкурс на UkroNude и меня приняли на работу, мама мне сделала подарок: улучшенное цветовое зрение. У Модицифированных детей зрение обычно очень хорошее, но так называемые колбочки в глазе нуждаются в дополнительной стимуляции. Первый раз у меня появилось хорошее цветное зрение в шесть лет, когда папа выиграл деньги на Бирже. Тогда он потратил на меня. Я скушал конфетку и на следующий день начал видеть разные оттенки цвета. Я был очень доволен, прибежал к маме и сказал — мама, а у тебя глаза голубые! Она смеялась и меня целовала. А потом без меня папе говорила — зачем ты это сделал, нашему ребёнку это не нужно. Я знаю, потому что я подслушивал. Зато для работы она сама мне купила отличное различение цветов, так что я теперь вижу тридцать оттенков розового.
Хочу заметить, что это был подарок, то есть я ничего не должен родителям за мои хорошие глаза.
Хорошо когда тебя любят просто так или за небольшие деньги. Это кстати очень полезное свойство поведения нашего народа, благодаря которому мы выжили при москализме.
Теперь расскажу про свою работу.
Я начал делать продукцию впервые в пять лет, когда написал свою первую компьютерную программу и она заработала. Это было радостно для меня. Какое-то время я кодировал программы. Потом у меня открылись генетически запланированные таланты к рисованию и музыке, но в тот момент Цивилизация это всё запретила для экспорта из посторонних стран вроде нашей. Мама очень ругала папу, что они потратили лишние деньги, заказывая мне эти ненужные способности.
К счастью она ошибалась, потому что через некоторое время это всё понадобилось. Когда в Цивилизации вернулась мода на 3D-порноклипы.
Порноклипы если вы не знаете — это такие компьютерные кино, которые смотришь налаживая на голову шлем и прилепляете к телу всякие провода. Тогда кажется, что находишься внутри какого-то пространства, там играет музыка и двигаются трёхмерные фигурки. Вот я пишу эту музыку на компьютере и рисую эти фигурки.
Порноклипы рисуются в основном про секс. Некоторые люди смотрят их, чтобы не терять времени даром и больше работать, получая полезное удовольствие на рабочем месте. Я считаю, это здорово придумано.
Хочу ещё сказать, что у меня лично нет заинтересованности в порно, потому что сексуальные способности у меня сейчас отсутствуют. Это не потому что я маленький, а потому что они у меня были отключены страховой компании при рождении. Когда я стану взрослым, я их выкуплю у фирмы обратно. То есть я заплачу деньги страховой компании Mitton Servo, и они пришлют мне специальную конфету. Или, наверное, уже пилюлю — как взрослому. Я её съем и у меня будет желание секса. То есть в смысле я смогу испытывать половое влечение к женщине.
Тогда я наверное к Мэрьке пойду попробую. Она будет конечно уже взрослая. Но может быть, она вспомнит школьные годы учения вместе и не возьмёт с меня слишком дорого денег за это.
И я надеюсь, хотя сейчас она не хочет со мной дружить, но может ещё передумает.
По моим расчётам, примерно к 30 годам я заработаю себе на такую конфету, чтобы включить половые функции организма. А до тех пор это всё равно не нужно и только мешает. Потому что пока человек молодой, ему надо много работать, чтобы выплатить все детские долги. Иначе так и останешься на всю жизнь должен. И тебе никто не даст кредит на покупку дома и прочих хороших вещей, и на билет в Цивилизацию.
Я сейчас иногда думаю, что лучше мне вообще не нужен этот секс, я и так про него всё знаю, а сейчас уже больше чем хотелось бы. Лучше потрачу все свои деньги на поездку в Цивилизацию. Но папа говорит, что это я сейчас так думаю, а в двадцать лет мне будет интересны девочки, и я буду мечтать чтобы мой маленький членчик вставал и чувствовал удовольствие. Может он и прав. Пока не знаю что сказать про это.
А так я про сексуальность и все её разные варианты знаю всё по книжкам и по курсам, а некоторые вещи познал на собственном опыте, и это мне очень помогло. Теперь я очень хорошо умею видеть, когда чего надо нарисовать, чтобы это нравилось людям.
Мои порноклипы очень хорошие. По опросам, у меня рейтинг успешности 36.8 %. То есть когда люди смотрят через компьютер мои порнопродукции и стимулируют себя, то они в 36.8 % случаев испытывают оргазм. Обычный рейтинг 29 %. Так что я очень перспективный порнохудожник. Особенно у меня получаются сцены насилования. И ещё когда какают и писают в рот связанным мужчинам. На эти темы у меня сегодня рейтинг вообще 58 %, и я получил от фирмы поощрительный приз в виде 5 % скидки на просмотр нашей фирменной порнопродукции. А мне это пока совсем не нужно, ха-ха!
Я всю жизнь работаю на UkroNude. Это компания, которая производит половину Западно-Украинской секс-продукции. Я горжусь тем что работаю на такую важную для нашей экономики компанию. Раньше они в основном занимались настоящими живыми людьми. Как правило, девочками и мальчиками. Некоторые Золотые Люди приезжают к нам, чтобы иметь хороший отдых без помех и слежки. Говорят, что в самой Цивилизации запрещено использовать детей для таких работ. Тем самым Цивилизация создаёт Рынок для отсталых государств, чтобы они тоже могли зарабатывать Доллары. Это конечно против законов Экономики, но по-человечески очень хорошо со стороны Цивилизации — что они так благородно поступают! Пользуясь случаем, хочу ещё раз сказать Золотым Людям своё восхищение.
У нас все девочки в классе хотели бы работать на UkroNude, но никого туда пока не берут, потому что очень большая конкуренция. Мальчикам везёт больше. Например, ученик нашей школы Джордж Непейвиноу уже два года работает на UkroNude. Ему даже доверяют обслуживание очень старых людей из Цивилизации, которые к нам приезжают для отдыха. Он говорит: это сложная работа, потому что их трудно возбудить на удовольствие, и надо делать всякие разные вещи для этого. Иногда у него остаются раны и ожоги в разных местах, от которых потом плачет. Зато он хорошо зарабатывает и полезный гражданин нашего общества.
А одной девчонке Гале совсем повезло! Она выиграла конкурс и уехала в Цивилизацию — обслуживать Золотого Человека из Цивилизованного города Денвера. Он родился умственно альтернативным и коммуникация с ним затруднительна. К тому же в нём 180 килограммов и он не может двигаться сам. Зато у него нормальные половые функции, и он реагирует на женское тело, а поэтому имеет право на стремление к этой форме счастья. Этому Золотому Человеку предлагали около тысячи изображений девочек из разных стран, и он больше всего возбуждался на нашу Галю! Так показали приборы. Галя таким образом выиграла конкурс. Теперь она уехала его обслуживать. Перед отъездом она выучила все звуки, который издаёт этот альтернативный, чтобы понимать его по первому требованию, когда он захочет. И пришлось ещё пройти курс интимного обслуживания альтернативных людей, потому что это непросто. Зато теперь она живёт в Цивилизации и будет там жить какое-то время. Может быть, ей повезёт, и она получит Зелёную Карту. Хотя надежды мало, потому что в Цивилизацию стремится приехать весь мир, а не только западно-украинцы. Жалко, что Цивилизация такая маленькая и не может принять в себя всех хороших людей!
Ещё немного рассказа о моей фирме. Когда UkroNude приступила к деланию порноклипов, никто не верил, что нами так быстро освоятся высокие Цивилизованные технологии. Но UkroNude заключила договор с Цивилизованной фирмой, которая поставила нам свои технологии и обучила специалистов. Я хочу упомянуть, что это было сделано в рамках проекта Фонда Сороса о помощи малоразвитым странам и частично оплачивалось его Благотворительностью. Это прекрасный пример международного сотрудничества, когда людей научают полезной работе.
Я очень стараюсь быть самым лучшим. И уже получил известность как мастер клипов. Про меня даже есть статья в таком солидном Цивилизованном издании как Porno Guide. Потому что в нашу маленькую страну приезжали Цивилизованные Журналисты и делали от нас репортажи. Наша фирма UkroNude обратила на себя внимание и они написали о нашей работе на благо Цивилизации. Это было здорово!
В Журнале Porno Guide было упомянуто и про меня. Можно найти в электронном архиве журнала по названию текста, если я правильно запомнил: «Little Ukrainian Eunuch Represents Mad Dreams». Так вот, Little Eunuch — это я! Я конечно не евнух, а просто Модифицированный с невключённым половым чувством, но звучит очень красиво. Некоторые свои работы я стал подписывать так. По-моему здорово придумано, да?
Здесь я делаю важную для меня рекламу. Так, хотя я работаю на UkroNude, я готов рассмотреть любые коммерческие предложения на рисование сексуальной продукции. Бесплатный демо-образец моего искусства вы можете скачать с официального сервера UkroNude в разделе Zabuzhko, а также на сервере Alt Porno World в конкурсном разделе под ником Little Eunuch. Посмотрите! Там есть очень красивые работы. Вы непременно насладитесь моим искусством и испытаете удовольствие!
И ещё. Я знаю, что Золотые Люди очень благотворительные. Если вам не трудно, я прошу любой материальной помощи. Мне очень нужны заказы или хотя бы любые средства, потому что я имею проблемы, о которых я готов вам сейчас рассказать.
Теперь наконец пишу о своих проблемах.
Сначала про свои семейные обстоятельства.
Долгое время у меня была хорошая жизнь. В основном я учился и работал. Я всё делал хорошо, у меня оставалось личное время. И я даже мог позволить себе шестичасовой сон почти каждый день.
Но произошла неприятность с моей семьёй. Папа неудачно сыграл на Бирже и мы лишились всех денег и страховок. И мама с папой были вынуждены уступить свои родительские права компании Mitton Servo. То есть они, конечно, остались моими любимыми родителями, но все права на меня перешли к Mitton Servo.
Мама и папа до сих пор думают, что ещё меня выкупят когда-нибудь. Поэтому я оставаюсь жильцом части родительского дома, то есть своей комнаты, где я рисую на компьютере. Я также имею право пользоваться ванной и туалетом, просто вношу свою долю в оплату.
Однако у меня начались трудности. Mitton Servo воспользовалась вариантом договора, что мой заработок и все мои доходы шли ей на погашение детских долгов, а мне выдаётся какая-то сумма на жизнь. Это хорошо, потому что я скорее расплачусь с фирмой, но мне это сейчас не вполне удобно. Очень уж мало денег остаётся мне.
Я хотел узнать, нельзя ли по суду вернуться к прежнему варианту договора. Но папа объяснил мне, что если суд продолжится до моего дня рождения, Mitton Servo может не прислать мне торт. Такие вещи иногда делаются, к сожалению. Потом я смогу подать на них в суд за это, если я умру до суда. То есть не я, а мои представители, например родители или друзья.
Я решил всё-таки не умирать и оставить всё как было.
Я конечно не обиделся на Mitton Servo. По-Рыночному они обязаны так действовать в интересах своих доходов. Но моя жизнь от этого очень ухудшилась.
Конечно, появились и свои преимущества нового положения. Например, Mitton Servo совсем не занимается моим воспитанием, и поэтому всегда выдаёт мне конфеты на ночь сразу за месяц. Теперь я могу не бояться, что у меня ночью будут страшные сны и следующий день я буду ходить подавленный и бояться. Конфеты для послушания мне наоборот не дают, хотя я об этом жалею, потому что они были очень вкусные, и после них легче работалось.
Зато я могу теперь грубить маме и папе и не слушаться их. Но я это никогда не делаю, ведь они меня когда-нибудь выкупят и возьмут к себе обратно. Лучше быть вежливым. А слушаться родителей мне их больше не надо, потому что теперь мне надо слушаться Mitton Servo.
Но всё-таки сумма, выдаваемая мне Mitton Servo, очень маленькая. После всех необходимых выплат на учёбу в школе и прочие дела у меня не остаётся почти совсем.
Кстати ещё о помощи. Папа мне однажды говорил, что собирался продать глаз или почку, чтобы выкупить меня обратно, и даже прислал предложение в Военный Госпиталь. Но никакая больница не давала хороших денег, потому что он уже старый, а у нас есть очень много желающих продать лишнюю часть себя. Жаль конечно, что это не совсем правда. На самом деле папа никуда не обращался, я знаю, потому что я умею контролировать его электронный почтовый ящик. И там не было никаких предложений в Госпиталь. Думаю, он меня хотел утешить таким образом. Но мне всё равно приятно, что папа любит меня и не стесняется это показать.
Я тоже думал продать часть себя, но посмотрев на цены, решил что они низкие, а вреда для растущего организма в этом всё-таки много. К тому же самые дорогие вещи, вроде глаз, мне нужны целиком, потому что это работа. Внутренние органы детей тоже востребованы, но при моих нагрузках это лучше оставить себе.
Хотя я рассматривал вариант продажи генитальных органов, раз они всё равно не нужны. Но как выяснилось это очень дешёвая вещь, потому что детские штучки совсем не востребованы на Рынке органов. И я бросил эту идею.
Вместо этого я стал больше работать и много экономить на своей пище. Но поскольку из-за изменённого химизма тела я не могу есть местную еду и должен покупать Цивилизованную пищу, у меня стали случаться засыпания на уроках и работе, а потом начались обмороки голода.
В школе мне тогда помогали с завтраками, о чём я уже сказал. Но этого обычно оказывалось мало, потому что у меня сейчас рост организма.
Я конечно стал бороться за решение проблемы. Скоро я подумал про помойку возле Цивилизованной военной базы и стал разведывать её с целью пищи. Оказалось, при ней ютились стаи неправильных детей, уличённых в москальской крови и не имеющие человеческих прав. Несколько раз они подвергали меня физическому биению, хотя не такому сильному как сейчас в школе, но всё равно больно. Но я придумал такую вещь, чтобы обмениваться с ними дешёвыми украинскими продуктами в обмен на Цивилизованные объедки. Они охотно согласились на Рыночные отношения обмена, чем ещё раз подтвердили, что Рынок умнее всех и всё расставляет по местам.
Так мне удалось решить свою проблему. Когда я об этом рассказал в школе учителя меня сначала поругали за отношения с помойными детями москальского генотипа, но потом похвалили за Рыночное решение. Мне даже разрешили на уроках разбирать содержимое пластикового пакета, который мне приносили эти дети, и сортировать его. Правда поэтому мне пришлось занять крайнюю парту потому что из пакета немножко пахнет. Но как правило там находилась еда для меня. Иногда попадались почти целые апельсины яблоки и другие фрукты. Или недоеденные гамбургеры и хотдоги. Очень вкусно!
К сожалению, это кончилось из-за телевидения и политиков.
У нас была местная традиция, что солдаты из Цивилизованной военной базы иногда для забавы постреливали из-за забора по москальским помоечным детям. Кстати, они это делали не очень часто, чтобы дети не ушли с помойки. Тем более, они использовали Цивилизованное высокоточное оружие, так что они убивали мало, а больше смеху ради отстреливали им пальцы или уши или ещё ослепляли глаза лазером сжигая сетчатку. Все относились к этому с пониманием. На базе ведь скучно, а солдаты там служили не из самой Цивилизации и даже не из Польши, а из всяких стран, некоторые из которых только ещё вступили на путь развития. Надо же им как-то развлекаться по своему уровню. А на помойке жили не нормальные люди какие-нибудь, а москальские дети, не способные существовать в Цивилизованном обществе.
Журналисты с нашего телевидения узнали про эту стрельбу и решили сделать про это интересную передачу. Приехало телевидение и сделало съёмки, со всякими кадрами, и с отстреленными пальцами и с глазами. Кстати, по большей части это всё было нарисовано на компьютере и не было честной съёмкой! Я могу это утверждать точно. Я сам такие вещи рисовал много раз и знаю разницу.
Зато передача всем понравилась. К сожалению, из-за этой передачи к помойке стали ходить разные люди, чтобы тоже пострелять в москальских детей. Те очень напугались и стали прятаться от всех. Поэтому я лишился своих объедков и был вынужден разыскивать их самостоятельно. Это занимало время и к тому же мне потом приходилось много отмываться.
Потом начались выступления по телевизору всяких политических людей. Они сочиняли такое, что базовые солдаты специально прикармливают опасных москалёнышей, кидая им еду. И что Цивилизация не достаточно следит за поведением солдат на базе. Требовали какого-то расследования. Это всё было, конечно, очень нехорошо со стороны наших политиков. Но начальник базы решил прекратить такие разговоры. Он приказал закрыть помойку со всех сторон защитной проволокой под напряжением, чтобы там не лазили никакие дети. Помойка сделалась мне совсем недоступной.
А на москальских детей сделали большую облаву и всех куда-то увезли. Надеюсь, что их всех Цивилизованно усыпили, а не сожгли. Я опасаюсь, чтобы у нашей страны опять не было неприятностей от неправильных мер и на нас Цивилизация наложит какой-нибудь штраф по гуманным соображениям.
Однако, получилось так, что безответственные журналисты сделали всем плохо: и мне, и солдатам на базе, и даже диким москальским детям. Хотя вроде бы они не хотели ничего такого и действовали по-Рыночному. Я об этом рассказал папе, а он потрепал мне волосики и сказал: это всё политика, сынок. И добавил, что все беды у нас от политики. Потому что политиканы не знают чего хотят и мешают жить нормальным людям. Я спросил его, почему Цивилизация разрешает заниматься политикой таким странам как наша. А папа сказал, что Цивилизация специально даёт нам свободу, чтобы мы научились ей правильно пользоваться.
На самом деле я потом понял, что это тоже Рынок. Журналистам ведь тоже надо создавать свою продукцию, а это делать бывает совсем сложно, потому что создавать интересную продукцию на многие темы им нельзя из-за морали и по разным юридическим причинам. Потом я с этим столкнулся и понял, какие бывают сложности.
И политикам тоже надо придумывать проблемы, чтобы продать свои политические программы. Но лучше бы они были более ответственными!
Как видите, я стараюсь видеть в своих персональных неприятностях социальную перспективу.
Здесь я хочу ещё раз обратиться к благотворительным людям. Если кто-нибудь из вас, дорогие читатели, пришлёт мне немного Цивилизованной еды или хотя бы какие-нибудь остатки её, я буду очень счастлив! Пришлите мне немного Цивилизованной еды, прошу вас!
А теперь мой рассказ о проблеме с юридическими причинами и моей дальнейшей борьбе с обстоятельствами.
Всё началось с того, что один очень важный человек подал в суд на UkroNude. На Цивилизованном языке такой человек называется VIP, то есть это люди, которым всё можно потому что они лучше всех. Но этот человек, я думаю, всё-таки не лучший. Про него известно, что он любит судебные скандалы и его все боятся. На этот раз он поднял скандал, что в одном порноклипе использовано его лицо, на которое писают и какают девочки и собаки. Этот клип рисовал я. Лицо действительно было немного похоже, но я не имел в виду никакого живого человека. Я даже не мог его видеть на улице, так как на улицу я выхожу только в школу и к той помойке. Он живёт совсем в другом месте и мы не могли встретиться с ним.
Я говорил всем, что это случайность, и доказывал в суде, но решение было принято не в нашу пользу. Получилось, что этот важный человек выиграл в суде у UkroNude большие деньги за этот случай. UkroNude записала эти проигрышные деньги мне в долг, потому что я остался виновен и теперь надо как-то компенсировать потери.
Кроме того, тот человек потребовал, чтобы клип убрали с продажи, что повлияло на мой рейтинг как художника.
На самом деле это не совсем честно, потому что я же не виноват. Но теперь у меня возник ещё этот новый долг.
Я воспринял эту ситуацию как новый вызов и стал искать пути увеличения дохода. И конечно же их нашёл, потому что я очень Рыночный человек и во всём стараюсь искать практическое решение!
В общем, для того, чтобы найти дополнительные деньги, я обратился в школьный юридический суд за контрактом, чтобы поработать какое-то время жертвой.
Я учусь в очень хорошей Цивилизованной школе построенной по Цивилизованным стандартам. У нас есть самоуправление и своё юридическое обслуживание. Ученики стараются всё делать как в Цивилизованном обществе и судятся друг с другом для этого. Вот как Мэрька Клименко отсудила школьные завтраки у парня, что назвал её москалючкой.
Таким же Цивилизованным способом решаются все наши школьные проблемы. Например, есть такая детская проблема психики, что дети должны кого-нибудь дразнить и бить. Папа мне рассказывал, что раньше с этим боролись, но Цивилизованные психологи доказали, что это всё нужно для самореализации. И хорошо приучает детей к реальной жизни, где тоже всегда кого-нибудь дразнят и бьют. Надо только перевести это всё на правильную Рыночную основу.
Поэтому у нас принят такой порядок. Те богатые дети, кто хотят бить и обижать других, платят деньги тем, кого они бьют и дразнят. А дети, у которых нет денег или у которых большие траты, нанимаются быть жертвой на побитие и дразнение. Можно подать заявку и даже точно указать, что с тобой можно делать. Чем больше позволительно, тем дороже это стоит. Как в порноклипах: чем сильнее действие, тем больше стоимость для покупателя.
Таким образом богатые получают полезный социальный опыт и разрядку для своих инстинктов лидерства. А бедные получают материальную компенсацию. И все довольны.
Это очень прогрессивная идея, и Цивилизация проводит эксперимент по разным странам с её внедрением. Если всё пойдёт хорошо, то Цивилизация тоже применит у себя этот метод. Хорошо, что мы оказались в рядах прогресса.
У меня были не очень хорошие задатки для работы жертвы. В общем-то меня в школе все любили и не обижали. Но мне были очень нужны деньги и я подал заявку на самый сложный и тяжёлый уровень жертвы. Он называется «омега». Омегу можно не только дразнить и плевать, но и бить и даже повреждать, если не очень сильно и если это не помешает учёбе. Над ним можно также остроумно издеваться разными способами. В общем можно обращаться как с неправильным ребёнком и почти как с москалёнышем, только коммерческую жертву всё-таки нельзя калечить и убивать.
Скоро мне выдали красную рубашку омеги и объявили всем, что меня можно ругаться, обижать и делать насилие над телом. И у меня началась новая жизнь.
Сначала меня не очень сильно обижали по старой привычке. Просто дразнились и давали затрещины и щелбаны. Но они же платили деньги, чтобы на ком-нибудь срывать чувства лидерства, и постепенно я начал отрабатывать. Мне стали плевать в еду и на лицо, на меня сморкаться и вытирать об меня грязные руки, потом ноги. Хорошо что всё шло от простого к сложному.
Потом последовали более крутые вещи, и я понял, как сложно работать омегой.
Когда меня первый раз избили в туалете, я держался хорошо, только просил, чтобы не били по голове и по рукам, потому что это мне нужно для работы. Хорошо что к этому отнеслись с пониманием и теперь стараются делать мне больно в других местах, имеющих меньшую ценность.
Но всё равно однажды богатые мальчики защемили мне пальцы дверью и рука у меня потом долго болела.
Ещё плохо что я в школе больше не могу спать днём. Я имел привычку спать в классе, чтобы не терять времени. Теперь к сожалению, видя что я сплю мне обязательно делают какую-нибудь подляну. Например тошняют на голову. И мне приходится мыть её. Во время мытья мне тоже не дают проходу и делают всякие вещи. Так что теряется много времени и лучше уж быть начеку.
Ещё мне очень неприятно когда в мальчиковом туалете заставляют делать разные вещи, почти как в моих клипах. Хорошо что у меня нет сексуальной чувствительности, а то было бы совсем плохо. Сперма ничего на вкус, а моча противная очень солёная, меня тошняет от неё. И ещё попа болит внутри после старших мальчиков.
Но зато я этот опыт творчески использовал в своих работах, так что именно после того рейтинг моих порноклипов поднялся до 58 %! Таким образом я получил двойную выгоду.
Я рассказал про это нашей классной. Она похвалила меня как образец Рыночного поведения и на уроке поставила детям в пример. После этого меня сильно побили и ещё перемазали лицо какашками, зато мне было приятно признание моей Рыночной успешности.
Печально только, что мне теперь перестали собирать еду. И ещё мне очень грустно, что Мэрька Клименко теперь совсем со мной не разговаривает. Говорят она считает мои заработки недостоинством. Я пытался с ней поговорить, что это иллюзия, потому что никакая услуга не позорна, раз она пользуется спросом на Рынке. Но Мэрька просто плюнула мне в лицо и ушла.
Я конечно стерпел плевки, ведь это моя работа. Но лучше бы мне ещё раз раздавили руку дверью.
Однако через какое-то время у меня начались медицинские расходы из-за битья и всего остального. Стало много денег уходить на обезболивающее, от головы и даже от желудка. Я обратил внимание на эти проблемы, и нашёл Рыночное решение, обратив расходы в доходы!
А именно: я предложил свои услуги Цивилизованной фармацевтической фирме Meditec LOWE, выпускающей новые лекарства. Они как раз делают лекарства для Модифицированных людей и нуждаются в добровольных испытателях новых препаратов. Хорошо что в Цивилизации мало кто нуждается в таком заработке и они ищут добровольцев в остальном мире.
В общем я заключил договор на испытания лекарств. Сначала на мне пробовали всякие кремы и мази против ушибов и воспалений. Они оказались хорошими и я получил двойную пользу, излечивая синяки и ушибы и получая за это деньги! Об этом я говорить классной всё-таки не стал. Если она расскажет в классе как я хорошо устроился и Рыночно, мне опять сделают что-нибудь тяжёлое. Но всё равно приятно было думать о себе как о Рыночном человеке.
Потом мне предложили новые деньги за более серьёзные испытания. Но они требовали заражения моего организма различными болезнями, а у меня совсем нет времени серьёзно болеть, потому что я постоянно работаю, учусь, и меня ещё к тому же бьют и делают всякие гадости. Это всё очень влияет. С другой стороны, не хотелось упускать эти заказы. Тем более что на них можно было заработать Доллары, которые мне так необходимы.
Я в конце концов остановился на онкологических испытаниях. У Модицифированных людей почти не бывает раковых заболеваний, но некоторые редкие виды опухолей всё таки случаются. Фирма Meditec LOWE предложила мне поучаствовать в её новой программе. Мне будут пересаживать в тело эти опухоли, а потом их излечивать новыми препаратами.
Это очень удобная болезнь, потому что с раковой опухолью можно работать и жить, пока она небольшая и метастазов мало. А до большого размера её доращивать не надо, потому что в Цивилизации диагностика находит эти опухоли когда они ещё маленькие.
Вероятность вылечивания для новых препаратов 76 %, это очень хорошая результативность.
Конечно я слегка рискую. И недействием лекарства, и что нарушится химизм моего Модифицированного тела, такой риск тоже есть. Но зато в случае успеха я служу Цивилизации и решаю много своих проблем с финансированием. К тому же они обещали меня кормить во время испытаний Цивилизованной едой, и это для меня важно.
Родителям я пока решил всё-таки не говорить, что я подписался на исследования онкологических препаратов. Они могут от этого сильно волноваться, ведь они так много в меня вложили. Зато если всё пройдёт нормально, то я расплачусь с некоторыми текущими долгами и с оптимизмом взгляну в будущее.
Вчера я уже подписал необходимые контракты. Так что сегодня ко мне уже прибудут представители фирмы Meditec LOWE и пересадят мне опухоль.
Между тем, ещё одно последнее обстоятельство. Я пропустил упоминание о своей религиозной принадлежности. Я греко-католик, это Цивилизованная религия христианского типа, умеренная и толерантная, допущенная в Цивилизованном мире. Но я конечно же признаю все религии, которые разрешены в Цивилизации.
Теперь у меня последняя просьба к моим читателям: если вы веруете в какого-нибудь бога, помолитесь самую чуточку обо мне, потому что я всё-таки немножко боюсь.
Белой птицей пролетит моё детство
Мимо неба, мимо дерева, булочной, детской площадки, какого-то склада — мимо, мимо, быстро, быстро. И ещё быстрее, пока Женька не ушла совсем.
На Виноградную. Вдоль дороги — живая изгородь из шиповника, за ней двухэтажные домики, утопающие в жимолости. Краем глаза Денис ловит дед-борину хатку, на крыльце стоит бидон с молоком. В кустах мелькает белая майка, пускает фонтанчик опрыскиватель: дед Боря борется с жучком. Нет Женьки.
Мимо, мимо, быстро, быстро — на Коммунарскую. Поворот, забор, смородиновый куст, водокачка. Женьки нет.
Мимо, быстро, в Солнечный переулок. Густая тень от лип, красный кирпичный дом с вычурным жестяным петухом на хлысте антенны. Белобрысый паренёк стоит спиной к улице и стукает гуттаперчевым мячом о забор. Женьки не видно.
— Женька-а-а! — отчаянно закричал Денис.
— …а? — разочарованно переспросило коротенькое эхо.
Денис упёр руки в бока и надулся, чтобы вышло громче:
— Жень! Ка! — а! — а! Же-е-е-е-е-е-нь!
Мальчишеский крик, как новенький самокат, пронёсся по улице, подпрыгивая на выбоинах, и свалился без сил где-то у поворота на улицу Марата Казея.
Из-за спины раздалось насмешливое:
— Не ори. У меня от твоего крика голова порвётся.
— Голова чего? — глупо повторил Денис, поворачиваясь.
Женька стояла сзади и улыбалась. Ехидно, но всё-таки улыбалась.
— Женьк, — Денис опустил голову, — ты это… Я того… В общем… Давай помиримся, — выдохнул он и замер.
— Только без лизательств, — предупредила девочка, для уверенности отступая на полшага. — Ты как мириться, сразу губищами лезешь. Сколько тебе говорить: у меня на сюсявость ал-лер-ги-я. Желудочная.
— Какая желудочная? — Денис понимал, что должен ввернуть что-нибудь остроумное, но не получалось. В присутствии Женьки он безнадёжно дурел.
— А вот такая, что из меня когда-нибудь желудок выпадет. Ты обниматься полезешь, он и выпадет. А мне ещё на Комсомольскую ехать, — добавила она озабоченно.
Денис не выдержал и прыснул: почему-то идея ехать на Комсомольскую без желудка показалась ему уморительно смешной. Женька попыталась сделать строгое лицо, но не получилось.
Потом они стояли, обнявшись, посреди улицы и по-конски ржали друг другу в волосы. Женькина рыжая чёлка щекотала шею, и от этого он чувствовал себя большим и счастливым.
— Ну хватит, — напустила на себя серьёзность девочка, когда они, наконец, перестали вжиматься друг в друга. — Мне, меж проч, правда на Комсомольскую надо. Я анализы не сдала. На яйцеглист, на сахар в крови и на это самое. Ну, на давление.
— Я тоже давление не мерил, — нашёлся Денис. — Давай вместе смахаем.
— Чего вместе? — не поняла Женька.
— Ну… смахнём. То есть смашем, — Женька по-девочоночьи хихикнула, Денис, как обычно, стушевался. — Махнём, в смысле, — выудил он, наконец, из памяти нужное словцо.
— Ага, щас. На велики сядем и махнём. Знаешь, сколько до Комсомольской? Штаны лопнут.
— Зачем на велике? В вагончике можно, — наивно сказал Денис.
— Не люблю вагончики, — Женька сделала губу мопсиком, — они тесные.
— Ну давай в разных поедем, — самоотверженно предложил Денис.
— Вот ещё придумал. Кто меня развлекать будет? — девочка тряхнула рыжей гривкой. — Ладно, чего с тебя взять. Давай, что-ли, смахнём. То есть смашем, — она опять хихикнула. — Блин, ну ты скажешь, тыщу лет не забуду.
— У меня с языком problems, — уныло признал очевидное Денис. — Все слова вроде знаю, а как их ставить правильно?
— Ставь как-нибудь так-нибудь, — посоветовала Женька. — чтобы красиво получалось.
— У тебя слух есть, — позавидовал Денис. — Потому что итальянская бабушка, наверное.
— Опять про бабашку, — поморщилась Женька. — Думаешь, итальянцы только арии поют? У них там, между прочим, капитализм. Настоящий. На всю жизнь.
— У них социальное государство, — сказал Денис. — Пенсии всякие, гарантии.
— Ну и глупо, — пожала плечами Женька. — Всё равно ведь капитализм получается, только с крашеной мордой. Лучше как у нас. Или туда, или сюда.
Денис тяжело вздохнул и отвёл глаза. С Женькой у него как раз получалось наоборот: ни туда, ни сюда.
Они шли по улице Марата, мимо выводка красных кирпичных домов старой постройки. Весной в них никто не жил, но ближе к лету пару домиков заселили: приехали старики-южане, привезли с собой крепкий виргинский табак и банджо, вечерами в саду жарили мясо на углях, на Первомай и День Единения пускали шутихи.
Зато сейчас на улице было тихо и пусто.
В конце улицы была остановка вагончиков. Блестящая струна стреляла солнечными зайчиками. Женька зажмурилась и закрывалась ладошкой.
Под прозрачной крышей остановки грелась на солнышке чернокожая бабушка и два пацана, судя по всему районские. Они чувствовали себя не в своей тарелке и оттого нахальничали: один сидел, разбросав ноги в стороны, другой подпирал собой стенку и жевал резинку, старательно выдувая пузыри.
— Здрасьте, когда приедут, не знаете? — одним духом выпалила Женька в бабусину сторону.
— I badly hear. Не ошень бистро, please, — попросила негритянка.
Женька поняла и вежливо перешла на английский.
Быстро выяснилось, что бабуся на самом деле говорливая. Нет, она не знает, когда будет вагончик, но вроде бы скоро должны дать. Да, она едет в сторону района, но не на Комсомольскую, а дальше, уже в самый город. А живёт она тут, в посёлке, на Второй Коттеджной, но в город ездит часто — там у неё знакомые, очень хорошие люди, да тут вообще все очень хорошие люди, она довольна, что приехала, потому что у неё это самое… ну, это, которое берут на анализ…
— Pressure, — подсказал Денис.
Ну да, охотно согласилась бабуся, pressure. Давление. У неё низкое давление, это понятно, возраст, человек устаёт с возрастом. Снашивается, как старый башмак. Уже не выдерживает темпа. Конкуренция — это конкуренция. Люди друг друга едят, как репу. Всю жизнь не на месте, не в своей тарелке — да-да, ей тут лучше. Гораздо, гораздо лучше. Вот у неё есть дочка, та совсем другая. Хотя и родилась уже после конвергенции, и росла здесь. То есть не здесь, а в Подмосковье, но всё равно в Союзе, а не там. Она очень быстро уехала. Теперь она в Нью-Джерси, она делает там какой-то businnes. И у неё совсем нет времени на других людей. Даже на маму. Зато теперь будет внук, он уже was born и скоро его привезут сюда учиться. А может быть, потом будет ещё один: дочка сказала по телефону, что хочет трёх детей, потому что это cool. То есть, в смысле, prestigious — это молодые теперь так говорят… Как бы они не говорили, children are well, это уж точно…
Звеня и сияя лаком, подлетели три вагончика. Районские тут же захватили передний, бабуся устроилась в заднем. Женьке с Денисом достался средней.
Хитрая девчонка уселась по ходу движения. Денису было всё равно как садиться, только бы смотреть на Женьку.
Разговора не получилось. Районские в соседнем вагончике включили какую-то громкую музыку — то ли то ли Сайруса Макговерна, то ли «Steep Spin», то ли ещё что-то такое, забойно-ударное. Женька тут же извлекла из кармана звучалки, протолкнула в ушки и врубила плеер.
— Дай послушать, — не выдержал Денис.
Женька пожала плечами, вытащила пластмассовую фигучку и протянула мальчику. Тот осторожно прижал её к уху. Далёкий голос пел по-русски про очи чёрные, очи страстные.
— Ну чего ты старьё слушаешь? — вздохнул он, отдавая клипсу.
— Дурак, — тут же обиделась Женька. — Это для тебя старьё. А русских песен больше нет.
— Ну ты опять, — предсказуемо надулся мальчик. — Просто на английском петь удобнее. Слова короче. Зато вся серьёзная литература на русском.
— Ли-те-ра-ту-у-ура, — передразнила Женька, сложив губы трубочкой. — Кому она нужна, серьёзная. А песни все слушают.
— И наука вся на русском, — напомнил Денис.
— Всё равно науку только учёные читают, — отбрила Женька, — а музыка всем нужна.
— Ну и какая разница? — не понял Денис.
— Страна общая, а музыка только американская, — упёрлась девочка. — Небось, лопатой гребут.
— Что гребут? — не понял Денис.
— Деньги гребут, вот что, — зло ответила Женька. — Знаешь, какие доходы в шоу-бизнесе?
— Какие доходы? — опять не понял мальчик. — Ты чего?
— Ну тебя, — махнула рукой Женька. — Слушать мешаешь.
Она демонстративно запихала себе поглубже в уши клипсы, закрыла глаза и врубила плеер на полную.
Денис сделал вид, что любуется проносящимся мимо пейзажем.
Пейзаж был так себе: черта поперёк неба, кювет, зубчатая стена леса. Верхушки деревьев прыгают и дёргаются в глазах от скорости: вагончик вышел на самый длинный перегон, напряжённая струна тихонько гудела. Вот интересно, а что будет, если она порвётся? Ну, скажем, если метеорит… может же в струну попасть метеорит? Такого не бывает, ну а вдруг? Наверное, погибнут все, кто на линии. Они-то уж точно погибнут. А может, нет? Вдруг вагончик вынесет… куда-нибудь за лес, как Дороти в книжке про волшебника из страны Оз? А потом он шлёпнется на поляну… допустим, на стог сена. Женька, конечно, потеряет сознание… а он, Денис, будет обязан сделать ей искусственное дыхание. Рот в рот… (У него вспотели ладони). И массаж сердца. Для этого надо надавливать… надавливать… Он осторожно покосился на женькину футболку в обтяжечку и почувствовал, что ему не хватает воздуха.
— Опять пялишься? — поймала его Женька.
Денис испугался очередной немилости и на всякий случай отвернулся.
— Ты куда морду убрал? Ты на меня гляди, — снова осталась недовольной девочка. — На меня, а не на сиськи.
— Я не… это… — пропыхтел мальчик, не зная, куда деть глаза.
— Там всё равно смотреть нечего, — самокритично добавила Женька. — Я же не Сюся с сисей, — она оттянула футболку на груди вперёд.
Денис хихикнул. Сусанна Игоревна Товстолыткина, в просторечии Сюся, литераторша в средних классах, и в самом деле отличалась выдающимся сложением. Стало смешно и немного стыдно.
— А вообще… ладно, чего уж теперь-то, — непонятно сказала Женька.
— Чего теперь? — переспросил мальчик.
— Это я о своём, — отмахнулась девочка. — Помнишь бабку на станции? — решила она всё-таки снизойти до объяснений. — Ну, чёрную? Я вот подумала: а я тоже стану такой когда-нибудь. Высохну, поседею. Буду чьих-то внуков нянчить.
— Ну это же так со всеми, — Денис понимал, что говорит что-то не то, но не мог остановиться. — Так жизнь устроена. Человек растёт, учится, едет в Америку, там зарабатывает деньги и детей…
— Детей зарабатывает?
— Делает то есть… Ох, прости, это у меня опять с русским. Я по-русски говорю, как… как медведь на задних лапках дрессированный, — нашёл он подходящее сравнение. — А на английском как на четвереньках: встал и побежал.
— Ты же вроде бы здесь родился? — зачем-то уточнила Женька. — Твоя мама специально сюда прилетала, сам говорил.
— Я у дедушки долго жил в Ленинграде, — пожал плечами мальчик. — Он русского совсем не знает. Потом постановление вышло, что детям в городе жить нельзя. Вот меня сюда приехали… То есть увезли. Или привезли.
— Интересно, зачем такое постановление приняли? — вернулась на прежнее Женька.
Денис задумался.
— Ну, во-первых, экология. Машин много, промышленность всякая… — начал он.
— Какая в Союзе промышленность, ты чего? — засмеялась Женька. — У нас наука одна. И культура.
— Ну осталась же какая-то, — неуверенно сказал Денис. — Машины, например. Их же надо ремонтировать?
— Это сервис, а не промышленность, — оставила за собой последнее слово Женька. — Промышленность вся в Америке.
— Я вот чего не понимаю, — попытался завязать разговор Денис, — а зачем у нас сельхоз… ну, колхозы всякие, хозяйства эти? И на картошку посылают?
— У крестьян низкое давление, — сказала Женька. — в Америке они жить не могут. Надо же их куда-то девать. Вот им и дали занятие. Только у нас земледелие рискованное. Потому нас гоняют на картошку. Чтобы хоть не гнила. А экономически никакого смысла нет, — закончила она. — Ладно, дай послушать.
Вагончик бежал. Девочка запрокинула голову, закрыла глаза, и, вроде, задремала.
Денис почувствовал что-то вроде одиночества. Вроде бы их двое, а вроде он — один. Едет зачем-то на Комсомольскую. Делать ему там нечего. Все анализы он сдал. А давление… Какое у него давление альфа-гормонов, он знал и без анализов. Где-то около сорока единиц по шкале Сахарова. Может, сорок два — сорок три, максимум сорок пять. Не коммунар, просто нормальный парень. Правда, переходный возраст… Ну вот у него как раз этот самый переходный. Ну, допустим, дойдёт до пятидесяти. Это же ещё далеко до пресловутых девяноста семи, при которых билет в Америку выписывают в добровольно-принудительном порядке…
В том-то всё и дело. Вчера давление сорок, сегодня пятьдесят, завтра ещё больше. Половое созревание обостряет инстинкт конкуренции. И если когда-нибудь ему скажут: «Ден, у тебя восемьдесят», то придётся потихоньку собираться… Туда. В другую жизнь. Где все едят друг друга как репу.
С другой стороны… Допустим даже, скажут. Конечно, ему будет очень плохо. Но другие переживают как-то. Едут, устраиваются, потом привыкают. Это совсем другая жизнь. В конце концов, у него годе-то в Чикаго родители. Они, правда, редко звонят и ещё реже пишут. Присылают подарки — какие-то разноцветные свитерки и короткие маечки, давно уж не его размера. И он совсем не помнит, как зовут маму и какая у папы фамилия. Говорят, мама его родила, а через день провела презентацию какого-то суперпроекта. Splendid victory, ага. А папа снимается в кино. Он как-то смотрел один фильм с папой — он там изображал европейского агента, который пытается выкрасть у советского института какой-то важный секрет. Фильм, конечно, дурацкий, как и вся голливудщина. Особенно глупо выглядела сцена, когда европейский агент тряс перед нашим профессором какой-то бумажкой и кричал — «это огромные деньги, вы не понимаете, это же огромные деньги!» Подкупать советского, который остался в Союзе — это же каким дураком надо быть. Да у настоящих учёных нет давления. Ну разве что десяточка какая-нибудь. Как у Шурика Курносера. Шурик сейчас в Ленинграде. Его досрочно взяли в университет, без экзаменов, сразу на пятый курс. По слухам, у него в крови альфа-гормонов вообще не нашли.
Денис представил себе огромные печальные глаза Курносера, когда тот, склонив на бок немытую голову и вытирая мел о брюки, выводил на доске какую-нибудь загогулистую формулу. Ходит легенда, что Шурик как-то доказал теорему Ферма, только записывать не стал, потому что ему было неинтересно. Это, конечно, вряд ли: за такое доказательство Шурке сразу дали бы диплом, а так — только пятый курс… Хотя он такой. Может и наплевать. Ему же всё равно
Вагончик начал тормозить. Женька вздрогнула и проснулась. Быстро глянула в окно и тут же встала.
— Пойдём, — распорядилась она. — Это наша.
— Подожди, это не Комсомольская! — закричал Денис. — Это не Комсомольская, Женя! Это техническая станция!
В окне, вместо районских корпусов, грелась под солнцем крохотная платформочка с двумя белыми лавочкам и гнутым стеклянным мостиком, закинутым поверх струны на ту сторону. Там была такая же платформа, только лавочки были почему-то зелёные.
Вокруг лежало и грелось на солнце пшеничное поле, где-то далеко виднелся всё тот же лес, тёмный и неровный.
На маленькой табличке было «Тех 34–28».
— Да ладно, — сквозь зубы процедила Женька, возясь с дверцей. — Не хочешь, одна пойду. А ты махай на Комсомольскую, у тебя ж там дела, — с издёвочкой добавила она.
Денис выскочил вслед за ней на платформу. Вагончики звякнули и покатились, унося с собой и чёрную бабусю, и районских пацанов.
— Жень, можно ты объяснишь… — начал было Денис, но поймал её взгляд и прикусил язык.
— Ну, — сказала она, спрыгивая с платформы в пшеницу. — пошли.
Денис осторожно сполз следом. Зачем-то заглянул под бетонный под платформы. Увидел сырую землю, от которой тянуло грибницей. Запах был не противным, а каким-то разочаровывающим: так пахнут места, где искать нечего.
Он поплёлся за Женькой, мысленно проклиная себя за бесхарактерность и вытирая платком мокрую шею.
— Жень, а Жень? — не выдержал он, когда они оказались на середине поля. — Куда идём?
— Никуда не идём, — Женька резко остановилась, села в пшеницу, приминая неспелые колосья. Потом легла навзничь, раскинув руки.
Денис плюхнулся рядом, гоня от себя мысль, что мять колоски нехорошо.
— Я вчера стихи сочинила, — сказала Женя… — Хочешь послушать?
— Ну, — пропыхтел Денис.
— Чего нукаешь? Я тебе не лошадь. — Она чуть приподняла голову, чтобы поправить волосы, и снова упала в хлеба. — Ты будешь слушать?
Денис чуть было не сказал «ну», но вовремя вспомнил насчёт лошади.
— Только я их ещё не дописала. Третьей строчки не хватает, — предупредила она и замолчала.
Мальчик ждал. Его окружали неясные полевые шумы, шорохи — то ли птицы возились в траве, то ли мыши.
— Белой птицей пролетит — пролетит моё детство, — наконец, заговорила Женя, волнуясь и оттого выговаривая слова аккуратнее обычного. — Рыжей белкой пробежит — пробежит моя юность. Серым волком… слово не нашлось… моя зрелость. Чёрным вороном падёт — пропадёт моя старость. — Она сделала паузу. — Ну как?
— Ну что тебе сказать… Хорошо, — принялся выжимать из себя комплименты Денис. — Вот только третья строчка. И последняя тоже не очень. Почему «падёт»? Может, «придёт»? И «зрелость» — тоже слово какое-то такое… Как помидор, что-ли.
— Дурацкий стишок, — сказала Женька. — Стишки все дурацкие.
Денис не нашёлся что ответить.
— Я тут в одной книжке прочитала, — снова начала Женька, — что стихи у женщин — это дети неродившиеся. Напишешь хороший стишок — значит, у тебя одного ребёночка не будет.
— Эмили Дикинсон знаешь сколько стихов написала? — Денис повернулся на локте, чтобы быть поближе к девочке. — Никакая женщина столько не родит.
— Значит, кто-то ещё не родит, — подумав, сказала Женька. — За всё хорошее надо отдавать.
— Надо платить, — поправил Денис, самую чуточку гордясь тем, что может её поправить.
— Отдавать, Ден, — как-то очень по-взрослому вздохнула Женя. — Отдавать. Не хочу уезжать, — добавила она.
— Ну ты чего. Тебе же ещё ра… — начал было Денис и осёкся. До него, наконец, дошло, почему они не едут на Комсомольскую.
— Сколько у тебя? — каким-то стыдным шёпотом спросил он.
— Не знаю, — Женька не пошевелилась. — Наверное, семьдесят где-то. Я с зимы не мерялась.
— Ну вот, не мерялась. Сама же говоришь. Откуда ты знаешь-то?
— Знаю, — сказала Женька с грустной уверенностью в голосе. — Я про себя всё знаю.
— Ничего ты не знаешь, — упрямо сказал Денис. — Ты же не меряла.
— Да знаю и всё! — Женька осеклась, сменила тон на объясняющий. — Ну как тебе доказать? Надоело мне. Сны всякие снятся…
— Ты ещё сонник возьми в библиотеке и погадай на нём, — съехидничал Ден. — Давление надо мерять по-нормальному. Сдать кровь, ну и всё такое…
— Говорю же, не поймёшь. Ладно, хорошо. Вот по твоему — что такое давление? — Женька перекатилась на другой бок, показав Денису узенькую спинку.
— Ну как… — мальчик стал вытаскивать из головы учебник по этологии. — Давление — это… как его… содержание в крови альфа-гормонов. Гормональный комплекс, модифицирующий человеческое поведение. Отвечающий за подавление инстинкта сотрудничества и активизацию инстинкта конкуренции… При высоком давлении оптимальной жизненной средой является капиталистическое общество, при низком — коммунистическое… У большинства людей давление повышается в районе пятнадцати — двадцати лет, к старости опять падает… Ещё там что-то про климакс… беременность… там у всех по-разному… В общем, этот самый комплекс. Э-э-э… эпохальный труд генетиков и биохимиков под руководством академика Сахарова, выдающегося деятеля советской биологической науки…
— Чешешь, как на экзамене, — грустно улыбнулась девочка. — Ты своими словами скажи.
— Мы же проходили, — Денис наморщил лоб. — Э-э-э… — в голову опять полез проклятый учебник. — В пятьдесят шестом году советские биологи открыли значение гормональной составляющей…
— Чепуха всё это. Че-пу-ха, — Женька снова легла на спину, подложив ладони под голову. — Жили-были две страны. Одна называлась US, другая SU. Одна самая богатая, другая самая справедливая. В одной хорошо делали всякие вещи, в другой хорошо учились и дружили. Сначала они хотели воевать атомными бомбами. Потом подумали, что глупо бомбами кидаться, все помрут. Стали разбираться, за что они друг друга не любят. Не по идеологии, а по правде. И нашли эти самые альфа-гормоны. Которые человека или советским человеком делают, или буржуйским. И выяснили, что дети и старики почти все советские, а взрослые почти все буржуйские. Кроме писателей и учёных. Потому что если деньги делать — это нужно глотки грызть, у других отнимать, на творчество в ней места не остаётся. Вот и всё. Хрущёв и Никсон в Рейкьявике соглашение подписали. Что когда человек буржуйский, ему место в Америке, а если советский — в Союзе. Независимо от пола, возраста и национальной принадлежности. И мы стали обмениваться населением. А потом все перемешались и сделали одну страну. Только из двух частей. У кого альфа-гормонов мало, тот живёт в Союзе. А когда их много — в Америке. И определяется это са-мо-о-щу-ще-ни-ем.
— Просто анализы тогда стоили дорого, — предположил Денис. — И вообще, всё это сто лет назад было.
— Вообще-то пятьдесят, — не удержалась Женька. — Только это ничего не меняет. Потому что у меня сейчас это самое. Самоощущение.
— Женька, послушай. — Дима попытался придать голосу уверенность, которую не чувствовал. — Это всё ерунда. Ты сама себе внушила. Ты же наша! Советская. Помнишь, зимой, когда отопление прорвало… Все по углам мёрзли, а ты пошла бригаде помогать.
— Только меня оттуда прогнали, — припомнила Женька. — И ещё назвали пигалицей. Между прочим, обидно очень.
— Вот, вот, тебе же обидно. А ты же за так пошла работать, ни за деньги, ни за что. И какая после этого ты буржуинка? Тебе ещё Неля по руке гадала: «ой, золотце, до тридцати молодой будешь».
— Неля? Которая цыганка-то? Её в том же году отправили, — сказала Женька. — У неё сто двадцать было. Она пробирку с кровью на чужую подменивала. Её поймали и сделали анализ по-честному. Сейчас в Хьюстоне живёт. Открытку прислала недавно, мы же всё-таки подруги. У неё там фирмочка. Эскорт-услуги. К себе приглашает.
— И ты что, поедешь? — не поверил Денис.
— Нет, к Нельке не поеду. Она из меня там душу вытрясет, — Женька повернулась на бок, приминая травяное ложе. — И к родителям тоже не поеду. Они мне ничем не помогут, только на шее повиснут. Пробьюсь.
— Женька, ну что ты, — Денису казалось, что он падает, отчаянно хватаясь мокрыми пальцами за воздух, — у тебя же одни пятёрки… Можно ведь наукой заниматься… И не надо никуда ехать…
— Настоящих учёных с давлением не бывает, — напомнила Женька. — Только халтурщики какие-нибудь. Не хочу. Неинтересно.
Денис что-то промычал.
— Ден, — голос девочки дрогнул, — я вчера… плохую вещь сделала. То есть не сделала, но очень хотела. Но это ведь одно и то же. Я заколку у Фроськи стащила. Ей мама из Америки прислала. Потом обратно положила.
— Ну и что, — как можно небрежнее ответил Денис. — Я вот в первом классе карандаш стащил учительский. Коричневый. Мне его так захотелось, просто сил никаких.
— И что? — заинтересовалась Женька.
— Нашли, — уныло вздохнул Денис. — Стыдно было, — добавил он.
— Ну да. А я мелки цветные таскала. Только это по-другому. Мне же не заколку хотелось. Мне хотелось, чтобы её у Фроськи не было, понимаешь?
— Да всё это девчачьи глу… — зацепился язык у Дениса. Он его прикусил, но поздно.
— Глупости? Девчачьи? — змеёй зашипела Женька. — Ты меня обещал! Никогда больше! Не называть! Девчонкой! Ты обещал!
— Жень… Ну прости… — заныл было Денис, но Женька внезапно вскочила и кинулась на него, лежащего, с кулачками.
Они покатились среди колосьев.
— Вот тебе девчонка! Вот тебе! — орала Женька, сидя на нём верхом.
Денис вяло отбивался, пока в какой-то момент не понял, что обнимает девочку за талию, а она лежит на нём и тихо дышит ему в ключицу. Он испугался и хотел убрать руки, но они не слушались.
— Не надо, — сказала она чуть позже. — Я сама.
…Он пришёл в себя, когда услышал свист очередного состава.
— Нас, наверное, видно, — нерешительно сказал он. — Дай мне плавки, пожалуйста.
— Ну и пусть видно, — ответила Женя. — Лови, — она кинула ему скомканную тряпочку. — Ты мне футболку порвал.
— Прости. Я нечаянно, — ничего умнее Денис у себя в голове не нашёл. В голове вообще было пусто и гулко. Каждая случайно залетевшая мысль отдавалась долгим бессмысленным эхом. — И это… Э-э-э… Я тебя люблю. Спасибо. — Он чувствовал себя полным балбесом, но других, более подходящих слов в голове не нашлось.
— Don't mention it, — почти равнодушно ответила Женька. — И засосов наставил. Никогда так больше не делай. Этого девки не прощают.
Состав издал протяжный гудок и просвистел мимо.
— Жень, — мысли в денискиной голове, наконец, перестали разлетаться и кружиться — и его охватила тяжёлая тоска. — Женька… Ты, значит, всё…
— Ну, — Женя натягивала на себя рваную футболку через голову. — У меня теперь, наверное, за восемьдесят. Мне Нелька написала: от этого… ну, что мы делали… оно на десять пунктов подскакивает
— Так ты это, чтобы нагнать давления побольше? — голос мальчика задрожал от обиды. — Скорее взрослой стать и в Америку удрапать?!
— Нет, ну что ты, — Женька наклонилась над ним, взлохматила волосы, поцеловала в нос. — Просто ты самый лучший. Я тебе очень люблю, Дениэл. Я тебя буду очень часто вспоминать.
— Я тебя очень люблю, Джейн, — он впервые за всё знакомство назвал её настоящим взрослым именем. — Если я всё-таки приеду. Надо будет как-нибудь повидаться.
— Не приедешь, — Женя сказала это спокойно, без надрыва, но у Дениса защемило сердце. — Не нужно тебе туда. И давления у тебя такого никогда не будет, чтобы при конкуренци выжить. Ты советский. Лучше наукой занимайся. Или учи. Ты хороший, тебя дети любить будут. Или книжки пиши. Я буду читать, правда. И детям давать. И говорить: а вот этот дядя, который написал такую хорошую книжку, меня очень любил… И я его тоже.
Она легко поднялась с мятых колосьев. Привычным жестом поправила волосы.
Ден завозился на земле, пытаясь встать.
— Не провожай, — бросила она в его сторону.
— Завтра субботник, — удивительно некстати вспомнил Денис. — Я и так уж два раза пропустил. То есть… извини, пожалуйста, я чушь какую-то несу. Конечно, завтра увидимся. Ты придёшь?
Женька не ответила. Ещё раз оглядела себя, энергично отряхнула мусор с коленок, потрепала ладошкой мятую джинсовку на попе. Слегка пританцовывая, пошла к станции.
Издалека доносился упругий гул: к технической остановке 34–28 с севера приближался состав.
Прищурившись, Денис смотрел, как маленькая фигурка взлетает на платформу, бежит по стеклянному мостику к зелёным лавочкам. Потом взвизгнула струна и Женьку заслонили разноцветные бока вагончиков, — а когда они умчались, её не стало.
Теперь мы их похороним
12 мая 1971 года. Москва, утро.
Демонстрацию решено было провести прямо в лаборатории.
Напрасно профессор Боровский названивал во все мыслимые и немыслимые инстанции, доказывая, что это парализует нормальную работу Института как минимум на неделю. Ничего не помогало. Дорогому товарищу Леониду Ильичу Брежневу остро приспичило взглянуть на всё самому.
Дорогого товарища, впрочем, тоже отговаривали. Очкастые референты из цековского аппарата даже успели настрочить докладную, в которой доказывалось, что разработки Боровского в высшей степени сомнительны и т. д. В ход пошли даже придирки к родословной почтенного профессора: родители его были родом из Бердичева, известного еврейского местечка, имели в Израиле дальних родственников, и к тому же назвали сына Иосифом — наверняка ведь не спроста, а в честь одиозного библейского персонажа… Но ничего не помогло: Брежнев заявил, что сам разберётся, кто тут еврей, кто скрытый сионист, а кто просто мутит воду, вместо того, чтобы заниматься делом.
Особой проблемой была охрана. Генсек откровенно не любил топтунов, но при этом очень заботился о своей безопасности. Он-то хорошо знал, как в своё время отправил на пенсию Никиту Хрущёва — и ту роль, которую сыграли в этом деле эти неприметные человечки с грубыми лицами. В результате здание Института было буквально нашпиговано людьми с оружием — но только не тот коридор, который вёл в лабораторию профессора Боровского.
Тот же день, то же время. Вашингтон, вечер.
Демонстрацию решено было провести прямо в лаборатории.
Напрасно профессор Боровски отправлял факсы во все мыслимые и немыслимые инстанции, доказывая, что это парализует нормальную работу Института как минимум на неделю. Ничего не помогало. Президенту Соединённых Штатов Америки Ричарду Милхаузу Никсону было необходимо увидеть всё своими глазами.
Господина Президента, впрочем, тоже отговаривали. Высоколобые аналитики из Администрации даже успели изготовить аналитический отчёт, в которой доказывалось, что разработки Боровски в высшей степени сомнительны, и т. д. В ход пошли даже придирки к родословной почтенного учёного: родители его эмигрировали из-под Жмеринки, находящейся на советской территории, имели подозрительные знакомства в левых кругах и к тому же назвали сына Йозефом — наверняка ведь не просто так, а намекая на кровавого кремлёвского диктатора… Но ничего не помогло: Никсон заявил, что сам разберётся, кто тут шпион, кто скрытый сталинист, а кто просто портит воздух, вместо того, чтобы работать.
Отдельной проблемой была пресса. Президент откровенно не любил журналюг, но при этом очень заботился о своей репутации. Он-то хорошо знал, как на предыдущих выборах Джон Кеннеди обошёл его на повороте — и ту роль, которую сыграли в этом деле эти развязные людишки с плохими манерами. В результате здание Института было полностью открыто для людей с фотокамерами — но только не тот коридор, который вёл в лабораторию профессора Боровски.
Тот же день, то же время. Москва, утро.
— Вот он.
Зрелище было так себе. В стеклянном ящике спокойно сидел кролик, довольно упитанный с виду. Перед ним лежала морковка. Кролик презрительно косил на неё красным глазом, давая понять, что сыт каротином по горло. В углу валялось несколько катышков засохшего помёта.
— Он так сидит уже неделю, — несколько смущаясь, сказал профессор Боровский. — Как видите, все витальные функции в норме.
— Все чего? — не понял Леонид Ильич. — Выражайтесь яснее, — бросил он профессору.
— Витальные функции, — повторил тот, потом поправился: — В смысле, он живой и здоровый.
— Точно здоровый? — на всякий случай переспросил Брежнев, глянув на профессора презрительно, как тот кролик на морковку. — Дистрофия там, истощение организма… почки, печёнка, сердце?
— Здоровее нас с вами, — ляпнул профессор, и, смутившись, попробовал исправиться: — извините, то есть здоровее меня… — он совсем запутался и смешался.
Генеральный Секретарь почувствовал нечто вроде симпатии к старику. Было слишком ясно, что бедолага-профессор никогда в жизни не общался с верховной властью и отчаянно робеет, хоть и хорохорится.
— Очень интересно, — буркнул он. — А на людях пробовали?
Боровский понял, что прощён, и с облегчением вытер со лба пот огромным клетчатым платком.
— А то как же. На добровольцах… э-э-э… первого года службы, — неизящно сформулировал он.
Брежнев поощрительно улыбнулся, и профессор несколько оживился..
— Вы понимаете, Леонид Ильич, — принялся он за объяснения, — солдат-первогодок, у него же нагрузки… голенища от сапог сожрать готов. Так вот: не едят. Мы им бутерброды икрой намазываем — ни в какую…
Генеральный Секретарь поймал себя на мысли об икре. Наверняка ведь её списывают как испорченную в ходе опытов. А потом сами жрут под водку. Документы оформляются элементарно… Он ещё раз посмотрел на Иосифа Боровского и решил, что профессор вряд ли к тому причастен: дедок не от мира сего, у него одна наука в голове… «Да, вот на таких стариках мы пока и держимся», — вздохнул про себя генсек.
— Ну покажите теперь это ваше средство, — распорядился он.
Тот же день, то же время. Вашингтон, вечер.
— Вот она.
Зрелище было так себе. В стеклянном ящике шебуршилась белая крыса, с виду довольно тощая. В кормушке перед ней была насыпана гора корма. Крыса, зарывшись в корм, жрала в три глотки, время от времени отвлекаясь на поилку. Но даже и в эти моменты она косила вожделеющим глазом на кормушку, давая понять, что голодна. По всей клетке был разбросан помёт: зверюшка какала много и обильно.
— Она так жрёт уже неделю, — с плохо скрываемым торжеством в голосе заявил профессор Боровски. — Как видите, все витальные функции в норме.
— Все чего? — не понял Никсон. — Выражайтесь яснее, — бросил он профессору.
— Витальные функции, — повторил тот, потом поправился: — То есть она жива и здорова.
— Точно здорова? — на всякий случай переспросил Никсон, посмотрев на профессора подозрительно, как крыса на кормушку. — Ожирение там, проблемы с желудком… сердце, сосуды?
— Здоровее нас с вами, — самоуверенно заявил, профессор, и, не подумав, ляпнул: — извините, то есть здоровее меня… — тут он всё-таки осёкся.
Господин Президент почувствовал нечто вроде симпатии к старику. Было слишком ясно, что бедолага-профессор никогда в жизни не общался с большими боссами и не очень понимает, что при них можно говорить, а что нет.
— Очень интересно, — буркнул он. — А на людях пробовали?
Боровски понял, что всё в порядке, и с облегчением вытер со лба пот огромной влажной салфеткой.
— Ну разумеется. На добровольцах… э-э-э… временно испытывающих затруднения с трудоустройством, — неизящно сформулировал он.
Президент поощрительно улыбнулся, и профессор расцвёл.
— Видите ли, господин Президент, — затараторил он, — человек на пособии на всём экономит… за цент удавится. Так вот: все деньги тратят на еду. Мы им автомобили предлагали по цене бутерброда — ни в какую…
Ричард Никсон поймал себя на мысли об автомобилях. Их вполне можно было бы оформлять как проданные в ходе эксперимента. А потом загонять торговцам подержанным хламом. Документы оформляются элементарно… Он ещё раз посмотрел на Йозефа Боровски и решил, что профессор вряд до этого додумается: старикан не от мира сего, у него наука в голове… «Нет, без нас, без людей практических, высоколобые ничего не могут», — с удовольствием подумал Президент.
— Ну покажите теперь эту вашу панацею, — распорядился он.
Тот же день, то же время. Москва, утро.
На предметном стёклышке лежала щепотка красного порошка.
— Это вещество снижает потребность в пище в пять раз, — пояснил профессор. — Ничего фантастического, просто пища перерабатывается по другой схеме. Никаких побочных эффектов. Схема производства отлажена как часы. Можно хоть завтра запускать в водопровод.
— В пять раз? — не поверил Брежнев. — Ничего себе…
— Можно и больше. Испытуемые обходились одним бутербродом с сыром в три дня. И прекрасно себя чувствовали. Ни слабости, ни истощения.
— А алкоголь?
— Эта штука снижает потребность практически до нуля. Да и незачем: после порошочка у человека стабильно держится повышенный тонус и прекрасное настроение. И, ещё раз, никакого вреда для здоровья.
Тот же день, то же время. Вашингтон, вечер.
На предметном стёклышке лежала щепотка синего порошка.
— Это вещество повышает потребность в пище в пять раз, — пояснил профессор. — Ничего фантастического, просто пища перерабатывается по другой схеме. Никаких побочных эффектов. Схема производства отлажена как часы. Можно хоть завтра запускать в водопровод.
— В пять раз? — не поверил Никсон. — Ничего себе…
— Можно и больше. Наши испытуемые съедали один гамбургер в три минуты. И прекрасно себя чувствовали. Ни запоров, ни колик.
— А алкоголь?
— Повышает усвояемость практически неограниченно. Порошок сам по себе имеет свойства депрессанта. Нормальное самочувствие — только после бутылки хорошего виски. И, ещё раз, никакого вреда для здоровья.
14 мая 1971 года. Москва, ночь.
— Похоже, товарищ Генеральный, все наши экономические проблемы решены, — сказал советник, откладывая в сторону бумаги. — Мы можем сворачивать своё сельское хозяйство. Достаточно задействовать СЭВ. Нас и болгары с венграми прокормят…
— Что, кирдык колхозам? — сообразил Брежнев. — И всей этой вечной херне на селе…
— Так точно, — улыбнулся советник. — Можно использовать всю освободившуюся человеческую массу в промышленном производстве. Построим огромные заводы… Заодно и грузин с мандаринами ихними прижмём наконец. И зерно в Штатах покупать больше не будем… А представляете себе Москву? Идёшь по городу — и ни одной столовки, закусочной, рюмочной… Чистота, порядок…
— Отлично, — Брежнев принял решение. — Всех поощрить, профессору — дачу и орден. Вскорости развернём пробные испытания. Где-нибудь в Сибири. Потом — по всей стране. Пусть Никсон варежку разинет.
14 мая 1971 года. Вашингтон, день.
— Похоже, сэр, наши экономические проблемы решены, — сказал эксперт. — Мы можем полностью реанимировать наше сельское хозяйство. И к тому же задействовать Европу. Откроем свой рынок для голландец и французов, они на нас молиться будут…
— Что, кранты безработице? — сообразил Никсон. — И есть чем занять негров с латиносами…
— Именно, — улыбнулся эксперт. — Можно использовать всю лишнюю человеческую массу на полях. Создадим огромные плантации… Рынок попрёт вверх со страшной силой. Будем покупать зерно в Индии, рис в Китае… привяжем их всех к нашим закупкам. А представляете себе Нью-Йорк? Идёшь по городу — и на каждом шагу «Макдональдс», китайская харчевня, ресторан… Обороты, деньги…
— Прекрасно, — Никсон принял решение. — Всех поощрить, профессору — премию и пакет акций «Макдональдса». В ближайшее время произведём пробные испытания. Где-нибудь в Аризоне. Потом — по всей стране. Пусть у Брежнева челюсть отвалится.
19 мая 1971 года. Москва, раннее утро.
— Первая партия, — профессор Боровский высыпал на полированную поверхность стола горсть красных таблеток. — Своей головой ручаюсь: никаких неожиданностей.
— Н-мм… — Брежнев покрутил таблетку между пальцами.
— А не хотите сами попробовать? — учёный, внезапно набравшись смелости, протянул Брежневу красную таблетку. — Просто положите под язык — и готово. Подействует через полчаса.
Брежнев неожиданно скривился.
— Эта… того… нет, — сказал он, отодвигаясь от учёного и поворачиваясь к советнику. — Срочно распорядись насчёт усиления химической проверки всех продуктов для кремлёвской столовки… Мало ли что туда попадёт… Кстати, — он снова обратился к Боровскому. — У вас есть какой-нибудь нейтрализатор этой штуки? Который бы действовал наоборот? Ну, в смысле, увеличивал бы потребность…
— Да, есть. Вот даже захватил на всякий случай… — профессор долго шарил в кармане, пока, наконец, не вытащил маленькую пробирку, в которую был насыпан синий порошок. — Но зачем? Практической ценности это не имеет…
— Ещё как имеет, — усмехнулся Брежнев. — Запиши, — бросил он советнику, — у меня есть идея. Красный порошок давать всему населению. Партийным — двадцатипроцентную нейтрализацию. Пусть у них будет два бутерброда в неделю. Освобождённым работникам — половину. Членам ЦК — чтобы каждый день в ресторан ходить могли. Идея доступна?
Советник задумчиво кивнул.
— Да, — наконец, сказал он. — У нас и так нет нормальной системы привилегий, а на те, что есть, народ раздражается: никого не устраивает, что начальство на «Волгах» раскатывает… А это… да, это сработает. Еда — мощный стимул, биологический. Зато буржуи не смогут утверждать, что мы разложились и сидим на шее народа.
— Забудь о буржуях, — Брежнев махнул рукой, — им конец. Теперь мы их похороним.
19 мая 1971 года. Вашингтон, поздний вечер.
— Первая партия, — профессор Боровски высыпал на полированную поверхность стола горсть синих пилюль. — Гарантирую своим авторитетом: никаких неожиданностей.
— М-нн… — Никсон покатал пилюлю между пальцев.
— А не хотите сами попробовать? — учёный, внезапно набравшись смелости, протянул Никсону синюю пилюлю. — Просто проглотите — и готово. Подействует через полчаса.
Никсон широко улыбнулся.
— Это очень кстати, — он ловко ухватил пилюлю, положил в рот и повернулся к эксперту. — Распорядись, чтобы мне срочно заказали столик в моём любимом ресторане. Нет, забронируй столики для всего кабинета на две недели вперёд… Кстати, — он снова обратился к учёному. — У вас есть какой-нибудь нейтрализатор этой штуки? Который бы действовал наоборот? Ну, в смысле, уменьшал бы потребность…
— Да, есть. Вот даже захватил на всякий случай… — профессор долго шарил в кармане, пока, наконец, не вытащил маленький пакетик, в который был насыпан красный порошок. — Но зачем? Практической ценности это не имеет…
— Ещё как имеет, — усмехнулся Никсон. — Запиши, — бросил он эксперту, — у меня есть план. Синий порошок — давать всему населению. Мелким нарушителям порядка, особенно цветным — двадцатипроцентный нейтрализатор. Пусть у них аппетит пропадёт. Представляешь, все вокруг жрут в три горла, пьют вискарь и текилу, а они с унылыми мордами… Рецидивистам — половину. Политическим — чтобы один раз в неделю жрать могли. Смысл понятен?
Эксперт задумчиво кивнул.
— Да, — наконец, сказал он. — У нас и так слишком гуманное законодательство, но при этом тюрьмы переполнены. А это… да, это сработает. Еда — мощный стимул, биологический… Зато коммунисты не смогут утверждать, что мы проявляем чрезмерную жестокость к угнетённым.
— Забудь о коммунистах, — Никсон махнул рукой, — им конец. Теперь мы их похороним.
23 сентября 1971 года. Москва, день.
— Они нас похоронят, — заключил Н.
Н. был начальником Особого спецотдела ПГУ КГБ. Имя его Брежнев, разумеется, знал, но всё время забывал, настолько оно было неприметным и серым: какой-то Иван Петров или что-то вроде того.
— Но почему? — спросил генсек.
— Как бы это объяснить наглядно… — согласно внутреннему уставу КГБ Н. был несменяем и Брежнева не опасался, а потому позволял себе говорить то, что думает. — Их экономическая система завязана на потребление. Чем больше потребления, тем лучше обстоят дела с экономикой. Если у них возрастёт потребление еды, особенно в разы, то они получат такой импульс к развитию, что вылезут из всех своих экономических проблем. В том числе и тех, которые мы им создавали столько лет… Нет, этого допустить нельзя.
— И что же вы предлагаете? — Брежнев почесал левую бровь.
— Есть две проблемы: профессор Боровски и президент Никсон. Начнём с последнего. Никсона нужно устранить.
— Убить президента Соединённых Штатов? — генсек до того забылся, что показал собеседнику дулю. — Вы с ума сошли? Знаете, что за этим последует? Ядерная война! Я никогда не позволю идти на такой риск, слышите?
— Я не сказал «убить». Я сказал — устранить. С политического поля. Мы устроим грандиозную провокацию, после чего он уйдёт сам. Причём — уйдёт, обиженный на всю американскую политическую систему в целом. Он никому не сообщит секрета.
— Тонко, — согласился Брежнев. — А как?
— Придётся положить половину нашей агентуры, — вздохнул Н. — Но у нас есть возможность обвинить Никсона в том, что он шпионит за собственными гражданами. Ну, например, прослушивает разговоры в штаб-квартире демократической партии. Американцы этого очень не любят.
— Его потом из Америки не вышлют? — поинтересовался Брежнев.
— Это вряд ли. Но репутация его будет испорчена на всю жизнь.
— Н-да. Прямо похороны заживо. — вздохнул генсек. — Ну а что с их научниками делать? — спросил он.
— Убивать никого не хочется. Профессор Боровски, в конце концов, ни в чём не виноват. Когда ему срежут финансирование, мы сделаем ему предложение, от которого он не сможет отказаться. В Союз его не повезём, он не захочет. Дадим ему денег на лабораторию в какой-нибудь европейской стране… только чтобы не в НАТО… В Швейцарии. Пусть там сидит и работает на нас. Но действовать надо быстро.
23 сентября 1971 года. Вашингтон, ночь.
— Они нас похоронят, — заключил М.
М. был начальником Центра «Омега» УВР ЦРУ. Имя его Никсон, разумеется, знал, но старался не держать в памяти, благо оно было неприметным и серым, какой-то Джон Смит или что-то вроде того.
— Но почему? — спросил Президент.
— Как бы это объяснить наглядно… — согласно внутреннему уставу ЦРУ М. был несменяем и Никсона не опасался, а потому позволял себе говорить то, что думает. — Их хозяйственная система завязана на экономию ресурсов. Чем меньше потребление, тем лучше обстоят дела с хозяйством. Если у них упадёт потребление еды, тем более на порядки, то они получат такой резерв прочности, что вылезут из всех своих экономических проблем. В том числе и тех, которые мы им создавали столько лет… Нет, этого допустить нельзя.
— И что же вы предлагаете? — Никсон почесал правую бровь.
— Есть две проблемы: профессор Боровский и генсек Брежнев. Начнём с последнего. Брежнева нужно нейтрализовать.
— Убить Генерального Секретаря ЦК КПСС? — президент был до такой степени изумлён, что показал собеседнику средний палец. — Вы превратились в идиота? Знаете, что за этим последует? Атомный апокалипсис! Я никогда не дам согласия на такую авантюру, слышите?
— Я не сказал «убить». Я сказал — нейтрализовать. В политическом смысле. Мы устроим маленькую провокацию, после чего он перестанет доверять учёным как таковым. Причём — в особенности медикам. Будет лечится у гадалок и колдуний… Он никогда не возобновит те исследования.
— Тонко, — согласился Никсон. — А почему?
— Придётся положить половину нашей агентуры, — вздохнул М. — Но у нас есть возможность вызвать у Брежнева опасное нарушение здоровья. Ну, например, микроинсульт. А потом подкинуть ему ту мысль, что это результат употребления средства для аппетита. Он очень испугается.
— А паралич его не разобьёт? — поинтересовался Никсон.
— Это вряд ли. Но здоровым человеком он уже никогда не будет.
— Н-да. Прямо похороны заживо. — вздохнул Президент. — Ну а что с их учёными делать? — спросил он.
— Убивать никого не нужно. Профессор Боровский, в конце концов, ни в чём не виноват. Когда его лабораторию закроют, мы сделаем ему предложение, от которого он не сможет отказаться. В Америку его не повезём, он побоится. Дадим ему денег на лабораторию в какой-нибудь европейской стране… только чтобы не в НАТО… В Швейцарии. Пусть там работает на нас. Но действовать надо быстро.
1979 год. Монтрё, день.
— Ваша реконструкция событий, дорогой коллега, не лишена определённого интереса, — профессор Йозеф Боровски вдохнул аромат кофе, но пить не стал. — Однако, насколько мне известно, советский руководитель по-прежнему находится у власти…
— Ну да, в каком-то смысле, — профессор Иосиф Боровский придвинул к себе огромную глиняную кружку с глинтвейном. — Но у него большие проблемы с головой. Насколько мне известно, в семьдесят пятом он перенёс инфаркт и инсульт сразу. Думаю, это последствия того покушения. У него нарушена дикция, проблемы с речью… Говорят, начал верить гадалкам и этим, как их… экстрасенсам. Его лечит какая-то грузинка. Джуна… не помню, что там дальше — …швили. Ну а кто та сейчас заправляет делами… даже и думать не хочется.
— У нас тоже было… До чего же грязная история с этим Уотергейтом, — вздохнул Боровски. — Конечно, он был прав, что ушёл. Нация больше не могла ему довериять… — Вы не испытываете ностальгии? — профессор Боровски всё-таки сделал крохотный глоток.
— Как сказать, — задумался профессор Боровский. — Учить на старости лет немецкий — это было трудно. Дойче швахе — швере шпрахе. Хорошо, что мой дедушка научил меня хотя бы ругаться на идиш…
— Да, немцы придумали ужасный язык, — согласился профессор Боровски. — Хорошо, что моя мама не забыла мамэлошн. Хотя сейчас мне, наверное, придётся учить английский…
— Новая работа? — заинтересовался Боровски. — Мне тоже предлагали работу в одной фирме. «Пфайзер». Знаете такую?
— Ну, это монстр, — вздохнул Боровский. — Признаться, они мне тоже кое-что предлагали. Не связанное с пищевыми добавками.
— Проект «Виагра»? — Йозеф наградил Иосифа долгим понимающим взглядом.
— Он самый, — Иосиф Боровский отхлебнул глинтвейна. — Но это работа надолго. Лет на двадцать. Зато потом…
— Потом, — довольно улыбнулся Йозеф, — мы их всех похороним.
Окончательное решение
5867 год по традиционному календарю, месяц Кислев.
Израиль. Поселение Элей Синай
Достопочтенный ребе Ариэль Лайтман дремал в любимом кресле — старом, продавленном, но привычном. Огромный нос раввина мерно покачивался в воздухе. Тяжёлые очки в золотой оправе подрагивали в такт движению, пуская на занавеску смазанный блик. Из-под раскинувшихся на груди ребе зарослей бороды свистело, взрыкивало, побулькивало.
Роза Вайншток обвела привычным взглядом крохотную комнатёнку, заваленную книгами и коробками из-под пиццы. Отметила про себя, что обои, некогда радовавшие глаз, обтрепались и пожелтели, а паркет рассохся. Надо было бы заняться ремонтом, да, но ребе не любит перемен.
Осторожно ступая, Роза подошла к трюмо. В пыльном зеркале отражался вычурный подсвечник, край письменного стола и половина самой Розы. Н-да, что ни говори, а на седьмом десятке она слегка раздалась — впрочем, не так уж и раздалась, можно сказать совсем чуточку, вот если кто помнит Ривку Шляйм, которая выскочила замуж за Лайтмана, так та в юности была как тростиночка, а в последние годы разъелась — ну прямо корова… нехорошо, конечно, так о подруге детства, это называется лашон гара, злословие… хотя она ведь не говорит, а думает, и тем самым не причиняет вреда… Ну да все мы не молодеем… — привычным движением она смахнула с зеркала пыль.
В зеркале отразился циферблат огромных часов — антикварного изделия невесть какой старины. Они показывали без двадцати восемь.
Роза подумала, что с уборкой она, пожалуй, повременит. Сейчас ей предстояло решить проблему куда более важную, а главное — неотложную.
Проблема состояла вот в чём. Когда Роза только нанималась на работу в дом Лайтмана, тот, помимо всех прочих указаний, строго-настрого запретил себя будить — разве что при какой-нибудь крайней опасности, когда Талмуд прямо требует спасения жизни еврея. Свои указания ребе помнил отлично и никогда их не менял. Но это с одной стороны. А с другой — вчера Лайтман несколько раз повторил, что обязательно должен посмотреть лекцию знаменитого хасидского ребе Копчика, который обещали в четверг по «Ортодокс-TV». Это означало: Роза должна была принять все необходимые меры, дабы высокоучёный ребе ни в коем случае не пропустил важную передачу. Но не будить. Ни в коем случае не будить, разве что начнётся пожар, потоп, погром или ещё какой-нибудь «пейсдетс», как выражался в таких случаях её дедушка по маме.
К счастью, Роза Вайншток не первый год жила на свете, имея на плечах светлую еврейскую голову — и к тому же много лет работая у соблюдающих, где набралась бесценного опыта двойного, тройного и многослойного толкования закона. Чуть поразмыслив, она решила, что будить ребе — то есть специально его тормошить, шуметь или ещё как-то мешать его покою — она, разумеется, не посмеет, но подготовиться к передаче, если ребе вдруг всё-таки проснётся, она просто обязана. Для чего она взяла пульт и стала настраивать телевизор, ища канал «Мир традиции».
Попав на последние новости, она случайно нажала на рычажок громкости.
Через пару секунд в телевизоре что-то громко затрещало.
Ариэль Лайтман разом, пружиной, выпрямился, обалдело хлопая глазами. Очки тут же съехали на кончик носа, норовя упасть.
— Что это? Что это? Шахиды? — засуетился ребе, ловя дужки обеими руками.
— Нет, это праздник в Эйлате, — объяснила Роза, приглушая звук. — Ничего интересного. Кстати, сейчас начнётся «Мир традиции» с рабби Копчиком. Вы очень вовремя проснулись, — добавила она. — Вот даже не понимаю, как это вы всегда успеваете.
— Просто у меня есть чувство времени, — самодовольно заметил ребе, водружая на нос вовремя пойманный оптический прибор. — Когда у еврея нет чувства времени, — он заёрзал в кресле, разгоняя кровь и устраиваясь удобнее, — он может даже забыть о своём…
Роза так и не узнала, о чём таком важном может забыть еврей: сверху раздался грохот.
— Это праздник? — неуверенно спросил ребе.
— Нет, это шахиды, — вздохнула Роза, с неудовольствием наблюдая столбики пыли над покрывалом. Пора бы сделать хорошую влажную уборку — но когда? В последнее время ребе почти совсем не выходит из дому, разве только в синагогу, по праздникам, когда работать нельзя. Нет быть сходить к каким-нибудь хорошим евреям, поговорить, посидеть, она бы как раз убралась. Вроде, — начала было припоминать Роза, — он собирался в среду к Букарским? Хотя нет: с Букарскими ребе уже полгода как рассорился из-за каких-то ужасно важных причин, и теперь они не разговаривают. Или, может, к Залкинду? Но этот сам придёт, чего ребе беспокоиться…
Грохнуло ещё раз, поближе.
В ту же секунду раздался звонок. Телевизор, крякнув, переключился в домофонный режим, и на экране появилась заросшая ржавой волоснёй физиономия Меира Залкинда.
— Ребе дома? — как обычно, спросил Залкинд, не сомневаясь, впрочем, в том, что так оно и есть. — Да впустите же меня, Роза, вы же видите, что это я, а не какой-нибудь подозрительный тип, и поскорее, мне нужно видеть ребе…
Роза, вздохнув, нажала кнопку. Наверху загудела, поднимаясь, бронированная дверь.
Залкинд слетел по лестнице, как ракета. Тощий, длинный, в чёрном пальто и продавленной касторовой шляпе, он ворвался в крохотную прихожую и тут же начал остервенело сдирать с себя пальто, обсыпанное какой-то белой пылью.
— Роза, — бросил он, хлопая руками по грязным штанинам, — я неудачно шёл, мимо старого кафе, опасная зона, но я решил сократить путь, там и грохнуло… Проклятые шахиды! Когда же это кончится, небо смилостивится над нами, и евреи будут жить спокойно, как обещал нам Всевышний?!
Роза развела руками, как бы давая понять, что она на месте Всевышнего непременно навела бы порядок в этом животрепещущем вопросе.
— Таки он здесь? Я должен сказать ему, что он ничего не понимает в Торе! — крикнул Залкинд, и, не дожидаясь ответа, побежал по коридорчику, путаясь в собственных ногах.
У самой двери он, как обычно, споткнулся о коврик, и, как обычно, в последний миг удержал равновесие.
Дверь грохнула, и сразу же из-за неё послышались возбуждённые голоса.
Роза привычно подумала, что Залкинд, наверное, прямо с порога ляпнул какую-нибудь дерзость и расстроил ребе. И почему он, великий Лайтман, которого когда-нибудь признают законоучителем поколения, тратит драгоценное время на какого-то шлимазла, у которого завиральные идеи в голове? Хотя, если честно, в молодости высокоучёный ребе был таким же. И точно так же бегал к ребе Янкелю… Ох уж эти мужчины. Всё бы им спорить.
— Роза, сделай кофе! — донеслось из комнаты. — Мне и молодому человеку!
Роза улыбнулась. Ребе упорно именовал Залкинда «молодым человеком» — отлично зная, насколько подобное обращение его выводит из себя.
Она смолола кофе в ручной мельничке, размышляя, сколько осталось сахара и подавать ли сливки. С одной стороны, ребе сегодня утром кушал зелёный салатик и тосты с огурцом, так что ему можно молочное. Хотя молоко и огурцы в любом случае мешать нежелательно, у ребе слабый желудок, лучше поберечься… С другой стороны, Залкинд — известный вольнодумец, он признаёт только «чистую Тору» и запрета на смешение мясного и молочного не соблюдает. И если он опять что-нибудь скажет на эту тему — а он скажет, непременно скажет, — ребе раскричится, у него поднимется давление, а виновата будет она, Роза. Сколько опасностей!
— Этот Копчик — просто шарлатан! — донеслось до Розы из комнаты ребе. Кричал, разумеется, Залкинд.
Роза невольно прислушалась.
— Вы меня знаете, — орал Залкинд, — я просто плюю на всю эту мишуру, эту паутину, которая затянула простой и ясный смысл Торы! Но кашрут — это краеугольный камень, на котором стоит еврейство! И этот запрет — он не придуман каким-нибудь замшелым талмудистом, это прямой запрет Всевышнего…
— Вы не понимаете, Залкинд, — голос Ариэля Лайтмана был чуть глуше, но Роза прекрасно понимала, что ребе уже на взводе. — Свободная дискуссия является неотъемлемой частью традиции. Даже Ашер должен быть выслушан, пока он не отвергает основ…
— Это и есть отвержение основ! Сам факт обсуждения подобной темы — это оскорбление евреев, это плевок в лицо тысячелетиям нашей истории…
Роза кончила молоть кофейные семена, ссыпала порошок в турку, залила водой, зажгла плиту. Нет, решила она, лучше уж не подавать молочник.
Когда старуха вошла в комнатку с подносом, Залкинд сидел, скрестив ноги, на коврике возле телевизора, всем своим видом — даже рыжим затылком — выражая крайнее негодование. Ребе Лайтман не счёл нужным покидать кресло, но, судя по гневно подрагивающему кончику носа, и он был изрядно рассержен.
Зато на экране телевизора дела обстояли лучше некуда.
Действо происходило в каком-то роскошном конференц-зале: хасидим копчиковского направления не пускали в свои синагоги посторонних, а всю пропаганду вели на внешних площадках. Тактика была эффективной — судя по тому, что зал был заполнен до отказа, многие сидели на лестницах в проходах.
Сам рабби Копчик — огромный, чернобородый, голубоглазый — вещал в древний микрофон величиной с голову младенца:
— …разговор о тайнах традиции, разговор о чаяних и упованиях, составляющих внутреннюю сторону общеизвестных вещей, — доносился из телевизора низкий бас, от которого дребезжал динамик.
Роза Вайншток решила, что не будет большой беды, если она немного задержится: мало ли что понадобится ребе и его гостю. Сидеть в присутствии ребе она себе не позволяла, но почему бы не постоять?
— Сегодня я хотел бы поговорить с вами о кошерности пресловутой свиньи. Вы знаете, что моя точка зрения по этому важнейшему вопросу отличается от той, которую мы, евреи, считаем традиционной и которой придерживаемся уже в течении…
— Сразу — неуважение к Торе, с которого и начинается отступничество, — забормотал Залкинд. — Я об этом тысячу раз говорил, ребе, но вы меня не слушали…
Роза чуть подвинулась — да так неудачно, что с хлипкой книжной полочки упал антикварный том «Путеводителя по миру каббалы» и съездил корешком по сгорбленной спине рыжего нахала. Тот закрыл голову руками и повалился на пол.
— Что? Что случилось? Шахиды? — забеспокоился ребе.
— Нет, просто полку пора прибить покрепче, — вздохнула Роза. — Извините, пожалуйста, у нас тут очень тесно, — несколько суше, чем следовало, сказала она Меиру, который лежал на полу и шептал молитвы.
— Сначала напомним общеизвестное, — вещал тем временем Копчик. — Свинья, хазер, является, в некотором смысле, классическим примером некошерного животного. Интересно отметить, что в Торе такого исключительного выделения именно свиньи в ряду прочих некошерных тварей нет. Она упомянута в Книге Левит и Второзаконии среди запрещённых: у неё раздвоенное копыто, но она не жуёт жвачку. В этом смысле она противоположна, скажем, зайцу, запрещённому по обратной причине — он жуёт жвачку, но не имеет раздвоенных копыт. Тем не менее, именно свинина, а не, скажем, зайчатина, стала символом сил, противостоящих еврейству, и символом кашрута вообще. В частности, поэтому, в отличие от других нечистых животных, которых запрещено только употреблять в пищу, свинью нельзя использовать ни в каком виде, за исключением щетины, по поводу чего до сих пор ведутся споры…
— Во-первых, если уж говорить о символизме, то силы, противостоящие еврейству, символизируются конём, об этом писал Шмулевич… — опять понёс своё Залкинд, пытаясь стряхнуть сор, прилипший к рукаву.
— Молодой человек! Достопочтенный рав Шмулевич говорил это совершенно в ином смысле! — не выдержал Лайтман.
Перебранка продолжалась, впрочем, недолго — как раз подоспела рекламная пауза. Когда физиономия ребе Копчика сменилась изображением аппетитного на вид, и совершенно кошерного гамбургера с овощами из Натании и эйлатским майонезом, Меир, как обычно, бросился в уборную, а ребе, как обычно, прочёл Розе краткое наставление о том, насколько отвратительно и недопустимо перебивать религиозную передачу коммерческими предложениями. Роза, как обычно, прослушала нотацию, отметив про себя, что с каждым годом эта речь получается у ребе всё лучше и лучше. Ещё немного, решила она, и её можно будет записывать для телевизора. Надо будет договориться с ребе, а ребе не любит съёмок. Потом пригласить съёмочную бригаду, это тоже очень сложное дело — телевизионщики такие наглые, и почти ничего не соблюдают, для них, если что, и суббота не суббота — и это тоже нужно как-то урегулировать заранее. Потом, наконец, очень важно, чтобы съёмки велись подходящим телеканалом, тот же «Мир традиции» ребе не одобряет, хотя смотрит постоянно, а вот «Еврейский час» он не смотрит вообще, потому что во всём с ними согласен и там нет ничего интересного… Сколько хлопот, сколько проблем. Ничего, на то Всевышний и дал ей светлую еврейскую голову…
За этими размышлениями Роза Вайншток благополучно пропустила мимо ушей не только окончание речи ребе, но и возобновление передачи.
— В талмудическую эпоху вместо слова «свинья» часто употребляли эвфемизм давар ашер, «другая вещь», то есть нечто настолько непристойное, что даже самое его имя не следует произносить, — разглагольствовал рабби Копчик. — В Талмуде свинью обозначали как… — дальше посыпались цитаты и ссылки, которые старуха, как обычно, проигнорировала: не её ума дело.
Залкинд после посещения отхожего места несколько попритих и почти не высовывался — только один раз, когда рабби Копчик стал цитировать свидетельства о декрете Антиоха Эпифана, принуждающим евреев приносить свинью в жертву, назвал его слова «невежестенными домыслами», но Лайтман даже не отреагировал.
— И тем не менее, — продолжал рабби Копчик, эффектно взмахнув рукой с микрофоном, — в то же самое время в среде каббалистов развивались учения о том, что свинья вовсе не является отвратительной, а свинина чрезвычайно вкусна, и что евреи, отказываясь от свинины, делают это исключительно из послушания Всевышнему. Элиэзар бен Азария специально оговаривался, что еврей должен думать, что свинину он ел бы с удовольствием, и лишь прямой запрет Всевышнего…
— Не думать так, а только говорить в ответ на вопрос несоблюдающего, — придрался Залкинд и минуты три невозбранно ругался с телевизором, так как рабби Лайтман к тому моменту заскучал (Копчик говорил об общеизвестных вещах) и заклевал носом.
Розе пришлось полминуты громко скрипеть половицей и случайно задевать задом спинку кресла раввина, прежде чем тот очнулся.
Как раз в этот момент Копчик приступил к интересному.
— Итак, — он переложил микрофон из правой руки в левую, блеснув дорогими часами на запястье, — мы установили, что учение о кошерности, точнее, некошерности пресловутой свиньи далеко не столь однозначно, как мы его сейчас понимаем. В частности, существует влиятельная традиция, утверждающая, что ограничения, наложенные на нас Всевышним, парадоксальным образом не являются абсолютными. Все позднейшие учителя сходятся на том, что в эпоху Мошаха, после очищения мира, ограничения, налагаемые кашрутом, перестанут действовать…
— Опять предания и сказки вместо чистой Торы! Это невыносимо! — разгорячившийся Залкинд вскочил с места и бросился с кулаками на телевизор.
Роза на сей раз даже не шелохнулась: Меир, конечно, шлимазл, но всё-таки еврей, чтобы портить хорошую вещь. Так и вышло: худосочный кулачок Залкинда остановился в сантиметре от экрана.
Зато ребе всполошился, привстал в кресле и выругал Залкинда за попытку причинить вред его имуществу. Тот непродуманно огрызнулся какой-то цитатой насчёт уничтожения идолов, крайне неудачной — Лайтман разделал его под орех, всего минут за десять. То есть, конечно, не то чтобы разделал — Меира невозможно было заставить признать свою неправоту даже в самом пустяковом вопросе — но, по крайней мере, доказал неприменимость цитаты к данному случаю, что уже само по себе было огромным успехом.
За это время рабби Копчик в телевизоре рассказал много интересного. Роза даже пожалела, что пропустила всё это мимо ушей.
Наконец, друзья успокоились. Лайтман, довольный победой, устроился в кресле. Залкинд, пощипанный, но не побеждённый, снова устроился на коврике.
— Итак, — раввин в телевизоре подошёл к самому торжественному пункту, — сформулируем вековую загадку следующим образом. Свинья некошерна, поедание свиньи отвратительно и запретно. И тем не менее, тяготение евреев к свинине и некое обещание, что в будущем свинья будет каким-то образом дозволена — это часть нашей духовной реальности. На сей счёт существует каббалистическое предание, передающееся устно из поколения в поколение уже много веков. Причём речь не идёт о нарушении Закона — скорее, в самом Законе будет открыто что-то такое, что позволит нам, наконец, вкусить свиного мяса…
В комнате стало очень тихо. Лайтман перестал пыхтеть, а Залкинд — подпрыгивать на месте.
Еврей в телевизоре как будто почувствовал, что овладел вниманием аудитории. Он приосанился, снова переложил микрофон из руки в руку, и возвысил голос:
— Казалось бы, это невозможно! Разумеется, Закон не может быть изменён. Одна часть Закона не может противоречить другой. Ничто в Законе, открытое позднее, не может отменить явно сказанного ранее. Это, повторяю, основы, и всякий, посягающий на них, посягает на Тору.
— Хорошо сказано, — буркнул Лайтман.
К удивлению Розы, Залкинд промолчал.
— Теперь, евреи, прошу задуматься вот о чём. В Пятикнижии и Талмуде нет приложения в виде рисунков животных, их костей и черепов. Талмуд приводит признаки кошерных животных, также требуется непрерывная традиция поедания таковых. Например, в Торе дан список из примерно двадцати птиц, которые запрещены в пищу, остальные кошерны. Но так как утеряна традиция и мы не знаем, каким именно птицам соответствуют приведенные названия — мы едим лишь тех, относительно которых существует непрерывная традиция употребления их в пишу: это утки, куры, гуси, лебеди, перепела, голуби… Так вот, я задам необычный вопрос: является ли то животное, мясо которого запрещает есть Тора и Талмуд — и то животное, которое мы сейчас называем свиньёй, одним и тем же животным?
— Какая чушь! Свинья некошерна в любом случае, так как у неё раздвоенное копыто… — затараторил Залкинд.
— Дайте же мне дослушать, молодой человек! — прогундел ребе.
— Да, это звучит крайне необычно, — продолжал тем временем Копчик. — К тому же вы можете возразить, что свинья, несомненно, обладает раздвоенным копытом, но не жуёт жвачку, и это делает его некошерной. Тогда я задам следующий смелый вопрос — а что мы, собственно, понимаем под раздвоенностью копыта? Общепринятое толкование гласит, что…
Тут долбануло так, что выключился свет во всём доме.
Электричество дали минут через двадцать. У Розы за это время разболелась голова — ребе и Залкинд, не имея иных занятий, всё это время ожесточённо препирались, пытаясь догадаться самостоятельно, что имел в виду Копчик, и почему его теории — чушь собачья. С этим были согласны оба, но обосновывали это по-разному, что приводило обоих в совершеннейшее неистовство.
— Вот она, ваша пресловутая традиция! — кричал Залкинд. — Вот цена отхода от чистой Торы! Вот к чему приводят все эти тайные традиции и бормотания цадиков! Вот чем кончается безрассудное повторение побасёнок дутых авторитетов, мудрецов без мудрости! Всё кончается бесстыдным отрицанием слов самого Всевышнего! Нет, только возвращение к изначальной чистоте Торы спасёт евреев, если их ещё можно спасти!
— Вот она, ваша чистая Тора! — возмущался Лайтман. — Вот к чему приводит забвение традиции и отбрасывание предания! Только на основании непрерывной традиции мы можем правильно понимать указания Всевышнего! Отбросьте традицию — и вы откроете дорогу всеразъедающему скептицизму! Надо же! Уже и свинья для вас не свинья!
— Это для вас свинья не свинья! — орал Залкинд, перекрикивая ребе.
— Кому свинья не свинья, тому и еврей не еврей, и Страна не Страна, и Тора не Тора! — распалялся ребе, не слушая Залкинда.
У Розы разболелась голова от шума. Но делать было нечего: оставалось ждать, пока дадут свет и евреи угомонятся. На последнее, впрочем, шансов было мало: Роза отлично знала, что эти двое способны спорить часами, а то и сутками напролёт.
Когда же, наконец, лампочка под потолком снова загорелась, и телевизор, обиженно загудев, включился, передача уже кончилась. Передавали метеосводку: шахиды, наконец, прошли. Следующий поток ожидался через неделю.
Лайтман и Залкинд всё пропустили мимо ушей — они к тому моменту погрузились в ожесточённый спор об основаниях веры. Залкинд к тому времени успел назвать ребе невеждой, замшелым талмудистом, лжепророком, врагом еврейства, амалеком и хазером. Ребе тоже не отставал, честя молодого наглеца агадическими сравнениями, крайне нелестными. Расцепить их было невозможно.
Вайншток решила, что — раз уж шахиды кончились — не стоит тратить времени даром, и засобиралась в продуктовую лавку: ей звонила Ривка Шляйм, говорила, что завезли свежую говядину.
Лифт поскрипывая, поднял её к поверхности. Старуха подумала, что нужно будет позвонить домовладельцам и поговорить насчёт замены тросов.
Выйдя на улицу, она бросила встревоженный взгляд на бронеколпак, укрывающий дом. Прямо над дверью блестела свежая вмятина — след удара шахида. Зато на дороге не появилось ни единой ямы. Похоже, на сей раз сезонный метеоритный дождь — шахиды обычно начинаются в Кислеве, сразу после леонидов и до езидов — был не особенно обильным.
Прямо посреди дороги в грязной луже валялась свинья.
Это была обычная дикая свинья — длинная, семиногая, покрытая пурпурной щетиной. Она похабно разлеглась в грязи, выставив яйцеклады, чесалась и икала от удовольствия. Судя по оранжевому подпушку, свинья была молодой, свежевылупишиейся. Хитиновая лапа с двумя копытцами подёргивалась в такт икоте.
Старуха поспешно убрала глаза от срамного зрелища. В самом деле, подумала она, ну как можно употреблять в пищу мясо такой отвратительной твари? Как эти гои могли есть свинину и прочую мерзость? Неудивительно, что они вымерли.
Хотя, — вспомнила она рассуждения ребе, — хасиды говорят, гои исчезли по воле Всевышнего в один день, потому что они очень досаждали евреям. Но евреи были неблагодарны, и Всевышний наслал метеориты, чтобы Его народ не забывал о своих грехах, исполнял мицвот и учил Тору.
Роза имела светлую голову и знала, что каббалисты иногда рассказывают чудесные истории, но им не всегда можно верить. К сожалению, подумала она, евреи иной раз склонны себя обманывать.
А всё-таки интересно, куда делись гойские города и страны, про которые написано у мудрецов Талмуда — Азия, Африка, Европа? И почему светлые еврейские головы забыли то, что когда-то умели гои? Бабушка говорила, что её бабушка рассказывала про машины, которые летали по воздуху, в пустоте и даже между звёзд. Почему всего этого нет у евреев? Она как-то спрашивала об этом у ребе Лайтмана, но тот отделался обычной отговоркой — «это не имеет отношения к Торе».
Ребе и впрямь старался никогда не интересоваться вопросами, не имеющими отношения к Торе. Может быть это и правильно: есть столько непознанного в Законе, чтобы заниматься чем-то ещё. Зачем тратить время на пустое?
Стремительно взошла луна, маленькая и красная, как спелая морская капуста. Проковылял мимо огромный перепончатый удод, неся в щупальцах извивающегося ивхемона. «Удода и ивхемона не ешьте» — припомнила Вайншток цитату из Торы, которую любил приводить ребе, рассуждая о том, почему не следует читать некоторые книги.
Свинья перестала чесаться, втянула седьмую ногу в головогрудь, поднялась, отряхнулась, подняла надкрылья и полетела — низко, как и положено свинье. Свисающие копытца чиркали по грязи, во все стороны летели брызги. Роза закрыла голову руками, чтобы грязь не попала на парик.
Надо бы поторопиться: лавка закрывается в одиннадцатом часу, а постная говядина даёт ростки уже через сутки.
Слишком много людей
Академик Сабельзон проснулся в семь. За окном бурлил июль: пудовое солнце ломило стёкла, с улицы пробивался летний шурум-бурум — гулкая смесь машин, голосов и ветра.
Он сел на постели, осторожно зевнул, робко потянулся, слушая себя: нейдёт ли откуда нехороших сигнальчиков, звоночков, предупредительных болей. Но ничего не было. Даже межрёберная невралгия, верная подруга последних лет, — и та затаилась.
Похоже — Сабельзон суеверно постучал по деревянному остову кровати веснушчатым кулачком — день начинался неплохо.
Кабинет встретил хозяина развешенными под потолком солнечными зайчиками. Жароптицевым пером сияла хрустальная пепельница, девственно чистая: академик бросил курить лет пятнадцать назад, когда врачи нашли нехорошую опухоль — с онкологией пронесло, но возвращаться к уже преодолённой привычке Лев Владиленович не стал. Апельсиновый отсвет стекал с кожаного корешка второго тома «Социальной антропологии» на ледериновую обложку академического сборника «Демография и статистика» — с его последней статьёй с анализом второго демографического перехода, после которой, к сожалению, разместили заметку профессора Пейтлина, никчёмную, но ядовитую.
Сверкнула бедром шведская дизайнерская ваза с подувядшими за ночь белыми цветами — Лев Владиленович забыл название, мелкие такие белые шарики на длинных удочках, ну как же они… Память-ехидна кукишем выставила обидную набоковскую фразу о Чернышевском, который-де путал пиво с мадерой и не мог назвать ни одного лесного цветка, кроме дикой розы. Академик заполошился: он, кажется, забыл, что ещё за дикая роза такая — что, склероз? Из глубины испуганной памяти рыбкой выпрыгнуло и забилось — «шиповник, шиповник, шиповник».
Шлёпая босыми ногами по нагретому полу и на ходу натягивая махровый халат, академик направился на кухню. По пути открыл было окно в столовой, но тут же и захлопнул: потянуло сладкими пережаренными сырниками. Интересно, кто в такую рань стоит у плиты и стряпает такую гадость? Наверное, готовят для ребёнка… семь-десять лет, в школу… наверное, бабушка… в России ещё сохранились остатки расширенной семьи, три поколения живут в одном пространстве… культурный фактор и банальный квартирный вопрос тут переплетаются… Культура — способ коллективного осмысления социумом экономических реалий, каковые, впрочем, без этого осмысления не работают… да и не существуют. Культуру можно рассматривать как часть экономики, при том, что обратный подход столь же релевантен… Нет, не так: культура — часть экономики, но экономика — часть культуры. Как свет, который и волна и частица. Подходящее, кстати, сравнение. Это надо в статью, а то сейчас в моде разговорчики про автономию культуры, хотя им уже сто лет, этим разговорчикам, как и их сиамскому близнецу, вульгарному материализму. Вот, кстати, тот же Пейтлин, с этой, как её, «проективной социографией». Бессмысленное словосочетание, и по сути — тоже ничего нового, этакое неошпенглерианство, сдобренное кое-какой эрудицией и подвешенным языком… — он поймал себя на том, что уже минуты две стоит перед закрытым окном с закрытыми глазами и перебирает в уме слова.
Обнаруживающаяся за этим символика показалась ему обидной, поэтому он заставил себя в окно посмотреть.
Там показывали то же, что и всегда: курчавые зеленя, детскую площадку без детей (тут же вспомнилась последняя работа Левинсона и Никольского о репродуктивном поведении жителей мегаполисов: толково, но не без натяжек, просили черкнуть две строчки, надо бы и в самом деле черкнуть), белое пустынное небо… кстати, почему пустынное? Он чуть прикрыл веки, припоминая, как ребёнком стоял у окна и зачарованно смотрел на вздувающийся белый след, процарапанный в синеве реактивным самолётом. Когда они перестали летать над Москвой? Надо бы уточнить… а, ладно.
Всё-таки дойти бы до ванной, а то он так может простоять, размышляя о своём, чёрт знает сколько времени. Был уже прецеденты — как, например, на юбилее академика Похеля, с тостами лекционной продолжительности, как выражался покойный ныне академик… кстати, совсем забыл, выходит ведь том Похеля в «Классиках науки», надо бы списаться с Петровым из архивной комиссии, он ведь обещал предисловие… нет, сначала всё-таки умыться и почистить зубы.
В ванной комнате было прохладно, даже на вид — металл, голубая плитка, тихое журчание воды по трубам. Ремонт обошёлся в копеечку, но, пожалуй, того стоил. Молдавская бригада оказалась вполне толковой. К тому же общение с шабашниками навело академика на одну интересную мысль о трудовой миграции, из которой потом получилась статья в сборник «Антропотоки на постсоветском пространстве» под редакцией Бориса Межуева, где ожидается перевод очередной никчёмной статьи того самого Пейтлина, против публикации которой он выступал, но его, как всегда, не послушали… зубы, зубы почистить, злиться — потом.
Разглядывая себя в зеркале, академик в который раз подумал, что ему грех жаловаться на возраст. Лицо как-то завершилось, исполнилось, приобрело породность, которой раньше и не пахло. В зеркале отражался худощавый, ухоженный, исполненный достоинства элегантный старик. Нет, пожалуй — старец. Что ж, старец так старец. Зато за последние десять лет он — безо всяких специальных усилий — похудел, а близорукость скомпенсировалась старческой дальнозоркостью. Теперь он избавился от ненавистных очков и научился хорошо одеваться: искусство, в молодости представлявшееся ему непостижимым. Надо, кстати, зайти сегодня в тот новый магазин на Большой Дмитровке, подыскать себе приличный летний костюм…
Принимать душ Сабельзон не стал — всё равно это придётся сделать перед выходом, сначала нужно поесть и разобрать почту, обычную и электронную. То есть — напомнил он себе — это электронная почта сейчас считается обычной, а та, которая раньше была обычной, теперь «бумажная», и её уже не называют «почтой», а «доставкой». Надо бы спросить у кого-нибудь помоложе. Хотя бы у того же Межуева.
В кабинете, как всегда, его встретила кривляющаяся рожица скринсейвера на экране «Макинтоша». Профессор не любил выключать компьютер — ему почему-то казалось, что машина потом не включится. К тому же ночью продолжала приходить почта. Надо бы поставить ещё и голосовую связь через сеть, подумал он, тогда международные звонки будут дешевле. Можно будет звонить внучке в Германию хоть каждый день, а не только по субботам. У него хорошая внучка. Жаль, что он, демограф из первой мировой десятки, сам не выполнил элементарную норму воспроизводства: одна дочь, одна внучка. А как ещё? Надо было делать карьеру, да и условия были не ахти, история России последние два века не балует условиями для научной карьеры.
Писем в основой папке отказалось на удивление немного, с вложениями — и того меньше. Интерес представляла только свежая статья Никольского про национально-этнический состав населения Южной Индии. Индийская тема сейчас вообще в моде, надо её развивать, а Никольский — молодой и перспективный, его прошлогодняя работа о сокращении интергенетического интервала в семьях среднего класса новых индустриальных стран очень интересны, хотя и не настолько, как его, Сабельзона, разработки десятилетней давности, но всё-таки вполне себе ничего… Правда, рассуждения об индийской рождаемости довольно-таки сомнительны. Ему, Льву Владиленовичу, собаку съевшему на демографических проблемах Передней Азии, Индия как была непонятна, так и сейчас… Вот, кстати: индусы живут ужасно, а плодятся как кролики, несмотря ни на какие условия, включая их жуткую госполитику…
Следующей в папке оказалась статьи Пейтлина. Аккуратный Никольский прислал и оригинал, и перевод.
Сначала Сабельзон решил статью не читать, по крайней мере пока, чтобы не портить себе настроение. Потом всё-таки, ругая себя, открыл файл — так, чтобы пробежаться глазами и отследить наиболее очевидные ляпы. Через пять минут он читал уже внимательно, чувствуя, как подступает к горлу привычная сухая злость.
«Следует, наконец, признать, что все науки о человеке — гуманитарные науки, в самом прямом смысле этого слова», писал Пейтлин. «Специфика же гуманитарных наук состоит в сознательном дистанцировании от той точности, которую Хайдеггер полагал признаком не-мышления, отказа от осмысления. Это касается и тех наук о человеке, которые считаются вотчиной статистики…»
Лев Владиленович ощутил настоятельное желание немедленно открыть редактор и вбить туда всё, что он думает про этого популярного болтуна, которого все почему-то так ценят. Пересилив себя, он продолжил чтение.
«Статистика ничего не доказывает, кроме пристрастий манипулятора», — читал он, чувствуя, как сжимаются и каменеют его пальцы. «Манипулирующий статистикой демограф может доказать что угодно — например, вся концепция демографических переходов в том виде, в котором мы её знаем, является результатом злоупотребления числами…»
— Ах вот как, — прошептал академик. — Ну я же тебя…
Что-то неприятно дёрнулось в виске, и тут же раздался шум в левом ухе — как будто открыли кран.
Сабельзон зажмурился и медленно сосчитал до десяти. Потом, на всякий случай, разделил в уме сто тридцать шесть на двадцать два, недоделил до остатка, но успокоился. Послушал себя — нет, ничего, решительно ничего нехорошего… Зато появилось ощущение, что он забыл о чём-то важном. Чёрт… чёрт… Ну конечно, интервью для «Мира науки»! Вопросы лежат уже неделю, надо бы заняться… Ладно, там посмотрим: пойдёт сразу — сделаем, не пойдёт — не надо, пусть ещё полежат… Тем не менее…
Он открыл глаза с твёрдым намерением немедленно закрыть возмутительную статью и заняться чем-нибудь полезным. Однако при попытке щёлкнуть по квадратику в углу курсор не шелохнулся.
«Ну вот, теперь машина зависла», — обречённо подумал академик. День, так хорошо начавшийся, явно не задавался.
Он нажал на клавишу перезагрузки. Ничего не случилось: проклятая статья не желала исчезать. Более того — в пальцах возникло какое-то странное ощущение, как будто они провалились в пустоту.
Обеспокоенный, он посмотрел на свою руку — и не увидел её. Руки не было.
У Льва Владиленовича закружилась голова. Он вскочил — ноги вроде бы слушались — попытался опереться о стену, но стена как будто провалилась под рукой. Не удержав равновесия, он нелепо взмахнул руками и полетел куда-то в темноту.
Последнее, что он увидел — тело худого седовласого старца, сидящего в кресле перед монитором. Правая рука бессильно свисала вниз.
Темнота скрутилась, превращаясь в жерло воронки. На дне приглашающе блеснуло.
* * *
— Доброй вечности. Вот вы и прибыли. Надеюсь, добрались благополучно, — вежливо сказано бестелесное туманное существо, висящее посреди какого-то неопределённого серого пространства.
— Да… если так можно выразиться, — машинально ответил академик, всё ещё пытаясь собраться с мыслями.
— Ну вот и славно. Теперь давайте займёмся делами… — существо сгустилось, изнутри озарившись блескучим рыбьим перламутром.
— Нет, так не пойдёт, — решительно прервал разговор Сабельзон. — Сначала представьтесь. Кто вы, собственно?
— Кто я? — существо сделало что-то такое, что Лев Владиленович понял как пожатие плечами. — Вы что, совсем ничего не помните?
— Нет, — сказал Сабельзон, и тут же осознал странную вещь: бестелесный собеседник кажется ему знакомым, и более того — успевшим порядком надоесть.
— Вот-вот, — несколько обиженно прогундосило существо. — Каждый раз одно и то же. Я занимаюсь вами с палеозоя, и каждый раз такая сцена. В позапрошлый раз вы мне ещё истерику закатили, — пожаловалось оно.
— Значит, были причины, — автоматически отбил наезд академик.
— Ну, причины были, — не стало спорить существо, добавив к свечению розовенького. — Умереть родами, зная, что ребёнка некому выходить… Не надо было рожать от зуава.
— Э-э-э… это когда было? — ошеломлённый академик среагировал на слово «рожать».
— В пятьдесят шестом. Тысяча восемьсот, — без энтузиазма отозвалось существо. — Извините, у меня тут проблемка… Вы пока подождите, хорошо? Только не пытайтесь бежать куда-нибудь. Во-первых, некуда, во-вторых, незачем. И в-третьих, нечем. То есть перемещаться тут можно, вы просто не умеете. Вы всеми силами сопротивляетесь духовному развитию, предпочитая тренировать интеллект. Ладно, об этом в следующий раз поговорим, — заторопился собеседник. — У меня свежий клиент, только что с физического плана. Сейчас приму душу, переправлю куда следует, и мы с вами продолжим…
Собеседник исчез. Не осталось вообще ничего, кроме абстрактного серого свечения вокруг.
Академик занялся тем, с чего начинал в любой новой ситуации: задумался.
Во-первых, следовало признать неприятный факт: похоже, он умер. На это указывало решительно всё, начиная с эпизода у компьютера и кончая его нынешним состоянием. Например, он не чувствовал своего тела. Все попытки посмотреть себе на руки или под ноги оканчивались ничем. Академик ощущал себя чем-то вроде светящейся точки, в которой было сконцентрировано его сознание. Впрочем, ощущение было знакомым: примерно так же он себя чувствовал в те моменты, когда решал какую-то сложную проблему.
Скорее всего, смерть наступила в момент чтения статьи Пейтлина. Он разозлился, поднялось давление, лопнул какой-нибудь сосудик в голове. Льва Владиленовича несколько покоробило то, что его смерть — событие, что ни говори, важное — оказалась до такой степени банальной. С другой стороны, отсутствие предсмертных мучений его не огорчило. Во всяком случае, решил он, с этим малоприятным делом ему удалось управиться быстро и аккуратно. Сабельзон начал было прикидывать, кому следовало бы поручить похоронные хлопоты, и тут же себя одёрнул: сейчас следовало выкинуть из головы земные дела и позаботиться о ближайшем будущем.
Далее: как он только что убедился, за смертью следовало что-то ещё. Академик никогда не испытывал личного интереса к религиозным темам: он был человеком старой закалки. Тем не менее, все известные ему перспективы посмертия предполагали что-то вроде суда над покойником — ну или, как минимум, разбор полётов. Этот вопрос он решил провентилировать сразу по возвращению собеседника.
Что касается светящегося существа, академик постарался проанализировать свои ощущения. В самом деле, оно казалось ему знакомым, надоевшим, но, увы, имеющим над ним какую-то власть. Сосредоточившись на этих ощущениях, академик осознал, что представляет существо как нечто среднее между нянькой, начальником и контролёром в общественном транспорте. Потом из памяти выплыло слово «куратор», и всё встало на свои места.
К сожалению, помимо этого, академик не смог вытянуть из своего подсознания ничего полезного. Похоже, — с поздним раскаянием понял он, — пренебрежение духовным развитием и в самом деле нежелательно. Во всяком случае, для покойника.
В положении покойника, с некоторым удивлением констатировал академик, имеются и свои плюсы. Например, отсутствие неприятных ощущений, как телесных, так и душевных. Он не ощущал ни ужаса, ни горя, ни даже острой тоски о покинутой жизни. Зато мыслить в развоплощённом состоянии оказалось на диво комфортно. Пребывать в пустоте, не отвлекаясь на всякую ерунду… если бы сюда ещё приличную библиотеку, или хотя бы тот же интернет, это, наверное, как-то можно сделать… Ещё бы, пожалуй, не помешало кресло. Ему почему-то очень захотелось присесть, и только сознание того, что сидеть ему не на чем и нечем, останавливало его от попытки плюхнуться прямо на то серое нечто, которое тут простиралось во все стороны.
— Но-но, не увлекайтесь, — добродушно прогундосило существо, непонятно как оказавшееся на прежнем месте.
— Чем? — не понял академик, отвлекаясь от размышлений.
— Насчёт кресла и интернета. У нас тут всё-таки не изба-читальня. То есть изба-читальня, конечно, у нас тоже есть, это в высших слоях, где доступен Астральный Свет. Вам туда пропуска не выписано. И, как я уже предупреждал, не выпишут, пока вы не встанете на путь духовного развития…
— …исправления, — машинально продолжил мысль Лев Владиленович, и только тут понял, что не говорит, а думает.
— Ну конечно, думаете, — существо недовольно потускнело. — У вас же нет тела. Вы представляете собой так называемое чистое сознание. Насчёт чистоты — это, конечно, преувеличение, — добавило оно не без ехидства.
— Сам-то… — подумал академик, и опять поймал себя на том, что высказывается как бы вслух.
Бестелесное существо, однако, не обиделось.
— Да, у меня есть кармические загрязнения, — признало оно. — Так что ещё пару кальп мне придётся проторчать на этой работе. Но давайте всё-таки займёмся вами. Следующий клиент у меня где-то через час, и с ним придётся повозиться. Скорее всего, он сюда дойдёт в плохом состоянии. Сейчас его будут забивать дубинками, а это очень портит характер. Шок, трепет. Так что давайте быстренько. У вас, наверное, есть вопросы?
— Есть. Что со мной будет? — напрямик спросил академик.
— Что-что. Вы умерли. Теперь вас надо куда-то определить.
— В ад или в рай? — голос академика предательски дрогнул.
— Гм… Заявку на ад я сейчас могу отправить, но, откровенно говоря, шансы у вас минимальные… А в рай-то вам зачем?
— То есть как зачем? — не понял академик.
— Ну, давайте смотреть. Вы перенесли в течении жизни душевные травмы, тяжёлые физические страдания, кармически необоснованные утраты, личностные кризисы, симптомы умственной или иной неполноценности? — скучным голосом осведомилось существо.
— В общем-то, всё было в порядке, — признал академик.
— То есть ни на что не жалуетесь? — уточнило существо.
— Не жалуюсь, — Сабельзон попытался пожать плечами, но вовремя вспомнил, что у него их нет.
— Так зачем вам тогда в рай? Вы от какого стресса лечиться собираетесь?
— Лечиться? — Сабельзон наморщил несуществующий лоб: откуда-то из очень далёких глубин всплыло воспоминание о каком-то бесконечном белом пространстве — тихом, спокойном и неимоверно тоскливом.
— Ага, — облачный собеседник несколько оживился, — вижу, припоминаете. Бывали вы в раю. После одного очень неудачного воплощения. Тогда вас пришлось долго в чувство приводить. Ничего, там прекрасные специалисты работают. Вышли как огурчик.
— Гм, — академик никак не мог собраться с мыслями. — Я, видите ли, человек христианской культуры… И всю жизнь считал, что рай — это место, где награждают праведников. Святых, например…
— Не награждают, а реабилитируют, — строго поправило существо. — Особенно мучеников. Не бросать же их на новое воплощение сразу? После того, что они пережили?
— Насколько я понимаю, — медленно промыслил академик, — многие сознательно туда стремились. В рай.
— Бывали такие случаи, — неохотно признало существо, — особенно в первые века христианства. В больничке люди отсиживались, вместо того, чтобы воплощаться. Зачем — непонятно. Ну мы потом разъяснительную работу провели, сейчас там души лежат только по делу. Ветераны локальных войн, самоубийцы, жертвы преступлений, в общем, разный народ… Давайте всё-таки сначала с вами решим. Итак, в рай вам незачем. А насчёт ада вынужден разочаровать: очень много желающих.
— А что там хорошего? — осторожно спросил Сабельзон.
— Ну как же… Ах да, вы же ещё не бывали? Ад — это серия кармических пространств, в основном для претерпевания условных страданий и форсированной выработки благой кармы. Тренажёрный комплекс, если угодно.
— Это как? — заинтересовался Сабельзон. — Я думал, там котлы… черти всякие…
— Зачем же инструкторов чертями-то называть? — обиделось существо. — Это квалифицированные тренеры, помогающие накачивать благую карму максимально эффективными способами. Да сами посмотрите, — вон, внизу.
Академик попытался наклонить голову. Головы не было, но центр зрения послушно переместился ниже.
Там, внизу, полыхало пламя. В пламени корчились разнообразные существа — в основном люди, но были ещё какие-то рогатые, крылатые, и чёрт знает ещё какие. Рогатые держали очередь, подсаживали желающих на высокие костры, сеяли сверху что-то вроде огненной золы, воздвигали какие-то сооружения, напоминающие дыбы и колья. Прочие, толкая и пихая друг друга, ползли в самое пекло.
— Вот так, — с удовлетворением сказало существо, и видение исчезло. — За пару месяцев можно набрать благой кармы, соответствующей столетней аскезе в воплощённом состоянии.
— А зачем? — поинтересовался академик. — Зачем набирать эту самую карму? Буддизм какой-то.
— При чём тут буддизм? — не поняло существо. — Есть базовая система личностной эволюции существ через воплощения. А позитивная карма — это хорошие воплощения и личностный рост. Как правило, хорошо занимавшиеся в аду бывают чрезвычайно успешны.
— В чём? — не отставал дотошный академик.
— Ну, кто в чём… Сейчас предпочитают финансы, секс, искусство… На мой взгляд, довольно сомнительные пути самосовершенствования, но почему-то модно. Хотя я лично не знаю ни одного финансиста, достигшего просветления. Ну да ладно. Так или иначе, ад переполнен. Мы его расширяем, конечно, но желающих всё равно слишком много. Слать на вас заявочку?
— Пожалуй, — подумал академик, — мне в этот ваш фитнес-центр не надо.
— Ну и хорошо, — обрадовалось существо, — мне меньше мороки. Тогда давайте по базовому варианту. Итак, что у нас сейчас… У нас сейчас положительный кармический баланс. Вполне достойный — для существа, которое начало эволюционировать в среднем палеозое. Но, извините, ничего экстраординарного. То есть в течении ближайших тысячелетий вы, скорее всего, не наберёте достаточно кармы, чтобы эволюционировать самостоятельно. Короче, вас ждёт новая жизнь на Земле.
— Опять? — вздохнул академик.
— Вы это каждый раз говорите, — упрекнуло существо. — Я это от вас уже десять тысяч раз слышал. Десять тысяч пятьсот сорок девять раз, если быть совсем точным. Вы ещё трилобитом были, а уже тогда что-то попискивали в том же смысле.
— Трилобитом? Это что, моллюск? — переспросил Сабельзон, отгоняя от себя некстати приплывшее ощущение бескрайнего тёплого моря и бездумного блаженства.
— Вижу, вспоминаете… Ладно, чего уж теперь-то. Слушайте внимательно. Внимательно, говорю, слушайте, — строго сказало существо, — Согласно кармическому балансу, вы имеете право родиться человеком. Физически здоровым, умственно полноценным ребёнком, без травм и увечий. В нормальной семье, с отцом и матерью. Вы также имеете право на долгую полноценную жизнь — средняя продолжительность по стране воплощения, плюс пять, а то и десять лет сверху. Вы довольны?
— Звучит неплохо, — осторожно заметил Сабельзон.
— Нет, конечно, вы можете отказаться. Воплотиться в теле неизлечимо больного, например. Это хорошо чистит карму, многие любят. И, главное, ненадолго.
— Нет, спасибо, — академик покачал несуществующей головой. Существо, однако, поняло.
— Как хотите. Ваши права я вам изложил. Теперь вы пройдёте через контрольные инстанции. Я бы и сам всё оформил, но таковы правила. У вас там, — существо каким-то образом дало понять, что имеется в виду материальный мир, — сейчас сложный период, так что приходится вводить строгости. Короче говоря, сейчас вы предстанете…
— Всё-таки суд? — вздохнул академик.
— Ну зачем суд? Про вас всё и так известно. Я же сказал, кармический баланс положительный, особых проблем нет. Просто пройдёте несколько проверочек у представителей традиционных духовных учений. На предмет соответствия таковым.
— Я вообще-то ни во что такое не ве… — заикнулся Сабельзон, с опозданием соображая, что в его положении позволить себе роскошь оголтелого материализма сложновато.
— Ну да. Поэтому и нужна проверка. Сейчас люди сами не знают, во что верят. Так что приходится выяснять практически. Извините, Лев Владиленович, у меня клиент уже почти помер.
— Которого дубинками? — проявил участие академик.
— Ну да. Они там ему сейчас глаза выдавливают, так что он быстро загибается. Что поделать, сам виноват.
— А что он такого сделал? — зачем-то поинтересовался Сабельзон. — И где такое происходит? — уточнил он вопрос.
— Где-где. На рынке опиатов, — буркнуло существо, явно не желая вдаваться в подробности. Вам пора. До свидания, Лев Владиленович.
— Дос… — только и успел выдохнуть Сабельзон, когда его снова скрутила темнота.
* * *
— Доброй вечности. Вы христианин?
Пространство вокруг напоминало прежнее — разве что вокруг стало посветлее, а в центре вместо невнятного существа сидел вполне опознаваемый серафим, обвешанный со всех сторон крылами. Сабельзон посчитал крылья, вспомнил Пушкина, и понял, что перед ним серафим.
— Так вы христианин? — повторил серафим несколько настойчивее. Лев Владиленович вдруг осознал, что серафим говорит по-английски.
— Ну, вообще-то по происхождению я… — начал было излагать Сабельзон на том же языке, но ангел раздражённо махнул крылом:
— Нас интересует ваша вера, а не происхождение. Христианство — мировая религия, для нас несть ни эллина, ни иудея, — строго сказал серафим, воздевая верхнюю пару крыльев.
— Что ж. С церковью у меня не сложились отношения. Но я — человек европейской культуры, и признаю огромную роль христианства в её становлении, — с достоинством ответил он. Этой фразой он обычно отделывался от неприятных вопросов о конфессиональной принадлежности. Для самых упрямых у него была заготовлена ещё одна фраза — «мои отношения с Богом — это моё личное дело». Но он чувствовал, что здесь и сейчас она прозвучала бы несколько нелепо.
— Не морочьте моё сознание, — махнул крылом серафим. — Так вы претендуете на воплощение в Европе, Соединённых Штатах и прочих традиционно христианских странах, или как?
— Разумеется, — академику не понадобилось много времени, чтобы сообразить, что к чему. — Желательно, конечно, в Западную Европу. Особенно Париж мне нравится. В семью образованных людей хотелось бы попасть, — добавил он, чуть поспешно и несколько заискивающе.
— Париж — это растущий центр мирового ислама, — поправил его серафим, — а вы говорили про христианскую культуру. Если хотите в Париже и не у арабов — придётся поискать… Ладно, — он махнул крылом и откуда-то появилась книга в чёрной обложке. Он положил её на другое крыло и принялся листать, сдувая страницу за страницей. — Ну вот… вот… и ещё вот. Три вакансии. В смысле — три походящих зачатия на сегодня.
— То есть как это три? — не понял Сабельзон. — Я вообще-то занимаюсь демографией последние пятьдесят лет. Во Франции низкая рождаемость, как и по всей Европе, но чтобы всего три ребёнка… Тем более, сейчас наметился всплеск, у средней французской матери около одного, и девять десятых, почти двое…
— В основном в семьях иммигрантов, особенно арабов, — серафим поднял крыло. — И у атеистов. У католиков слишком хороший вкус, чтобы делать детей. А остальные вакансии разбирают заранее. Вам могу предложить то, что осталось. Слепая девочка, мальчик-даун, и ребёнок неопределённого гендера, рождённый суррогатной матерью для гейской семьи. Выбирайте.
— А что, нормальных нет? — возмутился академик.
— Всё разобрано на три года вперёд, — развёл крыльями серафим. — Знаете, сколько желающих родиться во Франции? Причём — настоящих потомственных католиков со всеми правами? Советую брать девочку, — добавил он, озабоченно глядя в книгу. — В гейской семье вам будет неуютно.
— Не хочу быть слепым, — решительно заявил академик. — Ну ладно, чёрт с ним… — он сообразил, что чертыхаться при ангеле как-то неправильно, — Бог с ним… — тут академик подумал, что это могут принять за божбу, и снова поправился, — хрен с ним, с Парижем. А может быть, по Лондону что-нибудь есть?
— Сейчас посмотрим… — серафим заглянул в книгу. — По Лондону тяжело. Российские олигархи выкупили половину вакансий для своих людей. Но поищем… Ого! — серафим впился взглядом в страницу. — Абсолютно здоровый мальчик, в традиционной английской семье очень хорошего достатка. Такое улетает на раз. Вы везунчик. Оформляем?
Лев Владиленович чуть было не сказал «да», но торопливость серафима вселила в него некие подозрения.
— А что за семья? — спросил он. — Нет ли каких-то… э-э-э… побочных факторов?
— Семья как семья. Бывает и хуже. Занимаются… дистрибуцией некоторых веществ. Традиционный бизнес, ещё с позапрошлого века.
— Опиаты? — почему-то брякнул академик — видимо, в сознании что-то перещёлкнулось на предыдущую беседу.
Серафим посмотрел на него с уважением.
— Это у вас кармическое зрение прорезается, что-ли? — уважительно сказал он. — Передайте своему куратору поздравления. Ну так берёте?
— Всё-таки христианская культура и наркоторговля — это, знаете ли, как-то… — замялся Сабельзон. — Опять же, эта ваша карма. Что-то мне подсказывает, что здесь её можно испортить.
— Насчёт кармы вы правы, — признал серафим, — а насчёт культуры — это вы путаете христианскую культуру и христианские ценности. Вещи, можно сказать, противоположные, — наставительно сказал серафим. — Или вам ближе ценности?
— Ближе, — решительно заявил Сабельзон.
— Ну, так бы и сразу сказали, — серафим захлопнул книгу и извлёк откуда-то другую, в белой обложке. — Ага, вот. Есть замечательная вакансия на воплощение в семье истинных христиан, протестантов. Прекрасные люди, искренне верующие, добрые, смелые, умные, всем бы таких родителей… — вздохнул он. — Оформляем?
— А где они живут? — академик уже понял, что нужно держать ухо востро и на предложение не поддался.
— В Северной Корее, — развёл крылами серафим. — Сейчас там христиан преследуют по закону. Но они держатся за веру. Их, конечно, найдут и замучают, а вас отправят в концлагерь. Но вы выживете, — утешил он. — Крепкий нравственный фундамент, заложенный родителями, поможет вам перенести всё…
— Не надо, — решительно заявил академик. — Мне бы в нормальную семью в нормальной стране, чтобы я мог заниматься наукой. Лучше всего социологией и демографией. Я, знаете ли, привык.
— Очень нехристианские науки, — серафим неодобрительно прищурился. — Кстати, забыл спросить: вы вообще-то крещены?
— Гм, — растерялся Лев Владиленович. — Скорее всего, да, — решил выкрутиться он. — наверняка в детстве что-то такое было. Правда, я в церковь не ходил, в Советском Союзе это было, знаете ли, наказуемо…
— Ах вот вы откуда… — серафим как-то сразу помрачнел. — Я думал, вы европеец. У вас хорошее произношение. До свидания.
— Как это до свидания? — не понял Сабельзон.
— А вот так, — серафим захлопнул книгу. — Ваши и так все места скупили. Березовские там всякие, Абрамовичи.
— Я не Абрамович! — закричал академик, чувствуя, что фортуна ускользает.
— А это сейчас проверят, — серафим повёл крылами, и всё исчезло.
* * *
— Добrейшей вечности. Ви таки евrей?
На этот раз академик попал в пространство, сильно напоминающее физическую реальность. Он сидел в великолепно обставленном кабинете, в мягком кожаном кресле. Во всяком случае, кресло под ним было — не хватало только ощущения придавленной задницы. Но кресло было роскошным. Столь же роскошными были картины на стенах — в основном Шагал — и длинные книжные полки, заставленные аккуратными томиками.
Картину несколько портил хозяин кабинета. Можно было бы сказать, что он сидел за роскошным письменным столом красного дерева — если бы это было правдой. Увы, он не сидел, а парил в воздухе, чуть подёргиваясь, как воздушный шарик. На воздушный шарик он, впрочем, тоже не походил — хотя бы потому, что форма у него была далёка от округлой. По правде говоря, хозяин очень напоминал висящий в воздухе нос — правда, огромный и к тому же весьма характерного вида.
Из ноздрей свисали длинные пряди волос, сильно смахивающие на пейсы — ими он пошевеливал в такт разговору.
Сверху всё это безобразие прикрывала аккуратная кипа.
— Ну, если моя фамилия Сабельзон и я академик, то, наверное, да? — попытался мысленно улыбнуться Лев Владиленович. — Хотя никогда не придавал этому значения. Это другие придавали, — не удержался он.
— По всем сообrажениям вы таки пrавы, — согласился нос, — нос подался вперёд, как бы принюхиваясь или что-то высматривая. — Но если я чего понимаю, вы ж таки из rоссии, а с этой стrаной всегда ну всё так сложно. Всё таки надо за вас посмотrеть.
— Я не обрезан, — честно сказал Сабельзон.
— Ой, ну не говоrите мне за этих глупостев, — фыркнул нос. — Кого сейчас интеrесует ваш поц, котоrого у вас тут нет? А вот шо ви такой честный, таки настоrаживает…
— Простите, вы не могли бы думать без акцента? — не выдержал академик. — Знаете, раздражает.
Нос кивнул — как показалось Льву Владиленовичу, одобрительно.
— Извините, — сказал он совершенно нормально. — Это такая проверка. Если бы вы начали мне подражать, сразу стало бы ясно, что вы никакой не еврей. Столько сволочи сейчас к нам лезет! И все хотят родиться в хорошей еврейской семье. Особенно антисемиты всякие, — добавил нос и скептически хмыкнул. — Они, представьте, верят, что у нас там мёдом намазано.
— Ну, допустим, не мёдом… — подумал Сабельзон. — Я, безусловно, человек европейской культуры, и не откажусь родиться в хорошей еврейской семье. Я любил своего отца, и надеюсь, что следующий будет не хуже.
— Он у вас, извините уж, не еврей, — нос развёл пейсами.
— Гм. А кто же? — академик попытался приподнять бровь, и только её отсутствие помешало ему это сделать. — Да и почём вам знать, вы же не мой куратор?
— У нас есть свои источники, — важно заметил нос. — Говорю же, всякие к нам лезут. Поэтому мы наводим справки. Вот, кстати, и справка, — на столе развернулся длинный свиток, по виду пергаментный, нос поплыл над ним, принюхиваясь. — Любопытная история. Был начале века такой одесский фельетонист, писал под псевдонимом Сабель-Звон, ну, знаете, из классики… Писал, конечно, то, что требовала одесская публика, а сам был членом Союза Русского Народа, в Одессе это было — как быть белым расистом в Гарлеме. Но тем не менее, был. Потом случилась заварушка, к власти пришёл известно кто, и, в общем, он выправил себе документ на псевдоним, под которым его знали как прогрессивного публициста. Правда, документ выправлял таки еврей. Ну и написал как слышал. Так вот, это был ваш дедушка. Потом он, кстати, стал пламенным коммунистом, даже сына назвал в честь Ленина…
— Всё это полная ерунда, — заявил Сабельзон.
— Ну, допустим, ерунда, — нос покачнулся в воздухе, как кораблик на волне. — Хотя, по-моему, неплохая майса. А вам-то почём знать?
— Потому что моего папу назвали Владиленом не в честь Ленина, а в честь маминого брата. Которого действительно назвали в честь Ленина, но, несмотря на это, он был очень хороший человек, — рассказал академик семейную легенду.
— Ну, раз в честь маминого брата, значит, точно еврей, — удовлетворённо констатировал нос. — На самом деле это неважно. Важно то, что вы неглупый человек, а все неглупые люди должны иметь свой шанс… В общем, куда хотите? У меня есть несколько израильских вакансий. Придерживал, конечно — но для хорошего человека не жалко.
— Я буду здоровым? — для начала поинтересовался академик, вспомнив о слепой французской девочке, которой он чуть было не стал.
— Ну, как все… С обычными еврейскими проблемками, но, в целом, да, — нос клюнул воздух. — Мускулов, как у Шварцнеггера, не обещаю, зато светлую еврейскую голову — пожалуйста.
— А семья нормальная? Наркотиками не торгуют? — продолжал допытываться Сабельзон.
— Да боже ж мой! Нормальные семьи, хасидим, на пособии… — пробормотал нос, но академик услышал.
— Извините, — сказал он вежливо, но твёрдо. — Я как раз недавно читал статью про демографические проблемы ортодоксов. Быть десятым ребёнком в религиозной семье мне не хочется.
— Приятно иметь дело с умным человеком, — выражение носа, однако, свидетельствовало о другом. — Как тогда насчёт Америки? Есть пара интересных вариантов.
— Ничего против не имею, — профессор заинтересовался. — Можно мальчиком? Здоровым, нормальным, из хорошей семьи? Образование тоже очень желательно.
— Ну разумеется. Вот у нас тут нормальная здоровая еврейская семья. Первый сын уже есть, будете вторым. Младшеньким, — это слово нос протянул как-то очень сладко.
— А чем я буду заниматься? — не отступал профессор.
— Вас будут заставлять учиться на юриста, но вы взбунтуетесь, переживёте духовный кризис и станете творцом, — нос задрался к потолку. — Скорее всего, займётесь прозой. Но, может быть, изберёте живопись. Или сцену. Вам ведь нужно духовно развиваться, не так ли?
— Пожалуй, — сказал Сабельзон, припомнив слова куратора. — А как насчёт материального положения? Не хотелось бы, знаете ли, голодать. И вообще не люблю быть стеснённым в средствах, — решительно закончил он.
— Тут всё в порядке, — заверил нос. — В молодости возможны небольшие трудности, но большую часть жизни будете хорошо устроены. Плюс признание, премии, пресса, молодые любовники…
— Что-о? — не понял профессор. — Какие ещё любовники?!
— Ну, — заюлил нос, — вы же понимаете, современная культура — очень сложный механизм, там очень большая конкуренция. Чтобы сделать карьеру в этой области, мало быть евреем, нужно ещё иметь соответствующую ориентацию… Да в этом нет ничего страшного. С точки зрения чистого сознания, все эти различия — такая мелочь!
Профессор, однако, был иного мнения.
— Нет, — твёрдо сказал он. — Вы меня извините, но я традиционалист. Во всяком случае, в этом вопросе.
— От гомофобии — один шаг до антисемитизма, — предупредил нос, спустился вниз и озабоченно почесался о столешницу… — Ну да ладно, я не особенно на это и рассчитывал. Хорошо, открываем карты. Вот ваше место! — свиток снова развернулся. — Для вас берёг. Светская семья, отец — учёный, мать — дочь миллионера. Родом из Штатов, живут в Италии. Обеспеченные люди, к тому же вскоре ваш будущий отец получит кафедру. Собираются завести ребёнка. У них роскошный дом в старом квартале. Под окном — персики. Вы любите персики?
— Люблю, — признался Сабельзон. Ему уже хотелось поскорее родиться в доме с персиками, но он боялся подвоха. — А какие ещё есть минусы? Семья гетеросексуальная? Мать нормальная? Отец не алкоголик?
— Всё, всё в абсолютном порядке, — успокоил его нос. — Никаких проблем вообще. Мать — бывшая студентка вашего будущего отца, очень красивая женщина. Отец — восходящая звезда, социогуманитарный мыслитель. Сейчас готовит к печати второй том «Введения в проективную социографию»…
— Что-о? — академик аж подскочил, несмотря на отсутствие ног. — Вы предлагаете мне стать сыном Абрахама Пейтлина? Этого… этого… — у него не нашлось слов. — Я умер из-за его дурацкой статейки, — с горечью признал он. — А вы мне предлагаете стать сыном этого идиота и шарлатана. Ещё, наверное, придётся разбирать его так называемое научное наследие… — представил он себе перспективы, — готовить рукописи к публикации… гордиться… нет. Никогда и ни за что.
— Н-да, — нос горестно повис. — Это ваше последнее слово?
— Да, — твёрдо сказал профессор. — Всё что угодно, но только не это.
— Ну, простите, — нос чихнул, и кабинет исчез.
* * *
— Доброй вечности, любезный странник. Вы уже приняли Ислам?
На этот раз Лев Владиленович оказался в очень своеобразном месте. Он сидел — точнее, находился — на мраморном полу, уходящем куда-то вдаль, к бесконечно далёкому горизонту. Пол был испещрён геометрическими узорами и каллиграфическими надписями на арабском.
Прямо из пола росла пальма — видимо, финиковая (академик был не силён в ботанике). Рядом журчал родник.
А перед пальмой на коврике лежала гурия. Самая натуральная, одетая в легчайшие шелка, не скрывавшие никаких прелестей, а только подчёркивающие их наличие.
Сабельзон механически отметил, что соски у гурии нежно-розовые, а лобок не просто выбрит, а, похоже, никогда не знал растительности. Исследовать этот вопрос подробнее мешала газовая ткань, но он понимал, что гурия, наверное, не будет излишне строга к любезному страннику. Останавливало только то, что интерес к её прелестям был обречён оставаться чисто теоретическим: своей плоти академик не имел, да и насчёт плоти гурии тоже сильно сомневался.
— Я не принимал ислам, — сказал он, обдумав все эти обстоятельства. — Я человек европейской культуры. А сейчас в любом случае поздно.
— В любом, но не в нашем, — гурия улыбнулась полными губами. — В отличие от всех прочих конфессий, мы предоставляем особый сервис — посмертное принятие религии Пророка. Потом оформим задним числом — как если бы вы приняли его святую веру за пару минут до смерти. Это первая хорошая новость. А теперь вторая: принять ислам совсем не сложно. Достаточно произнести несколько слов. Собственно, это чистая формальность. Нужно всего лишь засвидетельствовать, что нет бога, достойного поклонения, кроме Аллаха…
— Я вообще-то не верю в Бога, — академик решил быть честным.
Гурия улыбнулась ещё обольстительнее.
— Это ничему не мешает, — мягко сказала она. — Мы не требуем признавать, что Бог есть. Всего лишь согласитесь с тем, что никакой Бог недостоин поклонения, кроме Аллаха. Заметьте, вы ничего не говорите о том, есть Аллах или нет. Вы только признаёте, что нет никого другого. Но ведь вы не верите в богов, не так ли?
— Гм… Не верю, — признал академик.
— Вот, отлично, — обрадовалась гурия. — То есть вы, по сути, уже сказали, что ашхаду Аль-лля Илааха Иль-ла Ллаах, и уже наполовину приняли ислам. Теперь осталось только засвидетельствовать, что Мухаммед — пророк Аллаха. Но это же просто исторический факт, любой образованный человек с этим согласится. Кем же был Мухаммед, что он проповедовал? Вы ведь это знаете, не так ли? Молчание — знак согласия. Так что можно сказать, что вы приняли: уа Ашхаду анна Мухаммадар расуулю Ллаах. Ну, вот вы и мусульманин.
— Не так быстро, — Сабельзон даже отодвинулся от симпатичной, но чересчур энергичной гурии. — Я ничего не говорил, никакого ислама не принимал, и, честно говоря, пока не вижу в этом смысла.
— Какой упрямый, — вздохнула гурия. — Ну почему вы не хотите принять лучшую из религий?
— Не вижу в этом пользы для себя лично, — честно сказал профессор.
— Ах, вы об этом… Ну хорошо. Давайте так: вы принимаете ислам, а я… — гурия отодвинула газовую ткань, — и не только я одна… — она подмигнула.
— Гм. У меня нет ничего, чем я мог воспользоваться бы, чтобы принять ваше любезное предложение, — сказал профессор. — А даже если и было бы: не слишком ли велика цена? Этим я успею и на физическом плане. Если хорошо воплощусь.
— То есть вас интересует хорошее воплощение? — гурия запахнулась и приняла деловой вид. — У нас множество вакансий! Мусульмане плодятся и размножаются, в отличие от так называемых цивилизованных народов.
— Особенно в диких и бедных странах, — не удержался профессор.
— Вовсе нет! — гурия снова стала ласковой. — Хотите, к примеру, в Париж? Древний центр цивилизации, прекрасный город…
— Меня уже приглашали в Париж. В качестве слепой девочки, — припомнил профессор беседу с херувимом.
— Ну, — гурия презрительно улыбнулась, — у этих зануд христиан почти нет вакансий. А мы для вас подберём что-нибудь поинтереснее. Вот, — она щёлкнула пальцами, и в воздухе засиял фиолетовый шар, по поверхности которого зазмеилась арабская вязь, — как раз сейчас для вас образуется великолепная вакансия. Обеспеченная семья, занимается легальным бизнесом, отец закончил Сорбонну. Вы будете пятым ребёнком в семье, причём первым мальчиком. Понимаете, как к вам будут относиться родители и родственники?
— А радикальным исламом я не увлекусь? — насторожился профессор. — Знаете ли, с такими детьми обычно именно это и происходит.
— Ну что за бессмысленное словосочетание — радикальный ислам? — гурия изобразила недоумение. — Вы же образованный человек и понимаете, что ислам един. Учение ибн Теймийи и Мухаммада ибн Абд-аль-Ваххаба и есть чистый ислам, как его практиковали первые три поколения последователей Пророка…
— Так-так-так. Вы предлагаете мне стать мусульманским фанатиком. Может быть, ещё и шахидом?
— Да вы что?! — искренне вознегодовала гурия. — Зачем нам расходовать ваш выдающийся интеллект на одноразовое задание? Вы проживёте долгую счастливую жизнь, полную утонченных интеллектуальных наслаждений. Вам не придётся умирать за веру, и даже убивать за неё. Лично вы никого не убьёте, даже пальцем не тронете. Вы будете заниматься… решением логистических задач, — несколько туманно выразилась гурия. — Очень интересная сфера деятельности.
Профессор, однако, почуял подвох.
— Это никак не связано с рынком опиатов? — решил уточить он.
Гурия рассмеялась, показав жемчужные зубки.
— Что вы! Такие судьбы уже разобраны. Но у вас будет работа не хуже. Планироваие операций.
— Терактов? — уточнил профессор.
— Джихад против кафиров и мунафиков является священным долгом каждого истинно правоверного, — отчеканила гурия, в прекрасных глазах которой появился стальной блеск. — Великая честь — сокрушить гнездо гнуснейших пороков, невежества и ереси, мерзкий Израиль…
— Идите к чёрту! — не сдержался Сабельзон, и пространство вокруг схлопнулось.
* * *
— Доброй вечности. Да, я знаю, что вы не буддист, но это можно со временем исправить.
Дракон приподнял усатую голову и изучающее посмотрел на то место, где светилось невоплощённое сознание.
— Я вообще-то не уверен, что это надо исправлять, — отбрил профессор, осматриваясь.
Местность была вполне ничего: над головой голубело небо, вокруг располагались невысокие холмы с какими-то изящными строениями. Вблизи текла река.
Дракон тоже выглядел вполне импозантно: изумрудная чешуя гармонировала с красными глазами и золотыми усами, свисающими из пасти. Зубы дракона были белые-белые, какого-то рекламного цвета, как будто он трижды в день чистил их «Блендамедом».
— Век европейских идей преходящ, а вечная Азия пребудет вовеки, — дракон наставительно поднял кончик хвоста.
— Не хочу в Азию, — решительно заявил Сабельзон. — Я человек европейской культуры.
— Скажите ещё — «христианской культуры», — уголки пасти приподнялись в подобии улыбки, усы дрогнули.
Профессор несколько смутился.
— Надеюсь, хоть у вас с вакансиями всё нормально? — спросил он дракона.
— Есть около тысячи срочных запросов из Юго-Восточной Азии, — дракон поднял умную морду, и в воздухе засияли иероглифы. — В основном на дешёвую рабочую силу, — он вздохнул.
— Неинтересно, — бросил профессор. — А что-нибудь почище? Чтобы не работать руками?
— Ну конечно же, — дракон высунул длинный раздвоенный язык и слизнул несколько иероглифов, — вот, пожалуйста, отличная интеллектуальная работа. Детство, правда, будет трудное, восьмой ребёнок во вьетнамской семье — не шутка. Но в дальнейшем вы, с вашим блестящим интеллектом, сделаете карьеру и станете старшим надсмотрищиком на обувной фабрике фирмы «Найк». Великолепная возможность отвлечься от чистого теоретизирования и ознакомиться с оригинальными социальными практиками.
— Гм. А как же буддистские идеалы добра и ненасилия? — засомневался профессор. — Что-то мне кажется, что эта работа связана с другими ценностями…
— Смотрите на вещи шире, — посоветовал дракон. — И насилие, и ненасилие одинаково иллюзорны. Поэтому на таких должностях желательны люди с буддистским мировоззрением… Кстати, не хотите поучаствовать в войне во Мьянме? Есть перспектива для человека с интеллектом. Как раз сейчас в одном уважаемом семействе в провинции Шан…
— Наверное, логистика? Небось, опиаты? — вздохнул профессор. — Увольте. Как будто в мире нет других занятий.
— Ну, если смотреть на вещи широко, опиаты позволяют расширить восприятие и осознать иллюзорность всего сущего, — заметил дракон, — но не хотите — как хотите.
— Мне бы всё-таки что-нибудь ближе к Европе, — попросил профессор. — Насколько мне известно, сейчас буддизм в моде.
— Европейские вакансии — дефицит, — заметил дракон. — У нас проблема даже с уважаемым Далай-Ламой. Он собрался воплощаться именно там, а у нас пока нет достойного варианта. Но вообще-то, если уж на то пошло… он стрельнул языком и слизнул ещё несколько плавающих иероглифов. — Не хотите попробовать себя в качестве гуру? Вам же, наверное, говорили о необходимости духовного развития?
— Ну… — протянул профессор. — Почему бы и не попробовать? — решился он. — Условия?
— Великобритания, семья новообращённых неортодоксальных последователей бон-по… то есть, простите, принявших Прибежище буддистов. Будете вторым ребёнком. Обеспеченные, но не богатые. Ничего, заработаете сами. Вы станете главой процветающей секты. Никаких опиатов, только синтетические вещества, психокоррекция, некромантия, подчинение воли…
— Да вы что, с ума посходили? Тоже мне, религия любви и мира, — не удержался профессор.
Дракон зашипел.
— Мы меняемся вместе со временем, — заявил он. — Нам надоело быть лузерами и проигрывать мусульманам. Буддизм в новом веке должен стать динамичным, развивающимся, если хотите — наступательным. Очень жаль, что вы не хотите этого понять. Очень, очень жаль, — дракон щёлкнул хвостом, и всё кончилось.
* * *
— Доброй вечности! — загрохотало над водами.
Профессор осознал, что висит над океаном. Внизу катились волны. Над ними возвышалось многорукое и многоголовое божество, как будто облитое золотом.
— Можно не кричать? — попросил профессор.
— Нечестие, — божество, однако, убрало грохот. — Итак, ты отказался от всех предложений, и при этом всякий раз называл себя человеком европейской культуры. Хвалю, ты сделал верный выбор. Таких, как ты, посылают ко мне, чтобы я вернул их к истокам, к традиционным арийским ценностям.
— Это что ещё такое? — напрягся профессор, осознавая, что попал в непонятную, и, пожалуй, неприятную ситуацию.
— Радуйся, — заявило божество. — У тебя прекрасная карма, странник. За свою праведность ты получишь традиционную награду. Ты удостоишься рождения в благословенной арийской земле, в касте брахманов…
— Нет, только не в Индию! — закричал Сабельзон. — Только не в Индию!
— Это обычное воздаяние за праведную жизнь, — божество развело руками. — Многие тысячи лет я дарую эту прекрасную участь достойным людям. В последнее время таких стало больше, чем раньше, и меня это радует. Вакансия, достойная тебя, у меня имеется. Готовься!
— За тысячи лет многое поменялось, — затараторил академик, уже понимая, что влип. — Индия сейчас — не самое благоприятное место для рождения…
— Не ухудшай себе карму, смертный, хуля священную землю! — рассердилось божество. — Я ничего не желаю знать ни о каких новшествах. Вернись к арийским истокам! Ты будешь рождён мужчиной в благословенной земле, первым ребёнком, в касте брахманов — что ещё нужно для счастья? Да будет так!
Из рук божества упала блестящая молния и ударила в океан. Воды закружились, образовав огромную воронку. Душу профессора затянуло вниз, в крутящуюся тьму.
Падая, он успел подумать, что теперь знает причину бешеной рождаемости в Индии, но вряд ли сможет когда-либо это опубликовать.
* * *
Васанти лежала на узкой грязной кровати, закрыв глаза. Джагдиш, только что покинул её ложе, оставив её, как обычно, разочарованной и неудовлетворённой. По правде говоря, Джагдиша мало интересовала жена. Он предпочитал те удовольствия, которые можно было купить. В последнее время он почти перестал интересоваться чем-либо, кроме своего зелья.
Возможно, думала Васанти, ей придётся работать. Нормальной работы для замужней женщины её касты в городе не было. Хорошо, если удастся устроиться к дяде Кумару. Дядя может пожалеть племянницу и ради неё — её мужа, который оказался таким слабым. Правда, он красив. Может быть, он всё-таки сделает ей ребёнка? А может быть, — вдруг подумала она, — уже сделал? Сегодня он, по крайней мере, сумел завершить начатое.
Правда, дядя влез в непонятные дела. Что-то нехорошее готовится на границе штатов. Лишь бы только не война. Только бы не война.
Слишком много людей, подумала она. Стало слишком много людей.
Arbeiter
Москва, 2025
Кирюша пробудился, как обычно, поздненько. Поворочался на пуховике, дотянулся до сенсора, вжал палец в истёртую подушечку. Из стены выдвинулся на подставке стакан охлаждённой минералки с витаминчиками. Киря схватился за стакан двумя руками, втянул в себя холодненькое и томно откинулся на подушку.
Через пару минут утренняя каша в голове благополучно сварилась до съедобности, стали видны отдельные мысли. Всплыли вспоминаньица о вчерашней тусе: зажгли в «Атлантисе», потушили в «Коламбусе», пьянцы и танство, водка-оранж, микс-транс, гоу-гоу. Одно плохо: напиться получилось, а сколько-нибудь сносного секса ни в «Атлантис», ни в «Коламбус» так и не завезли. Карточка, скорее всего, полегчала рублей на триста новыми. Если вообще что-то осталось. Теперь перед ним стоит обычная задача: провинциалу средней привлекательности надыбать в столице денежек в течении трёх дней. Содомию и тяжёлый физический труд не предлагать. Впрочем… Кирилл поморщился, осознавая, что заниматься сейчас придётся именно что тяжёлым физическим трудом.
Он выбрался из спального бокса, захлопнул дверцу. Тут же в кармане пискнуло: коммуникатор оповещал, что на его счету образовался очередной должок. Увы, на оплату спального места (личная сота, четыре квадратных метра, сто двадцать метров под землёй, Бескудниковский жилкомплекс) уходила львиная доля заработанного. Учитывая свободный образ жизни Кирюши и неаккуратность платежей… Ну да на всё воля аллашья, Будда её сознай.
В ближайшем кафе не нашлось свободного ноутбука, в несколько более отдалённом — праздновали чью-то свадьбу. Пришлось переться в дорогой «Кофе-тун». На счастье, любимый столик оказался свободным. Под шум осеннего дождя в исполнении Ростроповича-младшего («Кофе-тун» был современным заведением и в его залах никогда не звучало ничего, кроме экологически чистых звуков, и уж тем более никакой музыки) он пролистал меню. Нового ничего не было, кроме лазаньи с трюфелями.
Ловко подъехавшая кофеварка выдала ему презентационный ристретто, ноут, а также ненавязчиво предложила поработать в самом кафе — порулить немного кофеварками и грильницами. Предложение была неплохое, но требовало квалификации. Кирилл предпочитал простую заводскую работу.
Поиск по жоб-сайтам довольно быстро вывел его куда надо. «Сиверссталь» нуждалась в грузчике на рельсопрокатный завод. Дальше очень удачно, — с небольшим перерывом, как раз достаточным, чтобы восстановить силы, — образовывалась вакансия шпалоукладчика на восстанавливаемом БАМе. Потом можно было немножко послужить в Вооружённых Силах, и дальше снова грузчиком, на сей раз за границу, склад в Чаньджоу. Напоследок предлагалось порулить автомобилем со спецпропуском — в пределах Садового Кольца.
Кирюха надел наушники и принялся размышлять. Такое сочетание заказов попадалось ему не часто. Расценки были очень приличные: шёл июль месяц, рабсилы не хватало. Особенно хорошо платили китайцы: демографический кризис тянул Поднебесную вниз, рабочие руки были на вес золота. Правда, взяться за всё сразу означало гробиться, не разгибая спины. Но деньги были нужны, много и сразу. Поднапрячься имело смысл.
Молодой человек вздохнул и проставил галочки против всех заказов подряд. В последний момент всё-таки вычеркнул автомобилевождение: рулить в пределах Садового и не нарваться на штраф ценой в ползарплаты мог только профи.
Не давая себе возможности отменить ещё что-нибудь, Кирилл подтвердил согласие и подключился к серверу завода.
На экране ноута вырисовался цех, очень напоминающий подземелья игры «Stardunce XIII», только вместо оружия перед ним маячили клешни погрузчика. Вдали виднелись ещё два таких же, слева стояла на паучьих ногах железная башка бригадира, покрашенная жёлтым. Виднелся корпус какого-то более благородного начальства — цвета маренго. Судя по всему, это был топ-менеджер, заглянувший в цех по каким-нибудь учётно-контрольным надобностям.
Молодой рабочий набрал код, активизируя программу тележки, повозил её мышью взад-вперёд, проверяя сервоприводы. Вжал левую клавишу, подкручивая боковое колёсико — клешни потянулась вперёд, звонко щёлкнув. Конструкция была знакомая, на таких он уже работал. Так что, не долго думая, набрал код готовности и нажал ввод.
— Ты бля! — реванул в ушах пропитой бас бригадира. — Сюды мухой бля, кому сказал ёпта!
Киря поморщился. Он-то знал, что бригадирами и прочими мелкими погонялами обычно работали интеллигентные бабушки с высшим образованием, обычно те же самые, что озвучивали порночаты и интерактивные видеоинтимсалоны. Соответствующий тембр и интонации придавал речи компьютер, он же вставлял слово «бля» и другие традиционные обороты, без которых, как утверждали психологи, работа не спорится. Здесь использовалась какая-то старая программа — бас был очень уж ненатуральный, с отзвякиванием на йотированных гласных, да и неопределённый артикль вставлялся без души, механически.
Он повёл мышкой. Погрузчик, деловито позвякивая, покатился по полу.
— Так бля, — бригадир вытянулся на хлипких ножках, пытаясь придать себе грозный вид. — Все бля слышат? Хуи вынули из ушей и слушаем бля внимательно. Вон ту гору хуйни (в наушниках что-то запищало — видать, озвучивающая бригадира бабуся ошиблась в термине) — то есть бля это… штабель хуёвин (в наушниках удовлетворённо хрюкнуло) все видят?
Киря повёл телекамерами и обнаружил в пределах досягаемости гору штабель каких-то железяк, по виду — двутавровых балок.
— Всё расхуячить нахуй, — давал вводные бригадир, — длинные хуйни хуярить вот сюда (взмах конечности), короткие складировать бля на месте. Задание поняли нахуй? Хуярим быстро! Кто нахуярит допизды, тому плюс десять бонусов бля от суммы контракта. Еба-а-ать!
Грузчики бросились к штабелю с намерением разобрать его как можно скорее. Опытный Кирилл немного выждал, потом подъехал с краю. Пока наивные молодые рабочие дёргали за торчащие балки, раскачивая кучу, Кирюха спокойно снял клешнями несколько двутавров, переложил в гнездо на спине, так загрузился по полной и поехал в указанном бригадиром направлении¸ по ходу дела заказав каппучино и миндальные пирожные.
Тяжёлый, монотонный труд продолжался тридцать две минуты. Когда Кирилл отключился, на его счету было достаточно, чтобы расплатиться за ячейку, и даже образовался небольшой задел: он всё-таки получил десять бонусов от суммы контракта, что составило приятный приварок к основному заработку.
Отдыхая, он скушал лазанью, а кофеварка сделала ему латте. После чего наступил черёд шпалоукладки.
Он ожидал увидеть тайгу или тундру, но на экране возник какой-то тоннель, скупо освещённый красным светом. Поморщившись, Кирилл сменил свет на зелёный — так ему больше нравилось.
Механизм, которым предстояло управлять, оказался менее знакомым, чем грузчик. Это была какая-то хитрослаженная хреновина, так что потребовалось минут пять, чтобы разобраться с функционалкой и доложить о готовности.
— Так бля, — бригадирский голос в наушниках не отличался от сиверстсталевского, — мухой ёпта сюды, кому бля сказал! Короче у тебя на спине эти хуёвины бля. Снимаешь их и ложишь сюды бля аккуратно. Неебательски аккуратно, поял, нет? Чтоб всё заебись ровно было! Если за смену всё уебенишь, плюс двадцать бонусов как с хуя. Ну чё вылупился? Пиздячь, бля, сцуко!
После сытной лазаньи Киря отяжелел и много отвлекался — так что двадцати бонусов он не заработал. Но вознаграждение всё же было хорошим. Чего уж там — отличным.
На сей раз в качестве релакса молодой рабочий заказал кальян. Сняв наушники, чтобы слушать шум дождя, он, прикрыв глаза, отдыхал от трудов.
Очередная работа его ждала под пронзительными голубыми небесами Кавказа: на следующие сорок минут он душой, мышкой и клавиатурой принадлежал бригаде Гигантских Человекоподобных Роботов, охранявших чеченско-ингушскую границу. Быстренько подтвердив своё воинское звание (Кирилл был настоящим мужчиной — отслужил два месяца танком в Четырнадцатой бригаде, а потом месяц водомётом в московском ОМОНе, даже участвовал в легендарном штурме Газпром-Сити) и приняв присягу, он увидел перед собой горный склон и услышал сержантский мат.
Работа оказалась знакомой. Человекоподобные Роботы строили очередной дворец для кого-то из династии Кадыровых.
— Так блиад, — компьютер придавал голосу сержанта гипертрофированный кавказский акцент, видимо, чтобы наводить ужас на подчинённых, — слюшай сюда, блиад. Мухой сюда ёпта, свыння, блиад…
В течении следующих сорока минут Кирюха вырубал плазменным тесаком котлован под фундамент малой лестницы будущего дворца. Лестница планировалась километровой длины, так что прямо посреди трудов ему пришлось заказать два бокала хорошего коньяка и тартар из лосося: необходимо было развеяться.
Кирюха отдыхал перед складской работой, когда его кто-то хлопнул по плечу. Обернувшись, он узнал своего приятеля, Витю Мамлеева. Впрочем, приятелем этого малохольного типчика назвать было, пожалуй, жирновато — честно говоря, так себе знакомство. Да, с ним иногда было весело отжигать в барах. Но со временем они встречались всё реже и реже: жизненные траектории решительно и неуклонно расходились. Киря всё больше ощущал себя настоящей рабочей косточкой, а вот Вит опопсовел и пошёл в интеллигенты, причём в самую презренную касту — в журналистику.
Тем не менее, на этот раз Кеша был кстати: перед предстоящей работой на складе как раз хотелось с кем-нибудь потрепаться, желательно вживую. Поэтому он радушно подвинул своё ноут, освобождая место для Витькиного чемодана.
Вит плюхнулся на соседний стул. Выглядел он, как обычно, неважно: низенький, рыхлый, с расплывшейся от гиподинамии тушкой, скукоженный, плешивый. На фоне широкоплечего Кирилла, не пренебрегающего спортзалом и солярием, он смотрелся как типичный интеллигентский задохлик.
— Привет, привет, — замямлил Мамлеев, раскладывая свою машину. — Очень рад тебя видеть… Чем занимаешься?
— Да как сказать… — лениво протянул Кирюха. — Сейчас вот буду на китайцев пахать. Это у меня на сегодня последнее. А потом в бар. Зажжём в в «Коламбусе», наверное. Пойдёшь?
— Извини, не могу… — Вит похлопал глазенапами. — У меня вот статья срочная для «Делового Еженедельника». Двадцать тысяч знаков как с куста. Это до ночи, считай, сидеть. Или всю ночь, как получится.
— Ну, как знаешь, — Кирилл почувствовал, что уже теряет едва пробудившийся интерес к собеседнику, и решил его подстегнуть. — О чём хоть статья-то?
— Да такая… историческая скорее. Про трудящихся в современном мире. С левых позиций. Ну, левые позиции я пропишу, а вот историческая справка… тут повозиться надо. Тут же целая история. Ты знаешь, например, что физический труд людей массово использовался ещё в начале нашего века?
— Витенька, вот я лично каждый аллаший день физически тружусь, — напомнил Кир. — Круглое катаю, плоское таскаю. И то же самое делает ещё Аллах ведает сколько народу. Так что не надо ля-ля про физический труд.
— Я же не про это, — растерялся Вит. — В смысле — без этих роботов радиоуправляемых. Руками-ногами работали люди, своими собственными. А потом начался демографический кризис на фоне всемирного экономического подъёма, вот тут роботы стали выгодными, я про это и хочу, сейчас мало кто помнит. Думают, всегда так было…
Кир поскучнел. Похоже, лучше было бы взять ещё коньяка.
Виктор почувствовал нерасположение собеседника и засуетился.
— Ну ты извини, я, наверное, за соседний столик пересяду… Мне сосредоточиться надо. Двадцать тысяч знаков всё-таки. Ещё почитать кое-какие материалы…
Кирюха уже надевал наушники. На экране появился склад в Чаньджоу, забитый мешками с удобрениями. На горе мешков восседал китайский бригадир — на паучьих ногах, с железной башкой, крашеный облупившейся зелёной краской.
— Ты бля! — в наушниках реванул натуральный русский бас, совершенно неподдельного тембра. — Сюды бля мухой! Кому чё непонятно! Значит так бля: видишь вон ту хуерду? На горб двадцать хуёвин и пиздуешь вон туда, там сгружаешь. Час на всё про всё. Хуйнёй кто будет страдать — клешни вырву домкратом. Пояли, вши подрейтузные?
Молодой рабочий двинул мышку вперёд, направляя тележку и пощёлкивая клешнями. Краем глаза он заметил, как Витя за соседним столиком барабанит по клавишам, близоруко вглядываясь в монитор.
«Давай-давай, долби, балаболка журналистская» — подумал он, кликая ухоженным пальцем по левой пимпе. — «Небось, пиздеть — не мешки ворочать».
Юг
Посвящается Хорхе Луису Борхесу
Влажный туман стелился по заливу. Прохладные осенние сумерки, чуть подсвеченные снизу мягким блеском воды. По водяному зеркалу бил дождь, как искусный ударник: громче-звонче-тише-мягче.
Свежий морской запах смешивался с дождевым. Откуда-то с другого берега донёсся звон колокола.
Корней Яшмаа остановился и прислушался, но второго удара так и не дождался. Нехорошо: остался всего час до появления первой луны. На Юге время считают по старинке — не сколько прошло с восхода, а сколько осталось до наступления ночи. Так что стоит поторопиться — надо засветло добраться до ближайшего постоялого двора, где горят смоляные свечи и действует алайское право.
Плотно запахнувшись в плащ, путешественник ускорил шаги. Пока в сизом от влаги воздухе оставалось хоть немного солнечного света, беспокоиться не о чем: он под защитой законов Империи. Но как только в просвете облаков покажется маленькая красная луна, в силу вступают древние обычаи, согласно которому жизнь и имущество чужеземца принадлежит тому, кто захочет его взять. Желающие могут найтись. А то, что он чужеземец, скрыть невозможно: изощрённое чутьё южан уступает разве что их легендарной честности.
Очередной прогрессорский парадокс, в который раз подумал Корней. Юг — с его высокой культурой, древними традициями, с его не имеющим аналогов изощрённым правосознанием — похоже, не поддаётся реконструкции извне. В то время как Алайская Империя — жестокая, лживая, насквозь прогнившая, — оказалась вполне управляемой. Благодаря незаметной (но действенной) помощи Земли династии Нагон-Гигов за какие-то полвека удалось не только подчинить себе весь континент, но и укрепиться на завоёванных рубежах. Книгочие в Великой Палате уже бросали мысленные взоры за океан, и рисовали первые карты в меркаторовой проекции. А молодой энергичный император, очень вовремя сменивший на троне своего бездетного дядю, видел во сне корону суверена всея Гиганды, властителя мира… Почему бы и нет? Земля, как всегда, готова предоставить посильную помощь. Во имя мира и прогресса во Вселенной.
Корней в который раз подумал о том, как хорошо было бы как-нибудь пересидеть это время, где-нибудь перекантоваться. Забиться в тёплую пыльную щель — да хотя бы в собственную загородную резиденцию. Увы и ах: если он всё-таки прав, при дворе оставаться было нельзя, да и в столице тоже. Но в любом другом случае уж он бы нашёл повод не покидать императорского дворца. Там он был на месте: за годы службы при алайском дворе он уже знал все входы и выходы и хорошо разбирался в паутине придворных интриг.
Впрочем, если уж честно, на Севере это было несложно — любую дверь открывал золотой ключик. В золоте же высокородный господин Корней Яшмаа недостатка не испытывал.
На Юге, к сожалению, покупалось и продавалось далеко не всё.
Взять хотя бы этот идиотский казус с ночным временем. Завоевав Юг, император Нагон-Гиг Третий (метко и справедливо прозванный Большеротым — в том числе и за непомерный во всех отношениях аппетит), в отличие от своих менее предусмотрительных предшественников, потрудился закрепить плоды победы. Он не пожалел своего драгоценного времени, народной крови и казённых средств, чтобы собрать всех князей, вождей и старейшин Юга на священном Белом Холме, и заставить каждого поклясться своими богами, что имперские законы будут соблюдаться, «пока светит солнце, пока текут реки, пока живут люди». На стандартном юридическом языке Империи это означало попросту «вечно». Однако, вскоре выяснилось, что люди Юга, во-первых, всё понимают крайне формально, и, во-вторых, на их юридическом языке, принятом в договорах и клятвах, простое перечисление условий считается подлежащим исполнению, только если все условия соблюдаются одновременно. Солнце же светит не всегда — а потому в ночное время имперские законы соблюдать не нужно… Объяснить же южанам, что выражение «пока светит солнце» следует понимать в расширительном смысле, и относить ко всей протяжённости времени вообще, оказалось совершенно невозможным: в ответ на любые рассуждения южане молча показывали на небо.
Хоть как-то продвинуться в этом вопросе удалось после того, как Империя наладила экспорт на Юг так называемых кэтэр — свечей из древесной смолы. Помимо яркого и чистого пламени, они имели ещё одно немаловажное достоинство — название. По чистой случайности (Корней усмехнулся) оно в точности совпадало по звучанию с южным словом, обозначающим солнце. Поскольку же пресловутая клятва была принесена устно, южанам в конце концов пришлось согласиться с тем, что в помещении, освещаемом кэтэр, действуют законы Империи.
За поворотом мелькнул огонёк. Корней прищурился. Крошечная видеокамера, вделанная в левую бровь, разложила доставшуюся ей долю фотонов на составляющие, и переслала результаты микрокомпьютеру в черепе, который проанализировал спектр и выдал заключение. Судя по результатам — харчевня или постоялый двор, причём лояльный: пробившийся через толстое немытое стекло свет содержал характерные для смолы спектральные линии. Как минимум, две свечи, и ещё несколько масляных плошек.
Это и была харчевня. Типично южная постройка — островерхая крыша, конёк, украшенный резной лошадиной головой. На длинной деревянной шее болтался обрывок верёвки, глаза и губы лошади измазаны чем-то тёмным, почти невидимым в сгущающихся сумерках. Корней, разумеется, знал, что это такое: на Юге все изображения живых существ являются идолами, и почитаются соответствующими жертвоприношениями. Имперские законы, к счастью, запретили поклонение подземным богам, которые требовали человеческой крови. Поразительно, но это сработало — честные южане сами понесли имперским чиновникам своих идолов, чтобы те их забрали и уничтожили. Костры тогда горели по всему Югу. Корней Яшмаа с трудом спас несколько самых любопытных образчиков для Музея Внеземных Культур. Одну нефритовую статую с перевёрнутым лицом и длинными медными усами (такими южане изображали подземных бого-демонов) ему пришлось отбивать у верующих: те намеревались во что бы то ни стало разбить своего бога на куски…
Ну и ладно. Как бы то ни было, нужно где-то поесть и провести ночь.
У дверей он задержался, соображая, как лучше войти — по-северному, как обычно, или по-южному, спиной вперёд. Южане усматривали во всяком прямом движении снаружи вовнутрь нечто неприличное или угрожающее, точнее сказать — намекающее на вторжение в чужое тело, то бишь на совокупление или на удар мечом. Поэтому считалось, что пересекать порог лицом вперёд можно или входя к женщине, или намереваясь убить врага. К друзьям полагалось входить, пятясь: повернуться было можно только за шаг от порога. Что создавало проблемы с публичными заведениями. Поэтому преддверное пространство в них обычно ограждалось шоррах — чем-то вроде заборчика или частокола, позволяющего видеть входящего, но мешающего немедленному нападению. Впрочем, для умелого воина щелястый шоррах не был преградой: в незащищённую спину входящего гостя можно пустить стрелу или швырнуть метательный нож… Впрочем, на Юге вообще любили бить в спину — если, конечно, жертву не защищал какой-нибудь закон или обычай.
Яшмаа ещё немного помедлил на пороге. Днём, конечно, можно было бы и не церемониться и войти лицом. Но сейчас сумерки, дурное время.
Конечно, у него есть оружие, способное в случае чего испепелить этот домик целиком. Плохо то, что после этого ему придётся отчитываться на Базе. В текущих обстоятельствах Корнею меньше всего хотелось попасть на Базу…
На лоб сел комар — видимо, тоже собрался поужинать. Прогрессор машинально прихлопнул залётного зверя и осторожненько потянул дверное кольцо на себя. Протиснулся всё-таки спиной. Обдало знакомыми запахами пота, кожи, и горячего пива. Анализатор в носовой полости пропустил через себя молекулы, и передал спектры в компьютер, который выдал заключение: в доме находятся около сорока человек, в основном мужчины, есть несколько пьяных, адреналиновый баланс у всех в пределах нормы, у одного несварение желудка, один отравлен специфическим медленнодействующим южным ядом. Отравлен не здесь и не сейчас, а несколько дней назад, прогноз неблагоприятный. Н-да, нравы… Впрочем, имперские нравы ничем не лучше, только там в ходу мышьяк и сернистые соединения. Просто южане и здесь обогнали имперцев в технологиях.
Корней сделал положенный шаг от порога, немедленно упёршись задом в заборчик. В очередной раз обругал себя за неуклюжесть: коснуться шорраха считалось дурной приметой.
Внутри было как в типичной южной харчевне: пол, засыпанный мелкой галькой (мелькнуло воспоминание о дорогих деревянных полах, которые Яшмаа видел в княжеских покоях — но и там они были расписаны под всю ту же гальку), почерневшие от дыма стены, высокие узкие окошки — традиция южного сервиса: делать их такими, чтобы гость не мог выпрыгнуть в окно, не уплатив по счёту… В закопчёном потолке виднелся чердачный лаз, откуда свешивался мясной пирог в оплётке — нечто вроде самодельных консервов. Стены украшали венки из побегов маковой ягоды, ракитника и остролиста.
За длинным некрашеным столом сидели сидели высокие бородатые люди, и молча — южане за едой обычно молчат — насыщались ягодной кашей с мясной подливой, сладкой жареной кабанятиной и горячим ягодным отваром. Изредка кто-нибудь из едоков рыгал или скрипел зубом по разгрызаемой кости.
На самом почётном месте, уперев локти в столешницу, восседал толстый, весь какой-то лоснящийся купец в накрученном на голову тюрбане, и, смачно чавкая, поедал какие-то дымящиеся мяса, запуская толстые, унизанные перстнями пальцы, прямо в тарелку. Рядом стояли два винных кувшина, судя по всему — пустых.
Индийский гость, подумал Корней, пытаясь вспомнить, где он видел такие тюрбаны. Кажется, и в самом деле Восток? Н-да, занесло ж его в такую даль… И не очень счастливо: компьютер сообщил, что отравленный — именно этот красавец… Видать, сделал неудачный бизнес. Или, наоборот, слишком удачный. Или просто кого-то сильно обидел. На Юге много обидчивых людей.
В помещении было относительно светло. Свет исходил от настенного бронзового светильника в виде головы императора Нагон-Гига Большеротого. Лоб великого завоевателя украшали длинные рога, заканчивавшиеся чашечками, в которых были укреплены две длинные смоляные свечи. Хозяин заведения демонстрировал лояльность Алайской Империи. Разумеется, изображение, как и все прочие изображения живых существ, считалось священным и неприкосновенным, и было окружено соответствующим почитанием. Корнея особенно радовало то, что гасить зажжённые свечи на рогах запрещалось — и имперским законом, и древним правом.
В чёрном углу босой мужик в вывороченной мехом вверх шубе и точил на бруске нож из плохого железа. Там же стояло поганое ведро, из которого несло закисшими помоями. Рядом, скорчившись, спал нищий, подложив под голову кучку тряпья.
Красный угол харчевни был забран таким же заборчиком-шоррахом, что и пространство у двери. Оттуда доносились звуки льющейся воды, робкое звяканье металлической посуды, и змеиное шипение жира, стекающего на угли: видимо, кто-то заказал мясо на вертеле. Хозяина заведения нигде не было видно.
Корней устроился за столом. Занял место с краю, показывая тем самым, что не претендует на особое в к себе внимание — однако, положил правую руку на столешницу: это означало, что он торопится, и готов заплатить за быстрое обслуживание чуть больше обычного.
Наконец, появился хозяин — коренастый южанин с лопатообразной бородой. Вот ведь интересно, рассеянно подумал Корней: на Юге, где каждая мелочь наделена каким-нибудь дополнительным смыслом, фасон бороды, равно как и сам факт её ношения, считался сугубо личным делом и ничего не означал. На Севере, наоборот, борода служила символом положения в обществе, политической ориентации, и много ещё чего. Аккуратная бородка клинышком — лично преданный Нагон-Гигам дворянин из новых… длинные бакенбарды — фрондирующий аристократ… короткая и широкая — землевладелец, редко появляющийся при дворе и равнодушный к политике… Сам Корней был обладателем длинной, хорошо расчёсанной бороды, подобающей лицу особо приближённому.
Хозяин вежливо склонил голову на плечо (это был местный эквивалент поклона) и даже присел на лавку по правую руку от гостя: видимо, распознав в чужеземце важную персону, он давал понять, что знаком с куртуазным этикетом. Впрочем, жест был чисто символическим: коснувшись сиденья обширной задницей, он сразу же встал. Корнея это вполне устроило.
Он заказал пьяный мёд и жареные свиные потроха с зёрнышками граната — одно из немногих местных блюд, не возбуждающих отвращения. Яшмаа не любил южную кухню, построенную на сочетании мяса с фруктами и травами, и вполне разделял бесхитростную имперскую любовь к жареной свинине с крупной солью и горьковатому светлому пиву. Потребовались совсем небольшие усилия, чтобы научить местных варить вполне приличное пиво. Так бы и везде…
Потроха принесли довольно быстро. Компьютер, проанализировав запах и вкус пищи, сообщил, что еда не отравлена ни одним из известных южных ядов. Однако же, на той самой сковороде, на которой жарилась свинина, несколько раньше лежало нечто, заслуживающее внимания. Ещё один положенный в рот кусок позволил заключить с девяностапятипроцентной вероятностью, что это была птута — специальная ритуальная лепёшка из пресного теста с добавлением маковых ягод, поджаренная на растительном масле. Подобные лепёшки использовались только в ритуальных целях, для жертвоприношений. В принципе, для этого используется особая посуда — однако, владелец заведения почему-то решил отнестись к этому проще. Что могло означать лишь одно: лепёшки потребовались быстро и в большом количестве… Впрочем… — Яшмаа вспомнил про измазанную кровью лошадиную голову, — сегодня, наверное, какой-нибудь особенный день. Один из южных праздников, особо почитаемых хозяином. Ничего интересного.
Нищий проснулся, обвёл мутными глазами помещение, приметил нового гостя. Встал на колени и пополз к столу, шлёпая ладонями по грязному полу. Корней увидел его лицо, и машинально отметил, что оборванец вдобавок ко всему ещё и крив: на месте левого глаза была мерзкая багровая впадина.
Яшмаа брезгливо подвинулся, уже зная по опыту, что за этим последует.
Так и вышло: оборванец, скрючившись, залез под стол, и лёг у ног Корнея.
— Мир вредит душе, а война опасна для тела, — затянул он обычную южную щедровку, — но хуже них бедность, что портит и телу и душу… Дайте мне что-нибудь, почтенный господин, чтобы я мог в эту ночь забыть о проклятой бедности…
Корней кинул под стол мелкую монету. Лежащий побродяга в знак благодарности коснулся лбом колена господина, после чего легко выбрался из-под стола, встал, и побрёл — уже не корячась — на своё место в углу.
Дверь в харчевню открылась. Через щели шорраха можно было разглядеть затянутую кожей спину и клок блестящих чёрных волос.
Гость аккуратно повернулся и вышел из-за заборчика.
Микрокомпьютер снова ожил и выдал персональную информацию о вошедшем. Впрочем, этого не требовалось: Яшмаа хорошо знал этого человека. В конце концов, с ним было связано начало придворной карьеры.
Он совсем не изменился. Всё то же узкое, иссиня-бледное лицо, с глубокими складками от крыльев носа к подбородку. Низкий широкий лоб, глубоко запавшие глаза, черные прямые волосы до плеч. Бывший егермейстер его высочества герцога Алайского. Когда-то он пристраивал курьером в банк своего бедного родственника. Родственником был Корней, а егермейстером — этот, как его… Абалкин, вспомнил Яшмаа. Кажется, Леонид… Микрокомпьютер тут же поправил — Лев. Лев Вячеславович Абалкин, прогрессор, родился 6 октября 38-го года… Образование — школа прогрессоров номер три, Европа, профессиональные склонности — зоопсихология, этнопсихология, театр, этнолингвистика… Усилием воли Яшмаа остановил поток данных.
Абалкин решительно сел на почётное, хотя и опасное место — спиной к двери. Уверенно положил правую руку на столешницу, обменялся взглядами с хозяином, пошевелил ноздрями (по южным меркам — очень двусмысленный жест, но гость, судя по всему, мог себе подобное позволить), что-то буркнул — видимо, потребовал себе еду. Хозяин скрылся за загородкой.
«Добрый вечер», — зазвучало в голове у Яшмаа, — «мне кажется, вы меня узнали.»
Корней активировал свой брейн-передатчик. Он не очень любил эту новомодную штуку: общаться, не раскрывая рта. Однако, в данной ситуации это было очень кстати.
«Здравствуйте, Лев. Я вас, конечно, узнал. Слушаю вас очень внимательно.»
Последней фразой Корней хотел произвести впечатление. «Слушаю вас очень внимательно» было точной калькой с южной формулы вежливости между равными с’с-усун та, которое на слух почти не отличалось от другой вежливой формулы — с’т-усун т’та, означавшей нечто вроде «обрати внимание на что-нибудь другое». Первое выражение употреблялось, когда собеседник изъявлял желание продолжить разговор, второе — когда он желал отложить беседу или сменить тему. Замолчать в первом случае или продолжать настаивать во втором считалось смешным и неприличным. Проблема состояла в том, что фонетические изменения в языке сделали обе формулы почти неразличимыми на слух, особенно для чужаков — а южане редко отказывались от возможности поставить чужака в неудобное положение. Корней несколько раз попадал в такие ситуации — хорошо, что в микрокомпьютере имелась лингвистическая программа, настроенная на южные говоры… Корней надеялся, что Абалкин оценит юмор.
«Да я смотрю, вы уже пообвыклись» — отозвался прогрессор. — «обмялись, так сказать, на новом месте. Очень мило… Перебирайтесь ко мне. Здесь не принято разговаривать за едой, но двум чужеземцам лучше сидеть рядом, иначе это выглядит странно.»
«Уж лучше вы ко мне», — начал было Корней, но Абалкин едва заметно покачал головой и не сдвинулся с места.
Яшмаа смутился: при встрече равных пересесть должен тот, кто пришёл раньше. Объяснялось это заботой о последнем госте: считалось, что он устал с дороги, так что имеет право сесть где пожелает и больше не двигаться — а ранее пришедшие уже успели отдохнуть, так что пересаживаться им не так тягостно. Казалось бы, разумное правило. Однако, на практике следование ему приводило к разного рода проблемам. Яшмаа вспомнил своё пребывание при княжеском дворе. Двор был небогат, но торжественные завтраки (жуткий южный обычай начинать трапезу с первыми лучами солнца Корнея бесил неимоверно) устраивались регулярно. Все приглашённые считались равными, к тому же правила вежливости требовали, чтобы князь немного посидел с каждым новоприбывшим. Так что появление любого следующего гостя сопровождалось сложными согласованными перемещениями присутствующих вокруг накрытого стола. Если кого это и утомляло, так это самого хозяина, а также тех, кто был вынужден по тем или иным соображениям прибыть первыми…
Как же всё это надоело. Проклятый Юг.
Он неловко вылез из-за стола, взял своё блюдо. Тяжёлая глиняная посудина в правой руке слегка дрожала, но браться за неё двумя руками было не принято. Прошёлся вдоль стола, подсел на край скамьи возле Абалкина. Кажется, на сей раз ему удалось ничего не нарушить.
Публика по-прежнему сосредоточенно поглощала пищу.
Хозяин лично принёс новому гостю заказанное: маковые ягоды, фаршированные жиром и мясом, типичный образчик южной кухни. Лев Вячеславович с удовольствием подхватил ягоду ложкой (вилки на Юге так и не прижились) и осторожно откусил от неё. Горячий жир потёк по подбородку. Абалкин не глядя промокнул его крошечной треугольной салфеткой, ловко извлечённой из рукава, двумя пальцами скатал её в бумажный шарик и незаметно бросил под стол.
«Я смотрю, вы стали настоящим южанином» — Корней тихо порадовался про себя, что микрокомпьютер не передаёт интонацию.
«Увы, нет. Чем больше живёшь на Юге, тем меньше его понимаешь» — в тон ответил Абалкин. «А я здесь, к сожалению, чужак. Как и мы все… Но давайте о вашей миссии. Вы, насколько я знаю, посещали с официальным визитом двор князя З’угра? И как вам показалось?»
«Массавпечаленийнепересказать» — Корней постарался спрессовать все слова в одно. Получилось.
Абалкин прищурился.
«То есть скучно и бесполезно?»
«Что-то вроде того… Бесконечные церемонии. И ещё танцы. Каждый вечер — ножками каля-маля громко по земле тук-тук. Просто невыносимо.»
Купчина в тюрбане икнул, после чего стукнул кулаком по столу, подзывая хозяина.
«Да, шумновато они пляшут. Но очень интересно… Я, кстати, одно время увлекался южной музыкой. Представьте себе, у них совсем нет ритуальных мелодий — как в том же древнем Китае, или даже на Севере. И очень большая свобода композиции. Как выражается один мой знакомый певец — художник рисует для глаз, а композитор для ушей, вот и вся разница…»
Давешний нищий обратил внимание на новичка, и пополз выпрашивать подачку.
Корней заметил, что Абалкин как-то странно смотрит на нищеброда, и послал ему короткий вопросительный импульс. Лев, однако, ничего не сказал.
Нищий, как обычно, залез под стол, забился под ноги сидящим, и начал песенку:
— Камень твёрже воды, но вода сильнее камня… Грудь твёрже живота, но живот сильнее груди… Дайте мне что-нибудь, почтенный господин, чтобы в эту ночь мой пустой живот не мучил мою пустую грудь…
Абалкин — всё с тем же странным выражением лица — кинул под стол нищему какую-то подачку. Тот обнял его ногу, коснулся лбом сапога, и отправился к себе восвояси.
«Мне не понравился этот нищий» — наконец, ответил Абалкин на безмолвный вопрос Корнея.
«Мне всё здесь не нравится» — это Корней чуть было не сказал вслух.
Абалкин спокойно принялся за следующую ягоду.
«Вот, например, кухня. Как вы можете это есть?» — спросил Яшмаа, дожёвывая остывающие потрошки.
«Я привык…» — Абалкин рассеянно покрутил в воздухе ложкой. «К тому же я всегда любил жирное и сладкое вместе. С детства это идёт. Я, например, варёную колбасу с мёдом кушал. Воспитатели решили, что это безопасная индивидуальная особенность, лакомиться не мешали… Потом это как-то само прошло. А здесь у меня такая прекрасная возможность впасть в детство» — прогрессор усмехнулся.
Корней подцепил кусочек мяса и отправил его в рот.
«Здесь не очень-то впадёшь в детство» — ответил он в том же тоне. «Я никак не могу запомнить все эти дурацкие обычаи. Всё время ошибаюсь».
Кто-то из едоков закашлялся.
«Вы ошибаетесь, да… И я ошибаюсь. Мы все ошибаемся. Потому что стараемся именно запомнить их обычаи, полагая их бессмысленным набором суеверий. В то время как нужно понять и прочувствовать их внутреннюю логику. В сущности, на Юге нет никаких обычаев в нашем понимании этого слова. Сами южане считают, что все их действия рациональны. Конечно, это заблуждение — но ведь мы тоже заблуждаемся, полагая свои действия рациональными. Важно лишь то, что такая заявка делается. Южане — это совсем не традиционное общество, с его суевериями, магизмом, и прочей ерундой. Это нечто совершенно иное…»
Яшмаа едва сдержался, чтобы не сделать брезгливую гримаску. Таких разговоров он наслушался ещё в молодости, от сокурсников по Институту внеземных культур. Как правило, все попытки «понять внутреннюю логику» чего бы то ни было кончались взрывом нездоровых фантазий, с последующим написанием безумных трактатов на тему пропорций такого-то храма на такой-то планете, в которых якобы зашифрованы все тайны Вселенной… Хотя Абалкин — зоопсихолог, и для него «понять» — нормальная рабочая процедура… Корнею стало неловко.
«Я совершенно не ожидал увидеть вас здесь», — сказал он мысленно, чтобы хоть что-то сказать.
«А я вас разыскивал» — ответил Лев. «Кажется, у меня есть информация для вас…» — даже в стерилизованном компьютерном голосе Яшмаа уловил неуверенность.
«Даже не информация, нет… некие разрозненные догадки» — добавил прогрессор. «Тем не менее, они достаточно важны. Или могут быть важны. Я сейчас объясню… очень быстренько и очень на пальчиках…»
Корней невольно улыбнулся: это выражение он слышал от всех прошедших через третью прогрессорскую школу. Какой-то корпоративный прикол. Наверное, любимый преподаватель так выражался. А может, его уже и нет, того преподавателя, а выражение осталось. Универсальный механизм культурогенеза. Н-да.
«Насколько я понимаю, сейчас вы расследуете дело об исчезновении имперского посланника на Юге» — продолжал своё Абалкин. «Кстати, как его звали? Я с ним никогда не встречался.»
«Григорий Строцкий… то есть его сиятельство герцог Зогг Четырнадцатый Алайский» — ответил Яшмаа, на всякий случай вызывая из компьютерной памяти злополучное «дело посланника». Он, впрочем, и так его знал почти наизусть.
Строцкий Григорий Лионович, прогрессор, родился 15 мая 2-го года… Образование — школа прогрессоров номер четыре, Африка, профессиональные склонности… об этом не надо, знаем мы его склонности… Он же — Его Светлейшее Сиятельство наследный герцог Гонт-Алайский и Линорский Зогг Четырнадцатый.
Этот неопрятный лысеющий боровок с рыбьими глазами и вислой задницей был одним из самых ценных земных агентов на Гиганде. Он начал работать здесь ещё в составе отряда наблюдателей. Когда же КОМКОН, наконец, дал добро на прогрессорскую деятельность, он уже вовсю плёл придворные интриги. Последние двадцать лет он практически не покидал планету, за исключением кратких профилактических визитов на орбитальную станцию. Там земные медики — в секрете от высокого начальства — кое-как подлечивали грешную плоть сиятельства, истомлённую неумеренным пьянством, местными наркотиками, а также амурными похождениями: Гришу не просто так называли «Распутиным», причём с годами его сексуальная ориентация становилась всё более сократовской.
Два земных месяца назад светлейший Зогг Четырнадцатый в очередной раз впал в немилость. Это было, в общем-то, вполне ординарное событие: при дворе ныне царствующего величества Нагон-Гига Четвёртого герцог играл роль вождя аристократической оппозиции. Роль эта была весьма ответственной, довольно сложной, и к тому же неблагодарной: после каждого неудачного заговора бывшие сподвижники (или их родственники и друзья) злоумышляли против герцога, не без оснований подозревая его в двойной игре. Поэтому их величество Нагон-Гиг, как правило, отправлял сиятельного бунтовщика в непродолжительную ссылку. На сей раз ему вздумалось отослать его на Юг, ко двору одного из местных князей, в качестве императорского посланника.
Его Сиятельство недолюбливал Юг, но где-то перекантоваться во время очередной ротации элит было всё-таки надо. Впрочем, двор князя З’угра ему должен был понравиться — хотя бы тем, что на Юге его пристрастия не считались предосудительными. Корней вспомнил, как он провожал герцога в путь: Строцкий расслабленно возлежит на подушках кареты, в руке дорожное чтение — непристойный южный трактат «Галантные размышления о соитии с юношами». Таким его и запомнил Корней: надменным, вялым, с печатью порока на измождённом лице.
Он благополучно доехал до места, отпустил сопровождающих, и остановился где-то поблизости от княжеской резиденции — с целью отдохнуть и развеяться перед официальной частью визита.
В ту же ночь Строцкий пропал.
Первым зафиксировал этот факт следящий спутник: сигналы от постоянно действующего передатчика в теле посланника внезапно прервались. Расшифровка биометрии ничего не дала: судя по всему, герцог до последнего момента крепко спал после дозы очередного зелья. Поиски тела оказались безрезультатны. Даже сверхнадёжное спутниковое сканирование массы не дало никаких результатов. Его Светлейшее Сиятельство наследный герцог Гонт-Алайский и Линорский Зогг Четырнадцатый бесследно исчез.
Когда известие дошло до императорского двора, это вызвало шок. Все решили, что Его Величество, до сих пор придерживавшийся политики дозированного гуманизма (в частности — почти не практиковавший тайных убийств политических противников), устал-таки от коварства и неблагодарности придворных и не прочь навести порядок жёсткими средствами. Пришлось распустить слух, что герцога случайно убил некий юноша из благородных, от которого старый развратник тщетно добивался близости… Эту версию в конце концов приняли, тем более что никаких новых репрессий не последовало.
Разумеется, император не успокоился. Но попытки добиться правды на Юге к успеху не привели: князь З’угра просто поклялся богами, что не убивал Зогга Четырнадцатого, и не знает, кто его убил. Не верить клятве южанина было бы оскорбительно, да и нелепо: было слишком ясно, что князь тут ни при чём. Несколько опытных шпионов-дознавателей, тайно посланных императором, тоже вернулись ни с чем: никто ничего не знал — или не говорил. Расследование пришлось потихоньку свернуть…
Тут Корней осознал, что, предавшись воспоминаниям, он перестал слушать брейн-приёмник, и тот автоматически отключился — а между тем Абалкин продолжает говорить.
«…и тогда мне пришлось заняться этими вещами вплотную», — успел он поймать обрывок последней фразы.
Яшмаа ковырнул ножом остывшее мясо. Есть не хотелось. Его собеседник, напротив, с большим аппетитом дожёвывал ягоду.
«И что же?» — этот ни к чему не обязывающий вопрос показался Корнею наиболее подходящим.
«Ну вот я, собственно, и говорил…» — отозвался Лев Вячеславович.
Яшмаа снова обругал себя за глупую неосторожность, но признаваться в таком афронте было неловко.
«В принципе, всё это очень темно, но дело посланника может быть как-то с этим связано. Что вы на это скажете?»
Яшмаа заколебался. Скорее всего, если бы не эта нелепая ситуация с отключившимся приёмником, он постарался бы уйти от навязанного разговора. Но теперь молчать было бы неприлично — да и, честно говоря, и противно. Конечно, этот Абалкин весьма подозрителен, очень уж откровенно он лезет не в свои дела… неизвестно ещё, можно ли ему доверять. Хотя репутация у него вроде бы вполне достойная. Во всяком случае, в явном стукачестве он замечен не был, Корней бы знал, такие вещи среди прогрессоров всегда известны точно… Да и, в конце концов, чего бояться? Если он прав, это выяснится очень скоро. Если неправ… впрочем, невозможно.
Корней решился.
«Н-ну» — он решил начать издалека, — «давайте я расскажу сначала о своих соображениях. Сначала всё было очень туманно, особенно если искать мотив. Никто не был заинтересован в смерти посланника — но вы же знаете, это Юг, здесь могут убить за что угодно… тем более чужестранца.»
«Вы демонизируете южан» — с неудовольствием ответил Абалкин, к чему-то прислушиваясь, — «мы вообще любим рисовать демонов, чтобы не видеть демонов настоящих…» — он прервал себя, — «простите, я вас перебил… продолжайте, конечно же».
Корней собрался с мыслями.
«Да не хотел я никого демонизировать. И поэтому пошёл с другой стороны. Не искать виноватых. Сосредоточиться на технических вопросах. На обстоятельствах. А ведь они очень подозрительны. Например, куда делось тело?»
Абалкин одобрительно кивнул.
«Да-да, очень хорошо, я вот тоже… И как же вы решили этот вопрос?»
«Сначала его искали со спутника. Сканирование массы — надёжная вещь. Эти, как их, каппа-волны… впрочем, простите, Лев, я не физик. Главное, что сканирование позволяет найти любой материальный предмет заданного химического состава, с точностью до цепочек уникальной ДНК. Была бы только масса достаточной. А туша Строцкего… простите, конечно, за такое выражение… она весило где-то с центнер, это должно быть из-под земли видно… И — ничего. Понимаете? Ничего. Значит, с телом что-то случилось. Теоретически его, например, могли разрезать на очень мелкие кусочки и увезти их в разные стороны. Но кто и зачем стал бы это делать? С какой целью? Невероятно.»
«Совершенно невероятно» — подтвердил Абалкин.
«Тело ещё могли сжечь. Но тогда остался бы пепел, остатки костяка… ребята со станции клянутся, что спутник бы это место нашёл. Не сразу, может быть, но нашёл. Это было проделано — и никаких результатов.»
«Так-так… продолжайте, пожалуйста» — прогрессор слушал внимательно, и даже отложил ложку.
«Теоретически, тело могли спрятать в каком-то очень глубоком подземелье, непрозрачном для каппа-волн. А вблизи княжеской резиденции есть карстовые пещеры, почти неисследованные.»
«И что же?» — Абалкин потёр пальцем переносицу.
«Вот за этим я и ездил на Юг» — Корнею захотелось пожать плечами, но он вовремя сдержался. «Лично проверял сканером эти чёртовы пещеры. И, разумеется, ничего не нашёл. Зато заработал нелюбовь князя. Он решил, что его пещерах спрятаны какие-то сокровища. Ну, тут в августейшем лбу запульсировала коммерческая жилка, и началось: слежка, подглядывание, всякие разговоры…»
«Да, очень сочувствую. Южане могут быть несколько назойливыми, когда дело касается денег… И что теперь? Вы возвращаетесь?» — Абалкин скатал в шарик ещё одну салфетку.
«Я не тороплюсь» — осторожно ответил Яшмаа, всё ещё не решивший, стоит ли продолжать.
«Вот как?» — прогрессор поднял бровь. «Вы ведь не любите Юг. Вам здесь нечего делать. Разве что… вы ждёте. Кого-то, а скорее — чего-то…»
Ладно, подумал Корней. Всё равно, раз уж начал.
«Знаете старый принцип? Откиньте всё невозможное, и то, что останется, как бы невероятно оно ни было, будет правдой… Так вот, я подозреваю, что тела посланника найти невозможно, потому что его здесь нет.»
Абалкин понял сразу.
«В смысле — нет на Гиганде?»
«Именно!» — Корней, забывшись, сделал энергичный жест, и тут же одёрнул себя: со стороны это выглядело нелепо. «Нет на планете. Вообще.»
«То есть его убил кто-то из наших?» — брейн-приёмник, как всегда, стёр интонацию, но чувствовалось, что она была скептической, — «что ж… по крайней мере, вам не откажешь в смелости. Продолжайте.»
«Нет» — решительно ответил Корней. «Исключено. Потому что такая версия должна была прийти в головы и КОМКОНовцем. Понимаете?»
«Пока нет…»
«Ну как же. Срочный вызов на Базу, сверхглубокое ментоскопирование… они умеют потрошить мозги. А я с того самого момента на Гиганде безвылазно.»
«Ну и что? Они понимают, что убийца ждёт ментоскопирования и на Базу сам не явится. Вот и не торопятся. Покопаются в наших данных, найдут подходящие кандидатуры… и возьмут всех, кого подозревают. Чёрт возьми, эти идиоты на такое способны» — Абалкин, похоже, забылся и начал транслировать свои мысли напрямую — «это будет очень некстати…»
«Я вообще не думаю, что Гришу убили» — Корней решил играть в открытую, — «я думаю, он просто сбежал. Отключил передатчик и дёрнул с планеты. КОМКОН, скорее всего, знает или догадывается. Теперь у всех нас, кто с ним долго работал вместе, будут неприятности. Поэтому я хочу пересидеть какое-то время здесь. Хотя я и не люблю Юг. Но комконовские спецкомиссии я не люблю ещё больше.»
Дверь заскрипела. В щелях шорраха возникли чьи-то мокрые спины: похоже, дождь зарядил сильнее прежнего.
Заявившаяся в поздний час компания выглядела странновато. Сначала из-за заборчика появился типичный южный аристократ — высокий, хорошо одетый, даже с некоторой претензией на щеголеватость. На поясе у него висели длинные ножны, из которых выглядывала стёртая костяная рукоять. За ним последовал неприятного вида мужик с топором на длинной рукоятке. Потом — худощавый в зелёном платье. Замыкал шествие низенький толстячок со свёртком в пухлых лапках.
«Забавная компания» — обратил внимание Корней. «Четверо. Нехорошее число.»
Число «четыре» на Юге не любили: его звучание напоминало слово «смерть». В древние времена вчетвером ходили только разбойники или бродячие жрецы тёмных богов.
Абалкин молчал. Корней испугался, что приёмник опять отключился — но нет, всё в порядке.
«Не могу поверить» — наконец, сказал прогрессор. «Гриша, насколько я понимаю, был свинья свиньёй, но на предательство у него не хватило бы духу.»
«Я был знаком с Целмсом» — ответил Яшмаа. «И никогда бы не сказал, что у него хватит духу».
«Понятно» — тут же отозвался Абалкин. «я тоже был с ним знаком. Приятнейший человек, не правда ли?»
«Да. Умница он был и прелесть.» — Яшмаа упёр взгляд в потолок, прикидывая, стоит ли углубляться в эту тему.
Дело Целмса было самым крупным скандалом за всю историю КОМКОНа. Потому что Целмс был единственным, кто не просто закозлил, слетел с катушек, или просто забил на свою высокую миссию (такое с прогрессорами случалось более-менее регулярно), а — по заключению КОМКОНовской комиссии — «целенаправленно и сознательно работал против Земли и её интересов».
Руди Целмс и в самом деле был удивительно милым человеком — мягкая детская улыбка, ласковые чёрные глаза, короткая щетинка на полненьких розовых щёчках. Начинал он на Саракше, следователем в хонтийской контрразведке. На этой должности он даже получил некоторую известность благодаря ряду усовершенствований, внесённых им в стандартную методику допроса третьей степени. Потом его перебросили на Арду, разрушенную экономическим кризисом. Там ему удалось сплотить погрязшую в войнах аристократию и восстановить какое-то подобие порядка. На Гиганде он сумел побороть эпидемию «жёлтой лихоманки», причём исключительно силами местных медиков. А на Земле Гаррета, в качестве генерала Моргульской Империи — начал и выиграл первую в истории планеты ядерную войну.
Короче говоря, Целмс был из тех людей, которые, если уж берутся за какую-то задачу, то обязательно находят решение. И непременно воплощают его в жизнь — наилучшим образом из всех возможных.
Таких обычно опасаются — начальство, подчинённые, коллеги — и общими усилиями загоняют в глубокую задницу. Но Руди, отчасти благодаря выдающемуся обаянию, отчасти из-за полной безвредности в карьерном плане (перспектива административной работы внушала ему неподдельный ужас), оставался более-менее на плаву.
К несчастью, Целмс не был вовсе лишён честолюбия. У него имелись амбиции историка-теоретика. Основным предметом его изысканий стали неклассические варианты теории исторических последовательностей. В какой-то момент он начал публиковать работы на тему высших ступеней прогресса. Эта часть теории (в отличии от учения о низших и средних ступенях) мало кого интересовала: считалось доказанным, что уровня развития, сопоставимого с земным, может достичь только гуманоидная цивилизация, перешедшая на коммунистическую ветвь последовательности. Целмс, оперируя очень тонкими следствиями из общей соционики, нашёл другое решение.
Увы, его разработки были вежливо проигнорированы. Тогда Руди решил проверить их на практике. Кстати подвернулась длительная командировка на Саракш, в Островную Империю. Освоившись на месте, Целмс решил, что hic Rhodos, hic salta, и начал действовать самостоятельно — для начала сдав островитянам всю земную агентуру.
О том, что произошло дальше, знало в точности только руководство КОМКОНа. Судя по обрывочным слухам, общество, выстроенное по чертежам Руди, оказалось страшненьким: неограниченная рыночная экономика в сочетании с кастовым делением, помноженные на абсолютно чудовищную мораль, породили крайне жизнеспособную, бурно развивающуюся и очень опасную социальную конструкцию. Когда Земля, наконец, поняла, что происходит, островитяне уже вовсю строили боевые нуль-звездолёты…
Какова была судьба самого Руди, тоже никто точно не знал. По тем же самым слухам, он то ли сгинул в психологических лабораториях КОМКОНа, то ли покончил с собой на Саракше, то ли просто исчез.
«Целмс был всё-таки того», — наконец, сказал Абалкин. «Чистый разум без страха и упрёка. Без комплексов и без тормозов. От таких всегда неприятности. А Строцкий вполне вменяем… даже слишком».
«Не всё так просто» — Корней не отрывал взгляда от потолка. Похоже, по чердаку кто-то ходил: пузатый мясной пирог на верёвке слегка покачивался.
Новопришедшие тем временем сложили оружие у стены, и рассаживались за столом — кто как, без особого смысла. Похоже, никто не спешил — во всяком случае, руки они держали на коленях. Никто их не приветствовал, никто не пытался подсесть к ним — видимо, знакомцев среди посетителей харчевни новые гости не завели. Хозяин тоже почему-то не торопился, хотя из-за своей загородки должен был видеть, что пришли люди и хотят есть.
«Григорий, конечно, совсем не Целмс. У него простые интересы. Бухать бухашку, курить куришку… хм, мальчить мальчишку…» — попытался сострить Корней.
Абалкин изобразил нечто вроде улыбки.
«Но на самом деле он очень даже неглуп. Просто за эти годы он слишком вжился в образ. Привык к своей роли. Настолько, что начал воспринимать её как свою настоящую жизнь. Здесь он — Его Светлейшее Сиятельство. Для Земли он вошь на гребешке — рядовой сотрудник КОМКОНа с хорошим послужным списком и не очень хорошей репутацией. Второе, как мы понимаем, важнее… а сейчас в КОМКОНе как раз очередной приступ паранойи. Я думаю, приказ о списании уже подписан. Что потом? В самом лучшем случае — госпиталь на орбите, потом стол в земной офисе КОМКОНа, причём стол не самый важный — так, закуточек. Над ним будут сидеть тридцать три начальника. В том числе всякая пацанва, не нюхавшая полевой работы. И, конечно, психокоррекция — и ему ведь придётся и на это согласиться… Никуда не денется наш разлакомившийся зайчик-кролик…»
Корней краем глаза заметил, что мужика с ножом в чёрном углу больше нет. Нищий осмелел и прилёг на лавку.
«И что бы вы сделали на месте… своего друга?» — на последних словах Лев Вячеславович слегка запнулся.
«Он мне не друг, но я отдаю ему должное. Что сделал бы? Повесил на орбите свой собственный корабль. Несколько лет подряд набивал бы его всякой земной техникой, которая мне может понадобиться. Наводил бы справки о новых планетах. Нашёл бы подходящую. С гуманоидной цивилизацией. Такую, чтобы КОМКОН не поставил её себе в план в течении ближайших тридцати-сорока лет. Чтобы было куда сделать ноги… Сначала надо вытащить из головы компьютер. Это, кстати, просто» — Корней дотронулся до основания черепа, где под кожей чувствовалось небольшое вздутие — «разрезать кожу и посильнее дёрнуть».
Из-за стола раздался мощный храп. Корней осторожно скосил глаза. Оказывается, это индийский гость, свесив голову на грудь, шумно втягивал воздух носом. Изо рта у него свисал кусок недоеденного мяса.
Ничего себе. Надо же так набраться.
«Наши компьютеры напрямую соединены с нервной системой» — заметил Абалкин, — «просто выдернуть эту штуку из головы нельзя. Гарантирован тяжёлый шок».
«Ну да, я в курсе. Поэтому он сначала закинулся какой-то наркотой» — продолжал Корней, — «Нашёл себе местного сообщника… хотя бы местного знахаря с элементарными хирургическими навыками. Который напоил его каким-нибудь отваром… благо, Строцкий местной наркоты не боялся, даже уважал кое-какие травки… усыпил, разрезал кожу на шее и вытащил компьютер. И раздавил тяжёлым гавнодавом. А когда Гриша пришёл в себя — всё, свободен, прости, Земля, прощай, Гиганда, я сам буду ковать своё маленькое счастье…»
«Куда же он делся?»
«Космос — очень большая вещь. Думаю, мы о нём долго ничего не услышим. Но что-то мне подсказывает, что он сейчас неплохо себя чувствует.»
«Всё это слишком рационально» — заключил Абалкин. «Послушать вас, так у каждого прогрессора в предпенсионном возрасте есть резоны махнуть куда подальше… Ну, не у каждого — но у многих. Есть же психологические барьеры… какие-то ограничения. Некоторые вещи мы не делаем, просто потому что мы иначе воспитаны.»
«Дело Целмса…» — Яшмаа чувствовал, что его прорвало. «Целмс показал нам всем, что можно сделать, если ничего не бояться. Гриша как-то говорил…»
«Вы с ним беседовали на эти темы? Он что, одобрял Целмса?» — поинтересовался Абалкин.
Корней решил несколько сдать назад: подозрительность вспыхнула в нём с прежней силой. Не наговорил ли он лишнего?
«Нет, конечно» — бросил он. «Кто ж его одобряет. Но определённое впечатление… Хотя ладно, не будем гадать. Я всё-таки думаю, что Строцкий теперь сидит на какой-нибудь небольшой планете, заселённой гуманоидами. Не слишком высокоразвитыми, конечно. Где-то в первой трети исторической последовательности, не выше раннего капитализма. Чтобы всё продавалось и покупалось. Наверное, они любят золото. Золота у Гриши сколько угодно, полевой синтезатор — отличная штука. Внешность он тоже, небось, изменил… он всегда хотел выглядеть помоложе…»
Он почувствовал, что Абалкин его не слушает, и сердито замолчал.
Хозяин заведения выпятился из-за шорраха, осторожно неся огромное блюдо с какой-то стряпнёй, закрытое крышкой. Держал он его обеими руками — что, вообще говоря, было не принято.
«Вот оно» — даже в обесцвеченном компьютером голосе прогрессора чувствовалось напряжение.
«Что?» — переспросил Яшмаа.
«То, о чём я вам говорил. Сейчас он будет это раздавать всем. Не вздумайте отказываться, обязательно берите.»
«В чём дело?» — Корней вытянул шею, рассматривая блюдо.
«Берите, иначе мы очень рискуем» — Абалкин явно нервничал. «Сейчас вы сами всё поймёте… умоляю, осторожнее только».
Нищий вылез из своего угла и пополз на коленях к хозяину. Коней решил было, что тот отпихнёт попрошайку, однако тот приоткрыл крышку блюда и швырнул нищему лепёшку-птуту. Тот поймал её в воздухе.
«А, богослужение» — протянул Яшмаа. Он принимал участие в нескольких южных богослужениях. Да, Лев прав: лепёшку придётся-таки съесть.
Через несколько минут хозяин склонился над ним. Молча протянул птуту.
Компьютер взвыл ещё до того, как Корней сомкнул зубы.
«Ешьте!» — безмолвный приказ Абалкина был до того решительным, что Корней немедленно откусил от лепёшки. Потом застыл с набитым ртом.
«Лев, эта штука отравлена!» — в панике протранслировал он. «Какая-то южная дрянь. Что делаем?»
«Ничего особенного, моя тоже отравлена… Ешьте, быстро» — Корней невольно подчинился: проглотил кусок, потом другой, третий.
«Что это всё значит?» — Яшмаа покосился на невозмутимого хозяина, продолжающего раздавать лепёшки. «Что тут происходит? Массовое убийство?»
«Нет. Это типа снотворного. Они хотят нас вырубить. Сидите тихо.»
Компьютер сообщил, что состав яда проанализирован, опасность средняя, антидот уже поступил в кровь, расход микрокапсул — пять процентов…
«Лев, да что тут делается, чёрт возьми?» — Корней понимал, что его охватывает паника, но ничего не мог с этим поделать.
Абалкин вёл себя странно — мотал головой, закатывал глаза, потом как-то осел на лавке кулём.
«Делайте вид, что вы отравлены. Потом затребуйте у компа снотворное, минуты на три».
Корней решил послушаться, и закрутил головой.
Лев Вячеславович мягко повалился на гальку. Тут же из-за стола встали двое: давешний аристократ и худощавый. Аристократ задрал Абалкину веко, посмотрел зрачок. Проверил пульс. Потом оба взяли тело под микитки и оттащили к стене. Положили на пол.
Яшмаа понял, к чему идёт дело, и дал компьютеру команду на экстренное пятиминутное усыпление.
Очнулся он уже на полу.
В харчевне стояла нехорошая, злая тишина. Было слышно только тяжёлое человеческое дыхание, бульканье кипятка (похоже, на кухне поставили на огонь котёл), да потрескивание смолы в кэтэр.
Потом откуда-то из-за стены раздался скрип ворота.
«Не открывайте глаза» — раздался в голове голос Абалкина. «У вас есть камера? Включите. Это любопытно. На светильник наведите.»
Корней включил камеру в брови и сфокусировал изображение на светильнике.
Бронзовый лик императора ощутимо покосился.
Потом одна свеча выпала из чашечки, упала на пол, погасла. Подбирать и зажигать её снова никто не стал.
«Вот оно как» — непонятно сказал Абалкин. «Смотрите внимательно, сейчас начнётся».
Скрип повторился. Нагон-Гиг Большеротый дернулся раз, другой, после чего перевернулся подбородком кверху.
Вторая свеча полетела на пол, несколько секунд горела, треща и разбрасывая капли смолы, потом тоже погасла.
Стало темно — только огоньки плошек немного светили.
«Конец алайскому праву» — прокомментировал Абалкин — «в одном, отдельно взятом храме».
«Храме?» — тупо переспросил Яшмаа.
«Ну да. Харчевня, заодно и храм. Южане — практичный народ: едят там, где молятся. За молитвой они, впрочем, тоже едят. Сейчас убедитесь.»
Внезапно раздался глухой удар, потом — нечто вроде захлёбывающейся икоты.
Вспыхнул огонь: это был факел. Похоже, в обмазку добавили какую-то соль: пламя было ярко-зелёным. Потом загорелся другой огонь, на этот раз красный.
Перевёрнутое лицо императора в свете факелов показалось Корнею странно знакомым. Он немного напряг память, и понял — очень похожее перевёрнутое лицо с загнутыми вниз усами было у того нефритового идола.
«Вы уже догадались?» — влез ему в голову Лев Вячеславович. «Эти верные подданные нашего Императора собираются отправлять императорский культ. Ну, в своём понимании, конечно…»
У стены, рядом со светильником, на коленях стоял хозяин заведения, охраняя блюдо с лепёшками. Аристократ вздымал факелы. Худой в зелёном опирался на хищно поблескивающее лезвие. А впереди стоял давешний нищий, который теперь отнюдь не казался жалким.
Перед ними лежало что-то длинное и тёмное.
Корней изменил фокусировку камеры и увидел толстые кривые пальцы с золотыми перстнями и изъеденными грибком ногтями. Он повёл выше, не снижая увеличения, и последовательно увидел тюрбан, страшные выпученные глаза. Рядом валялся выпавший изо рта кусок еды. Индийский гость так и успел насладиться южной кухней.
«Первая жертва» — Абалкин почему-то снизил тон, несмотря на то, что слышать разговор всё равно никто не мог. «Вообще-то подземным богам приносят по семь жертв. Но сейчас они, кажется, решили обойтись тремя».
Корней понял, кого ещё прогрессор имел в виду.
Нищий склонился долу, опёрся коленями на труп и протянул руки к перевёрнутому лицу Императора.
— Солнце жжёт землю, а луна её леденит, — начал он говорить тем же самым тоном, каким выпрашивал милостыню, — но жар не насыщает её, а холод не убивает… Боль мучает живых, а беспамятство мучает мёртвых, и каждый лишён того, что он любит… Ты же, бог и господин наш, любишь смерть и убийство — возьми себе то, что ты любишь, возьми себе жизнь этого тела, и укрепи наши тела его смертью… Делайте, братья, что должно, и порадуйте господина своим усердием…
Длинное лезвие просвистело в воздухе, и от распластанного на полу трупа что-то отлетело.
Хозяин наклонился и подобрал отлетевшее. Это была кисть руки. Он поцеловал кусок человеческого мяса и подал его нищему вместе со свёрнутой вдвое лепёшкой. Тот сделал то же самое, потом выжал немного крови на птуту. Склонился над перевёрнутым ликом Большеротого и помазал его лицо. Кинул мясо за загородку. Раздался характерный шлепок.
— Тело беспокоит душу, а душа тяготится телом, но и то, и другое смертно, — тянул нищий — и когда тело лишается души, тело погибает; душа же, лишённая тела, погибает ещё быстрее… Ты, бог-убийца, который любит разделять душу и тело — во имя твоё мы разделим это тело между собой…
Блеснул топор. На сей раз у трупа отрубили ступню.
«Что они делают?» — на всякий случай спросил Корней.
«Они не сразу его варят» — ответил Абалкин. Было слышно, как он тихонько ёрзает, пытаясь устроиться на гальке поудобнее. «Мясо ещё должно пройти ферментацию. Теперь вы понимаете, куда делся Строцкий, и почему спутник ничего не нашёл? Вы ведь были правы: его действительно разрезали на кусочки. И, так сказать, увезли в разные стороны. В своих желудках… Ну что, будем смотреть дальше? Насколько я понимаю, дело это долгое. Сначала они будут рубить этого бедолагу на части, потрошить, то-сё… Потом нас… ну, они так думают, что нас… Потом надо ждать, пока мясо поспеет. Варить, потом кушать бульончик…»
«Всё понял. Что у вас есть из оружия?» — у Корнея имелся ручной излучатель, заряда которого хватило бы на всех собравшихся, но ему вдруг очень захотелось, чтобы у Абалкина был скорчер. Именно скорчер, а ещё лучше — плазмомёт.
Чтобы спалить всю эту мразь одним выстрелом.
А вторым — выжечь всё гнездо. А потом неплохо было бы то же самое проделать с Югом целиком. In toto, как выражался покойник Строцкий.
«У меня есть скорчер» — ответил прогрессор, поднимаясь с пола и засовывая руку за пазуху. «Я, знаете ли, немного перестраховался… Но, может быть, всё-таки не стоит? Тут же ничего не останется, а мне хотелось бы проверить некоторые свои догадки… Ну хорошо, я понял…»
Последнее, что успел увидеть Яшмаа перед ослепляющей вспышкой — это лицо одноглазого нищего. На нём было написано безмерное удивление.
* * *
— Всё началось с того, что я заинтересовался южными нищими. Это такой этнопсихологический приём: в любом социуме надо обращать внимание на положение самых слабых, отверженных… дно. Дно — это зеркало общества в нём видно всё. Точнее… не могу подобрать точную метафору… вот — это как воск: общественная структура давит на него всей своей тяжестью и в нём отпечатывается. Понимаете, о чём я?
— Сколько ещё осталось? — Корней устал, замёрз, сбил ноги, и очень хотел спать. Компьютер время от времени предлагал впрыснуть в кровь стимуляторы, но Корней отказывался. Мало ли что ещё может случиться по дороге в порт.
Дождь перестал лить, но небо оставалось сумрачным.
— До рассвета как раз успеем… Вы теперь куда?
— Сперва отосплюсь, потом найму корабль, и домой… в столицу, я имею в виду. Боюсь, я слишком долго тут торчал. Влияние при дворе — штука недолговечная. С глаз долой, из сердца вон.
— Не беспокойтесь, у Нагон-Гига хорошая память… Так вот, про нищих. Что я выяснил. На самом деле никаких нищих на Юге нет. Вообще нет. Южанам, оказывается, незнакома сама эта идея — что деньги можно выпрашивать. С их точки зрения, кто не работает — тот не ест. Выпрашивать деньги у южанина бессмысленно.
— Да, они скупые черти.
— Нет, почему же. Просто это противоречит их пониманию права. С другой стороны, всякие убогие, особенно калеки… им тоже нужно как-то жить. Поэтому за ними закреплён ряд сфер деятельности, не слишком популярных… ох, одну минуту, сил нет никаких…
Абалкин остановился прямо посреди дороги, задрал ногу и начал, прыгая на одной ноге, стаскивать с себя тугой сапог.
— Камешек попал в ногу… Очень мешался, извините…
Он потряс снятым сапогом, потом запустил в него руку. В лунном свете (красная луна висела над самым горизонтом) блеснул шёлковый чулок: педантичный прогрессор и в этом следовал южной моде.
— Да, вот так, — он снова обулся, притопнул каблуком. — Теперь порядок. Я о чём говорю: беднякам и калекам отведены работы, не требующие физических сил и умений. В большинстве случаев это исполнение ритуальных функций. Это, опять же, вполне логично. Южане думают, что счастье и несчастье в руках богов. И поэтому сильное несчастье — это знак того, что некий бог желает видеть этого человека своим служителем. В противном случае он даровал бы ему здоровье и богатство… вот такая теология.
— Понятно, — Корней решил всё же сдаться на уговоры компьютера и согласиться на дозу стимуляторов — очень уж скверно он себя чувствовал.
— Но тут такое дело… Вы видели южных нищих? Они всегда просят милостыни во имя богов. Точнее, каждый — во имя того бога, которому служит. Это странствующие жрецы.
— Да, я замечал что-то такое, — у Корнея кровь побежала по жилам побыстрее, холод отступил, и даже абалкинская болтовня стала казаться интересной.
— Тогда заметьте и такую вещь: тот нищий в харчевне к богам не взывал. Это значило, что он не хотел называть имя божества, которому служит. А неназываемые боги — это подземные боги.
— Я не помню. Вроде бы, он просто жаловался на бедность.
— То-то и оно, что — просто. Это нам кажется, что нищему естественно просить просто так, без обращения к богам. Он даже не сказал, какой бог должен благословить вас за щедрость…
— Я от него ничего и не ждал.
— А зря. Здесь всё время нужно сверять реальность со своими представлениями о ней. Отсутствие ожидаемого есть неожиданность, а неожиданность должна настораживать…
Корней поморщился.
— Просто не ожидаешь такого коварства. Мы, дураки, думали, что Юг отказался от культа подземных богов. Я сам помню, как…
— Вот тут-то мы все и ошибались. Он отказался от богов, а не от культа. То есть просто сменил объект поклонения. Я специально занимался этим вопросом. Южане, как вы знаете, политеисты. А для политеиста вполне естественна мысль, что боги враждуют между собой, и более сильные боги могут занять место более слабых… смертным же пристало покориться сильнейшему, говоря возвышенным языком… Так вот, теперь место тёмных богов занял алайский император. Мы присутствовали при самом что ни на есть верноподданическом обряде: человеческом жертвоприношении в честь Нагон-Гига Третьего, мир ему праху, покойнику.
— Да, но почему?..
— Почему именно почтенный император занял эту своеобразную нишу? Давайте посмотрим на дело глазами образованного южанина. Который рассуждает так же, как вы тогда. Как это у вас было? Откиньте всё невозможное, и то, что останется, как бы невероятно оно ни было, будет правдой… Итак, Нагон-Гиг Третий завоевал Юг. В принципе, не он первый, Юг уже неоднократно завоёвывали. Но всегда ненадолго. Только алайскому императору удалось здесь обосноваться надолго. Император откуда-то узнавал планы восстаний, вовремя ликвидировал надёжно законспирированных лидеров сопротивления, успешно находил тайные тропы… в общем, это их впечатлило. Мы-то знаем, что без наших спутников и масс-детекторов, без электронной прослушки и телекамер, без нашей агентуры, всё это было бы невозможно. Южане приписали всё это сверхъестественным способностям императора. В рамках их картины мира, это единственно логичный вывод… С другой стороны, ни один завоеватель Юга никогда не требовал прекращения культа подземных богов. Никогда. Это никому не приходило в голову. Кроме алайского императора. Мы-то, конечно, исходили из своих земных представлений: кровавые культы — это плохо, рост гуманизма в обществе — это хорошо… Но южане построили более правдоподобную гипотезу: если император запретил культ тёмных богов, значит, он желает сам занять их место. То есть он сам является тёмным божеством, и заслуживает поклонения именно в таком качестве… В общем-то, это не противоречит алайским законам об императорском культе.
— По алайским законам, — проворчал Корней, — вольное истолкование имперского законодательства, равно как и указов императора, равно как и явно выраженных его намерений, приравнивается к прямому неповинованию и бунту. Со всеми вытекающими.
— Только не надо думать, что они бунтуют против наших порядков, — завёл своё Абалкин. — Они не бунтовщики. Они просто приспосабливают ситуацию к своим представлениям…
— Но зачем тогда секретность? Культ тёмных был закрытым, но никем не отрицался, — заметил Корней. — Ещё до запрета я ходил в храмы подземных богов. Ну, зыркали там, косились, но и только.
— Потому что новому божеству было неугодно, чтобы его культ отправлялся открыто… Если он что-то запрещает делать явно, из этого следует лишь то, что это надо делать втайне. На Юге очень многое держится на намёках, на недосказанности… Тем более, что культы тёмных богов всегда были тайными, ночными. С точки зрения южан, культ Нагон-Гига — не религиозная революция, а наоборот — архаизация, — Яшмаа заметил, что Абалкин ускорил шаги и оживлённо жестикулирует, как профессор на лекции в Институте Внеземных Культур.
— Все эти храмы, куда пускают даже чужеземцев — это ведь уже деградация. Настоящий культ вершится секретно. Кстати, всё-таки очень жаль, что мы сожгли это место. Там ведь были все эти люди… простые прихожане. Они-то чем виноваты? Да если разобраться, и жрецы тоже. Они просто делали своё дело: служили своему божеству.
— Они хотели нас убить, — напомнил Яшмаа.
— Ну, в этом не было ничего личного, — осторожно заметил Абалкин, — просто подземные боги предпочитают кровь чужеземцев. Хорошо, что у них была наготове первая жертва… тот пузатый купец.
— Он был отравлен — зачем-то сказал Корней.
— Да-да, мой компьютер тоже сообщил… Забавно получается: если бы они его съели, то, скорее всего, отравились бы сами. Хотя это зависит от дозы. Купца отравили чем-то сложным и быстро распадающимся в тканях. Так что, может быть… ну да ладно, что-то я заговорился, со мной это бывает… А вот и заря.
Над дорогой вставало мутное серое зарево. Красная луна над горизонтом сжалась в точку, но всё ещё светила.
Впереди был перекрёсток: широкая дорога пересекала более узкую, кое-где уже поросшую травой.
— Ну, дальше вы сами дойдёте, Корней. А у меня тут ещё всякие дела… Я пойду, наверное.
— До свидания, Лев. Вы мне очень помогли, — с нажимом сказал Яшмаа, пытаясь быть искренним. На самом деле благодарности он не чувствовал. Более того, он не мог отделаться от противного ощущения, что Абалкин каким-то образом перед ним виноват. Как будто, если бы не его нежданный визит, ничего бы не случилось. Яшмаа понимал, что это глупо, но ничего не мог с собой поделать: Абалкин раздражал его.
«По крайней мере, я могу больше не мотаться по Югу» — сказал он себе. Упрямая совесть, наконец, зашевелилась и выдавила из себя нечто вроде вялой признательности.
— А, не стоит, — легкомысленно ответил прогрессор, — и вам тоже всего наилучшего. Как говорится, «чтоб путём».
— Чтоб путём, — Корней, наконец, почувствовал себя свободным. — Вы сейчас куда?
— Ну вот, — огорчился прогрессор, — вы как-то очень неосторожны. На Юге не спрашивают — «куда»: говорят, пути не будет… За такой вопрос можно, знаете ли, получить стрелу в спину, если повод серьёзный.
— Да сколько можно играть в эти игры, — Яшмаа, наконец, получил повод вылить накопившееся раздражение, — «на Юге, на Юге»… Мы с вами — цивилизованные люди, не будем играть в дикарей… Только не говорите мне, что они не дикари, что у них сложная самобытная цивилизация и прочая цветущая сложность… Я не хочу возиться с этой цветущей сложностью. От неё нужно избавиться. Просто потому, что нам она мешает. Когда в ваш сапог попал камешек, вы же не стали его изучать? Вы его просто вытряхнули. Вот и из южан нужно вытряхнуть накопившуюся за столетия дурь… если надо — выбить сапогами. Алайскими или нашими, не суть важно…
Абалкин слушал, не перебивая.
— Вам нравятся все эти южные штучки, все эти обычаи и правила, вам нравится в них ковыряться. Чем сложнее, тем лучше, так? Я понимаю, вы этнопсихолог, вы должны любить такие вещи, профессионалу свойственно любить свой предмет исследования… А медики, наверное, любят вирусы. С удовольствием рассматривают структуру вируса какой-нибудь жёлтой лихоманки. Восхищаются тем, как хитро эта дрянь поражает клетки. Но они хоть понимают, что это болезнь, а не цветущая сложность. Цивилизация — это простая вещь! Даже очень простая, куда проще всех этих социальных тупиков, которыми любуются эстеты… Ох, извините меня, Лев, я просто устал, — Корнею, наконец, стало стыдно. — Я наговорил глупостей… и, наверное, вас обидел.
— Что вы, нисколько, — Корней впервые почувствовал, что он интересен собеседнику, — это у вас очень любопытные соображения… Вы не будете против, если мы ещё немного пройдёмся вместе? Я хотел бы теперь послушать вас. Особенно насчёт простоты: признаться, это неожиданный для меня поворот темы…
— Простите меня, Лев, но я правда устал, — Яшмаа прямо посмотрел в глаза Абалкина, — давайте как-нибудь потом, что-ли. Давайте встретимся на Базе?
— Может быть, — Абалкин, похоже, уже задумался о чём-то своём, — очень может быть… Ну, мы как-то тут встали посреди дороги, это нехорошо. До свидания, Корней, мне было приятно снова с вами встретиться. Надеюсь, не в последний раз. Счастливо вам добраться до порта.
— Счастливо, — кивнул Корней. — До встрече на Базе.
Они пожали друг другу руки и разошлись.
* * *
Мальчик подал вино, поклонился и застыл в почтительном ожидании. Хозяин поощрительно потрепал его по обнажённой упругой ягодице, покрытой нежным пушком.
— Какие булочки, а? — он плотоядно ухмыльнулся, свисающая жировая складка на шее подпрыгнула к кадыку. — Всё-таки ты, старичок, малость ханжеват… Повернись-ка, сынок, покажи гостю дорогому, как у тебя там спереди всё аккуратненько…
Слуга послушно развернулся, показывая рассечённый розовым шрамом лобок. Из пустого паха торчал катетер для мочи.
— Я теперь только таких и пользую, — похвастался герцог, — они потом такие чувственные становятся, медовенькие… Вот, к примеру, этот кисёнок. Раньше он попоньку свою маленькую от меня прятал, а теперь сам приходит ласкаться. Любишь ласкатся? — мальчик смущённо улыбнулся. — Вычитал этот способ в одном южном сочинении. Южане очень скопчиков уважают…
В иллюминаторе висела Гиганда — мохнатый сине-зелёный диск на фоне пустоты.
— В общем да, — рассеянно ответил гость, рассматривая планету, — есть такой эффект… эрогенные зоны мигрируют… у мужчин активизируется обычно простата. Похожий эффект иногда бывает у женщин после удаления клитора и малых губ. Эрогенной зоной становится всё тело: груди, плечи, живот… ну и так далее. В Островной Империи большинство дорогих куртизанок в детстве подвергались…
— Ну что ты мне про всякие гадости рассказываешь. Не люблю баб, — герцог Зогг потянулся в кресле, длинно зевнул, прикрыв рот ладошкой, — у-а-а-ау… принеси нам ещё винца, мой сладенький… — он шлёпнул своего любимца по попке.
Маленький слуга убежал, шлёпая босыми ногами по пластику.
— Ладно уж, раз ты такой скучный, давай о делах, что-ли… — хозяин чуть прищурил заплывшие глазки. — Скажи, старичок, как тебе показался этот Яшмаа?
— Обычный прогрессор, — пожал плечами Абалкин, — неглуп, сообразителен, думает быстро, но шаблонно…
— Подозрений у него никаких не возникло?
— Нет, с чего бы. Он относится к Югу как нормальный алаец: не понимает и боится. А значит, готов поверить во что угодно. В том числе и в кровавый культ Нагон-Гига.
— Поверит ли в это КОМКОН?
— Безусловно. Корней у них на хорошем счету. Конечно, они сделают ментоскопирование… полюбуются, так сказать, на спектакль… пусть смотрят.
Служка принёс новую бутылку, наполнил хозяйский бокал, получил шлепок по заднице и опять убежал.
Строцкий повертел в пальцах наполненный вином хрусталь. В голубом свете планеты вино казалось чёрным.
— Руди, а откуда ты взял этих людишек? Ну, которых ты потом так красиво спалил из скорчера?
— Нанял странствующих актёров. За деньги они готовы изображать всё что угодно.
— Подожди, старичок, но ведь они и в самом деле прикончили того купчишку?
— В зелёном тюрбане? Ну… да, разумеется. Мы так договорились, я за это заплатил.
— Погоди-погоди, старичок, я знаю южан. Они, конечно, там все убийцы. Но изображать богослужение с жертвоприношением, да ещё и за деньги — это не для них.
— Кто ж тебе сказал, что они южане? Обычные алайцы, гастролировали на Юге в надежде поправить дела. Не поправили, конечно — театр на Юге вообще не в почёте, разве что при дворе какого-нибудь просвещённого князя… но там сильная конкуренция.
— Понял-понял… Есть у меня к тебе, старичок, ещё один вопрос… неделикатного свойства, — Строцкий жиденько рассмеялся, но глаза оставались холодными. — Куда ты дел настоящего Абалкина, Руди?
Целмс пожал плечами.
— Да никуда не девал. Позавчера он улетел к себе на Саракш.
— Ты не боишься, что они могут когда-нибудь встретиться?
— Нет. Тут есть одно тонкое обстоятельство… и Абалкин, и Яшмаа проходят по одному сверхсекретному КОМКОНовскому делу. Насчёт деталей я не в курсе. Но, во всяком случае, когда они случайно встретились прошлый раз, был скандал. Теперь на Базе тридцать три раза подумают, прежде чем докладывать наверх о новом контакте наших персонажей.
— Вот, значит, так… Я, честно говоря, думал, ты его убрал.
— Ни в коем случае. Вот тогда действительно вышел бы скандал.
— Да, и в самом деле… Кстати, тебе очень идёт его мордочка. Эти новые биомаски чудо как хороши. Он, правда, повыше тебя… Ну да ладно, главное — сошло. Ты уверен, что масс-сканирования больше не будет? Очень бы не хотелось.
— Мне тоже. Конечно, какой-то риск есть всегда. Будем надеяться, что снаряд не попадает в одну воронку дважды. Есть такая поговорка в Островной Империи… Но, думаю, всё обойдётся.
— А не может быть такого, чтобы алайцы начали что-нибудь делать на Юге? Ну, затеять там какую-нибудь реконструкцию?
— Ты собираешься всё-таки на Юг?
— Почему нет? Там хорошо кормят и терпимо относятся к гомосексуалистам. Так что же насчёт придурков-алайцев?
— Исключено. Император слушается Корнея, а Корней в ближайшие годы на Юге не покажется. Страх, непонимание, злость, чувство вины из-за всего этого… полный букет. Думаю, ему рано или поздно потребуется психокоррекция. Но не сейчас.
— Старичок, а ты не хочешь махнуть со мной?
— Извини, Гриша. У меня, как ты понимаешь, дела.
— Всё то же самое?
— Да, конечно. Я не довёл дело до конца.
Строцкий вздохнул.
— Иногда мне кажется, что ты, старичок, ещё больший извращенец, чем я. Мне, например, нравятся мальчики. Я, конечно, могу им что-нибудь отрезать для своего удовольствия. А вот тебе нравится резать. Причём не отдельных человечков, а уж сразу цивилизацию.
Целмс покачал головой.
— Нет, совершенно не так… Если тебе это интересно… Мне просто хочется закончить опыт и узнать результат. Ну, как тебе может хотеться дочитать книгу до конца. Знакомо тебе такое желание?
— Допустим, — Строцкий провёл ладошкой по вспотевшей лысинке, — ну, в таком случае мы читаем разные книги…
— Что-то вроде этого.
— И вообще, — герцог Зогг натянуто улыбнулся, — чего мелочиться-то? Какая-то Островная Империя, далась она тебе… Возьмись уж сразу за матушку Землю.
— У Земли больше ресурсов, — совершенно серьёзно сказал Целмс. — Но вообще-то, конечно, это было бы интересно… на следующем этапе эксперимента. Я об этом уже думал.
— Ладно, старичок, ты так не шути. Я всё ещё немножко люблю планету-маму… Почти как моих мальчиков. Есть у меня этакое сентиментальное пристрастие к дому… пусть даже бывшему дому. Вот ты у нас космополит: твой дом — твой череп… Ладно, что-то я расфилософствовался. Ты решил мои проблемы, старичок. Теперь пора заняться твоими. Что тебе нужно прямо сейчас?
— Как договаривались. Корабль класса «Т» с полным комплектом вооружения. Ты говорил, что он у тебя есть.
— Охти, вот прямо так. С кем воевать-то собираешься?
— Воевать? Я историк и прогрессор, у меня другие методы. Просто я не люблю, когда мне мешают.
— Один корабль против всей Земли?
— Нет, зачем же против. Он мне нужен как образец. В своё время я сделал ошибку — передавал островитянам технологии без образцов. Это замедляет прогресс на порядок. Правда, тут есть и свои преимущества, но я полагаю, что определённые стадии развития можно пройти линейно. Классическая теория, правда, утверждает, что…
— Давай только без этих твоих теорий. Вообще-то я держал корабль для себя, в случае чего… Ладно, уговор дороже денег. Когда он тебе нужен?
— Собственно, сейчас. Настрой его на меня.
— Уже сделал, — Строцкий повертел в руках бокал. — Я же знал, что тебе он будет нужен сейчас… Может быть, всё-таки задержишься? Вино, мальчики… Хотя бы попробуй…
— Спасибо. Я пробовал однополый секс… мне было интересно.
— И как? Не понравилось?
— Почему же, мне было приятно… Но больше неинтересно. Для меня в этом нет ничего нового… ты, наверное, меня не поймёшь.
— Куда уж мне… Ладно, бывай здоров. Корабль у меня тут спрятан… до орбиты мы доберёмся где-то за полчасика. А теперь извини, старичок, мне нужно сказать кое-что на ушко моему мальчику, он успел по мне соскучиться. Если не хочешь присоединиться…
— Я лучше что-нибудь почитаю, — мягко улыбнулся Целмс.
* * *
Его сиятельство герцог Зогг Четырнадцатый Алайский дождался, когда Целмс закроет за собой дверь. Потом проверил состояние сигнализации. Тяжело вздохнул. Нажал кнопку вызова видеофона.
На экране появилась пятнистая лысина председателя КОМКОНА Рудольфа Сикорски.
— Экселенц, — тихо сказал герцог, — он ваш.
Сикорски соизволил поднять глаза к нижней кромке экрана.
— Я не знаю, — наконец, проговорил Сикорски, — что мне мешает прямо сейчас разнести твой корабль на молекулы. Вместе с вами обоими.
Строцкий сладко улыбнулся.
— Могу тебе это объяснить, старичок, — развязно заявил он. — Ты, наверное, считаешь себя гуманистом, раз не истребляешь на корню такую мразь, как я… или Целмс. А на самом деле тебе нравятся эти наши извращеньица, наши штучки, наши маленькие интрижки, тебе нравится в них копаться. Профессионалу свойственно любить свой предмет исследования. Тебе хочется получить Целмса живым, всласть покопаться в его психике, распотрошить его тонкие мотивации… Если бы ты честно следовал своему долгу, то поступил бы просто: бах — и нету. Просто и цивилизованно. Но ты ведь не можешь позволить себе упустить такой интересный экземпляр, как твой тёзка Руди… Такого у тебя ведь ещё не было, правда ведь?
Сикорски побагровел, но промолчал.
— Так что мои мотивы, как ни крути, будут поблагороднее твоих. Я вот не знаю, насколько Руди на самом деле крут. И знать не хочу. Скорее всего, против Земли ему будет слабо. А если вдруг таки не слабо? Вот если бы не это самое «вдруг», Экселенц, мы бы с вами сейчас не разговаривали. Потому что Целмс меня идеально отмазал. Всё разыграл как по нотам. Умничка.
Председатель КОМКОНа и на этот раз предпочёл промолчать.
— Ладно, старичок, не сердись- печёнка лопнет… Корабль с Целмсом вам придётся брать над эклиптикой. Постарайтесь не задеть планету, вы же о ней так заботитесь. Это всё-таки класс «Т» с полным вооружением. А мне, извини, пора уходить вниз. Надеюсь, ваша контора выполнит свои условия. Я буду жить так, как мне нравится, и там, где мне нравится. То есть — при дворе Его величества Нагон-Гига Четвёртого Алайского. Или подробности этой операции… и некоторых других… окажутся в Мировом Совете. Вашу контору и так недолюбливают… Извини, старичок, за такой примитивный шантаж, но я рискую головой, а ты — креслом под задницей. К тому же мы оба ведь понимаем, что это просто формальность. Мы же не будем делать друг другу больно, правда?
Сикорски демонстративно отвернулся, показав хорошо вылепленный затылок.
— Это, я так понимаю, знак согласия. Хорошо. Да, и последнее — уберите от алайского двора этого дурака Яшмаа. Мне будет сложно объяснить ему, что я больше не прогрессор, а частное лицо. А недоразумения мне не нужны. Я, например, намерен ввести в придворную моду юных евнухов. Это так пикантно… Но, боюсь, наш молодой друг этого не оценит, а я не хотел бы тратить время на препирательства с бывшим коллегой. В общем, уберите Яшмаа. Отправьте его куда-нибудь, — Строцкий гадко хихикнул — ах да, это ему понравится… отправьте его на Юг.
God Mode Дружеская беседа благородного дона Руматы Эсторского с Великим Магистром Ордена высокородным доном Рэбой (Сокращённая версия)
Истекаю клюквенным соком!
А. Блок, «Балаганчик»Но это была не кровь — просто сок земляники.
А. и Б. Стругацкие, «Трудно быть богом»[…]
Дон Румата: — Ты хочешь сказать, что я должен был догадаться. Ну да, намёки были. Этот дурацкий шарлатан, которого ты выдал за Будаха. И гора трупов.
Дон Рэба: — Да, да. Тела, так сказать. Много тел. Ты вообще смотрел, кого месишь?
Дон Румата: — Мне, собственно, это было не очень интересно…
Дон Рэба: — Хех! Понимаю. Я, правда, опасался, что ты всё-таки сообразишь… зачем это моим людям понадобилось убивать твою бабу. Но ты уже подвинулся на моём демоническом образе. Дон Рэба у тебя был виноват во всём, не так ли? А когда твою бабенцию проткнули стрелочкой, ты ринулся мстить. О, месть, как она сладка. Ты был просто великолепен во гневе. Перебил уйму народа. В том числе и моего двойничка. Которого я тебе разлюбезно подставил. Мудак был уверен, что у тебя совести не хватит его мочкануть… Мне очень нужно было умереть. Причём умереть убедительно. Чтобы в моей смерти были уверены и наши, и ваши. Особенно ваши. Кстати, извини за тёлку. Я просто не придумал, чем ещё тебя можно достать…
Дон Румата: — Да хватит, не стоит. А вот думал ты долго. Я уж замаялся ждать, пока тебе это придёт в голову. Помнишь сценку с доной Оканой? Сколько можно было репу чесать?
Дон Рэба: — А-а… Ты в этом смысле… Забавно. А чем тебе мешала эта твоя Кира?
Дон Румата: — Её ко мне приставили.
Дон Рэба: — Ты хочешь сказать, что она была из ваших?
Дон Румата: — Нет, ну ты чего, за каким хреном? Местная бабёнка, просто перевербованная Землёй. Обычная практика. Девка, кстати, работала не за страх, а за совесть. Ей, небось, посулили земное гражданство… впрочем, за шанс выбраться из арканарской срани ваши на всё готовы.
Дон Рэба: — А ваши в Арканаре ничего себя чувствуют.
Дон Румата: — Ну, не все… но есть такие люди.
Дон Рэба: — Вот в это я никак не въеду. Почему?
Дон Румата: — Как почему? Живём мы здесь, разумеется, в чём-то хуже, чем на Земле, даже с нашими-то бабками. Ну там, мыться в лохани надо. Без белья ходить. Нет видеофона. Но, блин, здесь у вас можно хоть поразмяться. Баб трахай — не хочу, морду расшибить — запросто, убить кого — как два пальца обоссать. Веселуха. А на Земле, блин, порядочки те ещё. И все друг на друга стучат, как дятлы.
Дон Рэба: — Ну, это везде так.
Дон Румата: — Блин, козлы.
Дон Рэба: — Кстати, а как ты оттуда выбрался?
Дон Румата: — Ну, они там меня держали на карантине… Ладно, замнём для ясности. Ты мне лучше вот что скажи: ведь ты с самого начала знал, что твои орденские дружки тебя уберут. Не сейчас, так завтра.
Дон Рэба: — Ты мне, кажется, полгода жизни давал?
Дон Румата: — Вообще-то меньше.
Дон Рэба: — Ну, а я так понял, что если я срочно не умру, то мне с этим помогут, как только дорежут благородных донов.
Дон Румата: — И зачем тебе было надо играться с огнём? Убить короля, возглавить Орден… Ты же вроде не совсем идиот.
Дон Рэба: — Даже и не знаю, как сказать… хотя, конечно, мы тут люди простые. Я понимаю, что для тебя такие вещи вообще никак не звучат, но, ты уж извини, мы тут дикари… Короче. Этот сраный Арканар — моя Родина, понимаешь?
Дон Румата: — Блииин… Fakn'Shit! Да ты у нас, оказывается, патриот!
Дон Рэба: — Представь себе, земляшка. Ты-то на свою Землю клал с пробором. Ещё бы. У тебя всё всегда было. А у меня есть только я да Арканар. Не бог весть что. Но это моя страна, я здесь родился, здесь умру, и пусть даже она в говне… я для себя так решил, что я эту страну подыму. Любой ценой. Пусть не до вашего уровня, у нас звездолётов нету и долго ещё не будет… но чтобы хоть как-то вылезти мордой из этого говна. Такие вещи тебе хоть как-то понятны? Можешь верить, можешь не верить, мне насрать. Прими за сказку.
Дон Румата: — То есть всё, что ты делал, было совершено для блага страны, государства, и лично Его Величества?
Дон Рэба: — Именно. Сейчас нам обоим не до художественного свиста. Так что говорю как на духу — для блага страны и государства. И к Его Величеству я относился тоже неплохо. Между прочим, старикан был очень приличным человеком. Особенно если учесть его кошмарную биографию. Первый более-менее сносный правитель за последние полвека. И вынужден был корчить из себя шута, терпеть каких-то сраных фаворитов, временщиков, чтобы потом бросать их благородным донам на съедение…
Дон Румата: — И ты отравил этого приличного человека.
Дон Рэба: — Ага. Мы с ним не сошлись во взглядах на Орден.
Дон Румата: — То есть?
Дон Рэба: — Понимаешь, старикан решил, что Орден хочет вырезать аристократию.
Дон Румата: — Ну так он правильно решил.
Дон Рэба: — В том-то и дело.
Дон Румата: — Но зачем?
Дон Рэба: — А что, неясно? Ну смотри сам. Аристократия — это сборище немытых подонков и предателей. Благородный дон за колечко с камушком продаст маму. А за косой взгляд — прирежет. Но это ладно. Ты хотя бы понимаешь, что аристократия — это бич мелкого бизнеса? Арканару нужны лавочки, много лавочек, торговые ряды, и трактир на каждой улице. А у нас, блин, даже трактиров не хватает… а хороших и вовсе нет. Что это за страна, где нет хороших трактиров?
Дон Румата: — Да, крепко ненавидишь ты благородных донов… А трактиры, конечно, говённые. И пивом разбавленным поят. Только за это надо трактирщиков убивать, а не благородных донов.
Дон Рэба: — Нееет, ты, я вижу, недотумкал чего-то. Ну, блин, подумай же хоть раз своей головой. Страна, в которой нет железных рудников, может ещё как-нибудь перебиться. Страна, где хлеб не растёт, и зима десять месяцев в году, тоже может выжить, если у неё есть железные рудники. Но страна, где нет хороших трактиров — это полный звиздец, здесь никогда ничего не будет, её поля не будут вспаханы, а руда не будет добыта. Процветание начинается с хороших трактиров.
Дон Румата: — Час от часу не легче. Ты не только патриот, но ещё и глубокий эконом. Так поведай же мне, как государство богатеет?
Дон Рэба: — Я просто знаю жизнь. Там, где трактиры на каждом углу, где всегда есть куда пойти, — там и жизнь. Понимаешь, трактир — это место, куда люди приходят потратить свои деньги, поесть, попить…
Дон Румата: — …подраться…
Дон Рэба: — …да, подраться, но… Понимаешь, это такой сдвиг — или человек идёт домой и тратит время, чтобы зажарить себе кусок мяса, или он идёт в трактир, платит немножко больше, чтобы ему это мясо поджарили, и заодно узнаёт новости, слухи… цены… там же можно найти людей, которые продают то, что тебе нужно, и купят то, что тебе не нужно…
Дон Румата: — … а также можно снять шлюху на ночь. Или нанять убийцу.
Дон Рэба: — В том числе и это.
Дон Румата: — Короче, ячейка гражданского общества и мелкого бизнеса. И ты решил поучаствовать в истреблении аристократии во имя трактиров на каждом углу Столицы?
Дон Румата: — В общем, да. Потому что аристократия имеет монополию на насилие. Право носить оружие и применять его направо и налево.
Дон Румата: — И что тут такого? Аристократы — военное сословие, им положено иметь оружие.
Дон Рэба: — Блин. Не в этом дело. Дело не в оружии. Дело в монополии. Ну, когда подонок с мечом может прийти, напиться, и вместо того, чтобы заплатить — убить трактирщика и разнести в щепки заведение, и ему ничего за это не будет.
Дон Румата: — Кто-то ведь должен защищать государство. И иметь с того всякие привилегии. Потому что если он не будет их иметь, он не будет защищать твою любимую родину, которую ты так обожаешь.
Дон Рэба: — Так они уже давно её не защищают. Арканарская аристократия существует за счёт того, что не платит по счетам.
Дон Румата: — Ну уж нет. Например, земельные угодья…
Дон Рэба: — На одного землевладельца приходится десяток здоровенных мудаков с мечами, занимающимися грабежом, поборами… или просто расплачивающимся за услуги ударами кулаком в морду. Или мечом в спину. В результате у нас нет даже столица не торгует с собственной окраиной, потому что дороги опасны…
Дон Румата: — Это-то тут при чём?
Дон Рэба: — А ты не знаешь, что две трети наших разбойничков — благородных кровей? Помнишь Арату Красавчика?
Дон Румата: — Ну, он всё-таки борец за идею.
Дон Рэба: — Из-за его сраных идей мы сидим в жопе.
Дон Румата: — А Орден-то чем лучше?
Дон Рэба: — А Орден — это простые нормальные крепкие ребята без закидонов, которые хотят навести порядок на своей земле. Элементарный порядок. Без которого ничего не бывает.
Дон Румата: — Ну да. Понятно.
Дон Рэба: — Понимаешь, Арканару и нужно-то всего лет десять спокойной жизни. Без аристократии. Без войн, без резни. Тихо жить, тихо торговать. И мы бы поднялись. Но вы нам этого не дали. Вы, земляне. Прогрессоры хреновы.
Дон Румата: — Не дали. Видишь ли, это не входило в планы.
Дон Рэба: — Хм-хм. В чьи планы? Вашего руководства? Или как?
Дон Румата: — Ах какой ты у нас умный и догадливый, дон Рэба… Хорошо. Это не входило в наши планы.
Дон Рэба: — Тааак. Вот мы и договорились до чего-то такого…
Дон Румата: — Хм. Хочешь правды? Ну ладно, слушай сюда. Будут тебе полные штаны правды… Есть такие три вещи. Во-первых, есть официальная позиция Земли. Заключающаяся в том, чтобы подтягивать все недоразвитые планеты до уровня, сравнимого с нашим.
Дон Рэба: — Ага. Щаз.
Дон Румата: — Ну, понятно, что ты думаешь. Что мы на самом-то деле тормозим прогресс и развитие, и всё такое прочее, чтобы вы вечно сидели в параше?
Дон Рэба: — Ну конечно.
Дон Румата: — А вот и нет. Ход мыслей, в общем, правильный, но вывод неверный.
Дон Рэба: — Это почему же?
Дон Румата: — А вот это уже второй момент, потоньше. Если у вас тут начнётся бурное развитие по нашей модели, то Земле это только выгодно. Как только арканарский уровень экономики хотя бы приблизится к земному, на Земле возникнет спрос на ваши товары, на ваших специалистов, и так далее. И всё лучшее, что вы сделаете, мы просто купим. Сейчас в Арканаре просто нет ничего, что интересовало бы Землю.
Дон Рэба: — Купим?
Дон Румата: — Да ведь арканарцу, будь он хоть наследный принц, достаточно пожить недельку-другую на Земле, чтобы он был наш с потрохами. Уровень жизни…
Дон Рэба: — Уровень жизни. А он у вас всегда будет выше…
Дон Румата: — Ну, так ведь Вселенная — это горшок с молоком, с которого Земля снимает сливки.
Дон Рэба: — Тогда…
Дон Румата: — Очень просто. Не надо никого нагибать, чтобы самим усидеть сверху. Надо всем помогать подняться как можно выше, но так, чтобы всё время сидеть у них на закорках… К тому же это гуманно. Мы же всё-таки коммунисты.
Дон Рэба: — Я не понимаю одного. Вы довольно циничные ребята. Откуда у вас этот самый коммунизм взялся?
Дон Румата: — Ну как же. Понимаешь, Земля в какой-то момент стала слишком богатой. А в обществе, где у всех есть всё, просто не остаётся другого выхода, кроме коммунизма.
Дон Рэба: — Слишком богатой… но как?
Дон Румата: — Ну… Просто остались одни богатые. Эмиграция наиболее успешных и продвинутых в развитые страны, плюс демографический коллапс бедных окраин.
Дон Рэба: — Обычно бедняки размножаются быстрее…
Дон Румата: — Ну, богатые страны стали ставить экономическую помощь в зависимость от программ сокращения рождаемости…
Дон Рэба: — И всего-то? Чушь, чушь собачья. Вы их просто выбили. Не знаю как, но выбили…
Дон Румата: — А какая разница, как? Единственный способ избавиться от бедности — это избавиться от бедняков. Вы к этому скоро придёте.
Дон Рэба: — Ну да, скоро придём. Но просто вырезать… вы ведь большие гуманисты, не так ли? Да и шум, грязь, сопротивление… Земляне очень не любят, когда им сопротивляются.
Дон Румата: — Ха. Заметил.
Дон Рэба: — …Тогда что? Вы не вырезали бедных, вы их того, вывезли… подальше. Например, на другие планеты. Сколько лет прошло с начала колонизации Арканара? Двести? Триста?
Дон Румата: — Вот как?.. Почти угадал. Триста.
Дон Рэба: — Н-да… Шесть тысяч лет славной истории Арканара, и всё такое… Ничего не было. Был один сраный звездолёт с Земли, сгрузивший здесь ваш человеческий шлак. Избавились от очередной партии бедных.
Дон Румата: — Заметь, всё было строго добровольно. Колонизация Космоса, новые перспективы, новые возможности.
Дон Рэба: — А они знали, что их просто кинут на планете, без техники, без помощи с Земли, вообще без всего, кроме камней и палок?
Дон Румата: — Экий ты дотошный. Конечно, ничего такого они не ожидали. Но на этот счёт есть стандартная методика. Через некоторое время после начала колонизации планеты начинается бунт. С требованиями независимости от Земли, суверенитета и самостоятельного развития. Толпа громит дома начальства и забрасывает камнями начальников. Земля, не смея противостоять воле граждан, отзывает свои звездолёты.
Дон Рэба: — А потом происходит такая резня…
Дон Румата: — Ну да, что-то вроде того. Когда всё кончается, остаются голые люди на голой земле. С чувством голода, чувством холода, и сознанием своей вины.
Дон Рэба: — И чувством греха. И тут возникают религии… создаётся ложная история… не без помощи извне, конечно? Один книгочий, кстати, пытался проповедовать нечто подобное. Я хотел с ним встретиться и поговорить конкретно, но ваши его вовремя убрали… Так его ваши убрали?
Дон Румата: — Убрали. А что делать? Есть такая классическая фича, в прогрессорских школах её на первом курсе разбирают… На одной из наших первых колонизированных планет, человечество там было свеженькое, только-только размножились, только-только сделали первую приличную империю… короче, провалилась сразу вся прогрессорская сеть…
Дон Рэба: — Такое бывает?
Дон Румата: — Бывает… Ну, короче, ребята решили поиграть в свою игру. Их, конечно, всех взяли… одного там даже распяли на кресте, ну это казнь такая типа вашего столбования…
Дон Рэба: — Землянина? Казнить? Такого не бывает.
Дон Румата: — Ребята погорячились. Он там насадил одну очень вредную религию, которая перерубила нам все каналы контроля. Мы очень долго не могли разгрестись.
Дон Рэба: — Ай, какая жалость. А потом что?
Дон Румата: — Когда мы решили вопрос, мы стёрли всю информацию про это дело. Вместе с людишками. И теперь они думают, что в истории их цивилизации был та-акущий провал… «тёмные века» они это называют. Зато кой-чему мы тогда научились. Например, ваша политическая система скопирована с одной фишки, которую в той колонии придумали. С баронами и замками. Называетсяы феодализм.
Дон Рэба: — И зачем же тогда вам понадобилось создавать для нас эти гнусные порядки, с вонючими баронами, кострами на площадях, и прочей дрянью?
Дон Румата: — Хммм… Наше земное начальство, конечно, тоже не совсем понимает, почему феодализм здесь так задержался…
Дон Рэба: — То есть это ваш маленький заговор против Земли?
Дон Румата: — А даже если и так?
Дон Рэба: — Вот как мы смело заговорили… Ты начинал с того, что есть какие-то три разные вещи. Первые две я понял. А где третья?
Дон Румата: — Ну а третье — это мнение прогрессоров. Которые тоже иногда, представь себе, думают.
Дон Рэба: — И не сомневался. То же самое происходит в любом отдалённом гарнизоне. Местный воевода, пересидев на своём месте, начинает задумываться, правильные ли у него начальники…
Дон Румата: — Да нет, тут немножко другая ситуация. Как бы это объяснить… а, ладно. Начну с себя. Я, представь себе… как это по-арканарски называется? Душевнобольной.
Дон Рэба: — Ну это видно.
Дон Румата: — Нет, я говорю серьёзно. То есть здесь-то я само здравомыслие, а по земным меркам я сильно того.
Дон Рэба: — Если так, то, может быть, тебе стоило бы сходить к нашим знахарям?
Дон Румата: — Если бы я хотел лечиться, мне бы поправили шарики на Земле. Но тогда здесь мне было бы совсем плохо.
Дон Рэба: — То есть тебя всё равно бы сослали?
Дон Румата: — А? Ну да. Сослали бы, конечно. Коммунизм — это общество, в котором нет бедных и ненормальных. Краеугольный принцип коммунистического общества — здоровье во всём.
Дон Рэба: — И что, все прогрессоры…
Дон Румата: — Асоциальные элементы. Есть такое земное выражение.
Дон Рэба: — То есть вы избавились от своих бедных, а присматривать над ними поставили своих психов… Извини.
Дон Румата: — Мне пофиг.
Дон Рэба: — Интересная получается ситуация.
Дон Румата: — А как же? Понимаешь ли… Для того, чтобы жить нормально, нужны нормальные люди. Которые спокойно себе живут, работают, и им ничего такого особенного не надо. Но если что-то пойдёт не так, то есть ситуация станет ненормальной, для её решения нужны люди ненормальные. Асоциальные элементы. Которые нормально себя чувствуют, когда кругом хаос, катастрофа и полный трындец. Поэтому в любом обществе есть и те, и другие. Но когда всё идёт как надо, ненормальным не находится места, и они начинают раскачивать лодку, чтобы ситуация стала ненормальной. Обычно им это удаётся, потому что они умнее и круче, и к тому же ломать — не строить…
Дон Рэба: — Ладно-ладно, я уже всё понял. Но всё-таки, чего вы добиваетесь, посадив нас в эту жопу?
Дон Румата: — Мы-то? Понимаешь, у вас тут есть один интересный класс людей, не очень заметный…
Дон Рэба: — Который вас больше всего интересует. Книгочеи. Образованные.
Дон Румата: — Во-во.
Дон Рэба: — Этот момент для меня самый тёмный. Я никак не пойму. С одной стороны, вы их вроде бы опекаете и спасаете. С другой — поддерживаете порядки, при которых их регулярно бьют.
Дон Румата: — Именно так. Видишь ли, нам нужно время, чтобы ваш образованный класс, э-э-э… трансформировался в нужном нам направлении.
Дон Рэба: — То есть? Вы хотите сделать эту высоколобую сволочь поприличнее? Вряд ли это хороший способ.
Дон Румата: — Нет, наоборот.
Дон Рэба: — Наоборот что?
Дон Румата: — Как бы это объяснить…
Дон Рэба: — Короче, вам зачем-то надо, чтобы они озлобились на власти.
Дон Румата: — Ага. Чтобы вся ваша культура была создана людьми, которые от печёнок ненавидят власть, любую власть, понимаешь? Которая их столетиями…
Дон Рэба: — …гноила в тюрьмах. Отрезала языки. Отрубала руки. Жгла на медленном огне. Понятненько.
Дон Румата: — Но при этом они должны ощущать, что всех перебить не удастся… что они поодиночке слабы и уязвимы, но все вместе…
Дон Рэба: — Ну и к чему всё это? Всё равно ведь придёт момент, когда надо будет договариваться.
Дон Румата: — Тоже верно. Социальное развитие заканчивается тогда, когда власть, бизнес и интеллект оказываются контролируемыми из одного центра.
Дон Рэба: — Как это было у вас.
Дон Румата: — Ну да, как у нас. И как на большинстве планет, развивающихся по нашей модели. Четыреста-пятьсот лет — и всё готово. Просто мы были первые и поэтому сидим сверху. Ну есть ещё три шарика нашего уровня, это были наши первые колонии. Там тоже всё шло по плану. А потом была та планетка с распятым мужиком.
Дон Рэба: — И что же?
Дон Румата: — Там всё пошло очень криво. И среди всего прочего там была страна, где образовалась этакая порода интеллектуалов, ненавидящих власть. Так представляешь себе — они там в одной отдельно взятой стране чуть коммунизм не соорудили. Только наоборот. Коммунизм без богатых.
Дон Рэба: — Это как?
Lон Румата: — Мы сами не очень поняли, но начальство перебздело страшно. И дало команду давить.
Дон Рэба: — Ну и как?
Дон Румата: — Передавили.
Дон Рэба: — Представляю себе…
Дон Румата: — Не представляешь. Чуть ли не сто лет назад это было, а мужики наши до сих пор помнят, как это было классно… Ну и мы на этом деле кое-что скумекали.
Дон Рэба: — Ты объясни, за каким хером здесь выводить такую породу? Это же будут полные ублюдки.
Дон Румата: — Ты помнишь, что ты говорил про любимую Родину?
Дон Рэба: — Ну.
Дон Румата: — История твоей Родины уже написана. Имей в виду, никакого Арканара через полвека не будет. Наше начальство планирует раздел страны, как только у неё поправятся дела с экономикой. Так что твои трактирщики — могильщики вашей государственности.
Дон Рэба: — Ой, как интересно…
Дон Румата: — А ты что думал? Как только планетка выходит на устойчивый путь развития, на ней организуется государство, управляемое непосредственно с Земли. Кстати, могу даже сказать, как оно будет называться. Amerik. По старой традиции. Удобное для управления государство с почти земным языком и соответствующей такой культуркой.
Дон Рэба: — А дальше что?
Дон Румата: — А дальше в это государство вкачиваются ресурсы, земные технологии, и всё такое прочее… Всё понятно?
Дон Рэба: — Только вот не надо меня агитировать за Арканар, единый и неделимый. Мне-то любить Землю не за что. А вот тебе… Земля — это же твоя Родина, не так ли?
Дон Румата: — Да пошла она…
Дон Рэба: — Ой-ёй-ёй…
Дон Румата: — Это насчёт Земли-то? Ненавижу Землю. Этих жлобов, которые всем командуют. Это говно, которое перед ними ползает на брюхе. Этот загнивший мир, управляемый скотами и подонками. Поднасрать ему — святое дело.
Дон Рэба: — Ну конечно. Только беда-то вот в чём. Если вы тут выведете эту самую породу людей типа Будаха… Он же сумасшедший.
Дон Румата: — Ну что ты. Он считает, что у него великая миссия.
Дон Рэба: — Ради которой он сварил яд для короля.
Дон Румата: — Он так трогательно рассказывал, как ты пригрозил ему пробовать все его снадобья на маленьких детях…
Дон Рэба: — Н-да, гадёныш… А казался таким респектабельным старцем.
Дон Румата: — Зря ты его так — гадёнышем. В тот момент он сам в это верил. Логика у них такая: ты мог это сделать, ну, с детьми… а если не делал, так просто потому, что не успел, или выдумывал какую-нибудь мерзость померзопакостнее. Они вообще легко верят в плохое. Их и обманывать не надо.
Дон Рэба: — Так если вы вырастите здесь это крапивное себя, Арканар так и останется феодальным навсегда. Или станет чем-нибудь ещё худшим. Они же будут вечно подстрекать к бунтам, делать революции… В общем, одни великие потрясения и никакого прогресса.
Дон Румата: — Насрать нам на прогресс. Ты пойми, здесь же веселуха!
Дон Рэба: — Особенно для благородных донов земного происхождения?
Дон Румата: — Как бы тебе это объяснить… Когда у тебя всё есть, ты начинаешь понимать, что этого как бы недостаточно. Потому что у других тоже есть всё.
Дон Рэба: — Есть всё. А счастья нет?
Дон Румата: — Счастья нет. Потому что счастье не в том, чтобы иметь всё что хочешь. А в том, чтобы брать всё, что хочешь. Брать, понимаешь? Брать.
Дон Рэба: — По-твоему, счастье — это безнаказанность?
Дон Румата: — Именно так. Счастье — это безнаказанность. Это… как бы это сказать… божественно. Делать всё что тебе вздумается.
Дон Рэба: — Ага. Счастье — это власть над себе подобными.
Дон Румата: — Именно! Именно над себе подобными. В этом всё дело. Иначе можно было бы разводить кур и откусывать головы цыплятам. И упиваться своим могуществом. Но это никому не интересно. Быть выше тех, кто равен тебе — вот что греет. Выше — над теми, кто равен. Понимаешь ты это? Вот что нас возбуждает. Поэтому-то Бог создал людей по образу и подобию своему. Иначе было бы не в кайф, не в кайф… Знаешь что? Я иногда думаю, что Бог — прогрессор. Он ходит по Вселенной, этак скукожившись, всеми принимаемый за равного… вот он тащится, небось, сука.
Дон Рэба: — Н-да-а-а. Ты говори, говори, я слушаю.
Дон Румата: — Вот… это… литература. Книжки. Зачем пишут книжки? Чтобы кайф поймать от власти над людишками нарисованными. Писатель… он всегда мечтает оказаться внутри своей книжки. Но с пером в кармане, чтобы можно было переписывать… переписывать… власть, понимаешь, власть.
Дон Рэба: — Что с тобой?
Дон Румата: — Погоди… сейчас пройдёт лекарство… вот, всё. Всё нормально. Ничего особенного.
Дон Рэба: — В общем, с вами всё ясно, господа прогрессоры. Вы, господа прогрессоры, действительно обыкновеннейшие психопаты. Собирающиеся построить здесь симпатичный мирок для себя любимых. Для психов. Мечты сумасшедших. И ничего кроме. Н-да. Я-то думал, с вами можно будет работать.
Дон Румата: — Чего-чего?
Дон Рэба: — Ладно. Ты мне тут прочёл небольшую лекцию о Земле. В принципе, всё верно, хотя и примитивно. Ты только забыл об одной детали. Как ты там сказал: при коммунизме не должно быть бедных и больных?
Дон Румата: — Ну да. А что?
Дон Рэба: — Ты забыл ещё одну категорию людей.
Дон Румата: — Какую же?
Дон Рэба: — Преступников.
Дон Румата: — Э-э… Ты мыслишь слишком по-арканарски. На Земле преступности нет в принципе. Просто потому, что у землян всё есть. Изобилие, понимаешь ли, мы себе действительно обеспечили. Так что преступников на Земле нет. Психи — да, куда ж без них. Но преступников в арканарском смысле этого слова…
Дон Рэба: — Один-то ресурс на Земле по-прежнему в дефиците. Тот самый, о котором ты тут так красиво говорил.
Дон Румата: — Что ты имеешь в виду? Власть?
Дон Рэба: — Да. Её самую.
Дон Румата: — Ну-у-у… На Земле с этим обстоит очень скучно. Власть у каких-то сраных бюрократов. Жлобы и дерьмо. Туда, кажись, самых тупых отбирают. По принципу наименьшего риска. Это железное правило: чем выше начальник, тем он тупее и жлобистее, и тем больше в нём дерьма. Все приличные люди начальство ненавидят. Самая мерзкая порода людей. Есть, конечно, подонки, которые лижут ему жопу. В основном для того, чтобы поднасрать ближнему. И доносы, доносы, доносы. Как наши тупые свиньи не захлебнулись в этих помоях?
Дон Рэба: — Интересно, а зачем вам друг на друга стучать? Ты же говорил, что у всех всё есть.
Дон Румата: — Всё это так противно именно потому, что это так мелко… Ну, представь себе. За неправильную парковку глайдера… ну, это такая летающая повозка… тебя могут лишить прав вождения сроком на четыре дня. И ты будешь вынужден пользоваться нуль-Т-метро… ну, это такое мгновенное перемещение с места на место…
Дон Рэба: — Так, наверное, это удобнее?
Дон Румата: — Весь смех в том, что это и вправду удобнее. Но пользоваться глайдером престижнее, именно потому, что с этим связана куча всяких ограничений.
Дон Рэба: — Как интересно.
Дон Румата: — Ничего интересного. Вся коммунистическая система стоит на таких мелких, мягких, безвредных наказаньицах, которые даже и не наказания вовсе, но все привыкли их бояться. И на таких же мелких подачках в качестве положительного стимула. Например, попасть в утренние новости… ну, в ньюсы… как бы тебе объяснить… njes distribd v'e hol'Ef… это на земном языке, не знаю как перевести. Ладно, неважно. Короче, вот такое говно.
Дон Рэба: — А что, если человек не обращает внимания на все эти мелкие безвредные санкции?
Дон Румата: — Таких мало. Понимаешь, в чём дело… Наши выяснили одну интересную вещь. Человека можно наказать очень больно, но он, по крайней мере, будет гордиться этим наказанием. Он будет думать, что он что-то значит, раз его так наказали. Прелесть мелких уколов — в том, что они не дают пищи для гордости. Ты просто лишаешься какого-то мелкого удобства… и никакой тебе моральной компенсации. И тем более сочувствия от ближних. Очень продуманная система.
Дон Рэба: — Но всё-таки такие находятся?
Дон Румата: — Ну, если человек упорствует… Тогда он признаётся асоциальным типом… и ему любезно предлагается пожить в среде, более подходящей ему для SelfReliz… короче, ссылают. Но для этого надо сильно постараться и класть на всё с пробором.
Дон Рэба: — И сильно ты постарался?
Дон Румата: — Ну не так чтоб очень… А вообще-то всё управляется само собой. Самоорганизация. Начальство нужно только, чтобы осуществлять какое-то общее руководство… ну и читать доносы, конечно. И принимать меры… В общем, нужно быть последней свиньёй, чтобы этим заниматься.
Дон Рэба: — Чтобы избавиться от бедности, надо избавиться от бедных. А чтобы избавиться от желающих порулить государством, надо спрятать бразды правления в засраном сортире.
Дон Румата: — Это ты к чему?
Дон Рэба: — Это к вопросу о начальстве… ладно, проехали, не твоего ума дело. Просто вообрази, что власть на Земле кое-кому кажется довольно привлекательной. И даже, представь себе и такое, за неё ведётся борьба…
Дон Румата: — А ты-то откуда можешь это знать?
Дон Рэба: — До чего ж ты тупой. А откуда я знал, что твоё паршивое золото — неимоверной чистоты? В Арканаре кто-нибудь способен сделать химических анализ? У нас всё больше на зуб…
Дон Румата: — Постой. Постой. Ты хочешь сказать…
Дон Рэба: — … да, именно это я и хочу сказать, мой любезный соотечественник. Наконец-то дошло.
Дон Румата: — То есть ты… То есть… Fakn'Shit!
Дон Рэба: — Я ожидал услышать что-то более любезное…
Дон Румата: — U a Hahbnt v'Ef?
Дон Рэба: — Jo-jo, ful. Hou'ny taim culd'e fuf ab'such simp fing? Gen, let's retr v'ArkanarLang.
Дон Румата: — Хорошо, давай по-арканарски… Итак, ты хочешь сказать, что тебя тоже сослали.
Дон Рэба: — Тоже? Ха. Тоже, да не то же. У нас разное положение. Видишь ли, тебя сослали, предварительно вооружив кое-каким арсенальцем. Золотишко, оружьице, на худой конец, всегда можно вызвать подмогу… Короче, GodMode. Помнишь такой термин из CompGaims? Возможность делать всё что хочешь, без риска для телесного здоровья.
Дон Румата: — А тебя?
Дон Рэба: — А я преступник. С преступниками разговор короткий. Разумеется, их не уничтожают. Это, помимо всего прочего, запрещено законом, а наша власть законна. Так что их всего-навсего ссылают. На особо неблагополучные планеты. В голом виде.
Дон Рэба: — В голом? Без штанов?
Дон Румата: — Без единого земного орудия, а также без знания местного языка и нравов. Штаны, правда, оставляют в утешение. В большинстве случаев, насколько мне известно, износить их не успевают…
Дон Румата: — А что ты такого сделал?
Дон Рэба: — О, самое страшное, что только возможно. Я позволил себя съесть. В смысле — неправильно сориентировался в одной аппаратной ситуации в КОМКОН'е…
Дон Румата: — Что-то ты свистишь… Ну кто слушает это самое начальство? Вот мы, прогрессоры, просто плюём на это самое начальство, а оно только молча утирается. Главное, конечно, не заходит слишком далеко. Да и то: вон, занесло меня немножко, и что же? Забрали на Землю, подлечили голову… и я снова здесь. И опять плюю на начальство с высокой горки.
Дон Рэба: — А это не вредит делу. Ну, подумаешь, какой-нибудь псих убьёт немножко аборигенов, или там вдохновит их на какой-нибудь малопонятный бунт… В общем-то, вы всё равно роете в нужном Земле направлении.
Дон Румата: — Не всегда.
Дон Рэба: — Это ты о своих гениальных планах? Социальные инженеры из вас паршивенькие, даже базовую теорию феодализма толком не усвоили, а уж слушая твои фантазии насчёт всего остального… да, я был о вас лучшего мнения. Ладно, проехали. В серьёзных структурах и разговоры серьёзные. Наша власть, повторяю, законна. А это значит, помимо всего прочего, что внутренние законы власти строже внешних. Точнее, они другие.
Дон Румата: — Как в Ордене?
Дон Рэба: — Ну что ты. Орден — это так, полуанархическая вольница по сравнению с земной бюрократией…
Дон Румата: — Нет, ты свистишь… Земля — поганое место, не спорю. Но не до такой же степени. Тогда она была бы даже интересна.
Дон Рэба: — Ничего интересного. Для тебя, во всяком случае. Ты же у нас того — спец по части веселухи.
Дон Румата: — Кстати о веселухе… Ты как-то очень красиво свистел насчёт своего арканарского патриотизма…
Дон Рэба: — Э, нет, тут всё по-честному. Видишь ли, когда меня сюда отправили, я должен был бы по всем законам божеским и человеческим быстренько протянуть ноги. Тогда был как раз неурожай третий год подряд… а выбросили меня из звездолёта, естественно, в сельской местности.
Дон Румата: — Ну и что?
Дон Рэба: — А то, что я ходил по дворам, мычал, побирался. И мне иногда подавали. У них у самих ни черта не было.
Дон Румата: — О, эти добрые арканарские крестьяне! В самом деле, загадочные души, загадочные. Бедному, голодному и оборванному они подадут. Это да. А сытого и чуть менее оборванного зарежут. За медный грош зарежут, между прочим. Те же самые добрые хлебопашцы. Кормильцы наши.
Дон Рэба: — …Расплатиться с этими людьми я никогда не смогу. Даже если каждому из тех, кто давал мне хлебца со жмыхом, я куплю по три коровы. Потому что коров-то у них назавтра отберут какие-нибудь очередные ребята с мечами. А значит…
Дон Румата: — …надо осчастливить их в целом. Как класс. Не учитывая, что в ходе осчастливливания поляжет много народу… в том числе и твоих благодетелей. Странное у тебя какое-то представление о благодарности. И о патриотизме, кстати, тоже.
Дон Рэба: — Странное? Я хочу, чтобы моя страна поднялась из ямы, куда её посадили земляне. Я знаю, как это сделать. Я…
Дон Румата: — Всё Я да Я. И моя страна. Знаешь, что такое твой патриотизм новоявленный? Это спесь. Да, именно спесь. Тебе настолько в падлу мысль о том, что ты, такой крутой и замечательный трюндель, был вынужден клянчить хлеб со жмыхом у вонючих арканарских крестьян…
Дон Рэба: — Ты заговариваешься, милый мой.
Дон Румата: — …что ты придумал, как их всех, того, осчастливить. Под собственным мудрым руководством. Ну и, конечно, отомстить Земле, которая тебя так жестоко недооценила.
Дон Рэба: — Успокойся. У тебя сейчас будет приступ.
Дон Румата: — Ты за моё здоровье не переживай, раб Божий Рэба… Я со своим здоровьем ещё попрыгаю…
Дон Рэба: — Кровушки попью…
Дон Румата: — Вот только этого не надо. До того момента, как ты меня спровоцировал, я никого не…
Дон Рэба: — Ну да, знаю. Всё-таки хотелось остаться на хорошем счету у ненавистного начальства, правда?
Дон Румата: — А за карьеру мою ты тоже не переживай так сильно, у прогрессора карьера известно какая…
Дон Рэба: — Хватит.
Дон Румата: — А я-то, я-то молодец! Всё узнал. Даже чего и не хотел, и то узнал ab'my NatLend, favort Ef.
Дон Рэба: — Я сказал, хватит. Пора закругляться. Практического интереса вы не представляете. Вред от вас очевиден. Но за вами — Земля, а серьёзный конфликт с Землёй мы сейчас не потянем.
Дон Румата: — Сейчас? То есть когда-то, может быть, Арканар и Земля… Да ты действительно сумасшедший… Ты к местным знахарям не обращался?
Дон Рэба: — Хорошо: в ближайшие два столетия не потянем. А что там будет дальше — это уже не нашего скромного разумения дело…
Дон Румата: — Только имей в виду, что…
[…]
ВЫ ОЗНАКОМИЛИСЬ С СОКРАЩЁННОЙ ВЕРСИЕЙ ФАЙЛА GODMODE.
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ДОСТУПНА НА СЕРВЕРЕ Compromat.Us.Ef (Земля).
ЗАПИСЬ РАЗМЕЩЕНА В КОММЕРЧЕСКОЙ ЗОНЕ.
Стоимость заказа записи — 19.26 долларов Земли. Принимаются все виды оплаты.
Дырка в голове
…Надежда и ее дикая судьба были на Земле притчей во языцех, да они и оставались до сих пор притчей во языцех, как грозное предупреждение всем обитаемым мирам во Вселенной и как свидетельство самого недавнего по времени и самого масштабного вмешательства Странников в судьбы других цивилизаций… Теперь можно считать установленным, что им удалось вывести подавляющее большинство населения Надежды через межпространственные тоннели и, видимо, спасти. Куда были выведены эти миллиарды несчастных больных людей, где они сейчас и что с ними сталось — мы, конечно, не знаем.
…По роду своей деятельности мы в КОМКОНЕ-2 никогда никому и ничего не запрещаем. Для этого мы просто недостаточно разбираемся в современной науке. Запрещает Мировой Совет. А наша задача сводится к тому, чтобы реализовать эти запрещения и преграждать путь утечке информации, ибо именно утечка информации в таких случаях сплошь и рядом приводит к самым жутким последствиям.
…Помнишь, как старик Горбовский, хитро улыбаясь, прокряхтел: «Волны гасят ветер…»? Все мы понимающе закивали, а ты, помнится, даже продолжил эту цитату.
А. и Б. Стругацкие, «Жук в муравейнике», «Волны гасят ветер»14-е октября 73-го года по земному летоисчислению.
Планета Надежда. Второй тёплый сезон. Вечер.
Старый, вспученный асфальт гулко отзывался в сиденье велосипеда. Время от времени приходилось объезжать завалы по на обочине, давя шинами мелкие гнилые яблочки, в которых копошились засыпающие осы. На Надежде начинался короткий сезон, напоминающий земную осень.
Привалов обогнул кривой обрезок трубы, торчащий посередине дорожки. Когда-то его вкопали аборигены, чтобы закрыть проезд: место было чересчур уж бойкое, совсем рядом сложная развязка — так что, наверное, все норовили свернуть в тихий переулок и проехать метров триста мимо дома и детского садика.
Поскрипывали и позвякивали под порывами ветра качели. Ветерок покачивал оборванную цепь от «гигантских шагов». На удивление хорошо сохранились разноцветные деревянные лесенки, на которые когда-то карабкались карапузики в шортиках. Саше вспомнилась фотография, которую он нашёл на полу в местном кинотеатре: пузатый папа с пацанёнком на плече и некрасивая пожилая мама с волосяным гнездом на голове, напряжённо улыбающаяся в объектив. Судя по всему, фотография была сделана года за полтора до начала пандемии: именно тогда, по мнению земных историков, вошли в моду эти идиотские женские причёски.
Повернув за угол, Саша увидел крытую мусорку: проржаевешие контейнеры, вокруг которых делают круги почёта черные жирные мухи. Интересно, что же они там едят? Мусор-то, поди, давно окаменел? Или туристы что-то выбрасывают? С тех пор, как планету почистили и открыли для посещений, они сюда валом валят. Как будто здесь мёдом намазано. Некоторые даже устраиваются в развалинах, живут там, готовят себе еду на древних электроплитках, пытаются читать уцелевшие бумажные книги…
«Стервятники. Просто стервятники», — с неожиданной для себя неприязнью к безобидным чудакам подумал Привалов.
Н-да. Людей всегда тянуло к смерти. А тут — целая мёртвая планета. Впрочем, нет. На мёртвых планетах царит кладбищенский дух: давно сгнившая, иссохшая, сгоревшая человеческая плоть всё равно не даёт забыть о себе. Нет, Надежда — не мёртвая. Просто пустая. Как ореховая скорлупа.
Он проехал мимо развалин какого-то здания с толстенькими псевдоантичными колоннами. В тормоза попадали сухие листья и весело трещали, задевая стальные спицы колес. А была ли, кстати, здесь античность? Саша задумался, поковырялся в памяти, но ответа не нашёл. Возможно, его и не было: несмотря на годы исследований, раннюю историю планеты земляне знали неважно. По сохранившимся книгам и фильмам удалось реконструировать только последние века, довольно банальные для гуманоидного мира земного типа. Индустриализация, три мировые войны, бурное развитие технологий. И техногенные катастрофы, куда же без них. В принципе, с этим справились бы — но тут началось загадочное «бешенство генных структур» (позднее названное генной фугой) из-за которого местные жители стали стремительно взрослеть в двенадцать-тринадцать лет, а в девятнадцать умирал от старости. Земляне ещё застали какие-то остатки населения, но помочь уже ничем не смогли. Последние жители Надежды, заботливо вывезенные с планеты, тихо угасали в земных больницах.
По официальной гипотезе, поддерживаемой земными СМИ, генная фуга была результатом глобального нарушения экологического равновесия в результате чересчур быстрого и несбалансированного промышленного развития. По другой гипотезе, сугубо неофициальной, но на практике разделяемой большинством прогрессоров, полевых историков, и вообще всеми, кто был хоть как-то в курсе дела, это было началом агрессии Странников…
Начался каменный забор, покрытый разводами плесени: сказывалась близость океана. Дальше пошли ряды пустых окон, кирпичный мусор, пыльные витрины лавчонок, продававших невесть когда неведомо что неизвестно кому.
Саша притормозил: возле одной из дверей стоял «стакан». Классический, описанный во всех учебниках по истории Надежды, «стакан» Странников: цилиндр высотой метра в два и метр в диаметре из полупрозрачного, похожего на янтарь материала. Привалов поднял бровь: в прошлом десятилетии эту дрянь почти всю повывели. Тем не менее, в последнее время «стаканы», «стекляшки», и прочие морально устаревшие ловушки на человека вдруг снова начали появляться… Похоже, время от времени оживают какие-то старые программы. После того, как команде Сикорски удалось-таки обрубить подпространственные каналы Странников — жаль, не удалось выяснить, куда же они всё-таки вели — вся эта хитрая машинерия стала постепенно деградировать. Самые сложные ловушки — «подушки», «хрусталики» и «водопады» — просто вымерли. И хорошо, что вымерли: эти штуки были опасны даже для профессиональных прогрессоров.
Принцип действия «подушки», кстати, так до сих пор и не выяснен. Ребята из Института Внеземных культур, конечно, роют носом землю, пытаясь выжать из себя какие-то идеи. Но пока ясно только то, что дело тут тёмное. Похоже на какой-то совершенно новый физический принцип, земной науке неизвестный. И это при том, что те же самые «хрусталики» оказались на поверку всего лишь свёртками пакетов нуль-волн, остроумно закольцованных на внешний контур. Изящное инженерное решение, но не более того. А вот «водопад» — и вовсе забавная штука: разбирались с ним долго, но когда разобрались, выяснилось, что ловушку такого типа можно сделать на порядок проще… Топорная работа. Халтура.
Если спросить любого специалиста по внеземным культурам, что является самым поразительным свойством цивилизации Странников, тот ответил бы сразу, не задумываясь: неразборчивость. Странники с одинаковой готовностью использовали любые технологии, включая технологии каменного века. С одной стороны, некоторые артефакты, найденные в покинутых ими мирах, находились далеко за гранью человеческих познаний. Но вот, к примеру, знаменитые каменные зеркала с Фобоса были отшлифованы при помощи воды и песка. Странники не брезговали ничем. Неизменной оставалась, кажется, только их страсть к янтарину: этот материал они явно предпочитали всем остальным. Хотя в случае нужды легко пользовались любым другим, включая пластик, бетон, дикий камень, и вообще всё что угодно.
Под колесо попал камушек, руль велосипеда обиженно звякнул. Саша стряхнул с себя задумчивость: надо было навести порядок.
Он остановился, сунул руку под клапан комбинезона и нащупал ребристую рукоятку скорчера. Выставил оружие вперёд, нажал на спуск. В последнюю секунду зажмурился. Под закрытыми веками полыхнуло чёрным и оранжевым. В лицо дохнуло жаром, на секунду заложило уши.
Когда Привалов открыл глаза, на месте «стакана» дымилась чёрная яма. Рядом валялась сорванная с петель дверь.
— Что за чертовщина? — недовольный голос донёсся откуда-то из глубин помещения. Через полминуты в дверном проёме появился молодой парень в нелепых брезентовых штанах и блейзере цвета урины. В руке он сжимал пластмассовый пистолетик-парализатор.
Турист. Ещё один. Понаехали тут.
— Здесь был «стакан», — объяснил Привалов. — Все ловушки подобного типа подлежат немедленному уничтожению. Надеюсь, вы это помните? У вас есть оружие?
— Ну стоял. Ну и чего? А если б я тут стоял? У двери? — парень тупо набычился, но не двигался с места. — А кто её ставить на место будет? — выдал он новую претензию. — Вы, что-ли?
— Вообще-то ликвидация «стакана» — ваша прямая обязанность. Он ведь, кажется, появился ещё до моего здесь появления? — в последнюю фразу Саша постарался вложить как можно больше сарказма. Получилось не очень.
— Да ла-а-на, он тут неделю почти стоит, — турист неопределённо махнул рукой. — А чего? Ну, стоит. Есть не просит… — тут его взгляд, наконец, сконцентрировался на скорчере в руке Саши.
— А… так вы прогрессор, значит, — наконец, выдавил он из себя. — Извините, конечно. Мы тут так, играемся, а вы типа дело делаете, — последние слова парень произнёс с едва заметной издёвкой.
Саша опять почувствовал, что остро не любит туристов.
— До свидания, — он сделал над собой усилие, чтобы это прозвучало хотя бы вежливо. Убрал скорчер на место, покрепче взялся за руль, тронулся.
Через полминуты велосипед налетел передним колесом на дымящийся осколок янтарина и обиженно звякнул, ловя подвеской колдобину.
В ухе тихо засвистел микрофончик.
— Алекс, ты на месте? — голос шефа, Рудольфа Сикорски, более известного как Экселенц, был еле слышен. Привалова это раздражало: эти новые штучки на спутанных квантах были довольно-таки громоздкими и неудобными в использовании. Зато, в отличие от волновой связи любого типа, их сигналы не могли быть блокированы или перехвачены даже теоретически. Расстояние тоже не играло роли: если Сашу схватят и куда-нибудь уволокут — пусть даже в другую Галактику — голос в ухе не исчезнет.
— Еду, шеф, — ответил Привалов. — Они уже там? — позволил он себе лишний вопрос.
— Ещё нет, — вопреки обыкновению внятно ответил Сикорски. — Но поторопись. Опоздать к первому контакту…
— Йес-с-с! — состроумничал Саша, чуть было не прикусив язык: велосипед опять тряхнуло. Потом ещё и ещё раз: асфальт кончился, началась брусчатка. Поворот налево, косая тень памятника какому-то местному герою, и он выехал на площадь.
Саша здесь бывал не раз, и каждый раз поражался, насколько площадь огромна: огромное каменное пузо, выпяченное к серым небесам. Вдали виднелась хрупкая чашечка фонтана.
Саша сжал зубы, ожидая тряски: площадь была вымощена диким камнем. Чуть приподнявшись над сиденьем, сильнее нажал на педали. Велосипед со звоном покатился вперёд, щёлкая переключателем скоростей.
До фонтана он доехал без приключений. В мраморной чаше среди тускло поблёскивающих жилок инопородных вкраплений плескалась дождевая вода. Чашу охраняли два мраморных пса с тяжёлыми, потёртыми ветром, мордами. На спине одного из них восседал местный бурый голубь: крупный, раскормленный экземпляр пернатого.
Привалов аккуратно положил велосипед на брусчатку и стал осматриваться в поисках удобного места.
Голубь повёл круглой головой туда-сюда, искоса посматривая на пришельца чёрным глазом с тонким багровым ободком. Саша пригляделся к пернатому. При ближайшем рассмотрении оказалось, что клюв у голубя хоть и короткий, но плоский, а на лапах заметны рудиментарные перепонки. Видимо, предки голубя некогда обитали в местных водоёмах. «Гадкий утёнок» — почему-то подумал Привалов.
Под взглядом человека птица несколько раз тяжело взмахнула крыльями, как бы собираясь взлететь, но потом всё-таки решила остаться.
В конце концов Саша устроился на ступеньке вблизи псов, спиной к фонтану. Откинулся назад, почувствовав спиной спокойное тепло нагретого за день мрамора. С наслаждением вытянул затекшие ноги и приготовился ждать.
14-е октября 73-го года по земному летоисчислению.
Планета Надежда. Второй тёплый сезон. Поздний вечер.
Привалова отправили на Надежду в порядке обычной практики перед первым самостоятельным заданием. До того он успел поработать на новооткрытой планете Лу и на Саракше — сначала под началом Раулингсона, а потом и у самого Комова. Здесь молодому курсанту повезло ещё раз: он угодил в группу сопровождения Рудольфа Сикорски, которому в очередной раз приспичило оторвать тощий зад от начальственного кресла, чтобы лично проинспектировать состояние дел на любимой планете. Сикорски парня заметил и приблизил.
Саша отчасти понимал, почему выбор Сикорски пал на него. Он был молод, сообразителен, перспективен — во всяком случае, ему хотелось на это надеяться — и к тому же безупречно лоялен по отношению к Земле.
Странная это штука — лояльность. Казалось бы, в ситуации, когда никакой разумной альтернативы честной службе на благо Человечества в принципе не существует, подобная проблема просто не должна возникать. Но Саша отлично знал, что случаи измены в рядах КОМКОНа имели место. Редко, но с удручающей регулярностью. Хорошо ещё, если недовольные уходили в диссиденты, как, например, небезызвестный Айзек Бромберг — эти, по крайней мере, не изменяли Земле как таковой. Но случалось и другое — когда матёрые волки, проработавшие во внеземелье лет по двадцать-тридцать, вдруг исчезали на пустяковом задании, чтобы потом проявиться в самый неподходящий момент и всыпать лихого перцу в завариваемый КОМКОНом суп. Хуже того, некоторым особенно ловким изменникам удавалось всерьёз нарушить планы Земли. Привалов мог бы навскидку назвать парочку звёздных систем, информация о которых в последнее время стала подозрительно скудной, а работа по ним — совершенно секретной. Мог бы припомнить и кое-какие имена. Ну, например, имя пресловутого Руди Целмса, за которым до сих пор гонялось половина Управления… Мог, но не стал бы. И ни за что на свете не стал бы заводить такой разговор первым. Потому что в своё время Серосовов, услыхав от Привалова какую-то глупость на эту тему, поморщился и сказал — «у-у, секретами интересуемся… а хочешь, расскажу, что у бабы под юбкой?» КОМКОН жил по принципу «меньше знаешь — лучше спишь», и щенячьему любопытству не потакал.
Увы, по той же самой причине Привалову никто не объяснил, что, собственно, они делают на Надежде. Задания, которые давал Экселенц, были, откровенно говоря, пустяковыми, а то и бессмысленными. Одно время Саша подозревал, что шеф просто испытывает его терпение и готовность подчиняться без рассуждений. Однако, на Надежде торчала и группа боевиков Григория Серосовова, и тоже маялась от безделья. В конце концов Привалов решил, что их держат здесь как засадный полк для какой-то операции, ведущейся, может быть, где-то в миллионах парсеков отсюда. Непонятно было только, зачем их группу нужно прятать на Надежде. Впрочем, Саша догадывался, что отношения КОМКОНа с контролирующими его инстанциями не всегда бывают гладкими — но, опять-таки, не рвался это выяснять. Ему очень не хотелось быть посланным бабе под юбку вторично.
А ведь когда-то — и не так уж давно, честно-то говоря — курсант Александр Привалов, свежеиспечённый выпускник Третьей прогрессорской школы имени Егора Гайдаровича Джемаля, не только считал себя либералом и вольнодумцем, но этим даже бравировал. Ему не нравилось многое из того, что делается в Организации или под эгидой Организации. И он не стеснялся говорить об этом вслух. В том числе и непосредственному начальству. Несколько раз он получал за это нахлобучки разной степени весомости, но никаких серьёзных последствий это ни разу не возымело.
Однажды, в самом начале работы у Сикорски, он набрался наглости выше обычного и спросил самого Экселенца в лоб, кто и почему ему так мирволит. Сикорски не стал долго объяснять, что да как, а просто показал Саше заключение психологов. Из которого стажёр узнал, что по своему психическому профилю Александр Привалов является «стабильным конформистом, органически не способным на бунт против системы». Вечером того же дня стажёр Привалов надудолился вдребезину контрабандным саракшским самогоном и устроил дебош в офицерской столовой, с битьём посуды и мордобоем. За что получил пятнадцать суток условного ареста и нехорошую отметку в личном деле. Впоследствии — когда его рекомендовали на повышение — он случайно узнал, что аналогичную отметку можно найти в досье практически каждого большого начальника в Организации, в том числе и у самого Рудольфа Сикорски. Судя по всему, это была стандартная реакция… Потом Саша не раз пытался вообразить молодого, вусмерть пьяного Сикорски, сосредоточенно крушащего чью-то морду рукоятью любимого «герцога». Получалось смешно.
Единственный минус, который Привалов за собой числил — необстрелянность. Вплоть до самого последнего времени — когда Александру Привалову нежданно-негаданно выпала честь представлять КОМКОН в переговорах со Странниками.
Привалову никто не объяснил, когда и каким образом Странники вышли на КОМКОН. Из вводных Экселенца — который на сей раз осторожничал больше обычного — следовало только то, что Странники вышли непосредственно на руководство Организации, и потребовали переговоров по какой-то проблеме. В чём состояла проблема, землянам заранее сообщать не стали. Известно было лишь, что это как-то связано с планетой Надежда и присутствием землян на ней. Экселенц также счёл нужным сообщить, что, по его ощущениям, необходимость вести переговоры с Землёй не вызывала у Странников энтузиазма: похоже, они были вынуждены пойти на это под давлением каких-то обстоятельств. Впрочем, это были догадки.
Зато о том, почему и отчего на первую встречу с представителями таинственной сверхцивилизации отправлен именно Привалов, Сикорски счёл нужным высказаться. В своей обычной манере — то есть сухо и недвусмысленно.
— Пойдёшь ты. Мы не знаем, какие у них возможности. Я пока не исключаю, что они способны сканировать мозг напрямую. В том числе и читать стёртые участки памяти. Поэтому я не могу направить на переговоры никого, кто знает или хотя бы когда-то знал хоть что-нибудь важное. Вопросы есть?
Тогда Саша уныло ответил «вопросов нет», потому что и в самом деле всё было понятно. Увы, шеф наступил Привалову на больную мозоль. Саша и в самом деле не был причастен к тайнам Управления. Ему даже ни разу не тёрли память: нигде и никогда, даже на Саракше Привалов ни разу не вляпался во что-то настолько секретное или настолько тошнотворное, чтобы начальник подписал ему направление на чистку головы. Теоретически это можно было рассматривать как везение: в конце концов, психокоррекция считалась травмой. Однако же, таких счастливчиков в Управлении за глаза называли «девочками» и относились слегка снисходительно — как к пацанам, не нюхавшим настоящих дел. Напротив, людей с многочисленными дырками в голове уважали. Всё это было, конечно, очень глупо и несправедливо. И всё-таки… В глубине души Саше очень хотелось, чтобы его сомнительное везение, наконец, закончилось.
Как бы то ни было, условия Странников были чёткими и недвусмысленными. Земляне выставляют со своей стороны одного — и только одного — человека. Он должен явиться на определённое место в определённое время и ждать представителей противоположной стороны. Он может иметь при себе оружие, средства связи, и вообще любую технику — всё это не имеет значения. Не рекомендовалось только пользоваться каким-либо земным транспортом, кроме самого примитивного.
От скуки Саша попытался — в который уж раз — проанализировать выставленные условия. На сей раз он решил исходить из гипотезы, что Странники неуязвимы для пулевого и лучевого воздействия, но слишком медлительны. Значит, их нельзя пристрелить, но от них можно убежать, если бежать быстро? Что это за форма жизни? Привалов зажмурился и воорбазил себе нечто вроде бронированной черепахи, потом — какой-то медленно плывущий студень, с чмоканьем глотающий разряды скорчера, потом — кристаллическую конструкцию из сверкающих игл.
В этот момент до его колена дотронулось что-то холодное и жёсткое.
Перед ним стоял каменный пёс — такой же, как те два у чаши фонтана.
Привалов машинально пожал протянутую лапу. На ощупь она тоже казалась камнем.
— Добрый вечер, — пёс говорил на интерлингве. Собачий голос оказался неожиданно высоким, с едва заметным подвыванием на гласных. — Простите за опоздание… всё-таки сюда довольно далеко добираться, а потом ещё натягивать на себя эту шкуру…
Прогрессор немного помедлил, потом всё-таки оглянулся. Так и есть: теперь фонтан охранял только один страж. На месте второго изваяния красноречиво зияла пустота.
— Да, это не моё тело, — пасть приоткрылась чуть шире, из беззубой щели посыпалась пыль и мелкий песок. — В конце концов, все комбинации атомов стоят друг друга… — пёс поднял лапу, пытаясь стряхнуть с кончика носа прилипшую соринку. Камень глухо стукнулся о камень.
— А у вас есть какая-нибудь постоянная форма? — поинтересовался Саша. В середине фразы он сообразил, что забыл поздороваться.
— Увы, увы, — Странник растянул мраморные брыли в подобии усмешки. — У нас вообще нет тел… в вашем понимании этого слова. Да, кстати: я должен извиниться за то, что вам пришлось добираться сюда таким способом, — пёс повёл носом в сторону велосипеда. — Просто я обязан защищать себя — он запнулся, подбирая выражение, — от любых неприятных случайностей. Короче, в радиусе километра никакая земная техника не работает. Кроме простейшей механики.
— Строго говоря, вы не имели права использовать подобные средства, — раздался другой голос, высокий и противный.
Пёс поднял голову. На его спину с шумом сминаемого бумажного пакета свалился давешний голубь. Примостившись, птица предупредительно расправила крылья, демонстрируя готовность взлететь в любой момент.
— Самое время говорить о правах и придираться к мелочам, — огрызнулся пёс. — Ах да, кстати. Познакомьтесь, — пёс повёл мордой, — это третий участник наших переговоров. Так сказать, представитель одной из сторон в этом запутанном деле… Я нахожусь здесь и имею эту форму с его разрешения.
— Вот именно. И не забывайте об этом, — нахохлился голубь. В отличие от пса, он и не пытался имитировать человеческую речевую мимику и держал клювик закрытым. Саша прислушался: звук исходил из живота птицы.
— Что касается дела, — продолжал голубь, — я не вижу в нём ничего запутанного.
— Я знаком с вашей точкой зрения, — отнюдь не вежливо заметил пёс, нервно встряхиваясь и усаживаясь на задние лапы.
Голубь успел ловко перескочить на голову пса и строго посмотрел вниз. Саше на миг показалось, что голубь собирается клюнуть собаку в глаз.
— Напоминаю, — это слово пёс выделил голосом, — что одним из пунктов нашего соглашения является следующее. Говорю с землянином я. Вы либо молчите, либо ведёте светский разговор, либо, наконец, уличаете меня в явной лжи. Всякий переход за эти границы означает немедленное прекращение переговоров.
— Не только, — сварливо заметил голубь. — Я также имею право давать комментарии, касающиеся неясных моментов…
— Скажем проще: не касающиеся сегодняшней ситуации. Можете сколько угодно оттягиваться по исторической части. Но если на сей раз вы начнёте разжигать и клеветать…
— Клеветать? Что вы! Правды вполне достаточно…
Саша с нарастающим удивлением слушал эту странную перебранку, одновременно пытаясь пристроиться поудобнее: спина давала понять, что камень — это всё-таки камень.
— Может быть, вы измените внешний облик? — на всякий случай спросил Привалов у пса. — Например, на человеческий. Как-то проще разговаривать.
— Честно говоря, — пёс опустил голову, как будто чего-то стыдясь, — мы не можем менять форму. Мы можем только занять имеющуюся. И к тому же не очень любим это делать. Всё-таки материя — неудобная вещь. Как бы это вам объяснить… Ну представьте себе, что вам нужно надеть на себя скафандр высшей защиты. Это займёт у вас время, к тому же сильно стеснит в движениях. А теперь вообразите, что, будучи в скафандре, вы надеваете поверх него ещё один, побольше. А потом ещё один, и так сто скафандров подряд. Примерно такие ощущения испытываем мы, внедряясь в материю. А ведь нужно ещё двигаться… Нет, лучше быть чистым духом.
— Похоже, они состоят из суперпозиций гиперполей, — послышалось в ухе Привалова. — Спроси его…
— Ваш уважаемый шеф совершенно прав, — заявил пёс. — Да, разумеется, я слышу эту штуку у вас в ухе. Странно, что она работает… На каком принципе функционирует это устройство? Просто любопытно.
— Не отвечайте ему, — быстро сказал голубь. — У них специальный интерес к технологиям.
— Опять вы с непрошенными советами, — осклабился пёс, — давайте всё же делать вид, что мы переносим друг друга… Ах да, я забыл спросить. Может быть, у нашего уважаемого партнёра по переговорам есть какая-то идиосинкразия на собак? В таком случае приношу свои извинения.
— Я работал с голованами, — вздохнул Саша. Он вспомнил Саракш. Джунгли, пахнущие мокрым железом и горелым машинным маслом. Он не хотел бы снова оказаться там. Хотя, говорят, Надежда в ранний период, пока здесь ещё оставались живые аборигены, была куда более неприятным местом.
— Мы могли бы вообще отказаться от сотрудничества с вами, — нахохлился голубь. — Как бы то ни было, наша задача — исполнить волю нанявших нас…
— Но вы не сможете это сделать без сотрудничества с нами, и сами это знаете, — в том же тоне ответил пёс. — Оставим этот ненужный спор, тем более здесь и сейчас, в присутствии заинтересованных лиц… Мы, кажется, беседовали о постоянстве форм, — Странник демонстративно вытянул шею в сторону Саши. — Так вот, постоянство нам и в самом деле не свойственно. Видите ли, у нашей цивилизации довольно своеобразное происхождение. Мы не являемся единой расой. Фактически, среди нас можно найти представителей почти всех основных галактических рас догуманоидного периода. И гуманоидного тоже. Сами себя мы называем словом, которое можно перевести на земной как «диаспора». С большой буквы: Диаспора. Впрочем, ваше слово «Странники» тоже неплохо подходит: нам часто приходится менять место обитания, в отличие от существ, привязанных к планетам… Только не подозревайте нас в негуманоидном шовинизме, мы ничего не имеем против гуманоидов. Лично у меня в роду были сплошные гуманоиды…
— Не забудьте только сказать, что основатели вашей цивилизации были преступниками, — голубь вдруг широко разинул клюв, сделавшись похожим на басенную ворону в момент катарсиса.
— Следите за выражениями! — пёс тряхнул головой, заставив голубя заполошно захлопать крыльями. — Слово «преступники» тут абсолютно неуместно.
— Ещё как уместно, — сварливо сказал голубь. — Преступник — тот, кто нарушает законы. Ваши предки их нарушали, за что и поплатились.
— Преступники — это одно, а несостоятельные должники — это несколько другое, — назидательно заметил пёс. — Видите ли, уважаемый, э-э-э… Простите, не знаю вашего имени.
— Александр Привалов, прогрессор, — представился Саша.
— Очень приятно. С удовольствием представился бы сам, но у нас, как вы понимаете, звуковые имена не приняты… Вернёмся, однако, к делу. Всё это началось очень давно. Человечества тогда ещё не существовало, как у вас выражаются, даже в проекте. Как и вообще представителей вашего типа жизни. В ту пору центрами силы были совсем другие расы и народы. И отношения между ними были приняты, скажем так… в основном товарно-денежные. Do ut des, как выражались ваши римляне. Даю, чтобы ты дал.
В ухе у Саши послышался отчётливый смешок. Экселенц оставался на связи. Каковы бы ни были возможности Странников, на спутанные квантовые пакеты они всё-таки не распространялись.
— Вы, насколько я понимаю, знакомы с понятием банкротства? — поинтересовался пёс.
— Я работал на Саракше, — ответил Саша, пытаясь отвлечься от неприятного ощущения в затёкших ногах. — Там у них рыночная экономика.
— Значит, знаете. Так вот, некоторые расы в силу разных причин… — гнул своё пёс.
— …то есть неумения правильно распоряжаться своим кошельком… — не преминул добавить голубь.
— Во всяком случае, сейчас у нас совсем другая репутация, — Странник огрызнулся. — Итак, в силу разных причин некоторые расы время от времени оказывались не в состоянии рассчитаться по кредитным обязательствам. Обычное наказание за это — поражение в правах, конфискация имущества, а в особо тяжёлых случаях — запрет на владение какой бы то ни было собственностью, включая планеты. Беднягам пришлось кочевать по Галактике, устраиваясь там, где арендная плата была пониже. Потом законы ужесточили: банкротам запретили владеть какими бы то ни было материальными объектами. Включая наши собственные тела. Хорошо, что к тому времени уже были разработаны технологии переноса сознания на любой носитель…
— …каковые технологии вы украли, когда бежали из своей Галактики. Как всегда, не заплатив за постой, — голубь предусмотрительно растопырил крылья, готовясь в любой момент взлететь.
— Но и плату за постой нельзя было назвать справедливой, не так ли? — неожиданно мягко сказал Странник. — Во всяком случае, потом Диаспора платила за всё. Иногда очень дорого.
— Ага, после сотен тысяч лет спекуляций технологиями, — голубь приосанился. — Их обычный бизнес — купля-продажа научной и технологической информацией. Этот народец ничем не гнушается. Недавно они продали каким-то дикарям секрет огня и колеса. За треть генофонда их расы. За каждого первенца, если уж на то пошло. Потом они продали этих несчастных младенцев в рабство на…
— Мы действуем в строгом соответствии с галактическими законами, — пёс оскалился пустым ртом.
— А торговля военными секретами? — не отставал голубь. — Сколько раз вы продавали оружие обеим воюющим сторонам одновременно?
— Во-первых, не оружие как таковое, а всего лишь принципы его создания. Во-вторых, это справедливо — вооружать сразу две стороны. Мы беспристрастны, — заявил Странник.
— Ну да, конечно. Если бы не вы, в Галактике не случилось бы половины войн. А как вы обращаетесь с теми, кто попал в ваши лапы?
— Что за глупые придирки? В конце концов, что нам остаётся делать? Вы запретили нам владеть тем, что состоит из атомов и электронов. Мы занялись тем, что состоит из битов и мемов. Жить-то надо всем, не так ли? Вот и давайте не будем перебирать чужое грязное бельё.
— Аборигенам Надежды тоже хотелось жить, — съехидничал голубь. — Только у вас оказались на этот счёт другие планы.
— Я не утверждаю, что мы ангелы, — в голосе Странника зазвенел металл. — У нас есть конкретная ситуация, мы все — заинтересованные стороны, вот и давайте работать с тем, что есть. Но сначала закончим с этой утомительной преамбулой. Диаспора с течением времени выплатила все свои долги и даже те чудовищные проценты, которые на них начислили. Нам вернули права, мы снова получили возможность владеть материальными объектами, но к тому времени у нас уже сформировалась своеобразная культура…
— Культура шаромыжничества, обмана и воровства, — встряла птица. Саша, внимательно посмотрев на неё, подумал, что она похожа не столько на голубя, сколько на ворону.
— Ещё раз повторяю: мы не ангелы, но и с нами обошлись жестоко, — пёс вытянул передние лапы и осторожно положил на них каменную голову, прижмурив невидящие глаза.
Саша почувствовал, что у него окончательно затекать спина, и встал, чтобы немного размяться.
— Потом прошло очень много времени, — пёс неожиданно сильно стукнул обрубком каменного хвоста по брусчатке. Хвост отломился у основания и, упав на булыжники, рассыпался на куски. — Извините, Саша, но мне так удобнее. Эта штука сзади очень уж мешалась… Итак, прошло много времени, и в Галактике наступил упадок. Старые цивилизации погрязли в самолюбовании, молодые занялись войнами — а мы не любим ни того, ни другого. Зато Диаспора стала нужны буквально всем: ведь мы всегда были в курсе всех новейших изобретений и открытий, и охотно ими делились. За приемлемую плату, разумеется. Всё шло наилучшим образом, но тут случилось непредвиденное. Одна очень древняя цивилизация, совершенно замкнувшаяся в себе, вдруг снова обратила внимание на внешний мир, и сделала целый ряд величайших открытий. В частности, она обнаружила, что наша физическая реальность — это всего лишь маленькая часть настоящей Большой Вселенной. По сравнению с которой весь этот мир — что-то вроде грязного чулана во дворце. И они решили переселиться во дворец. То есть ушли из нашего мира насовсем. Прихватив с собой все развитые на тот момент цивилизации… кроме нашей.
— Кажется, вы их когда-то очень удачно обокрали? — невинно поинтересовался голубь. — Может быть, они решили, что в их новом мире всем будет лучше без вашего присутствия?
— Я лично их ни в чём не виню. Но можно было бы проявить больше великодушия, — вздохнул пёс. — Так или иначе, мы остались в Галактике практически одни, в окружении диких, примитивных миров. Потом, правда, пошла волна новых цивилизаций, прежде всего гуманоидных… Тем не менее, наследство…
— Подробнее о наследстве, — потребовал голубь.
— Ах да, самое главное. Так вот, Ушедшие оставили здесь, в этом мире, нечто вроде клада. А именно — библиотеку с описанием своих прошлых научных достижений. Возможно, это самая ценная вещь, которая существует в этой Вселенной. И надо же такому случиться, чтобы это богатство досталось недоразвитым идиотам!
— Полегче на поворотах, милейший, — осадил собаку голубь. — Никто не предполагал, что может случиться такой…
— Обосрач, — смачно закончил пёс. — Именно так это и называется на языке нашего уважаемого партнёра по переговорам. Ушедшие оставили нечто вроде завещания. Согласно которому Библиотека достаётся жителям определённой планеты. Той самой, на которой мы сейчас находимся. Разумеется, вручение наследства должно было подождать: к моменту их ухода здесь ещё не было разумной жизни. Так, обезьянки прыгали. Тем не менее, ход эволюции легко просчитывался, равно как и её скорость. Ушедшие включили нечто вроде астрономических часов. Звёзды, как известно, движутся — а рассчитывать их движение на миллионы лет вперёд Ушедшие умели. Так вот: Библиотека будет вручена местной цивилизации, когда планета попадёт в определённую область космического пространства. Во всяком случае, так сказано в их завещании.
— Насколько я понимаю, — осторожно вступил Саша, лихорадочно обмозговывая ситуацию, — вас интересует эта самая Библиотека. Но почему вас так волнует завещание? Судя по тому, что я услышал, — набрался он смелости, — вы… не очень законопослушны?
— Если бы всё было так просто, — заворчал пёс. — Но эти… Ушедшие… они хорошо подстраховались. На всякий случай они оставили здесь своих душеприказчиков. Вот этих, — пёс дёрнул головой вверх, видимо, указывая на голубя.
Голубь буквально раздулся от важности.
— Мы представляем интересы Ушедших, и следим за тем, чтобы законные наследники вступили в свои права, — заявил он.
— А теперь помолчи, птица, — с неожиданной злостью сказал Странник. — Эти голубки были наняты Ушедшими, чтобы присматривать за планетой, — пояснил он. — Обычные наёмники. Болтать вот только умеют красиво. А так — червей жрут, как им и положено.
— Не смейте так о нас отзываться! — возмутился голубь. — Мы — древняя и уважаемая в Галактике культура. И у нас есть полномочия. Достаточные, чтобы решать вопросы, связанные с передачей библиотеки достойным наследникам, — напомнил голубь. — И меньше всего мы хотели бы видеть на месте наследников вас.
— О том, кто чего хочет, мы поговорим позже, — псу была явно неприятна эта тема, — а теперь последнее. Ушедшие сформулировали свои требования так: цивилизация, составляющая большинство населения данной планеты, получает клад. Именно так, в такой формулировке. Это прописано даже в их птичьих мозгах, — Странник опять повёл мордой с сидящим голубем.
— М-мерзавцы, — выдохнул Саше в ухо бдящий на связи Сикорски. Александр машинально кивнул, не понимая, на что среагировал шеф.
Голубь разинул клюв, видимо желая что-то сказать — но промолчал.
— Ваш шеф уже догадался, — вздохнул пёс. — Но поймите и вы нас. По нашему мнению, Ушедшие немного ошиблись в своих расчётах. Неудивительно: в Галактике миллионы звёзд, и все они воздействуют друг на друга… Даже с их возможностями можно было ошибиться. В общем, скорость движения звезды оказалась чуть выше, чем нужно. Она прибывает на указанное место буквально сейчас. Когда мы наткнулись на эту планету, оставалось всего несколько лет до события. Получается, что Библиотека должна достаться этим недоразвитым недоумкам, которые только-только изобрели бензиновый двигатель и атомную бомбу?
— Всё это чушь, — заявил голубь. — Ушедшие ясно сформулировали свою волю, а то, что излагаете здесь вы — домыслы.
— Но этим недоделкам совершенно не нужны знания Библиотеки! — оскалился пёс. — Откровенно говоря, в нынешнем Космосе они сейчас никому не по зубам, кроме Диаспоры. Даже люди, — пёс иронически склонил голову, — учитывая тот факт, что Земля — самая развитая из всех гуманоидных цивилизаций… даже вы не сможете их понять. Возможно, лет через тысячу-другую… и то сомневаюсь. Но заметьте: мы совершенно не хотели уничтожать эту маленький недоразвитый мирок. Да, мы решились занять их место на планете. Временно, сугубо временно, пока не получим наследство. Мы честно пытались договориться с их правительствами, но они не пожелали с нами разговаривать. Думаю, без птичек тут не обошлось, — пёс сделал паузу, но голубь демонстративно промолчал.
— Конечно, Ушедшие позаботились, чтобы с их любимчиками ничего не случилось. Они предусмотрели всё…. ну, почти всё. Эта планета была самой защищённой в Галактике. А за тем, что они не предусмотрели, приглядывали птички… Но в любой, самой изощрённой системе безопасности найдётся, так сказать, щель… в которую мы, некоторым образом, просунули нос. Получилось, конечно, не очень хорошо…
— Короче говоря, бешенство генных структур — это ваша работа, — сообразил Привалов. — Решили очистить планету от населения любой ценой?
— Мне бы не хотелось обсуждать этот вопрос в подобном тоне. Хотя, если вас так интересует концепция вины… Да, в результате наших действий случилось то, что случилось, мы это признаём. Но заметьте: мы всем предоставили шанс спастись. Все, кто пожелал эмигрировать, эмигрировали. Сейчас аборигены Надежды живут и процветают на прекрасной, экологически чистой планете земного типа… далеко отсюда. В сущности говоря, мы сделали им колоссальный подарок.
— Ловушки, — напомнил Саша. — Будки эти. «Универмаги». «Подушки». «Водопады».
— Ах, это… Ну да. Не все захотели уходить. Глупые гуманоиды вообще ужасно привязчивы к тому, что они называют «родиной». Но опять же: мы старались сохранить жизнь и здоровье максимальному числу аборигенов. Вы прекрасно знаете, что ловушки не смертельны. Мы просто перебрасывали отловленных упрямцев на их новую родину. Поверьте, они довольны.
Саша хотел ответить, но пёс перебил:
— Я знаю, что вы на это скажете. Да, исходя из абстрактно понимаемой справедливости, мы в чём-то неправы. Но попробуйте представить себя на нашем месте! Вообразите себе такую ситуацию. Вы потерпели крушение в дальнем Космосе — на дальней, дикой планете, покрытой сырыми джунглями. Ваш корабль неисправен. Для того, чтобы его починить, вам нужна одна-единственная деталь. Скажем, нуль-отражатель гиперпривода. Сделать его сами вы не можете, у вас нет технологий, у вас ничего нет. Но вдруг вы видите в примитивном храме местных дикарей этот самый нуль-отражатель, установленный на алтарь. Когда-то здесь упал земной корабль, он разбился… и они утащили эту деталь, и сделали своим идолом. Поклоняются ему, мажут кровью, поют ему дифирамбы… Так неужели вы не попытаетесь отобрать у них то, что им, в сущности говоря, даже и не нужно? А если они начнут сопротивляться, защищать свою дурацкую святыню — вы пустите в ход скорчер? Так пустите или нет? Или просто уйдёте умирать в джунгли? Ради чего? Чтобы не огорчить этих полуобезьян и их жрецов? Которые, допустим, приносили этому нуль-отражателю человеческие жертвы? Или, может быть, вы верите в неприкосновенность частной собственности? Неужели вы, коммунист, с таким уважением относитесь к частной собственности?
— Значит, — заключил Саша, с трудом сдерживаясь, — вы очистили планету от населения и приготовились занять место аборигенов. Всё шло хорошо. Пока не появились мы.
— Ну, на самом деле всё сложнее… Поверьте, мы искренне сожалеем о случившемся. Ещё раз повторяю, ни о каком геноциде не идёт речи. Все, кто хотел уцелеть, уцелели. Теперь, вкратце — текущее положение дел, как мы его понимаем. Сами по себе земляне не являлись проблемой: вас на планете было немного. Но потом на Надежду, хлынули ваши туристы. Сейчас, к сожалению, они составляют большинство населения планеты. Что, увы, автоматически делает вашу расу наследниками Ушедших. Мы могли бы, конечно, предпринять кое-какие меры. В конце концов, наши возможности очень велики. Но эти твари, — он тряхнул мордой, снова побеспокоив голубя, — на вашей стороне. Не потому, что они любят вас, а потому что ненавидят нас. Мы не обижаемся: нас вообще никто не любит. Но сейчас эти иррациональные чувства вредят нашим долгосрочным интересам, а это куда серьезнее… Короче говоря, мы предлагаем вам сделку. Или — или.
— Сейчас он начнёт угрожать, — прошипел в ухе Привалова Сикорски.
Странник, видимо, услышал.
— Не то чтобы угрожать… просто обрисую некоторые возможности. С одной стороны, мы готовы заплатить Земле. Например, пакетом продвинутых технологий, опережающих ваши… скажем, на двести лет в земном исчислении. Торг, разумеется, уместен. В разумных пределах. С другой стороны, если вы будете упорствовать, мы будем вынуждены применить здесь… что-нибудь из нашего арсенала. У нас есть выбор, поверьте. Да, нам придётся начать убивать землян, как это ни ужасно. Разумеется, мы постараемся снизить количество смертей до разумного минимума. Достаточного, чтобы туристы покинули планету, причём быстро. Мы могли бы, собственно, с этого и начать. Тем не менее, Диаспора не хочет заранее портить отношения с Землёй. Когда-нибудь вы тоже станете нашими клиентами. Хотелось бы на это надеяться.
— Вы ничего не получите, — прошипел голубь, распушив перья. Получилось смешно.
— Мы уже обсуждали это, — безмятежно сказал пёс и нахально зевнул каменной пастью. — Вы можете сопротивляться до последнего. Но и только. Наследство должно быть передано жителям данной планеты. Ими должны стать мы. Поймите, этот мир всё равно достанется нам, так или иначе. Вы или уйдёте добровольно… или всё равно уйдёте. Во втором случае… очень нежелательном для всех нас… люди, как я уже сказал, пострадают. Пострадает и ваша земная гордость: вы ведь считает себя сильной цивилизацией… Если же вы всё-таки перестанете нам мешать, то получите компенсацию за перенесённые неудобства.
— Что ж, — протянул Саша, чтобы хоть что-то сказать, — это, наверное, как-то обсуждаемо, но не со мной…
— Не верьте мерзавцам! — завопил голубь, сбиваясь на пронзительный фальцет. — Они лгут! Они уже начали уби…
Пёс взвился на дыбы, челюсти с треском схлопнулись в воздухе. Голубь взмыл ввысь, надсадно крича и теряя перья.
Каменная собака с грохотом рухнула на брусчатку и разлетелась на мелкие кусочки.
Прогрессор осторожно встал. Отряхнулся. Подумал о том, что теряет форму: похоже, что, падая, он умудрился потянуть сухожилие.
Прямо перед ним валялась отвалившаяся каменная башка. Из сжатых челюстей глупо торчало два бурых пера.
— Н-да, милые тут нравы, — выдавил из себя Привалов, отчаянно пытаясь казаться хладнокровным и ироничным. — Что ж, если хотите продолжения переговорного процесса…
— Это вряд ли, — голос Сикорски стал как-то особенно неприятен: как будто в ухе жужжала большая злая муха. — После разрушения тела им нужно какое-то время, чтобы оклематься. Это хорошо, — добавил он. — Иначе у меня были бы основания для беспокойства. — Экселенц помолчал. — Значит, так. Их защита уже не работает. Через три минуты здесь будет глайдер Серосовова. Он даст тебе инструкции. Операция вступает в активную фазу. Придётся попрыгать.
— Операция? Активная фаза? — не понял Саша.
— Да, конечно, — спокойно ответил шеф. — Совет Планеты в курсе ситуации. Четвёртый Звёздный Флот в полном составе будет здесь часа через два. Накроем планету силовым колпаком, чтобы никто не ушёл. Потом начинаем зачистку.
— А чего же переговоры… — вякнул Привалов, запоздало собираясь с мыслями.
— Ты ничего не понял. Земля не вступает в переговоры с убийцами землян, — отрезал Сикорски.
— Пока что они никого из наших… — начал было Привалов и осёкся: ему пришла в голову очень скверная идея.
— Странники, — Сикорски снизошёл до объяснений, — пошли на эти переговоры только для того, чтобы сбить нас с толку. Потому что мы уже всё знаем. Поэтому мы и здесь. Видишь ли… Туристы с Надежды не возвращаются.
7 февраля 74-го года по земному летоисчислению.
Планета Надежда. Первый холодный сезон. Утро.
Вдоль проспекта наступал, прибивая пыль, дождевой фронт.
Саша чуть притормозил велосипед и втянул воздух ноздрями: в разновидностях и породах дождей он разбирался с детства. Надежда в этом смысле не радовала: яростные шквалы сменялись мелкими подленькими дождичками, смывающими цвета со всего окружающего. Но этот дождь обещал большее: Привалов чуял, что после первой яростной атаки он притихнет и станет таким, каким и должно быть настоящему позднему осеннему дождю — мокрым, тепловатым, с дымным привкусом глинтвейна и ароматом корицы, с еле ощутимой грустинкой в каждой капельке.
В такой дождь хорошо быть дома одному. Отключить ионный фильтр, открыть настежь окно, чтобы дождь барабанил о подоконник и холодные брызги сыпались на пол. А самому — лежать на мохнатом диване, пить чай с пандорским бальзамом и перечитывать старые книжки. Чехова или Минца. Именно перечитывать: в такую погоду не хочется ничего нового. И чтобы комм был отключен, и чтобы до всяких дел и забот оставалась как минимум неделя… Счастье, как есть счастье. Натуральное нестерилизованное. Да где ж его носит-то…
Что-то громыхнуло. То ли гром — гроза стремительно приближалась, — то ли скорчер.
Привалов прислушался. Громыхнуло ещё дважды. На этот раз никаких сомнений — скорчер. Наверное, это Гриша Серосовов со своей группой гоняют очередного голема.
Саша остановился, сообразив, что голем, скорее всего, побежит сюда.
А вот это он зря, решил Привалов. Совершенно зря.
Он успел бросить велосипед у ближайшего открытого подъезда и нырнуть в дверной проём, когда стена дождя накрыла проспект. Длинные косые струи ливня, шипящие потоки воды на асфальте, выстрелы. Саша прислушался: нет, на этот раз это был настоящий гром.
Оказавшись в укрытии, Привалов первым делом настроил уровень защиты. Маленький защитный генератор у пояса — последнее достижение земной техники — экранировал все известные волновые воздействия, отшвыривал быстролетящие предметы вроде пуль и стрел, а главное — отталкивал гиперполевые сгустки, не позволяя Страннику завладеть человеком изнутри. Когда Странники ещё пытались сопротивляться, им несколько раз удавалось, нападая скопом, отключить генератор бойца и вселиться в его тело. Ментозаписи воспоминаний тех, кто это видел, показывали всем в принудительном порядке. Саша такой демонстрации тоже не избежал. Зрелище было жуткое: корчащееся тело, который невидимая сила натягивает на себя, как пальто…
Проверив защиту, прогрессор осмотрелся. Лестничная клетка была похожа на молочный пакет, попавший под танк: пусто и разодрано. В углу серой кучкой обломков лежали остатки обвалившегося лестничного пролёта. На стенах — ошмётки обгорелой краски. Выгоревший дверной проём. Рядом, у стены — характерный оплавленный холмик жирного пепла. Какому-то Страннику не повезло.
Саша на всякий случай заглянул в комнату. То же самое: похоже, всё было выжжено двумя-тремя выстрелами в упор. Скорчер. А может быть, новая штука, которую ему показывал Клавдий. Этот, как его… дельта-ионизатор, кажется. От этой штуки воздух превращается в плазму. В том числе и воздух в лёгких. Занятное зрелище — для тех, кто понимает, конечно.
Жаль, что Странники не умирают на самом деле. До Привалова доходили какие-то слухи о новых разработках в области гашения волновых пакетов. Поговаривали, что принцип уже найден, и через полгода-год уже можно будет поставить на орбиту установочку, от включения которой все твари разом окочурятся. Хорошо бы, конечно… Но смерть голема не означала гибели обитающего в нём полевого сгустка. Кажется, они даже боли не чувствовали. Серосовов вроде бы говорил, что они не любят огня. Что ж, и то хлеб.
Голем показался довольно скоро. Он бежал точно посередине улицы, сгорбившись, в нелепых брезентовых штанах и блейзере цвета урины. На голове моталась туда-сюда мокрая чёрная тряпка. Постороннему могло показаться, что человек спасается от дождя.
Привалов с отвращением узнал его — натренированная память не подвела. Это был тот самый парень, с которым он разговаривал тогда, осенью, когда он ехал на переговоры. А вот интересно: он тогда ещё был человеком или уже нет? Наверное, всё-таки нет: недаром же он был недоволен, что Саша расстрелял «стакан». Они же, наверное, как-то подпитываются от всей этой гадости? Нужна же им какая-то энергия, или что-то вроде того…
Прогрессор встал в дверном проёме, вытащил скорчер и принял стойку Вивера для прицельной стрельбы.
Маленькая фигурка приблизилась.
Интересно, подумал Саша, достану я его первым выстрелом или как? Вылезать под дождь очень не хотелось.
Голем словно почувствовал опасность, чуть притормозил, потом побежал быстрее. Уже можно было разглядеть лицо — молодое, растерянное. Когда-то это был обычный самоуверенный юнец лет двадцати с хвостиком… Господи, которого нет — ну что, что ему понадобилось на этой проклятой планете? Наверное, полетел не один, а с кем-то. С какой-нибудь симпатичной дурочкой, которой приспичило подикарствовать… И нелепо, бессмысленно умереть, чтобы его тело послужило временной оболочкой для суперпозиции гиперполей.
Ничего, подумал Привалов. Сейчас мы эту суперпозицию разъясним.
Голем неожиданно остановился, замахал руками, закричал:
— Саша, вы? Не стреляйте! Не стреляйте, чёрт побери!
— Мы знакомы? — осведомился Привалов, аккуратно беря голема на прицел. Голоса он не повышал: у големов прекрасный слух.
Дождь с новой силой обрушился на мостовую. С голема стекали потоки воды.
— Знакомы, знакомы… Давайте я к вам… Я знаю… вы меня всё равно пристрелите… но поговорим хотя бы.
Не дожидаясь ответа, он потрусил по лужам к подъезду, где стоял прогрессор.
Привалов предупреждающе поднял скорчер. Големы всё ещё иногда пытались нападать. Таких приходилось прибивать подручными средствами. Это было несложно — тела несчастных туристов были по большей части хиленькие, а армировать их изнутри Странники не могли: любые сколько-нибудь заметные отклонения от гуманоидного стандарта немедленно включали генную фугу. Но интеллигентному Привалову не нравилось убивать руками. Никого, даже големов.
— Обратите внимание, — голему было неудобно говорить длинными фразами, не хватало дыхания, — что мы… не пытаемся… использовать серьёзное оружие. Хотя могли бы… устроить бойню… напоследок. Дайте хоть пройти… Мне тут… мокро.
— Обсушить? — Привалов криво усмехнулся и поднял скорчер.
— Только вот этого не надо! — Голем подошёл поближе. Он и в самом деле вымок: по длинным чёрным волосам стекала вода. Тряпка на голове оказалась куском куртки, опалённой по краям: видимо, кто-то достал отражённым выстрелом. — Мы с вами всё-таки… по-человечески разговариваем, а не… Ладно-ладно… если хотите… я тут постою. Всё равно недолго осталось. За мной целая свора бежит. Загнанной дичью быть неприятно.
Саша не опускал скорчера, размышляя, скоро ли появится Серосовов.
— Да… забыл представиться… То есть… не то чтобы представиться… Помните… в начале осени? Попытка переговоров? Вы тогда ещё наш «стакан» разбили.
— Помню, — скривился Саша. — А вы мне нахамили. Терпеть не могу хамья. Вот прямо руки чешутся…
— Извините… Я же должен был как-то… Но не в этом дело. У фонтана тоже был я. В виде собаки, помните? У меня ещё хвост отвалился.
— Помню, — Привалов какой-то частью сознания успел удивиться, что заговорил с этой мразью. — Тогда вы смотрелись лучше, чем сейчас, — только и нашёлся он. Фраза прозвучала глупо.
— Понимаю!.. вашу мысль! — голем повысил голос, перекрикивая дождь. — Хотя… у вас такой тон… как будто… я в чём-то виноват! — в нелепой позе стоящего под дождём голема появилось что-то развязное.
— Вообще-то, — Привалов попытался говорить твёрдо, — с нашей точки зрения вы и есть преступник. Убийца. Вы убили по крайней мере одного землянина. А до того — неизвестно сколько аборигенов.
— Ай! Конечно! Мы все убийцы! А ведь первыми начали убивать голуби. Это же они запустили генную фугу… это бешенство наследственных структур. Они-то пытались уничтожить нас. Но что-то напутали в своей технике. Они хотели прицельно уничтожить тела, которые уже успели занять мы. А в результате выморили всех жителей планеты. Которую обязаны были оберегать. Мы спасли часть населения, когда было уже почти совсем поздно. И теперь…
— Ну да, — Привалов поймал себя на том, что слушает глумливую болтовню голема с каким-то извращённым интересом. — Голуби в этом сами признались. Да, они запустили генную фугу. Потому что вы убивали местных жителей и вселялись в их тела. Все комбинации атомов стоят друг друга, так ведь? Вы их копировали настолько хорошо, что защитные системы планеты не сумели разобраться, кто где, и начали уничтожать всех скопом… — Привалов поймал себя на том, что скорчер довольно тяжёл, если держать его на весу. Но опускать его не хотелось: голем мог в любой момент улизнуть. Далеко не уйдёт, но всё равно упустить его было бы обидно.
Вдоль улицы пролетел бурый голубь, тяжело отмахиваясь крыльями от дождевых струй.
— Послушайте, — зачастил голем, — я хочу сказать одно: мы не хотели… Я про этих несчастных туристов. Не верьте вашему начальству, оно лжёт. Да, мы… воспользовались несколькими телами. Для демонстрации, только для демонстрации! У вас на Земле тоже бывают несчастные случаи… люди гибнут, это же естественно… Но это было всего несколько человек! И мы не планировали массового вселения, что бы вам сейчас не говорили. Всё, чего мы добивались от Земли — переговоров! Но ваши власти… то есть КОМКОН… отказались с нами разговаривать. Они решили пожертвовать всеми земными поселенцами на Надежде, чтобы иметь повод для агрессии. По сути дела, КОМКОН — это кучка военных преступников, скрывших от народа Земли правду. Они предпочли не мирные переговоры, а войну. Тайную войну, скрытую от простых землян. Вас это не возмущает? Совсем-совсем?
— Нет, — вежливо сказал Привалов, перехватывая скорчер поудобнее.
— Ну конечно, не возмущает. Стрелять в ненавистных Странников… ведь это так приятно — стрелять! Хороший выстрел решает все проблемы. Чужие! Ату… ату их. Как это… по-человечески. Как жаль, что Странники неуничтожимы! Но это только добавляет вам ненависти… и зависти. Звериной зависти существ из плоти и крови по отношению к нематериальным сущностям, к чистому духу… Зависть и чувство неполноценности, из которых рождается ненависть. Тупая… слепая… бессмысленная… гуманоидная… — голем подбирался к землянину всё ближе, продолжая говорить. Руками он делал быстрые отвлекающие движения.
Саше стало скучно. Он бросил взгляд на индикатор разрядника (там был выставлен шестой уровень — сжечь, а не взрывать) и послал молнию прямо в говорящий рот.
Григорий подоспел минуты через полторы.
К тому моменту дождь уже успокоился и стал таким, каким надо — мокрым и грустным. На том месте, где стоял голем, вода всё ещё шипела и пузырилась, но пар уже почти не шёл.
Длинный, мосластый Серосовов немного постоял над чёрным пятном, размываемым водой. Сплюнул.
— Чёрт, зря ты его, — вздохнул он. — Я вот умклайдет хотел попробовать.
— Чего попробовать? — не понял Привалов.
— Умклайдет. Сикорски эту штуку так называет,[2] — он извлёк из кармана куртки и подкинул на ладони тяжёлый металлический цилиндрик. — Новая модель. Вчера на базе раздавали.
— А-а, — разочарованно протянул Саша.
Это был «оболочечник», полевая ловушка — точнее сказать, очередная её модицикация, одна из полусотни вариантов, которые сейчас с энтузиазмом клепали земные научники. Предполагалось, что нематериальную сущность Странника можно обернуть в энергетический кокон. Пока что ничего путного из этого не выходило — и, как подозревал Саша, не стоило и стараться. Остальные оперативники, кроме Серосовова, были того же мнения. Только Гриша с его верой в науку упорно продолжал таскать с собой эти штуки и даже пытался их применять на практике.
— Брось, — посоветовал Привалов. — Их надо просто жечь. Всё остальное без толку. Проверено.
Серосовов всё-таки направил цилиндр на грязное пятно. Умклайдет звонко щёлкнул.
— Ну вот. Если там кто-то был, он теперь здесь.
— Думаешь, сработает? — поинтересовался Саша.
— Ну-у… не знаю, — Григорий неуверенно покрутил цилиндрик в руке, потом неожиданно размахнулся и бросил его в лужу. — Ну, если поймал — сидеть тому ублюдку взаперти тысячу лет. Пока аккумуляторы не разрядятся.
— У тебя лишнего дождевика не найдётся? — спросил Привалов.
Серосовов кинул ему пакетик с водоотталкивающей пелеринкой. Александр стал осторожно натягивать её на себя. Тонкая плёнка, растягиваясь, скрипела и бликовала радужными пятнами.
— Он хотел пообщаться, — сообщил Привалов. — Поговорить, так сказать. За жизнь.
— Странно, — равнодушно сказал Григорий. — Они обычно необщительные. Я вообще ни одного такого случая не припомню.
— Он говорил… — начал было Саша, но Серосовов резко перебил:
— Ты шефу докладывайся, а мне не надо. У меня от лишних знаний и так вся память дырявая. Это ты у нас чистенький.
Привалов почувствовал, как кровь приливает к лицу. Серосовов в очередной раз макнул его носом в обычное КОМКОНовское «меньше знаешь — лучше спишь», заодно напомнив о его ментальной невинности.
Гриша, посмотрев на вытянувшееся лицо парня, сжалился.
— Ладно, не бери в голову… Пропахать бы планетку метров на десять по уровню моря плазмой горяченькой. Экологию жалко, да и чёрт бы с ней. Всё равно тут гниль одна.
Саша бросил взгляд на бурого голубя, забившегося от дождя под оконный козырёк.
— Нельзя, — вздохнул он. — Голуби решительно против. А без них мы ничего не получим.
— Библиотека эта грёбаная… — Серосовов посмотрел в сторону пролетевшего голубя. — Не нравятся мне эти пташки. Что-то у них на уме такое…
— Пусть об этом начальство думает, — с удовольствием ввернул Привалов комконовскую премудрость. — Сикорски, например. Твои ребята где?
— Сейчас подойдут. Они там вроде бы нашли ещё одного. Пойдём, что-ли?
Привалов поправил плащ и вышел под дождь.
11 мая 74-го года по земному летоисчислению.
Планета Надежда. Второй холодный сезон. День.
С утра пригрело: особенность этого сезона — короткие неожиданные оттепели, как будто там сверху случайно включили раннюю весну. Когда Саша вышел за порог, с крыши на спину ему съехала лавинка подтаявшего рыхлого снега. Привалов отряхнулся, как кот. Наклонился, зачерпнул с земли немного белой рыхлой мякоти: ему захотелось слепить снежок. Ужатый снежный комок в его ладонях уменьшился втрое, из него потекла талая вода, пахнущая разбитым носом.
Захлопали крылья над самым ухом, и на плечо прогрессору свалился бурый голубь.
— Сегодня, — заявила птица, как обычно не поздоровавшись.
— Здравствуй, — Саша, как обычно, постарался быть вежливым. — Вы это уже вторую неделю говорите.
— Наша звёздная система вошла в область Галактики, указанную в указанную в завещании Ушедших, две недели назад, — важно сообщил голубь несвежую новость. — Синтез кода завершён. Передача библиотеки должна состояться сегодня… В крайнем случае — завтра. Необходимо всё тщательно подготовить. Мы опасаемся провокаций со стороны сами знаете кого. Эти существа на всё способны.
— Да уж, — вздохнул Привалов. — Они такие.
Как ни странно, Диаспора оказалась на поверку не столь уж и страшным противником. После того, как гиперполевые ловушки таки довели до ума и несколько Странников в них попалось, ситуация на планете резко изменилась. Все големы исчезли в один день. Потом Странники связались с КОМКОНом. Их интересовали условия освобождения пленных. Как именно шли переговоры, Сикорский, естественно, не рассказывал — но, судя по некоторым деталям, компромисса достичь всё-таки удалось. Во всяком случае, во время последнего сеанса связи по видеофону старый интриган выглядел явно довольным: зелёные глазища его так и горели. Видимо, Диаспора предложила в обмен на жизнь и свободу своих товарищей нечто очень интересное. Гришу Серосовова по этому поводу даже вызывали на Землю, откуда тот вернулся через три дня с очередной дыркой в голове — чем вызывал у Саши что-то вроде приступа нехорошей зависти.
С передачей Библиотеки тоже возникли всякие сложности. Как объяснили голуби, исходный код Библиотеки находился неизвестно где — может быть даже, в каком-то ином пространстве. Однако, это иное пространство было жёстко связано с определёнными галактическими координатами. После попадания планеты в эту область Библиотека будет неким образом спроецирована — так выражались голуби — в генетический код голубей, откуда она и должна быть выделена. Как это произойдёт, голуби то ли сами не знали, то ли не захотели рассказывать.
День, когда система Надежды доползла-таки до условленного места, ничем не отличался от всех прочих, кроме разве что удивительно красивого заката. Зато голуби вели себя очень странно: сбивались в огромные стаи, падали в полёте, и вообще демонстрировали неадекватность. На следующий день они сообщили землянам, что Библиотека ими получена и сейчас ведётся работа по её сборке. Что представляет из себя эта самая «сборка», они не объясняли. У Привалова возникло подозрение, что птицы просто тянут время, пытаясь выжать из свалившейся на них информации что-то полезное для себя. Но голуби решительно опровергали такие предположения, всячески демонстрируя, что они лишь исполняют волю Ушедших.
— Сегодня, — повторил голубь. — Мы уже договорились с КОМКОНом. Тебе откроют прямой нуль-канал отсюда до Земли.
Саша кисло усмехнулся. С какой-то точки зрения стать восприемником Библиотеки со стороны человечества было почётно, но Привалов отдавал себе отчёт, что отведённая ему роль, по сути, курьерская. Взять, донести, отдать. Интересно, кстати, а как выглядит это хранилище премудрностей? Всё, что Саша знал — так это то, что он сможет унести Библиотеку в одиночку. Значит, это небольшой предмет. Какой-нибудь драгоценный камень, рубин или сапфир, сияющий неземным светом? Или маленький блестящий кусочек металла с наносхемой внутри? Или что-нибудь совсем экзотическое?
— Сегодня, сейчас, — уверенно заявил голубь. — Смотри.
Небо потемнело: приближалась огромная голубиная стая.
— Я ненадолго, — сообщил голубь. — Готовься.
Голубь шваркнул Саши крылом по лицу, слетая с плеча.
«Вот и всё» — подумал Привалов. Ему стало немного грустно. Он задумался о причинах этой грусти, и поймал себя на мысли, что его тяготит мысль о возвращении на Землю. Не то чтобы он успел полюбить Надежду — честно сказать, планета не стоила таких чувств, хотя временами ему здесь было уютно, — но изрядно поотвык от нравов Организации. Сикорски, конечно, гений, но лучше уж, когда он сидит на Земле и плетёт интриги где-то там, за тысячи парсеков… Впрочем, чего уж теперь-то…
Голубь свалился с неба, как камень, и со всей дури вцепился в плечо Привалова мощными когтистыми лапами.
— Готово, — деловито сообщил он. — Итак, — тон птицы сменился на торжественный, как будто в пузе голубя заиграл органичик, — сейчас в вашем лице человечество обретёт сокровищницу знаний древнейшей из галактических цивилизаций. Наша миссия хранителей и оберегателей Библиотеки закончена. Руку протяни, — скомандовал он по-командирски.
Привалов выставил руку, гадая, что произойдёт дальше.
— Ладонью кверху. Глаза закрыть, — распорядился голубь.
Саша честно зажмурился. Через пару секунд птица толкнулась в плечо и шумно взлетела, а в центр ладони упало что-то тёплое.
— Открывай глаза, — донеслось снизу.
Привалов посмотрел на ладонь. Она была испачкана птичьим помётом.
— Прошу прощения, — голубь стоял на снегу, красные лапы наполовину утопали в талой жиже, — но это и есть Библиотека. Она была синтезирована внутри моего тела, — в голосе птицы прорезались горделивые нотки, — и теперь находится в полном распоряжении Земли. Информация закодирована на молекулярном уровне. Ну да вы сами разберётесь. Руки вытирать не вздумай.
— Сейчас откроется нуль-канал до Земли, — прошелестел Сикорски у Привалова в ухе.
— Удачи, землянин, — попрощался голубь.
Прямо на снегу возникло тёмное пятно полутораметрового диаметра. Для того, чтобы обеспечить переброску Библиотеки, Земля использовала ресурсы, которых хватило бы на несколько тысяч обычных полётов. Но рисковать Библиотекой никто не собирался.
Прогрессор, неся перед собой обгаженную руку, вошёл в тёмное пятно и исчез.
2 июня 74-го года по земному летоисчислению.
Планета Надежда. Первый тёплый сезон. Ночь.
Голубь разгребал лапами в темноте кучу гниющего мусора. Куча была большой, но птица была упорна.
Время от времени голубь поднимал маленькую голову к иссиня-чёрному небу с быстро летящими облаками, подсвеченными с изнаночной стороны маленькой местной луной. Мёртвый костяной свет лился со стен разрушенных зданий. Чернел выжженный зев ближнего подъезда.
Наконец, птица нашла то, что искала — небольшой металлический цилиндр, погребённый под кучей гнили.
Голубь посмотрел на блестящую штучку одним глазом. Потом раскрыл клюв, ущипнул металл за край и тут же отпрыгнул назад.
По поверхности умклайдета пробежала дрожь. Внутри что-то зашевелилось: как будто мышь застряла в пакете и пытается выбраться.
— Ш-ш’шр-к’xщ, — тихо просвистело в воздухе.
Голубь поскрёб лапкой землю.
— Говорите на земной интерлингве, — распорядился он. — Я сейчас не могу вести беседы на галактическом. У меня модифицированы органы речи для общения с гуманоидами. Это крайне неудобно, но…
— Выпусти меня… — голос прозвучал тихо и жалобно.
— Разговор, интересный обоим собеседникам, — наставительно заметил голубь, — начинается не с требований, а с предложений. Вам это неизвестно?
— Выпусти, — застонало существо в цилиндрике.
Голубь ничего не ответил и заковылял прочь, чуть покачиваясь вперевалку и загребая перепончатыми лапами.
— Сколько ты хочешь? — донеслось из цилиндрика.
— Как это низко и как по-торгашески, — голубь сделал такое движение шеей, как будто у него свело клюв. — Но если вам угодно общаться на таком языке, извольте: вы сами выбрали подобную стилистику. Назовите свой идентификатор и номер в галактическом банке.
— Но, — сказало существо из цилиндрика. — я же не могу отдать всё, что у меня есть?
— Всё? — голубь издал какой-то глухой звук, отдалённо напоминающий смешок. — Нет, конечно, не можете. Всё — это очень мало. Пожалуй, я пойду. Потом загляну сюда… лет через сто. Или двести. К этому моменту вам, быть может, надоест сидеть в этой штуке. Насколько я понимаю, это гиперполевая ловушка. Остроумное устройство. Земляне — талантливый народ.
— Чего ты хочешь? — блестящий металл снова зашевелился.
— Подумайте лучше вот о чём, — наставительно заметил голубь. — Сейчас вы пленник, жалкий пленник. Аккумуляторов хватит на тысячу двести земных лет. Это очень долго — даже для вас. Итак, вы хотите свободы, и я могу помочь. Если сочту нужным действовать в ваших интересах. Но у меня есть и свои интересы. Я рассчитываю на небольшую финансовую помощь Диаспоры. А также и на вас лично. Вы подпишете контракт на услужение. Скажем, на пятьсот земных лет. Это гораздо лучше, чем сидеть в ловушке.
— То есть все мои деньги, выкуп со стороны Диаспоры и ещё пятьсот лет в рабстве? — осведомился цилиндрик.
— Ну, может быть, кое-что я вам оставлю, — с подчёркнутым сомнением в голосе сказал голубь. — Скажем, процентов пять от общей суммы на счетах. Вы получите назад по истечению срока. Ну и, конечно, я ожидаю щедрости со стороны ваших соплеменников. Вы же так сплочены.
— Пятьсот лет — это немыслимо, — сказало существо в цилиндрике.
— Я не торгуюсь, — голубь сделал головой жест, как будто он чистит клюв. — Мы никогда не торгуемся. Торговаться — грязная привычка, свойственная низшим расам. Таким как ваша. Счастливо оставаться.
Птица захлопала крыльями, тяжело поднимаясь в воздух.
— Подожди, — пискнуло из цилиндрика.
Голубь грузно сел на прежнее место.
— Ещё одна попытка сбить цену, — заявил он, — и я улетаю. Лет через сто, может быть, загляну снова… если вспомню. Но, скорее всего, не вспомню. У меня много дел.
— Я согласен, — голос в цилиндрике дрогнул. — Теперь выпусти меня.
— В делах не стоит торопиться. Сначала я переговорю с Диаспорой о выкупе. Разумеется, я буду говорить от имени землян, которые вас пленили. Мне так проще.
— Я не понимаю одного, — помолчав, сказало существо в ловушке. — Почему вы всё время лжёте? Ведь это когда-нибудь выяснится. Пусть даже через пятьсот лет…
— Мы не лжём, — надменно заявил голубь. — Ложь — это низость, а низость — это ваша прерогатива. Я всего лишь намерен пощадить самолюбие ваших соплеменников, а также сэкономить своё время и увеличить ваши — да, да, именно ваши! — шансы. Ваша раса и вы лично и в самом деле виноваты перед землянами, и ваши денежные мешки им за это платят. Я уже бывал посредником в подобных переговорах, и мне доверяют обе стороны. Думаю, и в вашем случае всё пройдёт успешно. Если же я буду говорить от себя, они будут отвратительно неуступчивы. В этом случае мне может и надоесть эта возня — тем самым ваши шансы освободиться сильно уменьшатся. Поэтому будем считать, что эту идею подкинули мне вы. В сущности говоря, так оно и было.
— Как? Когда? — цилиндрик звякнул.
— Ну, скажем так: ваша ситуация навела меня на определённые мысли, — продолжал разглагольствовать голубь. — Я вовремя задумался: а что посоветовало бы мне сделать существо, подобное вам? Низкое, лишённое понятия о чести, готовое купить свободу любой ценой? Разумеется, в своём воображении я несколько преувеличил ваш интеллект. Впрочем, вы ведь так любите похваляться своим умом. Эту провалившуюся операцию вы ведь тоже представите как очередной триумф вашего прославленного хитроумия…
— Мы представим?.. — существо в цилиндрике даже поперхнулось.
— Вы, конечно, кто же ещё. Ведь это же был ваш план, не так ли? — с удовольствием сказал голубь. — Вы придумали эту дурацкую идею с Библиотекой. Вы уничтожили население ни в чём не повинной планетки. Потом вы навсегда испортили отношения с Землёй. И хуже всего — вы втянули в это дело нас.
— Но это же вы заказали!.. — завизжала железка. — Это же вы хотели уничтожить Землю! И вы нас заставили…
— Вот как, мы что-то заказывали? Не припомню, — голубь шаркнул лапкой. — Ваша раса предложила нам некий план, не посвящая нас в подробности. Мы, по своей доверчивости, согласились участвовать в этой авантюре. Теперь, когда это привело к краху…
— Хватит же! Вы отлично знаете, чьи это были планы!
— План был ваш. Наш был только заказ. Вы его не выполнили. Теперь вы заплатите нам за это. Дорого.
— Когда-нибудь, — зло протявкала металлическая штуковина, — мы с вами расквитаемся. Тогда…
— Что — тогда? — голубь презрительно задрал клюв к темнеющему небу. — Это ваше «тогда» никогда не наступит. Что вы вообще можете? Вы бездарны. Вы торгуете технологиями, не понимая их сути. Вы продаёте дикарям огонь и колесо, а народам более продвинутым — электричество, дизельный двигатель и нуль-транспортировку. Но вы не в состоянии создать что-то своё. Поэтому пробавляетесь грязной работой.
— Вы ничем не лучше, — огрызнулось металлическое существо. — Вы сами никогда ничего…
— Хватит болтовни! Мне хорошо известна ваша манера втягивать собеседника в бессмысленные разговоры, пытаясь что-нибудь выклянчить. К делу. Для того, чтобы вас спасти, мне нужен ваш личный идентификатор и код галактического счёта. Итак, я слушаю…
— Знаете, — сказал голос из цилиндрика, — лучше я подожду. Тысяча двести лет или сколько там? Не так уж долго, на самом-то деле. А вы как-нибудь обойдётесь без наших денег и без моих услуг. Служить ещё какому-то крылатому дерьму…
Голубь посмотрел на цилиндрик одним глазом.
— Вот даже так? Что ж. Вы пожалеете. Очень сильно.
Цилиндрик сильно вздрогнул, как бы пытаясь подняться, но вместо этого покатился вниз, к основанию мусорной кучи, где стыла покрытая тонким ледком мёрзлая лужа. Металл подломил ледяную корочку, и тяжёлая вещица с бульканьем ушла под воду.
— Красивый жест, хотя и нелепый, — сказал голубь, подпрыгнул, расправил тяжёлые крылья и поднялся в воздух.
16 августа 74-го года по земному летоисчислению.
Планета Надежда. Сухой сезон. Вечер.
Рудольф Сикорски расстелил на траве плащ-палатку болотного оттенка и с ненатуральным кряхтением сел на землю. Привалов потыркался рядом, пытаясь как-то пристроиться. Стоять перед сидящим было неуютно и унизительно, садиться на грязную мокрую траву — тоже. В конце концов он сел на корточки, мысленно проклиная психологические приёмчики шефа. Пару раз он удостаивал своего молодого сотрудника доверительного разговора, и оба раза оформлял дело так, чтобы тому было максимально неудобно сидеть.
Внизу, под косогором, текла маленькая речка с тёмной, непрозрачной водой, в которой можно было различить длинные пряди водорослей. Саша некстати вспомнил почти такую же речку на Земле, только через неё был перекинут мостик, а в воде жили блестящие прыгучие селёдки, которые, если отплыть подальше от берега, начинают толкаться в живот и прыгать через плечо. Но в отравленных реках Надежды рыба не водилась уже очень давно.
— Значит, сворачиваемся? — на всякий случай спросил Привалов.
— Значит, сворачиваемся, — подтвердил Экселенц. — Наведём тут минимальный порядок и смотаем удочки. Об этой истории должно знать как можно меньше народу.
— Включая сотрудников КОМКОНа? — с деланным равнодушием поинтересовался Саша.
— Дырку в голову хочешь? В девочках ходить надоело? — Экселенц неприятно хихикнул. — Не торопись. У меня все мозги в пятнах, как у жирафа задница, и меня это совсем не радует… Нет, память мы тебе стирать не будем. Во всяком случае, пока. Я говорю о том, что надо отвадить любопытных. Я пробил через Совет для Надежды статус запретной территории.
— А что теперь-то прятать? — спросил Саша.
— Много чего. Вот это, например, — сказал Сикорски, нашарив что-то в траве.
Это был крохотный обломок твёрдого белого вещества.
— Человеческая кость, — пояснил шеф. — Обрати внимание: фрагмент очень маленький. Тут их много, таких мелких фрагментов. Мы не могли отследить, куда ведут подпространственные каналы, потому что они не вели никуда за пределы планеты. Аборигенов Надежды просто выбрасывали на стратосферную высоту. Откуда они падали вниз, в основном в океаны. Кое-что, конечно, попало и на сушу, но уже в измельчённом, так сказать, виде. Остроумное решение.
— Кто это сделал? — Саша покрутил в руках фрагмент кости.
— Как кто? Странники, конечно, — ответил Сикорски. — Все эти ловушки, «стаканы» и так далее. Мы же с самого начала знали, что это они. Голуби только запустили генную фугу.
— И что, мы будем прятать эти кости? От кого?
— Мы будем прятать всё, что противоречит официальной версии событий. Которая, если помнишь, предполагает, что Странники спасли население Надежды от гибели. Так что, сам понимаешь…
— Я не понимаю, — решился Саша на вопрос, — зачем. им понадобился весь этот спектакль? Уничтожить аборигенов, потом убивать земных туристов… это как-то уж слишком.
— Вот-вот. Типичное мышление гуманиста. На него они и рассчитывали. Гора трупов должна была нас убедить. Нельзя же убить такую кучу людей просто так?
— Можно, — вздохнул Привалов. — Я знаю.
— Ты читал, — проворчал Сикорски. — В лучшем случае слышал. А я — видел, причём неоднократно. А эти дураки в Совете — не видели, а знать не хотят. Я еле убедил их начать независимое расследование… И не торопиться с изучением Библиотеки.
— И всё-таки, что же там было, в этом дерьме? — Саша всё-таки решился сесть на мокрую траву. Сразу стало легче.
— В дерьме-то? Как нам и обещали, знания. Самые настоящие знания древних цивилизаций, — Сикорски отвернулся. — Чертовски опасная комбинация знаний.
— То есть? — Привалов чуть не вывернул шею, пытаясь заглянуть шефу в лицо. Поразительное благодушие начальника и его готовность отвечать на вопросы свидетельствовали… о чём именно это свидетельствовало, Саша пока не знал, но упускать момент был не намерен.
— Ну, смотри, — протянул Сикорски. — Ты всё-таки прогрессор, поймёшь. Представь себе, что какой-то гуманоидной цивилизации среднего уровня развития основной последовательности первой трети…
— То есть где-то между империями и классическим феодализмом? — уточнил Саша на всякий случай.
— Допустим, так… С неба спускаются пришельцы и передают им такой набор знаний и технологий: антибиотики, металлическая броня, строительные технологии, гуманистическая мораль, человеческая жизнь в качестве главной ценности. Но без аграрных технологий, огнестрельного оружия и новых средств транспорта. Что получаем?
— Перенаселение, голод, тяжёлый ментальный конфликт на уровне базовых культурных ценностей, — быстро ответил Привалов. — Дальше — деградационная кривая второго или третьего типа. Ну, это из учебника.
— Всё правильно. Теперь возьмём пример посложнее. Общество в начальной фазе индустриализации. Уже осознаны выгоды централизации производства, не осознана природа рынка как такового. Привозятся военные технологии, социалистические учения и методы массовой пропагады. Варианты?
— Два варианта, — так же быстро сказал Привалов. — Первый — «истощающий расцвет»: сильное, но недолгоживущее социалистическое государство. Надрывающееся под собственной тяжестью и больше не способное подняться никогда, так как человеческий материал израсходован. Ну, как с Россией в двадцатом. Второй вариант — всемирная социалистическая империя, длительная стагнация, потом взрыв активности окраин и деградация по второй модели. Это просчитывали для Саракша. Хонтийцы в это чуть не вляпались… И что?
— Вот то самое. Земле передали очень специфический набор знаний и технологий. Очень продвинутых: у нас таких ещё долго не будет. Но если посмотреть на них с прогрессорской точки зрения, получается очень нехорошая картинка. Какая — говорить не стану, этого не должен знать никто… кроме меня, разумеется. Но мы просчитали модель. В итоге — выход на деградационную кривую через тридцать-сорок лет, потом воронка сужающихся решений и крах. Правда, сначала ожидается научный и технологический бум. Плодами которого, видимо, намеревались потом воспользоваться наши друзья голубки… Но знаешь что? Я почти уверен: этот план придумал человек. Прогрессор. Очень хороший прогрессор. Нужно быть первоклассным профессионалом и знать земную цивилизацию как родную, чтобы изобрести нечто подобное. Я даже не уверен, что мы сумели увидеть все возможные последствия. Чувствуется рука мастера. Думаю, это мой тёзка Целмс, узнаю его стиль… Ты знаешь, кто такой Целмс?
— Да, — ответил Саша, изо всех сил стараясь изобразить отсутствие интереса к предмету. — Я знаю, кто такой Целмс.
— Он был одним из лучших теоретиков нашего времени, — сообщил Экселенц. — И он предал Землю. Он пытался строить на разных планетах общества с уровнем развития, сравнимым с нашим. Скажу тебе больше: ему это несколько раз почти удалось. А сейчас он, похоже, решил заняться Землёй. Если бы не моя обычная подозрительность…
Рудольф Сикорски замолчал.
Саша, затаив дыхание, ждал, что шеф скажет что-нибудь ещё. Не дождался.
— Понятно, — наконец, выдохнул он. — А что теперь делать с голубями? — он тут же мысленно обругал себя за то, что более умного вопроса ему в голову не пришло.
— Ничего не делать, — вздохнул Сикорски. — Справиться своими силами мы с ними не можем. Это очень древняя и очень сильная цивилизация. Жаловаться галактам, даже если мы когда-нибудь до них доберёмся? Бесполезно. Нам просто не поверят. У нас нет никаких доказательств. Птички вне подозрений, как английская королева.
— Как супруга Цезаря, — поправил его аккуратный Привалов.
— Один хрен… Я думаю о другом. Это всего лишь начало атаки на человечество. Пристрелочный выстрел. А я — из последних, кто ещё что-то понимают в этих делах. И я совершенно не вижу того, кому я мог бы сдать дела, когда придёт время…
Саша почувствовал, что задыхается от волнения. Он понимал, что шеф удостоил его… чего именно — он ещё не знал, но такая откровенность со стороны подозрительного Экселенца была чем-то из ряда вон выходящим.
— А где сама Библиотека? — Привалов решил, что он теперь имеет право на кое-какие вопросы.
— Теперь я думаю, — как ни в чём не бывало продолжал Сикорски, — что они могли поступить и хитрее. Например, рассчитать, что их план будет раскрыт, и специально выдать нам набор тех знаний, развитие которых они хотели бы блокировать. Хотя нет, это не удалось бы. О содержимом Библиотеки знал только я. А я стёр себе лишнюю память. Меньше знаешь — лучше спишь.
Он бросил обломок человеческой кости в воду. По воде пробежал едва заметный круг.
— Тот кусок дерьма, которым голуби нас угостили, — наконец, соизволил он ответить на вопрос, — лежит в дальнем пыльном углу Музея Внеземных Культур. Я сам не знаю, где: память об этом я стёр себе тоже. Это записано в документе, лежащем в очень закрытом архиве. Если до него и доберутся, то весьма нескоро.
— Ещё есть эксперты… — Привалов поймал себя на умничанье и тут же попытался оправдаться, — ну да, я понимаю, они тоже… но ведь, говорят, даже из стёртой памяти что-то вытаскивается? Или мы их того… ликвидировали? — он почувствовал, как глупо это прозвучало, и окончательно смешался.
— Много ты понимаешь в ликвидациях. — проворчал шеф. — Напоминаю тебе главное. Сотрудник Управления — это человек, который должен быть готов в любой момент погибнуть по приказу начальства. Более того: сотрудник Управления должен быть готов отдать жизнь по приказу начальства, с которым он не согласен или который не понимает… или о котором даже не подозревает.
— Да, я знаю, — Саша поскучнел. Сентенцию о долге сотрудника он слышал от Сикорски далеко не первый раз. Обычно она означала, что Саше прямо сейчас свалится на голову какая-нибудь нудная работёнка, требующая минимума героизма и максимума добросовестности. Похоже, много обещавший разговор по душам закончен…
— Ни черта ты не знаешь, — обнадёжил шеф, поднимаясь на ноги и покряхтывая. — Ладно. Мне нужно сказать тебе одну вещь. Рудольф Целмс здесь, на Надежде. И, насколько я понимаю, дела его не блестящи.
17 августа 74-го года по земному летоисчислению.
Планета Надежда. Межсезонье. Ночь.
Привалов вошёл в сожжённый дверной проём. Включил фонарь. Кривое жёлтое пятно света, похожее на немытую тарелку, прилипло к пластиковой стене, потом проскребло по полу. Саша поставил фонарь на пол и включил круговое освещение. Всё то же самое: обвалившийся пролёт, ошмётки краски на стенах, выгоревший дверной проём. Кое-где сквозь пепел и грязь проросла бледная травка, напоминаюшая земную крапиву.
Он проверил защиту. Генератор работал нормально. Вообще, всё было нормально, даже как-то слишком.
— Ну и где? — сказал Саша. Ничего более изящного ему в голову так и не пришло, и он чувствовал себя по-дурацки.
— Это вы мне? — донеслось откуда-то сзади.
Саша резко обернулся, хватая пальцами пустоту под мышкой, где должна была висеть кобура скорчера.
— Вы на пол посмотрите, — посоветовал всё тот же голос.
Привалов, мысленно чертыхаясь, разглядел на полу блестящий цилиндрик гиперполевой ловушки.
Умклайдет вздрогнул, качнулся, встал на ребро. Внутри него что-то задвигалось: блестящие бока забликовали.
— Значит, Сикорски послал на переговоры вас, — донеслось из цилиндрика. — Странно. У меня создалось впечатление, что он горит желанием пообщаться со мной лично. Впрочем, это ничего не меняет. Пока что я не не намерен вылезать из этой штуки, — цилиндрик крутанулся вокруг оси.
— А можете? — поинтересовался Саша. — Это ведь полевая ловушка?
— Могу, — сказало существо. — Видите ли… эта модель ловушки не работает. Точнее говоря, почти не работает. То есть она меня удерживает, но недостаточно сильно. Потом ваши учёные кое-что усовершенствовали, и другие Странники попадались уже по-настоящему. Что касается меня, то я вполне могу её покинуть… Но не хочу. Знаете, очень интересные ощущения. Как будто лежишь в гамаке. Очень удобно и вставать не хочется. Хотя можно, так сказать, раскачиваться вдоль силовых линий…
— Ну и как? Хорошо ли вам живётся без тела, Целмс? — Привалов попытался вызвать в себе праведный гнев, которого на самом деле не ощущал.
— Не нужно этой злобы, не распаляйте себя, — цилиндрик встал вертикально. — Она вам не идёт. Давайте лучше о делах.
— Я не очень понимаю, какие у нас дела, — честно сказал Привалов.
Он и в самом деле не понимал. Сикорски, посылая его сюда, был как-то особенно немногословен. Всё, что Привалов извлёк из многозначительного хмыканья и туманных намёков Экселенца — так это то, что информацию о состоянии и местонахождении Руди Целмса продали КОМКОНу голуби. Проку от такой информации было нуль. Хуже того — совершенно невнятным было и само задание. Саша понял дело так, что ему нужно просто встретиться с Руди — или с тем, во что он превратился. Встретиться, выслушать, особенно не хамить, доложиться. Всё. Экселенц, правда, предупредил Сашу, чтобы он не слишком рассчитывал на беспомощность противника. «Это очень хитрый и опасный тип» — проворчал он под нос и велел Саше смотреть в оба. При всём том шеф отправил Привалова на переговоры практически безоружным и без всяких средств связи. Возможно, это были условия другой стороны — хотя, по словам того же Сикорски, Целмс не мог выйти на контакт самостоятельно… В любом случае Саша не мог взять в толк, зачем нужно было соглашаться на подобные условия.
— Не понимаете, значит… — протянуло существо. — Хм… Вам когда-нибудь стирали память?
— Не удостоился, — буркнул Саша.
— После нашего разговора я могу вам это гарантировать. Хотя бы «девочкой» называть перестанут.
Привалов не нашёлся, что ответить.
Умклайдет вытянулся и чуть покачнулся, как бы изображая поучительно воздетый указательный палец.
— Кстати, вот интересная деталька. Стирание памяти — это ведь на самом деле тяжёлая травма для психики. Отчуждение и насилие в чистом виде. Нормальный человек после такой процедуры чувствует себя униженным и оскорблённым, а тех, кто над ним её проделал, начинает тихо ненавидеть. То есть это так в теории. А на практике сотрудники КОМКОНа даже гордятся дырками в голове. Всё, что для этого потребовалось вашим психологам — ввести в обиход слово «девочка», произносимое с нужной интонацией. Дальше включаются сразу два психологических механизма — с одной стороны, классическая сексуализация, выстраиваемая вокруг темы немужественности, и, с другой стороны, столь же традиционный ветеранский комплекс, культ шрамов, якобы украшающих мужчину… Простенько, но изящно. В КОМКОНе хорошие психологи.
Цилиндрик снова качнулся.
— Ваш шеф всё время подозревает меня в каком-то особо изощрённом коварстве, а я предпочитаю простые решения. Просто я придумываю их быстрее, чем он. Что его, собственно, и бесит…
Саше пришло в голову, что надо бы спросить Целмса о чём-нибудь важном, корневом. Иначе разговор явно заходил в тупик.
Он немного подумал. Ничего подходящего не приходило на ум.
— Вы считаете себя человеком? — наконец, выжал из себя вопрос Привалов.
— Теперь я предпочитаю говорить, что мои предки были гуманоидами, — ответило существо в цилиндрике. — Но вообще-то — нет. Кстати, спасибо за это вашему шефу. Однажды он меня чуть не поймал. В открытом космосе, на корабле… так что бежать было некуда. Пришлось воспользоваться предложением Странников, очень кстати поступившем… Теперь я думаю, что больше приобрёл, чем потерял. Один хорошо забытый поэт написал по сходному поводу: и не надо мне прав человека, я давно уже не человек…
— И что вы собираетесь делать дальше? — перебил его Привалов, которому показалось, что разговор опять заворачивает куда-то не туда.
— Не вижу причин докладываться, — умклайдет звякнул. — Могу только сказать, что сейчас моё положение идеально. На меня махнули рукой. Странники не могут меня найти — да и вряд ли ищут. Я для них всё-таки чужой, к тому же они понесли через меня известные убытки…Голуби думают, что я сижу в ловушке и не выберусь раньше, чем через десять веков. Кстати, один такой птичкин сын предлагал освободить меня из ловушки… за приемлемую, с его точки зрения, цену… Как бы то ни было, разыскивать меня специально никто не будет. Как я этим воспользуюсь — пусть Сикорски сам думает. Я могу всё. Например, воспользоваться одним из оставшихся здесь нуль-Т-генераторов и махнуть на любую планету, занять там любое тело… Сейчас я размышляю, не заняться ли мне какими-нибудь ярко выраженными негуманоидами. Признаться, я устал от людей. Люди — тупые, злобные и отвратительно предсказуемые существа. Остальные, впрочем, не лучше… Вот и всё, что я хотел бы сказать вам и вашему шефу… Хотя нет, это как-то невежливо. Пожалуй, подкину вам пару фактиков на десерт. У вас наверняка есть вопросы по текущей ситуации? Например — почему и отчего вымерли аборигены Надежды…
— А что тут непонятного? Их уничтожили Странники вместе с голубями, — с недоумением сказал Саша. — Этим, как его… бешенством генных структур.
— И кто же, по-вашему, запустил генную фугу?
— Голуби, — сказал Привалов. — Странники потом прикончили оставшихся. Они этого даже не отрицают.
— Вот-вот, не отрицают. Им хочется, чтобы вы думали, будто у них есть такое оружие, как генная фуга. Успокоить вас, что-ли? На самом деле ни те, ни другие этой технологией не обладают. А те, кто её изобрёл, давно мертвы.
— Вы хотите сказать, что вся эта история про Ушедших имеет под собой что-то?.. — не поверил Саша.
— Нет, конечно. Давайте по порядку. Дело в том, что ту шутку, которую голуби попробовали провернуть с Землёй, они сначала попробовали на этой планетке.
— То есть? — не понял Привалов.
— Очень просто. На Надежде имелась примитивная технологическая цивилизация среднего уровня развития. Люди жили, коптили небо, портили экологию… всё как везде. И вот однажды с неба спустились голуби и рассказали им, что они, эти людишки, являются законными наследниками неких галактических исполинов… И одарили бедолаг Библиотекой. С очень опасным для этой цивилизации набором знаний. Освоение этой информации привело к быстрой деградации и коллапсу человечества Надежды, но сначала имел место научный и технологический бум. Голуби на это и рассчитывали. Им удалось подсмотреть и украсть почти всё, что успели напридумывать местные… кроме этой последней выдумки. То есть генной фуги. Так что аборигены истребили себя сами. И унесли с собой в могилу секрет. Странники, правда, подрядились его добыть. Зачем, по-вашему, нужны были все эти ловушки на людей? У всех, проходивших через них, сканировался мозг: они надеялись отыскать учёных, ещё помнящих последние разработки… Но, похоже, местные бедолаги сами не поняли, как у них получилось такое. Вот и всё… Потом голуби решили проделать ту же штуку над гуманоидной цивилизацией более высокого уровня. Земляне как раз подвернулись под руку.
— Допустим, — сказал Саша. — А кто составил тот набор знаний, который прикончил Надежду?
— Сами знания голуби купили у Странников. Вернее, выменяли на часть долга. Странники давно расплатились со всеми долгами, но голубям они всё ещё должны… А смесь делал я, — не стал отрицать Целмс. — Я же специалист по сверхбыстрому развитию гуманоидных цивилизаций. Наверное, мой тёзка что-то об этом рассказывал?
Привалов кивнул.
Металлический цилиндрик, содержащий в себе разум Рудольфа Целмса, снова изменил форму: теперь он напоминал маленький бочонок.
— Так вы, значит, очень хотите дырку в голову? Получайте. То, что я вам расскажу сейчас, гарантирует вам глубокую чистку памяти. Дело в том, что байки о моём дезертирстве не вполне соответствует действительности. То есть официальная легенда была именно такой. На самом деле всё несколько сложнее. Меня объявили дезертиром для того, чтобы я выполнил ряд особо деликатных заданий КОМКОНа. Иногда бывает необходимо проводить кое-какие эксперименты над отдельными цивилизациями… несколько выходящие за рамки разрешённого Советом Планеты и прогрессорским кодексом… Сикорски использовал для этих целей меня. Первым моим заданием в новом качестве была программа ускоренного развития Островной Империи на Саракше. О, это было очень эффектно! Старикашки в Совете Планеты обделались от страха, когда им показали, что такое агрессивная цивилизация, обгоняющая по темпам развития Землю… Обосрались. И предоставили КОМКОНу дополнительные полномочия. Чего Сикорски, собственно, и добивался… Я его понимаю, кстати. Ваш Совет Планеты — и в самом деле сборище старых пердунов и перестраховщиков. Они только и думают, как бы лишить КОМКОН остатков власти. Единственное, на что они ещё иногда ведутся — так это на явную и очевидную угрозу безопасности Земли. Так что приходится время от времени устраивать большой шухер, — металлический цилиндр окончательно скатался в шарик.
— Неужели вы думаете, что я вам верю? — Саша прищурился: света было мало.
— Нет, не думаю. Просто у меня есть такая привычка: объяснять всё подробно. Ваш шеф, разумеется, сотрёт вам память, но хотя бы сейчас вы будете понимать, что к чему… Мне так удобнее, знаете ли… Итак, всё началось с моей работы на Саракше. Я отдавал себе отчёт, что после такой работы обычной дыркой в голове мне не отделаться. Но другого шанса опробовать свои научные разработки в деле у меня не было… А потом я пересёкся со Странниками и у меня появились новые возможности. И я, так сказать, сорвался с крючка.
— Руди, не ври, — в дверном проёме появился длинный тощий силуэт Сикорски. — Ты взялся за эти дела не из любви к науке.
Саша ощутил что-то вроде постыдного облегчения. Шеф здесь. Шеф его не бросил. Шеф контролирует ситуацию. Сейчас шеф вытащит какую-нибудь специальную штуку и прикончит, наконец, этого Целмса. Или хотя бы запрёт его в ловушке, навсегда. А ему, Привалову, выпишет направление на стирание памяти. И это будет здорово. Не потому, что его перестанут звать «девочкой», а потому, что об этом разговоре он и в самом деле хотел бы забыть. Меньше знаешь — лучше спишь. Наконец-то он это прочувствовал по-настоящему.
— Ты всё-таки пришёл, Сикорски? — разочарованно протянул голос из умклайдета. — Кстати, брось ты эти намёки. Мальчик может подумать обо мне плохое. Да, ты меня шантажировал. Но чем? Всё тем же превышением служебных полномочий. И что ты мне тогда сказал?
— «Если тебе нравится нарушать инструкции, у тебя будет такая возможность» — вот что я тебе тогда сказал, — проворчал Сикорски. — Теперь я хочу тебе сделать новое предложение того же плана.
Привалов не сводил глаз с опасного кусочка металла. Ему было понятно, что шеф тянет время. Значит, готовится захват. Может быть, уже сейчас ребята Гриши Серосовова подтаскивают сюда какую-нибудь суперполевую ловушку. Интересно, Целмс это понимает? Скорее всего, да. Значит, надо быть начеку.
— Я предлагаю тебе вернуться, Целмс, — продолжал Сикорски. — Вернуться на работу. В КОМКОН. Хватит бегать по всему космосу и работать на всякую шелупонь.
— И в каком же это виде я вернусь? — ехидно поинтересовался голос.
— Насколько я тебя понимаю… — медленно проговорил шеф КОМКОНа.
— Вот так? — цилиндрик вздрогнул. — Ну что ж. Обещать заранее ничего не буду, но это стало бы для меня неким серьёзным аргументом… демонстрацией добрых намерений.
— Хорошо, — сказал Экселенц. — Саша, подойди сюда.
Привалов подошёл к шефу, опасливо косясь на цилиндрик.
Сикорски молча протянул руку к поясу Привалова и отключил защитный генератор.
Умклайдет упал набок и жалобно звякнул, как стрелянная гильза.
В тот же миг лицо Привалова исказилось. Он упал на колени, нелепо взмахивая руками, потом завалился набок и забился в судороге. Невидимая сила натягивала на себя его тело, как пальто.
Голем поднялся с пола, пошевелил пальцами, покрутил головой. Ущипнул себя за щёку.
— Ну как? — осведомился Сикорски.
— Н-ничего, нормально, — сказал Странник голосом Саши. — Нервное волокно работает, органы чувств функционируют… Крепкий был парень.
— Я правильно понял, что тебе понравилось именно это тело? Ты ведь выбрал Привалова для того разговора не случайно?
— Ну… в общем, да. Хорошо, что ты понял меня правильно.
— «Загнанной дичью быть неприятно». «Всё, чего мы добивались от Земли — переговоров». «Мы не пытаемся использовать серьёзное оружие». Ну и всё остальное. Я всё-таки не идиот и умею выделять ключевые фразы.
— На самом деле, — вздохнул голем, — я предпочёл бы Серосовова. Но он не стал бы со мной разговаривать. А мне нужна была гарантия, что я успею сказать всё что хотел. И что эта информация попадёт к тебе.
— Серосовова я бы тебе не дал, — подумав, ответил Сикорски. — У него богатая биография, полно всяких знакомых… человек на виду. А Привалов подходил идеально. Новичок, чистый лист. Особых претензий нет, ни в чём особенно не замешан, даже ни одной дырки в голове не было… С другой стороны, он находится в моём непосредственном подчинении.
— Я рассуждал сходным образом… Не жаль парня, кстати? — осведомился голем, разминая пальцы.
— Жаль, разумеется. Из него мог бы выйти вполне приличный прогрессор. Или ты о чувствах? Он был прогрессором и погиб во время операции, выполняя приказ. В сущности говоря, ему очень повезло: его смерть была не бессмысленной. В отличие от смерти подавляющего большинства людей. Напомню: при реформировании Островной Империи погибло около сорока миллионов человек. Насколько я помню, эту цифру заложил в расчёты ты сам — когда делал проект. Потом при ликвидации созданной тобой конструкции погибло ещё столько же. Ты это знал, и я это знал.
— Вот именно, вот именно. И ты предъявил мне претензии по этому поводу. Помнишь наш последний разговор? Ты запретил мне делать новый проект по Гиганде. Якобы из-за «излишних потерь»…
— Ты хочешь, чтобы я признал свою ошибку?
— Вряд ли ты гонялся за мной по всему космосу, чтобы признать свою ошибку.
— Почему же? Я хотел тебя убить, это правда. Это значит, что я считал тебя своей ошибкой. Теперь, пожалуй, я так больше не считаю. Добро пожаловать домой, прогрессор. У нас много работы.
— Домой? На Землю? Смелый ход. Но ты рискуешь, Руди, — усмехнулся голем, — я ведь могу и поменять шкуру… Например, на твою.
Шеф КОМКОНа ухмыльнулся.
— Ты нас недооцениваешь. Моё тело ты не получишь. Как и тела сколько-нибудь серьёзных людей. Все они достаточно напуганы возможностями Странников, чтобы жить с генераторами у пояса. Впрочем, скоро мы будем их имплантировать. Что касается всех прочих… даже если ты поменяешь десяток туш, мы тебя всё равно найдём. И на этот раз ты окажешься в настоящей ловушке. Скорее всего, навсегда. Но пока ты в теле Привалова и под моим личным прикрытием — считай, что тебе ничего не грозит.
— Я ещё не согласился, — напомнил Целмс.
— Когда ознакомишься с заданием, согласишься, — без тени сомнения заявил шеф КОМКОНа. — Работа на Земле. И по Земле.
— В чём проблема? — поинтересовался голем.
— Мы будем обсуждать это здесь? — проворчал Сикорски. — Мне хотелось бы присесть. У меня, знаешь ли, болят ноги…
— Мы будем обсуждать это здесь, — отрезал Целмс. — Иначе разговор не получится.
— Хорошо. Вкратце — нужно немного почистить Землю. Прессануть кое-каких опасных… или потенциально опасных людишек. Кстати, ситуация на Надежде оказалась в этом смысле достаточно полезной: кое-кого мы… э-э-э… записали в туристы задним числом. Помнишь, кстати, то тело, которое ты носил?
— Тот парень в дурацком блейзере? Помню. Кто он был?
— Неважно кто. Один из наших клиентов. К сожалению, родственник Горбовского, его смерть расследовали очень тщательно… Мы едва заманили его сюда. Пришлось использовать девушку… не люблю я этого. Дешёвый приём. К тому же девушка была вполне ничего…
— Что, не успел попробовать? — брезгливо прищурился голем.
— Не идиотствуй. «Вполне ничего» — в профессиональном смысле. Как бы то ни было, эта катавасия с Библиотекой была для КОМКОНа большой удачей. Но нам нужно что-то понадёжнее. Мы не можем ждать милостей от природы, организовать их — наша задача. Самое неприятное, что некоторые из намеченных к ликвидации — известные персоны. В узких кругах. Ну, например, тот же Содди.
— А, это который математик? Занимается теневыми функциями?
— Он самый. Фигура не публичная, но кому надо, тот знает. Если его убрать, начнётся расследование силами Совета. Или вот Альберт Гужон. Агрофизик. Он лезет куда не надо, но у него есть покровители в очень высоких сферах. Эти люди занимаются очень опасными исследованиями, которые нужно пресечь. Но если их просто шлёпнуть в патоку, тот же Бромберг подымет вселенский визг. А вообще-то в нашем списке около трёхсот персоналий. И этот список будет пополняться. Нам нужен простой, дешёвый и легальный способ ликвидации таких людей.
— Предлагаешь нанять Странников для вселения в их тела? Учти, это будет стоить недёшево.
— И это тоже. Но я сказал — нам нужен легальный способ. Нужно, чтобы очередное исчезновение… или резкое изменение поведения человека, сколь угодно известного, ни у кого не вызывало никаких вопросов. А ещё лучше — острое желание немедленно о нём забыть. Чтобы никто не гнал волну против ветра. И всё это нужно спроектировать в приемлемой для современной земной цивилизации форме.
— Хм. Кстати, откуда эта фраза про волну? Кажется, из Джемаля — про ветер, не поднимающий волн? «Ориентация — Север»?
— Только зубы мне не заговаривай, — поморщился Сикорски. — Ты уже успел нахвататься у Странников скверных привычек. Так — да или нет?
— Красивая задачка, — признал Целмс. — Но зачем? У КОМКОНа не хватает власти?
— Чушь, — отрезал Сикорски. — Исследования, которыми занимаются эти люди, очень опасны. Человечество не готово к этим знаниям. А старое дурачьё во Всемирном Совете радостно приветствуют идеи «вертикального прогресса» и прочей опасной чепухи. Они не понимают, что для веселия планета наша мало оборудована, а человечество состоит из кретинов, которым нельзя давать спички в руки. Они просто не хотят об этом думать.
— Они просто хотят облегчить себе жизнь, — заметил Целмс. — И ты хочешь того же самого.
— Я забочусь о безопасности человечества, — отрезал Сикорски.
— Кстати, — Целмс сделал паузу, — давно хотел тебя спросить, ещё тогда, раньше… Ты ведь не любишь людей, Руди. Ты очень не любишь людей. Не так ли?
Шеф КОМКОНа нервно зевнул, прикрывая рот ладонью. Потом медленно кивнул.
— Допустим, я не люблю людей. Но именно поэтому я способен их защищать — от них же самих и от их врагов. Я хорошо понимаю врагов человечества, мне несложно прочувствовать их логику. У меня, как ты знаешь, это хорошо получается. А я люблю делать то, что у меня хорошо получается. Поэтому я люблю свою работу. Как видишь, никаких противоречий нет. В сущности говоря, человек, одержимый сентиментальными чувствами к себе подобным и думающий о людях лучше, чем они того заслуживают, профессионально непригоден…
— Ага, — голем растянул губы, пытаясь улыбнуться, — «в сущности». Голуби рассуждают схожим образом…Впрочем, неважно. Я разделяю твои чувства в достаточной мере, чтобы работать с тобой.
Сикорски молча кивнул. Наклонился. Подобрал с грязного пола пустой умклайдет.
— Возьми на память.
Целмс покрутил цилиндрик между пальцами.
— Хорошая штука, символическая. Ловушка, из которой можно убежать… Люди, сидящие в ловушке… Ловушка цивилизации, из которой есть выход для избранных … Кажется, у меня появляется что-то вроде идеи. Мне нужно подумать.
— Только не здесь, — твёрдо сказал Сикорски. — Мы идём на базу. Веди себя адекватно. В смысле, как Привалов. И на будущее: поменьше контактов с Серосововым и его людьми: вы много общались, они могут что-то заметить. Хм… нужно какое-то объяснение. А, ну да, конечно. Я сегодня же сделаю отметку в твоём личном деле — о глобальной чистке памяти. Пусть думают, что ты, наконец, обзавёлся приличного размера дыркой в голове.
Зина
Андрей Валентинович со вздохом отложил в сторону томик «Поэзии вагантов»: пора было садиться за стол и вытаскивать из себя первую фразу для аннотации.
Он так и сделал — выпил, зажмурясь, водки «Русский Бриллиант Премиум», потом открыл глаза и написал: «В одно отнюдь не прекрасное летнее утро на голову Зине Вагиной свалился целый ушат неприятностей».
В былые времена, когда профессор Андрей Валентинович Пенсов мог позволить себе не читать ничего, кроме классической литературы (не считая, конечно, свежих выпусков «Цитологии и гистологии» и иностранных научных журналов), он счёл бы такое начало текста относительно приемлемым. Однако, времена изменились. Литературному негру Пенсову необходимо было заботиться о потребностях аудитории — широкой, но привередливой. Поэтому, внимательно осмотрев со всех сторон проклюнувшуюся фразочку, он покачал головой, всё похерил и начал снова: «Ну и денёк! Невероятные события просто падают на голову простой русской женщине Зине Вагиной!» Вышло гораздо гаже, но всё-таки ещё недостаточно блевотно, а значит — не вполне форматно. Пенсов же отлично знал, что регулярно получает свой корм именно за точное попадание в издательский формат. Засим Андрей Валентинович вымарал маркером «денёк» и прочее, а поверху залепил: «Простая домохозяйка Зина Вагина затевает новое частное расследование: украден ридикюль, в котором — важнейшая улика, удостоверяющая отцовство сына её лучшей подруги. Ведомая женским чутьём, а также советами духовного наставника, старца Нектария, она выходит на след похитителей…»
Дальше покатило само, гелевая ручка таракашечкой побежала по бумаге, исправно оставляя на ней свои выделения. Три абзаца нахуярились сами, а на закусняк слепилась стопудово форматная концовочка: «…но держитесь, враги, наша крутая Зинулька вас всех ещё отымеет! Вот только с кого начать?»
За время писательской практики у Андрея Валентиновича образовалось сколько-то полезных делу привычек. Например: начинать всегда с аннотации, как можно более хамской — она задавала тон и ориентир всему остальному. Дальше надо было родить название книжки, и сразу же, пока оно ещё живое булькает — замутить начало второй главы. Название хорошо рождалось под лафитничек с беленькой, на закусон — мятная конфетка. Вообще-то Пенсов водовку не жаловал, предпочитая коньяки и арманьяки, но вот рожать заголовок новой книжки без жёсткой алкогольной анестезии не мог. Иногда, впрочем, он с ужасом думал о том дне, когда он сядет за стол и спокойно, без мучений, даже не повернув головы кочан, возьмёт и напачкует какую-нибудь развесистую сюсявость. Типа — «Буря огненных стрел», славянское фэнтези. Или «Отвези меня за седьмое море», любовный роман. Или… — а вот сейчас как раз пора, ёпрст, оппаньки! — и конфеткой следом кусь-кусь, — м-м-м… м-м-м… «Цыплёнок в табакерке», иронический детектив для дам-с. А что, классное названьице: и форматно, и на хихик пробивает. Ах да, надо ещё добавить «Зину». «Зина с цыплёнком в табакерке?» «Зина против Цыплёнка в табакерке?» А вот нефиг. Сделаем просто. «Зина: Цыплёнок в табакерке». Автор — Дарий Попсов. Буээээ! Уффф.
Теперь надо было начинать вторую главу, пока не остыло.
«Глава вторая» — черкнул профессор на свежем листке. И не давая себе времени опомниться и продышаться, продолжил чирюкать: «Зина устроилась на унитазе и пригорюнилась. После вчерашней бурной ночи отчаянно ныла растревоженная женская снасть. С головы вместо элегантной причёски свисало какое-то сено, на шее красовался огромный засос. Рыжая шмара, похоже, удрапала с Толяном, а платок со следами спермы старого сквайра…» — Пенсов вовремя поймал незаметно прокравшееся в текст учёное словцо, прихлопнул, вписал на его место «старого англичанина» — и продолжил: «… можно было считать навсегда потерянным вместе с ридикюлем. В соседней квартире полупьяные молдаване, матерясь по-румынски, штробили стены под евроремонт. Короче, неделя начиналась неудачно во всех отношениях».
Не перечитывая, не останавливаясь, не давая себе передыху — истребив только слово «растревоженная», слишком сложное для массового сознания — он высадил на бумагу второй, третий, четвёртый абзац. Главная фичёра была именно в безостановочности процесса: думать приходила пора впоследствии, когда бред, сочинённый во второй главе, надо было как-то объяснить — для чего, собственно, и писалась глава первая. Потом сбоку присобачивалась третья, и дальше всё шло по накатанной колее без остановок. В какой-то момент Пенсов чувствовал, что пора бы уже и пересаживаться за комп. Тут он уже разгонялся по полной — только клавиши трещали, как сырые дрова в буржуйке. На десятом-одиннадцатом листе он обычно врубал музон: что-нибудь из Джо Дассена или «Томбе ля неже», которую мог слушать бесконечно.
Сегодня ему случилось посидеть за компом дольше обычного. Правда, сперва пришлось всё-таки на пару минуточек включить голову: надо было придумать какую-нибудь душещипательную интригу с обспусканным платочком. Это, положим, взяло не пару минуточек, а где-то с полчасика чистого вре, зато потом дубинушка таки ухнула, зелёная сама пошла: настенные часы пробили восемь, когда Андрей Валентинович, наконец, утомлённо отвалился от компьютерного столика. Посмотрел в окно: там было пусто и сумрачно. В середине неба была луна, прищемлённая тучами сверху и снизу, как гамбургер. В голове всплыло: была какая-то сказочка про то, как Луну делают немцы в Гамбурге. Братья Гримм? Непохоже что-то. Он хмыкнул, накапал пол-лафитничка водовки. Потом, рассудив обстоятельства, добулькал доверху. Выпил. Отмороженные мозги чуть согрелись, и Пенсов, наконец, вспомнил, что про Луну — это Гоголь, «Записки сумасшедшего».
Ему иной раз приходило на ум, что грязное занятие, которым он пробавляется, и высокая культура, которую он почитает, различаются не как вода и масло, которые не смешиваются по своей природе, а, скорее, как белок и желток в яйце: достаточно чуть повредить тонкую оболочку желтка, чтобы жёлтая вкусняшка вытекла в неопрятную белую слизь. Поэтому он старался не соприкасать две сферы жизни даже мысленно. Иногда, впрочем, случались проколы. Как, например, в начале года, когда ему заказали допереводить «Психологию личностного роста», сочинение некоего Джорджа Козловичи, профессора то ли из Бостона, то ли из Принстона — в общем, из тех краёв, где учёные занимаются наукой, а не проституцией. Зачем Хапузов купил права на эту самую «Психологию», профессор так и не узнал. Видимо, по ошибке. Чтобы получить с паршивой овцы хоть клок зелёной шерсти, шеф решил опустить текст до уровня гламура. Андрей Валентинович вместо этого увлёкся, начал делать какие-то выписки, перепроверять ссылки, добавлять академической ясности — и охолонился, когда до сдачи осталось четыре дня, а первые главы Жорик завернул со словами: «Это чего такое ваще? Я же ясно, сказал, сто раз, блядь, повторил: текст надо бодяжить, а не грузить, бодяжить, блядь, а не грузить, нах…» Он произнёс ещё много слов, от которых даже у привычного ко всему Пенсова затряслись губы и покраснела шея. В тот же день он сел и разбодяжил эти несчастные три главы до полных тошнотиков, а за оставшиеся дни успел сбацать, помимо остатков «Психологии», ещё и книжицу «Худеем без диеты».
С тех пор он чётко делил попадающееся ему на жизненном пути сущее на две половины. В одной была водка, компьютер, Зина Вагина и прочая свинцовая мерзость постсоветской жизни. В другой — коньяк «Croizet VSOP», хорошие книги, редкие встречи с оставшимися в Москве друзьями. Кроме науки, к сожалению. Последний раз он просматривал «Цитологию и гистологию» пять лет назад, и убедился — никакой цитологии, да и биологии вообще в России больше не существует, тема закрыта с концами.
Он выключил комп, встал, запахнул шёлковый домашний халат и отправился на кухню, где его ждали два сырых яйца, тефлоновая сковородка и сын.
* * *
Дементий сидел на подоконнике и смотрел на улицу. На улице бестолково цвели раскоряченные липы, под ними коротала время иномарка военного цвета. Люди в белых рубашках с короткими рукавами, заинтересованно засунув хрюсла в жёлтую прессу, неспешно стекались к бульвару. Пенсов-младший смотрел на всё это с обычной отсутствующей улыбочкой, задумчиво накручивая на палец длинную белую прядь.
Сын у Пенсова образовался, можно сказать, случайно. Андрей Валентинович женоненавистником не был, но полудённый бес посещал его редко. Женился он, так сказать, в зрелом расцвете, на дочке академика Кушелевича. Дочка, Настенька Кушелевич, интеллигентная женщина ахматовского склада, имела два образования и английский, была начитана и остра на язык, знала толк в дорогом куреве, и, как всякая уважающая себя интеллигентная женщина, страдала мигренями, резко обостряющимися при виде брачного ложа. Дементий стал плодом совместного посещения семидесятилетнего юбилея настиного дорогого папочки, где Настя как-то особенно удачно нарезалась, да и Андрея охватило несвойственное ему игривое настроение. В результате ими был зачат Дёма. Произошло это в персональной «Волге» академика Кушелевича. О каковм обстоятельстве Анастасия Натановна — будучи, опять же, женщиной интеллигентной — охотно рассказывала в обществе.
Это был единственный момент, когда она вспоминала о сыне. После тошнотной беременности (родов ей удалось избежать — кесарево избавило её от мук) все заботы о маленьком Дёмке были благоразумно свалены на супруга. В конце концов, Настеньке было просто некогда заниматься ребёнком: как раз в это время она открывала для себя поэзию Фроста, живопись Чурлёниса и ароматизированные сигариллы.
Зато Пенсов открыл для себя молочные смеси и ночные кормления, научился готовить укропную водичку и часами держать ребёнка на плече в ожидании отрыжечки, потом приобрёл опыт общения с приходящими нянями и детсадовскими воспитательницами, освежил в памяти правила русской грамматики и теорему Пифагора, а также узнал много нового о детской сексуальности и противопожарной безопасности.
В девяносто первом семья академика — к тому времени уже покойного — вспомнила о своих корнях и стала готовиться к отъезду на историческую родину. Пенсов, неожиданно для себя самого, эмигрировать отказался наотрез — и, более того, оставил себе малолетнего сына. Настя — к тому времени успевшая стать Малкой — легко нашла в себе силы это пережить.
Впоследствии профессор частенько проклинал себя за то, что остался, пока не понял, что дело было не в приступе патриотизма, а в благоприобретённом отвращении к супружеской жизни. Увы, с точки зрения чисто практической, то была ошибка: работы по специальности в России в ближайшие сто лет не предвиделось. Пришлось заниматься чёрт-те чем, включая унизительное стояние за прилавком с турецкими куртками и польской косметикой. Однажды к его точке подошла его бывшая аспирантка, выгуливаемая бритоголовым толстошеим выблядком с торцом вместо лица. Они узнали друг друга, но сделали вид, что незнакомы. Через два дня профессор рассчитался по товару и с рынка ушёл навсегда: он дал себе клятву найти хоть какую-нибудь нормальную работу, в четырёх стенах и за столом…
Дёмка тем временем вырос — и превратился в странноватого, но вполне удобного для совместного проживания подростка, или даже уже «молодого человека». Большую часть времени он проводил в своей комнате: там у него был смонтирован домашний кинотеатр. На приобретение аппаратуры папа выбросил восемь штук грина — практически все свои накопления. За эти деньги он купил себе абсолютное спокойствие по поводу сына и его занятий. Оставалось только своевременно подбрасывать ему новые дивидишки, а также книги про кино.
Вот и сейчас рядом с Дёмкой на подоконничке прикорнула растрёпаная «Трюффо о Трюффо».
Профессор раскалил сковородочку, разбил в неё яйца и вопросительно посмотрел на Дёмку. Тот слез, зарядил тостер хлебцами из пакетика, достал две тарелки, сел на пол и уткнулся в «Трюффо».
Они поели яичницу с тостами. Папа свой желток густо посолил, сын — слегка поперчил. Тарелки свалили в раковину: Дементий любил мыть посуду, это помогало ему сосредоточиться. На нём же лежали обязанности по стирке: он хорошо управлялся со стиральной машиной, а в случае чего и сам мог простирнуть и выжать бельишко. Этому он научился, когда жил в деревне: два года назад он зачем-то поехал в Камышёвку, пристроился там у какой-то маминой родственницы, адрес которой разыскал в старой записной книжке. То ли отдыхал от неудачно сданных экзаменов (Пенсов-старший, понадеявшись на старые университетские связи, недоложил бабла репетиторам и оказался неправ), то ли искал смысл жизни. Пенсову тогда было не до него: он тогда только-только входил в рынок и работал практически круглосуточно, с небольшими перерывами на еду и сон.
— Ну как у тебя дела? — первым нарушил молчание сын.
— Полторы нормы сделал. Считай, ударник, — профессор встал, чтобы достать из шкафа бутылку «Croizet VSOP». — Будешь? — он показал на пузатую коньячную рюмку.
Дементий немного подумал, потом мотнул головой:
— Лучше херес. Папа, достань «Матусалем Олоросо». И мой бокал.
— Бокал сам достань, — закряхтел Пенсов-старший, — к тебе ближе.
— Извини, папа, — кротко сказал Пенсов-младший, приподнимаясь и доставая с полочки любимую посудинку.
Они выпили.
— Кофейку бы хорошо, — почти просительным тоном сказал отец.
— Если помелешь, — заявил сынуля.
— Эх, старые мои кости, — привычно проворчал профессор, доставая древнюю ручную мельницу с пожелтевшей костяной рукояткой.
Андрей Валентинович, при всех своих многочисленных достоинствах, совершенно не умел варить кофе. А вот сын где-то намастырился управляться с туркой как настоящий турок.
— Я тут недавно пробовал интересную штуку, — сказал сын, роясь в кухонном столе в поисках баночки с корицей. — «Копи лувак». Или «кофе виверры».
— Виверра — это вроде бы такая дикая кошка? — наморщил лоб Пенсов-старший, продолжая крутить ручку. Мельница лениво похрустывала зёрнами.
— Ну да, — Дементий аккуратно отрывал краешек пакетика с гвоздикой. — Она самая. Её выпускают на кофейную плантацию, она находит самые лучшие плоды кофе и ест. В кишечнике зёрна ферментируются. Потом её помёт процеживают, зёрна отмывают и жарят. У них уникальный аромат.
— Короче, срань кошачья, — подвёл итог профессор. — Ну и как аромат?
— Ничего, — сын сделал длинную паузу, — особенного. Пахнет хорошо. Но цена…
— И кто же это тебя угощал? — поинтересовался профессор, передавая сыну плошку со свежесмолотым коричневым порошком.
— Заказчики, — сказал сын. — На переговорах насчёт съёмок.
— Каких съёмок? — заинтересовался профессор. — Ты вообще где сейчас работаешь?
— У себя. Я тебе не говорил разве? — удивился сын. — У нас с ребятами небольшая студия, делаем клипы… Конечно, всё это пока очень непрофессионально, — самокритично добавил он. — Но уже есть клиенты… в общем, стараемся, — он сделал неопределённый жест рукой.
— Ну, если к вам ходят с такими подношениями, — вздохнул профессор, — глядишь, и денег отсыплют.
— Деньги предлагали неплохие, — из турки повалила коричневая пена, и Дёма ловко подбросил её над огнём, — но заказ неинтересный. Хотя, если найти нестандартные ходы… будем думать.
— Неинтересный, — пробурчал отец, не слишком-то поверивший рассказу младшего, — всё лучше, чем Зину Вагину писать.
— Знаешь, — осторожно сказал сын, — я тут почитал эту вашу Зину Вагину. С определённой точки зрения это интересно. Кстати, «Зина против Резус-Фактора» — твоя работа?
— Я же тебя просил как человека: не читай треш, испортишь вкус, — на этот раз Пенсов и в самом деле рассердился. — Зину особенно не читай. Та ещё отрава. Я-то знаю.
* * *
Зина Вагина вызывала у профессора сложные чувства — смесь стыда и извращённой гордости. Сейчас, правда, Зину писал не только он, а человек десять литературных негров. И, разумеется, на управление проектом Жора посадил педоватого мальчика из рекламного отдела, а не заслуженного Пенсова. Тем не менее, идея культового сериала принадлежала именно ему.
Всё началось тривиально. После расставания с кожаными куртками и польской помадой профессора помотало по всяким разным местам, пока не прибило к издательству «Арго-Речь», в ту пору претендовавшее на интеллектуальность. Сначала Андрей Валентинович процвёл на ниве мелкого интеллигентского штукарничества — всякого там копания в умных книжках, сверки латинских цитат и так далее. Платили за это немного и часто обманывали, но это всё-таки была относительно пристойная работа, а не промораживание мозгов.
Ситуация переменилась, когда издательство, в полном соответствии со своим двусмысленным названием, поставило на стапеля одновременно «Словарь античной мифологии» и «Словарь блатной фени». Профессору предложили заняться «Мифологией»: было важно прошлёпать на супере слова «под редакцией проф. такого-то». На «Блатную феню» нашли какого-то ушлого мужичка со смешной фамилией Хапузов, который предъявил диплом филфака МГУ и наколки на грудях, что вроде бы свидетельствовало о достаточном знании предмета. Пенсов же от предложенной чести курировать мифологию отказался: он всё-таки был биологом, а не филологом и не антиковедом, к тому же считал себя честным человеком и торговать профессорством не хотел. Тогдашний главред несколько удивился, после чего послал Андрея Валентиновича в жопу. Профессор принял это с достоинством, хотя и потирая ушибленный карман: к тому времени аргошные гонорары стали для него одним из основных источников дохода. Напоследок он предупредил бывшего кормильца, что мужик с дипломом и наколками кажется ему подозрительным, особенно в части диплома.
Через полгода оба словаря вышли. Античный был ужасен: Агамемнон там был перепутан с Агесилаем, Гомер с Гектором, а смазанная фотка развалин Форума была почему-то поименована «раннехтонической базиликой Артемиды Блаженной». «Блатная феня», судя по всему, тоже не блистала достоинствами. Во всяком случае, как убедился въедливый Пенсов, не побрезговавший взять том в руки, орфографических ошибок избежали только матные слова, да и то не все — во всяком случае, глагол «пиздеть» там писался то через «е», то через «и», что бросало густую тень и на всё прочее содержание, могущее быть охарактеризованным производным существительным от означенного глагола. В выходных данных вместо «Арго» было набрано «Агро».
Пенсов не знал, что к тому моменту мужичок с наколками уже вскарабкался на место главредактора, каким-то образом избавившись от пенсовского обидчика. Осмотревшись на новом месте, он устроил среди подчинённых чистку, после чего начал подбирать кадры под себя.
Профессорский телефончик Хапузову подсунул кто-то из старых корректоров: срочно понадобился вменяемый и недорогой интель для перевода немецкой книжонки «Античная гомоэротика».
К тому моменту профессор поддерживал штаны в основном благодаря техническим переводам, которые он уже успел возненавидеть до крайности. Однако, помня старую обиду, возвращаться на птичьи права он не пожелал. «Возьмёте меня в штат, тогда будет о чём разговаривать», — гордо закончил он и повесил трубку. Хапузов, однако, через три дня позвонил снова и предложил профессору работу на окладе — опять же по переводам. Деньги были небольшие, но Пенсов согласился.
Когда он пришёл в издательство подписывать контракт, то узнал много нового. В частности, то, что Хапузова зовут Гремислав Олегович, что ударение в его фамилии делается на последнюю букву и никак иначе, и что у него великие планы по развитию и разрастанию издательского бизнеса. Как выяснилось несколько позже, в издательстве Хапузова звали Жора, фамилию произносили как «хапузый» и дружно ненавидели за хамство, скаредность и привычку квасить на рабочем месте.
Пенсов тоже вскоре возненавидел Хапузова, но ни высказать ему наболевшее, ни расплеваться с ним почему-то не мог. Жора его подавлял своим природным, биологическим бесстыдством. И хотя хапузовская манера вести дела напоминала профессору способ питания кишечнополостных организмов, он никак не мог принять решение, уйти. Да и уходить, в общем-то, было некуда.
Полгода Пенсов усердно перелагал русскими буквами всякую импортную мусорку: бабские романчики, детективчики и тому подобную струхню, вплоть до астрологических календариков (это печаталось анонимно, без указания автора). Он же проверял чужие переводы, исправлял самые грубые языковые и фактические ошибки, а иногда приходиось садиться и за вычитку корректуры: Хапузов старательно требовал за каждый скормленный рубль всяких сверхнормативных трудов. Но в целом всё это оказалось проще, чем Пенсов когда-то думал. Больше того: освоив систему штампов, профессор почувствовал в себе силы производить литпродукцию самому, но предложить свои услуги стеснялся.
Зато не стеснялся Хапузов. Принимая очередную работу, он почитал своим долгом устраивать замурзанному интеллигентишке распеканцию за недостаточную близость к народу. Сам Хапузов считал себя порождением народной толщи, и поучить всех этих бледнонемощных очкариков настоящей жизни было одним из любимых его занятий.
Теребя невыбритый пучок щетины под нижней губой, Жорик текстовал:
— Я тыщу раз говорил: проще надо переводить! Как народ любит! Так, чтоб любая старушка из очереди поняла! Чтоб любая блядь старушка, чтоб она читала и всё понимала! Потому что это про жизнь! Старушка любит чтоб про понятное, а не хуйню всякую с мыслями! И чтоб любая девка с Тверской тоже читала и всё понимала, потому что это про жизнь написано! Народ любит про жизнь и чтоб понятно, чтоб жесть штырила, а не хули сопли …
Этот монолог он мог продолжать бесконечно. Заканчивалось всё это требованием «настоящего креатива, а не хуйни».
Однажды профессор решился-таки простебаться над хапузовскими представлениями о «жизни».
— Знаете, — сказал он, старательно подстраиваясь под лексикон работодателя, — давайте, в самом деле, сделаем серию. Скажем, детектив. Народ любит детектив. Обязательно убийство, кража крупных денег, и прочая фигня. Народ любит деньги, когда про деньги — тоже любит. Детектив — баба из провинции. Народ любит, чтоб баба. Не замужем, зато есть кот. Народ любит про кота. Зовут Зина Вагина, с ударением на первый слог, естественно. Или на последний. Не красавица, но в койке ураган. Народ любит, чтоб ураган. Способ расследования у неё самый народный: трах-перетрах с подозреваемыми, а они ей всё рассказывают, как на духу, и так по цепочке, пока не доё… дотрахивается до преступника. После чего сваливает в Анталью с деньгами. Народ любит про свалить отсюда. В общем, типа Джеймс Бонд, только как бы наоборот. Давайте, что-ли, мутнём?
Профессору казалось, что он тонко иронизирует. Однако Жорик слушал с интересом, а под конец выдал неожиданное: «Ну… ну… что-то есть. Допустим. Завтра концепцию неси, будем разговаривать».
Концепцию Пенсов справил в тот же день за три часа, в остром приступе сартровской экзистенциальной тошноты. Он добросовестно выскреб из черепа всё самое пошлое и отвратительное, что только мог вспомнить и навоображать, и выжал разом на бумагу. В результате криворождённая Зина Вагина приобрела вполне внятные очертания. Она была рыжей шалавой неопределённого возраста родом из Бобруйска (профессор сначала хотел было вписать Урюпинск, но в последний момент передумал). Отчество он дал ей, в порядке мазохизма, «Андреевна». Мадам была телесно несовершенна («ноги разные» — вписал профессор, кстати вспомнив Высоцкого, а потом заменил на разноцветные соски, один коричневый, другой розовый, розовый был чувствительнее к ласкам), но имела хорошо развитую душу и творила чудеса в постели. Замуж он её всё-таки выдал — она состояла в браке с геологом Порфирием Вагиным, который годами пропадал в экспедициях (тут профессор прошёлся по всем известным ему мифам об этой романтической профессии). По-настоящему Зина любила только мужа, но голодное женское начало постоянно требовало вкусного мужского конца. Мужики, понятное дело, Зине не давали проходу, чуя сласть. Однако она дала клятву перед чудотворной иконой (здесь Андрея Валентиновича чуть не стошнило, но он продолжал писать) использовать свои интимные способности исключительно на благо людям, то есть в расследовательных целях. На каковое служение её тайно благословил монах-катакомбник старец Нектарий, постник и чудотворец, а такоже и перший зинин наставник в сыскном деле… Чтобы добить ситуацию, Пенсов присобачил к Зине автора — Дария Попсова, литератора-инвалида, специализирующегося в стиле «иронический женский боевик с сексуальным уклоном».
Хапузов, ознакомившись с проектом, тяжело задумался, а потом выделил относительно пристойный — по меркам скаредной и нищеватой «Арго-Речи» — бюджет на проект.
«Неукротимая Зина» была написана ещё довольно робко — вопреки собственным установкам, Пенсов никак не мог преодолеть благоприобратённой стыдливости. Получив очередную порцию наставлений от Жоры, профессор решился-таки писать поборзее. «Зина: Побег из гнезда кукушки» уже вписывался в формат, «Зина: Камасутра для гранатомёта» ощутимо раздвигала рамки жанра. Продажи задрались вверх весёлым поросячьим хвостиком. Донельзя довольный Жора взял ещё людей и поставил производство на поток, обещая, что таким макаром они обставят самое «ЭКСМО» и вообще всех на свете производителей чтива для народа. Это была, конечно, чушь собачья — худосочное «Арго» могло разве что тявкать на огромное «ЭКСМО», как моська на слона, но некое веяние успеха и в самом деле осенило злосчастное издательство.
Потом на рынок понеслись продаваться «Зина: Канкан на повапленном гробе», «Зина: Бифштекс из зарытой собаки», «Зина: Дюймовочка в красной шапочке» и прочая роззелень разнообразных Зин. Правда, политический триллер «Зина: Таджикская Скинхедка», которую в последний момент с производства всё-таки сняли, а самого профессора чуть было не ссадили с проекта, благо конкуренты дышали в спину… Пришлось объясняться с Жорой. Сошлись на здоровом принципе «никакой политики, больше перетраха».
* * *
— В общем, не читай треш, — повторил Пенсов-старший, наливая себе на полпальца коньяка.
— Ну, допустим, треш. С трешем можно работать, — заявил сын. — Собственно, с ним-то всегда и работали.
— Ой, вот только не надо про Тарантино, — поморщился профессор.
— Не только Тарантино, — сын говорил тихо и размеренно, и это профессора раздражало. — Не только Тарантино и не столько Тарантино. Так называемая большая литература есть отрицание литературы массовой, которая, в свою очередь, отрицает действительность… Хороший вкус может быть воспитан только на образчиках плохого вкуса. Не нужно только совсем буквально это понимать, как в «Дон-Кихоте». «Дон-Кихот» как раз не показателен. А вот «Рукопись, найденная в Сарагосе» — очень интересная вещь.
— Не умничай, пожалуйста, Дементий. Есть литература, а есть дерьмо. Читать дерьмо так же вредно, как есть. Я зарабатываю тем, что отравляю мозги дорогих соотечественников. Зина Вагина — это то, чего они хотят. С чем я их и поздравляю.
— Не всё так просто, папа, — сын упрямо мотнул головой, длинные волосы колыхнулись. — Например, комиксы, с твоей точки зрения — торжество дурновкусия. Но в киноформате…
— Ты что, «Супермена» посмотрел? — прищурился отец.
— Нет. «Человека-паука». В некотором смысле это шедевр. Мне, правда, мешал цвет, и я его убрал. И поигрался с саундтреками. Но, в сущности, здесь всё уже сделано. Меня больше интересует…
Неожиданно задренчал телефон.
Сын протянул длинную гибкую руку и выудил радиотрубку. Нажал на зелёную пимпицу, лениво поднёс к уху.
— Алё? — сказал он. — Что? Представьтесь сначала… Что значит «медийный центр»?.. Хорошо, сейчас передам.
Он в сомнении покрутил трубку, потом отдал её отцу:
— Папа, это тебя, но я не понял, кто.
— Андрей Валентинович? — уверенно пробасила трубка. — Здравствуйте. Вас беспокоят из… — последовала маленькая, но заметная пауза-запинка, — интеллектуального сообщества «Пендем».
— Сообщества чего? — переспросил профессор.
— «Пендем». Это существительное, — пояснила трубка. — Мы по поводу вашего последнего романа из серии про Зину. У нас возникла проблема…
— Все авторские права на серию принадлежат издательству «Арго-Речь», — заученно сказал профессор. — Обращайтесь к ним.
— Пожалуйста, дослушайте, — нетерпеливо перебила трубка. — Речь идёт о вашем последнем романе. «Зина: Цыплёнок в табакерке».
— Вам же сказали: права на всю серию… — начал было профессор и осёкся.
— Гм, — наконец, выдавил он, лихорадочно соображая. — Романа с таким названием ещё нет. Если вы настолько в курсе моих дел… я даже не знаю, что сказать.
— Да-да, мы в курсе. Написана первая и вторые главы, сделаны заготовки для третьей и большой кусок четвёртой. Проблема начинается как раз в четвёртой главе. Пока её ещё нет — ни главы, ни проблемы. Но завтра утром она возникнет. Мы хотели бы, — опять крошечная пауза, — посоветоваться с вами лично. Вы не против?
— Нет, — машинально ответил профессор.
Больше ничего он сказать не успел: пол под ногами качнулся и ухнул куда-то вниз, а вокруг стало темно.
* * *
Комната больше всего походила на внутренность перевёрнутой рюмки: круглая, со стенами из какого-то матового стекла, красиво сходящиеся сводом, с которого стекал мягкий золотистый свет, напоминающий рассветный солнечный. В центре стоял алый стол в форме выгнутой кляксы и огромное фиолетовое кресло, мягкое даже на вид. Стрельчатая арка вела в другую комнату, судя по всему — такую же, только мебель там была других цветов: сквозь муть стекла слегка просвечивали бесформенные зелёные и голубые пятна.
Повернув голову, профессор увидел такой же проход, в котором можно было углядеть кусочек чего-то оранжевого — тоже, наверное, кресла или какого-нибудь дивана. Он откуда-то знал, что за этой комнатой следует другая, за ней — ещё одна, и так без конца.
Пенсова это не испугало. Он вообще не чувствовал ни страха, ни особенного удивления. Удивлялка у него сильно сдала после девяноста первого и окончательно перегорела в девяноста третьем. Что касается страха, то профессор твёрдо усвоил — бояться следует голода, холода и физического насилия. Судя по всему, ничего подобного в отношении его персоны пока не планировалось — а стало быть, и бояться пока было нечего.
Справедливо рассудив, что кресла предназначены для того, чтобы на них сидели, Андрей Валентинович, осторожно подобрав полы халата, опустил худое тело в объятия фиолетового монстра. Ничего плохого не произошло — просто очень уютное кресло.
— Ещё раз здравствуйте, Андрей Валентинович, — сказал стол. — Вас приветствует интеллектуальное сообщество «Пендем». Надеюсь, вы не имеете предубеждений по поводу искусственного интеллекта?
— Скорее уж у меня есть предубеждения по поводу интеллекта естественного, — тяжело вздохнул Пенсов.
— Ну, это тоже лишнее, — снисходительно заметил стол. — Позвольте всё же представиться. Я — «Пендем». Единство искусственных разумов, существующее в среде, которую мои современники называют «паравременной петлёй». Это образование находится относительно вашего времени в будущем. Приблизительно на двести лет вперёд.
— Приблизительно — это сколько? — проворчал Пенсов, во всём любивший точность.
— Видите ли… — говорящий стол совершенно по-человечески замялся. — После открытия паравремени многое изменилось. Не обязательно же всем жить в одном времени и в одном месте. В общем, какие-то части нашей цивилизации отстоят от вашей на двести лет, какие-то, скажем, на триста… есть и такие, время которых перпендикулярно вашему. Если вас интересует наше точное времяпребывание, то мы отстоим от вашей реальности где-то на сто пятьдесят лет вперёд, четыре минуты влево, сутки вверх и три терции темнее. Если вам это что-то говорит, конечно.
— Мы не на Земле? — на всякий случай спросил профессор.
— В смысле — на поверхности планеты, находящейся в галактическом пространстве-времени? Нет, зачем же? Там сейчас вообще мало кто живёт. К чему терять время на настоящей Земле, если можно воспроизвести любую её часть в паравремени? Причём сколько угодно раз. Большая часть людей сейчас обитает на тропических островах. Или на берегу Средиземного моря. Сами понимаете, в галактическом времени этого берега на всех не хватило бы. Да и тот, что есть, знаете ли, не подарок… Реальность хороша как повод для творчества. Жить лучше в искусственном мире, это куда более естественно для человека. Точно так же, как пить арманьяк, а не сырую воду из ручья. Кстати. Насколько мне известно, вы не успели толком поужинать. Так вот, считайте, что вы находитесь в очень хорошем ресторане. Давайте покушаем, а я составлю вам компанию.
— Это как же? — скептически спросил Пенсов. — Вы же искусственный?..
— О, если вы насчёт покушать, это-то мы как раз можем, и даже очень, — довольно сообщил стол. — К сожалению, мы не можем предстать перед вами в человеческом облике. Увы, нам запретил это наш создатель. Разве что вы согласитесь на наше присутствие в виде каких-нибудь не слишком раздражающих вас существ?
Профессор подумал про себя, что «Пендем» довольно нахально набивается в компанию. Видимо, изображать из себя говорящий стол ему надоело.
— Ну давайте. Только чтобы существо было не страшное и не вонючее, — попросил Пенсов.
— Вы как к кошкам относитесь? — поинтересовался стол.
— Ну… Так же, как и к собакам, — осторожно сказал Андрей Валентинович. — Люблю некусачих и гладкошерстных.
— Вот и отлично, — удовлетворённо сказал голос.
Тут же на край стола вскочил белый кот, а с другой стороны — того же размера пёсик неопределённой породы, отдалённо напоминающий помесь пуделя с бассетом.
— Это мы, — хором сказали пёс и кот.
— Меня зовут Пен, — представился кот.
— Меня зовут Дем, — прогавкал пёс.
— Как мы вас предупреждали, мы являемся именно сообществом интеллектов, а не единой личностью, — заявил кот, устраиваясь поудобнее.
— То есть конечно, единой, — поправил пёс, — просто состоящей из составных частей.
— Глупость, как всегда, — заявил кот, укладывая вокруг себя хвостик.
— Давайте ужинать! — несколько нервно предложил пёс, кинув на свою составную часть неприязненный взгляд.
— Для начала хотя бы скатерть постелите, — не удержался профессор.
— Одну минуточку, — Пен запустил лапу прямо в столешницу. Та ушла внутрь и тут же появилась с крохотным алым лоскутком на кончике когтя. Кот бросил его посередь стола, оба зверька посмотрели друг на друга и дружно подпрыгнули.
Клочок развернулся в тяжёлую парчовую скатерть до пола. Тяжёлая складка ткани шлёпнула профессора по ногам, а когда она упала, Андрей Валентинович обнаружил у себя на коленях салфетку.
Дем понюхал середину стола, и оттуда вырос подсвечник с двумя свечами. Пен зашипел на них, и они загорелись, а золотистый свет померк, сменившись серебристым лунным сиянием.
— С чего начнём? — пёс дружелюбно осклабился. — Может, какой-нибудь салатик для разминочки?
— «Цезарь», — сказал профессор. — И, если не трудно, чашечку чая.
— Может быть, лучше кофе? — вкрадчиво спросил кот и мявкнул.
— Только чай! — тявкнул пёсик. — Вы зелёный пьёте? Могу предложить любой из существующих в ваше время сортов. И ещё несколько сотен новых.
— На ваш выбор, — вздохнул профессор.
Перед ним выросла серебряная тарелка с аккуратной горкой «Цезаря». Кот церемонно подал зажатый в передних лапах столовый прибор, завёрнутый в салфетку.
Тем временем пёс откуда-то достал изящную фарфоровую чашечку. Пенсов потянулся было к ней, но увидел, что она пуста.
Дем подтащил чашечку зубами поближе к себе, после чего пристроился, задрал ногу и пописал прямо в неё. Над чашкой поднялся лёгкий парок с ароматом зелёного чая.
Несколько шокированный такой выходкой профессор невольно отодвинулся.
— Вот, извольте, — пёсик подтолкнул носом чашечку. — Японский чай, напоминает гёкуро, но с более тонким вкусом…
— Извините, — нашёл в себе мужество сказать Андрей Валентинович, — может быть, у вас такое принято… или кажется смешным… но это не слишком аппетитный юмор.
— Ох, простите, — взаправду смутился Дем, — глупо вышло.
— Наш дорогой коллега, — вредным голосом добавил кот, — иногда забывается.
— Вы не подумайте только, — продолжал смущаться пёс, — я всё объясню. У нас тут в последнее время появилась мода на домашних животных, готовящих напитки естественным способом. Ну, знаете… органика, близость к природе, всё такое. Появились и свои правила. Кофе, например, делают коты, а собаки, наоборот, чай… Я вот по породе собачайник.
— А я котофей, — с гордостью сказал Пен. — Чай — моча.
— Во-первых, не котофей, а котофейник. Во-вторых, в твоём исполнении и кофе — тоже моча, — двусмысленно заметил Дем.
— Ты что имеешь в виду? — взвился Пен.
— Извини, извини, — тут же сдал назад пёс, — хороший у тебя кофе, хороший. А собачайничество, кстати, восходит к традициям русской культуры Серебряного века. Анна Ахматова, например, учила, что существует мистическая связь между чаем, псом и Пастернаком… Я, кстати, очень люблю Пастернака. Могу почитать что-нибудь для аппетита. Ну, вот, скажем, — пёс вытянулся и поднял лапу, — Мело, так сказать, мело по всей земле, во все пределы! Свеча горела на столе…
Кот яростно зашипел.
Профессор демонстративно зажал уши.
— Вы совершенно правы, Андрей Валентинович, — льстиво втёрся котяра. — Пастернак — бездарность. А мистическая ахматовская связь существует, наоборот, между кофе, кошками и Мандельштамом. Только не надо шовинизма, это не русской культуры изобретение. Коты делали вкусный кофе ещё в доисторические времена. Плоды кофе пропускались…
— Про виверру я знаю, — на всякий случай сказал профессор.
Кот бросил торжествующий взгляд на пса. Тот глухо зарычал, но с места не двинулся.
Профессор внимательно посмотрел на склочничающих зверьков: ему в голову пришла странная мысль.
— Простите, — сказал он, обращаясь к Пену, — вы, наверное, всё-таки не кот, а кошка?
— М-м-мяу, — озадаченно мяукнул зверёк, — Это вы в каком смысле?
— Просто я понял, что такое это ваше «сообщество искусственных интеллектов», — сообщил профессор. — Люди это называли семьёй. Или браком. А основой нормального брака, сами понимаете, являются мужчина и женщина. И живут они обычно… ну, как кошка с собакой…
— Вот ещё! — взвился кот, воинственно распушая коротенькую шерсть. — Очень натянутое сравнение, — добавил он, несколько успокоившись. — Мы, слава Богу, не биологические существа! То есть не совсем биологические… Короче, ещё неизвестно, кто тут женщина, а кто мужчина.
— В человеческих семьях это тоже не всегда известно, — осторожно заметил Пенсов.
— Пока я этого для себя не решил, я предпочитаю, чтобы меня именовали в мужском роде! — кот попытался всем тельцем изобразить нечто официальное и окончательное. — Или я… я… обижусь!
Пёс тишком ухмыльнулся, показав маленькие жёлтенькие клычки.
Профессор внимательно посмотрел на него, протянул руку и взял чашку с чаем.
— Спасибо, — сказал он Дему.
Пёс подмигнул.
— Мужская солидарность? — сухо осведомился кот.
— Ну что вы, — профессор осторожно отхлебнул. — Просто… ну, виверра… чего уж теперь-то…
— Расселись! — неожиданно раздалось из-за спины профессора.
Голос был противный, бабский, с хрипотцой — и необычайно скандалезный.
— Зина, — укоризненно сказал Дем, — ну вот опять… Мы как раз по этому поводу…
— Всё Зина да Зина! — не унималась невесть откуда явившаяся баба. — Об Зину, значит, можно ноги вытирать? Как что, так сразу чего, а как чего, так что! Что я вам, дура недоделанная и ничего не понимаю? Да чтоб я!
Профессор не успел оглянуться, как из-за кресла выкатилась коренастая рыжеволосая баба в розовых джинсах и зелёной облипочке, не закрывающей пупок. По бокам виднелись округлые жировые складки системы «хорошего человека должно быть много». Пышнейшая грудь, не стеснённая лифоном, упруго колыхалась.
Когда Пенсов перевёл взгляд на физиономию женщины, он наконец-то испугался.
Он хорошо знал эту физиономию. Она украшала все обложки серии «Зина Вагина». Она ему даже иногда снилась в плохие ночи.
— Чего уставился, хрен лысый? — женщина взяла за шкирку протестующее мявкнувшего кота, сбросила его на пол и сама уселась всей попой на край стола. Пенсов невольно обратил внимание на мощные бёдра и автоматически подумал, что с такими, наверное, легко рожать. — Я это, я! Вагина Зина. Через тебя, — она сплюнула на пол, — пострадавшая. Нет, вы посмотрите, — обратилась она к собаке, — сидит тут, культурный весь из себя такой, салатик кушает, чаёк попивает! Прям как ничего не было. Давай разговаривать, или я вашей лавочке устрою музон с подтанцовками…
— Зина, мы же договар-р-ривались, — зарычал Дем, — давайте хотя бы введём Андрея Валентиновича в курс дела…
— Он пока ничего не понимает, — мявкнул Пен.
— Не понимает? Как опарышами ебать, так он понимает? А говно с морковкой, это чего? Да чтобы ему, сочинилке херову, в жопу сто хуёв и залупу солёную на воротник …
— Я тебя как человека прошу — заткнись, Зинка! — заорал собачайник. — Давай всё-таки не будем обострять конфликт на пустом месте, — сказал он чуть более спокойно. — Ситуация сложная…
— Чё сложно? Тебя бы вот так же во все дыры… — завела своё Зина.
— Я ничего не понимаю, — профессор отодвинул от себя тарелку. — И пока вы мне не объясните, в чём дело… — он выронил вилку и сунулся под стол, чтобы её поднять.
— Я т-те не пойму! — Зина открыла пошире рот, чтобы выкрикнуть очередную порцию хамских претензий, и вдруг замолкла на полувздохе.
Пенсов недоумённо оглянулся. Всё замерло: Зина с полуразинутым ртом, колыхающаяся складка на скатерти, падающая вилка. Пламя свечей перестало светить, но не погасло, а застыло на фитильках лёгкими синеватыми облачками. Только лунный свет продолжал литься как ни в чём не бывало.
Пёс с усилием пошевелился, как бы стряхивая с себя что-то липкое и тяжёлое.
— Извините, профессор, — сказал он. — Зина нервничает… может всяких глупостей наговорить. Пришлось её немного того… притормозить.
— Вы мне объясните, наконец, что происходит? — не выдержал Пенсов.
— Сейчас, сейчас, — пробормотал Дем, поводя носом. — Киса, ты подержишь время, пока мы тут поговорим?
— Да легко, — отозвался Пен и тут же взбеленился: — Какой тебе я киса?
— Ох, прости… уважаемый коллега, — покаянно сказал пёс. — В общем, подержи время…
Пол под ногами качнулся.
* * *
Впереди было море, справа и слева — бесконечная полоса белого песка. Сзади — до соснового леса — золотая трава и цветущий белый шиповник обнимались с розовым шиповником на дюнах. Впереди дюны обрывались на пять метров вниз. Внизу за слепящим глаза песком расстилалась аквамариновая бесконечность до горизонта.
Посреди бесконечности торчала голова тюленя.
— Н-да, неплохо, — признал Андрей Валентинович.
Он сидел за всё тем же столиком, только теперь он стоял на вершине дюны. Ветра не было. Свечи горели почти невидимым в солнечном свете пламенем: виден был только быстрый черноватый дымок, льющийся вверх, в солёный воздух.
— Ну так! — гордо сказал пёс. — Фантазия на тему пляжа Маркони Бич. А ей не нравится… то есть ему, конечно, — собачайник встряхнулся всем телом. — Кстати. Как вы насчёт, э-э-э, самогончика? По маленькой?
— Может быть, сначала о делах? — сказал профессор. — Я до сих пор так и не понял, чем обязан…
— Одну стопочку? Пока никто не видит? А то мой коллега, знаете ли, очень нервно относится…
Пенсов понял.
— Ладно, — снизошёл он к сложному положению собеседника. — По одной.
— Сам делаю! — собачайник откуда-то извлёк две стопки, которые моментально заиндевели, после чего привычным жестом задрал ногу.
— Может быть, всё-таки обойдёмся без этого? — раздражённо сказал профессор. — Я понимаю, у вас так принято… но у меня всё-таки чувство, что это какая-то… урина, вы уж извините.
Пёсик, похоже, обиделся.
— Урина! — фыркнул он. — А про говно с морковкой кто придумал?
— Не знаю, о чём речь, но я ничего подобного придумать не мог, — твёрдо сказал Андрей Валентинович.
— В том-то и дело, что вы. Я имею в виду — в романе. Сцена в казахском концлагере. Зине нечего есть, а у начальника лагеря несварение желудка. Она после него перемывает нечистоты и находит съедобные фрагменты. Очень зрелищно.
— Зину пишут человек десять, — терпеливо сказал профессор. — Может быть, кто-то из наших негров?
— Вы, вы писали, — мстительно сказал собачайник. — Собственно, потому-то вы здесь и находитесь.
— Это что же, — сообразил Пенсов, — тот самый «Цыплёнок в табакерке»? Хапузов меня заставил написать такую гадость? Я уволюсь. Есть же какие-то пределы…
— Гм-м. В каком-то смысле заставил, — пёс задумался. — Давайте я вам лучше покажу.
— Что — «покажу»? — профессору это «покажу» очень не понравилось.
— Ну, покажу вероятностную линию, с которой мы вас убрали, — терпеливо пояснил пёс. — Сейчас, секундочку… вот примерно так оно всё и бу…
* * *
— Не умничай, пожалуйста, Дементий, — повторил Пенсов-старший. — Есть литература, а есть дерьмо. Читать дерьмо так же вредно, как есть. Я зарабатываю тем, что отравляю мозги дорогих соотечественников. Зина Вагина — это то, чего они хотят. С чем я их и поздравляю.
— Не всё так просто, папа, — сын упрямо мотнул головой, длинные волосы заколыхались. — Например, комиксы, с твоей точки зрения — торжество дурновкусия. Но в киноформате…
— Ты что, «Супермена» посмотрел? — прищурился отец.
— Нет. «Человека-паука». В некотором смысле это шедевр. Мне, правда, мешал цвет, и я его убрал. И поигрался с саундтреками. Но, в сущности, здесь всё уже сделано. Меня больше интересует…
Неожиданно задренчал телефон.
Сын протянул длинную гибкую руку и выудил радиотрубку. Нажал на зелёную пимпицу, лениво поднёс к уху.
— Алё? — сказал он. — Что? Представьтесь сначала… Издательство?.. Хорошо, сейчас передам.
Он в сомнении покрутил трубку, потом отдал её отцу:
— Папа, это тебя. По-моему, этот твой хмырь.
— Здарова, — нагло прогундосила трубка. — Узнал?
— Здравствуйте, Гремислав Олегович, — тяжело вздохнул профессор. Беседовать с Хапузовым на ночь глядя ему очень не хотелось. Тем более, судя по тембру голоса, Хапузов был нетрезв. Впрочем, в последнее время он квасил почти непрерывно, отвлекаясь только на насущные дела.
— Слышь, мужик… — шеф звонко рыгнул в трубку, — Такая хуйня. В общем, маркетолог наш написал бумажку. Зина не идёт.
— Куда не идёт? — переспросил Андрей Валентинович, соображая, насколько пьян Хапухов и имеет ли смысл с ним беседовать дальше.
— Зина, говорю, не идёт! Не продаётся Зина! Продажи хуёвые блядь! — заорал Хапузов.
— Да она на каждом лотке лежит, — не понял Пенсов.
— Не, ну ты не въехал. Зина вообще идёт. Твоя Зина не идёт. Которую ты конкретно пишешь, — почти разборчиво произнёс Жорик.
— Эт-то почему же? — выдавил из себя профессор.
— Ну я тебе же тыщу раз говорил, — захрюкотал Хапузов, — проще надо, проще! Народ любит, чтоб штырило, чтоб жесть была настоящая! А у тебя всё как-то интеллигентно выходит! У тебя Зинка приличная блядь какая-то дама получается! Да хули сопли! Я последнюю твою Зину читал, ну я не знаю, это засн… заср… сблевать можно, ну я не знаю как просто какие-то повести Белкинда нах!
— Белкина, — машинально поправил Пенсов.
— Во-во, бля. От образованности лишней вся хуйня. Ладно, харе, ты понял. Мы на тебе деньги теряем.
Профессор крякнул и сел на табуретку.
— Значит, ты меня ссаживаешь с проекта? — осведомился он, от злости переходя на «ты». — Учти, я уже начал новую «Зину», — профессор выпятил хилую челюсть. — По закону, — добавил он, хотя не помнил никаких юридических подробностей, — ты её у меня берёшь, оплачиваешь и издаёшь.
В трубке хрюкнуло.
— Ну, начал… если последнюю… Да ты не ссы, без хлеба не оставим. Переводы там или ещё там чего. Приспособим к делу. Солдат ребёнка не обидит, — Хапузов шлёпнул трубку и в ухе профессора забегали короткие гудки.
— Что случилось? — поинтересовался Дементий, с тревогой глядя на папино лицо.
— Что-что. Меня выгнали. Ссадили с Зины, — вздохнул Пенсов-старший. — С-сукло хапузое, — неумело выругался он. — Нашёл себе негра подешевле. Навёл в хозяйстве экономию, — последнюю фразу он произнёс, стиснув зубы.
— Папа, если ты о деньгах, то не беспокойся, у меня теперь… — начал было сын.
— Нет, ты представь, — распалялся профессор, — я придумал эту метёлку, я сделал серию, а теперь эта падла с наколками мне будет говорить, что они не продаются…
— Папа, ну успокойся. Ты же сам говорил, что Зина — отрава для мозгов…
— Дементий, — попросил отец, — не умничай. Налей мне лучше какой-нибудь этой… отравы. Лучше водки. Хотя нет. Пожалуй, я сам.
— Папа, — слегка встревожился сын, — не забудь, у тебя печень. И почки тоже слабые.
— Не учи папу водку пить, — сказал Пенсов-старший, взял бутылку и пошёл к себе.
В этот вечер профессор впервые за последние тридцать лет назюзюкался вдрабадан.
Сначала он выкушал остатки первой бутылки, заедая горькую жидкость конфетками. Потом он почувствовал потребность в продолжении банкета и вылакал рабочие запасы. Потом в ход пошёл деликатесный арманьяк. Кажется, потом он названивал ненавистному Хапузову, потом порывался пойти в соседнюю стекляшку за поллитрой, но не смог найти ботинки, потом было ещё что-то невнятное, и, наконец, он отключился.
Проснулся Пенсов ночью от похмельного озноба. Его буквально трясло. В желудке вообще творилось что-то неописуемо кошмарное, пересохший рот радовал вкусом настоявшихся кошачьих ссак. Короче, ему было очень и очень хреново. Зато голова была странно ясной. Клетки мозга, омываемые продуктами разложения этилового спирта, ацетальдегидом и ацетатом, почему-то работали на удивление чётко и слажено. А главное — несмотря на хуёвое телесное состояние, Андрей Валентинович ощущал себя способным на всё. Вообще на всё.
Если бы Пенсов задумался о природе этого чувства, из памяти, наверное, всплыло бы слово «вдохновение». Правда, светлым его назвать было нельзя — скорее даже наоборот. Вдохновение накатило тёмное, с инфернальными обертонами.
Но профессора подобные тонкости не интересовали.
Он встал с постели, нацепил на левую ногу резиновый шлёпанец. Кое-как доковылял до стола. Протёр глаза, увидел — точнее, унюхал — четвертинку с остатками водяры на дне. Зажмурился, дёрнул из корла. Не сблевал. Включил компьютер, открыл папку с «Цыплёнком в табакерке».
— Значит, последняя книжка? — сказал он куда-то в пространство. — Проще надо? Чтоб штырило? Чтоб жесть настоящая? Сделаем. Сейчас тебе будет жесть, Жора.
Длинные профессорские пальцы хищно нависли над клавишами, как эскадрилья немецких бомбардировщиков над спящим городом.
* * *
— Уф-ф-ф, — Пенсов покрутил головой, разгоняя наваждение.
Белый песок сиял на солнце, шиповник розовел, море переливалось аквамарином.
— А дальше-то что было? — поинтересовался он у собачайника.
— Может, всё-таки выпьем по чуть-чуть? — жалобно проскулил пёсик, подкатывая носом стопку.
— Бр-р-р… Мне сейчас как-то не очень, — признался профессор. — Свежие воспоминания, знаете ли… Хотя это же наверное, того… наведённое? Гипноз какой-нибудь?
— Ну почему же? — пёсик не сводил глаз с пустой стопки. — Вы, некоторым образом, прожили этот кусочек жизни. Паравременной поток, изоморфный галактическому…
— Так дальше-то что? — Пенсов почувствовал, что теряет терпение.
— Вы писали книгу, — собачайник постучал хвостиком по столу. — Неделю. Пока не кончились запасы спиртного, — добавил он.
— М-м-м, — профессору стало стыдно. — У меня была коллекция коньяков…
— Была. А также четыре бутылки красного вина, херес, — это слово пёсик произнёс с какой-то неясной обидой, — бутылка медицинского спирта…
— Спирт-то откуда? — не понял профессор.
— Коллеги подарили на юбилей, — напомнил собачайник. — Профессиональная шутка.
— И я всё это употребил внутрь? — ужаснулся Андрей Валентинович. — И писал при этом? А Дёмка-то куда смотрел?
Собачайник промолчал.
— И что же получилось в итоге?
— Сами смотрите, — сказал Дем.
В воздухе возникла и тут же шлёпнулась на стол книжечка на дрянной бумаге и с аляповатой обложкой. На ней была всё та же Зина, на сей раз голая, лежащая на каком-то камне вроде алтарного. Вокруг были намечены какие-то неясные силуэты зловещего вида. Сверху красовалась надпись: «Зина: Кровавый Оргазм».
— «Оргазм?» А как же «Цыплёнок»? — робко спросил Пенсов.
Дем не ответил.
Пенсов осторожно перевернул томик и увидел аннотацию: «Зина Вагина прошла огонь и воду, но таких невероятных приключений у ней ещё не было! Теперь ей предстоит пройти через кровь, грязь, страх, отчаяние, унижения, оскорбления, кошмары, безумие, насилие над естеством, предательство, побои, извращения, истязания, клиническую смерть и неописуемые ужасы сатанинского ада…»
Снедаемый недобрыми предчувствиями, профессор открыл книжку на середине.
Он прочитал полторы страницы, потом осторожно положил томик на стол и посмотрел Дему в глаза.
Собачайник взгляд выдержал.
— И вы хотите сказать, что эту пакость написал я?! — наконец, сказал он.
— Именно, — пёс вздохнул.
— Водки, — решительно потребовал Андрей Валентинович. — Чёрт с вами, пусть будет вашего изготовления. Только быстро.
— Так бы и сразу, — проворчал пёс, явно довольный произведённым эффектом. — Ну тогда уж не по-маленькой, а сразу поллиторку…
Из стола был извлечён «Русский Бриллиант Премиум» в ведёрке со льдом. Пенсов смутно припомнил, что подобный способ подачи больше характерен для шампанского, но решил не встревать.
— Да вы не переживайте, — пёсик поднял лапами тяжёлую бутылку и принялся разливать. — Де Сад, знаете ли, ещё и не такое писал. Или вот ещё Сорокин…
На стол материализовалась плошка с грибами, и вторая, с солёными огурчиками.
Пенсов молча и быстро выпил, поморщился, закусил опёнком.
Пёс обнял лапами стопку, опрокинул прямо в пасть, икнул, вздрогнув всем телом. Потом сунул грызлице в огурцы и захрустел ими.
Андрей Валентинович тем временем осторожно открыл книжку поближе к началу, прочёл ещё несколько строчек.
— Нет, но я просто не мог написать такого! «Огромный кривой хер с чёрными шрамами от гнойников остановился у самых губ Зины. На самом кончике багровой нашлёпки уда опасно белел гнойный прыщ. Зина зажмурилась, обвив губами мерзкую плоть»… Ну это же невозможно! Я не говорю даже о содержании, но — «обвив губами»! Или вот тут: «Его вздыбленную мужскую стать неистово сосал энцефалитный клещ». «Плоть», «стать», «неистово сосал»! Я и слов-то таких не знаю!
— Знаете, знаете. У вас, — пёс утер лапой солёное грызло, выпил ещё водки и зарылся носом в грибы, — очень богатая фантазия. Вы её просто всю жизнь подавляли. Кстати, это многое объясняет с точки зрения наследственности… — собачайник достал морду из плошки и облизнулся. — Вы ещё сцену с опарышами не видели. Или вот ещё — как Вагина ставит парализованной старухе-процентщице пиявки на одно место, а негр Ананий подпаливает ей пятки, чтобы та кончила… Или как Ушат Помоев насилует…
— Что-о насилует? — вытращился профессор.
— Ушат Помоев, это у вас такой эпизодический персонаж, чеченский боевик, наркоман и садист… Ну вот он у вас насилует девственницу отрубленной рукой…
— Как это — отрубленной? — выдавил из себя несчастный Пенсов.
— У неё отрубленной. Да вы почитайте, очень натуралистично написано, со знанием физиологии. Образование пригодилось.
— Стоп-стоп. И я это отдал в «Арго»? В таком виде?
— Намеревались отослать, во всяком случае.
— Вы хотите сказать, что эту мерзость издали? У нас, конечно, были те ещё времена, но чтобы подобное вышло в печать… Нет, Жора, конечно, придурок, но чтоб такое…
— Нет, Жора тут ни при чём. Но потом — да, издали. Теперь это классика.
Профессору стало жарко — то ли от водки, то ли от солнца, то ли от чего ещё.
— В общем, проблема в том, — продолжал пёс, — что нас преследует Зина Вагина. Мы обратились к вам как к главному специалисту по этой даме…
— Вы сначала объясните мне, откуда взялась Зина и чем она вас достала, — попросил Андрей Валентинович. — Пока что я ничего не понимаю.
— Придётся с самого начала, — собачайник повёл носом. — Я тогда, с вашего позволения, ещё по одной налью… Показывать всё слишком долго, я лучше нарезочку сделаю…
* * *
Неделя непрерывного пьянства и творческого экстаза стоила профессору жизни.
Пенсова скрутил тяжелейший приступ холецистита. Дёмка успел вызывать «скорую», но было поздно: в тот же день Андрей Валентинович умер в Боткинской больнице во время экстренной операции на желчном пузыре.
Дёме позвонили утром. Узнав печальную новость, Пенсов-младший первым делом пошёл в отцовский кабинет, включил компьютер и проверил электронную почту. Аккуратный Дементий Андреевич хотел знать, не осталось ли каких-то срочных и важных дел, которые его отец не успел завершить.
Среди всего прочего он обнаружил готовый к отправке в редакцию текст очередной «Зины». Возможно, он его бы и отправил, но сначала заглянул в прикреплённый файл.
Если бы Пенсов-младший не стал бы совать нос куда не следует, ничего бы не случилось. Но, так или иначе, Дёма ознакомился-таки с последним произведением Андрея Валентиновича.
«Кровавый Оргазм», если рассматривать её как литературное произведение, представляла собой смесь чернушного боевика, порноромана и политического доноса. Что касается последнего, Пенсов с гнойным сладострастием проехался по всем известным ему политикам. В частности, пресловутым отцом ребёнка зининой подруги он почему-то сделал госпожу Мадлен Олбрайт, коей приписал трансвестизм и другие грязные привычки. Главным злодеем Пенсов предсказуемо вывел ненавистного Хапузова. Короче говоря, это был полный, стопроцентный, кромешный ужас — незаконный плод обиды, алкоголя и некстати разбушевавшегося подсознания.
Дементий потратил на чтение час с лишним. После чего аккуратно удалил файл из архива — даже не догадываясь, что старается зря.
Тело кремировали. На церемонии присутствовал сын, трое старичков из бывших учёных, и никого из редакции. Израильская родня, несмотря на отправленные Дементием мейлы и телеграммы, не сочла нужным реагировать на события, происходящие на доисторической родине.
Дементий забрал аляповатую урну с отцовским прахом домой. Впоследствии эта урна — всё с тем же прахом внутри — вошла в историю искусства. Именно она стояла на пульте управления атомной станции в финале «Амстердама».
* * *
Первый фильм Дементия — получасовой «Путь» — вышел через три года после смерти Андрея Валентиновича. Дёма тогда уже имел определённую репутацию в кругах московских киноманов. «Путь» дебютировал на «альтернативных Каннах», которые тогда как раз переживали очередной расцвет, и был снисходительно одобрен кинокритиками.
«Тихая охота», снятая в глухом архангельском селе, могла бы пройти незамеченной. Но в силу разных политических соображений — мировой обком принял решение поддержать кремлёвскую администрацию в одном важном вопросе — России выписали квоту на футбольную победу (плюшка для народа) и кинофестивальный приз (пирожное для интеллигенции). Дементий после успеха «Пути» попал в поле зрения международных кураторов, которые сочли его персону годной к дальнейшей раскрутке. «Охота» получила берлинского «Золотого Медведя». В том же году Дементий создал студию «Цифровые технологии», впоследствии прославленную и культовую.
Потом было «Ослепление», которое снималось три года и после которого о Дементии стали говорить с придыханием. Далее Пенсов замолчал на некоторое время, зато стал регулярно попадать на страницы скандальных хроник. В частности, его тройственный брак с ассистенткой-китаянкой и её американским мужем (Дементий был бисексуален и этого особо не скрывал) вызвал в гламурной среде нездоровый интерес. Как, впрочем, и его следующая работа — пятнадцатисерийный анимешный «Маяковский», исполненный в технике гипервидео. Гипер считался дешёвой компьютерной подделкой под настоящее кино, но в исполнении «Цифровых технологий» заиграл новыми красками. «Маяковский» положил начало «футурренессансу» и заодно принёс Дементию целый мешок престижных премий и ураганную прессу.
Дальше было много всего. Год за годом Пенсов развлекал публику всё новыми кунштюками. Он первым перешёл на гала-технику («Вот и ноябрь», премьера была приурочена к открытию Берлинского Гала-Центра), первый оценил возможности видеокараоке (видеопьеса «Шоколадный тигр» вошла в классический фонд). Он же первым отказался от использования живых актёров и реальных съёмок вообще («Полчаса до июня» и «Сирокко»). Впрочем, он поставил гиперреалистического «Отелло», где абсолютно все действия совершались актёрами на самом деле (причём желающих попробовать себя в одноразовой роли Дездемоны хватило на пять сезонов, пока шоу не запретили). Он снял чёрно-белую немую «Изумительную и увлекательную историю о том, как некий легкомысленный англичанин получил пощёчину от оскоплённого карлика, последователя гностических лжеучений…» (полное название занимало полстраницы), а также «Кимберлит», анонсированный как «захватывающая трагедия из жизни минералов» (о событиях, происходивших в нижней части земной коры в течение четырнадцати миллионов лет). Он же сделал «Хворост и огонь», о всеми забытой заварушке в Руанде, признанный самым страшным фильмом о войне за всю историю человечества. Вершиной творчества Дементия Пенсова стал великий «Амстердам», грандиозное полотно, которое, по мнению европейских политиков, спасло единство Европы — и принесло своему творцу, помимо очередного дождя наград, ещё и Нобелевскую премию мира.
Критики, конечно, злословили на тему того, что Пенсов выезжает на точно просчитанном сочетании манипулятивных приёмов, новейших зрелищных технологий и умелого использования актуальной тематики. Дементий все нападки надменно игнорировал. К тому времени он превратился в настоящего мэтра, желчного и спесивого, находящего удовольствие во всё более утончённых издевательствах над публикой. Публика выла от восторга и требовала ещё.
А ещё через два десятилетия после «Амстердама» Дементий Пенсов, культовый режиссёр (приставка «кино» к тому времени атрофировалась), богатый и знаменитый, был допущен к Самой Главной Тайне.
* * *
Первые разработки в в области темпоральной физики велись ещё в начале двадцать первого столетия. Правда, технологии работы со временем были безумно дороги, а главное — держались в строжайшем секрете, составляя нечто вроде коллективной собственности сильных мира сего.
Как выяснилось, путешествия в прошлое — они оказались всё-таки возможны, правда, недалеко и ненадолго — далеко не самое интересное занятие. В частности, изменять историю с последствиями для настоящего оказалось бесполезным делом: время упруго смыкалось и поглощало все изменения. Правда, из прошлого можно было вытаскивать всякие вещи и даже людей. Но желающие разжиться оригиналом «Моны Лизы» или живой Мерилин Монро довольно быстро перевелись.
Куда более перспективным оказались разработки в области искусственного времени. Эта технология позволяла получать отображение на временную ткань любых участков пространства, а также материальных объектов. При желании можно было скопировать себе хоть весь земной шар, причём для себя одного — это был «вопрос бабла». Цена такого удовольствия, правда, по первости была немалой: всего состояния Пенсова не хватило бы для вступления в этот сверхзакрытый клуб. Его привлекли в качестве оформителя новых миров: как выяснилось, помимо работы ландшафтных архитекторов, в искусственных мирах необходима была и искусственная история. Можно было нарисовать солнце, но двигаться по небу его можно было заставить только введением соответствующего сценария. То же касалось смены времён года, колебаний климата, да и вообще всего.
Дементий взялся за новое дело и репутации своей не уронил. Первый же его хронодинамический сценарий — «Тёплый год в Норвегии», с пресным океаном и итальянской зимой — вызвала фурор среди элиты. «Сахара в снегу» была эстетской игрушкой, зато «Юг Франции» стал абсолютно коммерческим продуктом, растиражированным во множестве вариантов и до сих пор остающимся самым востребованным из всех его произведений в этом жанре.
Понятное дело, что Пенсов вовсе перестал интересоваться земными делами. Тем более, что синхронизация его жизни — протекающей в различных хронокольцах с разным ходом времени — и земной историей становилась всё более сложной.
Меж тем, на Земле дела шли скверно — причём чем дальше, тем хуже. Человечество стояло в полушаге от новой мировой войны, когда элита, наконец-то договорившаяся между собой, открыла темпоральные технологии для всех. Способы создания жизнеспособных миров тоже были отработаны, так что практически каждый человек мог получить в своё распоряжение новое небо и новую землю.
Тут-то всё и кончилось.
Где-то года за полтора население Земли безо всякой войны уменьшилось на треть: все бросились осваивать новые миры, куда более оборудованные для веселья. Население хроноколец насчитывало от одного человека до нескольких тысяч: более многочисленные сообщества быстро разваливались. Исключением стали несколько связанных между собой миров, которые потом стали называться «технологическими», а их население — технологистами. Населённые фанатиками точного знания, они пошли по пути максимального ускорения научно-технического прогресса, для чего ввели у себя запредельно высокую скорость собственного времени. Очень скоро технологисты настолько далеко ушли от остальных людей, что превратились в обособленную ветвь человечества. Правда, они не отгораживались от не столь продвинутых собратьев по расе и исправно снабжали их всякими полезными устройствами и приспособлениями. Причём снабжали бесплатно или почти бесплатно. Злые языки говорили, что технологисты это делают примерно это из тех же соображений, из которых домохозяйки отдают нищим ношеное бельё — «самим ни к чему, а выбрасывать жалко» — но их никто не слушал: слишком уж хороши были новые штучки. В частности, необходимость работать исчезла навсегда: все мыслимые и немыслимые работы выполняли всякие технические устройства.
Когда до оставшихся на Земле окончательно дошло, где именно намазано мёдом, единому человечеству наступили кранты. На старой планете, неторопливо плывущей через Галактику, остались жалкие остатки некогда великой расы, в основном религиозные фанатики, по каким-либо причинам считающие хронотехнологии греховными и небогоугодными. Все остальные просто разбежались.
Больше всего от этого выиграло искусство.
Жизнь во временных кольцах была практически лишена заметных неудобств. Одно время ходили слухи о «петлях-тюрьмах», в которых царили тоталитарные режимы и происходили всякие ужасы. Технологисты, когда до них эти слухи дошли, сильно обеспокоились — и создали какую-то штуковину, действующую во всех мирах и гарантирующую мгновенный выход из любого мира для каждого человека по одному только его желанию. Если кому-то что-то не нравилось, он мог в любой момент оставить недостаточно гостеприимное место, перейти в какой-нибудь открытый для посещения мир, или создать свой, осуществив тем самым вековую мечту о «другом глобусе». В одном из продвинутых миров изобрели способ искусственного выращивания человеческой плоти, после чего производство потомства превратилось в несложное и приятное занятие: соответствующая аппаратура могла вырастить организм с нужной генетической картой и нужного возраста. Преступность практически исчезла, как за исчезновением материальной нужды, так и всеобщего размежевания всех со всеми. Труд перестал быть необходимостью. Даже смерть, эта вечная спутница человечества, была укрощена: бессмертия так и не изобрели, зато продвинутые миры построили системы искусственного интеллекта, которые позволяли скачивать на себя содержимое сознания и потом делать с ним всё что угодно… В общем, дефицит острых ощущений обострился до предела.
Естественно, зрелища снова стали пользоваться повышенным спросом. Старая добрая экономика, чуть было не отдавшая концы после наступления материального изобилия, вздохнула и осторожно задышала: снова появился редкий товар. И спрос на него всё увеличивался.
Дементий к тому времени стал законченным нелюдимом и мизантропом. Владелец нескольких шикарных миров, он, по слухам, проводил большую часть времени в кинозале, просматривая свои старые фильмы и ища в них огрехи. Впрочем, то были именно слухи: с людьми он просто перестал общаться совсем. Единственными живыми существами, присутствие которых он ещё как-то терпел возле себя, были кошка и собака. Точнее, котофейня и собачайник: это были генно-модифицированные зверьки, специально выведенные для приготовления кофе и чая. Таким способом Пенсов разом удовлетворял обе оставшиеся у него потребности — в обществе бессловесных тварей и в любимых напитках: Дементий относился к редкой породе кофеманов-чаелюбов, причём одинаково тонко разбирался и в кофе и в чае. Некоторые, впрочем, поговаривали, что не только чай он там пил, но такое рассказывают про всех сколько-нибудь известных людей…
Однако общее возрождение искусств не оставило равнодушным даже его. Пенсов вознамерился вернуть интерес публики к классическому кино — не ко всяким там гала, видеокараоке или нейростимуляции, а к старым добрым движущимся картинкам, безо всякой интерактивности, участия зрителя и прочих приблуд.
Новый его проект, как всегда, интриговал. Мастер взялся за экранизацию романа, написанного ещё в доисторические времена его отцом. Конечно, текст романа был давным-давно утрачен, но скачать последовательность байтов из относительно недалёкого прошлого в эпоху хронотехнологий не составляло большого труда. Впоследствии, на фоне успеха фильма, книжка стала крайне популярной в большинстве культурных миров.
И, как обычно, Пенсов использовал для съёмок новейшие технологии…
На сей раз он добыл в продвинутых мирах аппаратуру, позволяющую производить прямую проекцию режиссёрских образов на поверхность паравремени. По сути, создавалось маленькое хронокольцо, в котором происходили запланированные режиссёром события. Самым замечательным было то, что проецируемые образы могли обладать чувствами и эмоциями — с ними можно было работать «по Станиславскому». Такая штука обещала нечто вроде нового возвращения к документальности и психологизму после господства голой цифры — а потому Пенсов просто не мог пройти мимо неё. Правда, в последний момент технологисты начали бухтеть, что технология недоработана, но Дементий их бухтение пропустил мимо ушей.
Фильм был снят и разошёлся по всем мирам в неописуемом множестве копий. Зрелище, конечно, было тем ещё: благодарный сын тщательно воспроизвёл отцовский сценарий, да ещё щедро присыпал перца от себя. Однако, мастерство режиссёра завораживало. На эффект работало буквально всё, включая оборванный финал: если Пенсов-старший в своей книжке, проведя героиню через мытарства, достойные десадовской Жюстины, в конце всё-таки даровал ей нечто вроде хэппи-энда, то фильм Пенсова-младшего обрывался посреди жуткой и гротескной сцены, причём на самом пике действия. Критики дружно объявили этот финальный обрыв самым элегантным жестом в истории видеоискусства.
Этим фильмом Пенсов подвёл под своим творчеством финальную черту.
Как именно провёл Дементий последние годы жизни, не знал никто: он вернулся к прежнему затворничеству. Тем более, жизни не много-то и оставалось: он был уже глубоким стариком, пожившим в самых разных временах, и биологический его возраст зашкаливал за все мыслимые пределы. От дальнейшего продления жизни он отказался, предпочтя другой вариант — превращение в искусственный интеллект.
Но даже в посмертном существовании Пенсов оказался способен на экстравагантный жест.
В один прекрасный момент — в разных мирах разный — стало известно, что всемирно известный Дементий Пенсов, с некоторых пор существующий в электронном виде, разделил своё сознание на две части. Этим двум частям он официально завещал всё своё имущество, капиталы, авторские права и прочие активы, аккуратно поделенные пополам. Последним, самым интересным обстоятельством, было то, что он навсегда закрыл этим частями возможность когда бы то ни было в будущем сливаться снова, а также принимать человеческий облик — соответствующие запреты были внесены в базовый код новообразованных искусственных интеллектов. Похоже, вредный старик и в самом деле не любил людей и не желал иметь с ними ничего общего даже после фактического распада собственной личности.
Обе части разделённого интеллекта выбрали себе личины зверьков, которые когда-то радовали покойного натуральным чайком и органическим кофеем.
* * *
— Вот такие дела, папа, — вздохнул Дем.
Лёгкий ветерок колыхал золотые пряди травы. Солнце клонилось к западу, в воздухе посвежело.
Профессор, несколько осоловев от водки и чистого морского воздуха, машинально крутил в руках пустую стопку, прикидывая, стоит ли начинать вторую бутылку. Первая была пуста: похоже, Дем успел её закончить.
Новая информация оседала у Пенсова в голове, как пена в пивной кружке, оставляя следы на стенках.
— Так-так-так. Прошлое неизменяемо. Значит, домой я не вернусь, — наконец, сказал Андрей Валентинович.
— Папа, а тебе оно надо? Тебе и жить-то там осталось совсем ничего, — терпеливо сказал Дем.
Пенсов-старший зажмурился и честно попытался вспомнить что-нибудь хорошее из прошлой жизни. Хорошего сколько-то набралось, но всё оно заканчивалось где-то в девяностом. Дальше был отъезд жены, сгоревшие деньги на сберкнижке, расхристанная харя Ельцина в телевизоре, взлетающие ракетой цены, горящий «Белый Дом», польская косметика, унизительные поиски прокорма, «Арго-Речь», Хапузов.
— Ну ладно, — проворчал он. — Как-нибудь устроюсь. Но вот ты, скажи, Дёма — зачем тебе эта фигня с разрезанием надвое, с кошкой этой, собакой? Можно ж было не выё… не выёживаться?
— Папа, — вздохнул собачайник, — ну как тебе объяснить? Ты человек цельный. А Дементий был, честно сказать, довольно извращённым типом. Гениальным, конечно, не буду лукавить, но… Знаешь, что такое эта самая гениальность? Представь, что одна половина твоей натуры всю жизнь трахает другую. От этого рождаются всякие творческие идеи, которые потом надо ещё воспитывать, то есть доводить до ума… Ладно, всё это внутренняя кухня, не хочу об этом. Но этот вечный брейнфакинг в какой-то момент заёбывает, извини за выражение.
— Не очень… Ладно, налей этой своей гадости, — попросил профессор. — Хочу попробовать.
Дем аккуратно задрал лапку над стопкой, потом нацедил себе тоже.
Они чокнулись и выпили за встречу.
Жидкость оказалась похожей на граппу, но чище.
— Ну и вот, — собачайник вытянулся на столе, положив перед собой тощие лапки. — Заебало. К тому же в голове накопилось много всякой дряни, которая очень отравляла жизнь. А Дементию напоследок захотелось нормальной жизни, хотя бы после смерти. Логичное решение — из одного мерзкого хитровыебанного старикашки сделать двух простых хороших ребят. Или зверят, так даже лучше. Правда, он понимал, что потом меня снова потянет к своей второй половине. Отсюда и код.
— Но ведь потянуло же? — осведомился профессор.
— Ну, мы довольно долго друг от друга бегали, — признал пёсик. — Потом как-то снова сошлись. Теперь мы интеллектуальное сообщество. Центр, опять же, «Пендем». Зарабатываем кое-что. Конечно, того таланта, который был у настоящего Дементия, у нас больше нет. Мы попроще. Но мастерство-то не пропьёшь. Работаем, делаем кое-что. Когда-нибудь найдём способ сломать код и снова объединимся. Или просто будем вместе жить. Из Пен отличная девка выйдет, — мечтательно сказал он.
— Я правильно понял, что Пен получилась из той половины, которую трахали? — ехидно поинтересовался отец.
Дем заметно смутился.
— Ну, нельзя же всё понимать так однозначно, это же метафора, — наконец, сказал он. — Сейчас скорее она меня доёбывает… Достала своими капризами. То ей не так, сё не этак…
— Вот как? Достала? — белый кот прыгнул на стол, изогнулся, вытянул когтистую лапу и махнул ей прямо перед носом собаки. Дем едва успел отскочить.
— Ну вот я же и говорю, — обиженно сказал Дем. — Всё время такие выходки.
— Папа, не слушай его, — сказал Пен.
— Папа, не слушай её, — сказал Дем.
— Не смей называть меня в женском роде! — заорал кот.
— Дети, хватит ссориться, — сказал профессор. — Пен, сделай мне кофе.
— Водку пили, — недовольно повёл носом Пен, извлекая откуда-то чашку и садясь на неё.
Кофе был и в самом деле отменный.
— Что там Зина? — как бы между прочим поинтересовался Дем.
— Сейчас припрётся, — вздохнул кот. — Я уже не могу время держать, она в этом отношении круче…
— Вот же ведьма, — пёсик оскалился. — Свалилась на нашу голову… Я-то надеялся, что её не стало.
— А я всегда был уверен, что она где-то прячется, — сказал кот.
— Ты мне можешь этого не напоминать? — с тоской в голосе спросил пёс.
— Ты сам начал, — отбрил кот.
— Н-да, непросто вам было в одной голове, — резюмировал Пенсов. Он чувствовал, как водка начала действовать: навалилась, вяжет язык. — Ещё кофейку можно? — попросил он котофея.
— Вот вы где! — скандальный бабский визг прорезал воздух.
— Дем, подержи время! — крикнул кот.
Море вспыхнуло ультрамарином и погасло.
* * *
Комната казалась большой — возможно, из-за отсутствия мебели. Белые, шершавые на вид стены поднимались неожиданно высоко: метров на десять, если не больше. Оттуда, из запотолочной темноты, свисала цепь, к которой была подвешена сложная бронзовая люстра, обросшая, как сосульками, мелким висучим хрусталём. Хрусталинки светились, вежливо отодвигая мрак на пристойное расстояние.
Пол был покрыт чёрно-белым клетчатым ковром, напоминающим огромную шахматную доску.
У окна стоял марокканский диван с резной спинкой — низкой, но всё-таки заслоняющей подоконник. Из окна открывался вид на соседний дом, типичную московскую пятиэтажку с застеклёнными лоджиями, возле которых синела набухшая вена газовой трубы. Над домом висело хмурое непонятное небо — то ли дождь, то ли сумерки, то ли просто скверный день.
Свечи на столе пылали ярко и печально, длинные языки пламени напоминали долгие цыганские песни.
— Уютненько. Но депрессивно, — высказал своё мнение профессор.
Пен деликатно присел на полупустую чашку, доливая кофе.
— Ничего, что без сахара? — на всякий случай спросил котофейник. — Я могу.
— Ты же знаешь, я всегда без сахара, — раздражённо сказал профессор и тут же одумался: в конце концов, даже настоящий целый Дементий, прожив столь насыщенную жизнь, мог бы тридцать три раза забыть о бытовых привычках рано почившего родителя, а уж Дем и Пен тем более.
— Извини, папа, — кротко сказал кот. — Кстати, можешь называть меня в женском роде. Я же всё-таки того… девочка, — зверёк засмущался. — Анима дементьевская я!
— Кто-кто? — не понял Пенсов.
— Анима. Женская часть души. Она вообще-то у всех есть, у творческих людей она просто больше… Источник вдохновения…
— Муза, что-ли? — спросил профессор.
— Плохая из меня была муза, — сказала Пен тоном, напрашивающимся на возражения. — Но иногда у нас с Демом кое-что получалось, — добавила она, возражений не дождавшись.
— Муза… А чего ты мужика своего изводишь? — желчно сказал Пенсов, вспомнив жалобы Дема. — Называешь себя в мужском роде и вообще ведёшь себя как стерва? Это что, феминизм?
— Папа, ну как тебе объяснить… — Пен потёрла лапкой грустную мордочку. — Ближе Дёмки у меня никого нет. Но насчёт этих дел… Он хочет этого самого… личной жизни. А я с ним не могу. Ты, наверное, не поймёшь… Знаешь, когда мы были Дементием… первые фильмы он ещё с актёрами снимал. Так вот, его в глаза звали Мейерхольдом, а за глаза — Карабасом. Он с людьми как с куклами обращался. Даже хуже, как с пластилином. В этом весь Дем. Ты не думай, что он такой хороший парень. Я-то знаю.
— Объясни мне всё-таки про Зину, — суше, чем хотел, сказал Пенсов.
— Ох, — вздохнула Пен, — ну вот я так и знала, что ты не поймёшь. Мужская солидарность. Если баба не даёт, значит, она стервь, а что она при этом говорит — так всё врёт… Ты ведь так на самом деле думаешь… Ну нет любви! Понимаешь — любви нет! Я бы и рада, он ведь на самом деле хороший… Перегорело… Думала, пройдёт… сойдёмся… как-нибудь стерпится-слюбится… Нет, ничего… А без любви я не могу.
— Про Зину, — перебил профессор.
Кошка сделала ещё одну чашечку кофе, на этот раз со сливками. Высунула острый розовый язычок, аккуратно полакала.
— Папа, мы никак не можем от неё избавиться.
* * *
Перед тем, как начинать съёмки, Дементий специально консультировался у технологистов, насколько всё-таки реальными являются помещённые в паравремя персонажи и обладают ли они сознанием. Те заверили, что это всего лишь оболочки, проецируемые на время, так что они только кажутся живыми. По сути, они были куда более примитивными, чем даже самый простой искусственный интеллект. Они могли чувствовать и мыслить, но только теми чувствами и мыслями, которые входили в сценарий.
Кто же знал, что именно здесь и подстерегает засада?
Всё дело испортила предфинальная сцена в церкви, где несчастную главную героиню, Зину Вагину, и без того хлебнувшую всяческого лиха, собрался приносить в жертву Дьяволу её учитель и наставник старец Нектарий, оказавшийся тайным сатанистом. По сценарию, железная Зина в этот момент должна была сломаться. Запланированный Дементием набор эмоций включал отчаяние, ужас, боль (само собой), но главное — желание проснуться, освободиться от кошмара и оказаться в каком-нибудь другом месте.
Технологисты не врали, когда говорили, что персонажи не являются настоящими людьми. Они забыли о том, что их эмоции всё-таки были очень похожи на настоящие. Тупая аппаратура, настроенная на помощь людям, оказавшимся в неприятной ситуации, уловила желание несчастного персонажа перейти в другой мир и его исполнила. Зина исчезла, а паравременное кольцо схлопнулось из-за фатальной поломки сценария.
Огорчённые технологисты разводил руками: никто не ожидал такого афронта. Что сталось с самой Зиной и куда она исчезла, было непонятно. Неясно было даже то, имеет ли она материальное тело или остаётся сгустком паравремени. Так или иначе, технологисты уверяли, что она жива — только вот где и в каком виде? Ответ могли бы дать эксперименты, но повторять такую штуку никому не хотелось.
Поэтому старенький Дементий трясся от злости, читая восторженные квохтанья поклонников насчёт «гениального финала». Он-то знал, как обстоят дела — и отчаянно боялся каких-нибудь последствий.
Как показала практика, опасения были обоснованными. Зина всё-таки выжила. Правда, лично Дементий Пенсов об этом так и не узнал — он совершил своё элегантное недосамоубийство раньше, чем она нашла дорогу в его мир.
После того, как Зину выбросило со съёмочной площадки, она сколько-то — точный счёт здесь был крайне затруднителен — пробарахталась в невесть каких временах, а может быть, даже в пространстве между временами, где о времени и говорить-то не приходится. Сама Зина, если верить ей, думала, что умерла и попала в ад, тёмный и скучный. Потом ей надоело там настолько, что она сумела-таки каким-то непонятным усилием прорваться в одно из населённых временных колец. Однако, пребывание в межвременном интервале пошло ей на пользу: примитивная схема доразвивалась до некоего подобия интеллекта.
С точки зрения обычного человека Зина Вагина была низкорослой рыжухой с большими сисярами и намечающимися проблемами с талией. С точки зрения темпоральной физики она представляла собой замкнутый фрагмент хронополя со сложной внутренней структурой. В мире хронотехники это давало ей немалую фору. Будучи по сути своей куском чистого времени, Зина была способна проникать в любые миры, в том числе закрытые, преодолевать любые материальные преграды, создавать по своей воле любые предметы и много чего ещё. Пределов своих способностей она и сама не знала, да её это и не интересовало. Самым полезным своим свойством, по зининым же словам, — рассказывая об этом, Пен брезгливо сморщила мордочку — она считала то, что отныне ей не грозил лишний вес: сколько бы она ни жрала, но не прибавляла в весе ни на кило. Правда, и избавиться от жировых складок на боках тоже не получалось: похудеть ей было тоже невозможно. Так же, как и вывести кровоподтёк на левой ягодице — след пинка отца Нектария. Зато все прочие повреждения её увесистой тушки моментально затягивались. Зину нельзя было пронять буквально ничем.
Попав из тоскливого межвременного ада в один из закрытых миров, Зина решила, что она-таки выслужила себе рай. И очень удивилась, когда немногочисленные местные жители ей объяснили, что это всего лишь один — и не самый роскошный — мир. Вагина, впрочем, исповедовала несложную мораль «дают — бери, бьют — беги». Так что лет десять она шлялась по всяким местам, включая те, куда её никто не звал. За это время она успела обзавестись тучей знакомств, перетрахаться с кем только можно и основательно всем надоесть.
В конце концов она узнала про «Кровавый Оргазм» и его посмотрела.
От тяжёлого шока её спасла только примитивность душевного устройства. Когда же до неё допёрло — скорее всего, не без посторонней помощи — что её жуткое и гадкое прошлое, которое она считала своей настоящей биографией, было просто-напросто чьим-то сценарием, она пришла в ярость. Особенно же достало её то, что, оказывается, невесть сколько людей смотрели на её мучения и веселились.
Пыхая злостью, Зина решила найти виновников безобразия и как-нибудь их наказать. Правда, по ходу дела выяснилось, что режиссёр, снявший фильм, вроде как помер. Но у него были наследники. С ними-то Зинка и решила разобраться по-свойски.
* * *
— Когда она у нас впервые появилась, мы думали, ей чего-нибудь нужно, — рассказывала Пен. Вместо кофейной чашки у неё между лап стоял высокий бокал для хереса, а у профессора в пузатом коньячном бокале отлёживался «Croizet VSOP». — Мы уж ей и деньги предлагали, и всякое другое… Всё ей по барабану! Просто отравляет нам жизнь, сука неприятная.
— Как именно? — задал профессор риторический вопрос.
— По-бабски. Хамит, скандалит. Истории всякие рассказывает из жизни. Руки распускает.
— Бьёт? — уточнил Пенсов.
— Пыталась однажды Дема об стенку… Я ей рожу расцарапала, — довольно сказал Пен. — Правда, толку-то… На ней всё сразу заживает.
— А убить её как-нибудь можно? — на всякий случай решил выяснить Андрей Валентинович.
— Мы у технологистов пытались что-то выяснить, они говорят, что не знают такого способа, — уныло призналась Пен.
— Н-да. Напоминает «Солярис», — профессор почесал нос. — Там тоже была женщина, Хари… она всё приходила…
— Дементий в начале карьеры хотел сделать римейк «Соляриса», — оживилась кошка, — сюжет был как раз для него. Не смог подобрать подходящую Хари, — сказала она почему-то злорадно.
— Ты, что-ли, помешала? — прищурился профессор.
— Ага, — Пен хищно облизнулась. — То есть не я, конечно, а та часть, которая была я… А та часть, которая была Демом, обиделась и женилась на этой дуре-китаянке. А я тогда Дементия на того американца соблазнила… Извини за подробности.
— Н-да, хорошо же вы уживались под одним черепом, — профессору подумалось, что избранный Дементием посмертный путь был ещё не самым худшим из возможных.
— Давай о Зине, — попросила Пен.
— Ну так ей что-то всё-таки надо? — профессор откинулся в кресле с коньяком в руке и рассеянно подумал, что депрессивный пейзаж ему, пожалуй, нравится больше, чем прихорошенный Маркони Бич.
— В том-то и дело, что ничего! — кошка от возмущения напрудила на скатерть маленькое кофейное пятнышко. Пенсов сделал вид, что ничего не заметил. — Она просто ходит к нам и хамит! Мы не можем работать, мы бегаем от неё по разным мирам, но она прётся за нами и скандалит! И ничего с ней не сделаешь! Её можно остановить только одним способом — тормознуть время. Но это же невозможно делать всегда! В общем, мы всё больше стараемся жить в электронном виде, туда она добраться пока не может. А если вдруг научится?
Профессор промолчал: он и в самом деле не знал, что сказать.
— Ещё пить с ней заставляет, — пожаловалась кошка. — Она мне Дема спаивает, сука!
— Дем и сам, по-моему, того… выпивает, — подумав, сказал Пенсов.
— А то я не знаю? Но хоть сам и в меру. А эта баба как припрётся, меня за шкирку хлоп, а Дема начинает изводить своей хернёй. Потом за бутылку берётся — наливай да пей. А куда денешься? Она в любой момент может прийти, она сквозь стены проходит, по времени как по паркету шляется. И зудит, зудит. Истории какие-то рассказывает. Как ей плохо живётся, да как Дёма перед ней виноват, что её такой нечастной сделал. Ну и про фильм — как её там в насиловали, били, про пиявок там разных, да что она при этом чувствовала… Как будто мы не знаем… Жопу голую показывает. С синяком. Представляешь?
— Ну хорошо. Но я-то чем могу помочь? — профессор обратил внимание, что в застеклённой лоджии за окном загорелся свет и задвигались тени.
— Папа, — проникновенно сказала кошка. — Ну пожалуйста, посоветуй что-нибудь. Ты же придумал эту Зину. Ты её знаешь, как никто. Должно же у неё быть какое-то уязвимое место.
— Я не эксперт по Зине, — попробовал защититься профессор. — Персонаж вообще не эквивалентен автору, особенно, э-э-э, в нашем случае. Честно говоря, я вообще старался не думать, что пишу — так лучше получалось. А последнюю книжку я вообще… сама знаешь, как она получилась. Да и вообще: фильм-то снимали вы! То есть целый Дементий… тьфу, как всё запущ… запутанно. Надо, кстати, как-нибудь посмотреть это ваше кинишко.
— Тебе не понравится, — быстро сказала Пен. — Тебе вообще всё дементьевское не должно нравится. Ты всегда был такой… традиционный. На все пуговицы застёгнутый.
— Если бы это было так, — решительно сказал Андрей Валентинович, — я бы не написал этот «Оргазм», будь он неладен… Хотя… — он замолчал и потёр нос. — Когда я помадой торговал, я каждый день такое слышал, по сравнению с чем вся эта лабуда — просто песенка про ёлочку.
— Ну да, понятно, — Пен села столбиком и принялась умываться. — На тебя вся эта пакость и должна была произвести именно такое впечатление… Кстати. А не было ли у Зины прототипа? Ну, может, какая-нибудь баба, которая рядом с тобой на лотке торговала?
Пенсов задумался, потом покачал головой.
— Да нет. У нас всё больше интеллигентные были. А над нами стояли кавказцы… ну, бандюки иногда приезжали… Нет, бабы не было. Да и не могло быть. Зина — это же откровенная фантастика, китч. Православная жена геолога с разноцветными сосками, занимающаяся расследованиями. Чисто вымышленный персонаж.
— Но откуда-то это всё взялось? Зачем-то ты ей сделал разные соски? — допытывалась кошка. — Наверное, это что-нибудь значило?
— За деньги я их сделал! — заорал разозлённый профессор. — Я писал халтуру! Писал за деньги идиотские детективчики!
— Папа, не кричи, пожалуйста, — кошка обиженно отвернулась.
— Извини, Пен, — Пенсов откинулся в кресле. — Давай рассуждать логически. Зину писал я, это правда. Допустим даже, что она в каком-то смысле плод подсознания… — эта мысль ему не понравилась, но он всё-таки продолжил, — моего подсознания, так сказать. Это нам ничем не поможет. Никаких реальных прототипов у неё нет, это я тебе точно говорю. Я о ней, на самом деле, ничего толком не знаю, — неожиданно признался он. — Ну и что, ну пусть я её написал. Дементия вот с младенчества помню, а что у него в голове — ведать не ведал.
— Ты не интересовался, — укорила его Пен. — Всегда держал на расстоянии. Даже не накричал ни разу.
— А что, надо было? — слегка удивился профессор. — Дёмка всегда был такой самостоятельный…
— Мне было надо, — Пен выделала слово «мне». — Мог бы и стукнуть. Зато потом погладил бы, — мечтательно сказала она.
Пенсову стало неловко.
— Э-э… Дементий всё-таки мальчик, — напомнил он. — Воспитание мальчиков должно быть строгим…
Пен посмотрела на Андрея Валентиновича с какой-то досадливой укоризной и ничего не сказала.
— Так про Зину, — продолжил Пенсов. — Так, значит, она к вам пристаёт… пристаёт… — в голове крутилась какая-то мысль, но ухватить её профессор никак не мог. — Жопу показывает… Н-да…
— Папа! Ну придумай что-нибудь! — заныла Пен.
— Эх, беда… Замуж бы её выдать, что-ли, — брякнул профессор. И тут же осёкся: в комнате повисла какая-то нехорошая тишина. Такая стоит после пролетевшей мимо пули.
— Я что-то не то сказал? — пролепетал профессор, чувствуя, что и в самом деле сказал что-то не то.
Пен упорно молчала.
— Пен, я ничего не понимаю, — раздражённо сказал Андрей Валентинович.
Кошка встала и демонстративно повернулась к нему спиной.
* * *
— Расселись тут! Хватит уже! Побегали! — бушевала Зина. Она только что появилась в мире Пен и была настроена воинственно. Воинственность подкреплялась откуда-то взявшейся бутылкой спирта «Royal», которую Зина держала в левой руке и размахивала ею, как знаменем. У профессора мелькнула ненужная мысль, откуда Зина вообще знает про эту дрянь. Тут же со стыдом он вспомнил, что однажды заставил её пить чистый «Ройял» без закуси — кажется, в «Камасутре для гранатомёта».
Хуже было то, что в правой руке у Зины болтался крепко тиснутый за шкирман Дем. Пёсик вырывался и пытался укусить Зину за руку, но та держала его крепко.
— Ну чё, зассал, дедок? — развалила хабалистую пасть Зинаида. — Это ты, значит, про меня сочинял всякое говнище?
— Сама ты говнище, Зина, — спокойно заявил профессор.
— Ч-чё бля? — взвилась Вагина, от неожиданности отпуская Дема. Тот, злобно тявкнув, тут же исчез. — Ты на кого хвост подымаешь, выпердыш?
— Рот закрой, я тебе сказал, — Пенсов попытался добавить в голос уверенности, которую не чувствовал. — Или я рассержусь.
— Ой ты ёпта! — Зина скривила рожу. — Он рассердится! Чё ты мне сделаешь, перхоть подзалупная? Усраться мож…
— Я сказал: рот закрой и слушай. — На сей раз Пенсов и в самом деле рассердился. — Пен, выйди на минуточку, — сказал он зарёванной кошке. — У нас тут с этой дамочкой разговор.
Пен кинула на профессора сомневающийся взгляд и исчезла.
— Ты, дедок, чтой-то не понял, — Зина нависла над столиком, тряся обильными телесами. — Я всё могу, я Терминатор бля! Тебя, вонючку, раздавить мне как нехуй делать. Или весь этот мир в патоку шлёпнуть! А со мной вы ничё не сделаете, я бля резиновая…
— Так валяй, — предложил Пенсов. — У тебя же страшная мстя? Прибей всех, кто тебя сделал, сучка. Отомсти и забудь. Мы даже бегать от тебя не станем. Я, например, не стану.
— Я бля добрая, — с ненавистью сказала Зина.
— С матом завязывай, — строго сказал Андрей Валентинович. — Дем этого не любит. За шкирку ты его тоже таскать не будешь. Никогда.
Зина попятилась и села на попу. Хорошо, что под ней оказался марокканский диван: обиженно бумкнув, он принял на себя груз зининого гузна.
Бокастая бутылка со спиртом ткнулась в ковёр и так осталась.
— Так-то лучше, — удовлетворённо сказал профессор. — Ты ведёшь себя как последняя дура. Ты хоть это понимаешь?
— Ну, дура я, — согласилась Зина с подозрительной готовностью.
— Ты давно могла бы убить Дема и Пен, если бы хотела. Может быть, даже стереть их электронную копию, — рассуждал профессор. — Но ты именно что ходишь и пристаёшь к ним. Пристаёшь. Надо было сразу догадаться.
— Вот кого бы я убила, так это Пенку, — Зина скрипнула зубами. — Сволота, кошатина зас…
— Не материться, — на всякий случай сказал профессор. — Ладно, продолжим. Ты понимаешь, что избрала не самую лучшую тактику? Теперь у тебя практически нет шансов. Насколько я помню своего сына, он не терпит хамства. Во всяком случае, чужого.
— Он культурный, — захныкала Зина, — а я простая. Вы с Дементием из меня совсем дуру сделали… Да я сама знаю… Кто он и кто я…
— Не смей называть себя дурой! — профессор обозначил лицом недовольство. — У меня в детективах ты выпутывалась из всяких сложных ситуаций, а это требует сообразительности. И вообще, по-настоящему умный человек не способен описать внутренний мир дурака. Значит, ты не дура. С культуркой у тебя, конечно, проблемы — что есть, то есть… А вообще, как тебя угораздило запасть на Дема? Он же, э-э-э, собака?
— Все вы кобели, — некстати помянула Зина главный женский символ веры. — А Дем — гений самый настоящий. Я потом все его фильмы пересмотрела. И читала про него… Ну и вообще… Вот.
— Дем — это только половина Дементия, — напомнил Пенсов.
— Ну так и отлично! — удивилась Зина. — Полный-то Дементий вообще полупидором был, — она брезгливо дёрнула плечами, отчего сиськи заходили ходуном, — а я баба честная.
— Тогда зачем ты хамишь и буянишь? — спросил профессор.
— А чего она… — Зина утёрлась рукавом. — Я когда первый раз к ним пришла, я же просто поговорить хотела! Познакомиться и всё такое прочее. Тортик принесла. А эта Пен… она меня просто с говном смешала… отвалила мне, короче, бздянок. А я баба горячая, ах так, говорю… Вот так всё и началось. Дем теперь меня. небось, презирает…
— Что ж, за дело, — заметил Пенсов.
— Папаша, — хныкнула Зина, — ну вот ты скажи, как мне быть? Я бы пообтесалась, культурки поднабралась… Всё бля для него сделаю, всё! Но эта прошмандовка его в жисть от себя не отпустит! А сама, между прочим, с ним не ебётся. Сама не ам и другим не дам.
— Материться кончай, — напомнил Андрей Валентинович. — И не смей называть Пен прошмандовкой.
— Ненавижу суку, — заистерила Зина, — ненавижу, убила бы, своими руками бы убила, если бы не Дем…
— Кстати, — припомнил профессор. — Дем никогда не сможет принять человеческий облик. Это встроено в код. Он останется собакой…
— Ну и пусть, — хлюпала носом Вагина, — я с собачкой тоже была, очень даже неплохо, это ж не опарыши…
Профессор в очередной раз подумал, что никогда в жизни не станет читать «Кровавый Оргазм».
— А код… что код… — продолжала хлюпать Зина, — схожу в тот момент, когда Дементий надвое делился, закопирую, сломаю… делов-то…
— Скопирую, — машинально поправил Пенсов. — Никак не могу привыкнуть, что такие вещи возможны. Как ты это делаешь?
— Не знаю, — Зина подобрала безымянным пальцем некстати выкатившуюся слезу и вытерла её о диван, — просто получается, и всё тут. Папаша, так ты мне скажи — у меня шансы есть? Ну, насчёт Дема. Он парень непростой.
— Если приведёшь себя в порядок, научишься нормально говорить и вести себя как приличная женщина, а не как базарная торговка, получишь образование, сравнимое с Деминым… ничего не могу гарантировать, конечно…
— Да не проблема, — отмахнулась Зина, — это я мигом…
Пенсов посмотрел на неё с сомнением.
— Знаю один технологический мирок, там время в пять тыщ раз быстрее нашего шарашит, я бы там пожила, сколько нужно, собой занялась бы, — стала объяснять Вагина.
— А зачем? Оставь ты их в покое на какое-то время. Заодно и неприятные впечатления забудутся, — посоветовал профессор.
— Чтоб я Дема вдвоём с этой сукой оставила? Да она его снова оплетёт, запутает! — взвилась Вагина.
— Не смей называть Пен сукой. К тому же они с Демом всю жизнь составляли одного человека, — добавил Андрей Валентинович.
— И хватит! — Зина тряхнула грудями. — Это вообще-то называется… когда брат с сестрой…
— Инцест, — помог Пенсов. — В чём-то ты права. И тем не менее. Прекрати изводить моего сына и уберись куда-нибудь хотя бы на время. А с Пен я сам поговорю. Разберёмся.
— Папаша, только без пиз… — угрожающе начала Зина.
— Материться кончай! — заорал профессор. — Чтоб я больше от тебя мата не слышал! Ладно, иди, — разрешил он. — Займись чем-нибудь полезным. Мне надо с ребятами поговорить. И не называй меня папашей.
— А как же? — удивилась Зина. — Это ж ты меня придумал. Типа отец.
— Строго говоря, твой отец — Дементий Пенсов. А то, что ты планируешь — это, кстати, тоже инцест.
— А мне по… — Зина вовремя сглотнула словечко, — всё равно, как это называется.
* * *
Пен была суха и холодна.
— Поговорили? — осведомилась она ледяным тоном, устраиваясь на столе на максимальной дистанции от Пенсова.
— Поговорили, — согласился тот, делая вид, что не замечает кошачьих манёвров. — Кажется, нашли некоторое взаимопонимание. В частности, я выяснил…
— Эта женщина — мерзкая лгунья, — кошачьи глаза заискрились от злости. — Я не знаю, что она говорила, но…
— Всё ты знаешь. Ты подслушивала, — без тени сомнения сказал Андрей Валентинович.
— Я нахожусь в своём мире, — заявила кошка, — и имею право делать в нём всё, что захочу. В отличие от этой шмары в розовых штанах.
— Так это правда, что скандалить с Зиной начала ты?
— Я не намерена это обсуждать в таком тоне, — отрезала Пен.
— Скажи мне только одно, — попросил профессор. — Ты сама сказала, что Дем тебе не нужен… в смысле, как мужчина.
— Дем мой! — выпрямилась Пен во весь свой невеликий рост. — Я его не отдам. Никому. Никогда. Ни за что, — она шмыгнула розовым носиком и заплакала. — Потому что… кроме него… я никому не нужна…
Профессор растерялся.
— Ну что ты, что ты, — начал он бормотать какую-то чушь, — тебя все любят…
— Кто все?! — взвизгнула кошка. — Даже ты… ни разу… не погладил…
— Но это же неприлично! — ляпнул Пенсов.
Кошка спрыгнула со стола и исчезла под ним.
Профессор почувствовал, как что-то трётся об его ногу.
— Вот, — сказала Пен, вылезая из-под стола. — И не смей меня гонять, слышишь?
— Но как же, как же… — лепетал Пенсов, неловко опускаясь на колени и беря кошку на руки.
Пен дотянулась до его лица и лизнула его губы острым язычком.
— Ты же меня совсем не знаешь, — профессор чувствовал, что он несёт какую-то чушь чушь, но остановиться не мог. — Я старый. Со мной неинтересно…
— Папа, я любила тебя всю жизнь, — сказала Пен.
— Код этот дурацкий! — в отчаянии закричал профессор. — Ты же кошка!
Пен вырвалась из его объятий и упала на пол. Колыхнулся воздух.
С пола встала тоненькая блондинка с огромными зелёными глазами. Одежды на ней не было.
Взгляд профессора сам собой приклеился к маленьким упругим грудкам.
— Код этот дурацкий, — сказала девушка, — я давно сломала. А Дему не говорила, чтобы не приставал.
Пенсов сделал последнюю попытку.
— Но ты же моя дочь! — прошептал он, пытаясь сделать шаг назад. Ноги не слушались.
— Папа, ты спятил, — нежно сказала Пен, обнимая его и подталкивая к дивану. — У тебя всю жизнь был сын.
* * *
— И всё-таки, — сказал Пенсов через три часа, — не называй меня «папой».
— Папа, я всегда буду называть тебя папой, — сообщила Пен, прижимаясь к его голому предплечью.
— Почему? — вяло поинтересовался Пенсов.
— Потому что я так хочу, — логично объяснила Пен.
— Знаешь, дочка, ты невыносима, — вздохнул профессор.
— Никогда не называй меня дочкой, — потребовала Пен.
— Почему? — снова спросил Пенсов.
— Потому что мне это не нравится, — столь же логично объяснила Пен. — Папа с дочкой — это какой-то инцест. Фу, гадость. Кстати, я намерена взять фамилию Дементьева.
Они лежали на диване, кое-как прикрытые профессорским халатом. Халат медленно сползал на пол.
— А просто папа — это ничего? — пробормотал профессор, борясь с дремотой.
— Папа, ты засыпаешь, — Пен извернулась и легонько куснула его за плечо. — Между прочим, ты лежишь в постели с прекрасной юной девушкой. И спишь. Не стыдно?
— Старенький я уже, — проворчал Пенсов. — Я этого знаешь сколько лет не делал?
— Могу себе представить, — последовал ещё один лёгкий укус. — Придётся мне заняться твоим здоровьем. Не переживай, папа, лет триста ты ещё протянешь без серьёзного вмешательства. Дай ухо.
— Ой, — только и сказал Пенсов, когда маленькие острые зубки прокусили мочку.
— А вот и не больно, — Пен провела пальцем по профессорскому носу. — Зато теперь будешь пободрее.
— Эти ваши хитрые штучки, — Пенсов и в самом деле почувствовал, что дремота куда-то испаряется, усталость исчезает, а интересы смещаются в область ниже поясницы.
— Нет-нет-нет, — Пен чуть отодвинулась, насколько позволял диван. — Не сразу. Надо же тебя помучить.
— За что? — спросил профессор, борясь с подступившим желанием накинуться на Пен как лев на овцу.
— За то, что ты всю жизнь не обращал на меня внимания, — заявила нахалка.
— Но тебя же не было! — возмутился Пенсов.
— Это не оправдание! И ещё ты подмышки не бреешь. От тебя как от козла несёт.
— Хм, — Пенсов кое-что вспомнил, — не то чтобы у меня было много женщин…
Пен напряглась всем телом.
— …но не помню ни одной, у которой главное женское место пахнет кофе, — закончил профессор, безуспешно пытаясь дотянуться до этого самого места.
— Тебе не нравится? — последнее Пен произнесла с едва заметной ноткой беспокойства. — Я могу убрать кофе.
— Нет-нет, оставь. Просто теперь у меня будет вставать от одного вида кофейной чашки, — неуклюже пошутил Пенсов.
— Вот ещё, — фыркнула девушка. — Вообще, я обиделась. — Она чуть приподнялась, делая вид, что переворачивается на другой бок.
— И на что же ты обиделась? — профессор чуть помог ей перевернуться.
— А ты сам подумай, — надула губки Пен.
— Наверное, на то, что я слушаю твою болтовню, а не занимаюсь тобой, — догадался профессор и попробовал исправить оплошность.
— Ой! Ну подожди! Я так не хочу! Дай, я сама! — халат упал на пол, и торжествующая Пен вскарабкалась на торс Пенсова.
— Я не помешала? — прозвучал исполненный холодной иронии женский голос.
— Зина, уберись! — зарычал Андрей Валентинович..
Пен издала нечленораздельный возмущённый вопль и попыталась ухватить упавший халат, но не дотянулась.
— Простите, но я имею на это право. Я всего лишь хотела дать вам понять, что чувствует женщина, которую разглядывают в подобные моменты. Если учесть, что здесь находится половина режиссёра известного фильма с моим участием…
— Зина, ну что это такое? — возмущённо просипел профессор. — Если у тебя что-то срочное, дай нам одеться и потом заходи.
— Полагаю, можно обойтись без формальностей. Все свои, не так ли? — из воздуха выступила фигура невысокой женщины с холёным лицом, одетой во что-то серо-серебристое и чрезвычайно элегантное. Искрящиеся золотом волосы были уложены в какую-то сложную причёску. Безупречные линии бюста подчёркивала скромная бриллиантовая брошь.
Женщины повела рукой. Появилось кресло, тоже серо-серебристое. Зинаида устроилась в нём с непринуждённой грацией опытной светской львицы.
Профессор тем временем успел высвободиться из объятий Пен и даже натянуть на себя халат. Пен демонстративно закуталась в невесть откуда взявшуюся простыню.
— Ну и зараза же ты, Зина, — вздохнул профессор.
— Андрей Валентинович, прошу простить мне эту маленькую месть, но ваша новая подруга её заслужила¸ — Вагина смерила Пен взглядом, каким смотрит мясник на разделываемую тушу. — Хотя с какой-то точки зрения я должна быть ей благодарна. Как и вам, профессор, — она слегка наклонила голову. — Мне и в самом деле не хватало элементарнейшего образования и воспитания. Но последние полвека в технологических мирах, кажется, пошли мне на пользу. Я многое узнала, и, смею надеяться, многое поняла. Но ничего не забыла, — Вагина чуть-чуть подчеркнула голосом последние слова.
— А как у тебя с Де… — начал было профессор.
— О, я как раз по этому поводу, — Зинаида чуть приподняла краешки губ, обозначая приглашающую улыбку. — Мы с Демом просим вас посетить наш скромный совместный ужин. Я слепила один забавный мирок, и Дем заинтересовался. Как выяснилось, наши вкусы в этой области очень близки. Может быть, я даже сделаю ему предложение о творческом сотрудничестве. Надеюсь, — Вагина сделала едва заметную паузу, — вы поможете ему принять правильное решение. Насколько я понимаю, это в ваших интересах.
— Как всё это мило, — вздохнул профессор, завязывая пояс халата. — Я спутался с половиной собственного сына, а на другую половину претендует незаконное порождение моего пьяного бреда. Сон разума рождает чудовищ. Ладно, на ужин придём. Вот только с делами закончим.
— О да, понимаю. Не смею мешать вашим высокоинтеллектуальным занятиям. Встретимся в мире Маркони-Бич через пять часов по вашему времени, о'кей? Да, кстати. Я освободила Дема от этого отвратительного собачьего облика, и теперь он снова человек. Странно, что вы, Пен, не потрудились этого сделать раньше, — последовал ещё один убийственный взгляд. — Вы ведь, насколько я вижу, знали код?
— Зина, — широко улыбнулась Пен, — хочешь кофе?
Невеста
Снаружи было темно и шел дождь. Дохленький свет автобусных фар выхватывал впереди дорогу: жирное месиво из грязюки и раскрошенного асфальта, выбоины, колдобины и ямы, в которых лежала жёлтая вода, рябая от капель. Наверху дребезжал неплотно закрытый люк — «бры, бры, бры». Фиолетовые занавесочки на окнах чопорно вздрагивали. То и дело автобус опасно накренялся вправо, проседая к обочине.
Влад бочком пробрался по пустому салону и пересел на переднее сиденье — так меньше трясло. Попытался примостить между ног докторский чемоданчик с лекарствами и инструментом. Получилось нехорошо: от тряски чемоданчик елозил, норовя выскользнуть и шлёпнуться на грязный пол. Пришлось примотать его за ручку к поручню резиновым жгутом.
Он выбрал кладбищенский автобус, потому что это был единственный доступный транспорт, более-менее пригодный для перевозки тел. Вряд ли, конечно, это понадобится, да ведь заранее никогда не знаешь: в случае чего оно может пойти по-всякому. Стоило бы попробовать со «скорой». В конце концов, он мог бы повести её сам, посадив рядом кого-нибудь, знающего дорогу. Но, с другой стороны, подставлять коллег — Влад когда-то и сам работал на подстанции — не хотелось. Оставлять местный народишко без врачебной помощи — не хотелось тем более. К тому же водитель автобуса оказался единственным, кто ещё помнил проезд к старому кладбищу. И то — пришлось полчаса толкаться на кругу, нудно базарить с бомбилами, потом сидеть в местной тошниловке, и, давясь засохшим бутером, слушать вторым слухом всякие разговоры… Хорошо, что нашёлся хоть этот. Жаль, что пришлось его куснуть. Можно было бы, конечно, договориться по-людски, да придурок упёрся: «не, не поеду». И поздно-де, и далеко, и место не пикничковое, да ещё ждать, да ещё ночью. Каша из денег, которую Влад насобирал у себя по карманам, показалась водиле недостаточно сытной. Пришлось проследовать за мужичком за гаражи — он там собирался отлить — и делать эксклюзивное предложение. Не обошлось, конечно, без кой-какого физического насилия: водила не хотел подставлять шею под клык и пытался сопротивляться. Ну да чего ж теперь-то.
— А-а-вто-радио! — неожиданно закричала в шофёрской кабинке магнитола и задребезжала дрянной музычкой. Похоже, водила чуток очухался после обезволивающего укуса. И, ясен пень, первым делом врубил бормотофельник.
От сорного звука в салоне стало как-то тесно.
Влад немного послушал новости, сообщение о московских пробках и песенку «яй-а, яй-а, яблоки йелла», но когда в ушах засвиристел хит Ангелины Аум «ах бананчик сладкий мой бананчик у тебя мой мальчик, чмок-чмок-чмок» — не выдержал и пошёл смотреть, что там да как.
Оказалось, вовремя. Шофёр был в том нехорошем промежуточном состоянии, когда воля всё ещё подавлена укусом, но в голове уже начинает что-то побулькивать.
— П-пидоры, — булькал мужик, на автопилоте крутя рулевое колесо. — П-пидоры… Мы едем? Покойник в салоне есть? Нет? Тогда ничего, если музыка будет?
Держась за поручень, Влад наклонился над шофёром, примериваясь. Но тут автобус опять тряхнуло, да так, что он чуть не прокусил себе губу собственными клыками.
— Дорога, ёпта… Ёкарный бабай… Чего я тут сижу? Э, темно-то? Что-ли, ночь объявили, ёпта? Мы куда едем-то? — мужик приходил в себя, надо было быстро что-то делать.
— Веди себя спокойно, — пассажир положил руку на плечо водилы. Плечо было мягкое, покатое, потливое — что называется, бабье. Прикасаться к нему было неприятно даже через рубашку.
Водиле это тоже не понравилось. Он пробормотал «чё за дела» и попытался было стряхнуть руку. Пришлось прихватить его клыками за загривок и впрыснуть в мышцу дозу зобного секрета.
Ойкнув, шофёр выпустил баранку и сжался на сиденье. Секунд пять автобус шёл своим ходом, съезжая на встречную. Потом водила прочухался и с новой силой вцепился в руль, выравнивая тяжёлую машину.
— Мы едем на старое кладбище, — Влад склонился к волосатому уху водилы. — Ты везёшь меня на старое кладбище. Понял?
Обезволенный шофёр энергично затряс плешью и от дурного усердия газанул так, что из-под колеса с вырвалась толстая струя жидкой грязи и заляпала столб с перечёркнутой табличкой «Малафеево».
Влад рассеянно облизнул губы. Кровь была нехорошей, нездоровой. Он попробовал было разобрать, в чём там дело, но все оттенки забивал отвратительный привкус загубленной печени. Похоже, мужичонка сильно квасил… Снова пачкать рот не хотелось. Всё же он отсосал ещё немного — в последний момент ему показалось, что есть подозрение на онкологию. Оказалось — простата и ещё кой-какие болячки по той же части.
— Когда вернёшься домой, — мягко, но властно сказал Влад, кодируя мужичка на будущее, — пролечись. У тебя баланпостит развивается. Запомни — ба-лан-пос-тит. Это болезнь. Передаётся половым путём. Скоро у тебя там всё воспалится к чёрту. Лечись. И обязательно заставь жену провериться. У неё гарднереллёз. Запомни: гард-не-рел-лёз.
Ангелина Аум справилась, наконец, со своим бананчиком. Вступил Розенбаум, просящий не будить казака вашеблагородие.
— Гар… — мужик попытался справиться со сложным словом, не получилось. — Гарденелёз… Гаднелёз… Гар… дар…
— Гар-дне-рел-лёз. Запомни. Иди в больницу. Лечись. Жене тоже надо лечиться. Ещё женщины есть? Партнёрши? Ну, баба на стороне у тебя водится?
— Бабы всякие… А я про них всё знаю, про сук… им денег надо… — обезволенный человечек не мог лгать, но какая-то часть его маленького мозга всё-таки сопротивлялась, заставляя уходить от темы. — Денег им вынь да положь…
— У тебя есть ещё женщина, кроме жены? — Влад больно сжал плечо шофёра, так что у того дрогнула рука и автобус повело. — Есть?
— C Люськой, — выдохнул водила. — Она со всеми… я чего… я ничего… — похоже, в сознании водителя зашевелилось что-то вроде чувства вины.
— Так вот, обязательно скажи Люське, что она больная. Пусть проверяется. Будешь с ней ещё — только в презервативе. Понял? — Здесь желательно было бы глянуть мужику в глаза, закрепляя внушение, но отвлекать водителя на такой дороге было опасно. Поэтому Влад ограничился тем, что повторил фразу, и заодно потребовал выключить звук.
— Презики… — протянул шофёр, послушно вырубая гавкалку. — Презики… Для Люськи. Поял… Жизнь — она, да, — в его бедовой голове опять что-то провернулось не в ту сторону. — Вот жена моя… Света… знаешь что… тебе скажу. Котлеты жарить не умеет. Двадцать лет любил. Веришь, нет… А она котлеты…
Влад поморщился. Похоже, мужик относился к той разновидности людей, которые реагировали на передоз зобной жидкости приступом безудержной логореи.
— Жена котлет жарить не умеет, слышь. Двадцать лет — и все не умеет. Да… Вот как так можно? Двадцать лет. Котлеты жарить не умеет. Вот такой вот женьшень, — слова лезли из водилы, как какашки из кролика. — И бегонию не пересадила. Теперь даже не знаю. А на балконе срач. И в доме. Денег ниххх… — мужик икнул. — Свято ж! Нет же, сукападла. Говорит, начальство задерживает… где она там щас… — он внезапно крутанул руль и автобус выехал на встречку.
— Вернись на правую полосу. Мы едем на старое кладбище, — Влад слегка выпустил коготь и ткнул им в жирную спину водилы.
Тот опять икнул, но пришёл в чувство и выправил курс. Потом вдруг почти осмысленно спросил:
— Зачем едем туда?
— Мне нужно на свадьбу, — усмехнулся Влад. — Сегодня ночью там свадьба. Я вроде как свидетель со стороны невесты. Ну или типа того.
— Невеста, — мужик снова провалился в свои смутные мысли. — Невеста-хуеста… Бабы все грязные, — поведал он, понижая голос. — Люська тоже баба грязная. Потаёнку не бреет. Ты с неё трусняк стягиваешь… а тебе в лицо бах — такая… ну… подушка безопасности волосяная выскакивает, — мужик меленько засмеялся, — мне лично это не любо… И пахнет. Я ей говорю, сбрей хайры, а она мне фры. Такая вот разножопица получается…
Он немного помолчал, потом затянул новое:
— Начальство всё ворьё, вор на воре. Людям, слышь, них-хера не дают. Я такой жизни не понимаю… гребись оно всё ладьёй, Гайдар-байдар, Путин-мутин, блядва вся эта наверху, только бы воровать. Им дай, они у народа воздух спиз… спис… — он поперхнулся и немножко посидел с открытым ртом, глотая воздух, потом сглотнул и дожал голосом фразу, — теперь друг дружку едят без хлеба. Люська знаешь что говорит? Легче вскрыть на жопе вены, чем дождаться перемены! По жизни всё так и есть… Ну да Бог-то не тимошка, видит немножко… дожуются, дожиркуются суки… кровь нашу пьют… кровь пьют… Чубайс.
Влад скептически оглядел водилу и подумал, что уж его-то кровью Чубайс точно побрезговал бы.
Он вернулся в салон. До места оставалось ещё минут десять езды. Хотелось спать — не то чтобы сильно, а так, слегка. Он попытался было читать прихваченный с собой сборничек Веры Павловой, но книжка оказалась глупой и занудной, как и вся современная женская поэзия. В конце концов он принялся смотреть в окно, напрягая второе зрение. Увы, ничего интересного не было, кроме попадающихся костей на обочине: коровьи мосла, лосиный череп, какие-то засохшие перья, ещё что-то совсем уж мелкое. Все эти останки еле-еле подсвечивали жалобной зеленцой истощившейся ауры.
Они приехал, когда на улице уже стояла густая колодезная темень. Над старым кладбищем поднимались тонкие, невесомые паутины астрального света: очень много человеческих тел, давно отдавших остатки души Богу или Природе, кому что ближе… Свежих было мало. Спокойный сине-фиолетовый столбик свечения над старой могилой — скорее всего, семейный участок, куда совсем недавно внуки сгрузили зажившуюся бабушку. И несколько багровых пятен на краю, все с ядовитой оранжевой опушкой. Похоже, то были серьёзные люди: в зубах аурум, в грудине плюмбум, всё как полагается по жизни правильному пацану… Ярко сиял прикопанный с краешку — не на самом кладбище, а в лесочке рядом — труп. Судя по оттенкам свечения, человечка, прежде чем прикончить, долго истязали. Напрягая чутьё, Влад понял, что убитый был крутым и небедным, а последние годы прожил где-то далеко отсюда, в тёплом и безопасном месте. Небось, прилетел ненадолго, по бизнесу или просто родных повидать. Расслабился. Добро пожаловать домой.
Шофёр сидел на своём месте, сжимая баранку побелевшими пальцами, как утопающий последнюю соломинку. Ехать было некуда, новых приказов не поступало, и обезволенный мозг впал в ступор. Влад добыл из чемоданчика шприц со спокухой и пустил ему по вене подходящую дозу. В принципе, можно было бы обойтись своими средствами: защёчные железы вырабатывали прекрасное естественное снотворное. Оно бы и лучше, но тратиться сейчас не хотелось. Мало ли.
Он вышел, с силой раздвинув закрытые двери автобуса и направился к кладбищенской ограде. Дождь присмирел: не хлестал струями, а тихо накрапывал.
На кладбище было пусто и тихо, вокруг — тоже. Только где-то очень далеко, в загоризонтной темноте, дёргалось и порыкивало большое и очень тяжёлое — не то трактор, не то экскаватор.
Что-то зашуршало за спиной. Влад оглянулся, но увидел только мокрые красные огоньки автобуса. Присмотрелся. Почему-то обратил внимание на голубую полоску на мятом боку. Потом сообразил, что смотрит вторым зрением, а мёртвая вещь не излучает цветной ауры. Полоска, однако, почему-то упорно отливала в светлую синеву. Психика шутит? Или какая-то ассоциация? Напрягшись, вспомнил, чем навеяло: «…до отверстия в глобусе повезут на убой в этом жёлтом автобусе с полосой голубой» — это была строчка из журнальной подборки поэта Бориса Рыжего, и ещё что-то там было такое тра-ля-ля про ударные и безударные гласные: он читал это под белой больничной лампой после обхода, а рядом стояла вычурная кружка с кровью, точнее говоря — с кошмарной, совершенно несъедобной смесью, чего стоит хотя бы коктейль из Игоря Игоревича с его почками вкупе с леночкиной, приторно-сладкой от ранней беременности… нет, употреблять это по назначению было никак невозможно, но смотреть на кружку — по кайфу, потому что на ней написано «дорогому Владиславу Сергеевичу Цепешу в день рождения от коллег», и глаза пощипывало, и журнальные строчки расплывались: «похоронная музыка на холодном ветру… прижимается Муза ко мне — я тоже умру… духовые, ударные в ритме вечного сна… о, мои безударные „о“, ударные „а“…» и это были, чёрт возьми, хорошие стихи, и светила больничная лампа, и он знал, что находится на своём месте.
Всё-таки у меня правильная работа, думал Влад, осторожно пробираясь среди могил. Правильная работа и правильные ребята. Хотя сначала — когда он решил, что больше не будет скрываться — приходилось тяжело. Разговаривать с каждым, объяснять, убеждать, что-то доказывать, ужасно нелепо и унизительно… Но потом всё образовалось. День за днём, неделя за неделей, дежурство за дежурством — всё утряслось, всё встало на свои места. И теперь ему не приходится воровать краску из холодильника — холодную, невкусную, с лимонкой и цитратом натрия, или, того хуже, с гепарином, от которого его выворачивает… Или, скажем, устраивать кросс по солнечному коридору, на бегу отбрехиваясь от предложений покурить и поболтать. И много чего ещё не.
Ну конечно, над ним время от времени стебаются. Хотя бы эта вечная ресторанная хохма Генулика — «мне средней прожарочки, а вот этому господину, пожалуйста, прожарка ну са-а-амая минимальная… и красненькое подайте, он у нас по красненькому». Бесполезно говорить, что из человеческой еды он предпочитает ту, в которой нет даже следов крови животных, а свинину он теперь вообще не переносит ни в каком виде: свиная кровь похожа на испорченную человеческую и от этого особенно противна… А Фирочка презентовала ему диск с «Дракулой Брема Стокера» и тюбик с французским кремом для загара. А тот коктейль с краской и томатным соком?.. Да хрен ли. Медики — народ своеобразный. Чувство юмора у них, так сказать, сильно профессиональное.
Зато… Зато, скажем, питается он регулярно и разнообразно: ребята входят в положение и, так сказать, складываются. Правда, у Игоря Игоревича пиелонефрит, что изрядно портит вкус продукта, а у Виолетты Михайловны сложная женская судьба, сильно ударившая по гемоглобину. Но есть здоровый кабан Генулик, у которого высокое давление, так что небольшое кровопускание ему только на пользу. И Фирочка Отколупова, у которой в венах течёт настоящий нектар — однажды он не удержался и махнул зараз граммов двести… А теперь ещё и Танюша, которые в обеденный перерыв заходит к нему в кабинет, и, ужасно краснея, лепечет — уже расстёгивая пуговки и обнажая пульсирующую жилку на шее — «вы, Владислав Сергеевич, уж пожалуйста, засосов не оставляйте, я замужем»… Хотя он никогда не оставлял — только аккуратные точечки, заживающие буквально за пять минут. Танюшка, кстати, по секрету шепнула Михайловне, что её эта процедура ужасно возбуждает, а иногда — «ну когда он это… в шею… этими своими клыками… аж ноги подгибаются… если честно, кончаю». А недавно он нарвался на нахальную практикантку в готическом прикиде. Которая, когда ей про него рассказали, напросилась угостить своей краской. После чего заявила — «мне кажется, такие вещи должны быть взаимными». А пока он соображал, что она имеет в виду, встала на колени и расстегнула ему брюки… Хорошо хоть никто дверь не открыл. Н-да, молодёжь. Мы такими не были. А может, кстати, и зря, что такими не были, гм, гм…
Ладно, это всё фигня. Главное — на него рассчитывают. В самых тяжёлых, самых безнадёжных случаях. Как в феврале, когда они вытаскивали на этот свет детишек из-под обломков торгового центра. Тогда он дневал и ночевал в палате. Он не спал восемь суток подряд. Он колдовал над составами в капельницах, как средневековый алхимик — учитывая погоду, время суток, фазы луны и цвет ауры. У него болели губы и клыки от постоянных анализов. У него сводило скулы от голода, а он не мог поесть, потому что вкус нормальной свежей краски глушит тончайшие рецепторы… Но когда он вышел из палаты — белый, иссохший, с окровавленным ртом и запавшими глазами — классический вампир, куда там киношному Дракуле — и сказал «всех в третью», он услышал вторым слухом шёпот: «надо же, все живы… не верю…». И ещё тише: «Сергеич он у нас один такой…» И тогда он понял, что готов снова войти в такую палату ещё на неделю. Или на сколько там оно понадобится.
Дело даже не в репутации, к ней он равнодушен… ну, скажем так, почти равнодушен. Просто работа была сделана как надо и оценена по достоинству. Впрочем… нет. Никто из обычных людей не сможет этого оценить — что это такое, когда окружающий мир скатывается грязной простынкой и перестаёт отсвечивать, зато удары чужого пульса отдаются в кончиках клыков громом небесным…
Хотя… зачем весь этот пафос? Людям нужен результат. Их драгоценные жизни и не менее драгоценное здоровье. Нужное, чтобы пить водку, смотреть телек и читать газеты. И вот мы возимся, становимся на уши, спасаем — чтобы очередной спасённый и выздоровевший мог пить водку, смотреть телек и читать газеты. Как будто, если он умрет, больше некому будет смотреть телек и читать газеты.
Лёгкий приступ самолюбования закончился, как обычно, мизантропическим делириумом. Что поделать, такой уж у него вредный менталитет. А то ж. Повкалываешь в московской больничке годочков этак дцать с гаком — тот еще менталитет себе отрастишь.
Он добрался до оговоренного места. Открыл чемоданчик, достал фонарь. Мягкий электрический свет осветил пятачок земли среди покосившихся оград. Участок был старый, непосещаемый. Тяжёлые мраморные кресты соседствовали с ржавыми звёздами на железных палках и гранитными утюгами с вмурованными фотокарточками. О добрососедстве, впрочем, говорить не приходилось: разнокалиберные памятники угрюмо наезжали друг на друга — во всех смыслах этого богатого слова. Некстати вспомнилось какое-то художественное воззвание, где кладбища сравнивались с музеями. Что-то там было про мрачное смешение множества тел, неизвестных друг другу… А, вот оно: «общественные спальни, где одни тела обречены навечно покоиться рядом с другими, ненавистными или неизвестными». Кажется, Маринетти. Основатель итальянского футуризма. Птичка божия незлая, любитель больших скоростей… Кстати о птичках: где наши претенденты на руку и сердце? Пора бы уж. Он напрягся, пытаясь различить следы вампирской ауры. Никого. И невестой вроде как тоже не пахнет… Ладно, ладно, подождём, мы терпеливые.
Влад поискал какой-нибудь пятачок, чтобы присесть, не сильно запачкавшись. Ничего подходящего не нашёл, но не слишком огорчился. В конце концов, и то хорошо, что дождь не хлещет.
На дороге сыто зарычал дорогой и мощный автомобиль. Влад мгновенно сосредоточился, напряг второе зрение. Так и есть, здоровенный «лендровер». А в нём сидит претендент номер один. Гость — не хуже татарина.
Судя по ауре, это был приземистый, массивный вампир лет сорока или около того. Он был упакован в какие-то дорогие тряпки, а в животе его плескалась свежая кровь. У него было оружие, скорее всего пистолет: чуялся холодный опасный металл у бедра. Цвета ауры свидетельствовали о самодовольстве, вскормленном хорошими деньгами, неплохими возможностями и очень немалыми амбициями. Но, похоже, человек уже давно не решал проблемы, полагаясь только на себя лично. Неудивительно, что он всё-таки боялся. Или, скажем так, немного беспокоился. Аура-то бледновата для таких понтов… н-да.
Тем временем претендент встал враскоряку, сложил руки лодочкой и закричал:
— Эй! Тут есть кто?
— Кричать не надо, — сказал Влад.
Тот дёрнулся — аура колыхнулась — потом взял себя в руки.
— Ты кто? — спросил он уже почти нормальным голосом.
— Я распорядитель свадьбы, — сказал Влад. — Я вам всё объясню.
— Точно распорядитель? — подозрительно спросил низенький. — Документ какой-нибудь есть?
— Документ сейчас ты предъявлять будешь, — раздражённо ответил Влад. — И не ори так. Я тебя прекрасно слышу. — Он не любил тыканья, но чувствовал, что с этим набобом следует обращаться именно так.
Низенький, кряхтя, пробрался между могилами и подошёл ближе — не появляясь, однако, в пределах прямой видимости первым зрением.
— Да не прячься, — поморщился Влад. — Я тут один. Ждём остальных. Успеешь ещё промёрзнуть… Приглашение с собой?
— Ну, — претендент, уже не таясь, вышел из-за ближайшей ограды, внутри которой свирепо чернел мраморный монумент. — Лады. Будем знакомы. Я — Саша Швёдов. Швё-одов, не как «Швеция», а как «мёд», понял? — он упёр на «йо» в середине. — Куришь? — он достал пачку «Парламента».
— Вообще да, но сейчас не буду. Приглашение давай, — напомнил Влад. Он уже чуял запах верхним чутьём, но необходимо было убедиться.
— Вот, — Саша достал паспорт и лист бумаги, закатанный в прозрачный пластик. На листке было криво написаны цифры.
Влад сверил цифры с номером паспорта — всё совпадало — и осторожно надорвал край пластика. Запах, которым тянуло из-под пластика, обозначился в воздухе и приобрёл объём. Тяжёлый, животный аромат, манящий и возбуждающий.
— Фффу, — Швёдов потряс головой как лошадь. — Я когда эту бумажку получил, меня прям как по балде шарахнуло. Хрен вскочил, аж в пупок упёрся. Это что такое вообще? Она так пахнет?
— Ну да. Естественный запах вампирши, — объяснил Цепеш. — Нравится?
— Гы… — осклабился мужик. — Аб-балдеть. Я уже хочу.
— Хотеть не вредно, — Влад не улыбнулся.
— Кстати, а почему у обычных баб предрасположенности не бывает? — поинтересовался Швёдов. — Я вот столько девок перекусал, не поверишь. Хоть бы одна оказалась из наших…
— Вампирессы бывают только прирождённые, — сказал Цепеш. — Мало их очень… Да ты кури, кури, я не хочу просто.
Мужик завозился с зажигалкой, укрывая сигарету ладонями от ветра.
— С официальной частью закругляемся, — Влад вспомнил, что ещё не представился. — На правах распорядителя я допускаю тебя к свадьбе. Меня зовут Владислав Цепеш, можно Влад. К тому Цепешу прямого отношения не имею. Папа выпендрился, сменил фамилию. И меня назвал Владом. Юмор, конечно, сомнительный. Но я привык.
— Это что, в советское время фамилию сменил, да ещё на такую? — заинтересовался Швёдов. — Он у тебя кем был, папачиус твой?
— Большой шишк, — не стал уточнять Влад.
— Погодь, — до Швёдова, наконец, дошло, — так ты из потомственных? Если папа такую фамилию взял…
— Я прирождённый вампир в третьем поколении, — объявил себя Цепеш, надеясь, что это не прозвучит не очень глупо и надменно. — Если тебе сегодня повезёт, начнёшь свою династию.
— Ну, я сюда за этим и ехал… Ты, значит, прямо такой и родился. Круто. Слушай, а маманя тебя чем кормила, когда ты мелким был? Молочком, в смысле, или сразу ей родимой? Извини, если чего. Просто интересно.
— У меня была кормилица. Чем кормила… молоком с кровью, — грустно улыбнулся Влад. — Я же кусался. И ещё папу кусал за палец. Ма-аленькими такими клычками. Было очень вкусно, до сих пор помню. Говорят, я рос милым ребёночком, румяненьким… кровь с молоком, так сказать… Ладно. А ты как записался в наш клуб?
— Да как все… Был молодой да ранний. Денег нет, работы нет, делов в те времена никаких не было. А жить-то хочется. Парень я крепкий. Ну, сказал мне один жожик, что можно подработать, если кровь сдавать. Налево, в смысле. Сказал зачем, но я тогда не поверил. Я тогда вообще в вампиров не верил. Научный атеизм, то-сё.
— Не понимаю, чем вампиры противоречат научному атеизму, — заметил Цепеш, но Саша выслушал без интереса и тут же вернулся на своё:
— Ну а потом я уже и в доноры подался. Одному серьёзному дядьке. Сначала всё ничего шло, а потом бах. У меня, оказывается, предрасположенность… Кстати, она часто бывает?
— Редко. Статистики точной нет, — пожал плечами Влад.
— Ну, понятно… В общем, попал я. Но тот мужик оказался правильный. Ответственность какая-то у него была, понимаешь? Не кинул меня — кормись, дескать, сам, хоть бомжатину на улице пей. Нееет. Пристроил при себе, взял в дела… а потом я и сам раскрутился… Как-то так.
— Кстати, — свернул с темы Цепеш, — а почему ты так представляешься — Саша? Несолидно звучит.
— Солидно, Влад, солидно! Сашу Швёдова кому надо все знают, будь спок. У нас типа фирма. Решаем проблемы. Свои проблемы, чужие проблемы, всякие проблемы решаем. Ты-то сам чем живёшь? По бизнесу или по разборкам?
— Ни то, ни другое. Я бюджетник. Больница…
— Знаем мы, какой у вас бюджет, — в голосе Швёдова просквозила заинтересованность. — Ну да, больничка. Классика. При краске, значит. Переливания, все дела. Удобно, конечно. Но я предпочитаю свежую. Знаешь, кстати, кем я сегодня ужинал? Топ-моделью. Аристократка потомственная. У неё краска прям голубая, полированная, аж светится. И всё в одном флаконе. В смысле пожрать и потрахаться.
— С топ-моделями у нас херовато, но кровь я пью из вены, — скромно заметил Влад. — У нас хороший коллектив. Делятся.
— Что, вот прям так? Ну ты устроился! Я нехилое бабло за это выкладываю.
— Коллеги меня ценят, — улыбнулся Цепеш. — И не дают умереть с голоду.
— Хм… верю. Значит, хороший врач. Слушай. Мы же должны помогать друг другу. Когда закончим с этими делами, надо будет перетереть вопросы сотрудничества. У наших ребят бывают проблемки со здоровьем, так что… Кшшш, пшла, дрянь! — что-то маленькое и тёмное шарахнулось за ограду.
— Кошка, — сплюнул Швёдов. — Не люблю я их. Меня в детстве вот такая киса покусала, помойница. Безобидная была с виду, сволочь. Я мелкий тогда был, жизни не знал. Хотел погладить. Так она меня уделала… Ладно, не буду тут из себя Шарикова давить. Но вообще я их серьёзно не люблю. Живность всю эту. Вот кто настоящие вампиры-то и есть, все эти домашние тварюки. Собачки, кошечки. Срут, ссут, кусаются. Воздух ценный переводят. Зачем живут — непонятно. Чёрт, сбился я с мысли… О чём-то мы говорили важном… А, ну да. Так вот, у наших ребят бывают всякие проблемки. Ты как насчёт помочь, если у наших чего?
— В пределах возможностей, — Влад хорошо знал, как принято отвечать на такие вопросы. — Крыша у нас хорошая, не течёт, а так — можно обсудить.
— Ага, вот так. Ну, ты, понял — по деньгам, если чего, не обижу. Если проблемы какие будут — тоже ко мне. Давай, что-ли, это… Визитка есть?
Влад рассеянным жестом протянул визитку, напряжённо вглядываясь в темноту.
— Да это кошка… — начал было Швёдов и осёкся.
— Нет, не кошка. Это второй, — прокомментировал Влад. — Подтягивается потихонечку.
От дороги донёсся громкий мотоциклетный треск.
— Точно к нам, — заметил Цепеш.
Помолчали. Швёдов бросил недокуренную сигарету на землю и аккуратно задавил окурок каблуком.
— Кстати, — его аура чуть съёжилась, выдавая беспокойство, — ты скажи: что у нас будет-то? Вроде я чё-та слышал про какой-то турнир…
— Ну, до этого может и не дойти, — Влад почесал нос. — Иногда невеста сама выбирает себе пару. А иногда приходится драться. На кулачках, так сказать. Но участие не обязательно. Можешь просто уйти. Если захочешь, конечно.
— Разберёмся, — заявил Саша. Аура грозно распрямилась, оранжевые сполохи растопырились веером. — Со всеми разберёмся.
— Да тут такое дело… — начал было Влад, но в этот момент услышал приближающиеся шаги.
— Вот он, второй. Идёт, кстати, прямо на нас.
Швёдов уставился в темноту, прищурился.
— Урод какой-то, — тихо сказал он.
— Ты кого уродом назвал? — донеслось из темноты. Похоже, Саша забыл, что второй слух тут имеется у всех.
— Не тебя. У нас тут свои разговоры, — погасил Влад начинающийся конфликт. — Давай сюда.
Второй претендент оказался молодым парнем с характерной вампирской внешностью: тощий красногубый блондин. Аура бодро попыхивала оливковым.
В руке у парня было свёрнутое в трубочку приглашение.
— Я распорядитель сегодняшнего мероприятия, — начал Влад. — Зовут меня Владислав Цепеш. Не родственник. А это господин Александр Швёдов, претендент…
— Саша Швёдов, — перебил тот. — Профессионально решаю проблемы.
— Ланшаков Валера, — буркнул новенький. — А также ди-жей Ланж. В смысле, это я — Ланж. Может, слышали?
Влад вспомнил про «Авторадио» и промолчал.
Зато Саша обрадовался:
— А, так это ты и есть? Тоже из наших? Не знал. Я тебя слушал в «Мальстрёме» на той неделе вечером. Круто забабахал.
Аура Ланшакова смущённо порозовела.
— Ну, в «Стрёме» ещё не круто было. Приезжайте все в пятницу в «Собаку Качалова», это клуб такой на Фрунзенской, недавно открыли… Там будем зажигать.
— Приглашение давай, — напомнил Влад. — И документ, удостоверяющий личность.
Он проделал всё то же: сверил данные, надорвал угол пластика, понюхал. Запах слегка ударил в голову, пришлось сделать несколько глотков сырого воздуха.
— Чем это пахнет? — задал ожидаемый вопрос Ланшаков.
— Запах женщины, — встрял свежеобразованный Саша. — Вампирессы то есть. У них там в этом месте…
— Нич-чёсики, — Валера демонстративно потёр ладонью у себя в паху.
— Слушай, я вот что хочу спросить: в музыке наших много? — перевёл разговор Швёдов. — Ну, в смысле, среди музыкантов?
— Не очень, — как бы оправдываясь, сказал парень. — Там геи в основном.
— Пидоры, — зашипел Швёдов. — Не признаю этого слова, «геи». Пидоры! Как телик включишь — там пидор кривляется. Я считаю — мочить их надо. Шлёпнуть в патоку — и все дела.
— Ну, как сказать… — пожал плечами Валера. — Они всякие бывают. Есть нормальные. Нас вот тоже многие не любят. Ну и чего? Я вот тоже, пока человеком был, к вампирам относился как-то не очень. То есть вообще в них не верил, конечно, но как бы не любил…
— Ты сравнил, — наёжился Саша, — кто мы и кто пидоры. Они же извращенцы, в очко долбятся. Ты вот долбиться в очко сможешь?
— Охренел? — Ланшаков даже слегка отодвинулся от Швёдова. — А хотя… ты вот в «Летучую Мышь» ходишь? С Москалюком краску квасишь? А Москалюк знаешь кто?
— Хожу, — признал очевидное Саша. — И с Жорой знаком. Ну, в смысле здороваемся. Хотя он пидор во всех смыслах. Но кабак у него знатный. Главное, донора там всегда можно снять.
— Если бабло есть, — завистливо вздохнул Валера. — С доноров, кстати, Жора имеет по полной. И хучь ты чего скажешь: точка-то его… Ну и дрючит, конечно, в попинс.
Стали обсуждать «Летучую Мышь» — дорогой московский вамп-клуб, о котором Влад много слышал, но ни разу не был. «Мышой» заправлял Жора Москалюк, известная сволота, вдобавок ко всему ещё и любитель жарить в фуфляк.
Из дальнейшего разговора выяснилось, что Ланшаков стал вампиром где-то с год назад, по пьяной лавочке: с малознакомым приятелем припёрся на чей-то день рождения, потом оттуда попёрся ещё куда-то, заснул, проснулся на улице — без денег, без документов и без литра краски в венах. Для подавляющего большинства граждан такие истории кончаются просто скверным воспоминанием, но у Ланшакова была предрасположенность, так что через пару месяцев у него проклюнулись клычки. Хорошо, что на озвучке сидел один старый вампир, который быстро понял, что происходит с парнем, объяснил ему некоторые основные вещи, а главное — дал наводку на точки, где можно купить флакон консервированной или пообщаться с донором. На доноров у Валеры, правда, не хватает заработков и сейчас, но он не унывает — после открытия второго слуха он понял про музыку что-то такое очень важное и теперь профессионально растёт ни по дням, а по часам…
Опять высунулась из-за ограды кошка. Ланшаков зарычал на неё собакой, и та сгинула. Швёдов такое обращение с животиной горячо одобрил, и разговор переключился на вред, происходящий от домашних животных.
Третий претендент появился неожиданно.
Этот умел ходить бесшумно и маскировать ауру. Поэтому, когда из-за могильного камня высунулось сморщенная бородатая физиономия, даже привычный ко всему Влад невольно поёжился.
Физиономия гадко ухмыльнулась.
— Ждря-ашьче вам, — тихо и опасно просвистело в воздухе.
Говорящий сильно шепелявил — похоже, с зубами у него были проблемы.
— Выползай, — даже не пытаясь скрыть омерзение, сказал Влад. — Тебя никто не тронет. Здесь, по крайней мере. Подходи, что-ли, как тебя там…
— Ш-шидоровичи мы… — претендент подошёл поближе, однако не слишком близко.
— Пидоровичи вы, — ощерился Ланшаков. — Из-за таких нас и не любят.
— Мразло, — поддержал Швёдов.
Типчик и впрямь выглядел на редкость погано. Тощий, сгорбленный, с трясущимися руками и нечистой бородой, местами слипшейся от крови, и к тому же — если смотреть вторым зрением — окутанный свечением блевотного цвета.
Это был уличный вампир, «стрей», гроза бомжей, бич детей-беспризорников, ужас запоздалых прохожих. Уличные обычно не церемонились с добычей, высасывая тела досуха — из жадности и от страха перед разоблачением. Цепешу пару раз приходилось доставать с того света жертв стреев. Один выжил. Второй — тринадцатилетний мальчик в смешных очочках — умер у Влада на глазах. Кровосос уж очень старательно над ним поработал: наверное, жил рядом и боялся, что мальчик, если останется в живых, его узнает… Влад выяснил адрес мальчика и чуть ли не месяц гулял в том районе, разыскивая убийцу, но так никого и не нашёл…
Обычно уличные живут не слишком долго — рано или поздно их отлавливают и убивают свои же — но этот был старый и хитрый. Он даже подходил с оглядочкой, готовый в любой момент броситься наутёк.
— Ну шшто, мужжишки, женичьшя бум? — физиономия скривилась. — Кто жжешь за главного? Ксиву мою пжовежь, э?
— Я распорядитель, — сказал Влад с отвращением. — Доставай приглашение. И быстро.
Стрей протянул немытую лапу с жёлтыми ногтями. В ней был зажат такой же листочек, как у Швёдова и Ланшакова.
Закатанная в пластик бумажка сначала показалась Цепешу подозрительной: вместо паспортных данных там значилось только «Ефим Сидорович». Однако, аромат вампирессы был вполне настоящим. Вздохнув, Цепеш вернул уличному заявку и допустил его.
— И этот туда же. Женишок, мля, — Саша демонстративно сплюнул.
— Да ты не менжуйшя, — неожиданно ехидным голосом заговорил уличный. — Чего чибе меня боячшя? Я же штаренький…
— Говнище какое, — набычился Швёдов, засовывая руку за пазуху. — Может… того? У меня пули серебряные.
— Положи на место и не доставай, — попросил Цепеш. — Не то, когда начнётся, пристрелишь кого-нибудь. Причём не его. Так что — не здесь и не сейчас. И ты тоже тихо сиди… Сидорович. Ну и отчество у тебя.
— Папку мово так жвали, — обиженно прошепелявил Сидорович. — А нашшот бабы — это ушш пущщай баба решает…
— Заткните кто-нибудь этого чушка, или я за себя не отвечаю! — взорвался Саша.
— Заткнись, Сидорович, — скомандовал Влад. — Тут он прав, — обратился он к Швёдову. — В данной ситуации вы все, к сожалению, равны. Выбирает невеста. Если ей понравится этот, — он деликатно пропустил слово, — значит, будет этот. Ему же ответили на заявку?
— Почему у него вообще приняли заявку, хотелось бы знать, — Саша почесал подбородок. — Должен быть какой-то контроль.
— Какой контроль? — спросил Влад. — Система веками не меняется. Любой вампир может написать заявку в произвольной форме, удостоверяющую его желание продолжить род естественным путём. А также данные о том, как его найти в случае удовлетворения просьбы. Заявку кладут в одно из известных мест. Ты свою куда клал?
— В дупло. То есть, — сразу поправился он, — в смысле — в настоящее дупло. В дереве. В Ботаническом саду.
— Дубровский, — хихикнул Валера, блеснув знанием школьной программы.
— Иди ты, — беззлобно сказал Саша. — Сам-то…
— А мне адресок дали до востребования, я письмо послал. Честно говоря, сейчас вот думаю… Я вообще-то не очень хотел, — смутился Ланшаков. — Рано мне детей-то. Мне просто сказали, что чем раньше начнёшь заявки подавать, тем больше шансов… Некоторые, говорят, всю жизнь подают, и бестолку…
— Надо жнать, кому шловечко жамолвить, — встрял Сидорович. Его проигнорировали.
— Не некоторые, а большинство, — заметил Влад. — Принимается процентов пять от общего числа. Это всё равно что попасть в шорт-лист Букера. Так что вам всем, считайте, крупно повезло.
— Извини за такой вопрос, а как ты сам насчёт… — начал было Валера.
— Уже, — тут же ответил Цепеш. — У меня сын подрастает. Четвёртое поколение.
— Сын — хорошо, — рассудительно заметил Швёдов. — Как зовут парня?
— Герка… Герман то есть, — поправился Влад. — Герман Владиславович… Его мама хотела девочку, — добавил он.
— А правда, что Шарон Стоун наша? — сменил тему Ланшаков.
— Брехня, — авторитетно заявил Валера. — Вот про Мадонну вроде бы точно, что она таки да.
— Пужачёва нашша, — попытался встрять в разговор уличный.
— Заткнись, говно, — Швёдов достал сигарету, размял в пальцах, но курить не стал. — Слушай, — повернулся он к Владу, — мне кажется, или сюда ещё кто-то прётся?
— Не кажется. Только он не скоро дойдёт. Он не из наших.
— Тогда зачем? — Ланшаков, прищурился, разглядывая ауру незнакомца, — Слышьте, мужики, это же вроде пацанёнок какой-то?
— Ну, ты не сильно старше, — отпарировал Цепеш. — Но, в общем, да. Юноша бледный со взором горящим.
— И что он тут делать собирается? Он же не вампир.
— М-м-мн… — Цепеш поискал обтекаемую формулировку. Не нашёл. Решил назвать вещи своими именами. — Просто за него заплатили нехилые бабки, чтобы он тут потусовался невдалеке.
— Кто кому пробашлял, не понял, — нахмурился Саша.
— Вампирессам, — терпеливо объяснил Цепеш. — Им заплатил папа этого пацана. За то, чтобы парень тут немножко постоял рядом. Есть у него особый интерес.
— Какой?
— Вообще-то я не имею права… — замялся Влад.
— А у кого есть право? Кстати, как ты вообще в распорядители-то вылез? — подозрительно прищурился Швёдов.
— Ну… всякие причины. Меня охотно приглашают. В частности, потому что я медик. И могу оказать первую помощь в случае чего. А также решить проблему с трупами, если что.
— В случае чего? Если что? — переспросил Ланшаков. Потом сообразил, что сморозил глупость, и окончательно заткнулся.
— Платят, что-ли? — не отставал Швёдов.
— Ну, в том числе и платят. Лишних денег не бывает, — объяснил Влад.
Саша понимающе склонил голову: высказанная сентенция была ему по жизни близка.
— Хотелось бы знать, по какому принципу претендентов выбирают, — сказал Ланшаков. — Это типа лотереи или как?
— Насколько мне известно, нет. Вампирессы приглядываются к кандидатам… собирают на них данные… что-то вроде того, — ответил Цепеш. — Им нужны гарантии того, что ребёнок получит нормального отца.
— Пробивают, значит… Но почему тогда этот выродок?.. — Ланшаков картинно повернул голову к Сидоровичу.
— Это решают вампирессы, — вздохнул Цепеш. — У них бывают странные вкусы. Хотя в чём-то объяснимые. Их интересует потомство от производителей с высокой способностью к выживанию. А этого выродка, по крайней мере, не поймали…
— Ну зачем ему ребёнок-то? — развёл руками Швёдов. — Он же его содержать не сможет.
— А это не вам решшшать, — внезапно зашипел уличный. — Уж как-нибудь шам шоображу… не пропажжём…
— Ну вообще-то, — заметил Влад, — вопрос глупый. Вот тебе зачем ребёнок?
— А чего тут думать-то? — Саша развёл руками. — Я детей хочу. Продолжить род. У меня и раньше их не было, а теперь вот и не будет. Кстати, вот ты доктор… скажи, почему? Почему у вампира не может быть детей от нормальной бабы?
— Потому что он вампир, — сказал Цепеш. — Извини, — поправился он, — это не ответ, конечно. Но другого нет. Официальной науке это неизвестно.
— Официальной… Официально нас вообще не существует, — вздохнул Швёдов.
— Ну и правильно, что не существует. Меньше болтать будут, — встрял Ланшаков. — Представляешь, какая шиза у людей поднимется? Мне лично осины в бок не нужно.
— Всё равно все, кому надо, зна-а-ают, — Саша нервно зевнул.
— Кому надо, те знают, а остальным необязательно, — пресёк разговорчики Влад. — Может быть, я всё-таки введу вас в курс дела?
Все замолчали.
— Итак. Во-первых, если кто-то думает, что он уведёт отсюда счастливую невесту, то он глубоко ошибается. Женщины-вампирши предпочитают вынашивать плод в одиночестве. Так что всё нужно будет сделать здесь.
— Трахнуть, в смысле? — уточнил Валера.
— Ну… в общем, да, — Цепешу не хотелось углубляться в этот вопрос раньше времени. — Дальше. Снова вы увидите вашу суженую только через девять месяцев, уже с ребёнком. Дальше вы уж сами с ней решите, как жить дальше. Точнее, это она решит, захочет ли с вами жить. В любом случае, ребёнок остаётся вам. Вампирессы — плохие матери, с детьми возиться не любят. Так что, ежели не сойдётесь характерами… сами понимаете, растить своё чадо придётся одному. Я своего один воспитываю.
Валера откровенно приуныл. Что подумал Сидорович, осталось неясным. Во всяком случае, он остался на месте.
— Теперь второе. В подавляющем большинстве случаев вампиресса делает выбор сама. Тогда она даёт мне понять, кого она хочет. Моё дело в таком случае — увести отвергнутых кандидатов. Но иногда устраивается нечто вроде поединка. Сильнейший получает невесту. В этом случае моё дело — находиться в отдалении, чтобы потом оказать помощь тем, кому её можно оказать, а также забрать трупы для последующего уничтожения… Вампиров, как вы знаете, в земле хоронить не принято. Во избежание интереса посторонних людей к нашим телам. Нечего в них копаться.
— Трупы… — протянул Швёдов. — Н-да, ничего себе дела. — Смотрите-ка, чувак-то этот… подгребает потихоньку.
Неяркий огонёк человеческой ауры медленно двигался по кладбищу. Внезапно он вспыхнул красным, и через полсекунды вампиры услышали шум и сдавленный стон.
— Навернулся, — прокомментировал Валера.
— Ничего удивительного. Тут, знаешь ли, для человека темновато, — сказал Влад.
— И страшно, небось, аж жуть, — вздохнул Ланшаков. — Нам бы его проблемы… Долго нам ещё ждать великого счастья?
— Не знаю. Невеста думает. А что у неё на уме, я не знаю.
— Ты её видел, невесту эту? Она так ничего? — обеспокоился Швёдов.
— А тебе не всё равно? — пожал плечами Влад.
— Ну хоть красивая? Они же красивые, девки-то наши, — не отставал Саша.
— После родов они очень хорошеют, — неопределённо сказал Цепеш. — И очень долго остаются в форме. Кстати, в Голливуде их много.
— Вот и я так думал, — с облегчением вздохнул Ланшаков. — А то, знаешь, всякие мысли в голову приходили. Вдруг уродка. Да ещё прямо здесь с ней трахаться. Честно говоря, как-то не стоит у меня на такую перспективу. Хотя запах… это да.
— У меня встанет, — Швёдов достал ещё одну сигарету. Он нервничал.
— Извините, — послышался робкий голос.
— Алик? Дошёл? Ну, выходи, — разрешил Влад.
В круг света вступил совсем молодой парень, почти мальчик. Его синий английский свитер был испачкан мокрой землёй, бежевые брюки намокли. Массивные ботинки на тощих ногах выглядели нелепо и жалко.
Близоруко щурясь, он сделал осторожный шажок в сторону собравшихся мужчин.
— Здравствуй, Алик, — мягко сказал Влад. — Меня насчёт тебя предупредили. Я — распорядитель мероприятия, меня зовут Влад Цепеш. А вот это — господа претенденты на невесту. Знакомство пока отложим до лучших времён. Тебя папа подвёз? А забирать тоже папа будет?
— Не, — выдавил из себя пацан.
— Значит, обратно отвозить тебя мне… Нехорошо. Ладно. Папа что-нибудь для меня передавал?
— Угу, — засмущался Алик, вытаскивая из кармана конверт. — Вот.
Цепеш, не чинясь, сунул его во внутренний карман.
— Бабло, — сказал Швёдов с уверенностью.
— Ну да, — не стал отрицать Влад. — Скажи ещё, что ты выше этого… Алик, иди сюда. Я сейчас тебя немножечко укушу. Подставь шейку. Это не больно. Папа же тебя кусал, правда?
Парень кивнул и покорно оттянул свитер.
Цепеш попробовал губами холодную кожу мальчика, вонзил зубы, вливая обезволивающее. Подождал немного. Потом скомандовал:
— Иди во-он туда, там оградка открытая. Сиди там и не двигайся. Сиди и не двигайся, понятно? Когда будет нужно, я позову.
— У-ммм, — бормотнул Алик и поплёлся в темноту, слепо выставив перед собой руки.
— Ботан, мокрица, — заценил парня Швёдов. — Слушай, ну он же не вампир. Что он здесь делает?
— В том-то всё и дело. Папашка хочет, чтобы сын стал вампиром, — Влад решил всё же объяснить кое-что. — Он у него единственный, родился ещё до папиной инициации. Такие вот дела.
— Ну так что? Если есть у парня предрасположенность, регулярно целуй его на ночь и жди результата. А если нет, ничего не поможет.
— У него нет предрасположенности. Поэтому папа его сюда и отправил.
— Не вижу связи… А что, предрасположенность можно заиметь? Это как же? А мы тут при чём?
— С какой целью интересуешься? — Цепеш слегка зевнул. Это было нервное — как обычно перед началом турнира. То, что он начнётся вот-вот, Влад уже не сомневался.
— Бабой пахнечь, — стоящий в сторонке Сидорович повёл носом по воздуху. — Вкушшно.
Через пару секунд Влад тоже почуял тот же запах, что был в приглашениях — пока ещё едва заметный, но уже заводящий.
— От-тё-тё, — принюхался Ланшаков и пошёл на запах.
— Куда? — одёрнул его Швёдов, тоже водящий носом по сторонам.
— Пшол ты, — Валера сделал шаг в тёмные кусты, откуда шёл запах.
Швёдов ухватил Ланшакова за воротник и развернул к себе.
— Ты кому это сказал, Валерочка? — почти нежно спросил Саша. — Может, по ебальничку сначала оформим?
Уличный легко вскочил на ноги и отпрянул в тень.
Ланшаков развернулся. Аура взметнулась метра на три: за секунду-другую парень успел налиться адреналином под завязку.
Он не тратил время на разговоры, а просто засветил Швёдову в табло — неумело, но сильно. Саша поскользнулся в грязи, но не упал. Когда он выпрямился, над ним столбом стояла аура цвета пламени.
— С-сучонок мля, — прошипел он и ударил Сашу головой в лицо. Тот отпрянул и попытался двинуть Швёдову по ушам, но не попал.
— Та-ак, мужики, — сказал Влад. — У вас тут дела начались. Я пошёл. Удачи, — пожелал он непонятно кому и отступил в темноту.
Несколько мгновений за спиной слышались обычные звуки мужской драки: сипение, хрип, удары по мордесам, матюги и прочая хрень. Вдруг стало тихо — той нехорошей тишиной, когда обычная драка переходит в нечто большее. Слышалось только шлёпанье ног по грязи и прерывистое дыхание.
Потом раздался яростный вопль. Не нужно было оборачиваться, чтобы понять: кто-то пустил в ход клыки.
Тогда Цепеш побежал, надеясь, что никто не ринется за ним следом: такое иногда случалось.
Он петлял среди могил, а запах рос, накрывал волной — сладкий, тяжёлый, крышесносный аромат самки в охоте, нужный для того, чтобы распалять самцов, заставлять их бросаться друг на друга, рвать зубами, убивать.
Влад зацепился брючиной за какую-то ржавую проволоку и упал — в нормальном состоянии такого бы с ним не случилось, несмотря на темень и слякоть. В падении ударился о железную оградку и ободрал себе бок. В этот же миг что-то коротко и сильно стукнуло в землю: Швёдов пустил в ход пистолет.
Потом всё утихло.
Цепеш кое-как поднялся, скользя в грязи. Остатки аромата ещё висели в воздухе — но на отвал башки его уже не хватало. Похоже, вампиресса выпустила в воздух всё, что у неё было запасено в прианальных железах… Он посмотрел на свои грязные ладони, вздохнул и вытер их о брюки. «Надо было тренировочные надеть», — рассеянно подумал он, и, пошатываясь, побрёл обратно.
Лежащие на мокрой земле тела выглядели не лучшим образом. Массивный Швёдов валялся в отключке возле утюгообразного памятника, вытянув вперёд руку с пистолетом. Похоже, на него кто-то напал сзади и вкатил дозу спокухи. Ланшаков картинно развалился в грязи — его цапнули за предплечье, а потом, уже обезволенного, от души отоварили по корпусу. У него была сломана пара рёбер и ободрана кожа на лице. Самое неприятное досталось Сидоровичу: у этого в брюшине застряла серебряная пуля. Но все трое были живы, хотя и не в форме. И хорошо — значит, автобус всё-таки не понадобится. Влад не любил возни с трупами.
Теперь надо было закругляться.
— Ну что? — спросил он в темноту.
— Сейчас посмотрим, — раздался из темноты женский голос. Уверенный и холодный.
Тени чуть сместились, и в истоптанный грязный пятачок осторожно вступила платиновая блондинка, дорого и вкусно одетая. На ноги красотки были натянуты прозрачные пластиковые чехольчики — от грязи.
— Привет, что-ли, — сказала блондинка.
— Привет, что-ли, — вздохнул Влад. — Как работа? Всё поёшь?
— Да. Недавно записали новый хит. «Сладкий мой бананчик» — слышал?
— Ага, слышал. Сегодня, когда ехал сюда. Крутили по «Авторадио». Кстати, псевдоним у тебя дурацкий. Кристина? Жозефина? Парфюмерная лавочка какая-то.
— Ангелина Аум. Да, не очень-то. Но сейчас мне выбирать не приходится. Меня раскручивает Москалюк, а он жёсткий менеджер. Скоро я от него уйду, там посмотрим… Как наш сын? — блондинка решительно сменила тему.
— Герка-то? Нормально, — не поворачиваясь к собеседнице, ответил Цепеш. — Недавно укусил меня в плечо. Выпил граммов десять. Растёт кровососик.
— Очень мило, — аура блондинки даже не шелохнулась. — Ладно, это всё хорошо, но надо дело делать. Эй, эй, эй. Кис-кис-кис.
Из-за ограды вышла кошка.
— Сколько ей? — Влад по-прежнему не смотрел на блондинку.
— Уже полгода. Вполне созрела.
— Ну да, созрела. Вонь-то какую подняла. У меня самого чуть мозги не отшибло.
— Я в своё время сильнее пахла. Да и сейчас могу, если что. Помнишь?
Цепеш предпочёл промолчать.
При свете лампы стало заметно, что зверёк — всё-таки не кошка. Скорее он напоминал маленькую скрюченную обезьянку с гибким хватательным хвостом и кошачьей мордочкой. Грязная мокрая шерсть торчала пучками, сквозь неё просвечивала розовая кожа. Под хвостом бугрилось голая, красная, как у павиана, задница.
Животное, осторожно переступая лапками, подошло к Швёдову, понюхало, потом фыркнула и брезгливо умыло мордочку. Потом перебралась к Ланшакову. У его тела зверюшка задержалась подольше, но в конце концов отступила, на прощание присев и помочившись ему на брючину.
Когда тварь полезла на Сидоровича, тот немного пришёл в себя и попытался отпихнуть животное. Влад тяжело вздохнул, наклонился, и, прихватив клыками подбородок старого уродца — до других мест было не дотянуться — вкатил ему секрет зобной железы. Глаза лежащего обессмыслились.
Тварюка добралась до ноги уличного, потёрлась мохнатой щекой о ботинок, задрала хвост и выставила багровую задницу. В сыром воздухе снова повис возбуждающий запах.
— Этого, что-ли, хочешь? Сейчас сделаем, — блондинка опустилась в грязь рядом с вампиром, расстегнула молнию на грязных штанах, пошарила внутри. Из ширинки выставился кончик хера, чем-то напоминающий нос подглядывающего в окно соседа.
Зверюшка вскарабкалась на живот вампира, и, похабно растопырив задние лапы, попыталась нанизаться на него сверху.
— Да помоги ты ей, — потребовала блондинка.
Цепеш открыл чемоданчик. Извлёк пакетик с одноразовыми перчатками, натянул их на руки. Захрустел, расправляясь, латекс.
Потом он вытащил флакон с любрикатом и салфетку. Взял зверька за шкирку, запустил пальцы под хвост. Обильно смазал отверстие, осторожно расширил его пальцами — зверюшка не сопротивлялась — и, зажав ствол вампира у основания, направил куда нужно. Обезьянка мявкнула и дёрнулась всем телом, с силой насаживаясь на мужскую плоть.
Вампир, закатив глаза, балдел, явно не соображая, кто он и где находится. На подурневшем от удовольствия лице плавала, как муха в супе, гаденькая улыбочка.
Внезапно зверюшка закричала почти по-человечески и приняла в себя член почти на всю длину. По неподвижному телу Сидоровича волной прошла судорога.
— Вроде всё, — не глядя, бросила блондинка. — Кончил, уродец.
— Не всё. Ещё у нас Алик, — буркнул Влад. — Алик, где ты там? Сидишь? Вылезай, пора. Только без глупостей, за тебя уплачено…
Алик вышел, таращась на свет пустыми бессмысленными глазами.
— Руку обнажи, — скомандовал Влад.
Мальчик безвольно выпростал руку из рукава.
Блондинка подняла зверька за шкирку и поднесла её поближе.
— Ударь её. Не сильно. Просто чтобы разозлилась, — скомандовал Цепеш, перехватывая зверька поудобнее: из развороченной вагины животного подтекало на руку.
Алик неловко размахнулся и мазнул пальцами по усатому грызлицу.
Зверёк зашипел и вцепился когтями и зубами в руку.
Парень дёрнулся, но остался стоять на месте.
— Терпи, терпи, — распоряжался Влад, пока разозлённая зверюшка драла и кусала предплечье. — Вот теперь хорошо, — наконец, сказал он, бросил зверька и достал из кармана упаковку с бинтом.
Зверюшка упала на землю и тут же метнулась через ограды куда-то прочь.
— Где вы её поселили? — поинтересовался Цепеш у блондинки.
— Неважно, — бросила та. — У меня ещё тут дела, — она показала мыском туфли на Ланшакова. — Всё, Владик, гуляй. Успехов.
— Тебе тоже успехов. Пошли, Алик, — Влад приобнял за плечо паренька. — Потом поговорим.
Они молча добрались до автобуса. Алик пару раз споткнулся, один раз ударился лбом о чем-то могильный камень, но в целом был адекватен.
Водитель автобуса спал, положив голову на баранку. Влад усадил его поудобнее. На щеке мужичка багровел отпечаток руля.
— Пускай проспится, — сказал он. — Ему ещё нас везти… Ну, давай, задавай свои вопросы.
К тому времени парень немного пришёл в себя.
— Как ты? Нормально? Обезболивающего нужно? — поинтересовался Цепеш.
— Не-а, — протянул парень и тут же сморщился: искусанная рука болела.
— Вопросы есть? — спросил Влад. — Имеешь, как говорится, право знать.
— Что это такое было? — Алик показал на перебинтованную руку. — Ну… которое вроде кошки.
— Как это ты непочтительно, — усмехнулся Цепеш. — Кстати, — он завозился с чемоданчиком, — выпить не хочешь? У меня коньячок с собой. Докторский. Папа не узнает.
— Спасибо… я крепкое не люблю, — зажался парень. — Вина бы вот не отказался.
— Где ж я тебе вина добуду? — почесал в затылке Влад. — Это уж давай до Москвы… Значит, папа тебе ничего про нас не рассказывал? В смысле, про вампиров.
— Ну… он что-то говорил, но я не очень понял… — протянул парень.
— Ничего тебе папа не говорил, — Влад откинулся в кресле. — Ну, ладно, как-нибудь… Кстати, ты никогда не увлекался энтомологией? Жуками там, бабочками, насекомыми всякими?
Алик помотал головой и промычал — «мм-м».
— Жаль. Тогда тебе было бы понятнее. Ладно, слушай. У так называемых низших форм жизни — у насекомых, например, — бывают очень сложные схемы размножения. Какая-нибудь муха откладывает личинки в тело живого жука определённого вида. Там эти личинки подрастают, съедают жука изнутри и вылезают наружу в виде гусеничек. Потом они едят листики кустарника — опять же определённого вида — пока не окукливаются. И потом уже, после окукливания, превращаются в мух, которые снова откладывают личинки… Слышал про такое?
— Ну. Я передачу американскую по телику смотрел, — парень осторожно поправил сбившийся бинт.
— Но самые сложные схемы размножения бывают у простейших форм жизни. Например, у бактерий, вирусов и прочей мелкой хрени, — продолжал Влад. — Тут встречается настоящая изощрённость. Есть, например, один вирус, который поражает муравьёв. Сам по себе он безвреден, но он каким-то образом воздействует на мозг муравья. Он заставляет его подниматься на вершину травинки и там сидеть. Корова идёт по лугу и ест траву. Обычные муравьи, не поражённые вирусом, копошатся у корней и в рот корове не попадают. Но поражённые муравьи сидят на верхушках травинок, и корова съедает их вместе с травой. Таким образом вирус попадает в коровий желудок. Но ему туда и надо, потому что в корове он проходит следующий цикл размножения… Дальше там ещё всякие приключения, но, в общем, ты понял.
Алик осторожно зевнул, прикрыв рот ладонью.
— Скучно? Сейчас будет веселее. Так вот, существует особый вид паразитов, очень редкий и почти не изученный наукой. Бактериями они не являются, вирусами тоже. Нечто среднее. Мы их называем микробиоты. Некоторые микробиоты обитают в телах мелких обезьян определённого вида. И у них довольно сложный и интересный цикл размножения. Часть которого ты, собственно, и наблюдал… Ну так вот. Ты спрашивал, что это такое было — вроде кошки. Так вот, это, если тебе интересно — человек. Да-да, че-ло-век. Хомо Сапиенс в его первозданном натуральном виде. Не впечатлило?
Парень промолчал.
— Да. Выражение «человек произошёл от обезьяны» надо понимать буквально. Человек именно что произошёл от обезьяны. Точнее сказать, человек — это больная обезьяна. Обезьяна, заражённая микробиотом определённого типа. Этот микробиот сложным образом воздействует на развитие плода обезьяны, внося в него ряд нарушений. В результате плод развивается неправильно — в частности, дольше находится в утробе, а впоследствии дольше развивается. В результате он оказывается переразвит, причём неравномерно. Например, сверх всякой меры разрастаются ткани мозга, что в качестве побочного эффекта порождает так называемый человеческий разум… Зараза передаётся от обезьяне к обезьяне, так что обезьяны почти не встречаются в своём естественном состоянии. Они думают, что они такие от природы… и гордо именуют себя разумными существами. Являясь, по сути дела, всего лишь сосудом для размножения совершенно безмозглой твари…
Они шлёпали по грязи, приближаясь к автобусу. Влад искоса посматривал на ауру Алика — она слегка сжалась, но особенных изменений в цвете не претерпела. Можно было продолжать.
— Тем не менее, небольшое количество немодицифированных хомо всё-таки выжило. Живут они, как правило, в городах, кормятся около помоек. Такая вот городская фауна. Ну да ты видел.
Парень опустил голову.
— Ну, дальше относительно просто. Микробиот человека тоже мутирует. Обезьянки, подхватившие одну из его редких модификаций, называются вампирами. Правда, цикл его размножения куда более сложный, чем у обычных сапиенсов. Первую стадию развития он должен пройти в теле немодицифированного хомо. Вот такой обезьянки, которую ты видел. В нём он приобретает вирулёнтность, то есть способность заражать. Потом обезьянка должна покусать или поцарапать обычного человека, обязательно ребёнка или подростка, внеся в его кровь микробиот. Так называемая предрасположенность к вампиризму на самом деле не является врождённой. Всех будущих вампиров в детстве кусала или царапала кошка… вернее, то, что они принимали за кошку. Правда, этого недостаточно. Требуется ещё и укус взрослого вампира, который впрыскивает в кровь определённые вещества, активизирующие развитие микробиота… Сложно? Ты следи, следи за ходом мысли.
Они вышли за пределы кладбища. Стали видны автобусные огоньки. Влад посмотрел вторым зрением на водителя. Тот, судя по цвету ауры, спал. В оттенках свечения было что-то странное, но Цепеш это пока проигнорировал.
— Так вот, слушай дальше. Укус, к сожалению, действует только на мужчин. В принципе, этого было бы достаточно. Вампир кусает вампира, и так далее. Но природа предусмотрела и половое размножение вампиров. Для этого самка немодифицированного хомо должна зачать от полноценного вампира. В ходе беременности она растёт и превращается в то, что мы называем «нормальным человеком». После родов они выглядят как взрослые половозрелые самки человека… то есть как женщины. Но сама процедура оплодотворения создаёт кое-какие сложности. Нормальный человек не будет трахать животное. Правда, эти твари возбуждающе пахнут… но этого обычно недостаточно. Поэтому вампирские свадьбы выглядят, кхм, несколько своеобразно. Ты, наверное, кое-что разглядел?
Парень подавленно кивнул.
— А эта женщина? — только и выдавил он из себя.
— Это мать моего сына, — пожал плечами Влад. — Когда-то была такой же кошкообезьяной.
Они подошли к автобусу. Влад раздвинул дверцы, чтобы Алик мог пройти внутрь.
Водитель всё ещё посапывал. Цепеш присмотрелся к его ауре, пытаясь понять, что не так.
Внезапно Цепеш присвистнул и выругался сквозь зубы. Алик вопросительно посмотрел на старшего.
— Ничего-ничего, — успокоил его Влад. — Просто у этого мужичка за рулём, оказывается, была предрасположенность. А я его очень некстати покусал. Через пару месяцев у мужичка вырастут клычочки. Надо теперь будет его как-то ввести в курс дела, а то ещё один уличный появится… Ладно, очухается — поговорим. Хотя нет, не сейчас. Придётся к нему отдельно ездить… Чёрт, как же всё это некстати.
— А у меня когда будут? — осмелел парень.
— У тебя ещё не скоро. Ты только-только заимел предрасположенность. Необходимо, чтобы микробиоты в крови прошли несколько стадий развития. Годочков так через пять тебя можно будет уже и вампиром делать. Папаше своему скажи, чтобы тебя не грыз почём зря. Пока это ни к чему.
— Я вот чего не понял, — Алик слегка смутился. — Эта… штука… как она вынашивать-то будет? Ну, в смысле, ребёнка?
— О ней не беспокойся, — усмехнулся Влад. — На это время вампирессы её как-нибудь да пристроят. А дальше уж она сама… Скорее всего, она явится к одному из тех дураков… наверное, к Швёдову, у него денег больше, а ума меньше. Скажет, что залетела от него. Он же всё равно ничего не помнит. Поживёт с ним, высосет из него побольше денег… потом, наверное, пойдёт к Ланшакову. Он к тому времени раскрутится, будет на пике. Скажет, что ребёнок на самом деле его… Хотя это я всё фантазирую. Может, ничего такого и не будет. Может, она просто подкинет ребёнка. Или убьёт. С вампирессами такое случается. Им ведь важно не столько родить, сколько превратиться в человека… внешне. Внутри они остаются обезьянами. Безмозглыми и жестокими тварями с помойки… Что весьма полезно для успеха в человеческом обществе, — философски закончил он.
Водитель зашевелился. Похоже, спокуха его отпустила.
Цепеш легко встал, прошёл в кабину, потом вышел, утирая рот салфеткой.
— Ну всё. Поехали в Москву, что-ли. Кстати, ты вроде бы вина хотел? — спросил он парня. — У этого козла в кабине вот что было, — он протянул Алику пакет. — Доставай. Не коллекционное, конечно, но всё-таки.
— Это же его вино, — начал было парень, но осёкся.
— Ничего, — весело сказал Влад. — Я ему там сотню оставил. А это пойло по-любому дешевле. Будем считать, что мы его купили. Ого, да тут даже стаканчики есть! Культура. Он, похоже, к Люське своей намыливался, — рассудил Цепеш, вытаскивая бутылку.
— «Шёпот монаха» — прочёл Цепеш название вина на этикетке. — Изделие российской химической промышленности, — добавил он, срывая, как шелуху, плёнку с горлышка и пропихивая железным вампирским пальцем пробку вовнутрь. Та со скрипом вошла. На руку брызнул красный винный фонтанчик. Влад брезгливо вытер кисть о сиденье.
Водила запустил мотор, и тот забренчал железными косточками.
— Простите, я вот не понимаю… — робко спросил парень. — А зачем вы всем этим занимаетесь? Ну, ездите… устраиваете… — он не договорил.
— Ну вот твой папаша мне деньги заплатил за твою инициацию… Или тебя интересует вообще, в принципе? — парень кивнул. — Ну… я врач. Врачи возятся с больными, у них работа такая. А люди, как ты теперь знаешь — это больные животные. Вампиры тоже, только болезни у них чуть-чуть другие. Но разница в принципе невелика… Ладно, это всё лирика. Пора бы и делом заняться.
Влад разбулькал вино по стакашкам. Вдохнул вампирским обонянием смесь дешёвого спирта, сахара и красителей. Поморщился. Улыбнулся.
— Ну, давай, что-ли… За то, чего людям не дано. За здоровье! — он поглубже втянул клыки, поднёс стаканчик к губам и медленно выпил.
Сомелье
Добрый вечер. Меня зовут Жан — да, представьте себе, настоящее имя. Папа назвал в честь какого-то француза. То ли коммуниста, то ли карикатуртиста, уже не помню… Да, я рождён в Советском Союзе. Вы тоже? По виду и не скажешь. Молодо выглядите. Конечно, не моложе Вашей очаровательной спутницы…
…Так значит, карточку Вам лично Аркадий Петрович подарил. Да, президент нашего клуба. Ну что это за вопросы — владелец, не владелец? Я не интересуюсь такими деталями. Что значит не доверяют? Просто не принято интересоваться. Нет, не то чтобы наёмный специалист. Себя лично я считаю, что называете, членом команды. Перешёл сюда из «Винотеки», и, знаете ли, не жалею. Здесь другой уровень.
…Я закончил «Ле Сомелье» и стажировался во Франции. Это что касается квалификации. Вообще-то всё приобретается только с опытом. Сомелье без опыта — это в лучшем случае кавист. Такое французское слово — «хозяин погреба». По-русски — ключник. Так что — только опыт. Но вы же понимаете, опыт и возраст разные вещи. Вот вы человек опытный. Высокооплачиваемый специалист, на лице написано. На пиджаке? Хм, ну и это тоже. В «Императорском портном» обшиваетесь? А я помню времена, когда Котвани сам шил, и не так уж задорого… Раскрутился, да. Но сейчас в Москве стало много денег, товары класса luxury просто обречены на успех, если только они действительно luxury…
…Это комплимент от шефа. Пока вы изучаете меню, Вашей спутнице будет чем заняться. Брют, разумеется, это же «Поль Роже»… Да, не самый выигрышный год, тут Вы правы. Но для того, чтобы начать хороший вечер, идеально. Это как в шоу-бизнесе: перед выходом звезды ставят обычно какую-нибудь молодую группу, не очень известную… Да-да, разогрев. Вы имеете какое-то отношение к шоу-бизнесу? В молодости? Почему же, я когда-то тоже увлекался, даже что-то такое пытался делать на клавишных… Увы, интеллектом я вышел скорее на ударника. Коммунистического труда? Хе-хе.
…Не знаю, не знаю, я всё-таки сомелье. Но если Вы спрашиваете, то на мой вкус тяжеловато, баранина — это скорее зимняя еда, когда за окнами темень, и всё такое. Водочка? Нет, ну что вы, я имел в виду какое-то плотное красное вино, для зимы… Что-то полегче и поинтереснее? Это же баранина! Что? Понимаете, тут дело не в готовке. Нет, я ничего не навязываю, помилуйте, моё дело — предложить вино под ту еду, которую Вы выберете… Просто Вы спросили моё мнение… Нет-нет, всё нормально. Да, конечно, как Вам будет угодно.
…Ну, если Вы так настаиваете, то я возьму на себя смелость порекомендовать сначала что-нибудь из птицы. Утку не любите? Вы правы, жир тяжеловат, но у нас очень хорошо делают вот такой вариант, посмотрите здесь, это с острыми пикулями… Ну, давайте попробуем.
…Да, конечно, можно просто Женя. Меня все так и называют. Фамилия странная? Если вы о происхождении, то во мне целый букет кровей. «Букет гарни», так сказать. Малый или большой? Тонко… я так понимаю, Вы сами готовите? Замечательно, в таком случае Вы сможете оценить нашу кухню по достоинству… насчёт букета — скорее средний. Зато есть немного южного перца. Хе-хе. Нет, языка не знаю. Так, что-то осталось. Вот, могу прочитать стихи про вино: «Сокий чу ичиб, манга тутар куш, томший — томший ани килай нуш». «Виночерпий наливает мне вдвое — но я буду пить понемногу». Это, кстати, очень правильно сказано. Вино нужно пить медленно, но бокал должен оставаться полным…
…Нет-нет, это не сейчас, зачем это. Это всё равно что взять какой-нибудь салат с бальзамическим уксусом, нет, это совершенно невозможно. Простите, это, кажется, мне звонят, буквально минута…
…Вот теперь начинается моя работа. Давайте приступим к выбору вина. Нет, это нужно делать вместе. Моя задача — помочь Вам определиться с Вашими вкусами. Но лучше всего начать всё-таки с ценового диапазона. Надеюсь, Вы понимаете, что дороже не обязательно значит лучше. Бывают очень интересные вина и за пятьсот-шестьсот евро…
…Ну, если так, то для начала хотелось бы познакомить Вас с Chateau La Mission Haut-Brion 1989. Принц Роберт считает это вино выдающимся, и я с ним согласен. Аромат подсушенных фруктов с кедровой ноткой. Текстура шелковистая, глубокая. Ах, вы уже знакомы. В таком случае хотелось бы предложить… Да, 2005 год у нас есть. Очень сильный год, но на мой вкус — попроще, чем 1989. Вы хотите пойти, так сказать, от простого к сложному? Ну, давайте 2005, в самом деле. У нас ещё будет время…
…Что? Вино горчит? Не может быть. Наверное, это взболтнули осадок, это даёт лёгкую горчинку. Разумеется, мы заменим бутылку. Впервые в моей практике…
…Сейчас проверим. Да, готовы, оба спят. Очень хорошо, сервируйте и подавайте. Клиент уже звонил, он в дороге.
* * *
Добрый вечер. Меня зовут Жан — да, представьте себе, настоящее имя. Папа назвал в честь какого-то француза. То ли коммуниста, то ли карикатуртиста, уже не помню… Да, я рождён в Советском Союзе. Вы тоже? По виду и не скажешь. Молодо выглядите. Конечно, не моложе Вашей очаровательной спутницы…
…Так значит, карточку Вам лично Аркадий Петрович подарил. Да, президент нашего клуба. Ну что это за вопросы — магистр, не магистр? Я не интересуюсь такими деталями. Что значит не посвящён? Просто не принято интересоваться. Нет, не то чтобы наёмный специалист. Себя лично я считаю, что называете, членом команды. Перешёл сюда из «Винотеки», и, знаете ли, не жалею. Здесь другой уровень.
…Это комплимент от шефа. Пока вы изучаете меню, Вашей спутнице есть чем заняться. Кровь, разумеется, свежая жабья кровь… Да, не самая лучшая порода пип, тут Вы правы. Но для того, чтобы начать хороший вечер, идеально. Это как в шоу-бизнесе: перед выходом звезды ставят обычно какую-нибудь молодую группу, не очень известную…
…Я стажировался в Трансильвании. Это что касается квалификации. Вообще-то всё приобретается только с опытом. Но Вы же понимаете, опыт и возраст разные вещи. Вот по Вам сразу видно: в «Императорском портном» обшиваетесь. А я помню времена, когда Котвани сам шил. Сейчас товары класса luxury просто обречены на успех, если только они действительно luxury…
…Да, конечно, можно просто Женя. Меня все так и называют. Фамилия странная? Если вы о происхождении, то во мне целый букет кровей. «Ведьмин букет», так сказать. Чёрный или белый? Тонко… насчёт букета — скорее серый. Зато есть немного южного перца. Хе-хе. Нет, языка не знаю. Так, что-то осталось. Вот, могу прочитать стихи про войну: «Ырбон шагат эзгулот, гхаш бенцеры назгумот». «Не съел труп врага — как мать кинул в огонь». Это, кстати, очень правильно сказано…
…Вот теперь начинается моя работа. Давайте приступим к выбору крови. Нет, это нужно делать вместе. Моя задача — помочь Вам определиться с Вашими вкусами. Но лучше всего начать всё-таки с ценового диапазона. Надеюсь, Вы понимаете, что дороже не обязательно значит лучше. Бывают очень интересная кровь и за пять-шесть тысяч евро…
…Извините, кажется, это мне звонят…
…Ну, если так, то для начала хотелось бы познакомить вас с вот этими двумя. Мужчину я уже попробовал. Кровь чистая, группа А, резус отрицательный, печень даёт лёгкий фруктовый оттенок и кедровую нотку, очень интересные лейкоциты. Текстура шелковистая, глубокая. Да, 1969 год. Выдающийся, нет, великий год. Девушка, конечно, попроще, восемьдесят девятый, кажется. Вы хотите пойти, так сказать, от простого к сложному? Ну, давайте девушку, в самом деле… Осторожнее только с сонной артерией…
…Что? Кровь горчит? Не может быть. Наверное, это беременность, она на малых сроках даёт лёгкую горчинку. Впервые в моей практике…
…Сейчас проверим. Да, готовы, оба парализованы. Очень хорошо, упакуйте и подтаскивайте. Клиент уже звонил, он в дороге.
* * *
…Добрый вечер, профессор, Женя Марзоц к вашим услугам. Кстати, Вы меня ни разу не спрашивали о происхождении? Вообще-то то во мне целый букет кровей. Не интересно? Вы широко мыслящий человек, профессор. А то когда с нежитью разговариваешь, приходится за полуорка себя выдавать.
…Вот Ваш заказ. Матёрый вампир, отличный экземпляр. Взят прямо с тела жертвы. Как усыпили? Банально, через кровь вот этой милой девушки. Я ей специально предложил бокальчик с «ведьминым букетом». Вы же знаете, как эта штука действует на вампиров… И ведьмочка. Ничего интересного, но может пригодиться. Тоже через кровь, обычное заклятье неподвижности.
…Извольте получить. Товар класса luxury. Зафиксирован как положено. Кстати, давно хотел спросить Вас, профессор — а из чего именно вы делаете эти свои препараты? То есть, понятно, из вот этих, гхм, существ, но из чего именно? Сердце, печень, мозг? Что, лимфа? Прямо вот так из них и выкачиваете? А как? Ужас-ужас. Ну, с другой стороны, они же нежить, враги человечества…
Не интересно? Да мне, в общем, тоже пофиг. Забирайте его, а я пока позвоню…
* * *
…Аркадий Петрович! Всё в порядке. Да, профессор здесь. Да, документы и кредитки всех клиентов у меня. Только учтите, у девушки с собой ничего не было. Сколько? Двадцать процентов? Без ножа режете. У меня долги… В конце концов, вы меня поставили на самый ответственный участок. Я с людьми работаю. И с нежитью, что ещё хуже. Да ещё этот профессор — тоже, знаете ли, типчик. И цены эти сумасшедшие…
…Хорошо. И с вас четыре ампулы препарата. Сегодня же. Профессор наверняка привёз для вас. Вы же проходите курс? Мне нужны мои четыре ампулы. Мне срочно нужны четыре ампулы!
* * *
…Папа, здравствуй. Это Жан. Женька это. Как ты себя чувствуешь? Что, совсем? Папа, я сегодня привезу ещё три ампулы. Тебе этого хватит на полгода. А потом я ещё достану.
…Папа, не спрашивай, откуда. Это очень редкий препарат. Нет, не апробирован. Да, папа, я точно знаю, тебе не будет хуже. Папа, ну не надо этого, я точно знаю, им вся Рублёвка лечится. Чисто природное средство, сто раз объяснял, чисто природное средство!
Нет, папа, я не буду опять объяснять, что это такое. Нет, сначала ты пройдёшь весь курс. Нет, папа, ты не умрёшь. Да, я тебе сто раз говорил, это лечится, даже в твоём возрасте. Всё будет отлично, папа.
* * *
…Здорово. Узнал? Женька это. Женя Марзоц. Фамилия такая. Да я тебе уже раз тыщу представлялся по всей форме. Ладно, давай как обычно. Соточку мне сделай. Нет, «Флагмана». Я же знаю, ты из бутылки кауфманновской мне того же «Флагмана» набулькаешь. И с лимончиком, да. Лайм этот нахер. С лимончиком. И стакан протереть не забудь. Я вообще-то в понтовом кабаке работаю, так что ля-ля не надо. Не надо, говорю, ля-ля.
…Да, мне тут нравится. У вас нормальное место для нормальных людей. Музон рубит, экраны, девки. У нас, знаешь ли, с понтом закрытый клуб. Бархат, полы, скрипочки пиличат. Я уже эти скрипочки слушать не могу.
Сделай мне ещё соточку. Как тебя звать-то? Гена. Блядь, всё время забываю. А я Женя. На самом деле Жан. Ну, я тебе, небось, рассказывал, папа назвал в честь какого-то француза. То ли коммуниста, то ли карикатуртиста, уже не помню… Я рождён в Советском Союзе. А ведь по виду и не скажешь. Молодо выгляжу, да? Мне пока на молодость хватает… Неважно чего. Молодость тоже можно купить, Гена. Всё можно купить, если знать, где брать. И цена, конечно. Цену знать желательно заранее…
…А, пофиг, давай по-серьёзному. Что такое двести грамм? Это стыд и срам. Не хочешь поучаствовать? Я заплачу. Я за всё заплачу.
Да знаю, мля, что ты на работе. Я сам только что с работы. Я в понтовом клубе работаю. Скрипочки у нас. Бархатные столы. Клиенты, мля, как же я их всех ненавижу. И жлоб этот Аркадий Петрович, старый кровосос. Ненавижу всех. Понимаешь? Всех, говорю, ненавижу. Только деться мне некуда. У меня папа старый и больной на все места, а мне хочется, чтобы он прожил подольше. На аптеку работаю. Я хороший сын, понимаешь? Человек херовый, а сын хороший. Потому что купить можно всё, а другого папу не купишь. И ничего ты тут не поделаешь…
…Вообще-то мне водку ни… ни… нельзя. Я этот, как его… сомелье. Я по тонким напиткам специалист. Аромат подсушенных фруктов с кедровой ноткой, резус отрицательный…
Долг
Посвящается Урсуле Ле Гуин
Воин-маг, известный в Срединных Землях под именем Себастьян Смерх, сидел в деревенской харчевне, в самом дальнем углу, и сосредоточенно изучал содержимое миски с чечевичной похлёбкой.
За окном, затянутым бычьим пузырём, уныло сеялся осенний дождь, зарядивший с прошлой недели. Харчевня была грязна, как солдатский сапог, и холодна, как сердце лесного беса. Чечевицу здесь готовили без специй и трав, к тому же она успела остыть. Но Себастьяна всё это не заботило. В Училище Братства он привык к тёмной келье, ледяной воде для умывания и холодной пище. К тому же он мог вскипятить похлёбку заклинанием, когда бы счёл возможным тратить Силу на пустяки.
Несколько больше его беспокоило то, что в поясе осталось два серебряника и несколько медяков. Этого — даже при скромной жизни мага — хватило бы дней на пять, может быть на неделю. Но и это, в принципе, было не столь важно. Светлое Братство всегда протягивало руку помощи воинам, попавших в беду, — в том числе такую распространённую, как временное отсутствие средств.
Вот что по-настоящему худо — что он торчит в этом Светом забытом селе уже вторую седмицу. Без работы. Древний устав Братства запрещал странствующему магу покидать без угрозы для жизни какой бы то ни было удел, не свершив какого-нибудь благодеяния — и не получив за это мзду, треть от которой отходила в казну Братства: плата за обучение, помощь и пожизненную защиту. Смерх не был корыстолюбив и считал плату справедливой: в конце концов, светские владыки брали с людей больше, а помогали меньше. Его злило, что из-за глупого правила он не может возвратиться в город Зоц, где на его услуги всегда был спрос.
Внезапно ему захотелось увидеть город, его белые башни. Он даже задумался, не потратить ли ему частицу Силы, чтобы хоть на миг перенестись на площадь Фонтанов, ощутить холод мраморных плит собора Семи Блаженых, или просто услышать стук колотушки ночного патруля.
Но старинное правило ясно гласило: «Нет на свете места, вовсе лишённого скорбей, потому не покидай удела, не совершив прежде хоть малого добра и не дождавшись положенной благодарности».
Как на грех, село Беглинка, куда Себастьяна занесла нелёгкая, скорби упорно обходили стороной. После Сорокалетней Войны земли края отошли под королевскую руку на правах вольного владения, так что селяне жили мирно, платя положенную десятину Пресветлому Престолу и решая дела народным сходом или королевским судом, где судили по древним правдам. Здешние земли славились плодородием, да и погода баловала: уже который год амбары ломились от зерна, а в это лето особенно уродились горох и чёрное просо. Местный люд был подстать земле — славился честностью и простодушием. На дверях даже не вешали замков: нет охотников до чужого добра там, где всем хватает своего. Разбойников, сунувшихся было в эти края, быстро повыбило лихое местное ополчение — благо, после войны в селе осталось немало умелых ратников, не понаслышке знавших, с какого конца берутся за меч… Нет, для воина Света здесь не было работы.
Похлёбка совсем остыла. Себастьян лениво ковырял гущу оловянной ложкой, перебирая в уме всё те же мысли. Похоже, он здесь надолго, может быть — до конца осени. Если в конце осени снегом занесёт перевалы, то новолетие он тоже встретит здесь…
Внезапно ложка дрогнула. В сером мареве невесёлых дум что-то шевельнулось — корявое, суковатое. Чужая мысль, пробивающаяся извне.
Смерх напряг магическое внимание. Мысль сгустилась в слова:
— Почтенный господин, а посмотрите-ка на меня…
Подняв голову, он увидел нерешительно топчущегося в дверях крестьянина с рябым лицом — про таких говорят «на роже бесы горох молотили». Худые руки ломали шапку, низкий лоб морщился в непривычном усилии: проговаривании слов в уме.
— Что надо? — неприветливо сказал Смерх. — И как ты посмел назвать меня всего лишь «почтенным»? — вспомнил он первое слово. — Я что — похож на крестьянина?
Себастьян и впрямь не походил на беглинских хлеборобов — светловолосых, дородных, бородатых мужичков.
Крестьянин опасливо пригнулся.
— Нижайше простите, высокочтимый мастер, — заговорил он вслух, и в голосе его звучало робкое упорство маленького человечка, которому доверили важное дело, — а токмо велели мне спервоначала вызнать вашу силу…
Смерх усмехнулся. Проверка была правильной: не всякий колдун, даже владеющий начатками Безмолвной Речи, отличит одно вежливое обращение от другого.
— Подойди, — велел он.
Вблизи крестьянин показался ему не местным: слишком смуглым и обветренным было его лицо, чересчур заношеной — одежда. К тому же он двигался стеснённо и робко, а беглинские хлеборобы больше ходили вразвалочку, как то подобает людям свободным и зажиточным.
— Просим вас, высокочтимый, до нашей нужды, — ходок старательно поклонился.
На душе у воина-мага стало чуть теплее. Его, несомненно, хотели попросить об услуге, и услуге значительной — иначе не искали бы сильного волшебника.
— Я из Грязцов буду, это недалече… Беда у нас… Похитили девушку…
Себастьян Смерх выпрямился. Стоявшая на краю миска с похлёбкой полетела на пол.
— Молчи, — властно приказал он. — Открой свой ум, — с этими словами маг поднял руку и коснулся ладонью рябого лица.
Через несколько мгновений он знал всё.
История была самая обычная. Грязцы — беглинские выселки — были когда-то таким же сытым и безопасным местом, как и само село. Но в последние времена Тьма, теснимая королевскими магами с Лунного Хребта, проникла в местные леса, обосновалась там и стала протягивать лапы к человеческому жилью. Деревенька оказалась в опасности. На дорогах завелись стаи волколаков, в колодцах — моросная нежить. Коровы не доились, посевы гнили на корню. Стали пропадать детишки, а бабы то и дело рожали мёртвеньких. Уходить же с обжитой земли было некуда.
Но спасение селяне всё-таки себе сыскали. Местный колдун вычитал в своих свитках, что в таких случаях следует обращаться к деве-защитнице. Нашёл и подходящую девушку: рождённую весной, златовласую, не утратившую девической чести, а главное — несущую в себе начаток Силы. На этой неделе собрались уж было провести посвятительный обряд, да пришла беда: ночью со стороны Урочища Ветров пришли большой стаей волколаки, еле-еле отбились от них, а наутро девушка пропала. И колдун той же ночью скончался невесть от чего, — как будто кто выпил его Силу до самого донца… Деревенские, не долго думая, спешно собрали последнее серебро и отправили гонца: ехать в Беглинку, а если не сложится, так и в самый Зоц, искать сильного волшебника, который одолел бы нечисть и вернул девушку в село.
— Я всё понял. Берусь. Сколько принёс? — спросил Себастьян.
Крестьянин выпростал из кармана туго набитый мешочек. Но воин-маг не сводил с него испытующего взгляда. Тогда мужик, отворотив глаза, выгреб из того же кармана ещё несколько серебряшек.
— Обкрадывать своих плохо, пытаться обмануть мага — того хуже, — веско сказал Смерх. — За это я лишаю тебя мужской силы на десять лет. Что касается дела, то я принимаю плату и клянусь исполнить свой долг честно и не щадя сил.
Мешочек с серебром осел: когда маг произнёс клятву, треть содержимого мошны перекочевало в сокровищницу Братства.
— Теперь убирайся, — брезгливо процедил он, заметив, как перепуганный крестьянин тайком ощупывает причинное место. — Да ничего я тебе не сделал. Мне не нужна твоя мужская сила. Впредь будь честен.
Лицо крестьянина посветлело.
— Хорошо, коли так, высокочтимый мастер. А то я уж думал, чего теперь бабе своей скажу, — простодушно ответил он. — А когда…
— Я приду скоро, — пообещал маг. — И не один. Приготовьте всё для обряда. Как зовут девушку? — на всякий случай спросил он. — Вы знаете её Истинное Имя?
— Истинного Имени не знаем, — развёл руками крестьянин, — её ж колдун нарекал, который помер, а сказать не сумел. Не знаем мы. А кличут её Гранфретой. Фреткой, то есть, по-простому.
— Хорошо. Я приду к вам послезавтра и приведу вашу Фрету, — сказал Смерх.
* * *
Себастьян Смерх осторожно двигался по лесной тропе. Дождь всё моросил, разбиваясь о чёрные скользкие ветви в едкую пыль, липнущую к лицу и ладоням. Маг закутался в плащ, осторожно ступая по бурой, слипшейся от влаги листве. Ветер бежал за ним среди мокрых ветвей, брызгался, норовил поддеть пласт слежавшейся прели — смести в кучу, перевернуть, обнажив нетронутое нутро сухого золота.
Повсюду стояли завалы и кучи бурелома. Над редкими полянами рыскали голодные ястреба, выискивая добычу. Порывы ветра били их под крылья и швыряли то ввысь, то оземь.
Он видел всё это магическим зрением — и ветра, и нутро листвяных завалов, и птиц, упорно расправляющих мятые перья и поднимающихся в небо. Видел он — точнее, чуял — и то, что ждало его впереди, там, где старые деревья смыкали ветви в тумане.
Первую атаку воин-маг отбил быстро, в одно касание. Скорее, это была разведка боем: тяжелее стало дышать, подкосились ноги, перед глазами запрыгали красные точки.
Смерх дал противнику вонзить магическое жало поглубже, после чего, просчитав в уме возможные направления, ударил коротким заклятьем по невинно выглядящей куче бурелома.
Стон огласил лес. Из-под сушняка и гнилушек выкатилось волосатое тело беса.
Маг потратил несколько секунд, чтобы осмотреть его обычным и магическим зрением. Это был типичный лесной бес — рыжий с подпалинами. Немолодой: шерсть на груди успела поседеть, страшная морда иссечена шрамами. На груди болтался амулет: клык волколака, окованный серебром. Смерх, преодолевая отвращение, сорвал вещицу с трупа. Осмотрел. Амулет был сильным: от него исходило тёмное сияние, видимое магическим зрением. Маг покачал амулет на ладони, потом положил в карман, намереваясь пополнить им сокровищницу Ордена. Сам он не любил вещей Тьмы, даже полезных, но понимал, что переборчивость в таких делах неуместна. Может быть, когда-нибудь эта вещь пригодится страннику, солдату, сборщику налогов, а то и лазутчику в стане Тьмы…
Задержка оказалась опасной. Пока Себастьян возился, в воздухе соткался клубок, состоящий из крыс, муравьёв и ос. Клубок упал оземь и распался. Крысы и насекомые бросились на человека. Себастьян успел очертить Светлый Круг. Крысы отпрянули, но осы успели подняться достаточно высоко, чтобы сбросить сверху муравьёв. Пока Смерх сжигал их в воздухе, несколько насекомых успели упасть на него, а один — укусить его в голову. Будь Смерх обыкновенным человеком, этого было бы достаточно, чтобы умереть: кривые челюсти муравья были напоены сильнейшим ядом, парализующим дыхание. Теряя сознание, Себастьян успел коснуться амулета и выжать из него всю Силу. Оставшихся мгновений хватило, чтобы очистить кровь и добить оставшуюся нечисть.
После этого маг прощупал местность верхним чутьём. Оказалось, что клубок вели две горгульи, спрятавшиеся в дуплах деревьев. Смерх не стал их убивать, а просто сковал заклятьями. Горгульи, в отличие от бесов, не были окаянными тварями. Они не служили Злу, а просто не различали Света и Тьмы. Кто угодно мог их привлечь — лаской или интересной задачей: горгульям нравилось колдовать. Себастьяну не хотелось истреблять смышлёных созданий, грех которых состоял только в легкомыслии.
Больше никто не пытался напасть на него. Воин углублялся в лес, постепенно приближаясь к средоточию Тьмы.
Он не удивился, ощутив под ногами камень. То были остатки древней дороги. Такие пути обычно вели к древним капищам, разрушенным во времена первых побед Света на этих землях. Маг не сомневался, что девушку прячут именно в таком месте. Возможно, похитители намереваются оживить древнюю магию и готовят жертвоприношение. В таком случае следовало поторопиться…
Торопиться всё-таки не следовало. Едва Себастьян ускорил шаг, чуть отпустив внимание, за спиной послышался рык. То был огромный волколак. Полуволк и человек покатились по мокрой листве. Волколак пытался столкнуть мага в тёмный овраг, где — Смерх чуял даже в разгар боя — притаилось что-то нехорошее. Уже у самого края Себастьян извернулся и вытянул из ножен короткий кинжал лунного железа и всадил его в волчье брюхо по рукоять. Тварь, отчаянно воя, полетела в овраг, откуда раздался хруст и чавканье. Смерх даже не стал выяснять, что там: и так ясно было, что в овраге свила гнездо моросная нежить. Связываться с ней он не стал: надо было беречь силы.
Развалины капища стояли на невысоком холме, заросшем ядовитым черноягодником и бирючиной. В колючих кустах зиял прогал — кто-то совсем недавно побывал внутри. И, возможно, там и остался, таясь и поджидая.
Себастьян запахнул плащ и решительно двинулся внутрь.
Среди камней было ещё холоднее, чем в лесу. Смерх осторожно пробирался между обломками, стараясь не касаться их даже краем одежды: всё вокруг было пропитано магией. Всё же один раз он прижался к выступу в стене. Тут же откуда-то сверху на него обрушилась каменная глыба, испещрённая рунами. Он разбил её в воздухе, но его обдало каменной крошкой. Обломки тут же начали выпускать каменные иглы. Смерх успел скинуть с себя куртку. Долетев до земли, она зазвенела и раскололась.
Полуобнажённый, воин вошёл в развалины святилища, ожидая увидеть то, что обычно бывает на месте поверженных капищ Тьмы: разбитый алтарный камень, ясеневые столбы, изрезанные охранными знаками, осиновый кол в середине,
Но на этот раз всё было иначе. Кто-то сумел вытащить магические столбы и извлечь кол. Алтарный камень казался целым и невредимым: его обломки были собраны воедино каким-то могучим заклятьем.
А на камне лежала связанная девушка — обнажённая, с разбитыми в кровь губами и золотыми прядями волос, слипшимися от крови.
* * *
Смерх поднял руку и верёвки лопнули.
Кровь будто смыло с девичьего лица, только на виске осталась маленькое багровое пятнышко.
— Ты Гранфрета? — на всякий случай поинтересовался он, одновременно накладывая на неё заклятие правды. Девушка вполне могла оказаться оборотнем или просто сгустком морока. Её могли также заколдовать на вред или порчу.
Но та послушно закивала головой.
— Ты в порядке? — воин взял девушку на руки.
— Да… Они ничего не успели сделать… Но мне так страшно… — девушка обвила его шею руками. — Кто бы ты ни был — пожалуйста, увези меня отсюда. Только скорее. Мне здесь плохо… И дай какую-нибудь одежду.
— Сейчас, сейчас, — пробормотал Смерх, оглядывая местность вторым зрением. Похоже, несколько магических ловушек ещё поджидали неосторожных, но возиться с ними не было ни сил, ни времени. — Пойдём.
Никакой одежды на девушке не было. Найти её тряпочки не удалось: видимо, похитители их унесли. Кое-как он создал нечто вроде оболочки, окутывающей девичье тело. Она не согревала девушку, не мешала его рукам чувствовать тепло и мягкость её тела, да и магическое зрение проницало эту завесу, но всё же приличия были соблюдены.
Идти по лесу с обессилевшей Фретой, отчаянно цепляющейся за него, оказалось непросто. Когда они подошли к опушке, окоём уже вовсю полыхал вечерними огнями.
— Прости, я должна прилечь, — вымолвила девушка. — Хоть на землю. Мне нехорошо.
— Мы должны торопиться, — мягко сказал Смерх, — в селе нас ждут.
— Я не готова к посвящению, — возразила девушка, — пусть подождут ещё немного.
Воин не стал возражать и улёгся рядом. Щурясь, он смотрел на закатное солнце в розовой пене облаков. Зоревая полоса рассекала небо, как багровый рубец — изнеженное белое тело.
— Кто ты? Ты не деревенский, — осторожно начала разговор девушка.
Себастьян грустно улыбнулся, не отводя взгляда от небесных огней.
— Я маг. Можешь звать меня Себастьян. Меня наняли жители деревни, чтобы я спас тебя от тёмных сил. Они мне честно заплатили, — добавил он.
— Ты спас меня, — повторила девушка печально, — а я тебе ещё не заплатила. Я хочу поблагодарить тебя, но у меня ничего нет, кроме моего имени и моего тела. Хотел бы ты познать то и другое?
— Благодарю. Но я не нуждаюсь в этом, Гранфрета, — ответил Смерх. — И мне хотелось бы вернуться до темноты, — добавил он.
— Ты честный воин, — судя по голосу, девушка улыбнулась. — Но подарки, как ты знаешь, не выбирают, и отказываться от них тоже грешно.
— Мне это не нужно, — повторил Себастьян, напрягшись. Он ждал чего-то подобного, но всё же надеялся, что до этого не дойдёт.
— Это нужно мне, — девичья рука коснулась его плеча. — Моё Истинное Имя, коим нарекли меня при рождении: Ананда. Теперь ты владеешь моей душой. И всем остальным тоже, — добавила она, чтобы у мужчины не осталось сомнений. — Ты спас меня, воин… и ты мне нравишься.
Рука гладила его предплечье, горячее дыхание обожгло щёку.
Себастьян Смерх прикрыл глаза и засмеялся. Это был очень невесёлый смех.
— Сначала я кое-что спрошу у тебя, Фретка, — сказал он, отодвигаясь. — На тебе лежит заклятие правды. Ты могла бы его обойти, но не сейчас, когда ты так близко. И когда я знаю твоё настоящее имя, Коим.
Девичья рука дрогнула и застыла.
— Да, именно так. Как ты сказала? «Моё Истинное Имя, коим…» Потом ты как бы поправилась — «меня нарекли при рождении», и дальше какое-то слово, которое я должен был принять за Истинное Имя. Ты не могла лгать, на тебе лежало заклятие. Но ты и не солгала. Твоё настоящее имя — Коим, и ты мне его и в самом деле назвала. Если бы я не догадался и попытался использовать ложное имя вместо истинного в заклятье, то сам подпал бы под твою власть. Но я ждал этого.
— Почему? — голос девушки почти не изменился. Разве что из него ушла надежда.
— Потому что я сразу понял, кто тебя похитил, — объяснил Себастьян. — Ты сама.
Девушка молчала,
— Насколько я понимаю ситуацию, — начал Смерх, — ты обладаешь Силой. Ты знаешь это давно, а практиковать начала, наверное, ещё в детстве. Ты — способная ведьма. И ты не хочешь тратить свою единственную жизнь на защиту деревеньки Грязцы от упырей и волколаков. Откровенно говоря, я тебя понимаю: твои компатриоты, — ввернул он зачем-то учёное словцо, слышанное в Училище, — приуготовили тебе не самую интересную участь — оборонять их от тварей Тьмы. Но законы и обычаи на их стороне. Так ведь, Коим?
— Я хотела… видеть мир, — проговорила девушка. — А не…
— Понимаю. Итак, ты решилась бежать. Для этого ты инсценировала похищение. На самом деле всеми этими чудищами управляла ты. Или вступила с ними в сговор… Так или нет, Коим?
Послышалось сдавленное мычание: девушка попыталась зажать рот руками, но не смогла.
— Я… договорилась… с ними, — слова выходили из неё с болью, как песок из почек. — Я сильная… им была нужна человеческая Сила…
— И они пообещали тебе защиту. В обмен на служение Тьме. Но ты надеялась обмануть и их тоже, не так ли?
— Да, — с той же мукой призналась девушка. — Я не хотела быть с ними…
— Интересно, — продолжал Себастьян, упорно рассматривая угасающий закат, — а вашего местного колдуна убила ты или они?
— Я, — сказала девушка без напряжения: видимо, это признание далось ей легко. — Он ведь знал, что я ведьма, даже учил колдовству. И… использовал.
— Использовал? Но ты же девственница? — не понял Смерх. — А, вот как, — сказал он, заглянув в её память. — Да, и в самом деле отвратительно. И он же, насколько я понял, предложил тебя в качестве девы-защитницы, когда ты ему наскучила? Хорошо, можешь ничего не говорить… Фрета.
Девушка промолчала.
— Итак. Ты вступила в сговор с низшими силами Тьмы, но стать одной из них не захотела. Что похвально. Вместо этого ты отдала им жизнь и Силу колдуна, но им было этого мало. Тогда ты, скорее всего, пообещала им жизнь и Силу того мага, который придёт тебя спасать. То есть, в данном случае, мою жизнь и мою Силу. Но убивать сама ты не хотела… Опять же, похвальная разборчивость. Твои новые дружки тоже отнеслись к этому с пониманием и решили, что они справятся сами. Если бы на моём месте был какой-нибудь посредственный колдунишко, глядишь, у них чего и вышло бы. Но я, на твоё несчастье, не колдун. Я маг. То есть профессионал. Ты это поняла, когда я добрался до твоего логова без потерь. Тебе пришлось срочно устраивать инсценировку — ложиться на камень, обвязывать себя верёвками… но ты ведь сильная ведьма и можешь себя связать парочкой простых заклятий. Хотя узлы не внушили мне доверия.
Он, наконец, повернулся к девушке. Та лежала, крепко зажмурившись. Слёзы на ресницах в свете закатных огней отливали розовым.
— Наконец, последняя сцена, — помолчав, сказал Смерх. — Ты называешь своё истинное имя и пытаешься меня соблазнить. При том прекрасно зная, что будущая защитница деревни не должна быть познана мужчиной, а Истинное Имя должно оставаться тайной. Очень неосторожно, но у тебя не было выхода, не так ли? Последняя возможность
— Что со мной будет? — не сказала, но подумала девушка.
— Вообще-то, — сказал Смерх, — ты предала свой долг и дело Света. Поэтому я обязан передать тебя в руки Светлого Братства. Тобой займётся инквизиция. Что означает в твоём случае — несколько месяцев допросов и потом испепеление на алтаре Светлых Богов. Во всяком случае, в этом состоит мой долг. Но, с другой стороны, Грязцы нуждаются в деве-защитнице, а другой девушки, обладающей Силой, нет. Учесть это — тоже мой долг. Наконец, ты вряд ли захочешь, чтобы всю оставшуюся жизнь к тебе относились как к изменнице, которую привели к служению силой? Поэтому мы вернёмся в село, а я скажу, что еле вырвал тебя из лап нежити. Это даже не будет ложью — или, во всяком случае, это очень маленькая ложь. Но если хочешь, я скажу правду.
— Не надо, — попросила Фрета.
— Тогда постарайся держаться с достоинством, — заключил Смерх. — А теперь вставай. Нас ждут, а идти ещё далеко. Мы должны исполнить свой долг.
* * *
Как Себастьян и предполагал, селяне, лишившиеся собственного колдуна, попросили его самолично провести обряд инициации девы-защитницы — и хорошо заплатили за это. Теперь пояс мага был туго набит полновесным серебром.
Обряд он провёл чисто. Одурманенная заклятьями девушка почти не кричала, даже когда он отсекал ей конечности — так хорошо он снимал боль. Только когда дошла очередь до глаз, с Фреткой случилась истерика, но она быстро смирилась.
Перед самым отъездом маг зашёл посмотреть на приготовленную для девушки клеть. Всё было сделано правильно: ровный деревянный пол без заноз, поилка, сток для нечистот. На стенке уже висел новенький бич из воловьей кожи — на тот случай, если от девы-защитницы потребуется вся её Сила. Смерх знал ещё по Училищу, как хорошо боль помогает проявлению высших способностей. Как и увечья. В том числе то тайное, которое делает из мужчины мага.
Но Коим лишилась куда большего, чем тот кусок плоти, который Смерх оставил на алтаре Светлых Богов при вступлении в Братство. А это значит, что больше будет и магическая компенсация. Скоро в обрубке Гранфреты прорастёт зерно Силы. Лишённая глаз и конечностей, она сможет видеть и слышать на многие перегоны вдаль, управлять ветром и облаками, чуять нечисть, едва та высунется из чернолесья. Отныне всходы будут обильны, урожаи — щедры, а волколаки и упыри не потревожат боле покой жителей деревеньки Грязьцы. И даже если Тьма навалится всей своей погибельной мощью, у деревни хватит сил выстоять и дождаться перемоги. Лет десять — пятнадцать — настолько обычно хватает Силы девы-защитницы — село будет процветать. А там они найдут другую золотоволосую девственницу с Силой под сердцем и сделают с ней то же самое.
Дело Света получило ещё одну опору. А он, Смерх, совершил положенное благое деяние, исполнил свой долг, получил справедливую плату — и теперь мог с чистой совестью покинуть эти края.
Затворяя двери клети, маг поймал себя на том, что его это почему-то совершенно не радует.
Тонкая дюжина
DISCLAMER!
Этот текст имеет смысл читать только после ознакомления с первой главой трактата отечественного мага, оккультиста, астролога и учителя жизни Авессалома Подводного «Тонкая Семёрка», посвящённого оккультной психологии.
Не нужно бояться слова «оккультизм»: это книга, написанная с великолепным юмором и безо всякого ладана и астральных колокольчиков. Моё сочинение — это самопальная попытка продолжения понравившегося текста. Разумеется, сравнение с оригиналом не входило в мои планы; так что — будьте снисходительны.
Посвящается Авессалому Подводному, человеку и оккультисту, а также моему другу А.О. и его замечательной Жабе, созерцание коей меня вдохновило…
1. Неподражаемый трактат Авессалома Подводного «Возвращённый оккультизм», чаще называемый «Повесть о Тонкой Семёрке», доставил мне в своё время ни с чем не сравнимое удовольствие. Лично я до сих пор помню отдельные пассажи из Тонкой Семёрки наизусть. Основательное знакомство с этим основополагающим трудом (или хотя бы с первой главой оного) предполагается непременным условием понимания данного текста.
Надеюсь, все мои читатели сделали значительную паузу и насладились этим текстом. Остаётся пожалеть, что трактат Подводного неполон. Автору, видимо, прискучило созерцать гадов, — а может, не все они выползли из своих щелей на момент его прозрения. Как бы то ни было, многих он упустил, в результате чего даже не заметил некоторых важных моментов — например, особого свойства связей между некоторыми из них.
2. Благодаря ценным методологическим замечаниям моего гуру и начальника С.Я.Я., а также оккультному озарению, случившемуся со мною на днях, я получил приятную возможность несколько поправить дело. Мой учитель обратил внимание на то, что, рассуждая последовательно, у всякой тонкой фигуры должна быть своя противоположность, не менее гадкая, чем она сама. Долгое время это оставалось чисто теоретическим построением. Но совсем недавно я имел счастье в высоком озарении духа узреть новую тонкую фигуру, а именно Жабу, являющую себя противоположностью и вечной супротивницей Свиньи.
3. После столь сильного душевного потрясения (отчасти вызванного тем, что Жаба была большая и плотная, находящаяся на стадии перехода от тонкой фигуры к толстой) мне не составило труда вытащить на свет божий и остальных дружбанов, как-то утаившихся от Подводного.
4. Прежде всего, их не семь, а двенадцать. (Подводный весьма правильно предполагал какую-то связь с астрологией, но совершенно напрасно приписал гадам планетные соответствия, когда имеют место, по-видимому, зодиакальные.) Подобно тому, как вышние эоны соединяются в пары, особо тесно связанные друг с другом (наподобие супружеских), так (прокидывая принцип) все тонкие фигуры разбиты на пары, нуждающиеся друг в друге, но при том (как это обычно бывает у таких существ) особливо друг друга ненавидящие и способные объединяться только в самом крайнем случае на почве общей ненависти к уму. Две такие пары уже были открыты Подводным, хотя одна почему-то не распознана: это пара драконов (понимаемая у Подводного как разные головы одного Дракона, что неверно), а также пара Торопыжка — Серый. (Эти последние, впрочем, разобраны у Подводного несколько неотчетливо).
5. Первая пара: Жаба — Свинья
5.1. Свинья, как известно, эгоистка, и этим всё сказано. Как таковая, она истерична, то есть мыслит по принципу «дайте мне это немедленно, сейчас, чего бы это вам (и мне самой потом) не стоило!!!» Свинья капризна, бесконечно капризна, и это не случайное её свойство, а суть дела.
Свинья-эгоистка вроде бы только и занимается тем, что «преследует свой интерес». Это верно, но она никогда не думает, чем придётся за это платить — и чем больше Свинья, тем меньше она об этом думает. Для начала перестают замечаться те моменты, игнорирование которых не сопровождается немедленным пиздецом. Сначала это общие принципы этики («мне за это ничего не будет, а со своей совестью я уж сама как-нибудь разберусь»), потом мнение других людей («ну и пусть меня считают сукой — зато уж на шею не сядут!»), потом начинаются конкретные некрасивые поступки, иногда удивительно мелкие и мерзкие (вплоть до кражи кошелька с ночного столика у подруги). При уличении в таком деле Свинья нагло отпирается, — причём совершенно искренне, поскольку случившееся вчера полагает несуществующим. «Я вчерась нажралась говна, а сегодня опять голодна. Значит, никакого „вчера“ и нет, а если и есть — оно меня не интересует, вчерасем сыт не будешь.» Из этого следует: «Ну и что, что я тебе вчера в харю наплевала! то было вчера, пора и забыть, а сегодня я хочу, чтоб ты мне дал денег на ресторан!» Наконец, дело доходит до полного безумия — «скучно мне, пойду, прокучу последнюю сотню, а завтра пусть бог накормит или добрые люди».
Свинья обожает сидеть на шее у кого-то (при этом демонстрируя свою полную беспомощность) и к тому же ещё и срать на голову тому, кто её везёт. Это происходит не из-за какого-то садизма или осознанной неблагодарности — просто если уж свинье вообще оказывают услуги, то возможность в любой момент поправить себе настроение, вытирая об кого-то ноги — просто ещё одна из услуг. Свинья никогда не думает, что эти услуги ей оказывают за что-то (она даже не понимает самого такого понятия — за что-то). Она убеждена, что для неё что-то делают просто потому, что ей этого хочется. (Бывают, впрочем, рационализации этой мысли по типу «я такая замечательная, что было бы просто свинством относиться ко мне плохо и не давать мне того, в чём я так нуждаюсь», — или, в более циничном варианте: «какой дурак будет со мной связываться! им легче сделать так, как я хочу», или даже «я настолько выше всех этих людишек, что служить мне — это их естественный долг, это же так ясно!») Кстати сказать, настоящая Свинья (и, соответственно, одержимый ею человек) вообще не признаёт понятия (чьих бы то ни было) «объективных заслуг». Например, если сослуживца на работе как-то отметили или наградили, Свинья всегда будет бешено злиться и завидовать, и только потому, что убеждена — «эта сволочь больше понравилась начальству, чем я! он сумел как-то подольститься? или он вообще симпатичней и привлекательнее?», но никогда не подумает, что награду дали просто-напросто за дело. Никаких «дел» нет — в этом Свинья убеждена свято, также как и в том, что никакой «совести» не существует в природе.
5.2. Жаба является второй, дополняющей Свинью, эгоистической фигурой. Как Свинья бесконечно капризна и истерична, так Жаба бесконечно скаредна, маниакально скупа и скопидомна. Если Свинья вообще не думает об окружающем мире, а также о будущем, то Жаба только об этом и думает. Если для Свиньи главным словом было, есть и будет «хочу!!!», то для Жабы столь же значимо гораздо более веское для неё «… жалко!!!» Настоящая Свинья готова лишиться всего (когда-нибудь потом) ради сиюминутного удовольствия, — а когда придёт Пиздец, она будет горько и очень искренне визжать, но за собой никакой вины притом не чувствуя. Жаба не такова — ей жалко потратить хоть что-нибудь из уже имеющегося даже на нужное дело, поскольку лучше синица в руках, чем журавль в небе и лишний геморрой в жопе. Когда же приходит Пиздец, Жаба предаётся самоедству за то, что не предусмотрела всего и соответствующим образом не подготовилась к приходу дорогого гостя. Впрочем, когда он запаздывает, Жаба тоже начинает себя чувствовать неуютно, поскольку смысл всей её деятельности как-то обесценивается.
И Свинья, и Жаба полностью солидарны в том, что касается игнорирования целей и интересов других людей, хотя и по разным причинам: Свинья их просто не видит — и даже, кажется, не подозревает об их существовании, Жаба же вообще склонна игнорировать какие бы то ни было цели и интересы, прежде всего своего хозяина, и уж тем более людей посторонних. «Мало ли кому чего хочется!» — это ее credo и «Отче наш». К сожалению, презрительное отношение распространяется не только на повизгивания Свиньи, но и на любые цели и намерения вообще. «Тебе что, больше всех надо?» — это чаще всего говорит Жаба, добавляя к тому ещё что-нибудь насчёт хаты с краю. Все развитые теории эгоизма создала именно Жаба. Свинья в этом отношении импрессионистка, дитя минуты, случайными мазками творящая на жизненном полотне картину живого свинства, всегда гениально незавершённую. Жаба же высиживает (кстати, если рассматривать Жабу и Свинью с анально-фрейдистской точки зрения, то Свинья больше ассоциируется с непрерывным поносом, а Жаба — с перманентным запором) целую концепцию жизни и уж от неё старается не отступать. Интересно, что при всём том Жаба изводит хозяина не меньше, чем Свинья. Если последняя постоянно (хотя, видит Бог, нечаянно!) подставляет хозяина под действительные беды, то Жаба заставляет его страдать от воображаемых. Человек, которого задавила Жаба, может не спать ночь, мучительно размышляя, выгодно ли он купил доллары, или же следовало приобрести швейцарские кроны, или — если уж такие проблемы носителю Жабы не по карману — как бы сэкономить последние три сотни, чтобы дотянуть до пятницы. Это не значит, что таких проблем у данного человека вообще не существует — но Жаба их раздувает до уровня космических, а если их действительно нет — изобретает, благо это нетрудно: в конце концов, можно озаботиться роскошным надгробием из розового порфира. Или счастьем будущих внуков — но, как правило, не детей, и вообще никого из ближних.
Жаба склонна переоценивать то, что человек имеет — и сокрушаться по поводу того, насколько мало он этого имеет. Когда надо что-нибудь отдать, Жаба раздувается и тем самым раздувает ценность отдаваемой вещи (денег, услуг, информации, прошлогоднего снега). Когда же человек начинает себя сравнивать с другими, Жаба горестно сжимается, преуменьшая всё, что у человека есть в кармане и за душой. У других всегда всего больше, пироги пышнее, и вообще всего вдоволь.
Если свиной эгоизм вообще никак не связан с понятиям справедливости (Свинья этаких слов и не слыхивала), то Жаба обосновывает свой эгоизм именно идеей кошмарной несправедливости, из-за которой у всех густо, а у неё одной пусто.
Геморрою от Жабы очень много, поскольку Жаба всегда в тревоге — потому что смертельно боится чего-нибудь потерять, упустить или прогадать. Тревога и забота — это её нормальное самочувствие.
Резюмируя, можно сказать так: путь Свиньи — получить желаемоесейчас, несмотря ни на что, а путь Жабы — не отдавать имеемое, опять-таки несмотря ни на что.
Жаба безмерно презирает Свинью, та же платит ей бешеной злобой. Тем не менее они нуждаются друг в друге, дабы человек, по какой-то причине разочаровавшийся в одной из фигур, не обратился бы к уму, а бросился бы в объятья к другой фигуре. Особенно эффективным является раздел интересов, когда Жаба захватывает себе одну область жизни, а Свинья — другую. Таким способом мыслят настоящие, полные, совершенные мерзавцы. При таком раскладе Жаба, как правило, идёт в услужение Свинье, как работящая ворчливая служанка — к капризной барыне. Служанка-Жаба, конечно, барыню в глубине души презирает, но держит рот на замке. Барыня-Свинья же служанку терпит, потому что от неё на самом деле сильно зависит.
6. Вторая пара: Змей — Буревестник
6.1. Я долго колебался, как точнее определить соратника (и супротивника) Змея. Было совершенно очевидно, что это некая гордая птица, воспетая великим романтиком революции М. Горьким. Сам Горький, впрочем, тоже колебался в этом вопросе. Вначале он создал философский диалог «Песнь о Соколе», где талантливо изобразил брань Сокола со Змеем (совершенно независимо от Подводного Горький определил глумливого духа как Змея, что доказывает архетипичность образа.) Тем не менее более предпочтителен образ Буревестника (Альбатроса), поскольку он ближе к архетипу.
6.2. Начнем, однако, со Змея. Замечательное описание Змея у Подводного можно дополнить только несколькими штрихами — однако они важны и существенны. Змей действительно циник и комик (и, кроме того, клеветник), но не в этом заключается его сущность. Весь его цинизм и глум направлены на одно, а именно на все высокое. Змей не просто рожден ползать во прахе — он всеми силами отрицает, что в мире существует хоть что-то помимо праха. Короче говоря, Змей — материалист во всех смыслах этого слова (от бытового до метафизического).
Более всего Змею ненавистны по жизни воодушевление, озарение, восторг, легкая мечтательность, влюбленность, короче говоря — какая бы то ни было приподнятость. Уж если Змей овладевает чьей-то душой, то (с упорством, достойным лучшего применения) он заботиться о том, чтобы вверенная ему душа никогда не поднимала глаза к небу, мотивируя это необходимостью смотреть под ноги. При первом знакомстве Змей обычно рекомендует себя как реалиста, знающего жизнь как есть она на самом деле. На самом деле весь его реализм к «жизни как она есть» никакого отношения не имеет, ибо отнюдь не обретен в дальних странствиях и не выношен под сердцем, а просто-напросто высосан из пальца, по простенькому рецепту: объяснять высшее через низшее. Притом высшее в интерпретации Змия все время оказывается неким миражом (или, если угодно, надстройкой), а низшее — кондовой реальностью, которая-де такова, какова она есть и больше никакова. Такого рода заклинания Змей повторяет при каждом удобном случае, — тут ему изменяет даже его хваленое чувство юмора. Если в такой момент кто-нибудь прерывает его речи, то он рискует услышать злобненький шип, а то и получить хорошую порцию яда в мягкое место (ибо змей ядовит). При этом сама змеиная мудрость, коей он так кичится, при ближайшем рассмотрении оказывается наивной чепухой, которая в чистом виде (без менторского тона, сарказмов и ложной многозначительности) может показаться сколько-нибудь убедительной разве что для полного балбеса. Впрочем, Змей считает всех людишек (и в первую очередь, конечно, своего хозяина) именно таковыми.
Весьма показательно отношение Змея к любой попытке хоть в чем-нибудь изменить мир (неважно, в каком объеме). Этого он очень не любит, и весьма эффективно блокирует всякие поползновения доставшегося ему человечка «дергаться», заранее объявляя все такие попытки смешными, глупыми и нереалистичными. При этом Змей старается всячески скрыть от своего хозяина тот неприятный факт, что какой бы то ни было «реализм» собственной ценности не имеет, и вообще нужен только для того, чтобы эффективнее действовать, — ну и, соответственно, «реализм», ведущий лишь к умудренной резиньяции, есть говно. Здесь Змей обожает работать на пару с Серым, хотя метода у них разная: Серый обычно внушает человеку, что «ничего не получится», а Змей — что все его цели и желания смешны и нелепы, а утруждать себя ради реализации оных — только людей потешать. Вообще говоря, наилюбимейший змеиный трюк (на который обычно ловится Дракон) — это выставлять все сколько-нибудь достойные человеческие стремления с их смешной стороны (а ее при желании можно найти во всем), тем самым отбивая всякую охоту марать руки. Тут Змей обожает прикинуться большим эстетом и тонким ценителем изящного, достает жабо с кружевами, и, покачиваясь на кончике хвоста, с видом знатока оглядывает человеческие замыслы и надежды, делая при этом высокомерно-презрительную мину: «все это было бы забавно, будь в этом что-то новое». При всем том, стоит только человеку захотеть хоть чего-нибудь гаденького, весь хороший вкус Змея куда-то улетучивается, и он, демонстративно облизываясь, начинает шипеть на ухо: «С-с-с-с-смотри, как вкус-с-с-с-сно… как интерес-с-с-но… но… тебе это з-з-з-запрещ-щ-щ-щ-щают… а это нес-с-с-свобода… и предрас-с-с-с-с-с-судки…» Как правило, речь идет о чем-нибудь таком, на что и Свинья бы не польстилась. Поэтому в области секса, в коей Змей почитает себя большим докой, он обожает покровительствовать однополой любви, а также выступать в роли агента по продаже черных чулок с поясочком и подвязочками, и прочих интимных ас-с-с-секс-с-суаров.
Интересна связь Змея со всякого рода запретами. Как известно, Змей обыкновенно изображает из себя свободомыслящего. На самом деле запреты и ограничения всякого рода — это его норы, куда он прячется при первой же опасности. Большую часть всех этих ограничений и запретов (особенно негласных) он сам же и выдумал — отчасти затем, чтобы разжечь интерес к тому, что запрещается.
Важная сторона многогранной деятельности Змея — его карьера клеветника. Он обожает объяснять абсолютно все человеческие мысли, желания и поступки самыми низкими причинами, которые он только в состоянии измыслить — после чего с невинным видом требует, чтобы обвиняемая сторона доказала ему обратное. Иной раз он может разойтись до того, что и изобретает целые научные теории (наподобие психоанализа). Этот аспект змеиной натуры хорошо отражен в известном библейском рассказе: там тактика данного персонажа представлена, можно сказать, в классическом виде.
6.3. Если Змей — циник и комик, то Буревестник — романтик и идеалист. Он всегда пребывает в состоянии восторженности и непрерывно трепещет. Его idee fixe состоит в том, что «самое главное в жизни — оторваться от земли». Иначе говоря, для Буревестника жизнь — это служение какой-нибудь идее, как правило — возвышенной и малореализуемой, и часто вся её возвышенность как раз и состоит в её нереальности. Если бы мечты Буревестника вдруг каким-нибудь чудом осуществились бы, он с презрением отвернулся бы от них: Буревестник парит в невозможном, а все сколько-нибудь возможное считает недостойным себя. Поэтому он, как правило, выбирает себе идеалы покруче, и лишь интеллектуальная ограниченность хозяина Буревестника может вынудить его ограничиться мечтами о великой любви («…о, если бы меня кто-нибудь по-настоящему понял!..») или графоманией. На самом деле никакая идея (даже та, за которую Буревестник, кажется, готов живот положить) ему не важна, иначе не был бы он тонкой фигурой. Всякая мечта или идея для него — только повод вести определённый образ жизни, и больше ничего. Впрочем, Буревестник может обходиться даже и без какой-то особенной идеи: например, человек с большим Буревестником может просто «всю жизнь чувствовать себя не таким, как все», даже если это ни в чём конкретно не выражается.
Буревестника часто путают с Драконом. Иногда они действительно совокупляются, что выглядит впечатляюще. Но, в принципе, Буревестник совершенно равнодушен к тому, какого мнения придерживается человек о себе и своих достоинствах. Оно может быть любым. На самом деле для Буревестника проблема самоуважения вообще не стоит.
Буревестник полностью лишён чувства юмора, суров и не терпит насмешек — как Свинья или Дракон. Но если, к примеру, Дракон видит в насмешке атаку против себя лично, то Буревестник считает, что ирония лишает его среды, в которой он парит, то есть Высокого и Сакрального, уравнивая всё это с низким и профанным, и тем самым прихлопывая его к земле, коей он бежит. Но ещё больше Буревестник не любит попыток перевести «дело» или «идею» из сферы восторженных мечтаний в какое-нибудь реальное действие, поскольку тут или быстро выясняется, что идея туфтовая, или начинается работа, а Буревестник этого не переносит, ибо труды мешают мечтанию.
«Земное» Буревестник, как правило, ненавидит, а если иногда и желает на неё посмотреть, то исключительно сверху. Земля представляется Буревестнику грязным, засранным местом, населённым недотыкомками. Он же рождён парить — в пространствах ли «чистого духа», разговоров о высокой политике, или, на худой конец, в мечтах о пальто с волосяным воротом. По этой самой причине Буревестник полагает возможным вести себя на земле как угодно — раз он на ней «в сущности» всё равно не находится, — а тех, кто находится, считает ipse facto подонками и кретинами. В результате его поведение иногда выглядит не более приглядно, чем выходки Свиньи. И неудивительно: Буревестник и впрямь представляется чем-то вроде очень духовной Свиньи с «настоящими запросами», Свиньи оперённой и крылатой. Тем не менее разница между ними принципиальная. Если Свинья стремится к реализации своих желаний любой ценой, то Буревестник, напротив, если чего и боится, так это как раз всяческой реализации.
Взаимоотношения Змея и Буревестника вполне очевидны: Змей презирает Буревестника, тот же Змея люто ненавидит. Это не мешает им работать в паре, когда возникает реальная опасность (то есть человек всерьез пытается обратиться к уму). Сходятся они на почве общей задачи: и Змей, и Буревестник пытаются внушить человеку чувство беспомощности по отношению к материальному миру, хотя используют для этого разные средства.
7. Третья пара: Дракон — Червь
7.1. Описание этих персонажей имеется в классическом труде Подводного — хотя, к сожалению, в несколько смещенной перспективе (поскольку они представлены там в качестве разных голов одного Дракона). На самом деле это все-таки разные персоны (хотя при созерцании они иной раз действительно предстают в слитном виде). Так, следует различать собственно Дракона и его антагониста — Червя.
7.2. Собственно Драконом можно назвать то, что у Подводного называется его первой и третьей головой. Он великолепно описан в первоисточнике; как всегда, только небольшие замечания.
Дракон учит не столько гордости (это чувство вполне нормальное), сколько вседозволенности. «Я Такой Замечательный, что Мне всё можно» — вот основная максима Дракона. При этом Он претендует на какое-то особые права, отличающие Его от окружающих ничтожеств. Раздувание гордыни здесь является только приемом, ведущим к главной цели: внушить хозяину, что для Него закон не писан. Особенно любит Дракон внушать это людям, облеченным властью, причем необязательно большой. Например, Дракон вполне может оседлать какого-нибудь инвалида, который будет устраивать скандалы по поводу того, что «какой-то сопляк» не уступил ему места в метро. Дракон покровительствует всем правдолюбцам и скандалистам «из принципа», поскольку постоянно высматривает, не пытается ли кто уклониться от необходимости оказывать ему должное уважение. Унижать же других он почитает своим долгом и прямой обязанностью — или уж, во всяком случае, правом (поскольку все права он признает только за собой).
В некотором роде Дракон является альтернативой Свинье: если та учит безответственности, то Дракон — вседозволенности. В целом они образуют два лика эгоизма. Тем не менее Дракон обычно легче находит общий язык с Жабой, а не со Свиньей: их сближает общая тема накопления (только Дракон копит не средства, а достоинства) и общая анальная гордыня. Как и у Жабы, в поведении Дракона есть нечто от запора — достаточно посмотреть на его натужно-самодовольную морду.
7.3. Червь является тем, что у Подводного называется второй головой Дракона. Обычно его называют «комплексом неполноценности», но это не совсем правильно. Понятно, что Червь внушает хозяину чувство своей никчемности и ничтожности. Но главное не в этом. Червь пытается вызвать у человека отнюдь не депрессию (это дело Серого), а все то же самое ощущение вседозволенности — хотя и на другой лад, ближе к Свиной безответственности. «Что с меня взять!» — покаянно восклицает Червь, тихонько добавляя: «а значит, не стоит и стараться быть хорошим». Его кредо — «я такой плохой и пропащий, что мне все можно».
По одному внешнему виду Червя можно догадаться, что он находится в каких-то родственных отношениях со Змием. Так оно и есть. Их роднит довольно многое, в чем может легко убедиться каждый читатель Достоевского (особенно рекомендуемая литература — «Записки из подполья»), но в особенности — пристрастие ко всему мелкому и гаденькому. Особенно хорошо они действуют вдвоем, склоняя человека к сексуальным извращениям, причем вначале действует Змей, а после — Червь. Кроме того, Червь в хороших отношениях со Свиньей, поскольку они проповедуют, в сущности, одно и то же. Свинья обычно хочет нажраться говна, а Червь ее добросовестно оправдывает тем, что-де «я так ничтожен, что просто ничего не могу с собой поделать». При этом речь идет вовсе не о великих искушениях, а о чем-нибудь маленьком, но противном (скажем, искушении сказать подруге какую-нибудь гадость).
Отношения между Червем и Драконом относительно неплохие: Дракон, конечно, презирает Червя, но Червь и сам себя презирает, а к Дракону относится хоть и с ненавистью (Эдиповой), но ведет себя с ним крайне подобострастно. Это и дает некоторые основания считать Дракона чем-то одним, а Червя воспринимать как «еще одну голову».
8. Четвертая пара: Желтый — Бурый
8.1. Желтый, в общем, хорошо описан у Подводного. Как всегда, осталось сделать лишь несколько дополнительных замечаний. Необходимо иметь в виду, что Желтый ответственен не за ложь, а за хитрость (как черту характера) и обман (как способ добиваться своих целей). При этом Желтый совершенно равнодушен ко лжи как таковой. Нельзя даже сказать, что он предпочитает во всех случаях жизни «говорить неправду». Напротив, Желтый испытывает максимальное удовольствие, манипулируя в своих целях чистой правдой.
Желтый — великий мастер запутывать любое дело, представлять его «в определенном свете», и вообще «дурить мозги», а если серьезно — подрывать ум изнутри, используя его же творческие свойства в дурных целях. Для этого Желтому приходится развращать человеческое воображение. В самом деле, воображение дано человеку для того, чтобы он мог придумать выход из любой ситуации; при этом, для того, чтобы найти этот выход, оставаясь честным, нужно куда больше воображения, нежели для того, чтобы обмануть. Этим Желтый и пользуется, искусно внушая человеку представление о его слабости, и о силе противостоящих ему врагов. «Ты просто не можешь ничего добиться честным путем» — вот первая мысль, которая внушается Желтым своему хозяину. Этим Желтый (кроме всего прочего) искусно подрывает его самоуважение, чтобы впоследствии вернуть его человеку — но только в форме самообмана. Вообще говоря, Желтый работает на самообман своего хозяина куда интенсивнее, чем на обман других, — и к тому же никогда не забывает подставить человека в самый решительный момент какой-нибудь хитрющей комбинации. Поэтому особо хитрые люди довольно часто попадают впросак в самых, казалось бы, элементарных вопросах, и поэтому же говорят, что на всякого мудреца довольно простоты.
Желтый, как правило, нелюдим, поскольку предпочитает держать своего хозяина подальше от людей: в одиночестве как-то удобнее продумывать и строить козни. В этом смысле он настоящий индивидуалист. Но он же заставляет хозяина непрерывно думать о других людях, о их ходах, стратегиях и тайных планах — так что человек никогда не остается наедине с собой, все время мучительно размышляя о выражении лица Марь Иванны или хитрой усмешке Павла Петровича — «что бы это могло значить»? Он обожает ссорить людей, запутывая их отношения. Если же человек все-таки с кем-то общается, Желтый подвигает его сплетничать (особенно если сплетня сопровождается клеветой).
Одно из самых известных изобретений Желтого — наркотики, то есть вещества и средства, позволяющие обманывать самого себя уже на физиологическом уровне. Желтый является гением-покровителем табака, марихуаны, кокаина, а если нет — кайфует за чашечкой крепкого кофе.
8.2. Противником Желтого является своеобразный персонаж, которого я после некоторых колебаний поименовал Бурым. Выглядит он как леший, — или, для тех, кто незнаком с русским фольклором, как бревно с руками-корягами, ногами-корневищами и носом-сучком. Вещает он обычно скрыпучим голосом, напоминающим звуки, издаваемые гвоздем, царапающим по стеклу, или еще скрип несмазанной двери. Впрочем, своим имиджем он обычно гордится, поскольку неотесанность — это его излюбленный стиль.
Если Желтый отвечает за лживость (как душевное свойство), то Бурый насаждает в душе нечто прямо ей противоположное, — но отнюдь не любовь к истине, а так называемую кондовость. Проявляется она в особенной нелюбви ко всему хитрому, запутанному, сложному, и вообще требующему сколько-нибудь заметной работы ума, а полная и совершенная кондовость — это особенное состояние души, не принимающей в себя никакого ума вовсе (то есть своего рода «просветление»). Как и хитрость, кондовость является формой ненависти к уму, причем открытой, явной и наглой, поскольку нападает на ум не изнутри, а извне.
Одержимый Бурым человек легко узнаваем по выражению лица и лексике. Его (а на самом деле Бурого) любимая присказка: «Хватит, бля, тут, бля, рассусоливать, вы мне, бля, по-простому скажите, как оно там на самом деле, а то, бля, чего-то крутят, крутят, ничего понять нельзя!» На самом деле Бурый внушает своему хозяину недоверие как раз ко всему тому, что требует понимания (то есть внимания и соображения), а «настоящая правда» для него — это что-то такое, что никакого понимания (то есть работы ума) как раз не требует. Всякая сложность приводит его в бешенство, так что при хороших отношениях Бурого с Черным у человека немедленно появляется желание съездить любого умнику по уху, «чтобы не умничал».
Бурый довольно общителен, и в союзе с Торопыжкой обычно бывает несносен, ибо обожает всех поучать — в отличие от Желтого, который убежден в том, что «язык дан человеку для сокрытия своих мыслей». В этом смысле Бурый — «коллективист», за какового себя и любит выдавать. Но за внешним радушием Бурого скрывается все то же самое главное его свойство: подозревать всех в обмане и умничаньи, так что собеседник он довольно неприятный. Всячески поощряя человека к общению («не сиди один, как сыч, не сиди, к людям иди, к людям!..»), он одновременно не позволяет ему думать о других. Особенно ненавистны ему пристойность и правила приличия: «неча, бля, рассусоливать да церемонничать, бля, мы, чай, простые, какие есть, бля, без этих всяких там, бля, хитростей».
Интересно отношение Бурого к наркотическим средствам. Если Желтый — это наркотик, то Бурого можно рассматривать как то, что по-научному называется delirium, а по-кондовому отходняк. Если наркотик обманывает тело, внушая ему, что «все хорошо», то отходняк — состояние кондово правдивое, хотя естественным его назвать нельзя. Если Желтый может устроить великолепную вечеринку, когда все женщины будут казаться (особенно в желтом свете свечей) красавицами, а мужчины — добрыми друзьями, то Бурый во всей своей красе явится наутро, когда небо серенькое, во рту словно кошки нассали, голова раскалывается, а в раковине свален ворох грязной посуды, и по треснувшему краю тарелки лезет таракан. Но обычно Бурый не склонен ждать так долго, поскольку колдовские штучки Желтого ему очень не по нраву. Он предпочитает, чтобы и веселье шло с его участием. Поэтому ему особенно угодно распитие водки, желательно под кильку в томате (его любимое блюдо). Такого рода угрюмое веселье, особенно с мордобитием и пьяными слезами, плавно переходящее в похмелюгу, Бурый по праву рассматривает как час своего торжества.
Кондовый (то есть одержимый Бурым) человек, как правило, свято чтит Правду-Матку, являющейся чем-то вроде супруги или женской ипостаси Бурого (равно как для Желтого тем же является Великая Иллюзия-Майя). Правда-Матка при медитативном созерцании ее визуализируется, как правило, в образе Портянки (это ее символический атрибут, наподобие молота Тора или трезубца Шивы), а при более сильной концентрации — в виде дебелой бабы (точнее, бабки) с напузыренными глазами, лузгающей семечки и сплевывающей шелуху прямо в рожу созерцателя. Ее мантра — священный слог бля, который при частом произнесении сильнейшим образом инвольтирует Правду-Матку, и, соответственно, Бурого.
Интересно, что Правда-Матка глубоко презирает всякое «правдоискательство». Да и немудрено: на хрена искать какую-то «правду» помимо Матки? В частности, она (и, соответственно, Бурый) всегда стараются пресечь любые размышления на тему добра и справедливости, пусть даже и самые невинные. «Те что, бля, больше всех надо?» — грозно вопрошает Бурый. «Жисть, она, бля, такая, какая есть, бля, и не хуя тут разводить!» — трясет он за плечи человека, задумавшегося о том, почему у него все так плохо и гадко. Если же тот не оставляет раздумий, Бурый присаживается к нему на левое плечо, и начинает приставать. «Давай, бля, мужик, поговорим по жизни», — начинает он свою задушевную беседу. «Ты, бля, чегой-то там хитрое крутишь, от этого-то все твои беды и заморочки», — убеждает он. «А я тебе вот что скажу — ты, это, бля, от жизни бегаешь. Сидишь тут, как сыч, свету белого не видишь. Сходи к друзьям, выпей водочки, поговори за жизнь — сразу легше станет. Жисть — она штука такая, с ней хитрить бестолку, она, бля, какая есть — такая она и есть, и ничего ты с этим не сделаешь, хоть ты тут, бля, думай, хоть ты тут не думай, а ее не обманешь…» Если учесть, что хвалимая им Жисть Как Она Есть — просто-напросто девичья фамилия Правды-Матки, то позиция Бурого становится вполне ясной.
Отношения между Желтым и Бурым просты и понятны. Желтый Бурого презирает (за неотесанность), Бурый Желтого ненавидит и считает основным врагом.
8.3. Желтый обычно находится в хороших отношениях со Змеем. Чаще всего они дружат, а если учесть некоторые наклонности Змея, то их дружба часто перерастает в нечто большее. В результате возможно появление синтетической фигуры Желтого (или Золотого) Змея (известного под еврейской фамилией Мамонна), выглядящего чрезвычайно импозантно: непомерной длины, с великолепной блистающей чешуей и с золотой короной на голове. Значение этой фигуры в истории человечества очень велико, поскольку он является тотемом-покровителем современного Запада.
Впрочем, кроме правящего Желтого Змея, на Западе имеется еще и принц-наследник: Желтый Буревестник. Визуализировать его трудно, но можно, обдолбавшись марихуаной или ЛСД. Время от времени он пробует силу в разного рода «альтернативных молодежных движениях» типа хиппи (где известен как «чайка по имени Джонатон Ливингстон»), а в последнее время патронирует «Нью Эйдж». Отношения между правителем и наследником довольно сложные.
Необходимость противостояния набравшему силу Золотому Змею вызвала к жизни довольно противоестественную фигуру — Бурого Буревестника, или Бурывестника, тотема России (и особенно Советского Союза). Бурывестник (иногда еще именуемый Ёптыть и Ухряб) выглядит не очень привлекательно. Больше всего он похож на летающий веник, или, скорее, метлу, с двумя портянками вместо крыльев. В полете он противно скрипит и непрерывно гадит. Своеобразное сочетание кондовости и своего рода романтического идеализма (хорошо заметное в словосочетаниях типа «ударная вахта» или «битва за урожай», не говоря уж о романтике комсомольских строек) оказалось, однако, непрочным — возможно, потому, что брак был заключен без любви (Бурый попросту изнасиловал вырывающегося Буревестника). В настоящее время на его место претендует другой персонаж, а именно Бурый Змей, эзотерически именуемый Говен. Выглядит он как длинная слизистая фекалия (в просторечии «какашка»), и распространяет вокруг себя соответствующий аромат. Он нашел некоторый общий язык со Свиньей, которая в настоящий момент выступает на его стороне (в силу своей неразборчивости). Человек, одержимый Го'вном и Свиньей, называется «новым русским». Однако, официальному воцарению Бурого Змея противятся все остальные тонкие фигуры, что не позволяет достичь нашей многострадальной стране желанной стабильности.
9. Пятая пара: Торопыжка — Серый
Светлый образ Торопыжки подробнейшим образом разобран Подводным в его замечательной книге, к которой мы и отсылаем читателя. Однако, как мы уже имели случай отметить, автор «Тонкой Семёрки» уделил недостаточно внимания такому персонажу, как Серый, в результате чего некоторые аспекты его деятельности остались нераскрытыми и непонятыми. Мы постараемся наверстать упущенное, уделив некоторое внимание этой фигуре.
Серый, как известно, ответственен за уныние, тоску, меланхолию и ипохондрию, а при случае — и за суицидальные наклонности (как известно, в психоанализе Серый пышно величается Танатосом). Менее известно, однако, другое его свойство: именно Серый отвечает за такое распространённейшее свойство человеческой натуры, как лень.
Надо сказать, что обычное определение лени как «нежелания ничего делать» в корне неверно. Одержимый ленью человек может до изнеможения заниматься какой-нибудь фигнёй, валять дурака, причём безо всякого удовольствия для себя. Это происходит потому, что ленящегося инвольтирует именно Серый, тихонько внушая ему мысль о бесплодности любых усилий.
Дух косности и уныния, составляющий суть Серого, в традиционном оккультизме называется ариманическим, а Серый Король — Ариманом. Любопытно, что ему противопоставляется обычно так называемый Люцифер — некий синтетический образ, несущий в себе черты Дракона и Торопыжки. Так оно и есть: пресловутый Люцифер — это всего лишь плод противоестественного союза этих двух персонажей. Свойственная ему суетливая гордыня хорошо описана в соответствующей литературе.
Отдельной темой является так называемое «восстание Люцифера» против своего Творца. В этой легенде, глубоко символической, высказывается глубокая истина: именно Люцифер обычно открыто восстаёт против ума, увлекая за собой остальные тонкие фигуры (которые предпочитают гадить втихую). В частности, именно Люцифер отвественен за разного рода скандалы, истерики, дикие выходки, и прочие яркие и неприятные проявления низших начал в человеке. Это и неудивительно: торопыжковая его часть не даёт человеку подумать и остыть, а драконья спесь подбивает его растопыриться.
10. Шестая пара: Чёрный — Слизень
10.1. Черный, простой и незатейливый в своей тупой агрессивности, великолепно описан у Подводного. Однако, фигура, ему противостоящая, ещё более отвратительна (если это только возможно). Её настоящее имя — Слизняк, или, более торжественно, Слизень, а функция — подстрекательство и поощрение всяческой трусости, а равно и подлости и низости.
Внешний вид Слизня вполне соответствует его имени. Это ползучая гадость, больше всего напоминающая огромную белёсую улитку, с тонкими щупиками и склизским пузом, на котором он ползает. На спине у Слизня раковина, куда он и прячется при первых признаках опасности для себя. Раковина эта неимоверно прочна, поэтому победить в себе Слизня почти невозможно: для этого нужно либо разбить саму раковину (что удаётся только чрезвычайно продвинутым людям), либо ущучить Слизня в тот момент, когда он вылазит из своего укрытия (как правило, ситуации, когда нужно принять какое-то мужественное решение).
Слизень, как уже было сказано, ответственен за человеческую трусость и подлость. Разумеется, не он один порождает разного рода душевные тревоги и опасения (это делают и другие тонкие фигуры), но именно он вызывает в душе человека ту самую «дрожь в коленках», которая, собственно, и зовётся трусостью. Делает он это, выделяя из себя ядовитую астральную эссенцию, отравляющую эмоциональное тело, а через него — и физическое. В такие моменты человек бледнеет, на лбу и на ладонях выступает так называемый «холодный пот» (являющийся на самом деле ядовитыми выделениями Слизня, который человеческий организм пытается срочно вывести из тела), а в особо тяжелых случаях — недержание мочи и дефекация (вызванные, опять же, попыткой организма экстренно очиститься от яда).
Однако, самой опасной для человека является не прямая химическая атака Слизня, а отравление медленное и незаметное. Если человек не замечает происходящего с ним, он начинает постепенно опускаться, стремаясь и шарахаясь от самомалейшего риска, реального или воображаемого, пока не превратится в полное чмо.
Большую часть времени Слизень дремлет в раковине, поэтому его обычно не видно. Двигается он тоже медленно, так что возможность манёвра у него ограничена. Зато везде, где он проползёт, остаётся противный липкий след, который чрезвычайно трудно стереть. Так, любые чувства, эмоции, воспоминания, сильно запачканные Слизнем, становятся настолько отвратительными, что человек предпочитает любой ценой избавиться от них. Как правило, эти фрагменты психики превращаются в так называемые «комплексы», с которыми приходится бороться специальными методами, как правило — психологическими, а в запущенных случаях — психиатрическими.
Отношения между Слизнем и Чёрным более чем понятны: они друг друга не переносят (и, как обычно, Чёрный бесконечно презирает Слизня, а тот платит ему бессильной ненавистью).
Слизень настолько гадок, что почти все тонкие фигуры брезгуют тесного общения с ним. Исключение составляют Червь (он единственный любит выделения Слизня и обожает ползать по его следам), Змей (будучи натурой тонко-извращённой, он иногда тянется к чему-нибудь пакостному), и Жёлтый. Соединение с этим последним порождает нечто неописуемо омерзительное: Жёлтого Слизня, покровителя предательства. Визуализировать эту фигуру сложно, да и небезопасно для душевного равновестия. Самое меньшее, чем можно отделаться после попытки прямого созерцания этой фигуры — непреодолимой тошнотой, переходящей в рвоту.
10.2. Пара «Чёрный-Слизень» играет немалую роль в общественых делах. В частности, на ней основана любая общественная иерархия, — особенно в древних военно-аристократических обществах, где аристократия обуяна общественным Чёрным, а низшие классы инвольтируются общественым же Слизнем. В результате мы видим агрессивную верхушку и жалких, задавленных простолюдинов, при том не вызывающих ни малейшего сочувствия в силу их «подлого нрава».
Калигула (Отрывок из одноимённой пьесы Альбера Камю)
Текст начинается с фрагмента в самом конце второй части пьесы.
Калигула обвиняет Мерейю в том, что он пил противоядие на пиру. Мерейя отпирается, но Калигула дожимает его следующим аргументом:
Калигула. Итак, у нас два преступления и альтернатива, которой ты не сможешь избежать: либо я не хотел тебя убивать, и ты меня подозреваешь несправедливо, меня, твоего императора. Либо я этого хотел, и ты, козявка, противишься моим замыслам. Ну, Мерейя, как тебе такая логика?
Мерейя. Она… она безупречна, Гай. Но к моему случаю она неприложима.
Калигула. И третье преступление: ты считаешь меня идиотом. Теперь слушай. Из этих трех преступлений только одно — второе — делает тебе честь. Коль скоро ты предполагаешь, что я принял какое-то решение, и противишься ему, значит, ты бунтовщик. Ты предводитель восстания, революционер. Это прекрасно. (С грустью.) Я очень люблю тебя, Мерейя. Поэтому ты будешь осужден за свое второе преступление, а не за остальные. Ты умрешь, как мужчина — за бунт.
Мерейя. Нет.
Калигула. Что значит — нет? Ты думашь, что ты можешь мне что-то запретить? Ты не хочешь умирать, козявка?
Мерейя. Я не об этом. Возможно, тебя это удивит, но я не хотел бы умереть за бунт. Видишь ли, я презираю бунтовщиков. Из нас двоих бунтовщик — ты, а не я. Впрочем, если тебя это позабавит, можешь убить меня по третьей из указанных тобой причин, тем более, что это правда. Я действительно считаю тебя идиотом.
Калигула. Ты слишком быстро решил, что тебе нечего терять. Впрочем, будем выше этих жалких угроз. Итак, решено, что твоя смерть наступит сегодня, что бы ты не сказал. А теперь скажи, что не считаешь меня идиотом.
Мерейя (безразлично). Я действительно считаю тебя идиотом. Ты хочешь спросить, почему. Для этого есть два основания, каждое из которых вполне достаточно. Во-первых, твой идиотизм проявляется в твоих поступках. Во-вторых, для него можно указать причину — что я, впрочем, уже и сделал. Ты идиот, потому что ты бунтовщик.
Калигула. Ты считаешь, что мои милые развлечения — идиотизм? А по мне, идиоты — вы все, вы, так забавно цепляющиеся за жизнь. Я же ей не дорожу — ни вашей, ни своей. Или дорожу ей так, как вам никогда не понять.
Мерейя. Разумеется. Ты же не ценишь то, что тебе не нужно. Идиоту действительно не следует жить. Ему незачем жить. Что до поступков, то ты делаешь только одно: убиваешь. Но это простейшее действие, доступное любому рабу, любому темному селянину, любой заразной болезни, даже камню. Нет ничего проще — убить другого или себя. Тот, кто не способен ни на какие действия, кроме простейших — явный идиот. Ты убиваешь только потому, что разучился делать что-либо, кроме этого.
Калигула. Продолжай, но будь последователен. Ты назвал меня идиотом и бунтовщиком. Я принимаю второе. Я действительно бунтовщик. Я взбунтовался против жизни — такой, как она есть. Мой бунт бессмыслен и обречен, как и всякий бунт, но это все же лучше, чем ваше пресмыкательство перед жизнью.
Мерейя. Чем же это лучше? Нет, кому это лучше?
Калигула. Ко-му? В смысле — кому из людей? Да ты, оказывается, добряк, Мерейя! Ты, видно, не спишь ночами, размышляя, кому бы сделать лучше! Много ли ты роздал милостыни на улицах Рима, Мерейя? Или…
Мерейя. Я не разу в жизни не подал милостыни по своей воле — только из лицемерия, или потому, что этого требовали приличия. Я не люблю нищих, и не сочувствую тем, кто оказался ниже меня. И не потому, что считаю себя существом высшей породы. Напротив, я думаю так именно потому, что считаю всех людей одинаковыми. Если люди одинаковы, то любить других людей больше, чем себя, так же бессмысленно, как любить только себя. А люди одинаковы — иначе они не нуждались бы в том, чтобы устанавливать различия между собой. Что такое все эти щиты, шлемы, пурпурные тоги, как не установленные ими различия? И зачем бы все это понадобилось, если бы различия действительно были — как между конем и коровой? Здесь киники правы. Они неправы в другом: они не ценят этих различий. А мы, обычные люди, ценим эти различия — как доставшиеся нам с великим трудом. Их ценят даже те, кто по воле судьбы оказался в самом низу. Они предпочтут быть плебсом, чем жить в мире, где нет ни плебса, ни патрициев. Впрочем, ты говорил…
Калигула. Да! Я говорил о том, что вам всем недоступно — о бунте против жизни. Я убиваю бессмысленно и абсурдно, чтобы сравняться с ней. Она убивает именно так, как я. Я делаю это изощренно, обосновывая свои гнусности разумно, с безупречной логикой, чтобы убить разум и логику, оправдывающую абсурд. Я…
Мерейя. Ты идиот. Ты не дурак, но ты идиот. Есть такое греческое слово — идиот. Ты же знаешь греческий лучше меня. Когда-то ты даже сочинял аттицистские стихи, кстати, не такие уж и плохие…
Калигула. Да, я был хорошим мальчиком. Ты хочешь утешить себя, вспоминая, каким я был хорошим? Правда, жаль, что я не умер тогда? Можно было бы проливать слезы по несостоявшейся надежде Рима! Ах, если б Калигула остался жив! Если бы он стал цезарем! Если бы он восстановил старые нравы, старые суровые добродетели, почитание старшних и любовь к отчизне!
Мерейя (брезгливо). Это еще что такое?
Калигула. Да, пожалуй, ты этого не говорил бы. Но ведь это ты, в отчаянии, решив, что терять тебе уже нечего, назвал меня идиотом…
Мерейя. Я считаю тебя идиотом. Я проявил это не в словах, а в поступках. Я действительно пил противоядие. Почему? Потому что от идиота можно ожидать всего, чего угодно. Например, ты мог добавить яда в кушанья, и развлекаться, гадая, кому оно достанется. Или придумать еще что-нибудь глупое.
Калигула. Ты так боялся за свою ничтожную жизнь?
Мерейя. Если я так уж боялся бы за свою ничтожную жизнь, я постарался бы оказаться подальше от твоего двора. Но я привык к придворной жизни и не хотел из-за одного идиота менять свои привычки. С другой стороны, я пил противоядие. Не хотелось умирать из-за идиота. Не хочется вообще что-то делать или чего-то не делать из-за идиота.
Калигула (уязвленный). Ну конечно. Ты хотел бы умереть за величие Рима.
Мерейя. Я вообще не хочу умирать. Если бы я хотел умереть, я бы умер. Но есть вещи, которых я не хочу еще больше.
Калигула. Ах, ты считаешь, что есть что-то хуже смерти?
Мерейя. Да, но не только. Я считаю, что есть кое-что лучше жизни.
Калигула. Этого я уже не понимаю.
Мерейя. Еще бы! Поэтому я и назвал тебя идиотом и бунтовщиком. Ты бунтуешь против жизни, ставя на смерть. Но смерть — это часть жизни. Это очень простая мысль. Смерть — это часть жизни.
Калигула. Ну и что?
Мерейя. Значит, ты думаешь, что бунтуешь против господина, подчиняясь его слуге? Впрочем, это-то как раз вполне закономерно. Бунтовщики всегда кончают именно так. Потому что всякий бунт обречен. Более того, успешно подавленный бунт обычно укрепляет режим. А не подавленный — тем более.
Калигула. Я это знаю.
Мерейя. Почему же ты бунтуешь?
Калигула. Вам этого никогда не понять.
Мерейя. Ну почему же? Это не так сложно. Я уже ответил: потому что ты идиот. Ты не видишь ничего, кроме жизни и смерти. То есть кроме жизни, поскольку смерть — это часть жизни.
Калигула. Вне жизни нет ничего! Или ты веришь в то, что твоя душа, по Платону, подымется в сферу бестелесного, или как оно там называется, в то время как твое тело будет гореть на костре? Ты веришь в загробную жизнь?
Мерейя. Сейчас меня не волнует, есть жизнь после смерти или ее нет. Важно слово жизнь. Жизнь после смерти — это опять жизнь, пусть даже и какая-то другая. Все, что мы говорили о жизни, применимо и к жизни загробной. Она вряд ли показалась бы тебе более привлекательной, чем эта… Разве что было бы меньше иллюзий относительно смерти. Ты и за гробом останешься идиотом, только разочарованным идиотом.
Калигула. Но, кроме жизни, кроме вот этой жизни, нет ничего значительного!
Мерейя. А какой-нибудь посвященный в мистерии скажет, что кроме той жизни, нет ничего значительного. Подожди, такие люди скоро расплодятся в избытке. Ты, Калигула, и какой-нибудь христианин, отличаетесь почти во всем. Но в чем-то вы похожи. Вы не можете понять того, что находится за пределами жизни.
Калигула. И что же это такое? Какой-нибудь бог? Что мне до бога? Меня интересует только одно — я сам.
Мерейя. Я сказал — за пределами жизни. Но не за пределами самого себя.
Калигула. Я опять не понимаю, что ты там лепечешь, Мерейя.
Мерейя. А ты напряги слух. Я говорю о том, что человек больше своей жизни. Поэтому он человек. Если он больше своей жизни, значит, в нем есть что-то, находящееся за пределами его жизни.
Калигула. По-моему, идиот — не я, а ты. Тебя…
Мерейя…не поймут? Тебе не кажется, что мне поздновато искать понимания. А потом — кто, скажи на милость, понимает тебя? Ты, кажется, сказал, что нам — то есть мне — чего-то там такого никогда не понять?
Калигула. Ладно, ладно. Ну и что же? Пусть даже ты прав, хотя, по-моему, ты просто морочишь мне голову, оттягивая тот момент, когда лишишься своей головы. Впрочем, может быть, и нет. Ладно, в конце концов это неважно. Ну, допустим, есть какая-то часть меня за пределами моей жизни. Ну и что?
Мерейя. А кем ты себя считаешь? Тем, что живет? Или тем, что находится за пределами жизни, любой жизни — этой, той, какой угодно? Если считать себя только тем, что живет, то приходится признать себя животным. Ты, Калигула — животное, причем взбесившееся животное. Если же нет…
Калигула…то пришлось бы считать себя мертвым.
Мерейя. Ну, пусть даже и мертвым. Устроители мистерий это так и называют.
Калигула. Ха! Мистерии!
Мерейя. Ха! Калигула! Ты что-то доказал, сказав «ха»?
Калигула. Так что же это такое? Какая-то сущность человека? Она вечна? Неизменна? Абсолютна и ничем не затрагиваема?
Мерейя. Ну почему же. Ее можно лишиться. Ты же ее лишился.
Калигула. А смерть, смерть — она тебя лишает этой части? Ты скажешь — нет?
Мерейя. Нет. Видишь ли, смерть не лишает тебя того, что за пределами жизни. Смерть лишает жизни. А вот жизнь… Живя, можно лишиться многого. В том числе и того, что за пределами жизни. Себя.
Калигула. Тогда зачем нужна жизнь? Зачем мы живем? Этого никто не понимает. Ты тоже. Я, по крайней мере, поразмыслил над этим. И я…
Мерейя. А чем ты поразмыслил?
Калигула. Своим умом, очевидно. Вы, козявки, живете мнениями других, но я осмелился обратиться к самому себе. Я спросил самого себя…
Мерейя. Себя? А с чего ты это взял? Если ты привык чем-то пользоваться, это еще не значит, что это твоё. Кто тебе сказал, что ты пользуешься своим умом?
Калигула (увлекаясь). А чем же, по-твоему? Откинув все человеческие мнения, все предрассудки, безнравственность толпы и нравственность толпы, ты остаешься наедине с собой. И тогда…
Мерейя (перебивая). Опять же, с чего ты это взял? Ты думаешь, что, отойдя от толпы подальше, куда-нибудь в ливийскую пустыню, ты действительно отделился от нее?
Калигула. При чем тут это? Я вознесен над толпой своим умом и страданием…
Мерейя. Ничуть. Ты находишься внутри жизни. А жизнь — вообще — есть сожительство с другими. Жизнь и толпа — одно и то же. Неужели ты никогда не слышал, что одиночество и смерть родственны?
Калигула. Я одинок, и я думаю о смерти.
Мерейя. Да, это заметно. Так вот, чем же это ты думаешь о жизни, о смерти, о самом себе? Ты думаешь об этом тем умом, который не способен этого понять. И это не твой ум. Он достался тебе от других, в конечном итоге — от той самой толпы, которую ты так презираешь.
Калигула. Я враг толпы, потому что я страшен толпе. Вот, погляди на эту толпу придворных, на это жалкое, блеющее стадо. Как они боятся за свои жалкие жизни!
Мерейя. Да, каждый из них боится за себя, и каждому из них ты страшен. Но от этого страха они сбиваются в толпу, прячась друг за друга. Каждому из них плохо, но толпа чувствует себя прекрасно. Ты усилил ее. Она и порождает тебя, и таких как ты, чтобы разрастись и поглотить Рим.
Калигула (презрительно). Что такое этот Рим, о котором ты толкуешь? Все эти Курции, Лукреции и прочие старческие байки? Или это ты, старик? В таком случае жалок же этот Рим! Я сейчас, своими руками, могу свернуть твою старую дряблую шею, о великий город!
Мерейя. Можешь. А Герострат смог сжечь храм Артемиды Эфесской. Он был такой же, как ты. Он тоже думал, что нет ничего, кроме жизни.
Калигула. Все думают так! Все!
Мерейя. Нет. Большинство людей просто не думают над этим. Но если бы задумались, они не стали бы так думать. Видишь ли, Калигула, многие люди предпочитают вовсе не думать, чем думать неправильно. Ты принадлежишь меньшинству. Ты, Калигула, Тиберий, Герострат — вилишь, не так уж вас и много. Но дело не в этом. Так вот, уничтожить можно всё, даже самое великое, не так уж это и сложно. Великое всегда существует вопреки жизни, то есть вопреки существованию. Нетрудно лишить жизни то, что существует наперекор жизни. Рим был островом света, исходящего оттуда, из-за пределов жизни. Света, непонятного никому, в том числе и нам самим. Он возник из ничего, и существует вопреки времени и законам природы, точнее — законам жизни. Его поддерживало только неугасимое желание людей выйти за эти пределы, и ум, не являющийся умом жизни.
Калигула. Ты опять говоришь какую-то чушь.
Мерейя (устало). Если тебе надоел разговор, казни меня, и покончим с этим.
Калигула. Здесь решаю я.
Мерейя. Да, разумеется, здесь решаешь ты. А что, возможность решать — это такая большая честь?
Калигула. А разве нет?
Мерейя. На римских улицах стоит стража. Когда на улице становится слишком тесно, они решают, кому пройти по улице, а кому нет. Они даже могут пропустить грязную повозку впереди носилок патриция. Ты дал им такое право. Но никто из них не думает, что его работа так уж увлекательна. Каждый из них хотел бы сам возлежать в этих носилках, вместо того, чтобы стоять на жаре в тяжелом панцыре. Разумеется, какая-то часть души этих бедняг злорадствует, что они могут задержать богатые носилки. Но они сами относятся к этой части души довольно трезво. По крайней мере, они не служат ей. Ты же ей служишь.
Калигула. Я устал от тебя. Напоследок скажи все-таки, почему ты назвал меня бунтовщиком. Я говорил, что бунтую против жизни, ты же говоришь, что я ей служу. Или служу смерти, что, по твоему мнению, одно и то же. Кроме того, ты назвал меня идиотом. Где же тут бунт? Или ты запутался в своих словах, старик?
Мерейя. Смерть — часть жизни. Но и бунт — часть жизни. Жизнь — когда она становится единственной ценностью — становится бунтом против сущности. Твоя жизнь, например — бунт. Я действительно презираю бунтовщиков, а почему — я уже сказал. Да, я совсем забыл. Ты же приговорил меня к смерти. Пожалуй, я позабочусь об этом сам. (Открывает перстень с ядом).
Калигула. Нет! Не смей, козявка! (Бросается на Мерейю, срывает с его руки перстень).
Мерейя (поднимаясь с пола, морщась от боли). Успокойся, Калигула. Я просто хотел показать тебе кое-что. Тебе не нужна была моя жизнь или моя смерть. Ты хотел убить меня сам, по своей воле. Если бы я убил себя, ты был бы взбешен. Но это и означает, что ты идиот. Обыкновенному, нормальному человеку безразлично, как достигнут результат, который он хотел получить. Человеку умному это небезразлично, но по-другому, чем тебе. По крайней мере, он никогда не забывает о результате. Ты же опустился ниже обыкновенного человека. Тебе вообще неважно, что выйдет из того, что ты делаешь. Я привел тебе единственное доказательство твоего идиотизма, которое еще доступно для твоего понимания. Впрочем, как я уже говорил, ты разучился делать что-либо, кроме как убивать. Это единственное, что еще остается в твоей власти, и ты цепляешься за это куда сильнее, чем я или кто-то другой цепляется за жизнь. Ты, кажется, мечтаешь о том, чтобы смерть подчинялась тебе, и думаешь приручить ее, приказывая ей наступить. Но подобный способ дрессировки…
Калигула (громко, страже). Уведите его. И казните… я совсем забыл, за что ты хотел быть казненным?
Мерейя. Ты не забыл. Я считаю тебя идиотом. Впрочем, теперь у тебя появится новое занятие — забыть то, что я тебе сказал. Думаю, что это побудит тебя к новым убийствам. Ты постараешься похоронить меня под горой трупов…
Калигула (кричит). Возьмите его! Тащите его!
Мерейя (поднимаясь). Благодарю, но я, кажется, еще способен ходить сам…
Калигула (кричит). Нет, Мерейя, нет! На это раз тебе не удастся! Тащите его! Не давайте ему встать! Ты не пойдешь сам, старик, нет! Тебя потащут волоком, как падаль! Потому что ты сопротивляешься! Да, да, ты сопротивляешься мне, козявка! Ты бунтуешь! Тащите его за ноги! (Стража хватает Мерейю за ноги и тащит вон. Лысая голова старика бьется об пол. Мерейя хрипит.) Вот так! Хорошо! Хорошо! Хорошо!(Успокаивась). Ты слишком поздно взбунтовался, старик. Ты мог бы стать во главе заговора, но не осмелился, а потом я раскрыл твои планы. Даже не подозревая об этом, я раскрыл твои планы! Я раскрыл их до того, как они у тебя появились. Это божественно. Умный Калигула. Замечательный Калигула. Божественный Калигула! Эй, вы! Все, все кричите — бо-жест-вен-ный Ка-ли-гу-ла! И погромче! Я могу убить вас всех! Всех! Слышите, вы! Всех! Всех!
Придворные (с облегчением). Да! Да! Слава! Божественный Калигула! (Скандируют). Бо-жест-вен-ный Ка-ли-гу-ла!
Esotica
Слово «ESOTICA» — это незаконная помесь слов «экзотика» и «эзотерика».
Сюда я буду класть все тексты, которые написаны по особым случаям, о которых мне не хотелось бы распространяться — так что описания даются в форме аллегорической и символической. Некоторое время я колебался, стоит ли это публиковать. Однако, просматривая то, что предлагают любезному читателю всякие литературные и окололитературные сайты, я подумал — а почему бы и нет? Во всяком случае, кому-то это может показаться любопытным.
Разумеется, эти тексты будут правильно поняты очень немногими людьми. Но подобные тексты пишутся не за тем, чтобы «быть понятыми» — правильно или неправильно. Существуют и другие цели такого рода писаний — я назвал бы их «мистическими», если бы это слово не было безнадёжно и окончательно дискредитировано.
Тем, кто неравнодушен к этой странной области существования, эти странные истории могут быть не только интересны, но и полезны. Ибо они описывают отношения с магическими существами, раскрывают тайны снов и видений, учат разгадыванию загадок и анаграмм, ворожбе, гаданию по воде и ветру, и многим другим замечательным вещам, без которых наша жизнь хоть и возможна, но пуста и безрадостна.
She
«Пусть будет стыдно тому, кто дурно об этом подумает»
Девиз Ордена ПодвязкиЕё нет.
На дворе холодно и темно: ранние зимние сумерки. Я стою в снегу и жду.
Чёрные деревья, снег, близкие крики детворы. Вон там — рукой подать — катаются дети с горки, девчонки гадлят, ябедничают мамам, и не хотят уходить домой. Мальчишка волочит картонку с помойки: вот сейчас заберётся на горку и скатится вниз. Девочка оскользнулась, упала, шубка задралась, мелькают красные рейтузы, попа в снегу… Опять мальчишка роется в помойке. Рожей бы, рожей его туда, в бак. Неужели никто не видит?.. Эх, макнуть бы рыльцем в самую слизь, в мёрзлый бачок с «пищевыми». Жаль, мамаша прискачет, а если и не успеет — сбегутся дети, будут орать с безопасного расстояния…
Господи, ещё один! Тащит из бака скелет новогодней ёлки. Кто это её выкинул сейчас-то? вроде рановато, обычно держат до старого нового года.
Мне нравится выражение «старый новый год», оно смешное. Мне вообще здесь нравится, хотя я в этом дворе посторонний. Я здесь, потому что жду Её.
Опять никого. Голоса где-то вдали, а поблизости — руку протяни — стоит тишина. Где-то там мерцает фонарь. А здесь всё-таки мрачновато. Чернеет опустевшая помойка. Неужели Она тоже в ней роется? Как-то раз я, кажется, видел Её — она засунула морду в мусорный бак; скосила глаза, увидела меня и злобно ощерилась… Может быть, и роется, да. Но дыхание у неё всегда чистое. Сильное и чистое.
Той зимой я с Димой ходил на ёлку: из гардероба волокли шубки, в руках — пластмассовые баночки с леденцами, с конфетами, мама накручивает на шею зелёный шарф… Помню ещё что-то мелькающее, беленькое, серенькое, какой-то бессильный потёк мочи на снегу — и всё кончается вечерними снегами, чёрным провалом за дверью подъезда, и растерянным светом лампочки над ней. А в этом чёрном провале, стояла Она, слитая с чернотой.
Так это началось. Внутри Неё было тесно и сладко.
Вот так же, как сейчас, вчера ночью я стоял у запертой двери школы. Я, конечно, тоже ждал Её. Не помню уже, как оно было; в общем-то, у нас с Ней всё примерно то же самое, давно без перемен.
Почти что семья. Брак.
И всё-таки каждый раз, когда я жду её — уже без нетерпения, уже почти со скукой, — я всё-таки не могу отделаться от мысли, что Она не придёт.
Её всё ещё нет.
Она не боится дневного света, даже, кажется, предпочитает его. Просто не можем же мы это делать вот так… могут увидеть, поднять крик, мало ли что. Ей, впрочем, всё равно, но мне-то нет.
Кажется, Она не любит тепла — ещё бы, с её-то мехом. Не любит закрытых помещений. Не переносит обмана, и сама меня никогда не обманывала, если не хочет говорить — просто не ответит. Немудрено, впрочем, при таких-то сложностях в общении. Правда, когда ей надо мне что-то дать понять, у неё это получается с лёгкостью.
Несмотря ни на что, ничего «демонического» в ней не чувствуется.
На неё можно положиться, хотя и в известных пределах.
Никого.
Она любит ласку, но только самую простую: чтобы её погладили, но не по голове, а по спине, по брюху (вечно у неё торчат соски). Или уж — прямую мастурбацию. Для этого Она обычно ложится, даже, можно сказать, раскладывается. Обленилась, хвост ей поднять лень… Ну что тут поделаешь… Ещё очень любит тереться об меня всем телом, а запах у Неё не то чтобы неприятный, но сильный.
Нет Её. Холодно. Ноги замёрзли.
Ну, конечно, у меня бывали другие женщины, кроме Неё. На одной из них я даже был женат. Это продолжалось довольно долго. Сейчас у меня не очень хорошо с памятью, так что я почти всё забыл. Помню только, что ей всё время хотелось денег, а когда они появлялись, она немедленно тратила всё на какую-нибудь дрянь. Ещё она выщипывала себе волосы на лобке, потому что мама ей сказала, что это «возбуждает мужчин». Одно время я пытался ей объяснить, что меня это совсем не возбуждает, но потом понял, что я и не имелся в виду. А ещё роддом, какие-то пелёнки в ванночке… нет, совсем не помню. Что-то ещё? Вертится фраза про варечку, платье полосатое, музей… господи, откуда всё это? Какая-то книжка, я вообще читал много всяких книг, когда жена ушла насовсем, как это называла та, другая женщина, которая жила у меня в доме и кормила меня фруктовыми салатиками, а потом тоже ушла насовсем, и я остался с Ней.
Как вымерло всё.
Ей от меня, в общем-то, ничего не нужно. Ну, почти ничего. Она может прекрасно обойтись и без меня, и без этого всего вообще: вокруг полно людей помоложе и посильнее. Просто почему-то она однажды предложила себя, потом — почему бы и нет? — ещё раз, а теперь наши отношения нас просто устраивают. Особенно сейчас.
Понятия не имею, знают ли домашние о нашей связи. Если и знают, предпочитают не вмешиваться. Но иногда дают мне понять, что обо всём осведомлены, или хотя бы догадываются. Чёрт бы их взял вместе со всеми их догадками.
Хотя нет, в последнее время я ничего такого не припоминаю.
Вообще, куда они все делись, эти домашние? Была какая-то девочка с аллергическим румянцем, как же её звали? Кажется, просто внучка. Внучка-жучка. Была ведь какая-то жучка… Да, маленькая такая собачка, её завёла та женщина с фруктами… Она её, конечно, загрызла. Может быть, от ревности? Нет, это же смешно, собачка была совсем маленькая. Тем более, я же не извращенец, ко всякому такому меня никогда не тянуло… (Она — это другое дело.)
Кстати, к женщинам Она никогда не ревновала.
Я не уверен, что Она мне верна, но мне хотелось бы так думать. Хотя, конечно, нет. Если бы Она была только со мной, я бы не дожил до этих лет.
Она меня бережёт, хотя мне это неприятно.
Её нет.
Ба! Ну конечно, вот куда девалась внучка — уехала в Америку с этим смешным парнем, не помню кто он по профессии, вроде бы какой-то химик, или биохимик, не помню. Меня даже пригласили на свадьбу, но в тот день у меня было свидание с Ней, я же не могу пропустить свидания.
Если Она когда-нибудь не придёт, это будет значить, что я скоро умру. Ей всё-таки кое-что нужно… эта, как её, жизненная энергия. Сейчас у меня почти ничего не осталось, и она дала мне понять, что последнее она не возьмёт. Я хотел бы умереть на Ней, но Она считает, что это плохая смерть. Я ей верю: в конце концов, Она больше нашего знает о том свете…
Её нет. Ну что ж, теперь всё понятно.
В общем-то, у меня была хорошая жизнь.
По крайней мере, у меня была хорошая подруга.
Архив
Посвящается Хорхе Луису Борхесу
Вопреки всем известным доселе свидетельствам, Архив вовсе не велик: пять полок, в углу табуретка, на которой оставили картоны с документами, увязанные вчетверо. Те же картоны лежат плашмя на длинных полках; верхняя полка почти пуста. Я потянулся к ней за какой-то папкой, и та тронулась и упала вниз, медленно перевернувшись в падении.
Наклонившись к ней, я отворил обложку. Между калек там лежали, засушенные, красные кленовые листья.
Такие же листья были на полу, их нанесло ветром незнамо когда, и они так и остались.
— Здесь давно не мели, — библиотекарь показал в угол, там был медный совок, от времени совсем тёмный. — Ты будешь вынимать папки, а я посмотрю. Но только там ничего твоего нет.
Но он не стал развязывать картоны, какие я совал ему с полок, только смотрел названия и возвращал обратно мне.
— Смотри, вот это — на гибель человечества, — он дал тонкий картон, там почти ничего не было, кажется, разве что пять-шесть бумажек.
— А что, разве люди погибли? — я поставил картон на место.
— Да, ещё давно. Они погибли, и теперь всё по-другому. Не то чтобы лучше, но всё-таки — по-другому, как мы и надеялись. Люди погибли, но стали умнее.
— И больше человечества не было?
— Нет. Теперь только иногда, очень редко, человек появляется на земле. Целые эпохи проходят без него. Мы теперь предпочитаем не быть, это куда лучше.
— Кого же вы оставили здесь?
— Мы оставляли только тех, кто чего-то хотел. Кто хотел жить. Птиц, мышей. Или, например, Единое. Оно ничего не создало. Оно размахнулось выше всех галактик, но не сотворило ни одной галактики. Оно создать хотело множество звёзд, но не создало ни одной. Только дыхание! Только колыхание! Теперь живые существа не имеют лёгких. Везде дышит Единое, и совершенно незачем заниматься этим самому. И оно же создаёт ветер, который дует по всей Земле, пробираясь во все щели, и от него беременеют звери в лесах.
— А как же всё-таки люди?
— Ну, люди… В нужные времена люди мы выходим из лесов, прибираемся, украшаем землю. Иногда остаёмся жить. Редко бывают два-три поколения. Иногда находим какие-то жилища, каменные дома, колодцы. Как-то, в общем, существуем.
— Откуда же берёмся мы? — спросил я почти без интереса.
Я смотрел на библиотекаря, и думал, как мы похожи. Печаль текла по нашим телам, от неё сжималось горло, и сами собой закрывались глаза.
— Нас зачинают в лесах дикие звери. Но ведь мы — не настоящие люди. В архиве я читал, где было, что настоящие были тенями больших Ангелов, которые пролетали над Землёй. Они и сейчас летят куда-то — мимо и дальше.
Саша
Вечером я проснулся от поднявшегося к сердцу страха. Это был тягучий, невнятный страх невозвратимой потери — так голодный боится потерять заныканую под одеялом последнюю корку хлеба.
Откуда-то сверху шел ветер, он касался моих рук и одежды, крался по тёмной комнате — он был рядом со мной. Но в доме было тихо, все уже утомились, а детям пора спать. Утром я их не видал… нет, уже был день, глаза слипались от усталости, когда стучался в калитку; Саша тогда вышел ко мне, он так и постелил на веранде, и я прошёл, кинул в угол вещи и лёг через минуту. Кажется, мне снилась дорога, как я ехал ночью в поезде, ко мне привязались ребята с вонючей махрой и разговорцем. Взять у меня им было нечего, да и по вагонам ходили солдаты… нет, солдаты мне приснились, а какой-то парень ещё показывал на них и говорил, что полагается… а! говорили про армию, он всё больше врал да посмеивался, что, дескать, всё равно правды на всех не хватит.
Или всё-таки просыпался я днём? Помню девочку с красным полотенцем, недоброе детское личико, рот перемазан куманикой… Когда-то Саша допытывался, почему это я боюсь детей. Знаешь, Саша, они ведь ещё маленькие, ещё не забыли небытия, из которого пришли. Жизнь — это разделение изначально смешанного… счастлив достигший старости и боящийся смерти. И так душа, оставив жизнь, всё же противится злу. Но близка ему необращённая воля. Это сказал Августин Блаженный, епископ Иппонский.
Я тихонько поднялся и сел на кровати. Можно бы пройти в комнаты… а, там же спят. Или нет?.. утром Саша что-то мне говорил. Не запомнил… всё равно пописать надо… пойду.
Он сидел на столе и курил. Вот сейчас закурил и бросил в угол обгорелую спичку. Разговаривать ему — как-то так… Ну, чё? Всё нормально, в общем-то. Мать ещё не приехала. Приедет — опять житья не будет. Да тоже нормально. Сестёр каждый день гулять вожу, на речку и в ягодник. Целые заросли тут — да куманика эта везде растёт. Да, и малина, сколько хочешь. Надоели они мне. В общем ты в чём-то прав был, ну, такой разговор… Ты поможешь их укладывать? Каждый день со скандалом — не могу спать уложить. Войди! Войди быстро! Кому сказал! Ты понял? — подслушивает, сучка мелкая. Ну, быстро!
Дверь приотворилась, и в комнату заглянула девочка. Не та, которую днём видел, даже непохожа. Поганые, злые глазёнки. Чего орёшь? Мама приедет, маме всё скажу! Мама нас любит, мы ей всё расскажем! Ты гавнюк! Попробуй только приди сейчас! — она убежала.
Мы искали их по дому и в саду — их не было. Саша и не особенно усердствовал; похоже, он уже понял, где они, да не хотел почему-то, чтобы я видел… ну да ладно. Сашок, извини, я отойду, или где у вас тут можно? Я поплёлся к забору; Саша побежал домой. Когда я вернулся, он укладывал сестёр. Они не давали себя раздеть, щипали друг друга, визжали, — я было хотел помочь, но тут они поутихли и мы ушли в сад курить.
На этот раз он застелил мне диванчик у себя в комнате. Погасили уже свет, но ещё долго разговаривали в темноте: мне спать не хотелось, да и ему, кажется, тоже… он только всё время был чем-то отвлечён. Знаешь, у нас опять хуже стало. Давай не будем об этом, Мать об этом только и говорит, сил нет, извини. Я тут ничего… читаю всякое. Как Настя? Уже уехала? Не представляю… Что? Терпеть не могу. Как ты его можешь выносить? Вот и я. И я тоже.
Мы ещё поговорили, потом согласились, что пора бы и баиньки. Саша скоро заснул. Я опасть захотел на двор, одеваться не стал и тихо вышел. Там было холодно и темно. Когда вернулся, то заметил под крыльцом свернувшуюся колечком собаку. На веранде было ещё темнее, чем снаружи. Я пробирался к тамбуру, когда услышал шаги и тут зажёг свет.
В дверях стояли сестры — почти голые, прямо из постели. Младшая несла в руке собачий намордник и какие-то ремешки. Они совсем не испугались. А, это ты. Пошли с нами, не то крик подымем, Саша тебя прогонит. Ты его не знаешь, он гад, он мамы только боится. Да тихо ты! разбудишь; пойдём.
Они, как вышли, попрыгали с крыльца; собака проснулась, бесшумно поднялась на лапы… девочки её хватали, она не лаяла, а только вырывалась, это была осторожная и злая возня… эй, ты, дурак, чего стоишь, помоги, не кусает, ему голову держи — я неловко взял за спину — надевай, надевай, не даётся, вот! вали, вали его! здесь будем? — тут пёс вырвался и убежал. Ты, дурак, это ты его выпустил! Ладно уж, молчи, знаем… пошли к нам.
Я вошёл в ихнюю спальню, они тут же закрылись на ключ, стали шёпотом ругаться, не давали мне уйти. Хихикали, оттесняли меня от двери, и тут я понял, что они хотели сделать тогда. Я сказал, что их ненавижу.
Они всё сообразили сразу. Никуда ты не пойдёшь, а то закричим. Он опять не дался, он нас боится.
Старшенькая гадливо усмехнулась:
— Ну да. А что б мы тогда интересовались тобой, самым противным?
На следующее утро они всё рассказали Саше. За завтраком мы не разговаривали. Потом он пошёл мыть посуду, и я остался один. Ещё через час он подошёл ко мне и сказал, чтобы я уезжал. Я отправился собирать вещи. Собирать-то и нечего было. Когда я складывал куртку, на веранду вошли сестры. Они были после купания, мокрые, загорелые и весёлые; старшая несла водяную лилию, болтался стебелёк…
Пошли к нашим! Ты чего? — они болтали, не глядя друг на друга. — А хлеб будем печь! Пошли хлеб печь! Да ну, я его не ем. Да, ты не ешь, а помнишь во вторник, ты больше всех ела! А этот чего тут копается? Так Сашка его выгнал. Аа. Пошли к тёте! Не, у ней гости были, она не будет. Пошли хлеб печь!
Я не нашёл у себя в куртке денег и понял, что сестры меня обобрали. Ехать… уже пора, но на какие шиши?.. а Саша мне ведь не даст. Кажется, я решился просто уйти, может, попутка… нет… меня больно ущипнули за руку.
Сестры показались мне очень высокими. Тихо ты, дурак. Сиди. Можешь оставаться. Мы ему велели тебя оставить. Деньги мы взяли. Забудь их, дурак. Мы. тебе говорим. У тебя потом ещё больше будет. Он даст. А мы скажем, что у тебя взяли, он тебе вернёт. Не сейчас. У него сейчас нет. Мать приедет, у неё возьмёт. Куда тебе? останешься. Ночью приходи. Ты не понял? мы тебе велели; как скажем, так и будешь ходить. Наш гавнюк тебя разбудит. Мы ему сказали тебя разбудить. Хватит, пошли, он всё понял.
Через минуту вошёл Саша. На меня не глядя, сказал, что я опоздал и что поеду вечером. И ты… не тяни, пожалуйста. Я ничего не понял; да… сестры мне сказали, что ты… мне уехать или что?
О господи, конечно уехать! Они тебе это сказали? Это ерунда. Ничего они мне не говорили и такого сказать не могли. Не надо ещё и врать. И про деньги тоже. Если хочешь, пойду и тебе дам на дорогу. Матери моей потом вернёшь. Они мне этого не говорили. Не надо всё сваливать на них!.. Он пошёл куда-то к себе, вернулся, сказал, что денег у него нет и чтобы я уезжал. Ещё что-то хотел добавить, вдруг кинулся к двери, послышался топот — а, они опять подслушивают.
Не помню, как прошёл день; деться было мне некуда. Вечером я отправился, не прощаясь, да никто и не стал бы провожать. И вышел за калитку… качнулась тяжёлая ветвь и коснулась моего лба. Не оглянувшись, я представил себе их дом: он почему-то показался мне очень маленьким, белой коробочкой с высокой двускатной крышей, и тут же — сад, молодые деревья… правды, конечно, на всех не хватит, но мне показалось, что за спиной моей был рай, о котором никогда не устану мечтать; ах, они ещё будут купаться и собирать ягоды, и печь хлеб у друзей… Я шёл медленно, и когда вышел уже на дорогу, то не мог смотреть по сторонам. Саше пришлось окликать меня дважды.
Слушай, я тебя уже сколько жду. Я от них еле убежал. Ты меня извини, конечно. Тебе бы… ну я знаю. У меня просто денег нет, а так я б дал, ты поехал бы себе… Ты прости, придётся тебе ещё тут пожить, пока мать не вернётся. Я просто не знаю, как я виноват, ну ты пойми, какое у меня положение. Что ты! Это я тебя выгнал?! Да оставайся хоть на сколько, я же… так ты не хочешь уехать? А… ну это я перед ними. Если б ты сам захотел, они б тебя не отпустили, и я бы ничего не сделал. Сам уже всё понял. Деньги я видел. Они при мне их взяли. Нет-нет, ничего они мне не приказывали! вот этого действительно не было, это они тебе наврали. А как же ты пошёл? Я-то всё надеялся, что у тебя ещё есть, и ты сможешь добраться… а это- так, чтоб они не подслушали7 Нет? Значит, нет? Я как увидел, что ты уже…, так побежал… тут короткая тропинка есть, пошли… Я только и жду, когда мы отсюда уедем, дни считаю, всё много остаётся. Мать вернётся скоро, так это вообще будет кошмар. Осторожно, тут канава, дай руку.
Ночью он разбудил меня: тронул рукой и сразу притворился спящим, но я знал, что это он.
Поди сюда. Эй, дурак, поди сюда. — Я положил не откликаться на такое, и вообще я перестал бояться девочек, увидев, как Саша избил старшую до синяков, а та только визжала и пыталась удрать. — Ну подойди, поговорить надо. — И всё-таки я их боялся, очень боялся. — Слушай: Саша на чердак полезет, мы лестницу уберём, ты сразу иди в дом, туда, к нам. Когда мы тебя отпустим, поставишь лестницу, а ему скажешь — не видел.
Не будет он ничего кричать: маленький проснётся; ему очень надо. Посидит там и всё; тебе-то что? этот гад тебя из дому выгнал, тебе мало? скажем, чтоб выгнал.
Знаю, что он говорил. Он не сразу нас послушался, а когда мы сказали, что маленького пожжём, побежал. Не, про маленького нет. Его не покажем. Его на чердаке держат. Этому гаду не говори, что знаешь, не то опять выгонит тебя, и без денег.
Когда Саша наконец спустился, я не знал, куда глаза девать. Он тоже.
Ночью он опять меня разбудил, но сестёр не оказалось, я расслышал что-то в саду и догадался, что они поймали пса. Вернувшись, я почувствовал, что остался в комнате один. На всякий случай пошарил по Сашиной кровати — пусто.
Я зажёг свет и стал его ждать.
Наутро мне показали маленького. Он лежал голым пузом на брезенте, и, казалось, дремал. Так это он и есть? Всегда думал, что он умер.
Нет; он на десять лет меня старше. Наоборот: он мудрый, может отыскивать клады и знает будущее. Знаешь, без него… Пошли скорее, а то проснётся.
Когда я спустился, девочки свалили лестницу, Саша чуть не упал. Ну, быстро! Ты почему вчера не пришёл? Что, трудно было выйти? Да, поймали. Он теперь нас до смерти боится. А она ему сделала вот так и держала, пока он чуть не сдох. Это ты сделала! Врёшь! Хочешь, мы его убьём? тогда ходи, как условились. Этот гад тебе всё рассказал? Да? Вот гад, мама не знает. А мама его дома родила, никто и не знает. А она сразу знала, что он такой будет. Пошли быстро.
Меня этому маленький научил, а потом её. Нет, меня сперва, а я тебе всё сказала! Он сказал, что если будем так, то никогда не расстанемся. Он нет. Он же будет жить всегда, пока его не пожгут. Он сам это говорил. А его скоро пожгут, он станет взрослым и уйдёт. Тоже сам говорил.
Иди, лестницу поставь ему, а то не выйдет.
Мать приехала через неделю.
Денег никто мне так и не вернул. Я уверен, что мать отдала их Саше, а тот не уследил, и все досталось девочкам. В первую же ночь по прибытию мать застала меня с сестрами — может быть, и случайно. Во всяком случае, мне опять было велено уезжать, уезжать вместе о Сашей, и учесть, что мы прекращаем это знакомство; Александр пусть водится с кем хочет, но его семья… Тем не менее за ужином была почти любезна и даже попросила передать сахарницу.
Когда разливали чай, погас неожиданно свет. Девочки принесли из тамбура, свечи и долго не могли их зажечь. Тут ко мне пришла одна мысль.
Кажется, я даже вздрогнул, во всяком случае я как-то выдал себя, и мать это поняла. Я протягивал Саше чашку с горячим чаем, и тут она неожиданно и резко схватила меня за кисть руки.
Стало как-то очень тихо. Я не мог вырваться, не разлив кипятка; так и держал занесённую руку с чашкой, и не смел даже чего сказать. Тогда она легонько потянула к себе, отобрала чашку и поставила на стол. Посмотрела мне в лицо; тут я понял, что сестры всё-таки похожи на неё, но каждая по-своему.
Ты придумал! уже додумался! Уже всё знаешь? Тут без году неделя, а уже пронюхал! Ну пусть уж попользовался семейным нашим несчастьем (она с какой-то непонятной гордостью покосилась на притихших дочерей; а может, и почудилось, не знаю… про них она явно знала всё). Ты не вертись! Ты отвечай, гадёныш, срань такая, отвечай — ты нас тут подпалить хотел? пожечь моего сына? Ка-ко-ва? А такова! Старшова! Которого маленьким зовут! Завидуешь нам, сучонок? Завидно тебе, что мы так живём? Тоже небось, хочется? Ишь, выискался, как объедать нас, так первый, а как пора и честь знать, так самый последний! Сейчас же уйдёшь! в доме тебе не постелю; и ещё ребят караулить подставлю, чтобы вокруг не шатался и чего не попортил…
Но напрасно она уже всё это говорила, потому что я левой рукой взял чайник, полный кипятку, и без замаха ударил им ей в лицо. Крышка соскочила, и на неё плеснуло кипятком. Она несильно закричала, и тут же в восторге заорали девочки. Мне уже было всё равно, и всё-таки я слегка растерялся, когда заметил, что Саши за столом нет. Я зазевался, и тут сестры опрокинули чайник — я же, не глядя, опустил его на скатерть — опрокинули к себе, кипяток полился матери на колени, и тут вошёл Саша с тазиком в руках, полным, как показалось, воды. Но это была не вода, это было… Он этим плеснул на нас — я едва успел отскочить, и тут же упал на пол, а он уже тыкал чем-то горящим в мокрую скатерть.
Огонь занялся не большой, но как-то сразу везде. Саша выскочил из комнаты, где уже всё горело. Было слышно, как он, пыхтя, суёт чего-то в дверную ручку, чтобы не могли отворить. Я успел дёрнуть дверь на себя и выскочить из огня.
Помню, стало светло. Мы удерживали дверь, её отчаянно рвали и дёргали. До сих пор не пойму, почему они не разбили стекло… Когда ручка накалилась до невозможности, и из-под двери по полу поползли струйки дыма, пришлось бежать. Собака путалась под ногами и скулила. Я догадался было взять лестницу, но Саша её тут же отнял. И вдруг, буквально в минуту, разгорающийся пожар утих и быстро погаснул вовсе. Сразу стало очень дымно.
Нам пришлось выйти за калитку. Я стоял, ничего не понимая, не помня, когда Саша спросил кого-то в темноте:
— Ты стал взрослым?
— Да, — ответил я машинально и тут же в ужасе понял, что я открыт.
* * * * * * * * * * * *
Комментарий.
Дано при проведении государственного гадания бу.
Цель гадания — определение положения Срединной Империи.
Результат гадания:
Гексаграмма 17 Последование.
Суй.
В начале девятка, мужская черта. Младший, Пёс.
В службе будет перемещение. Стойкость — к счастью.
Шестёрка вторая, женская черта. Первая сестра.
Сблизишься с малыми детьми — потеряешь возмужалых людей.
Шестёрка третья, женская черта. Вторая сестра.
Сблизишься с возмужалыми людьми — потеряешь малых детей.
Девятка четвёртая, мужская черта. Я.
Если в последовании и захватишь что-нибудь, то стойкость — к несчастью.
Если будешь обладать правдой и будешь на верном пути, будет ясность.
Девятка пятая, мужская черта. Саша.
Правдивость по отношению к прекрасному. Счастье.
Наверху шестёрка, женская черта. Мать.
То, что взято — сблизься с ним; и то, что следует за тобой — свяжись с ним.
Царю надо совершить жертвоприношение у западной горы, у алтаря предков.
Ангельс
Посвящается Густаву Майринку
Бог — это кусок масла.
(Народное)Наливная капля света, вертясь, мерцала, попав куда-то близь конца того, в чём была, а он был в ней, как бы сварясь в крутом кипятке, не чуя, как она прыгала и каталась, тёмная в тёмном. Исток там казался маленьким неважным пятнышком — не то сверху, не то сбоку бодающего мир вихря; когда же он падал туда, то — вроде огромного птичьего глаза, золотящегося и чёрного, а потом — чем-то вроде степи, а ещё ниже, казалось, бушует вода подо льдом, и в воде горело солнце. Льдины дробились, и солнце поминутно вспыхивало и меркло, всё ближе и ближе, и вот под ним полыхнул тяжёлый восьмигранник, его стенки распались. В короткий миг молчания эти лепестки взмахнули во тьме, сияющий ангел взмыл, приоткрыв своё сложное, радужное тело, в середине дрогнули славословящие уста — тут его срубил вихрь, и он рухнул. Но свет увидел того, бьющегося во тьме, и послал ему весть — он очнулся. Он был растворён в утлой, траченной доле света, как соль; себе он казался пузырьком в кипящей Ночи. Падая, он чуял, как истекает из него свет, и отчаянно нёсся с ним, но неслитно, пытаясь не быть, забыться, как забываются в падении, мигом становясь и мигом оставляя себя усилием гибели. Наконец, всё успокоилось у самой грани, отделяясь от света только им. Он медленно приходил в себя, удерживаясь тем от падения в исток, и, казалось, болтался в копытце со стоялой водой, складываясь в вещь. Он увидел — пелена вокруг колеблется, как шатёр; внезапно откуда-то из глубины всё озарил волшебный двенадцатигранный ангел, всходящий, как башня, вверх. Вихрь не успел даже его коснуться, как тот вознёсся и нырнул в живое тело тьмы.
Он было поднял взгляд, но ангел уже был невесть где, мощь его и великолепие пропали для взора. Разворошённая память угрюмо тлела в нём: когда сам он сиял, как павлинье перо, у полюса света, — в двадцать четыре крыла, — и бился с вихрем, тот рассеял его, сокрушив, раздрав, а вечное сердце ангела падало вперёд, немо и глухо ведая свой путь и сущее вне себя — он летел сквозь гнилое пламя, ядущее себя, и вся, он был среди него… то, зачем он тогда стал, давно прошло, и он очутился в себе, умный, безобразный.
Был когда-то кругом в круге большем, а стал сухим и острым.
Здесь он как бы треснул, и пал — жизнь вошла, как ударом кнута. Капля света потянулась, поцеловала границу, перед ним забелело окно, и вот она дёрнулась, и он был вброшен соединением их в пределы Дня.
Как от берега, отхлынула от рубежей волна, его с собой унося, словно в море. Незримое течение подхватило его и понесло — казалось, на дне цвели головы царей, кружились и пели солнечные сполохи. Некий ангел пронзил всё это и канул вверх. Тут его потянула к себе рука Дня, и среди весеннего мира этой веры он был весь как летящая сеть, она открывала его, и в этом разворачивающем пленении было лишь одно — кто ты?
Но он уже знал, что нечего ему говорить — он был от начала, от его вопрошающей воли, и погиб ради самого себя. Он сам стал тем ответом, отсветом из тьмы, и не мог его узнать тот, всё хитрее вплетающийся в него. Впереди был белый свод, полный, как воздухом, началом: он шёл туда, в потерю жизни, в забвенье. Зелёные пальцы сжали его, когда он изменился, умолчал собой — по телу света пронеслась рябь, она тысячекратно прервалась, и тут он выпал, а свет, выпрямляясь, дрожал вокруг в сомнении.
И покатился он, теряясь, как в огромной корзине. На мгновение, оказавшись бегущим вокруг сретения четырёх лучей, стройной звезды, в которой стояли малые звёзды, он упал на неё, его потянуло назад, он схватился за дверную ручку, дверь неожиданно, стукнув, распахнулась, зашибла ему пальчик на босой ноге — и он нечаянно переступил порог Ночи.
Здесь было противно. Это тогда, давно, тьма была хороша. Там, куда не могло достать зарево, он и проснулся впервые. Из лужи под ногами показалась маленькая луна и юркнула обратно. Он, нагнувшись, пошарил там и выудил кусок масла.
Но, ах, не то это было, что он искал! Это было масло злое, этакий кремешек; прочное, как велосипедный звонок.
«Я Ангельс» — сказал он.
Примечания
1
И'хуй (ивр.) — «сращивание», «соединение».
(обратно)2
Umkleidet (adjektiv) — «окружённое оболочкой». Сикорски, видимо, субстантивирует прилагательное до der Umkleidet — «окружатель, обёртыватель».
(обратно)
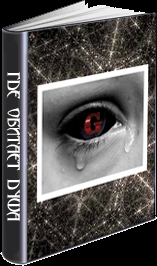


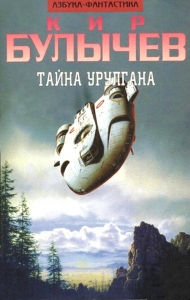

Комментарии к книге «Рассказы», Михаил Юрьевич Харитонов
Всего 0 комментариев