Федор Чешко Четыре уха и блестящий дурак
«Верхоглядство: поверхностное, неглубокое ознакомление с чем-нибудь.»
(С.И.Ожегов, «Словарь русского языка»)* * *
Жара стояла немилосердная. Солнце взобралось уже почти в самый-пресамый зенит и рушилось оттуда на ссохшийся мир водопадами свирепого зноя.
Солнце… Язык попросту не поворачивался назвать иначе мутно-желтый клубок, беснующийся там, в безоблачном пыльном небе. Язык не поворачивался и в прямом смысле (официальное названьице у здешнего светила не из удобопроизносимых), и в переносном: очень уж тут всё казалось каким-то своим. Недобрым тут всё казалось, неуютным, диким, но вот – своим. Домашним. Земным. Мало, что ли, даже по сию пору сохранилось на препарированной технологическими революциями Земле по-первобытному диких и неуютных закоулков? Да полней полного!
А если всё же вымучивать язык, именуя местное светило Дзеттой Катафрактария, то как тогда назвать эту вот истрескавшуюся от жары глину, встопорщенную колкой выгоревшей травой? Почвенное покрытие планеты Терра-бис? Маразм собачий! Нетушки, солнце и земля – они и есть всего-навсего земля и солнце. И плевать, что астрономические объекты с этими именами бредут сейчас по своим тропам-орбитам где-то в миллиардах миллиардов километров от этого истязаемого засухой мира. Плевать. Слюной. С высокой высоты. Хотя бы с вот этой плосковатой вершины каменистого полухолма-полуутёса – уж больно место удобное подвернулось.
Упомянутая вершина действительно была очень удобна – естественно, не как позиция для плевкометания, а как наблюдательный пункт. Этакая плешь, окруженная нечёсаным венчиком полузасохших кустов – достаточно прозрачных, чтобы не застить обзор биноскопу, и достаточно густых, чтобы надёжно укрывать наблюдателя от жителей Стойбища. Единственное неудобство заключалось в том, что кусты были низковаты, поэтому Матвей не мог себе позволить приподняться даже на четвереньки. Конечно, везде написано, будто уродцы не отличаются особой дальнозоркостью; и холм, похоже, совершенно не интересует их (их, похоже, вообще ничто не интересует, кроме жратвы, драк и заботы о продолжении ихнего уродского рода)… Но береженного, говорят, сам Бог бережет.
Интересно, кто первым додумался назвать Стойбище Стойбищем? Ни в одном из читанных Матвеем уродцеведческих произведений не было сказано кто, но во всех утверждалось, что неведомый называтель – дурак. На языке сочинителей заумных статеек дурак называется дилетантом. Несмотря на своё успешное разбирательство с пресловутыми «всадниками» Байсана, Матвей считал себя тоже дилетантом в этнографии (он, Матвей, вообще слыл исключительно скромным и честным жуликом). Но даже ему было известно, что стойбище – это всякие там разборно-переносные яранги, чумы и прочие вигвамы, хозяева которых терпеть не могут подолгу задерживаться на одном месте.
Самые приятные и симпатичные из первобытных – кочевники. К сожалению, грязные ублюдочные уродцы таковыми не являются. Впрочем, кабы не их вздорная усидчивость, изолинит Терры-бис был бы общедоступен. А Матвея такой расклад категорически не устраивал. Его устраивал расклад, при котором вожделенная руда была бы доступна исключительно для Матвея Молчанова, и больше ни для кого. Что ж, как сказано в писании, толците и отверзется. А толцить можно по-разному. Например, дни напролёт вжимаясь брюхом в вершину холма, а потной разгорячённой рожей – в наличник биноскопа.
Стойбище не было стойбищем. Стойбище было свайным посёлком: путаница хлипких мостков меж безобразных груд обомшелого хвороста, сам факт существования которых служил несмываемым оскорблением для благородного слова «трущобы». Весь этот архитектурный комплекс казался тем более нелепым, что обширное, но мелкое озеро, на котором его воздвигли, напрочь пересохло из-за небывалой для здешних краёв жары.
Речку, впадающую в озеро, тоже замордовала сушь, но каждый изгиб пересохшего русла различался вполне явственно – обстоятельство исключительно важное и весьма счастливое.
Попытки заполучить данные о границе хальт-дистрикта обошлись Молчанову дороже, чем даже пропуск на планету-заказник. Тем не менее удалось вызнать всего лишь один-единственный достоверный ориентир – характерную излучину вот этой самой речушки – и, несмотря на засуху, оный остался распознаваемым.
Вот попробуй только перетащить туда, через излучину-то, самый крошечный предмет, хоть на микрон высунувшийся за пределы технологии раннего каменного века или содержащий хоть крупицу материала, чуждого био-, лито– и прочим сферам Терры-бис…
И всё.
Хана.
А хана в данном случае – это бесшумный и невидимый дезинтеграционный разряд с охранного спутника класса «люстра». По предмету. И по хозяину предмета. Мгновенно и без следа – вот что такое хальт-дистрикт, учреждённый ООР для охраны уникального поселения уникальной расы постземноводных неандерталоидов.
Пока Матвей на высокооплаченную излучину почти не смотрел. Вопреки желанию он то и дело наводил биноскоп на сверкающие рудные выходы, длинными полосами расчертившие береговую отмель и обнаженное озёрное дно.
Изолинит.
Богатейшее месторождение, одно из трёх, разведанных в освоенной части галактики, и имеющее великолепные шансы заделаться вообще единственным. Лунные копи выскоблены почти до дна, а Темучинская Залежь… Покамест она не многим доступнее здешней: Темучин находится в самом эпицентре активного мордобоя между Новославией и Конфедерацией Истинных Демократий. Сии прогрессивные государства грызутся без перерыва вот уже более двух десятилетий (угадай с трёх раз: из-за чего бы?). Правда, пару лет назад ООР ввела в зону боевых действий миротворческую эскадру – в результате число воюющих сторон возросло до трёх, причём каждая из них отбросила всякую оглядку на межрасовые конвенции о неприменении сверхразрушительных вооружений. Того и гляди, вошедшие в раж вояки да миротворцы совместными усилиями разнесут злополучный Темучин в пыль, раз и навсегда избавив себя от причины конфликта, а Объединённые Расы – от половины разведанных запасов супердрагоценного минерала. Господь-всдержитель, услышь мольбу раба твоего Матвея Молчанова, сделай, чтоб так и вышло! Тогда раб твой Матвей сможет наложить лапу практически на весь изолинит галактики.
* * *
Изображение подёрнулось мутью, расплылось. Матвей было испугался, что забарахлил-таки не рассчитанный на подобную жару биноскоп, но испуг оказался напрасным. Влагопоглощающая оправа наличника просто-напросто очередной раз напоглощалась влаги сверх предела возможности, и визирный экранчик залило пОтом.
Такое повторялось каждый час, и каждый же час Молчанов до сердечных колик пугался за работоспособность своего наблюдательного устройства. Слишком уж важная роль отводилась этому самому наблюдательному устройству в Матвеевом замысле. Можно сказать, ключевая роль ему отводилась.
Следовало бы взять с собой биноскоп тропической модификации, но кто ж знал, что проклятой Дзетте именно теперь вздумается поактивничать?! То есть кто-то об этом, конечно, знал, но информация стоит денег, а их и так уже потрачено – ой-ёй-ёй!
Хорошо, хоть хвалёная «мокрая кожа» комбинезона от жары защищала не хуже, чем от холода. Впрочем, и тут не всё слава Богу: в своё время Матвей поскаредничал тратиться на капюшон. И теперь за это никчемное крохоборство (подумайте, какой молодец – целую сотню выгадал!) тяжко расплачивалась Матвеева голова. Ну, и биноскоп тоже.
Почти механически Молчанов проделал ежечасовой обряд: лёжа на боку, платком протереть экранчик; установить биноскоп на земле наличником кверху – для просушки; а платок (предварительно утерев им рожу и запястья – всё то, что героически обеспечивает среднюю норму потовыделения на квадратный сантиметр тела) выкрутить и разложить на солнцепёке.
Несколько утешало лишь то, что и уродцам приходилось очень несладко. Рыболовствовать им сделалось негде; приозёрная живность либо передохла, либо подалась на поиски более влажных мест. Голод нет-нет, да и выгонял постземноводных неандерталоидов в многодневные охотничьи экспедиции – похоже, охота считалась у аборигенов занятием тяжким и опасным, поскольку уродцы, к крайней Матвеевой досаде, упорно избегали ходить за пропитанием водиночку.
Добываемое в течении полудесятка дней сжиралось за считанные минуты. Потом добытчики сутки-другие набирались храбрости для нового похода, коротая время за хозяйственными делами и корректировкой внутриплеменной иерархии. Великолепно препарированные последствия таких корректировок десятками таращились на окружающий мир с каждой стойбищной кровли. Одно время Матвей искренне удивлялся, как при подобном образе жизни обитатели Стойбища умудрились по сию пору не извести себя под корень. Правда, он довольно быстро сообразил, что местные виды развлечений ограничиваются жратвой да сексом, а производство резино-технических изделий цивилизация Терры-бис ещё не освоила.
Молчанов привык гордиться крепостью своих нервов, но всё же он старался пореже цепляться взглядом за неандерталоидские архитектурные украшения. И тем не менее показалось ему, будто бы кой-какие из этих тупо ухмыляющихся высушенных голов принадлежат отнюдь не аборигенам. А на врытом близ подхода к мосткам сучковатом столбе ворочался под вздохами раскалённого суховея клювастый череп флерианина – уж его-то ни с чем не спутаешь. Что ж, все яйцеголовые (в том числе и клювастые) авторы заумных статеек сходятся на том, что уродцы – весьма лихие парнишки, а их уродцевые боги, божки да боженята покладисты и к приносимым жертвам относятся без расовых предрассудков. Пожалуй, постземноводные даже и без ООРовской опеки сумели бы за себя постоять – по крайней мере, до учреждения хальт-дистрикта неандерталоиды «на раз» управлялись со старателями-одиночками.
…Матвей уже тянулся за просохшим биноскопом, когда позади, где-то у подножья холма, послышалось… нет, скорей ощутилось неким шестым чувством человека, привыкшего постоянно блюсти безопасность своей спины… В общем, плевать – послышалось оно или почувствовалось, это шорохоподобное чёрт-те-что, украдливо приближавшееся к Молчанову по выгорелому травяному склону.
Матвей почему-то готов был клясться: подкрадывается к нему не животное. А кто? Уродец? Да нет, в этом случае первым слышимым звуком был бы хруст собственного горла под кремневым ножом… Тогда кто же?
У Матвея не было ни времени, ни желания предаваться раздумьям. Просто он привык в любой ситуации готовиться к наихудшему. А ещё он привык считать своим наиуязвимейшим местом не горло, а банковский счёт.
И теперь, после секундной оторопи, Молчанов с его самого удивившим спокойствием понял: конкурент. Понял и выговорил на глобаллингве:
– Не вздумай шуметь или вставать: заметят.
Одновременно с этим вполне миролюбивым предупреждением он запустил руку в правый набедренный карман и чуть присогнул колено.
Подкрадывавшийся вылез на холм именно в том месте, куда Матвей навёл спрятанную в кармане лучевку. Полуголый детина, обросший грудами лоснящихся мышц, на четвереньках пробрался сквозь реденькие кусты и, отфыркивая пот, сказал в полголоса:
– Хай, Мат.
Украшенная зарослями недельной щетины физиономия тарзаноподобного визитёра так и лучилась дружелюбием, вот только взгляд его намертво прилепился к Молчановскому карману.
Матвей вздохнул и выволок правую кисть на свет божий. Ещё и нарочито потряс растопыренной пустой пятернёй: расслабься, дескать, всё путём.
Стрелять он раздумал по трём причинам. В-третьих, не очень-то приятно давить гашетку, если ствол почти упирается в брюхо давнему хорошему другу. Во-вторых, выстрел из кармана непоправимо испортит штанину и, наверное, весьма чувствительно обожжет бедро – от одной мысли об ожоге при этакой сумасшедшей жаре делалось дурно. И, наконец, во-первых: на Терре-бис без крайней нужды лучше не нарываться. Разряд лучевки может засечь какая-нибудь орбитальная дрянь – дистрикт дистриктом, но над планетой-заказником вертится множество всякой аппаратуры и помимо чёртовой «люстры».
– Здравствуй, Дикки, – с некоторым запозданием Матвей всё-таки удосужился ответить на приветствие. – Христом-Богом прошу: ляг!
– Ляжем рядком, поговорим лотком… – с невообразимым акцентом полупропел тарзаноподобный.
Несколько мгновений Матвей, кривясь, наблюдал, как это скопище волосатых мышц вминается боком и прочими неодетыми частями в рыжую щетинку травы, по ряду характеристик превосходящей Горпигорскую противопехотную колючку.
Скопище волосатых мышц под названием Дикки Крэнг было, как и Матвей, почти целиком одето в мокрую кожу, с той лишь разницей, что Матвеево одеяние было искусственным, а Диково – нет. Тем не менее защитные свойства обеих кож казались почти одинаковыми. Странно… За более чем двадцать лет знакомства Матвей как-то не замечал за Диком йоговской привычки спать на гвоздях…
Кроме кожи, мускулов и волос на Крэнге просматривались лишь какие-то невообразимые обувеобразные (верней, обувеБЕЗобразные) обмотки и ещё более невообразимая набедренная повязка. Из-за повязочного пояска торчал основательных размеров нож с иззубренным матово-серым лезвием (уж не кремнёвый ли?!). А ещё на пояске этом болтался увесистый кошель, вероятнее всего набитый каменными шариками. Отчего Матвей подумал про шарики? Да оттого, что сам поясок слишком уж смахивал на пращу (Молчанов недурно-таки подначитался, ладючись на данное дело).
Отлично, с пращёй разобрались. Теперь бы ещё выяснить пару-тройку сущих безделиц: что это за идиотский маскарад, откуда Дикки Крэнг взялся на Терре-бис, и, черти его растерзай, ЗАЧЕМ он тут взялся?!
– А я тебя ещё вечером заметил, – добродушно гудел Крэнг. Устроился ты – смерть мракобесию! Мимикрокупол, теплобатареи, сигналок по кустам нарастопыривал… – обычную смесь глобала с англосом Дикки щедро сдабривал русскими словечками, перекрученными сообразно когдатошнему Матвееву разумению. – А ты не изменился, Мат. Комфорт прежде всего…
– Да уж, – буркнул Молчанов, – Уж зато ты… Всего три годика без надзора – и нА тебе, вконец одичал…
Всего три года… Три года – тьфу, ерунда, мизер безвзяточный. Былое-прежнее должно бы его, мизер этот, перевесить с победным лязгом…
Ведь с детства самого вместе, с дворовых дурилок и трущобных форточных краж… А потом… Где только не блистал своими талантами великолепный тандем, две трети мозгов коего принадлежали Матвею, а две трети бицепсов и прочего – Крэнгу…
И вот, будьте благолюбезны… Вздорнейшая случайность на Альбе, всего-навсего сутки в следственном изоляторе, но вошли в изолятор двое, а вышел один Матвей. И не смотря ни на какие ухищрения, судьба Дика так и не прояснилась. Дьявол дери эти недоразвитые тоталитарные режимы! Полицейский истинной демократии рассказал бы… да что там – на любую заданную тему вдохновенную арию спел бы под шорох отсчитываемых купюр. А с жандармами Альбы от такого шороха делались обмороки.
– Слушай, Мат… – Дик ладонью стёр добродушие со своей дикаризированной рожи. – Если честно, я очень благодарен тебе за то, что ты всё-таки вынул руку из кармана. Понимаешь, в память о прошлом мне было бы очень неприятно сворачивать тебе шею.
Молчанов криво ухмыльнулся. Неприятно… Вот они, три года. Какие-то жалкие три года, за которые силач Крэнг изрядно подзабыл способности своего друга. Кабы не «во-первых», «во-вторых» и отчасти не «в-третьих», Дикки мало что до шеи Матвеевой дотянуться – дёрнуться б не успел…
А Крэнг тем временем продолжал:
– Давай заглянем правде в моргала, Мат. Нам ведь сейчас больше всего на свете хочется узнать, какая чува…
– Чума, – машинально поправил Молчанов. Он, как и прежде, успевал додумывать Диковы мысли раньше самого Дика.
– Ту хэлл, пускай чума… Вобщем, что сюда занесло каждого из нас.
Матвей кивнул:
– Ты прав. Ну, а поскольку о себе я и так всё знаю, может, расскажешь, откуда здесь взялся ты?
– Кончай считать меня безмозглым ломакой, – нахмурился Дикки. – Нынче тебе не встарь.
– А ломака – не тот, кто ломает, а тот, кто ломается. Без меня ты основательно подзабыл русский.
Молчанов приподнялся на локте и опять сунул руку в карман. Великолепные мышцы Крэнга вздулись ещё рельефней, чем прежде, но тут же и подобмякли: в вынырнувших на волю Матвеевых пальцах желтел маленький безобидный кружок.
– Давай кинем монетку, – предложил Матвей. – «Профиль» – первым начинаешь откровенничать ты; «девиз» – я.
Он заметил саркастические огоньки в глазах собеседника и обидчиво дёрнул плечом:
– Если не доверяешь, можешь бросить сам…
Дик кивнул и потянулся к монетке.
Бог знает, где провёл последние годы Крэнг, а вот Матвей Молчанов коротал их на Гюрзе. Отличная захолустная планетка, бездна возможностей для человека свободной профессии. Правда, гюрзиане недолюбливают инопланетных гостей; зато они безумно обожают своего императора. Одна из страшнейших провинностей на этой планете – допустить, чтоб императорский портрет упал хоть в грязь, хоть в пыль, хоть даже на сверкающий зеркальный паркет – одним словом, на что-нибудь такое, по чему обычные смертные ходят ногами. Поэтому гюрзиане с помощью какой-то там загадочной технологии (несомненно, достойной гораздо лучшего применения) сумели заставить свои атавистические дензнаки при падении переворачиваться кверху и только кверху гордыми профилями Луминела шестого и всех последующих.
Так что бросай, Дикки-бой, бросай на здоровье.
– Уговор есть уговор, – Крэнг досадливо хмурился на профиль Луминела Гюрзианского шесть-плюс-энного. – Ладно, слушай…
Тягостный вздох, мучительная гримаса, и опять вздох…
– Вообще-то я приседал… то есть как там… при-ся-гал не разглашать…
И ещё один вздох, и покряхтывание, и сопение… Наконец, сквозь всё это прорезалось первое толковое слово:
– Изолинит.
– Да ну?! – не сдержался Матвей. – А я-то вообразил, будто ты просто ради смены обстановки хочешь вступить в племя уродцев!
Дик снова вздохнул, ещё тяжче прежнего:
– Ага. Только не просто. И решил я не сам. Меня завербовали на Альбе.
– Кто? Уродцы?!
– Да нет, – Крэнг, наконец, улыбнулся. – Альбийская жандармерия. Они сказали, что наши художества по их законам караются световой камерой и предложили выпирать…
– Выбирать, – поправил Матвей.
Эх, Дикки-бой, Дикки-бой! Первый раз в жизни остался без присмотра, и сразу купился на такую туфту!
А Дикки-бой продолжал:
– Знаешь Свенсена? Нет? Вэлл… Он влип у них за полгода до нас, и, чтоб выкрутиться, придумал, как пробраться в хальт-дистрикт. Проще отварной репы: нужно стать дикарём. Ничего лишнего. Никакой электроники, даже антибион не нужен – нам привили иммунитет от всех местных болезней…
– Нам? – Переспросил Молчанов.
– Ну да! Я иду восьмым. Страшновато, конечно, в первый-то раз, но до сих пор все возвращались благополучно…
– Ты сам видел вернувшихся?
– Н-нет, – Дик слегка замялся, – но с чего бы это мне стали врать?
Так. Семеро долболомов, каждый из которых шутя приволок бы тридцать-сорок кило руды. Для собственных нужд Альба с её технологией не прожуёт и тысячной доли этого. Замаячь же на рынке хоть тень такого количества изолинита – в галактике бы поднялся хай даже посильнее, чем если бы на Ханаане официальной политикой провозгласили антисимитизм. Ох и наивный же ты мужик, Дикки!
Вслух Матвей ничего этого не сказал. Вслух он спросил:
– А уродцы?
– Ту хэлл уродцев! – ухмыльнулся наивный Дикки. – Я бы и раньше хоть сотню таких передушил, а уж после трёхлетнего тренинга…
– Понятно.
Матвей взялся было за свой наблюдательный прибор, но Крэнг перехватил его руку:
– Вэйт. Я не знаю, что ты задумал, но у тебя ничего не выйдет. Ты не проберёшься в дистрикт со своей машинерией. И знаешь… – он рассеянно отобрал у Молчанова биноскоп, – мне ведь ничего не стоит прихватить лишних триста-четыреста грамм для тебя. В память о старой дружбе. Подумай, есть ли смысл пороть на верную смерть?
– Не пороть, а переть, – сказал Матвей. – Я подумаю.
И подумал: «Дурак ты, Дикки. И напрочь-то ты позабыл, кто я и что я. На триста грамм изолинита можно спокойно прожить остаток дней, а потом и ещё жизнь-другую… Но неужто же ты и впрямь удосужился вообразить, будто меня устроит твоя подачка, если вон там, под вонючими сваями, переливается весёленькой радугой Куш даже не с большой, а прямо-таки с гигантской буквы?!» Куда там хакерским гонорарам, байсанским вынутым алмазам и остальным прежним добычам, перемноженным друг на друга!
А дурень Дикки, этот волосатый Тарзан по найму, преспокойненько рассматривал Стойбище. Рассматривал и ворчал:
– Вот грязь развели, черти жаброухие! И паразитов на них, не бойся…
– Небось, – сказал Матвей. – «Не бойся» – это донт траббл.
Его рука сама собою (вот честное-распречестное слово: именно собою сама!) двинулась в неспешный украдливый путь к правому набедренному карману.
Ты хороший парень, Дик. Хороший, но глупый. Глупый конкурент – это дар богов, а вот глупый свидетель… Ничего, Дикки-бой, больно не будет. Во всяком случае, сейчас. Вот денька через два, когда очухаешься, придется потерепеть… Ничего, вытерпишь. А пока молись, чтобы взмокший от зноя палец твоего друга Мата сумел вслепую сдвинуть переключатель многофункционалки на нужную позицию. Иначе больно тебе не будет уже никогда…
А Дикки вдруг оборвал брезгливое своё бормотанье и растерянно вымямлил:
– Ой, Свенсен!
– Где? – своевольная Молчановская рука, позабыв о лучевке, дёрнулась к биноскопу.
Дик без сопротивления отдал прибор:
– Самую большую хижину видишь? Колья вокруг видишь? На третьем слева.
Да уж, это впечатляло. Всё-таки кое в чём цивилизация Терры-бис достигла высочайших высот. Например, в таксидермии. И в чувстве юмора – правда, несколько своеобразном. Вряд ли дегенеративно-восторженная улыбка, которою так и сияла насаженая на кол медноволосая голова, была свойственна неведомому Свенсену при жизни. Хотя, кто знает…
Что ж, юмор там, или не приукрашенная правда жизни, а долго любоваться подобным зрелищем Матвею как-то не захотелось. Да и наблюдение уже давно пора было возобновить. А Крэнг… Ничего страшного, пускай еще пообретается в сознании… пока.
Матвей повёл объективом биноскопа по окрестностям стойбища, и вдруг закляк, окаменел, словно бы сам угодил под разряд стопера.
Дик тронул бывшего друга за локоть, спросил испуганно:
– Что там?
Молчанов только фыркнул в ответ.
«Что…»
Одинокий абориген, идёт прочь от Стойбища. Очень быстро идёт, то и дело помогая ходьбе левой рукой. Помогал бы и правой, да она занята: придерживает лежащий на плече каменный топор. Ничего, этот уродец и так движется крайне прытко – ежели не сбавит шагу, часа через пол окажется за пределами дистрикта.
Вот так: за пределами. И он один. Наконец-то!
Всё, бедненький наивненький Дикки-бой.
Всё, бедненькие наивненькие жандармы с недоразвитой Альбы.
Всё.
Матвей Молчанов дождался.
Вот в чём разница между умными и дураками: головы дураков уродцы насаживают на колья, а умному те же самые уродцы с сегодняшнего дня начнут таскать изолинит. Сами. По доброй воле. Килограммами. Центнерами. За пределы хальт-дистрикта. Понял, Крэнг?
А ты… Уж ладно, обойдемся без многодневных обмороков. Какая же радость Профессионалу от его Профессионализма, если рядом нет восхищённой публики?!
* * *
Эта жизнь выдалась ещё хуже прежней.
Прежняя была хуже пред-прежней, а пред-прежняя была хуже пред-пред-прежней, а дольше, чем до четырёх, считать скучно. И трудно. И глупо, потому что так велось всегда, от самого Истока Жизней: следующая хуже, чем прежняя.
Наверное, у других всё иначе.
У других всегда всё иначе. И лучше. Даже если хуже – всё равно получается лучше. Почему?
У других перепонки между пальцами на ногах почти не заметны. У всех почти не заметны. У всех плохие перепонки, все плавают хуже. Задние уши (те, которые дышат водой) у всех маленькие, плохие. У Четыре Уха – большие, хорошие. Почти такие же хорошие, как и передние, которые слышат. Четыре Уха плавает быстрее всех, ныряет глубже и дольше. Но все смеются. Смеются над перепонками (большие), над задними ушами (широкие и пушистые). Смеются над Четыре Уха.
Даже Клопосос смеётся.
Клопосос глупее самого глупого Дурака. Даже в Смертных Виденьях никто не отважится оскорбить свой рот предвкушением печени Клопососа. И он – такой! – вместе со всеми смеётся над Четыре Уха. Он, который боится сосать кровь из вражьих жил, и потому сосёт её из клопов – смеётся. А когда Четыре Уха хотел убить его обгрызенной костью, все засмеялись ещё веселее. «Старый Четыре Уха вконец ослаб, – закричали все, – разучился убивать воинов, соблазнился головой Клопососа!»
Тогда Четыре Уха пошел в свою хижину, взял топор, вернулся и нарочно убил трёх молодых сильных воинов. Убил, хотя те трое были сытые, а Четыре Уха очень голодный. И он убил их не молча и не в спину, как сделал бы каждый. Нет, Четыре Уха долго рычал на молодых и ударял себя кулаком в живот. А когда трое молодых, наконец, испугались и взяли оружие, он стал биться с ними, пока у всех троих не поломались сначала топоры, потом – ноги, и только потом – шеи.
Те трое молодых и сильных уже совсем перестали смеяться. И все остальные пока перестали смеяться, потому что заопасались. А Клопосос смеяться не перестал, потому что не заопасался. Он, вонючий ползун… Нет. Он – помёт вонючего ползуна. Он понял: если Четыре Уха его убьёт, над Четыре Уха за это будут смеяться. И ещё он понял: Четыре Уха боится, когда смеются. И теперь приходится думать: как бы так изловчиться, да и сломать загривок вонючему помёту вонючего помёта вонючего ползуна, чтобы не углядел этого кто-нибудь из всех, или кто-нибудь из богов, или хоть даже из Дураков кто-нибудь.
Всё это было в прошлую жизнь. И Смертные Виденья после этого тоже были какими-то помётными. Но всего помётней выдалась следующая жизнь. Нынешняя.
В нынешней жизни Четыре Уха обиделся на бога. На того желтого, ослепительного и горячего, который рождается и умирает вместе с Народом Озера. На того бога, который от каждого рожденья до каждой смерти успевает пересечь небо. На бога Огненная Катышка.
Причина, по которой Четыре Уха обиделся именно на этого бога, прорастала из самого Истока Жизней.
От самого Истока все над Четыре Уха смеялись. Смеялись даже больше, чем теперь, потому что в те давние свои жизни он ещё не носил набедренную повязку, и каждый из всех мог видеть, какой у него хвост. Поэтому чуть ли не от самого Истока редкая жизнь проживалась Четыре Уха без драки.
Он быстро понял: если в драке побили, становится больно, а смеявшиеся смеются ещё сильнее. Когда же побиваешь ты, некоторые из тех, кто раньше смеялся, начинают плакать. А ещё он понял, что если не начинать плакать первым, а всё драться, и драться, и драться, то в конце концов начнет плакать враг.
Четыре Уха понял это давно, когда был чмокалкой – одним из тех, кому плавать легче, чем ходить по земле, кто сосёт молоко и дерётся пустыми руками. Позже, через много жизней, оказалось, что понятое для пусторучных драк годится и в драках с оружием. Единственная разница: побитые оружием не плачут. И не смеются. И потом не оживают опять.
Так и вышло: все приучили Четыре Уха каждую жизнь драться, а сам он приучил себя никогда не бывать побитым. Поэтому никто из всех не мог драться лучше него. И поэтому никому из всех ещё не удавалось прожить столько жизней, сколько их прожил Четыре Уха.
Это очень плохо.
Никто из всех не знает, что если прожить много-много жизней, зубы начинают слабо держаться во рту. Зубы тех, чей Исток был рядом с Истоком Четыре Уха, держатся во ртах крепко только из-за того, что эти рты вместе с головами крепко держатся на кровельных кольях. Даже сам Четыре Уха не знал бы плохого про свои зубы, если бы не помётный бог Огненная Катышка.
Это он, бог, которого называют ещё и Небесным Ходоком, от жизни к жизни вздумал делаться всё злее и злее; это он убил мокрых богов речной и озёрной вод и даже бога воды, падающей с мохнатого неба. А смерть мокрых богов убила бога вкусной рыбы. И саму вкусную мягкую рыбу убила тоже.
В прежние мокрые времена Народ Озера редко охотился на бегучее мясо. Рыба вкуснее и мягче мяса, её легче ловить. И ещё: где много бегучего мяса, там всегда много грызунов. Они – грызуны – сильные, свирепые и проворные. И глупые, потому что путают Народ Озера с мясом, на которое можно охотиться.
А в теперешние жизни из-за глупой свирепости Небесной Катышки приходится есть мясо – ведь Озёрный Народ не умеет совсем ничего не есть.
Но мясо – не рыба. Мясо жесткое. Именно мясо впервые сказало, что Четыре Уха ослаб зубами. Однажды, вместо чтоб откуситься, мясо выдернуло из его рта кусательный клык. Это случилось столько жизней назад, сколько пальцев на одной руке или сколько ушей у Четыре Уха. Значит, он не ел уже руку жизней. Нет, две руки жизней он не ел: тогда, когда мясо отняло зуб, он так и не проглотил ни куска. Потому, что стал бояться откусывать. Если мясо отнимет все зубы, нечем станет есть. И нечем станет щёлкать и скалиться на тех, кто смеется. А уж как все станут смеяться над Четыре Уха, когда узнают, что у него вдобавок к перепонкам и задним ушам ещё и зубы вынимаются изо рта…
Четыре Уха всё думал и думал, как теперь быть. Из-за этих раздумий он прожил на одну жизнь меньше, чем все – так задумался, что позабыл умереть и просидел живым всю темноту.
А недавно (тени с тех пор успели вырасти лишь на две ладони), когда Камнелоб, хихикая, попросил его пошевелить ушами – пусть-де подует сильный ветер и всем станет прохладно – занятый раздумьями Четыре Уха даже не стал драться. Он всего лишь оторвал Камнелобу тот хвост, который сзади, и пообещал оторвать тот, который спереди. Все уже стали звать Камнелоба Бесхвостым, но зубы у Четыре Уха от этого, наверное, не окрепли.
А потом, наконец, он придумал. Он понял, что во всём виноват Огненная Катышка, очень обиделся и придумал этого бога убить. Совсем убить, чтоб больше не оживал.
Четыре Уха придумал всё очень умно. Всё-таки Огненная Катышка – бог, он сильный и убить его трудно. Значит, нужно дождаться, когда он устанет и отправится умирать, нужно пойти следом, подкрасться к логову, где бог смотрит в темноте Смертные Виденья (раз у людей есть хижины, то должен же и бог иметь хоть плохонькую какую-нибудь лежку!)… Подкрасться, да и ударить помётного Катышку топором.
Только нужно идти водиночку. Помощь от любого из всех плохая, а главное – никто из всех никогда ещё не убивал бога. Если все узнают, что Четыре Уха сделал то, чего не делал никто, все станут смеяться. Ведь смеялись же все, когда Четыре Уха нырял туда, куда никто из всех донырнуть не мог!
А ещё Четыре Уха придумал идти сразу, пока не ослаб от голода и пока не успел испугаться грызунов. Четыре Уха умный…
Вот только от ума пользы выходит мало.
Четыре Уха идёт, идёт, идёт… Быстро идёт. Очень-очень долго идёт. Помётный Катышка уже совсем низко опустился, он потемнел, выкраснел, как остывающий уголь… И он вроде бы сделался больше – значит, стал ближе. Но только он, Огненный-то Небесный Ходок, сделался больше уж очень не на много. На самую малозаметную чуточку. Значит, до его логова ещё идти, и идти, и идти… Не богу – Четыре Уха.
Значит, Четыре Уха успел пройти совсем немного. Это, наверное, оттого, что он две руки жизней не ел. И ослаб. Колени дрожат, болит плечо, натёртое топором; кожа так вспотела, что все клопы повылазили из-под чешуи и забрались на набедренную повязку – там суше; в пустом животе урчит гулко и бесперывно… Подкрадываться с таким урчанием в животе глупо – даже мёртвый бог услышит, оживёт и не позволит себя убить насовсем… Да Четыре Уха и не успеет в нынешней жизни дойти до логова помётного бога. Он, Четыре Уха, уже теперь не смог бы ответить (это если бы кого-нибудь глупого укусило спросить) чего ему, Четыре Уха, больше хочется: есть, отдохнуть или умереть до нового света? Наверное, всё-таки есть. И отдохнуть. И умереть.
Но помётный Катышка пускай не надеется. Четыре Уха в нынешней жизни обязательно убьёт какое-нибудь мясо, съест это мясо… Ну, ещё несколько зубов потеряет – не страшно, никого из всех рядом нет, а Четыре Уха потом сумеет придумать хороший рассказ, почему потерялись зубы. Вон Рыбогуба задел по лицу хвостом рогатый хрипун – у Рыбогуба теперь всего два клыка осталось, и почти никто из всех над Рыбогубом за это не смеётся…
Так вот, Четыре Уха в нынешней жизни поест, отдохнёт мёртвым, а уж в жизни будущей, сытый да отдохнувший, обязательно дойдёт до логова помётного бога. Обязательно дойдёт… вот только бы прежде не встретиться с грызуном. Хотя… Четыре Уха так устал… Не только от ходьбы устал; устал от всей вереницы своих никак не желающих закончиться жизней. От каждожизненных драк – вон голов на кровле столько уже, что хижина вот-вот провалится внутрь себя… От смеха устал (ведь надо всем смеются – даже над тем, что столько голов на кровле нет больше ни у кого)… До того устал, что с радостью бы отдохнул в брюхе у грызуна. Так бы даже лучше. Тогда никто из всех не сможет украсить кровлю головою Четыре Уха, не сможет сказать: «Я навсегда убил Четыре Уха, которого до меня ещё не убивал никто из всех-всех»…
Он думал и думал про всё про это, а сам шел и шел. Несколько раз ему казалось, будто бы сзади кто-то подкрадывается – тогда он перехватывал топор обеими руками и оборачивался, но за спиной не оказывалось никого, кроме его же собственной длиннющей тени. И Четыре Уха вновь клал оружие на плечо и отправлялся дальше.
Ещё ему казалось, будто кто-то всё время следит за ним. Наверняка это следил Огненная Катышка. Следил да подсмеивался: «Не доберёшься до меня, не успеешь в этой-то жизни. А следующая у тебя вряд ли будет…»
Именно из-за этих насмешек Четыре Уха всё шел и шел. Думал про охоту, про отдых, но упрямо шел вдогонку Катышке: злоба на помётного бога никак не хотела угомониться. А ещё – из-за жажды. Она (жажда) вконец освирепела, она сделалась злее усталости, голода и собственной Четыре-Уховой злобы… Но ямы с водой, оставшиеся от Озера после смерти мокрых богов, были далеко-далеко позади, а Водопой был впереди и очень близко.
Небесный Ходок Катышка уже поранился о край земли. Четыре Уха тоже поранился – острой травиной проколол перепонку на левой ступне. Теперь какой-нибудь грызун непременно учует кровавый след Четыре Уха и пойдёт по этому следу. Обидно. Из бога вылилось очень-очень много крови – пол неба запачкано, а из Четыре Уха только по маленькой капельке выдавливается на каждом шагу, но грызуна привлекут именно эти капельки, а помётный Катышка и тут выскользнет, как ползун из мокрой ладони… обидно.
Четыре Уха шел.
Под ноги стелилась Земная Шкура – желто-коричневая, ощетиненная хрусткой травою, истрескавшаяся, как пятки Четыре Уха, как пересохшая чешуя на его спине.
Потом началась кудлатая Земная Грива. Тут было темней, чем на Шкуре, и тут было гораздо громче. Тут шуршало, похрустывало, потрескивало. Всё время. Иногда – громче. Иногда – тише. Но совсем тихо тут не бывало.
Какое-то мелкое мясо выскочило из-под самых ног. Четыре Уха от неожиданности едва не выронил топор и подавился невесть откуда взявшейся во рту слюной. Но он не погнался за мясом. Он пошел дальше, громко объясняя грызунам, почему старый Четыре Уха хочет в грызуний живот. Может, грызуны – как все и как боги? Может, им тоже хочется делать совсем не то, о чём просят?
Потом Грива тоже закончилась. Четыре Уха увидел Водопой.
Здесь когда-то было озерцо, а теперь осталась только большая яма засохшей грязи, посреди которой была небольшая яма мокрой грязи, посреди которой была совсем маленькая лужа, из середины которой бил мутный родник.
А рядом с лужей в мокрой грязи лежал огромный мохнатый грызун. Лежал и грыз какое-то длинноногое мясо.
Если бы Четыре Уха тише хрустел сухими ветвями и разговаривал с грызунами не во всю глотку, а шепотом, он бы издали расслышал, как вот этот грызун грызёт. А так он не расслышал. Зато грызун издали расслышал Четыре Уха. Расслышал, поднял от мяса перемазанную кровью зубастую морду (у него-то клыки наверняка не остаются в кусаемом), зажег красный огонь в глазах…
Четыре Уха сразу понял: этот грызун не как боги. Этот сделает именно то, что просил Четыре Уха. И Мешок На Горле, который очень ждёт съесть Четыре-Ухову печень, может больше не ждать: печень достанется не ему.
Четыре Уха стало обидно. Не за Мешок На Горле – тот пусть обижается за себя сам. Четыре Уха сперва даже не мог понять, отчего ему стало обидно. Может быть, в оскале и рычании грызуна ему померещился смех? Да, точно – смех. Помётный грызун смеялся над Четыре Уха. Даже он, который вообще не должен уметь смеяться – даже он!!!
Четыре Уха ни о чём больше не думал. Он просто сделал, как делал всегда, когда над ним начинали смеяться: свирепо завыл, обеими руками высоко поднял топор и бросился на грызуна.
А грызун…
Очень большой, очень зубастый грызун хныкнул, как ушибленный чмокалка, повернулся и убежал. Как вонючий ползун. Как вонючий помёт вонючего ползуна.
Четыре Уха опустил топор и остановился. Потом сел. Потом перестал выть. И задумался – старательно шевеля губами, чтоб помочь мыслям.
Сначала он, думая, сидел. Потом, всё так же думая, напился, сходил в Гриву за хворостом, достал из-за набедренной повязки огниво, развёл костёр и принялся жарить недогрызенное грызуном ногастое мясо.
«Хорошо, что рядом не было никого из всех, – думал Четыре Уха. – Ни от кого из всех еще никогда не убегал ни один грызун. Все бы очень громко смеялись». А ещё Четыре Уха думал, что эта жизнь выдалась очень-очень плохой, гораздо хуже всех прежних. И во всём виноват помётный бог Небесный Катышка.
* * *
Все-таки следить за уродцами издали было гораздо приятней. Конструкторы биноскопа добились поистине волшебного качества изображения и звука, но – к счастью! – напрочь упустили из виду запах. Господи всеблагий, как же несусветно воняет все Стойбище, если даже один-единственный неандерталоид источает такую… такое… Черт знает, как и назвать-то – подходящих слов не подыскивается ни в глобаллингве, ни в англосе, ни даже в родимом великом и могучем.
На двадцати метрах от эпицентра першит в горле и режет глаза – каково же оказаться рядом? А ведь это вскорости предстоит – рядом-то… Что ж, сцепим зубы и вытерпим, игра того стоит…
…Матвей Молчанов висел метрах в двадцати над аборигеном, погруженным в приготовление своего малоаппетитного ужина.
Вот вам еще одно отличие умного человека от дурака: тот же Кренг для слежки за путешествующим уродцем наверняка воспользовался бы мимикрокуполом – то-то натворило бы шуму да треску это громоздкое сооружение давеча в лесу! Никакая мимикрия бы не спасла…
А умный Матвей Молчанов воспользовался ранцевой бесшумной летучкой.
Умный Матвей Молчанов зазубрил все, написанное про Терру-бис и про ее аборигенов. Это ведь просто: нашел в Интерсети соответствующий каталог, ввёл ключевое слово – и будь любезен получить полную подборку на интересующую тебя тему. Так что умный Матвей Молчанов теперь знает всё, что ему нужно знать. Например, он знает, что местные «птицы» по причинам мелкоты да костлявости не пробуждают в уродцах ни опаски, ни гастрономического интереса. Потому умный Матвей Молчанов уверен: даже заподозрив слежку, неандерталоид черта с два додумается искать соглядатая в небе. Единственная причина, которая могла бы привлечь к Матвею неандерталоидское внимание, это тень. Могла именно бы, поскольку «мокрая кожа», как известно, никаких теней не отбрасывает.
Так что пока все складывается исключительно удачно… Нет. Все складывается почти удачно. Дело изрядно подгадила своим поведением тигроподобная тварь, на которую уродец наткнулся близ источника. Матвей уже возблагодарил было судьбу за непрошенный подарок, уже и лучевку выхватил… Но чудище, казавшееся сверху бесформенной путаницей полос, когтей и саблевидных клыков, ни с того, ни с сего кинулось наутек. Не может быть, чтобы полосатая кошмарина испугалась жалкого аборигена с его никчемным оружием. Единственно, что есть в уродце действительно страшного, так это его сногсшибательный запах.
Самого уродца, кстати сказать, поведение клыкастой твари тоже весьма озадачило. Выглядит он теперь каким-то пришибленным и знай себе шевелит губами… Беспрерывно шевелит, истово. Молится? Благодарствует за чудесное избавление? Несомненно. И это просто прекрасно, это очень наруку некоему Эм. Молчанову.
Интересно, станет ли путешествующий абориген отчебучивать ежевечерний уродцевский обряд? Вода здесь есть, и грязи предостаточно… И солнце уже на четверть за горизонтом – самое время… в смысле, обычно именно в эту пору они…
Так, началось.
Не донеся к огню очередную хворостину, уродец выронил ее и изо всех сил шлепнул себя ладонью по макушке. Потом он шлепнул себя по макушке второй ладонью. Потом…
В общем, все шло в точнейшем соответствии и с научными описаниями, и с результатами собственных Молчановских наблюдений. Шлепки учащались, в них прорезалось некое подобие упорядоченности: макушка – затылок – спина, макушка – затылок – спина… Конечно, уродец то и дело сбивался, но ведь глупо ожидать безукоризненного чувства ритма от столь неразвитого существа!
Грязносерая чешуя, покрывающая затылок и спину уродца, трещала под частыми яростными ударами; сквозь этот треск пробивались стенания и взвизги – примитивные зачатки ритуального пения, расшифровке которых доктор Ганс Зейдесман посвятил несколько лет жизни и несколько десятков мегабайт в Межрасовом этнографическом вестнике. Что ж, отдельные ругательные словечки оказались по зубам даже портативному и, в общем-то, маломощному Матвееву транслэйтору. А чтобы связать брань, сопровождаемую самоистязанием, именно с предметом этого самого истязания, вряд ли нужно быть доктором этнографии.
Еще одно яйцеголовое светило – столп неоанахоретской теософии Анжело Вайда – усматривает в данном обряде (особенно в его кульминационном действе) общие корни с посыпанием главы пеплом, а также инстинктивную тягу уродцев к усмирению плоти, внеосмысленное понимание ими никчемности телесного перед духовным. По мнению сего высокоученого мужа, для восприятия истинной веры уродцы созрели в гораздо большей степени, чем даже цивилизованнейшие из внеземных рас. Илюстрисимус Вайда сетует, что миссионерская работа в Стойбище невозможна из-за охранных мер ООР, и, кстати, вскользь намекает, будто бы меры эти продиктованы отнюдь не заботой об аборигенах: ООР-де опасается возникновения очага конфликта, подобного Темучинскому, а потому под благовидным предлогом закрыло доступ к изолиниту Терры-бис. Среди ученых, как ни странно, тоже иногда попадаются довольно умные люди.
Вот только касательно готовности приобщиться к истинной вере… Интересно, случалось ли высокоученому сеньору Анжело воочию наблюдать ту самую кульминацию уродцевого обряда, по поводу которой он напустил в Интерсеть столько слюней да соплей? Видел ли досточтимый илюстрисимус, как опоздавшие аборигены иногда усмиряют плоть своих более расторопных собратьев путем вышибания из них мозгов, сворачивания им шей и тэ пэ – единственно в целях отвоевания себе места близ объекта благочестивого поклонения, сиречь у ямы с грязью? Доказывает ли подобный образ действий высокую степень готовности к восприятию истинной…
Матвей вдруг сообразил, что тягучие, как Гюрзианский студень, размышления о научных трудах разных яйцеголовых недотыкомок затеяны им, Матвеем Молчановым, ради единственной простенькой цели: потянуть время. Нет-нет, он ни на иоту не усомнился в себе; он отнюдь не оробел начать то главное, ради которого залез в изнасилованное жарой первобытье планеты-заказника. Но…
Но.
Ведь идея-то родилась ещё чёрт-те когда, ещё на Байсане, но там было слишком много посторонних и слишком мало времени. И там неоткуда было столько узнать о тамошних дикарях, о «всадниках» – не писали о них яйцеголовые; разве только о том писали, как «всадники» умеют расправляться с инопланетными сапиенсами. И там пришлось довольствоваться всего-то навсего несколькими камушками. И вот теперь, здесь… Теперь и здесь, наконец, та, давняя, так мучительно и долго вынашивавшаяся идея близка к…
Ведь это же как вино, как веселая кровь старушки-Земли, векА протомившаяся в пузатой дубовой темнице и выцеженная, наконец, на волю – поиграть рубиновыми бликами в резной хрустальной оправе.
Такое нельзя просто взять, да и отпить. Сперва нужно вдоволь надышаться волшебством, натешить глаз шалостями света в багряно-прозрачной глыби; сперва нужно вообразить себе предстоящий вкус так реально, чтобы воображаемое явственно ощутилось во рту… Только после этого можно позволить изождавшимся губам прикосновение к игривой обещающей алости. Разрешить им подобие первого настороженного поцелуя – и тут же отнять бокал, наслаждаясь упоительной никчемностью предвкушавшегося по сравненью с вкушенным…
Да, вино…
Драгоценное хмельное вино назревающего триумфа, от которого глупыш Крэнг предлагал отказаться ради трехсот грамм…
А что, это мысль! Триумфатору к лицу быть великодушным, а Альбийских лопоухих жандармишек обуть – это нам как два пальца обсосать. Решено, Дикки-бой: вместо стоп-разряда в спину ты получишь триста… нет, даже пятьсот грамм изолинита. А Матвей Молчанов получит возможность хоть одному-единственному человеку изредка говорить: «А помнишь?..» и упиваться неподдельным восхищеньем в ответном взгляде.
Ладно, все.
Хватит делить деньги неубитого клиента. Хватит предвкушать – пора и вкусить.
Одинокий уродец там, внизу, уже приступил к пресловутой обрядовой кульминации: жалобно… нет, униженно скуля, неандерталоид на четвереньках запрыгал к источнику.
Самое время приступить к кульминации и Матвею Молчанову.
Слышите вы, все, чьи головы прострелены конкурентами, обриты в ООРовских каталажках или сохнут на кровлях аборигенских хижин? Вы пытались, но не сумели – не сумели разглядеть единственно правильный способ, простой, как все гениальное.
«…и когда молитвы праведников воспряли к горним вершинам истового чистосердечия, снизошел с небеси в сиянии чудесного могущества своего…»
Не глядя нащупав сенсор регулятора, Матвей перевел летучку в режим плавного спуска.
* * *
Земля отрезала от бога Огненная Катышка… сколько? Ну вот если весь Катышка – рука, то земля отрезала от него один палец. И опять случилось то, что случалось перед концом каждой жизни.
Пометные клопы…
По свету они так себе, слегка только подъедают, а перед темнотой собираются наедаться. Каждую жизнь в одну и ту же пору, когда Четыре Уха начинает зевать, когда движения его делаются по-предсмертному вялыми, и оттого тело почти совсем кончает потеть – каждую жизнь в эту самую пору клопы забиваются как можно глубже под чешую. Туда, где кожа тоньше, где ее – кожу – разъело потом. Туда, где вкуснее. И, главное, туда, где мертвый Четыре Уха не сможет их раздавить, когда будет вертеться.
Так случается не только с Четыре Уха. Так случается с каждым из всех. Так всегда случалось с каждым из всех – даже до гибели мокрых богов так случалось. Только тогда, до гибели мокрых богов, клопы нападали из травяных гнезд, в которые Народ Озера ложится для смерти. А теперь пометные клопы даже во время света не слазят с каждого из всех, потому что всем сделалось негде плавать. Но когда светло, Четыре Уха всегда куда-то идет, или что-то делает, или кого-нибудь убивает – поэтому только самые храбрые клопы (или самые голодные, что одно и то же) решаются лезть туда, где потеет. Зато вот когда богу Огненная Катышка, Четыре Уха и остальным приходит пора умирать на темноту…
Теперешняя Четыре-Ухова жизнь складывалась гораздо хуже, чем прежняя, и закончиться она, эта пометная жизнь, решила уж совсем по-пометному.
Четыре Уха слишком задумался и напрочь позабыл о клопах. То есть он, как всегда, пытался отбиваться от них, хлопая себя везде, где на нем росла чешуя. Но всегда-то он (как и любой из Народа Озера) делал так из желания поскорей умереть и от надежды: а вдруг наконец-то удастся неудавшееся прежде – отбиться, не вставая и никуда не идя? Нынче же он, думая, как-то забыл следить, что такое вытворяют его оставшиеся без надзора руки. И о клопах забыл. А вспомнил лишь тогда, когда сделалось невтерпеж просто по-небывалому.
Грязь была рядом, и он поторопился вымазать ею макушку, затылок, спину… Только после этого Четыре Уха сообразил, что мог бы просто упасть спиною в Водопой и поерзать там. Это ведь когда в одну из оставшихся от Озера таких вот луж бросается сразу много заедаемых клопами, каждому вместо воды достается вязкая жижа. А здесь и сейчас Четыре Уха один. И умирать он собирается не в гнезде (слишком устал он, чтобы с гнездом возиться), а прямо на бесклопной земле, так что грязью можно было вообще не мазаться.
Когда умная мысль придумывается слишком поздно, это гораздо хуже, чем если бы она не придумывалась вообще. Потому что делается очень обидно.
Теперь-то уж, чем переделывать все по-правильному, быстрей было дождаться проку от набитой под чешую грязи. Быстрей, но не легче.
Грязь ведь не помогает сразу, сразу от нее только хуже: клопы, которые уже успели залезть глубоко под чешую, начинают кусаться пуще прежнего – наверное, уже не от голода, а от возмущения. Вскоре-то они умрут насовсем, но до этого «вскоре» нужно еще дотерпеть…
Так вот, когда Четыре Уха сделалось хуже всего – и из-за клопов, и из-за обиды на слишком поздно придумавшуюся умную мысль – в довершение всяческих пометностей этой его самой пометной жизни с неба чуть ли не прямо ему на макушку упал большой блестящий Дурак.
Сперва Четыре Уха обрадовался. Когда очень-очень обидно и плохо, очень-очень бы хорошо кого-то убить, даже если этот кто-то всего-навсего глупый Дурак.
Но чуть погодя ему (Четыре Уха, а не Дураку) сделалось еще хуже, чем прежде. Потому, что очень-очень плохо хотеть кого-то убить, но не мочь. А он не мог. Встать, вернуться к костру, взять топор, вернуться к Дураку, размахнуться… На все это не было сил. Пометные клопы так кусались, что сил хватало лишь на бить себя по залепленной грязью чешуе. И выть. И ругаться. А пометный Дурак стоял рядом и таращился своими глазами, огромными, как у пометного вонючего ползуна.
Дураки все пометные, от них всегда одни неприятности.
Никто из Народа Озера уже не помнил, когда вблизи хижин появился первый Дурак. Помнили только, что давно-давно было время, когда Дураки не приходили. А потом вдруг начали приходить. Откуда? Э, да кто же может знать что-нибудь толковое о Дураках?!
Дураки бывали разные. Бывали большие и сильные, а бывали очень большие и очень сильные. Некоторые Дураки только выли, скулили да кашляли, а некоторые умели говорить, но говорили такое, что лучше бы не умели вовсе. Кое-кто из них бывал одет совсем как в обычае у Озерного Народа; иные приходили голыми, в одной своей дурацкой коже; а иные (правда, такие не являлись уже очень-очень давно) поверх одной своей кожи надевали две-три еще более дурацкие.
Впрочем, во всех Дураках всегда бывало одно и то же: глупость. Даже самые сильные из них совершенно не умели своей силой пользоваться. И еще все они бывали уродливы – по-разному, но непременно по-глупому. Если кому-то сломали нос, или откусили несколько пальцев, или если у кого-то на горле случайно вырос мешок – это уродства понятные. Но если вдруг откуда ни возьмись объявляется на Озерном берегу тварь двуногая и двурукая, но вовсе без чешуи, да еще с огромным плоским зубом вместо носа и рта… Ну кто, кроме Дурака, мог бы додуматься жить с таким лицом?!
И еще одно одинаковое было во всех Дураках: неприятности.
Например, тот Дурак с зубом вместо лица (он приходил много-много жизней назад, когда над хижинами Озерного Народа еще не появилась Звезда, Которая Не Как Остальные, Потому Что Висит)… Так вот, тот Зуболицый даже не додумался прятаться или красться; он нахально возник прямо из ниоткуда и не торопясь подошел к мосткам. Охранявшие вход на мостки сами поглупели от такой глупости; они позволили ему живым – даже не раненым! – подойти, усесться и разложить на мостках всякие глупые вещи. Там были какие-то блестящие катышки, и что-то плоское, тоже блестящее, по которому плыли облака и из которого ни с того, ни с сего вдруг кто-нибудь выглядывал, и еще там были разные другие Дурацкие Вещи. Из хижин сразу прибежало много-много всех, и Зуболицый стал говорить. Кажется, он хотел, чтобы Народ Озера взял его Дурацкие Вещи, а взамен отдал бы что-то другое. Он, Зуболицый, был Дурак и поэтому не мог понять: никто не хочет его глупых вещей (кому захочется, чтобы на него выглядывали из плоского и блестящего?!), зато каждый хочет иметь такой зуболицый Дурацкий череп. Все тогда сразу поняли, что если такой череп надеть на палку, то он своим зубом станет показывать, куда дует ветер – смотреть на это будет интересно и весело.
Всем так хотелось череп Зуболицего Дурака, что самого Зуболицего Дурака сразу убили, а потом две или три жизни подряд Озерный Народ беспрерывно дрался за этот череп. Очень-очень многие тогда умерли навсегда. Столькие тогда умерли, что те, которые еще не успели друг друга поубивать, наконец, решили: пускай этот пометный череп будет общий. Его надели на столб в том месте, где Зуболицый сидел, пока еще был жив, но смотреть, как этот самый череп крутит зубом вслед ветру, оказалось не так уж и весело.
Вот какие неприятности бывают от Дураков!
А еще однажды (задолго до гибели мокрых богов, но намного позже прихода Зуболицего) к хижинам подобрались аж два Дурака. Вот ведь как: то, бывало, целых четыре раза по четыре руки жизней и даже дольше не приходил ни один, а в ту жизнь вдруг объявились сразу двое. Они, тогдашние двое, правда, тоже были без чешуи, как и Зуболицый, но были они оба волосатыми; на их безобразных лицах имелись почти настоящие рты и носы; оба они носили набедренные повязки из настоящего (только по-ненормальному чистого) меха… А еще они оба крались к хижинам, почти как умные. Так хорошо крались, что Народ Озера их долго не замечал.
Может быть, Озерный Народ и совсем бы не заметил их, тех Дураков, если бы они сами не заметили один другого. А когда те двое Дураков один другого заметили, они сразу принялись драться. Дрались они так по-дурацки, что смотреть на их драку сбежались все. Те из всех, которые ловили рыбу с берега и с мостков, тоже стали смотреть на дурацкую драку, а о рыбе забыли – поэтому почти вся пойманная рыба убежала обратно в Озеро. Двое из всех тогда раздобыли для своих кровель по голове Дурака; и еще некоторые из Озерного Народа добыли себе головы тех, кто ловил и упустил рыбу; но всякий скажет, что добыть много вкусной рыбы было бы намного лучше, чем добыть несколько голов, две из которых к тому же Дурацкие.
И еще однажды (это уж совсем почти что недавно) пришел огромный рыжий Дурак, который все время скалился. Этот тоже был одет почти как умные (все Дураки, приходившие при Звезде, Которая Висит, бывали одеты почти как умные), и у него был хороший и умный каменный нож. Никто из Народа Озера никогда не делал и не имел ни одного такого умного ножа – такого гладкого и такого острого. Но Дурак, который пришел с этим ножом, был все-таки глупый Дурак.
Он то ли прокрался совсем незамеченным под мостки, то ли появился там вдруг и ниоткуда, как появился когда-то на берегу Зуболицый.
Того рыжего Дурака первыми заметили чмокалки. Они подняли такой крик, что все подумали, будто под хижинами прячется рогатый хрипун или очень страшный грызун. Все схватили оружие, какое подвернулось в руку, и кинулись под мостки. И почти все вай-вай-вай тоже кинулись под мостки, потому что каждая из них услыхала крики чмокалок, но ни одна не поняла, ее это чмокалки кричат, или чужие.
Когда рыжий Дурак увидел вокруг себя весь Озерный Народ с оружием, он испугался. Он схватил одну вай-вай-вай, приставил ей к шее свой умный нож и закричал, что сразу отрежет ей голову, если ему не принесут полную корзину во-он тех разноцветных камушков. Конечно, все стали смеяться над этим самым глупым из всех Дураков. И конечно, все захотели увидеть, как Дурак будет по-дурацки отрезать голову. А он, тот рыжий Дурак, кричал да кричал свои глупости и растерянно вертел головой, словно бы не понимая, отчего Народ Озера смеется.
А потом Кистехвосту это надоело, и он – Кистехвост – метнул в спину рыжему Дураку острогу. Рыжий Дурак почти совсем по-умному прятал свою спину за толстой опорой мостков, но Кистехвост все равно изловчился сразу убить рыжего Дурака.
И тут на Кистехвоста очень обиделся Торчащие Ребра. «Это мою вай-вай-вай схватил рыжий, – сказал Торчащие Ребра, – эта вай-вай-вай живет только для моего удовольствия; она несется только в моем гнезде; она высиживает и вскармливает только моих чмокалок. Ты, вонючий ползун, – сказал Торчащие Ребра Кистехвосту, – почему ты убил рыжего, когда я хотел посмотреть, как он по-дурацки отрежет голову моей собственной вай-вай-вай?!»
И они стали драться.
Наверное, глупость рыжего Дурака была такой же прилипчивой, как гнойная сыпь, и, наверное, эта прилипчивая глупость перекинулась на Торчащие Ребра и на Кистехвоста. Потому что Торчащие Ребра и Кистехвост очень по-глупому ухитрились друг друга убить.
Потом весь Озерный Народ до самого конца тогдашней жизни не делал ничего умного, а только думал.
С головой-то рыжего Дурака решилось просто: ее взял себе Мешок На Горле, потому что это его острогу Кистехвост метнул в Дуракову спину. А вот как было поступить с другими двумя головами? Раз Кистехвост убил Торчащие Ребра, то голова Торчащие Ребра принадлежит Кистехвосту; один только Кистехвост может украсить ею свою кровлю. Но Кистехвост умер. Как же быть? А раз Торчащие Ребра убил Кистехвоста, то голова Кистехвоста принадлежит Торчащие Ребра; один только Торчащие Ребра может украсить ею свою кровлю. Но Торчащие Ребра умер. Так как же быть?!
Никто из всех так ничего и не придумал, и Кистехвоста с Торчащие Ребра пришлось выбросить в Последний Овраг вместе с головами.
Вот какие неприятные неприятности случаются из-за Дураков.
Вдобавок ко всему, их, Дураков, нельзя даже есть. Самого первого из них по незнанию съели, и все, кто его ел, сразу же умерли. Вот такие они, Дураки; всего толку от любого из них – голова на кровельном колу, и та безобразная…
Нет, все-таки про толк – это неправда.
От нынешнего Дурака, который свалился с неба и теперь торчал столбом рядом с Четыре Уха, блестя своей дурацкой белой и, похоже, мокрою кожей – от этого Дурака получился немалый толк.
Развоспоминавшись, Четыре Уха снова перестал обращать внимание на клопов, и те успели докусаться и сдохнуть.
От облегчения Четыре Уха даже решил не убивать блестящего Дурака. А еще он решил вернуться к костру, съесть мясо и умереть, потому что никаких сил уже не оставалось держать открытыми слипающиеся глаза.
Впрочем, насчет «не убивать Дурака» он очень быстро засомневался. Потому что Дурак, наконец, принялся вести себя и, естественно, вести себя он принялся по-дурацки. Не успел Четыре Уха вновь примоститься на корточках у догорающего огня и обнюхать полуобуглившееся, но отнюдь не помягчевшее мясо, как там, где остался стоять Блестщий, зачавкало, загупало, зашуршало – все ближе, ближе….
Дурак – он и есть только Дурак. Ему оказалось мало постоять рядом с Четыре Уха и остаться живым. Он хочет еще раз попробовать постоять рядом. А Четыре Уха вовсе не хочет, чтобы рядом с ним топтался этот мокрый Блестящий.
Кстати, если в темноте к Водопою вернется за своим мясом грызун, и если у него (грызуна) будет выбор между навсегда умершим Дураком и Четыре Уха, который может успеть ожить и засопротивляться…
Вот если бы сам Четыре Уха был не собою, а грызуном, не знающим, что Дураков есть опасно, то он наверняка выбрал бы умершего навсегда.
Эта мысль казалась хорошей, ее стоило подумать получше. А тем временем мясо, может, все-таки хоть немного размякнет…
* * *
Впервые за весь этот богатый событиями день (да и за десятки десятков дней, предшествовавших этому) в душе Матвея Молчанова шевельнулся махонький такой скользкий змееныш – ядовитенький зародыш сомнения.
Вонючий абориген повел себя вовсе не как праведник, к которому снизошел с неба адресат чистосердечных молитв. Неандерталоид посмотрел на чудесно возникшее божество, как на пустое место, и отправился к своей жалкой пародии на шашлык. Великолепный замысел Эм. Молчанова готовился дать трещину.
Самое противное, что Матвей именно теперь начинал подозревать себя в изначальной ошибке. Разрабатывая свой гениальный план, он, Матвей, слишком доверился яйцеголовым. Он забыл, что последний земной неандерталец издох за тысячи лет до того, как среди Homo Sapiens завелись первые этнографы. Любой из дикарей, с которыми когда-либо имела дело человеческая наука – сущий профессор в сравнении с этим вот полуземноводным кретином. Ученым-то хорошо, они могут позволить себе с великолепным апломбом пороть заведомую белиберду под названием «мысленный эксперимент» или «умозрительная экстраполяция». А профессиональный жул… э… скажем, человек свободной профессии себе такой роскоши позволить не может; он обязан доверять только лично им же перепроверенным строгим фактам. Но какая же тут может быть строгость, если мудрые светила строят свои уродцеведческие изыскания в основном на чужих (как правило, случайных) наблюдениях, сделанных еще до введения ООР планомерных охранных мероприятий?!
Да уж, яйцеголовым-то хорошо – у них отрицательный результат тоже считается результатом…
Ладно, как гласит древняя народная мудрость, неча пенять на монитор, коли софт кривой. К дьяволу ученых. Попробуем собственным разумением.
Матвей еще на пару шагов приблизился к вновь немо зашлепавшему губами неандерталоиду, переключил транслэйтор на режим диалога и сказал, невольно выговаривая слова раздельно и внятно, как для глухого:
– Я хочу быть твоим другом.
Пятком секунд позже динамик транслэйтора разразился надсадным визгливым тявканьм.
* * *
Успевший уже едва ли не в самый костер залезть Дурак вдруг зашелся взрыкивающим подвывающим кашлем.
Четыре Уха такое поведение Дурака очень не понравилось, потому что этот блестящий и вроде как бы мокрый Дурак своим кашлем спугнул какую-то очень важную Четыре-Ухову мысль. Четыре Уха раздраженно зашарил по траве и, нащупав искомую рукоять топора, уже совсем было примерился вскочить, как следует размахнуться…
Нет, он не вскочил и не размахнулся. Он вовремя вспомнил: спугнутая Дураком мысль как раз и была о том, что Дурака лучше не убивать (во всяком случае, пока). Для кого лучше, чем именно лучше – вот это-то всё и спугнулось дурацким кашлем, но, конечно, умней было сперва вспомнить, а потом уже махать топором… или не махать топором – если мысль действительно окажется правильной.
Тем более, что Дурак, наверное, заметил, как Четыре Уха ищет топор, испугался и кашель свой прекратил. А через мгновение заговорил дурацкими, но, в общем, понятными словами:
– Я хочу съесть твою печень, когда ты умрешь насовсем.
Четыре Уха досадливо растопырил задние уши. Этот Блестящий и Мокрый, наверное, считается очень глупым даже среди Дураков.
Как может Четыре Уха согласиться, чтобы кто-нибудь там хотел съесть его печень, если он, Четыре Уха, уже пообещал свою печень Мешок На Горле?! Но ведь не скажешь же Дураку: пойди к Мешок На Горле, попроси у него разрешения съесть мою печень, когда я умру насовсем, и если Мешок На Горле почему-то тебя не убьет – вот тогда…
Да, так Дураку ответить нельзя, потому что он Дурак. Он обязательно сделает, как ему скажут, и пойдет к Мешок На Горле просить, а Мешок На Горле его, конечно, убьет, и это будет плохо, потому что… потому…
Ага, вот оно, вспугнутое, вернулось-таки! Ото всех прежних Дураков бывали неприятности после того, как их – прежних – убивали. Может, если этого, нынешнего, Мокрого И Блестящего, не убить, то неприятностей от него не будет?
Да, это хорошо придумалось. Умно. И, главное, вовремя. Вот только бы теперь заставить руки не испортить такую умную выдумку. А то непослушные Четыре-Уховы руки аж зудят от желания схватить топор, или хоть камень, да и хряснуть Блестящего Дурака по лбу.
Потому, что он никак не хочет уйти. Мало того, он даже умолкнуть не хочет.
Четыре Уха уже заметил, что Блестящий И Мокрый… Нет, наверное, правильней звать этого Дурака так: Блестящий, Как Будто Мокрый.
Так вот, у него, у этого Блестящий, Как Будто Мокрый, кашель и визг вылетали изо рта, а разборчивые слова – откуда-то из-за плеча. Ничего особенного в этом, конечно, не было. Если у Четыре Уха четыре уха, то почему бы кому-то другому (тем более Дураку) не иметь два рта?
Но ведь даже два рта – это еще совсем не причина, чтоб кашлять, взвизгивать и говорить без умолку! Четыре Уха терпел, терпел и, наконец, испугавшись всё-таки не совладать со своими руками (те так вцепились в топор, что костяшки пальцев сделались белей брюха пометного ползуна) решился на глупость. Он решил попросить Дурака замолчать. Так попросить, как будто бы Дурак не Дурак, а умный.
* * *
Мысленно Матвей самыми страшными из ведомых ему слов проклял и всех до последнего обитателей Терры-бис, и все существующие в Галактике достижения электроники, и, главным образом, себя самого – за грошовую скаредность, проявленную при покупке оборудования.
Ведь вот же до чего всё пошло складываться не слава Богу!
Абориген, так настойчиво притворявшийся, будто бы не видит вблизи ничего занятнее своего тошнотворного шашлыка, вдруг всё же решил приподнять тупой бельмастый взгляд на Молчанова. Мало того, уродец даже раззявил, наконец, несметно-зубастую пасть и зашелся гугнявым лаем, который у него и его сородичей служил заменителем членораздельной речи.
И чертов транслэйтор не смог придумать ничего лучше, как забарахлить именно в этот момент! Вот когда и как аукнулся ломаный грош, выгаданный на покупке детской игрушки вместо серьезного прибора!
Проклятое лингвологическое устройство скрипело своими чахлыми электронными мозгами не менее двух минут, а потом принялось растерянно бубнить что-то про «бесконечный словарно-смысловой ряд, ключевыми элементами которого являются животное, передвигающееся ползком, его экскременты и…» На этом транслэйтор приумолк было и вдруг задолдонил: «Испражнение экскремента… error on logical block… испражнение экскремента… error on logical block…» – и так без конца.
Матвей в отчаянии щелкнул по сенсору «on/off». Вроде бы помогло. А тем временем абориген, этот гадский экскремент испражнения, снова погрузился в молчаливое созерцание обугливающегося мяса.
Ч-черт…
Ладно, делать нечего, будем пытаться снова…
* * *
Получилось так, как не могло не получиться. Умных слов глупый Дурак не понял. Похоже, этого Блестящий, Как Будто Мокрый всё-таки придется убить – по-другому его шумные рты никак не заткнуть…
И тут Четыре Уха придумал еще одну хорошую мысль. Он послюнил пальцы, выхватил из костра кусок мяса, показавшийся ему самым жестким, и протянул этот кусок Дураку. Может, Блестящий, Как Будто Мокрый всё-таки не сможет говорить, жуя жесткое? Даже если он сунет мясо только в один свой рот, а не в оба сразу – все равно Дурацкого шуму сделается аж вдвое меньше…
* * *
Молчанов судорожно отер лоб пятерней. Кажется, дело-таки сдвинулось к лучшему. Конечно, обгорелое сухожилие крысы-переростка – это еще не изолинит, да и сам жест уродца покамест всего-навсего обычное проявление дружелюбия…
Что ж, лиха беда начало!
* * *
Четыре Уха издал нечто среднее между жалобным воем и свирепым рычанием.
Блестящий, Как Будто Мокрый повел себя хуже, чем самый вонючий помет самого вонючего помета самого-самого вонючего ползуна: мясо взял, но даже и не подумал совать его в рот. И закашлял, забормотал еще громче, чем прежде.
Кажется, он пытался объяснить будто, бы он бог. Ну и что? Четыре Уха давно подозревал, что все боги – Дураки. Боги часто ведут себя по-Дурацки, это все знают. Например, пометному богу Небесная Катышка все из Озерного Народа говорили умные слова: «Ты, вонючий ползун, – говорили ему все, – перестань светить так жарко, не убивай воду и рыбу!» Вот как ему говорили все-все. А Небесный Катышка не послушался умных слов. Как Дурак.
И еще. Каждый из богов очень сильный, и каждый из Дураков тоже был очень сильным – сильней любого из Народа Озера. Но Дураки не умеют правильно пользоваться своей силой. И боги – тоже.
Вот например, пометный Катышка: вместо чтоб просто светить, он жжет и убивает воду и рыбу. Или бог озера: когда-то он взбесился и сломал половину мостков. Разве это правильно?
Так что Блестящий, Как Будто Мокрый, наверное, не врет – он действительно бог.
Только бог он, или просто Дурак, а убить его придется: всё другое Четыре Уха уже пробовал, а пометный болтун-кашлюн так и не смолк.
Осталось убить. И пускай потом случаются неприятности – вряд ли они будут неприятнее, чем шум, поднимаемый блестящим пометным Дураком-богом.
Четыре Уха растопырил задние уши и приподнялся, взявшись за рукоять топора.
* * *
На лад, дело определенно пошло на лад! Ишь, заволновался полуземноводный, привстал, опираясь на топор, захлопал своими кучерявыми жабрами…
Ч-черт, ни одна из этих яйцеголовых очкастых мокриц ни хрена не пишет про мимику и жесты уродцев. Ну вот что означают эти трепыхания жабрами да лупанья глазами? Что он – испугался? Или радуется? Или не верит? По логике должен бы не поверить… Так, гадать некогда, доверимся логике. Сейчас мы предъявим почтеннейшей публике веские доказательства…
Матвей выдернул из кармана лучевку, заозирался, высматривая в густеющих сумерках цель поэффектнее…
Под гулкий хлопок выстрела яркий фиолетовый разряд ударил в кучку хвороста, заготовленного аборигеном, и та занялась веселым шумливым пламенем.
Привставший с корточек уродец так и окоченел нелепой раскорякой, переводя напряженный взгляд с чудесным образом подожженного хвороста на Матвея, и вновь на хворост, и опять на Матвея… Губы неандерталоида сосредоточенно шевелились, и шевеление это, сперва немое, мало-по-малу начало оформляться в разборчивые слова:
– Блестящий, – бормотал уродец, – как будто мокрый… Упал сверху, с неба… Мокрый… Метнул гремящий огонь, зажег… Ты, – не меняя позы, он вдруг уперся в Молчановское лицо холодным, каким-то змеиным взглядом. – Ты – бог воды, падающей с мохнатого неба?
Матвей невольно расплылся в победоносной улыбке. Вот, наконец-то и повезло. Бог падающей с неба воды… Да по нынешней засухе чертовы уродцы хоть весь свой изолинит выкопают единым духом, чтоб задобрить бога дождя!
– Да, – важно сказал Молчанов, борясь с желанием заулюлюкать от восторга. – Я – бог воды, падающей с мохнатого неба.
И не успел еще транслэйтор догавкать то же самое по-аборигенски, как…
Действительно, как? Как чертов полуземноводный кретин сумел это сделать? Он не выпрямился, ни на иоту не изменил свою дурацкую неуклюжую позу, но его топор вдруг с жутким воем разодрал воздух возле самого носа всё-таки успевшего отшатнуться Матвея.
Изумленный, однако отнюдь не растерявшийся Молчанов вскинул было лучовку, но ультрасовременное оружие, так и не успев защитить своего хозяина, разлетелось искрами мельчайших осколков под новым ударом каменного дикарского архаизма.
Слава богу, команда «экстренный взлет» могла подаваться не только сенсорно (поди, нащупай-ка нужный сенсор в такой пиковой ситуации!), но и просто голосом. И всё равно озверелый абориген успел довольно чувствительно зацепить лодыжку «бога дождя», взмывающего в звездную россыпь окончательно поночневшего неба. А еще он (абориген) успел запустить вслед Молчанову камнем. Запустить и попасть – к счастью, камень был небольшим и ударил слабо, излетно.
Что Молчанов безоговорочно и уважительно ценил в себе, так это умение не распускать нюни при неудачах.
Ну, не вышло.
Абориген всё-таки не поверил в божественную сущность Матвея Молчанова, счел гнусным самозванцем и обрушил на Молчановскую нечестивую голову местную модификацию карающего меча.
Неудача?
Это еще как поглядеть!
А ежели бы некто Молчанов не успел отшатнуться? А ежели бы второй удар угадался по темечку? То-то!
И всё это время на заросшей сорняками околице Молчановского сознания вяло трепыхались мутные вспоминанья о не столь уж давней поре, когда он, Молчанов, протирал штаны в училище Космотранса. Помнится, один из яйцеголовых сморчков-лекторов блеял тогда занятную муть об Интерсетевых каталогах – будто бы изучая какой-то предмет нельзя ограничивать себя узко-специальной информацией, а нужно обязательно захватывать смежные области… якобы ограниченность всенепременно и повсеместно садится в лужу… Ну и что? Каким-таким боком этот бред лепится к нынешним невесёлым делам? На изучение всего, связанного только с уродцами, трачена бездна времени, а уж если бы господин Молчанов занялся ещё и «смежными областями», на подготовку пришлось бы угрохать несколько лет… Что ж было, заделываться настоящим профессором по уродцевым, околоуродцевым и вокругуродцевым делам?! Абсурд! Или… Или так и надо? А если не так, то и вообще никак?
Ладно, хватит. Хватит рассусоливать. Теперь главное – Крэнг. Только бы он еще не успел полезть в стойбище!
Нужно втолковать Дикки-бою, что самое удобное время для «полезть» – когда уродцы отправляют свой закатный обряд. Кажется, они так увлекаются, что… Конечно, это не гарантия, но всё-таки шанс. И еще: надо как-нибудь вскользь, ненавязчиво напомнить Дику его обещание. Сколько он там сулил? Четыреста грамм или триста? Ладно, не будем жадничать, вполне достаточно и двухсот.
Что же до Куша, который сорвался… Увы, не надо было заьывать одно хорошее правило. Если напрашивающееся решение до сих пор никто не осуществил, это вовсе не значит, что все вокруг дураки. А если все вокруг кажутся дураками, внимательнее посмотрись в зеркало.
* * *
Бог Огненная Катышка уже давно завалился в свое гнездо и глядел там Смертные Виденья; жадная темнота уже подлизала с неба последние капли Катышкиной крови; а старый Четыре Уха всё плевал да швырялся камнями вслед улетевшему богу воды, которая падает с мохнатого неба.
Вонючий Помётный бог! И все мокрые боги – пометные и вонючие!
Четыре-то Уха думал, что это Катышка – вонючий помет вонючего ползуна; думал, что Катышка поубивал мокрых богов! А оказалось, один из мертвых богов живой. Наверное, и все они живы. Наверное, они – жалкие пометные трусы – все вместе испугались одного-единственного Катышку и спрятались. Или они просто обленились и не хотят делать нужное?
Гхр-р-р-ры!!!
Хоть так, хоть иначе, но это вовсе не из-за Огненная Катышка, а из-за их, мокрых, лени или трусости сдохла вся рыба, и Четыре Уха приходится есть жесткое мясо, которое вынимает зубы.
Ничего, подождите еще, вонючие ползуны!
Четыре Уха в следующей жизни обязательно выследит и убьет пометного бога воды, падающей с мохнатого неба. Убьет, убьет. Но не сразу – сперва старый Четыре Уха заставит его рассказать, где прячутся остальные вонючие пометные ползуны, называемые мокрыми богами.


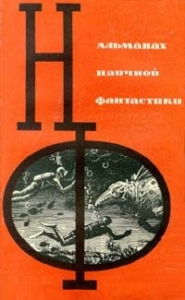
Комментарии к книге «Четыре уха и блестящий дурак», Федор Федорович Чешко
Всего 0 комментариев