Александр Житинский Арсик
1
У меня все в порядке. Я прочно стою на ногах. Мои дела идут превосходно. Я кандидат физико-математических наук. Мне еще нет тридцати. Это вселяет надежды. Я люблю свою работу. Я не люблю нытиков. Кто-то сказал, что у меня комплекс полноценности. Это так и есть. Не вижу в этом ничего предосудительного.
У меня маленькая лаборатория. Она отпочковалась от лаборатории моего шефа профессора Галилеева. Шеф понял, что нам будет тесно под одной крышей. Заодно он постарался избавиться от балласта. Ко мне перешли две лаборантки, Игнатий Семенович и Арсик.
Главный балласт — это Арсик.
По-настоящему его зовут Арсений Николаевич Томашевич. Все в институте, начиная от уборщиц и кончая директором, зовут его Арсиком и на «ты». Он мило и застенчиво улыбается. Это обстоятельство мешает от него избавиться.
Арсик не бездарен, но бесполезен. К сожалению, мы учились с ним в одной группе и вместе пришли сюда по распределению. Я говорю — к сожалению, потому что теперь мне это не нужно. Меня зовут Геннадий Васильевич. Я предпочитаю, чтобы меня называли Геннадием Васильевичем. Это не мелочь и не чванство. Мне необходимы нормальные условия для работы. Я не могу терпеть, когда отношения в лаборатории напоминают приятельскую вечеринку.
Арсик зовет меня Гешей.
Игнатий Семенович, который вдвое старше меня, обращается ко мне по имени и отчеству. О лаборантках я не говорю. Но Арсик этого не понимает.
Когда вышел приказ о моем назначении, я собрал свою лабораторию и рассказал, чем мы будем заниматься.
— Вам, Арсений Николаевич, — подчеркнуто сухо сказал я, — придется сменить тему. Она не вписывается в мои планы.
Арсик посмотрел на меня наивно, как дитя. Он долго соображал, что к чему, а потом лениво спросил:
— Геша, а правда, что глаза — зеркало души? Вот я все время думаю — какое зеркало? Вогнутое, выпуклое или, может быть, плоское?
Игнатий Семенович вздрогнул. Он не был близко знаком с Арсиком, потому что до образования моей лаборатории работал в другой комнате. Лаборантки Шурочка и Катя уткнулись в стол, и уши у них покраснели. Они сдерживали смех. Они полагали, что в словах Арсика есть скрытый смысл или подтекст.
Они тоже плохо его знали. В речах Арсика никогда не было подтекста. Если он спрашивал о зеркалах, значит, именно они его в настоящий момент интересовали.
Я не мог сразу поставить его на место. Я знал, что он просто не поймет, чего от него хотят.
— Полупроницаемое, — сказал я, стараясь улыбаться. Я имел в виду зеркало души.
— Угу, — сказал Арсик, выпятив нижнюю губу. — Это само собой.
— А тему ты все-таки сменишь, — сказал я.
Он пожал плечами. Кроме зеркал, его сейчас ничего не интересовало.
Мы все занимаемся физической оптикой. Это древний раздел физики. Сейчас он бурно развивается, благодаря лазерам, световодам и прочим вещам.
Меня интересует волоконная оптика. Вернее, ее стык с цифровой техникой. Мне видятся оптические цифровые машины с огромным быстродействием и каналы связи с гигантским объемом пропускаемой информации. Это стратегическое направление моих исследований.
Я убежден, что жизненная стратегия необходима каждому. Она позволяет отличить главное от второстепенного. Выбрать правильную жизненную стратегию удается не всем. Я считаю, что мне это удалось. Теперь мне предстояло включить подчиненных в эту жизненную стратегию. Я чувствовал, что с Арсиком придется помучиться.
У него никогда не было четких планов относительно себя. Он занимался физикой на задворках, рыл боковые туннели, украшал науку ненужными побрякушками. Последняя его тема звучала так: «Исследование влияния цветовых спектров на всхожесть и произрастание растений». Шеф сказал, что она имеет прикладное значение для сельского хозяйства. Арсик выращивал лук на подоконнике, облучая его разными спектрами. Весной, в период авитаминоза, мы этот лук ели.
Кто-то назвал Арсика поэтом от физики. Ненавижу красивые слова! Это все равно что физик от поэзии.
Шеф не вмешивался в деятельность Арсика. По-моему, он махнул на него рукой. Уволить Арсика не было возможности, заставить его заниматься настоящим делом тоже. Когда представился случай, шеф спихнул его мне. Но у меня на учете каждый человек. Лаборантки не в счет, Игнатий Семенович тоже, потому что ждет пенсии и все время читает реферативные журналы. Он думает, что науку движет образованность. Образованности у него навалом, а головы нет. Науку движут головы.
У Арсика голова есть. Это самое печальное.
Я не против окольных путей и поэтических вольностей. Иногда открытия делаются на задворках. Но когда в лаборатории всего две головы, это непозволительная роскошь.
Поэтому первым делом я сменил Арсику тему и убрал лук с подоконника. Арсик отнесся к этому безучастно. Как я потом понял, его уже интересовали другие вещи.
Я предложил Арсику заняться оптическими каналами связи. Себе я оставил оптические цифровые элементы.
— Что с чем будем связывать? — спросил Арсик.
— Не прикидывайся дурачком, — сказал я. — Сам прекрасно знаешь.
— Геша, я тебя люблю, — заявил Арсик. — Ты сейчас такой узенький.
Лаборантки снова прыснули, понимая сказанное фигурально. Но я насторожился. Я уже привык понимать Арсика буквально. Почему он назвал меня узеньким?
Через несколько дней мы с дочкой гуляли в парке. Было воскресенье. В этом парке есть карусель, качели и загородка с кривыми зеркалами. Мы пошли в кривые зеркала. Там развлекались несколько человек с детьми. В загородке я увидел Арсика. Он неподвижно стоял у вогнутого цилиндрического зеркала. При этом он не смотрел в зеркало, а смотрел куда-то поверх него, пребывая в задумчивости. Я подошел сзади и взглянул на наши отражения. Мы с Арсиком были узенькими, острыми и длинными, как копья. Лицо Арсика было печальным. Может быть, благодаря вытянутости. Он тряхнул головой, повернулся и быстро вышел из павильона. Меня он не заметил.
Кто-то рядом надрывался от хохота. Я обошел зеркала, держа дочь за руку. Ничего смешного я там не нашел.
У меня из головы не выходил Арсик перед цилиндрическим зеркалом.
Между тем Арсик окунулся в работу по новой теме. Он достал световоды и принялся плести из них какую-то паутину. Одновременно он занялся коллекционированием репродукций. Он увешивал стены лаборатории репродукциями картин. Художественные симпатии Арсика были разнообразны: старые мастера, импрессионисты, абстракционисты. Некоторые репродукции он вешал вверх ногами, некоторые боком. Лаборантки потом их перевешивали правильно. Арсика это не занимало.
Против картинок я не возражал.
Арсик смастерил доску, густо усеянную оптическими датчиками. С другой стороны от доски отходили световоды. Их было огромное количество. Арсик сплел из них толстый канат, а концы вывел на свою установку. Теперь он целыми днями сидел за установкой, а доску с датчиками подвешивал к стене, закрывая ею какую-нибудь репродукцию.
Он занимался этим месяц. Наконец я не выдержал.
— Как твои успехи? — спросил я.
— Что такое успехи? — рассеянно спросил он.
— Результаты, выводы, данные, — терпеливо разъяснил я.
— Данные есть, — улыбнувшись, сказал Арсик. — Но довольно безуспешные.
Я напомнил ему, что его дело заниматься каналами связи. Изучать пропускную способность и так далее.
Арсик посмотрел на меня, как бы припоминая что-то, а потом поднял указательный палец и помахал, подзывая к себе. Он поманил своего непосредственного начальника.
В лаборатории стало тихо. Даже Игнатий Семенович оторвался от реферативного журнала и с интересом наблюдал, что будет дальше.
Я поднялся со своего места и неторопливо подошел к Арсику. Я старался делать вид, что ничего особенного не происходит. Хотя внутри меня колотило от злости.
— Посмотри сюда, — сказал Арсик, придвигая ко мне окуляры своей установки.
Я взглянул в окуляры и увидел красивую картинку. Над зеленой лужайкой висела наклоненная фигурка мальчика. Мальчик был обнаженным. Краски на картине были поразительной чистоты. На заднем плане возвышался готический замок.
— Ну и что? — спросил я, отрываясь от окуляров. Особенно эти яблоки.
Я не заметил на картине яблок, но проверять не стал. Я вернулся на свое место и попытался продолжить расчет элемента. Но выходка Арсика сбила ход моей мысли. Я поднял голову и увидел, что Арсик все еще любуется картинкой, а канат световодов тянется через всю комнату к доске с датчиками. Доска висела на стене, прикрывая одну из репродукций.
Когда все ушли на обед, я подошел к стене и приподнял доску. Под нею была абстрактная картинка. Плавные линии, точки, запятые, нечто похожее на амебу, и тому подобное. Надпись под картинкой гласила: «Пауль Клее». Она была сделана от руки.
Я снова приник к окулярам, но ничего не увидел. Арсик выключил установку, уходя на обед.
Несколько дней я размышлял над картинкой, увиденной в окулярах. Она не выходила из головы. Летающий мальчик на фоне готического замка. В воскресенье я почувствовал настоятельное желание сходить в Эрмитаж. Я вспомнил, что не был там лет семь.
Мне не хотелось говорить жене, куда я иду. Это вызвало бы удивление и распросы. Я сказал, что мне нужно пройтись, чтобы обдумать одну идею. К таким моим прогулкам жена привыкла.
У входа в Эрмитаж стоял Арсик. Он переминался с ноги на ногу и поглядывал на часы. Над Невой дул ветер. У Арсика был озябший вид. Мне показалось, что он стоит здесь уже давно.
— А, привет! — сказал Арсик. — Я тебя давненько поджидаю.
У него была такая манера шутить. Этим он прикрывал свое смущение. Видимо, он назначил здесь свидание и пытался это скрыть. Личная жизнь Арсика всегда была покрыта мраком.
— Ну, тогда пойдем, — сказал я.
— Нет, прости, я не только тебя жду, — помявшись, сознался он.
Я пожал плечами и пошел к дверям. Открывая дверь, я оглянулся и увидел, что Арсик не спеша удаляется по набережной, засунув руки в карманы плаща.
Я походил по залам, посмотрел Рембрандта, итальянцев, поднялся на третий этаж. Там я неожиданно встретил своих лаборанток Катю и Шурочку. Они стояли перед картиной Гогена. Я быстро прошел за их спинами в следующий зал и наткнулся на Игнатия Семеновича. Старик смущенно потупился и пустился в длинные объяснения, почему он здесь. Как будто это требовало оправданий.
— Я тоже люблю иногда сюда приходить, — сказал я.
Мы разошлись.
Картины больше не интересовали меня. Я размышлял над этим совпадением. Я хорошо знаю теорию вероятностей. Она допускает такие вещи, но редко. Потом я придумал логическое объяснение. Репродукции Арсика сделали свое дело. Своим молчаливым присутствием на стенах они пробудили в нас интерес к живописи. Оставалась маленькая загвоздка. Почему мы все пришли в Эрмитаж одновременно? Но в конце концов, почему бы и нет! Выходной день, на неделе мы заняты, так что все понятно.
На следующий день репродукции исчезли со стен. Арсик снял их все до единой и сложил в шкаф. Потом он долго возился с доской, прилаживая к ней источники света и разные фильтры, с помощью которых он облучал лук.
Шурочка и Катя трудились над моей установкой, водя пальцами по схеме. При этом они успевали что-то обсуждать. Мелькали мужские имена и местоимение «он». Игнатий Семенович читал журналы и делал выписки. Время от времени он жаловался, что пухнет голова. Меня это особенно раздражало.
— Между прочим, красный цвет не имеет никакого отношения к любви, — сказал вдруг Арсик.
Лаборантки тут же прекратили работу и уставились на Арсика. Тема любви была для них животрепещущей.
— Арсик, поясни свою мысль, — сказала Катя.
— Любовь — это нечто желто-зеленое, — продолжил Арсик. — В основном три спектральные линии.
— Желто-зеленое! — возмутилась Шурочка. — Ты, Арсик, ничего в любви не понимаешь!
— Совершенно верно, — сказал Арсик. — Но длины волн, соответствующие любви…
— Арсений, — сказал я. — Не отвлекай народ по пустякам.
Теперь уже лаборантки с возмущением уставились на меня. Они, конечно, полагали, что любовь важнее измерительного устройства, над которым они корпели. И вообще важнее всего на свете. Эта мысль старательно насаждается искусством, литературой и средствами массовой информации. По радио только и слышно, как поют «Любовь нечаянно нагрянет…», «Любовь — кольцо, а у кольца начала нет и нет конца…» и прочую галиматью. Любовь между тем встречается так же редко, как талант. Никакие песенки не помогут стать талантливым в этом вопросе. То, что так занимает моих лаборанток, имеет отношение только к продолжению человеческого рода. Я глубоко уверен, что он будет продолжаться и впредь без сомнительных украшений естества дешевыми мотивчиками и ссылками на любовь при каждом удобном случае.
— Очень странно, Геннадий Васильевич, — заметила Шурочка. — В вашем возрасте встречаются мужчины, которые еще способны любить.
— Зато в вашем возрасте, Шурочка, редко встретишь человека, способного думать и рассуждать. К сожалению, — сказал я.
— Подумаешь! — обиделась Шурочка. — И носитесь со своим умом, никому он не нужен.
— Диспут окончен! — объявил я. — Все обсуждения переносятся на послерабочее время.
В лаборатории стало тихо. Шурочка и Катя демонстративно работали. Арсик припал к окулярам установки, крутя пальцами какие-то ручки. Глаза его были закрыты окулярами, но рот расплывался в блаженной улыбке. Потом губы сложились трубочкой, и Арсик издал звук, похожий на поцелуй.
— Я вас любил, любовь еще, быть может… — сказал он.
— Арсений! — негромко, но внушительно сказал я.
Арсик оторвался от окуляров. В глазах его была безмятежная мечтательность. Она совершенно не соответствовала моим представлениям о работе, физике, деловой атмосфере и научном прогрессе. Она не соответствовала также моему настроению. Уже два месяца мы топтались на месте. Мы транжирили время. У меня даже появилась мысль, что все мы ждем пенсии, как Игнатий Семенович. Не все ли равно, сколько ждать: два года или тридцать лет? Все эти соображения действовали мне на нервы и выводили из себя.
— Будь любезен через три дня представить мне письменный отчет о проделанной работе, — сказал я Арсику.
Самое интересное, что больше всех испугался Игнатий Семенович. Он сделал сосредоточенное лицо, стал рыться в столе, достал кучу толстых тетрадей с закладками, всем своим видом изображая деятельность. Арсик же, не меняя позы, протянул руку вниз и вынул оттуда листок бумаги. Он черкнул на нем несколько строк, изобразил какую-то схему и, подойдя ко мне, положил листок на мой стол.
— Вот, — сказал он. — У меня готово.
Там было написано.: «Отчет о проделанной работе. Появилась одна идея. Оптическое запоминающее устройство». Дальше шла схема и несколько формул.
Первым делом я подумал, что Арсик издевается. Но потом, взглянув на формулы, я убедился, что идея заслуживает внимания. Арсик предложил запоминающий элемент, представлявший собою систему трех зеркал сложной формы. В одну из точек системы вводится объект. Его изображение удерживается в системе бесконечно долго благодаря форме и расположению зеркал. Оно как бы циркулирует в системе в виде отражений, даже когда самого объекта уже нет. Арсик нашел способ удерживать отражение в зеркалах после снятия оригинала! В системе существовали две особые точки: точка ввода оригинала и точка вывода изображения. Конечно, Арсик предложил только принцип, требовалось рассчитать детально форму зеркал, их расположение и координаты особых точек. Но идея была великолепная.
— К каналам связи это не имеет отношения, — извиняющимся тоном сказал Арсик.
— Все равно здорово! — сказал я. — Рассчитай только все до конца.
— Ой, Геша, не хочется! — взмолился Арсик. — Там же все понятно. Расчет не требует квалификации, — шепотом добавил он и показал глазами на Игнатия Семеновича.
— Черт с тобой! — буркнул я и подозвал к столу старика.
Игнатий Семенович долго и недоверчиво изучал схему Арсика. По-моему, он прикидывал в уме, потянет ли расчет.
— У американцев ничего похожего я не встречал, — сказал он наконец. — Может быть, посмотреть у японцев? Нужно заказать переводы.
— Нет этого у японцев, — сказал я. — Вы же видите. Если бы такой элемент был, все бы о нем знали…
— Да, это, пожалуй, открытие, — с достоинством признал Игнатий Семенович. — Но как быть с авторством? Если я выполню основополагающие расчеты…
— Впишем всех, — сказал Арсик. — Гешу, вас и меня.
— Я согласен, — сказал Игнатий Семенович.
— Когда будем патентовать, решим этот вопрос, — сказал я. — Во всяком случае, я этим заниматься не намерен, следовательно, никакого моего авторства в работе не будет.
Игнатий Семенович пожал плечами и вернулся на свое место с листком Арсика. Я был вне себя от злости. Только сейчас я понял, как удружил мне профессор Галилеев, подсунув старика. Игнатий Семенович был рекомендован как автор сорока статей и обладатель семи авторских свидетельств. Все эти работы были коллективными. Между прочим, фамилия Игнатия Семеновиа была Арнаутов. Это обстоятельство позволяло ему, как правило, стоять первым в списке авторов. Тоже немаловажно, поскольку при ссылках на статьи обычно пишут: «В работе Арнаутова и др. с убедительностью показано…» И так далее.
Следовательно, Арсик со своей красивой и остроумной идеей попадал в разряд «др.».
«Ну нет! — подумал я. — Арсик будет стоять первым, чего бы мне это ни стоило».
Таким образом, Арсик откупился от меня идеей, и я позволил ему заниматься, чем он хочет. Бог с ним! Если он хотя бы раз в полгода будет выдавать нечто подобное, его присутствие в лаборатории себя оправдает. Лишь бы он не очень мешал своими разговорами о любви и непонятными шутками. Они расхолаживают коллектив.
Вскоре я уехал в командировку. Все были при деле. Игнатий Семенович раздобыл настольную вычислительную машину и рассчитывал элемент Арсика, сам Арсик возился с установкой, а лаборантки заканчивали мою схему. В лаборатории царил приятный моему сердцу порядок. Я уехал с легкой душой, выступил на конференции и вернулся через три дня.
Войдя по приезде в лабораторию, я сразу почувствовал что-то неладное. Было какое-то напряжение в воздухе. Все сидели на тех же местах, будто я и не уезжал, также тыкал в клавиши машины Игнатий Семенович, но что-то уже произошло. Катя поздоровалась со мной не так, как обычно. Она взмахнула своими ресницами, опустила глаза и пробормотала: «Здравствуйте, Геннадий Васильевич…» А Шурочка тревожно на нее взглянула. Обычно Катя здоровалась сухо, одним кивком. Арсик приветственно помахал мне рукой. Другая его рука, левая, лежала на установке и была обтянута у запястья тонкой ленточкой фольги, от которой тянулся провод к коммутирующему устройству. Помахав правой рукой, Арсик впился в окуляры и отключился от внешней жизни.
— Как дела? — спросил я.
— Мы все сделали, — сказала Шурочка.
Катя сидела отвернувшись.
— Молодцы, — похвалил я и подошел к своей установке.
Катя вдруг вскочила и выбежала из лаборатории, пряча лицо. Я успел заметить, что глаза у нее полны слез и тушь с ресниц ползет грязноватыми струйками по щекам.
— Что случилось? — спросил я Шурочку.
— Ничего! — вызывающе сказала она. — Это вас не касается.
— Все, что происходит в лаборатории в рабочее время, касается меня, — сказал я. — Если я могу чем-нибудь помочь или требуется мое вмешательство…
— Ваше вмешательство безусловно требуется, — произнес Игнатий Семенович.
Арсик оторвался от окуляров и сказал:
— Игнатий Семенович, не желаете ли взглянуть?
Старик испуганно вздрогнул, замахал руками и закричал:
— Не желаю! Не испытываю ни малейшего желания! Занимайтесь этими глупостями сами! Растлевайте молодежь!
— Ну-ну, уж и растлевайте! — добродушно сказал Арсик.
— Может быть, мне объяснят, что происходит? — сказал я, тихо свирепея.
— Геша, все тип-топ, — сказал Арсик.
Шурочка ушла искать и успокаивать Катю, а я принялся проверять собранную схему. Это отвлекло мое внимание и позволило забыть о случившемся. Но ненадолго.
Через полчаса вернулась Катя с умытым лицом. Под глазами были красные пятна. Проходя мимо Арсика, она прошептала:
— Я тебе, Арсик, этого не прощу!
— Катенька, не надо! — взмолился Арсик. — Это пройдет.
— Я не хочу, чтобы это проходило, — твердо сказала Катя.
Я сделал вид, что ничего не слышу, хотя в уме уже строил разные догадки. Потом подчеркнуто холодным тоном я дал лаборанткам следующее задание и углубился в работу.
Вскоре пришла ученый секретарь института Татьяна Павловна Сизова, стала требовать очередные планы, списки статей, заговорила о перспективах и прочее. Между прочим она спросила, когда защитится Арсик.
— Никогда! — сказал Арсик.
— Когда напишет работу, — пожал плечами я. — Идея у него уже есть, осталось оформить.
— А это в науке самое главное, — наставительно заметил Игнатий Семенович, вписывая в журнал цифры. — Да-да! Не головокружительные идеи, а черновая будничная работа.
И он сурово поджал губы.
— Что вы можете знать о моей работе? — медленно начал Арсик, поворачиваясь на стуле к Игнатию Семеновичу. — Разве вы когда-нибудь удивлялись? Разве плакали вы хоть раз от несовершенства мира и своего собственного несовершенства? Музыка внутри нас и свет. Пытались ли вы освободить их?
Я испугался, что Арсик опять разыгрывает дурачка. Но он говорил тихо и серьезно. Татьяна Павловна словно окаменела, смотря Арсику в рот. Старик напрягся и побелел, но возражать не пытался. А Арсик продолжал свою речь, точно читал текст проповеди:
— Мы заботимся о прогрессе. Мы увеличиваем поголовье машин и производим исписанную бумагу. А музыка внутри нас все глуше, и свет наш меркнет. Мы обмениваемся информацией, покупаем ее, продаем, кладем в сберегательные кассы вычислительных машин, а до сердца достучаться не можем. Зачем мне знать все на свете, если я не знаю главного — души своей и не умею быть свободным? Если я забыл совесть, а совесть забыла меня? Одна должа быть наука — наука счастья. Других не нужно…
— Я не совсем понимаю, — сказал Игнатий Семенович.
— Ну, я пошла, — пролепетала Татьяна Павловна и удалилась на цыпочках.
— Извините меня, — сказал Арсик и тоже вышел.
Шурочка, стоявшая у дверей и слушавшая Арсика, прикрыв глаза, с экстатическим, я бы сказал, вниманием, выскользнула за ним. Катя закусила губу и ушла из лаборатории, держась неестественно прямо. Остались только мы с Игнатием Семеновичем.
— Он совсем распустился, — сказал старик. — Демонстрирует девушкам свои картинки. Сам смотрит на них целыми днями… Это же бред какой-то, что он говорил!
Я подошел к установке Арсика. На коммутационной панели был расположен переключатель. На его указателе были деления. Возле каждого деления стояли нарисованные шариковой ручкой значки: сердечко, пронзенное стрелой, скрипичный ключ, вытянутая капля воды с заостренным хвостиком, черный котенок, обхвативший лапами другое сердечко, уже без стрелы, и кружок с расходящимися лучами — по-видимому, солнышко.
— Только ради Бога не смотрите в окуляры, — предупредил Игнатий Семенович.
— А вы смотрели?
— Упаси Боже! — сказал старик. — Я один раз посмотрел, когда там живопись была. Потом неделю рубенсовские женщины снились.
— Все равно она выключена, — сказал я и отошел к своему столу.
Указатель переключателя смотрел на черного котенка, обнимающего сердечко. «Надо поговорить с Арсением», — решил я про себя.
Вскоре я пошел обедать. Столовой в нашем институте нет, мы ходим обедать в соседнее кафе. Я вышел из институтского подъезда и в скверике на скамейке увидел Арсения и Шурочку. Они сидели и курили. Рука Арсика обнимала плечи Шурочки. Сидели они совершенно неподвижно, и на лицах обоих было глупейшее выражение, какое бывает у влюбленных. «Только этого не хватало в нашей лаборатории! — подумал я. — Теперь начнутся сплетни, намеки на моральный облик и тому подобное. Арсик ведь не мальчишка! Ему следовало бы вести себя осторожнее».
Не могу сказать, чтобы я обрадовался этому открытию как руководитель коллектива.
Но на этом приключения дня не кончились. Когда я пришел из кафе, Арсика и Шурочки на скамейке не было. Не было их и в лаборатории. За установкой Арсика сидела Катя, впившись в окуляры. Ленточка фольги обхватывала ее запястье. Переключатель был в положении «сердечко, пронзенное стрелой». Игнатий Семенович нервно тыкал в клавиши и причитал:
— Ну зачем вам это, Катя? Я не понимаю! Это же безнравственно, в конце концов… Вы молодая, красивая девушка…
— А вы божий одуванец. Отстаньте от меня, — нежнейшим голосом проворковала Катя, не отрываясь от окуляров.
— Это же наркомания какая-то! — вскричал Игнатий Семенович. — Вы не отдаете себе отчета.
— Не отдаю, — согласилась Катя. — Только отстаньте.
— Кто включил установку? — спросил я.
Катя отвела глаза от окуляров и посмотрела на меня. И тут я испугался. Я никогда не видел у женщин такого выражения лица. Даже в кино. Нет, вру… Видел, видел я такое выражение. Но это было так давно, и я так прочно запретил себе вспоминать о нем, что сейчас испугался, и мысли мои смешались.
В глазах Кати был зов, призыв — что за черт, не знаю, как выразиться! Губы дрожали — влажные, нежные, зрачки были расширены, от Кати исходило притяжение. Я его ощущал и схватился за край стола, чтобы не сделать ей шаг навстречу.
— Что с вами?! — закричал я. — Кто разрешил включать установку?
Катя отстегнула алюминиевую ленточку с запястья и взяла со стола измерительный циркуль из готовальни Арсика. Затем она тщательно вонзила обе иголочки в тыльную сторону своей ладони. На ее лицо стало возвращаться нормальное выражение. Но довольно медленно.
Потыкав себя еще циркулем для верности, Катя встала со стула и прошла мимо меня на свое рабочее место. На мгновенье у меня, как говорят, помутилось в голове.
— Я заявлю в местком, — сказал Игнатий Семенович.
Вскоре пришел Арсик, сумрачный недовольный. Шурочка так и не появилась. Арсик не работал, а сидел, смотря в окно и тихонько насвистывая одну из модных песенок. Естественно, о любви.
Катя сомнамбулически перебирала инструменты на своем столике.
Я с трудом дождался конца рабочего дня. Ровно в пять пятнадцать Игнатий Семенович выключил машину, сложил исписанные листки на край стола и удалился, сдержанно попрощавшись. Арсик не шевелился. Катя схватила сумочку и пробежала мимо меня к двери. Мы наконец остались одни с Арсиком.
— Слушай, что происходит? — спросил я.
— Я сам не понимаю, — с тоской сказал Арсик. — Но жутко интересно. Хотя тяжело.
— Пожалуйста, популярнее, — предложил я.
— Иди сюда. Посмотри сам, — сказал он.
С некоторой опаской я подошел к его установке и дал Арсику обмотать свое запястье ленточкой. Арсик настроил установку и повернул окуляры в мою сторону.
— Садись и смотри, — сказал он.
2
Сначало было желтое — желтее не придумаешь! — пространство перед моими глазами. Именно пространство, потому что в нем был объем, из которого через несколько секунд стали появляться хвостатые зеленые звезды, похожие формой на рыбок-вуалехвосток. Они словно искали себе место, перемещаясь в желтом объеме. И объем этот тоже менялся, постепенно густея, наливаясь спелостью, напряженно дрожа и подгоняя маленьких рыбок к их счастливым точкам. Почему я подумал о точках — счастливые? Да потому лишь, что следил за зелеными звездочками с непонятным мне и страстным желанием счастливого, праздничного исхода их движений.
Я чувствовал, что должен быть в желтом мире, открывшемся передо мной, веселый союз хвостатых рыбок — единственно возможное сочетание точек, образующее мою гармонию; и я направлял их туда своими мыслями, а когда они все, взмахнув зеленоватыми вуалями, заняли в объеме истинное положение, я услышал музыку. Это был вальс на скрипке, как я понял много позднее, фантазия Венявского на темы «Фауста» Гуно — тогда я не знал этой музыки. И звездочки мои рассыпались искрами и расплылись, потому что я с удивлением ощутил на своих глазах слезы. Да что же это такое? Меня больше не было, я оказался растворенным в этом объеме, и только тихий стук пульса о ленточку фольги доносился из прежнего мира.
А затем образовались три линии — изумрудная, густая с тонкими мраморными прожилками, нежно-зеленая, прозрачная и бледная, похожая на столб света. И они тоже перемещались, скрещивались, образуя в местах скрещения немыслимые сочетания цветов, пока не нашли единственного положения, и тогда сменилась музыка, а в объеме вырисовалось то забытое мною лицо, которое я не позволял себе вспоминать уже десять лет, — глаза прикрыты, выражение боли и счастья, и Моцарт, скрипичный концерт номер три, вторая часть.
Моцарт тоже позднее, гораздо позднее вошел в мою жизнь.
А я уже гнал сквозь пространство новые картины, подстегивая их нервным ритмом пульса, и чувствовал, как от моего сердца отделяется тонкая и твердая пленка, — это было больно.
Самое главное, что время перестало существовать. Секунды падали в одну точку, как капли, и эта точка была внутри меня, почему-то за языком, в гортани.
Ком в горле, десять лет жизни.
Что-то щелкнуло, и меня не стало.
Медленно я сообразил, что я жив, что я сижу на стуле в своей лаборатории, что у меня затекла нога от неудобной позы, что я оторвался от окуляров и вижу лицо Арсика, что за окнами темно.
Арсик виновато улыбался.
— Сразу много нельзя, — сказал он. — Тебе будет тяжело.
— Хочу еще, — сказал я, как ребенок, у которого отняли игрушку.
Арсик наклонился ко мне, взял за плечи и сильно тряхнул. Это помогло. Я глубоко вздохнул и заметил еще ряд вещей в лаборатории. Пыльные, неприбранные полки с приборами, железную раму в углу и аккуратный стол Игнатия Семеновича.
— Как ты это делаешь? — спросил я.
— Не знаю, — сказал Арсик. — Каждый делает это сам. Плохо, что они научились самостоятельно пользоваться установкой.
— Кто?
— Шурочка и Катя… Они очень влюбились.
— В кого? — тупо спросил я.
— Катя в тебя, — сказал Арсик.
Два часа назад подобное сообщение вызвало бы во мне ярость или насмешку. Или то и другое вместе. Теперь я почувствовал ужас.
— Что же теперь будет? — спросил я растерянно.
— Пиво холодное, — сказал Арсик. — Иди домой. Что будет, то и будет.
Ночью мне снились желто-зеленые поля с синими бабочками над ними. И еще лицо Кати, про которую я знал, что это не Катя, а та далекая девочка моей юности, с которой… Нет, это слишком долго и сложно рассказывать.
Проснулся я рано и, лежа в постели, принялся уговаривать себя, что ничего особенного не произошло. Нервы расшатались. Неудивительно — все идет не так, как мне бы хотелось: результатов нет, время проходит, а тут еще незапланированная любовь.
Я боялся идти на работу. Боялся встречи с Катей.
Катя на десять лет младше меня. Ей девятнадцать. Я это поколение не понимаю. Неизвестно, что может ей взбрести в голову. Влюблялась бы себе на здоровье в кого-нибудь другого. Я здесь совершенно ни при чем, никакого повода я не давал. Более того, своим поведением я решительно, как мне кажется, не допускал возможности в себя влюбиться. Собственно, почему я должен думать об этом? У меня своих забот хватает.
Размышляя таким образом, я настроил себя воинственно, еще раз недобрым словом помянул так называемую любовь, вскочил с кровати, умылся, почистил зубы и отправился в лабораторию.
Слава Богу, Катя не пришла. Она позвонила и сказала Шурочке, что у нее поднялась температура. Арсика это сообщение взволновало, он даже переменился в лице, взъерошил волосы и принялся выхаживать по комнате. Игнатий Семенович сделал ему замечание. Он сказал, что Арсик мешает течению его мыслей. Арсик клацнул зубами, как Щелкунчик, и прошипел:
— Мыссс-лей!
Потом он уставился в окуляры и стал трещать переключателем. Он рассматривал свои картинки часа два. Когда он оторвался от них, его лицо выглядело усталым, печальним и больным. Было видно, что Арсик плакал, но слезы успели высохнуть.
— Надо что-то делать, — пробормотал он.
Шурочка подбежала к нему и, обняв, стала гладить по голове. Арсик сидел, опустив руки. Старик не выдержал этой картины, выскочил из-за стола и выбежал из лаборатории. Я тоже почувствовал настоятельное желание удалиться.
— Арсик, миленький, хороший мой… — шептала Шурочка. — Не надо, не смотри больше, тебе нельзя. Давай я буду смотреть дальше. Хорошо? Да?
Прикрикнуть, наорать, взорваться — вот что мне нужно было сделать. Только это могло помочь. Но я сидел как пришитый к стулу. Я смотрел на них, а в душе у меня все переворачивалось. Голова кружилась, а мысли прыгали в ней, как шарики в барабане «Спортлото». Неизвестно, какой шарик выкатится.
Арсик примотал руку Шурочки к установке и усадил ее перед окулярами. Сам он вышел курить в коридор, невесело усмехнувшись мне.
В этот момент позвонили из месткома.
— Зайдите ко мне, — сказал наш председатель.
Я поплелся, предчувствуя нежелательные и нехорошие разговоры.
Перед председателем лежало заявление, написанное рукою Игнатия Семеновича. Самого старика в месткоме уже не было.
— Что там у вас происходит? — спросил председатель и прочитал: — «Низкий моральный облик и вызывающее поведение товарища Томашевича А. Н. отрицательно сказываются на молодых сотрудницах. Вместо работы по теме Томашевич А. Н. занимается сомнительными психологическими опытами, граничащими со спиритизмом и черной магией…»
— Ни черта он не смыслит в спиритизме, — сказал я. Я имел в виду Игнатия Семеновича.
Председатель подумал, что это я об Арсике.
— Значит, таких фактов не было? — спросил он.
— Черной магии не было, — твердо сказал я.
— А что было? Аморальное поведение было?
— Что такое аморальное поведение? — тихо спросил я.
— Ну, знаете! — воскликнул председатель. — Да они у вас целуются в рабочее время в рабочих помещениях!.. Какой гадостью он их пичкает?
— Кто? Кого? — спросил я, чтобы оттянуть время.
— Да этот Арсик ваш знаменитый!
Я вяло возразил. Сказал, что Арсик проводит уникальный эксперимент и ему требуются ассистенты. Мои оправдания разозлили меня, потому что я до сих пор не знал сути экспериментов Арсика.
— Идите и разберитесь, — сказал председатель. — Чтобы таких сигналов больше не было.
Я вернулся как раз вовремя. В тот момент, когда нужно было кричать «брек», как судье на ринге. Шурочка и Игнатий Семенович стояли друг перед другом в сильнейшем возбуждении и выкрикивали слова, не слушая возражений.
— Ваша мораль! Шито-крыто! Гадости только делать исподтишка умеете! — кричала Шурочка.
— Не позволю! Я сорок лет!.. Поживите с мое — увидим! — кричал Игнатий Семенович.
Арсик стоял у окна, обхватив голову руками, и медленно раскачивался. Он постанывал, как от зубной боли. На лице у него была гримаса страдания.
— Стоп! — крикнул я.
Старик и Шурочка замолкли, дрожа от негодования. Арсик шагнул ко мне и принялся говорить чуть ли не с мольбой, как будто убеждая в том, о чем я понятия не имел:
— Нет, нельзя так, нельзя! Он же не виноват, что вырос таким. Жил таким и состарился. Я не имею права перечеркивать всю его жизнь, правда, Геша? Каждый человек должен иметь уверенность, что живет достойно. Но он должен и сомневаться в этом, испытывать себя… Тогда у него совесть обостряется. Она как бритва — ее с обеих сторон нужно точить. Решишь про себя: правильно я живу, молодец я, лучше всех все понимаю — и затупишь. Махнешь на себя рукой, позволишь себе — пропади, мол, все пропадом, один раз живем — и сломаешь… Верно я говорю?
— Постой, — сказал я. — Сядь. Все сядьте. Поговорим.
Все сели. Я сделал паузу, чтобы коллеги отдышались, и начал говорить.
— Давайте разберемся, — сказал я. — Чем мы здесь занимаемся?.. Мы хотим заниматься наукой. Наукой, а не коммунальными разговорами, спасением души, любовными интригами, моральными и аморальными поступками, совестью, честью, долгом и всеобщей нравственностью. Это вне компетенции науки.
— Геша, ты заблуждаешься, — сказал Арсик.
— Не перебивай. Скажешь потом… Я не вижу причин упрекать друг друга. Каждый делает свое дело, как может. Игнатий Семенович по-своему, Арсик по-другому… Важен результат.
Игнатий Семенович поднялся, подошел ко мне и протянул папку с тесемками. На папке было написано: «И. С. Арнаутов, А. Н. Томашевич. Оптическое запоминающее устройство. Принцип действия и расчет элементов».
— Именно результат, — сказал Игнатий Семенович.
Я взял авторучку и поставил на обложке корректорский знак перемены мест. Такую загогулину, которая сверху охватывала фамилию Игнатия Семеновича, а снизу — фамилию Арсика. Видимо, нашему старику этот знак был хорошо знаком, потому что он возмущенно вскинул брови и посмотрел на меня с негодованием.
— В интересах справедливости, — пояснил я.
— Вы тут все сговорились меня травить! — взвизгнул Игнатий Семенович и начал картинно хвататься за грудь и нашаривать валидол в кармане.
— Игнатий Семенович, сядьте, — спокойно сказал я. — Продолжаем разговор о моральном климате в лаборатории. Слово Арсику. Мне бы хотелось знать, почему у нас все пошло кувырком? Мне просто интересно.
— Завидую я тебе и твоему юмору, — сказал Арсик. — Грустно мне, Геша. Ничего я говорить не буду.
— Хорошо. Давайте работать дальше, — сказал я.
— В таких условиях я работать отказываюсь, — заявил Игнатий Семенович.
И тут Арсик подошел к старику, упал перед ним на колени и ткнулся лбом в его руку. Ей-богу, он так все и проделал. В любой другой момент я бы расхохотался.
— Простите меня, Игнатий Семенович. Простите, — сказал Арсик.
Игнатий Семенович вскочил со стула, снова сел, попытался отдернуть руку и вдруг беспомощно, по-стариковски задрожал всем телом и отвернулся. Нижняя губа у него дергалась.
— Хорошо, хорошо… — с трудом проговорил он.
Остаток дня прошел в полной тишине. Мы боялись смотреть друг другу в глаза. Не знаю почему. В пять пятнадцать старик не ушел домой. Это случилось впервые. Он сидел за столом и делал всегдашние выписки. Вскоре ушли Арсик с Шурочкой. Они покинули лабораторию как палату тяжелобольного. Старик продолжал сидеть. Тогда я взял свой портфель, попрощался и тоже ушел.
Я вышел на улицу и пошел пешком по направлению к дому. Домой не тянуло. Я свернул в скверик и сел на скамейку. Захотелось курить. Я бросил курить несколько лет назад с намерением продлить себе жизнь. Я сделал это сознательно. Сейчас мне захотелось курить неосознанно. Борясь со стыдом, я попросил сигаретку у прохожего и закурил.
Что-то сломалось или начало ломаться в стройной системе вещей.
Докурив до конца сигарету, я почувствовал, что мне необходимо взглянуть в окуляры Арсиковой установки. «И правда, это похоже на наркоманию!» — с досадой подумал я, но пошел обратно в институт. Вахтерша удивленно посмотрела на меня, я пробормотал что-то насчет забытой статьи и поднялся в лабораторию.
Черные шторы, которыми мы пользуемся иногда при оптических опытах, были опущены. В лаборатории было темно. Только от установки Арсика исходило сияние. Светился толстый канат световодов, и сквозь фильтры пробивались разноцветные огни. Гамма цветов была от розоватого до багрового. В этом тревожном зареве я различил фигуру Игнатия Семеновича, прильнувшего к окулярам установки. Старик сидел не шевелясь.
Я сел рядом. Игнатий Семенович не заметил моего появления. Мне показалось, что его не отвлек бы даже пушечный выстрел.
Я подождал десять минут, потом еще пятнадцать.
Мне было никак не решиться оторвать старика от его занятия. Странное было что-то в моем молчаливом ожидании при свете багровых огней. Точно в фотолаборатории, когда ждешь проявления снимка, и вот он начинает проступать бледными серыми контурами на листке фотобумаги в ванночке.
— Ну, нет! — прошептал вдруг Игнатий Семенович и отдернул левую руку от установки.
Ленточка фольги, блеснув, слетела с его запястья. Старик откинулся на спинку стула, закрыв глаза и тяжело дыша.
— Игнатий Семенович… — осторожно позвал я.
Старик открыл глаза и повернул голову ко мне.
— А… Это вы… — проговорил он, а затем протянул руку к шнуру питания и выдернул его из розетки.
Мы остались в абсолютной темноте. Некоторое время мы сидели молча.
— Спасибо, что вы пришли… Очень тяжело, очень! — донесся из темноты глухой голос старика. — Проводите меня домой, Гена, милый… Сам я, боюсь, не дойду.
Мы поднялись со стульев и на ощупь нашли друг друга. Я взял старика под локоть. Рука послушно согнулась. Я чувствовал, что Игнатия Семеновича покачивает. Он был легкий и податливый, как бумажный человечек.
На улице был вечер. Мы пошли через парк пешком. От ходьбы Игнатий Семенович немного окреп, а потом и заговорил. Он стал рассказывать мне свою жизнь.
Когда-то в молодости он очень испугался жизни, спрятался в себя и замер. Тогда он и стал стариком. Он боялся рискнуть даже в мыслях, а потом это превратилось в привычку, и он решил, что так жить — правильно и единственно возможно. Он воевал и имел награды. Воевал он, как он выразился, «исправно», то есть делал то, что прикажут, и не делал того, чего нельзя.
— Вы знаете, Гена, в каком-то смысле мне было легко в армии, — сказал он. — Детерминированнее.
После войны он стал физиком. С ним вместе учились несколько нынешних академиков. Они его удивляли в студенческие годы — они многое делали неправильно. Игнатий Семенович решил про себя, что таланта у него нет, а значит, нужно брать другим — неукоснительностью, прилежанием и терпением.
Так он выбрал жизненную стратегию.
— Я стал инструктивным, — сказал Игнатий Семенович. — Вы понимаете, что это такое? Сначала это было моей защитой, но после стало оружием. Я сегодня это понял… Но самое страшное не в этом. Я сегодня понял, что талант — это вера в себя, вера себе и сомнение относительно себя же. В равных долях! — воскликнул Игнатий Семенович. — Именно в равных долях! Вот в чем секрет… Я прошел мимо таланта.
У него было много сомнений и мало веры. Вера постепенно исчезла совсем. Но удивительно — вместе с нею исчезло и сомнение! Теперь уже Игнатий Семенович не верил и не сомневался. Он не сомневался в правильности своей жизненной стратегии.
Я вдруг вспомнил слова Арсика насчет бритвы, которую затачивают с двух сторон.
— Но много веры в себя и мало сомнений — тоже плохо, — сказал Игнатий Семенович, искоса взглянув на меня.
Я тоже посмотрел на себя со стороны и задумался. Что хотел сказать старик?
Может быть, талант — это совесть?
— Я увидел себя сейчас, — продолжал Игнатий Семенович. — Я давно не смотрел на себя, не разрешал себе этого. Так, окидывал поверхностным взглядом — вроде все в порядке, застегнут… И вдруг заглянул вглубь. А там — ничего, Гена, понимаете?.. И не поправить.
Мы попрощались возле его дома. Старик неожиданно улыбнулся и сказал:
— И все-таки мне стало лучше. Арсик это хорошо придумал.
Я шел домой, размышляя. Одновременно я радовался, что завтра суббота, а послезавтра воскресенье. До понедельника можно войти в норму. «Норма, норма…» — повторял я про себя, пока это слово не превратилось в кличку собаки, потерявши свой смысл.
Что такое норма? Норма здесь, норма там, норма, норма… Тьфу ты, черт! Норма, ату!
Я зациклился, как говорят программисты. С большим трудом перед сном я отодрал от себя это слово и снова погрузился в желто-зеленые поля с бабочками. С крыльев слетала синяя пыльца. Она оседала на моем лице, кожа становилась бархатистой.
Я провел ладонью по лицу и проснулся. Жена готовила завтрак. Дочка уже тыкала пальчиками в клавиши пианино. Я вышел на кухню. Там за столом сидел Арсик и ел яичницу. Жена подкладывала ему ветчину.
— Я жавжакаю, — объяснил Арсик, борясь с непрожеванной ветчиной.
— Молодец, — сказал я. — Даже дома не удается от тебя отдохнуть.
— У Арсика важные вопросы, — сказала жена. — Он женится.
— На Шурочке? — спросил я.
— Угу, — кивнул Арсик. — Понимаешь, она меня очень любит, — жалобно сказал он.
— А ты?
— Геша, я сейчас люблю свою установку. Я только о ней и думаю.
— Женись, — сказала моя жена. — У тебя сразу появятся другие мысли.
— Я ее тоже, наверно, люблю, — задумчиво сказал Арсик. — Ну как старик? Я очень за него волнуюсь.
Я рассказал о нашем разговоре. Арсик внимательно слушал. Потом он спросил, на каком делении стоял указатель. Я сказал, что не заметил, но свет в установке был багровый.
— Это котенок, — сказал Арсик. — Зря старик смотрел котенка. Ему нужно смотреть солнышко.
— А что такое солнышко?
— Бело-голубые линии спектра. Радость, — сказал Арсик.
— А котенок — печаль?
— Кошки, которые скребут на сердце, — ответил Арсик. — Это не печаль. Это хуже.
Жена положила на стол что-то круглое, величиной с арбуз, с румяной кожурой.
— Смотри, что принес Арсик, — сказала она. — Это лук.
— Лук?! — только и смог я произнести.
Арсик смущенно потупился. Потом он объяснил, что вырастил эту головку дома, после того как я убрал его грядку из лаборатории.
— Головку! — пробормотал я. — Это целая голова, а не головка. — В головке было килограммов пять. — Хорошо, что ты возился с луком, а не с капустой, — сказал я. — Капуста не пролезла бы в дверь.
— Ты, Генка, смеешься, а сам прекратил такой эксперимент! — сказала жена. — Да Арсику памятник поставит Министерство сельского хозяйства!
Она отрезала от головки кусочек, и мы стали его есть. Мы ели и плакали. Лук был сочный, сладкий, чешуйки — толщиной с палец.
— Лук — это побочный эффект от той же идеи, — сказал Арсик.
— Ладно. Хватит морочить мне голову! — сказал я. — Объясни, как ты это делаешь? Что за идея? Может быть, я способен понять?
Арсик оценивающе посмотрел на меня. Вообще-то я пошутил, когда произнес последние слова. Но тут внезапно меня охватило сомнение. А вдруг я не способен? Уже не способен или еще не способен? Раньше я полагал, что способен понять все.
— Это началось с очень простых размышлений, — начал Арсик. — Я думал о живописи и музыке. Что, по-твоему, больше действует?
— Музыка, — не задумываясь, ответил я.
— А между тем слухом мы воспринимаем значительно меньшую часть информации о мире, чем зрением. Я подумал, что музыка света и красок, которую ищут художники, еще очень несовершенна. Вернее, мы не умеем воспринимать ее как обычную музыку… Ты заметил, что, слушая музыку, мы всегда подпеваем ей внутри, как бы помогаем. Мы сами в некотором смысле рождаем ее… Вот почему известные, много раз слышанные сочинения не перестают действовать. Даже сильнее действуют! С живописью не так. Мы не участвуем в процессе рождения красок и оттенков. Мы каждый раз наблюдаем результат… Я просто подумал, что эмоциональное воздействие света и цвета может быть гораздо сильнее, чем действие музыки. И я не ошибся, — грустно закончил Арсик.
— Дальше, — потребовал я. — Мне не ясна цель.
— Во всем ты ищешь цели! — в сердцах сказал Арсик. — Цель науки и искусства одна — сделать человека счастливым.
— Но они делают это по-разному.
— И плохо, что по-разному. Плохо, что мы, физики, не мечтаем воздействовать на человека впрямую. Печемся только о материальном мире вокруг. Больше, быстрее, громче, дальше, эффективнее, вкуснее, богаче, еще богаче, еще сытнее, чтобы всего было навалом! Вот, в сущности, чем мы занимаемся. А почему не добрее, честнее, душевнее, радостнее, совестливее?.. Объясни.
Я не смог сразу объяснить. Мне казалось, что это и так понятно. Арсику было непонятно. Этим он отличался. Я сказал, что прогресс науки и техники в конечном счете делает человека счастливее и добрее. Арсик только рассмеялся.
— А вот и нет! — сказал он. — Мы сейчас ели счастливый лук. Он таким вырос не потому, что было больше света и тепла. Ему было свободнее и радостнее расти.
— Потому что было больше света, тепла и удобрений, — упрямо сказал я.
— Ничего ты не понял, — сказал Арсик. — Потому что он захотел таким вырасти и получил тот свет, который был ему нужен. Для его души.
Затем Арсик вкратце объяснил техническую сторону дела. Было видно, что она его не очень интересует. Фильтры, световоды, обратная связь через биотоки и прочее. Он сам многого не понимал.
— Меня одно мучает, — сказал Арсик. — Свет способен пробуждать любовь, обнажать чувства, делать честнее, освобождать совесть. Но становлюсь ли я при этом счастливым? Я что-то не заметил. Зато жить гораздо труднее стало…
— А ты хотел быть всем довольным? — спросила жена. — Тогда не смотри на свои картинки, не слушай музыку, не люби, не думай. Ешь и спи.
— Да-да! — встрепенулся Арсик. — Нужно выяснить с определенностью: что же такое счастье?
— Долго действует твой свет? — спросил я.
— Когда как. Это зависит от человека… Но интересно, что хочется еще и еще. Заразная вещь! — сказал Арсик.
Вскоре он ушел. На столе лежала голова лука с отрезанным бочком. Я смотрел на нее и думал. Было трудно рассчитать все последствия эксперимента Арсика. А вдруг этот свет влияет не только на душу человека, но и на более материальные вещи? На физиологию, например? На рост организма?.. Я подумал об акселерации, о пятнадцатилетних школьниках, которые почти все, включая девочек, выше меня. Может быть, причина акселерации в том, что они свободнее нас и честнее смотрят на мир?
И мне представилась наша Земля, населенная добрыми и умными великанами, которым будет не повернуться в наших маленьких домишках, в квартирах, в тесных автобусах. В каждом детском саду, в каждой школе будут стоять красивые приборы Арсика с окулярами. «А сейчас, дети, у нас будет урок совести…» И все смотрят в окуляры, цвета переливаются, разноцветные радуги выстраиваются в глазах…
А про нас будут говорить так: раньше на Земле жили маленькие люди, которые не умели быть счастливыми.
Я решил принять участие в эксперименте. В конце концов я руководитель лаборатории и должен отвечать за все. А Катя и Шурочка пусть пока отдохнут. Я хотел сам убедиться в свойствах Арсикова света.
В воскресенье я набросал план экспериментов: продолжительность сеансов, психологические тесты, контрольные опыты.
Для начала я написал нечто похожее на школьное сочинение. Я перечитал «Гамлета» и честно, с максимальной ответственностью, изложил на бумаге свои мысли по поводу прочитанного. Я дал оценки поступкам всех героев, выразил неудовлетворенность датским принцем — очень уж он непоследователен и полон рефлексии — и запечатал сочинение в конверт. На конверте я поставил свою фамилию и дату. Я решил еще раз написать обо всем этом после того, как приму несколько сеансов облучения. Насколько изменится моя оценка?
Таким образом под эксперименты Арсика была подведена научная база. Я вновь обрел уверенность. Стройность умозаключений еще никому не мешала. Даже при изучении таких тонких вопросов, как душа.
Следующую рабочую неделю я начал с того, что поговорил с Катей. Я объяснил ей, что она стала жертвой эксперимента, что происходящее с нею навязано извне и скоро пройдет. Я попросил ее взять себя в руки.
Я запретил ей также пользоваться установкой.
Катя выслушала меня молча, опустив голову. На лице у нее были красные пятна. Когда я кончил, она взглянула на меня убийственным взглядом и отчетливо прошептала:
— Ненавижу!
Слава Богу, мы разговаривали наедине. Я почувствовал раздражение. Недомыслие доводит меня до бешенства. Эта девчонка могла бы положиться на мой опыт хотя бы. Я хочу ей только добра.
— Выкинь из головы эту ерунду! — крикнул я. — Мы с тобой не на танцульках. Я запрещаю тебе меня любить!
Конечно, этого говорить не следовало. Глаза Кати мгновенно наполнились слезами. Она боялась мигнуть, чтобы не испортить свои накрашенные ресницы.
— Вас? Любить? — медленно сказала она. — Вы мне противны, я уйду из лаборатории, я…
— Пожалуйста, — сказал я. — Пишите заявление.
Через пять минут у меня на столе лежало два заявления об уходе. Катино и Шурочкино. Я этого никак не ожидал. Еще через десять минут Арсик, пошептавшись с Шурочкой, вызвал меня в коридор на переговоры.
— Геша, тебе будет стыдно, — сказал он.
— Я хочу работать спокойно, — сказал я и изложил ему планы эксперимента. Арсик слушал меня с усмешкой.
— Все? — спросил он. — Ты ничего не забыл?
— Сегодня вечером я проведу первый сеанс, — сказал я.
— Давай, давай… — сказал Арсик. — Только не первый, а второй.
— Тот не считается, — сказал я.
— Не подписывай пока заявления, — попросил он.
В течение дня несколько человек из других отделов побывали в нашей лаборатории. Они смотрели в окуляры. Арсик никому не отказывал, люди тихо сидели, а потом уходили, ничего не говоря. В основном это были женщины. Я сидел с Игнатием Семеновичем и проверял его расчет запоминающего элемента. Старик был тише воды и ниже травы. Расчет он выполнил аккуратно. В конце прилагалась схема с точными размерами. Я сказал, что нужно заказать зеркала в мастерской и изготовить опытный образец. Игнатий Семенович ушел в мастерскую.
Наконец рабочий день кончился. Я подождал, пока все уйдут. Арсика я попросил остаться. Он научил меня пользоваться установкой в разных режимах, пожелал ни пуха ни пера и тоже удалился. Я опустил шторы, как Игнатий Семенович, и сел за установку. Я волновался. Сердце билось учащенно. Стрелка переключателя указывала на котенка, царапающего сердечко.
Я перевязал руку ленточкой и, вздохнув глубоко, стал смотреть в окуляры.
3
«…И вот ему впервые открылась подлость и низость человеческой души. Все мысли о духовном величии человека остались в нем, но рядом возникли эти, новые. Натяжение оказалось настолько сильным, что он звенит как струна. Он колеблется. Он не знал раньше, что человек способен пасть так низко и что это непоправимо. Вот в чем трагедия, а вовсе не в том, что его дядюшка прикончил отца и женился на матери.
Будь он взрослее, опытнее, подлее — короче говоря, будь он сделан из того же теста, — он, в свою очередь, убил бы дядю и стал королем. Его совесть — та совесть, которая есть у каждого, и у дядюшки, конечно, — была бы спокойна. Он совершил правое дело. Но Гамлету уже мало той обыденной совести, его размышления принимают космический оттенок и не укладываются в схему “правый — виновный”. Виновны все, никто не может быть правым до конца. Виновна даже бедная Офелия за одну возможность породить на свет коварнейшее существо — человека. Виновен и он сам, и прежде всего он сам, потому что не хочет принимать законы “виновных” и не находит в себе сил быть “правым”. Он балансирует на канате, один конец которого держит вся эта шайка во главе с дядюшкой — и мамаша его, и Полоний, и Розенкранц с Гильденстерном, и даже друг его Горацио — да-да! — а с другой стороны Вечность в виде призрака его отца. Призрак не виновен ни в чем, потому что мертв.
Невозможно быть живым и невиноватым!..»
Вот что я написал через месяц после того, как заглянул в окуляры и увидел красные и багровые полосы, зловещий закат, просвечивающий душу насквозь. Я сидел под этим сквозняком, набираясь духу и терпения. Временами это было невыносимо. Все мои представления о жизни не то чтобы рухнули, но сместились, обнаружив рядом со стройными сияющими вершинами глубокие черные пропасти.
Я вдруг с отчетливостью увидел, что все сделанное мною до сих пор не подкреплялось истинной любовью. Любовью к правде, любовью к отечеству, любовью к человеку. Оно подогревалось лишь неверным светом любви к себе. От этого мои работы, статьи, диссертации, дипломы и выступления не становились хуже. Они просто теряли смысл. Маленькая долька, капелька любви не к себе сделали бы мою жизнь осмысленной по самому высокому счету. Сейчас же в ней имелся лишь видимый порядок.
Холодный блеск мысли, игра слов и понятий, расчетливое умение себялюбца.
Я ощутил вину перед собой и своим делом, в котором хотел достичь подлинного совершенства.
Совершенство в деле дается умелому и талантливому, но более — любящему. Пуговица, с любовью пришитая, дольше продержится, чем другая, прикрепленная по всем правилам швейного дела, но без души. Песенка, спетая без голоса, но от сердца, прозвучит ярче, чем она же, исполненная холодным умельцем. Статья влюбленного теоретика, посвященная фотон-фотоновым взаимодействиям, будет ближе к истине, чем монография почетного члена академии на ту же тему. Если, конечно, почетный член не влюблен в женщину или хотя бы в природу.
Все это я узнал во время сеансов и стал грустен.
В перерывах я узнавал некоторые другие факты, которые на первый взгляд не имели отношения к эксперименту. Я узнал, что Игнатий Семенович в свободное от работы время дежурит на Кировском проспекте в качестве дружинника ГАИ. У него никогда не было машины и даже мотоцикла, он и не мечтал о них. Не мечтал ли?.. Он стоит на тротуаре в красной повязке с полосатым жезлом в руке и провожает машины долгим старательным взглядом.
Я узнал, что Арсик живет в коммунальной квартире, в одной комнате со старой матерью. У них есть попугай в клетке. Он умеет говорить слова «когерентный» и «синхрофазотрон». Арсик в свое время не женился из-за того, что любимая девушка неосторожно назвала его маму «дрессировщицей». Это мне рассказала Шурочка.
Я узнал, что у Кати есть швейная машинка и Катя шьет красивые наряды себе и подругам. Денег она за это не берет, ей нравится шить красивые вещи.
У Кати был мальчик Андрей. Они вместе учились в школе. Он ее любит. Когда случилась вся эта история, Андрей стал звонить каждый день утром и вечером. Катя разговаривала с ним холодно. Собственно, она и не разговаривала, а только слушала и произносила «нет». Потом она перестала подходить к телефону.
Я раньше полагал, что чувство долга и ответственности перед другим человеком испытываешь в том случае, если сам принял их на себя. Оказалось, что это не так. Я вспомнил фразу Сент-Экзюпери: «Мы в ответе за всех, кого приручили». Как выяснилось, мы в ответе даже за тех, кого приручили нечаянно. Я не мог не думать о Кате, мне хотелось знать о ней больше, хотелось ее понять. Я оказался втянутым в ее жизнь и участвовал в ней помимо воли, но с чувством странного, неосознанного долга. Ей не нужен был мой долг, он обижал ее, а ответить любовью я не мог. Моя любовь мне не принадлежала.
Прошел месяц с того дня, как я начал принимать сеансы. Это был трудный месяц. Мы часто оставались всей лабораторией после работы, пили чай и разговаривали. Две молодые девушки, по существу девочки, двое мужчин в расцвете лет и старик, у которого была пятилетняя внучка. Мы разговаривали о жизни и о пустяках, вместе выбирали подарок внучке Игнатия Семеновича, Арсик разворачивал перед нами гигантские картины будущего — они были то ужасны, то ослепительны, говорили о странностях любви, и нам было просто и хорошо друг с другом. Каждый из нас уже выбрал свои цвета и углублял чувства общением.
Интересно, что прибор Арсика действовал на нас совершенно различно. Девушки просматривали подряд все диапазоны спектра, останавливаясь дольше всего на сердечке, пронзенном стрелой. Но если сначала желто-зеленые линии любви действовали на них болезненно и угнетающе, то постепенно они научились извлекать из них радость. Они стали очень хороши и приветливы. Иногда мы вчетвером ходили в кино или в кафе-мороженое, а потом провожали Катю и Шурочку в разные концы города.
Я совсем не смотрел желто-зеленую часть спектра. Я знал, что, кроме забытой мною любви, я ничего не увижу. Мы с Арсиком специализировались на «котенке». У меня багровые тона вызывали стремление к самопознанию и совершенствованию души. Арсика бросало к социальным явлениям. Он читал газеты и плакал. Он так остро реагировал на сообщение о каком-нибудь землетрясении, на фельетон или коммюнике, что иногда его приходилось сдерживать, чтобы он не натворил глупостей. Старик наш рассматривал в основном «солнышко» и «скрипичный ключ». Он стал мягок, добродушно смотрел на наши увлечения, но допускал иногда странные высказывания о том или ином историческом периоде или деятеле, об Иване Грозном например, чем совершенно разрушил наши представления о собственной ортодоксальности.
В институте между тем творилось что-то непонятное.
Мы за нашими невинными занятиями как-то упустили из виду, что живем в большом коллективе и не можем не зависеть от него. И вот организм, именуемый Институтом физико-технических исследований, а сокращенно ИФТИ, словно прислушиваясь к маленьким странностям внутри себя, забеспокоился — а не болен ли он?
Инфекция распространялась незаметно. Сначала, как я уже говорил, к нам в лабораторию стали приходить сотрудники других отделов, чтобы взглянуть на установку Арсика и удостовериться, что с ее помощью можно наблюдать красивые картинки.
Вскоре я был вынужден ограничить поток желающих. Мы установили для них специальные часы, вывешивали график, а потом стали выделять под просмотр выходные дни. Я написал докладную директору. В ней я просил разрешение на проведение экспериментов в субботу и воскресенье ввиду важности и срочности темы. Директор разрешил, но помощник директора по кадрам Дерягин вызвал меня, чтобы выяснить некоторые детали.
— Учтите, что мы не можем оплачивать сверхурочные, — сказал он.
— Я знаю, — ответил я. — Мы и не просим.
— Трудовой энтузиазм? — спросил он, хитро взглянув на меня.
— Интересно, — пожал плечами я.
— И отгулов не даем, — сказал он.
— Хорошо.
Видимо, это показалось ему совсем уж подозрительным. Он вместе со мной пришел в лабораторию и повертелся вокруг Арсиковой установки. Потом взглянул в окуляры. Указатель в это время был установлен в положении «капелька». В этом диапазоне преобладают синие тона, они вызывают глубокую печаль, часто слезы. Помощник директора, понаблюдав секунды две, отпрыгнул от окуляров, удивленно взглянул на меня и ушел, ни словом не высказав своего впечатления.
Говорили, что в тот день он подписал несколько заявлений, которые в другие дни не подписал бы ни за что.
Так или иначе, в нашу лабораторию зачастили люди. От них мы узнавали, что в других отделах живо обсуждается открытие Арсика, которое находит и сторонников, и ярых противников.
Вскоре к нам зашел профессор Галилеев. Я уверен, что он зашел не по своей инициативе. С тех пор как мы от него отпочковались, я с ним встречался только в кафе во время обеда и на разных заседаниях. Внешне мы сохранили отношения ученика и учителя, но я ощущал трещинку, которая возникла, когда я защитил диссертацию. Профессор несколько ревниво отнесся к моему желанию работать самостоятельно. Обычно он держал учеников под крылом, пока они не защищали докторскую. Может быть, я был не прав, когда отделился, не знаю. Но внешне, повторяю, все осталось по-прежнему.
— Читал отчет Арсика и Игнатия Семеновича об элементе, — сказал он. — Остроумно. Надо патентовать… А как твои дела?
— Пока не густо, — сказал я. — Сделал два счетчика. Бьюсь над устройством ввода, оно съедает все быстродействие…
— Ну-ну… — сказал профессор, скользя взглядом по установкам. — Кстати, мне рассказывали о приборе Томашевича. Где он?
Я кивнул на установку. За нею как раз сидела Татьяна Павловна Сизова, ученый секретарь. Арсик помогал ей настраиваться на «сердечко, пронзенное стрелой». Профессор подошел к ним и, склонив голову набок, принялся рассматривать детали установки.
Татьяна Павловна оторвалась от окуляров и покраснела.
— Я вас, Татьяна Павловна, и не узнал, — сказал Галилеев. — Вы в последнее время помолодели.
— Что вы, Константин Юрьевич! — смутилась она.
— Можно взглянуть? — спросил профессор.
Татьяна Павловна встала и уступила ему место за окулярами. Профессор дал Арсику обмотать свою руку ленточкой, добродушно шутя по этому поводу. Он говорил что-то про кабинет физеотерапии. Потом он приник к окулярам и обозрел все диапазоны. Смотрел он около получаса. Это была очень сильная доза, по моим понятиям.
— Так… Занятно, — сказал он и встал. Лицо его было непроницаемо. — Между прочим, если смотреть будете вы, а управлять спектрами буду я, эффект может быть другим. Вы об этом подумали? — обратился он к Арсику.
— Нет… — сказал Арсик после паузы.
— То-то, — спокойно произнес профессор и ушел из лаборатории.
Арсик тут же тактично выпроводил Татьяну Павловну и принялся возбужденно бегать от стола к столу.
— Каков старик! — восклицал он. — Как же мы это упустили?
— Не может быть ничего страшного… — сказал я неуверенно.
— А вдруг?.. Мы с тобой думаем, что у каждого есть благородные чувства. Есть душа, есть потребность любить… А если это не так? Представь себе, что я обмотаю этой ленточкой руку законченного негодяя, а смотреть картинки будут Катя с Шурочкой… Кто сказал, что полосы спектра пробуждают только добрые чувства? Ненависть, зависть, злоба тоже чрезвычайно эмоциональны…
— Надо проверить, — сказал я.
Арсик остолбенел. Он уставился на меня с ужасом.
— Как?! — вскричал он. — Ты понимаешь, что говоришь? Кого ты возьмешь в испытуемые?
— Любого из нас, — спокойно сказал я. — Или ты полагаешь, что мы все ангелы? Что в каждом из нас недостаточно зла и подлости?
— Я могу знать это только о себе. Мне было бы больно, если бы ты… — сказал Арсик, закрыл лицо ладонями и вышел из комнаты.
Больше мы этой темы не касались. Но Арсик стал еще более задумчив и нервен. Я понимал, что его мучает. Как всегда бывает в науке, его открытие могло помочь людям, но могло и навредить. Все дело в том, кто им пользуется. Арсик, вероятно, непрерывно думал об этом да еще подстегивал размышления своими же спектрами.
У него ввалились и покраснели глаза от долгих наблюдений.
Вокруг нашей лаборатории складывалась напряженная обстановка. Ходили разные слухи. Где-то в других лабораториях, на других этажах института происходили странные события, и их неизменно связывали с установкой Арсика, потому что почти везде были люди, которые ею пользовались.
В лаборатории рентгеноскопии украли сумочку. Одна из сотрудниц немедленно уволилась, потому что не могла больше там работать. Ей не давала покоя мысль, что все подозревают друг друга. Тихо, негласно, но подозревают. И это так и было. Ничего в этом не было особенного. Но она уволилась, потому что смотрела в окуляры прибора Арсика.
Самое грустное, что на нее и подумали, когда она уволилась.
Ну не станешь же каждому тыкать в глаза окуляры, приматывать их за запястье к установке и твердить: смотрите! Смотрите, вы станете другими людьми! Потрудитесь немного душою, что вам стоит?
Интересно, что ходили к нам в лабораторию на сеансы в основном одни и те же люди, про которых и так было известно, что совесть у них есть. Многие не ходили из-за лени, а мерзавцев к установке Арсика было просто не подтащить. Они прослышали о чудесных свойствах света и повели войну. Институт раскололся на два лагеря.
Я вынужден был писать объяснительные записки. В них я объяснял, почему разрешил эксперименты, какую цель они преследуют, зачем допустил к ним посторонних.
Разве я мог написать: «Эксперименты преследуют цель сделать всех честными людьми»?
В институте улучшилась трудовая дисциплина. Меньше стали курить в коридорах. Равнодушным стало не в с е р а вн о. Мы с Арсиком замечали, что стало так, и радовались про себя. Разные проходимцы, которые раньше чувствовали себя в безопасности, взволновались. Они строчили докладные и даже анонимки. Нам припомнили моральный облик, трудовую дисциплину, несдачу норм ГТО. Атмосфера в институте становилась все напряженнее. Примерно, как у нас в лаборатории, когда мы только начинали.
Но у нас в лаборатории пять человек, и все воспитывались светом. В институте же было больше тысячи. Поэтому масштабы явления были совсем другие.
Однажды утром мы нашли Арсикову установку разбитой. Кто-то ударил по окулярам кувалдой, разбил коммутационный блок, а доску с датчиками попросту украл.
Арсик со слезами на глазах стоял над изуродованной установкой, над могилой спектров радости и совести, и растерянно говорил:
— Как это можно, Геша?.. Я же хотел, чтобы лучше, чтобы добрее…
Катя и Шурочка плакали. Игнатий Семенович обреченно вздыхал.
— Я предполагал, я чувствовал… — бормотал он.
Я пошел к директору. Директор выслушал меня и назначил комиссию. Это все-таки выход — назначить комиссию. В комиссию вошли помощник директора по кадрам Дерягин, профессор Галилеев, Татьяна Павловна Сизова и я. Своим чередом шло следствие через милицию. К нам приехали сотрудники в штатском, осмотрели разбитую установку, завернули в тряпочку кувалду и увезли.
Через несколько дней наша комиссия стала заседать. Решили опросить сотрудников моей лаборатории. Я как лицо заинтересованное вопросов не задавал и сидел молча. Первой вызвали Катю.
Она вошла в кабинет Дерягина, где мы заседали, и опустилась на стул. Несколько секунд длилась пауза, никто не решался первым начать расспросы. Затем Татьяна Павловна, кашлянув, обратилась к Кате. С такими интонациями обращаются к трехлетним детям.
— Катюша, расскажите нам о… Что вы видели в установке Арсения Николаевича?
— Вы же сами смотрели, Татьяна Павловна, — сказала Катя. — Вы же знаете.
Татьяна Павловна поджала губы.
— Я в научных целях… — сказала она.
— Вас кто-нибудь принуждал к участию в опытах? — спросил Дерягин.
— Нет, — коротко ответила Катя.
— А скажите… — начал профессор Галилеев. — Как вы лично оцениваете воздействие опытов на вас? Что вы чувствуете?
Катя потупилась. Я знал, что сказать неправду она не сможет, — слишком долго она смотрела картинки Арсика. Потом Катя резко подняла голову и улыбнулась. Улыбка была бесстрашной, открытой, такой, что помощник директора бросил испуганный взгляд на профессора.
— Мне хорошо, — сказала Катя. — Я люблю. Я счастлива. Вы даже не можете понять, как я счастлива.
Дерягин изучающе посмотрел на меня. Он уже открыл рот, чтобы что-то сказать, но Татьяна Павловна быстро проговорила:
— Вот и замечательно! Вот и прекрасно!.. Товарищи, я думаю, вопросов больше нет?
Галилеев развел руками. Катю отпустили. На ее месте возникла Шурочка. Она была возбуждена и метала в комиссию огненные взгляды. Галилеев спросил ее, что говорил ей Арсик, перед тем как начать опыты. Как товарищ Томашевич объяснил необходимость ее участия? Шурочка вскочила со стула и грозно произнесла:
— Вы Арсика не трогайте! Он здесь ни при чем. Он гений… Вы понимаете? Да вы на судьбу должны молиться, что рядом с ним работаете!
— Прекратите! — прикрикнул на Шурочку помощник директора.
— А я вас не боюсь, не орите на меня, — сказала Шурочка.
Дерягин побагровел. Он покрутил головой и пробормотал:
— Распустились!
— Возможно, я должен молиться на судьбу, — мягко начал профессор. — Я этого не знал. Объясните, почему вы считаете Томашевича гением? Что он сделал такого гениального?
Шурочка махнула рукой и села. Она смотрела на меня с сожалением, потом вздохнула и сказала:
— Вы лучше меня должны понимать. Вы же ученые… Я просто смотрела, я ничего не понимаю, это надо чувствовать. Почему Пушкин гений? — усмехнулась она.
— Вы на Пушкина не ссылайтесь, — сказал Дерягин.
— Если бы эти сволочи не разбили установку, вы бы все поняли. Посмотрели бы только… — сказала Шурочка. — Геннадий Васильевич, почему вы молчите? Вы же все понимаете! — обратилась ко мне Шурочка.
— Успокойся и позови Игнатия Семеновича, — сказал я.
Комиссия проглотила мое распоряжение. Шурочка ушла, в кабинете стало тихо. Тучи сгущались над столом помощника директора по кадрам. Уже слышались отдаленные раскаты грома. Атмосферное электричество щелкало неожиданными искрами в обивке дивана и чернильном приборе с бронзовым медведем, стоявшим на столе.
Вошел Игнатий Семенович и с ходу сделал заявление. Он сказал, что не понимал сути опытов Арсения Николаевича, они даже казались ему вредными, но потом он пересмотрел свою позицию и понял, что открытие Томашевича сулит человечеству огромные блага морального порядка. Благодаря ему, сказал Игнатий Семенович, произойдет всеобщее повышение сознательности на базе роста личной совести.
— Выражайтесь яснее, — сказал Дерягин.
Видимо, старик хорошо продумал свою речь. Он выдвинул на первый план моральный кодекс, и получилось, что каждый диапазон Арсиковой установки соответствует тому или иному пункту. Между прочим, так оно и было на самом деле, просто с этой точки зрения никто пока установку не рассматривал.
— Значит, все станут дисциплинированнее? — спросил Дерягин.
— Да, — твердо ответил Игнатий Семенович. — Не будут опаздывать на работу, совесть им этого не позволит.
— Совесть? — настороженно переспросил Дерягин.
— Не в совести дело, а в общественном транспорте! — воскликнул профессор Галилеев. — Извините, Игнатий Семенович, но это все чепуха! Идеализм чистейшей воды.
— Идеализм? — опять переспросил помощник директора и задумался.
Я почувствовал, что крен нашего корабля, возникший после выступления лаборанток, несколько выровнялся. Но впереди еще был Арсик, как всегда непредсказуемый.
Он вошел в кабинет спокойно, вежливо поздоровался и сел не на стул, а на диван рядом со мною. Мы с ним сидели на диване, в кресле напротив сидела Татьяна Павловна, а за столом помощник директора и профессор.
— Только не лезь в бутылку, — успел шепнуть я Арсику.
Он чуть заметно пожал плечами. Профессор снова начал говорить. Он обрисовал положение дел и сказал, что комиссия призвана решить, нужно ли продолжать работу по данной теме, то есть создавать новую установку взамен разбитой и проводить дальнейшие эксперименты.
Для меня это было новостью. Я полагал, что наша задача состоит в том, чтобы обратить идею Арсика на службу обществу.
— Какую цель вы преследовали, когда начинали работу? — спросил профессор.
— Понимаете, — сказал Арсик, — некоторые не знают, как заполнить жизнь. Начинают пить, например. Им делается веселее. Я заметил по себе, что стал менее радостным. Мне это не понравилось. В детстве было лучше. Мне захотелось вернуть себе яркость жизни, чтобы все звенело, понимаете?..
Профессор осторожно кивнул. Дерягин что-то записывал в блокнот.
— Я заметил, что стал хуже относиться к людям, не верить им. Это мне тоже не понравилось. Даже работа не помогала, я стал испытывать тоску… Пить мне не хотелось, это не выход. Я почувствовал отравление жизнью и решил вылечиться. Важно было вернуть себе оптимистический взгляд, но как?.. Я стал думать. Ум с годами развивается, становится более гибким и сложным. А чувства ослабевают. Я стал искать способ достижения эйфории…
— Чего? — спросил Дерягин, отрываясь от блокнота.
— Надежный и безопасный для здоровья способ достижения эйфории, радости. С этого я начал. Если бы я не полез в другие части спектра, все было бы хорошо. Можно было бы уже наладить производство портативных эйфороскопов. Бело-голубые тона, красота чистая!
— Ну? — спросил помощник директора, пытаясь ухватиться за логическую нить.
— Вот вам и ну! — неожиданно и со злостью воскликнул Арсик. — Нет чистой радости. Там рядом оказалось столько всего! И печаль, и любовь, и вина, как в жизни. Чего там только не оказалось! Полный комплект… В общем, я своего добился — жизнь стала острее, все на полную катушку. Уж если тоска, так тоска! Такая, что волком воешь. А радость… — Арсик развел руками.
— Вот и смотрел бы только свою радость, Арсик. Разве не так? — участливо обратилась к нему Татьяна Павловна.
— Да-да… — вздохнул Арсик. — Но нельзя.
— Чем вы объясните возникновение конфликтов в коллективе института? — спросил Дерягин.
— Не с того конца начали, — сказал Арсик. Он повернулся ко мне и продолжал: — Знаешь, Геша, я понял, что нужно не так. Я ухожу из лаборатории.
— Почему? — спросил я.
— Так будет лучше.
— Вы твердо решили? — спросил профессор.
Арсик кивнул.
— Я думаю администрация возражать не будет, — сказал Дерягин.
— Ах как жалко! — вырвалось у Татьяны Павловны.
А Арсик уже достал из кармана заявление и протянул мне. Я взял листок и недоуменно повертел его в руках.
— Что же вы? Подписывайте! — сказал Дерягин.
Я написал на листке: «Не возражаю». Я даже не успел сообразить толком, что к чему, а заявление уже было подписано помощником директора.
— Вот и все, — облегченно сказал он. — Мы вас к этому не принуждали.
— Чистая правда, — сказал Арсик и вышел из кабинета.
— Все к лучшему, уважаемая Татьяна Павловна, — сказал Галилеев. — Давайте посмотрим на дело практически. Идея требует всесторонней проверки. Мы не можем проводить сеансы облучения со всеми сотрудниками. К сожалению, мы не сможем добиться такого положения, чтобы все без исключения стали ангелами с помощью установки Томашевича. А единичные ангелы нам не нужны.
— Это верно! — рассмеялся Дерягин.
Татьяна Павловна заволновалась, стала предлагать компромиссные решения. Например, создать установку пониженной мощности для приятного времяпровождения. Нечто вроде телевизора. Она сказала, что можно заинтересовать Министерство легкой промышленности.
— Да, такой удобный приборчик для пенсионеров. Успокаивающий нервы, — сказал я.
— А почему бы и нет? — сказала Татьяна Павловна.
— Ну его к Богу! — сказал Дерягин.
— Чего по-настоящему жаль, так это запоминающего элемента Томашевича, — сказал профессор. — Вот здесь бы мы имели реальный выход.
И тут только я понял, что все свершилось, что поезд уже ушел, а я по собственной воле расстался с Арсиком. Как же это получилось? Почему я не защищал вместе с ним наш свет и нашу музыку? Зачем я выбрал позицию нейтрального наблюдателя?
Я полагал, что объективность важнее всего. И только теперь догадался, что никакой объективности нет, не может быть объективности, если одни люди слепые, а другие зрячие. Если ты стал зрячим, то изволь верить в то, что увидел. Изволь отстаивать свой свет, потому что иначе тьма поглотит его. Право быть зрячим нужно подтверждать все время. Каждый день, каждую минуту. В противном случае ты снова ослепнешь.
Я пришел в лабораторию в скверном расположении духа. Мне было стыдно взглянуть на наших.
Они пили чай. Дымился наш электрический самовар. Мой стакан был полон. Все сидели молча, задумчиво, но обреченности я не заметил.
— Геша, попей чайку, — сказал Арсик. — И не расстраивайся… Прости, что я тебя заранее не предупредил.
— Что ты собираешься делать? — спросил я.
— Уеду, — сказал Арсик. — Неужели ты думаешь, что я потерял интерес? Начну по новой.
— И опять будет то же самое…
— Нет, Геша! — хитро сказал Арсик и подмигнул мне. — Теперь я умнее. Теперь я знаю, что не у всех есть душа, а значит, придется воевать.
— Геннадий Васильевич, мы тоже с Арсиком уходим, — сказала Шурочка. — Не обижайтесь.
— Кто — мы?
— Я еще, — сказала Катя. — Мы поедем на Север.
Я ничего не сказал. Крепкий горячий чай обжигал губы. Я дул на него — в стакане бежали маленькие волны, поверхность чая рябила, с нее срывался прозрачный пар. Пришла печаль и унесла меня далеко из нашей комнаты — в тихую страну, где переливался красками небосвод, изображая полярное сияние. Так вдруг захотелось посмотреть в окуляры установки, сил нет! Но она была темна, осколки линз еще валялись на верхней панели, рядом грустно и добросовестно вздыхал Игнатий Семенович.
Потом они ушли втроем, уже отъединенные от нас общим делом.
Через несколько дней мы с Игнатием Семеновичем их провожали. Девушки были настроены решительно, они повзрослели за эти дни. Ехали они в полную неизвестность, за Полярный круг, в небольшой городок, где Арсику предложили работу в институте геофизики. Шурочке и Кате ничего не предлагали, они ехали наудачу.
— Геша, добей запоминающее устройство, — сказал Арсик. — А если… — Арсик замялся. — Если что, то все схемы установки в моем письменном столе. Я взял копии.
— Понял, — сказал я.
Мы расцеловались у вагона. Девушки всплакнули. Игнатий Семенович шумно сморкался в огромный носовой платок. Шел дождь, лица у всех были мокрыми. Поезд тронулся, девушки и Арсик вспрыгнули в тамбур и долго махали нам руками. Потом мы с Игнатием Семеновичем шли по длинному, бесконечному перрону.
Уход трех сотрудников из лаборатории расценили как провал моей деятельности начальника. Мы с Игнатием Семеновичем снова влились в лабораторию профессора Галилеева. Территориально изменения нас не затронули, мы остались в той же комнате, рядом с разрушенной установкой.
К нам часто приходили те, кто пользовался светом Арсика. Я не предполагал, что мы успели создать себе столько союзников. Установка была разбита, но теперь она будто излучала невидимый свет. Мне всегда казалось, что хороших людей больше, чем плохих. Теперь я в этом убедился. Люди стали мягче и душевнее относиться друг к другу, а те, кто вел с нами войну — бездельники, карьеристы, — потихоньку стали уходить из института. Арсик зря поторопился с отъездом.
Даже профессор Галилеев на одном из заседаний отметил, что «последствия экспериментов Томашевича оказались неожиданно благоприятными и заслуживающими серьезного анализа». Но продолжать дело на том же уровне было некому. Это только так говорится, что незаменимых людей нет. На самом деле Арсик был незаменим со своей головой и, главное, со своим нравственным подходом к делу.
Прошло какое-то время, и мы со стариком, наряду с работой над цифровыми оптическими устройствами, стали восстанавливать установку Арсика. Его записи, найденные в столе, представляли собой удивительное сочетание точных математических расчетов с философскими заметками и психологическими наблюдениями. «Чувство долга перед обществом позволяет пренебречь первым членом уравнения в сравнении с остальными», — так писал, например, Арсик, обосновывая свои расчеты. Это был странный математический аппарат. Арсик действительно был физиком от поэзии.
Я получил три письма от Кати. В них она рассказывала, как они устроились, описывала городок и новых знакомых. О работе Арсика она не писала. В ответных письмах я рассказывал о нашей работе и с грустью вспоминал время, когда мы все вместе смотрели чудесные спектры.
Прошла зима. Мы сдали опытный образец запоминающего элемента и несколько типов счетчиков и устройств связи. По существу, у нас имелось теперь все, чтобы создать принципиально новую вычислительную машину с великолепным быстродействием. Только это было почему-то уже не интересно.
Параллельно с элементами мы восстановили установку Арсика. Правда, нам не удалось достичь прежних параметров, но экспертизу душевных состояний и поступков окружающих мы производим вполне прилично. Мы умеем различать истинные мотивы, видеть в зародыше своекорыстие, подлость, тщеславие, страх. В первую очередь, естественно, в себе.
Одновременно мы испытываем эйфорию.
Как-то весной я наткнулся на статью в молодежной газете. Статья была об институте, в котором работает Арсик. Рядом была фотография. На ней я узнал Шурочку и Катю. Они были в белых халатах, вокруг них сидели дети дошкольного возраста. У всех детей в руках были коробочки с окулярами, вроде стереоскопов, в которые они смотрели. Подпись под фотографией гласила: «Воспитатели детского сада № 3 Катя Беляева и Шура Томашевич проводят занятия по эстетическому воспитанию с прибором А. Н. Томашевича».
Обе мои бывшие лаборантки изменили фамилии.
В статье рассказывалось о приборах Арсика, которые стали применяться в детских садах и школах. Говорилось об эстетическом воздействии света, об этике не было пока ни слова.
Пускай они смотрят. Пускай их будет больше. Пускай их станет много — умных, добрых, честных людей, тогда они смогут что-нибудь сделать.
Возможно, уже без Арсика.
Между прочим, совсем недавно я совсем неожиданно его увидел. То есть не самого Арсика, а его портрет. Это произошло в том парке, где есть загородка с кривыми зеркалами. Однажды, проходя мимо нее, я вспомнил, как увидел там Арсика. Я заплатил пять копеек и вошел в павильон. Все зеркала висели на своих местах.
Я медленно бродил между ними, обозревая свои искаженные изображения.
Какой я на самом деле?.. Вот узенький, вот широкий, с короткими ножками, вот у меня огромное лицо, а вот маленькое. Здесь я извиваюсь, как змея, а там переворачиваюсь вверх ногами. Моя форма непрерывно меняется, и все же что-то остается такое, позволяющее узнавать меня в самых невероятных метаморфозах.
В загородке никого больше не было. Женщина-контролер дремала на стуле у входа. Ее не удивляло, что взрослый человек ходит без улыбки от зеркала к зеркалу и рассматривает себя.
И вдруг я увидел в одном из зеркал Арсика. Он стоял во весь рост и улыбался, глядя на меня. В глазах его было сияние. В одно мгновение почему-то мне вспомнилась та картинка поразительной ясности — летающий над зеленой лужайкой мальчик, — которую впервые показал мне Арсик. От неожиданности я отступил на шаг, и Арсик исчез из зеркала. Тогда я осторожно нашел точку, из которой он был виден, и принялся его разглядывать. Арсик был неподвижен — моментальный кадр, оставшийся в зеркале.
Я зажмурил глаза, потом открыл их — Арсик продолжал улыбаться. Тогда я внимательно осмотрел соседние зеркала. И тут до меня дошло, что я стою в особой точке огромного запоминающего элемента Арсика — в точке вывода изображения. Три кривых зеркала были расположены так, что составляли вместе этот запоминающий элемент.
— Простите, — обратился я к женщине у входа. — Вы знаете этого молодого человека?
— Которого? — встрепенулась она.
— Вот здесь, в зеркале, — сказал я, указывая пальцем на Арсика.
— А-а! — протянула она, зевая. — Это Арсик. Арсик его зовут. Он в цирке работает.
— В цирке? — удивился я.
— Ну да… Прошлый год часто к нам приходил, нынче что-то не видать. Он ребятишек собирал и фокусы показывал. Один раз перевесил зеркала, девушка ему помогала, встал во-он туда, видите? За ограду… Ее после установили, он велел, чтобы ничего не нарушить… А потом ребятишек ставил на ваше место и себя показывал. А после ушел, как ограду поставил, и с той поры все время здесь. Кто знает, приходят, смотрят на него.
Она приняла Арсика за фокусника. Что же, не мудрено…
Крашеная ограда закрывала один угол павильона. Там находилась точка ввода оригинала. Арсик закрыл ее, чтобы сохранить свое изображение от помех.
В павильон вбежал мальчик лет десяти, купил билет и направился ко мне. Он несколько раз нетерпеливо обошел меня, а потом не выдержал:
— Дядя подвиньтесь!
Я подвинулся. Мальчик встал на мое место и посмотрел в зеркало. Я уже не видел Арсика, а смотрел на мальчишку. Он замер, лицо у него было внимательным и восторженным, и он, не отрываясь, смотрел в одну точку. Что он думал, молча разговаривал с Арсиком? Куда устремилась моя душа?
«Он оставил себя здесь, чтобы не погас огонек, — подумал я. — Пускай они смотрят. Пускай их будет больше. Пускай их станет много…»


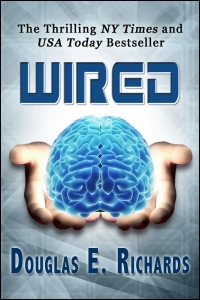

Комментарии к книге «Арсик», Александр Николаевич Житинский
Всего 0 комментариев