Ольга Ларионова Перун
Этим летом он был полон и упоен той стремительностью, гибкостью и всемогуществом, которые так легко дались и его телу, и его духу. Вообще-то, год назад он был уже почти таким, как сейчас; но — почти. Тогда это ощущение было перманентным открытием, а не нормой. Вернувшись из своего первого полета, он взял себе сорокапятидневный отпуск и, как ему казалось, только и делал, что нырял, играл в ручной мяч и озирал окрестности Эльбруса с вершин соплеменных гор. Но, вернувшись на Валдайку-предполетную, он с ужасом обнаружил, что набрал чуть ли не полпуда никчемной плоти, столь обременительной для его новой профессии. Ему стало стыдно поджарого Гейра, и он вогнал себя в норму методами форсированными и несколько жутковатыми.
Два полета без перерыва — это протянулось ровно на год, и он ничего не имел против, и вовсе не потому, что не хотел отстать от экипажа Инглинга, вложившего столько сил в то, чтобы сделать из него человека, — нет, ему и в самом деле без особого труда давались и тягомотина самого перелета, и разнокалиберные сюрпризы чужих планет, отличавшихся весьма умеренным с точки зрения Земли гостеприимством.
Сейчас все было иначе, чем год назад. Не подумав, он снова выписал себе сорок пять дней, и еще хорошо, что догадался осведомиться у командира, где его искать в случае чего, — да откуда ему, в самом деле, было знать, во что выльется это самое «чего».
Вылилось это б то, что на семнадцатый день он уже был на Пике Елены, и полное отсутствие восторга при виде осиянных вершин истинно рериховского ландшафта поставило его перед безрадостным фактом, что восхождения ради восхождений отодвинулись для него в прошлое. Он хлебнул настоящей работы, и игры на свежем воздухе перестали его наполнять. У него хватило мужества признаться в этом'открытии своим ребятам, и его милосердно спустили вниз на вертолете.
Еще полтора дня ушло у него на то, чтобы найти Гейра Инглинга.
Командир гостил у папы с мамой на станции региональной метеокорректировки и самым буколическим образом пилил дрова наперегонки со списанным однощупальцевым кибом, когда новобранец его экипажа свалился на него весь в соплях от собственного комплекса разочарований.
Гейр не впервые возился с новичком и в отличие от него сознавал, что полтора года — срок недостаточный для полной акклиматизации в космосе и что сейчас наступает одна из самых неприятных, хотя и быстропроходящих, фаз — отчуждение от Земли. Силушки многовато, мускулы, парадоксальные с точки зрения классической анатомии — концентрат мускулов, — играют просто в силу инерции; быстрота реакций воспринимается как отточенность ума, а его-то и не хватает для того, чтобы не обольщаться по поводу всемогущества превосходного биоробота, взлелеянного в себе самом во славу инопланетных одиссей. Настоящим зубром дальних зон становишься только тогда, когда вот так тянет поколоть дрова…
Но такие вещи не объясняют на словах.
Поэтому мудрый Гейр, не навязывая сочувствия, но и не впадая в сентенции, тут же связался с Байконуром и разрешил подключить космолингвиста Анохина к не входящим в его обязанности работам по уборке трюмов. Конечно, правила гостеприимства обязывали его предложить отставному альпинисту отдохнуть на метеостанции, тем более что она располагалась на берегу прелестного малахитового озера, вобравшего в себя всю разномастную зелень окрестных лесистых холмов. Но для Анохина сейчас самым полезным было по маковку окунуться в работу, и командир посоветовал ему пуститься в путь засветло, потому как его мать, владетельная Унн Инглинг, в части метеокорректировки была несколько дальнозорка, и если во всем регионе поддерживается строго заданный климатический режим, то в окрестностях станции, под самым носом, порой творится ну прямо черт-те что. А так как до ближайшей вертолетной стоянки километров двенадцать безлюдными прибрежными тропами, то еще лучше попросить рейсовую машину завернуть на минутку сюда. Иначе благополучного возвращения на корабль он не гарантирует.
Как и следовало ожидать, Анохин самонадеянно заявил, что доберется до вертолетной пешком и прибудет на «Хар-фагр» своевременно. Излишне добавлять, что у такого командира, как Гейр Инглинг, корабль и не мог носить другого имени.
Анохин простился с Гейром и владетельной Унн чуть торопливее, чем следовало младшему члену экипажа, и, обогнув стадо противоградовых «кальмаров», запрыгал по узловатым корневищам каких-то реликтовых великанов, вместе с тропинкой спускающихся к самой воде. Там он свернул влево и пошел берегом, временами выбираясь на крупный буроватый песок, над которым стлались звероподобные вечерние-комары; затем тропинка круто брала влево, совершенно нелогичным образом забираясь на продолговатую гряду, поросшую можжевельником, словно тому, кто проложил этот путь, казалось невыносимым и противоестественным все время двигаться по прямой.
Он шел уже около получаса, радуясь бсзлюдности и только искоса поглядывая на густо-зеленую тучу, исполинским жабьим животом наваливающуюся на противоположный холмистый берег. Мокнуть не хотелось. Но тропинка ныряла в хаотический лесной молодняк, совершенно скрывающий противоположный берег, и когда горизонт открывался снова, становилось ясно, что скорость движения тучи не оставляет ни малейшей надежды на благополучное завершение этого маленького путешествия.
Туча была грозовой, поэтому стоило подумать о чем-то более безопасном, нежели развесистое дерево.
Он ускорил шаг и совершенно неожиданно услышал впереди себя голоса. Он удивился так, словно где-нибудь на Атхарваведе увидел человека без скафандра. Затем рассердился на себя за это изумление, а заодно и на своих непрошеных попутчиков, — невидимые за поворотами петляющей тропочки, они явно шли в том же направлении, что и он. Анохин досадливо замедлил шаг, оглянулся на тучу — и невольно припустил чуть ли не бегом. Ладно, ничего страшного не произойдет, если он их попросту обгонит. Невежливо. Ну и пусть. Они — заблудшие туристы, после недельного сидения в 'своих лабораториях и инфор-маториях снедаемые мазохистским намерением обязательно преодолеть двадцатикилометровую дистанцию с кострово-котелково-комариным финалом. Святые люди. Он даже поздоровается с ними. И даже приветливо.
Дорожка выпрямилась и в сотый раз пошла вниз, впереди замаячил последний рюкзак, и цепочка людей, предшествующая ему, насчитывала еще не менее двух десятков — рюкзаконосцев. Анохин сделал рывок и начал обходить их одного за другим, временами кивая и бормоча нечто нечленораздельное, должное означать приветствие; но тут тропинка вылилась на прибрежный песок, цепочка людей потеряла свою четкую последовательность, и Анохин невольно оказался в самой гуще туристов, впрочем, не очень от них отличаясь. Он уверенно двинулся вперед, лавируя между людьми как-то даже не глядя, но сзади крикнули:
«Кира!» — и он автоматически обернулся, прежде чем понял, что зовут, конечно, не его. Сказалась скорость реакции, совершенно излишняя тут, на Земле.
Кто-то слева от него обернулся с той же стремительностью, разве что чуть более плавно, и он поднял глаза просто потому, что его поразила точная зеркальность этого движения.
Разумеется, если бы он с самого начала взял на себя труд оглядеть своих попутчиков, он несомненно отличил бы эту тоненькую фигурку от всех остальных — уже хотя бы потому, что она была в каком-то облачно-сером платье и без ноши. Что-то еще бросилось ему в глаза, что стоило рассмотреть повнимательнее, но он, опять же в силу быстроты отточенной в полетах реакции, проследил за направлением, откуда прозвучал зов и куда естественно потянулась она, а когда взгляд его вернулся на прежнее место, рядом никого уже не было. На то, чтобы произвести это движение — уже не телом, а всего направлением взгляда, — ему потребовалось две сотые секунды, не более; и все-таки облачно-серое платье плавно двигалось впереди метрах в пяти-шести, ускользая от его внимания. Ассоциации возникали столь же мгновенно, сколь и непрошенно, и Анохин уловил странное сходство с прыгающими бликами на Ингле, в предпоследнем полете. Световые «зайчики», отброшенные нефиксируемым источником, да еще и при постоянно спрятанном за тучами солнце, преследовали группу десанта на протяжении всей экспедиции — холодные, ускользающие, любопытные. Их пришлось оставить вместе с серебряным песком и прочими немногими радостями этой металлической планеты, совершенно непригодной к заселению в силу отсутствия кислорода. Серебра, конечно, было навалом, но не тащить же его из девятой зоны дальности… Планета была занесена в каталоги как бесперспективная, и вместе с пепельно-сыпучими воспоминаниями отложилась досада на то, что поторопились связаться с Базой и в полном очаровании этим платиновым мерцанием занесли бесполезную тарелку в официальный список под именем Земли Гейра Инглинга, одарив ее звучным именем древних викингов и современных звездных капитанов. Да, поторопились.
Одним из непременных качеств, которое Гейр старательно воспитывал в Анохине, было неукоснительное доведение до логического конца любого начинания, и именно в силу этой звездной, а отнюдь не земной привычки он догнал обладательницу пепельного нетуристского одеяния. Раз уж что-то показалось необычным и задержало его весьма привередливое внимание, то это надо было зафиксировать почетче.
Она (а если верить обращению, то — Кира) вдруг выбросила вправо руку одновременно плавным и стремительным движением, как это делают любители старинных велосипедов; узкая, белая до серебристости ладошка мелькнула перед самыми глазами Анохина, точно уклейка, и, повинуясь этому жесту, брючно-рюкзачная стайка свернула от воды в лощинку между холмами, где в смутной лилова-тости непонятно откуда взявшегося тумана замаячили торчки плетеной ограды. За торчками угадывался домик, затененный зеленью, и Анохин сразу понял, что она, в отличие от всех остальных, не пришлая, а, скорее всего, хозяйка этого домика, и вдруг совершенно неожиданно его захлестнула досада, оттого что сейчас этот одинокий маленький дом, похожий на заброшенный в сад скворечник, будет переполнен рюкзаками и тапочками, запахом вывернутых курток и топотом ног в одних носках…
На эту дрсаду ушло не более полутора секунд, и взгляд, отброшенный уклесчным движением ладони к обреченному скворечнику, вернулся на прежнее место, где только что стояла она.
Ее, естественно, не было. Ускользнула куда-то за спину и теперь подгоняла увязающих в песке аутсайдеров нетерпеливыми и зябкими движениями плеч и маленького подбородка. Он опять не разглядел того, что хотел, но возвращаться назад, к ней, было, по меньшей мере, глупо и неестественно, и Анохин решил подождать, когда она пройдет мимо него; но тут первая капля величиной с конский каштан шмякнулась на песок, туристы дружно загалопировали, трюхая снаряжением, и он вдруг поймал себя на том, что уже расстегивает на себе куртку, потому что тому, кто добежит последним, от недосмотра дальнозоркой Унн достанется более всего; он вытянул шею, высматривая поверх голов пепельные, как и платье, волосы, и с традиционным недоумением снова ничего не обнаружил. Не было ее на берегу.
Он с трудом углядел ее возле садовой ограды, сквозь плетенку которой цепко лезла на волю одичалая неухоженная жимолость. Туман, сползал по лощинке, разделявшей холмы, и вдруг с тою же радостью, уже начавшей его тревожить, с которой отыскивал он серое платье, Анохин понял, что непрошеные посетители зеленого озера вовсе и не думают оккупировать чужой дом, а, минуя его, ныряют в туман и топочут, как невидимые гномы, к какому-то приюту, ожидающему их где-то среди холмов; приглядевшись, он даже различил смутный огонь, трепетавший в глубине сгущающихся сумерек. Последний топотун исчез, едва окунувшись в туман, и, опережая собственный взгляд, Анохин понял, что возле ограды ее уже не будет. И ее не было.
Он сделал несколько шагов и взялся за шершавые ивовые прутья заборчика. Из сада тянуло зеленолиственной влагой и пронзительным одиночеством. Он ждал, что в доме зажжется свет, и тогда она глянет в окно, отделенное от него какими-то десятью шагами, и заметит его блестящую форменную куртку, и вернется. Проще простого было бы крикнуть в темноту: «Кира!» — но он знал, что этого он не сделает. Слишком уж примитивно. Перенести его на порог ее дома должно было какое-то волшебство, родственное тому, которое позволяло ей беспрепятственно исчезать в одном месте и являться в другом — вот именно, являться, а не появляться. Он стоял не шевелясь, чтобы не спугнуть это надвигающееся на него наваждение, и уже знал, что простоит тут всю ночь, ожидая своей минуты, и редкие тяжеловесные капли все крепче и крепче прибивали его к забору с методичностью, возведенной в степень фатальности. И она стояла перед ним на расстоянии протянутой руки, явившись неизвестно в какой миг, и смотрела на него непомерно расширившимися глазами, как смотрят на добровольного мученика-идиота, с той долей иронии и сострадания, которая была завещана Франсом и утверждена Хемингуэем.
Он увидел эти глаза и понял, что же еще в ней он старался углядеть.
— Все ушли, — проговорила она, хотя и так было ясно, что они тут в полном одиночестве, то есть вдвоем.
— А как же я?.. — проговорил его губами кто-то очень маленький и вконец растерявшийся.
— Ну так догоняйте! — сказала она легко и снисходительно.
Он молчал, ожидая, что она сама догадается хотя бы по его куртке со звездами и молниями — которых, между прочим, в космосе никогда не бывает, — что гномы-топтуны никакого отношения к нему не имеют; но молчание затягивалось, и он вдруг осознал, на пороге какого дома он остановился. Это был дом, где даже не знают, как выглядит форма звездолетчика.
Все, что делало его суперменом в собственных глазах — ну и еще кое для кого из окружающих — все последние полтора года, не имело здесь решительно никакого значения. Он до того растерялся, что толкнул калитку и влез в мокрый сад, как буйвол — на грядку со спаржей. Она повернулась и поплыла к дому, по пояс в тумане, и совершенно непонятно было — то ли это форма возмущения его бесцеремонностью, то ли приглашение следовать за нею. Как настоящий мужчина, он выбрал то, чего сам добивался.
— Вас ведь зовут Кирилл? — не оборачиваясь, спросила она, подымаясь по ступеням крыльца.
Значит, она как-то чувствовала, что он следует за ней, хотя двигался он совершенно бесшумно, как учил его Гейр. И отвечать ей не нужно было — она спрашивала не для того, чтобы услышать вежливое «Да, вы очень любезны, что соблаговолили запомнить мое имя». Или еще что-нибудь столь же изысканное, почерпнутое из юношеского благоговения перед стендалевским Фабрицио. Он молча поклонился ее узенькой серебряной спине.
Она поднялась на последнюю ступеньку и растворила дверь, пропуская его перед собой. Он вошел в единственную комнату, из которой и состоял этот дом, и внезапно понял, что здесь ему делать нечего.
Всю переднюю стену занимало окно — вернее, ивовый изящный переплет, на который была натянута стеклянистая пленка. За нею глухо зеленело озеро, слева и справа очерченное буроватыми лунками пляжа. Правую стену занимало нагромождение полок и экранов, ваз и шкафчиков, кофеварок и консольных компьютеров, в которое скромно вписывался едва ли не детский письменный стол. Два узких стула с очень высокими спинками подчеркивали хрупкость и неприкасаемость всей обстановки, и с этим еще можно было бы смириться.
Но у левой стены снежно белела узенькая постель с кисейным пологом, от которой девственно веяло температурой абсолютного нуля.
В эту комнату она спокойно могла привести озверелого легионера, пьяного каторжника или хорошо выдержанного монаха.
Или потерявшего маму олененка.
— Что вас тревожит? — спросила она, переступая следом за ним порог своей обители. — Сейчас мы свяжемся с вертолетной, и машина будет сразу же, как только утихнет гроза.
— Знаете, я пойду, — поматывая головой, проговорил Кирилл. — В этой комнате совершенно невозможно развалиться, взгромоздиться, швырнуть куртку на пол, сбросить тапочки… Словом, чувствовать себя человеком.
— Действительно, — грустно согласилась она, — не располагает… Но у меня есть кофе и ром, это поможет мне сгладить недостаток гостеприимства.
— Я бы не подумал, что вы грешите недостатком коммуникабельности, волокли по берегу целую ораву…
— А, эти!.. Что же делать, они относились к той категории людей, которые никогда не знают, где находится то место, откуда надо поворачивать.
— А я? — жадно спросил он.
— Вы, вероятно, интуитивно находите места, куда вам сворачивать не стоит. И делаете обратное.
— Верно. А вы?
— Я… Вы управитесь с кофемолкой?
— Я управлюсь с любым механизмом, от турбогенератора до гильотины. Например, я априорно знаю, что этот стул меня не выдержит. Проверять или не стоит?
— Не стоит, пожалуй. Вот шкатулка с кофе, а я пока дзову вертолетную.
— Я бы в такую грозу вам этого не рекомендовал… Кира! Это действительно опасно.
Она медленно протянула руку и выключила передатчик.
— Вы физик? — спросила она. Кирилл подумал, что такие обороты свойственны только дремучим гуманитариям.
— Я переводчик, — сказал он, избегая высокой титулатуры.
— С древних языков?
— С инопланетных.
— А.
Он чуть было не рассердился, но вовремя спохватился заставил себя сказать то, что он думает, — был у него такой аварийный прием, которым он обезоруживал противника: предельно просто и лаконично обрисовать сложившуюся ситуацию.
— Слышали бы вы со стороны, как прозвучало это ваше коротенькое «А!». Глубокий финальный аккорд, после которого слушателям остается только пройти в гардероб. А ведь я так обрадовался, что мне представилась возможность задать вам вопрос о вашей профессии, и у вас просто не было бы варианта, позволяющего уклониться от прямого ответа.
— Вы немножечко неточны: я сказала «А». Без восклицательного знака. И кофейные чашки вон там, на второй полке.
Он стиснул руки и мысленно поздравил себя с тем, что сумел сдержаться и не грохнуть кулаком по письменному столику. Почему из всех женщин, которые встречались ему за последние два года и на Земле, и вне ее, именно эта была самой неуловимой, самой ускользающей? Все было, как на Ингле, когда набираешь полные горсти серебряного звенящего песка, и, как бы крепко ни стискивал руки, все равно неуловимые струйки текут между пальцев, и ладони уже пусты, и только печальное, беззвучно тающее облачко мается на том месте, где ты только что владел целым сокровищем…
— Это было моей последней надеждой, — упавшим голосом доложил он. Нужно было говорить теми же словами, что и думаешь. Вы замечали, что человек думает одними словами, а говорит — другими? Да? Так вот, если так раскрыться, вывернуться наизнанку той розовой шерсткой, которая внутри у нормальной человечьей души, то тебе обязательно отвечают тем же…
— Зачем, Кирилл?
Эти два слова прозвучали в холодной сумеречной комнате словно два тихих удара маленького серебряного колокола. Снаружи грохотали почти непрерывные, громовые разряды, но они ровным счетом ничего не значили, да, скорее всего, они оба их попросту и не слышали, словно звуками на самом деле было только то, что произносилось в этой комнате, а все остальное относилось к иной категории явлений и было яркой, но беззвучной декорацией.
— Действительно, зачем? — отозвался он устало и почти безразлично — эти два серебряных удара вышибли из него весь былой энтузиазм. — Я, конечно, осел. Даже если вы подробно растолкуете мне, кто вы, откуда и на какой ниве приносите пользу всему человечеству, я все равно не узнаю главного…
Она приподняла свои не очень темные, словно чуть припудренные, брови, как бы сомневаясь в том, а совпадает ли то главное, что подразумевает он, с тем главным, которое есть на самом деле.
— А главное — это то, почему сегодня, двадцать седьмого августа, в душный и почти субтропический вечер, вы замерзаете в этой ледяной комнате. Я сейчас уйду, и вы замерзнете совсем. А уходить надо, потому что мне здесь делать нечего. У меня уже есть небольшой опыт, мы уходили с целых планет, когда понимали, что, в общем-то, ненужны друг другу. А это были сказочные планеты, вы уж поверьте мне на слово. По одной у меня останется тоска на всю жизнь, да что поделаешь…
Он поискал глазами, куда бы поставить совершенно ненужные чашечки кофе, и увидел, что она сидит на узеньком своем стуле, от подбородка и до кончиков туфель туго завернувшись в какую-то бесцветную шаль, с безупречно прямым углом согнутых коленок, как у статуэток древних египетских богинь. Он поставил чашечки ей на колени и сел прямо на пол, жадно и безнаказанно глядя ей прямо в лицо.
— Сейчас я уйду, — пообещал он, — потерпите еще немного, я отсчитаю семь зеленых молний и уйду. Честное звездное.
Он обернулся к застекленной стене, и в тот же миг небо над озером раскололось глубокой трещиной, и по обеим сторонам этого провала очертились набухшие темно-зеленые пласты, как будто разомкнулись чудовищные губы нависшего над озером злобного, гневливого дива. Целая обойма яоманых, ступенчатых молний разом саданула в разглаженную дождем поверхность воды, и, ни доли секунды не медля, неистовый грохот вмял в комнату дрожащую от напряжения, пузырящуюся в частых переплетах окна сверхпрочную пленку.
Кирилл вскочил раньше, чем зеленое зарево осветило всю комнату — молний было ровно семь, и чем бы это ни было — дьявольщиной, совпадением или вмешательством каких-то инфернальных сил, подвластных этой пепельно-ледяной женщине, — его человеческий своевольный дух вздернул тело на дыбы раньше, чем разум смог отдать какой-то обдуманный приказ.
Он схватил ее за плечи и поднял, так что несчастные чашечки покатились в разные стороны, прочерчивая на подоле стремительные траурные траектории, и вместо злости ощутил вдруг неистовую радость освобождения от собственной мечты и беспомощности, словно дурацкое вмешательство зеленогубого громовержца одним махом отмело все правила, условности и запреты.
Он кричал ей что-то прямо в лицо, и понимал, что за несмолкаемой канонадой ничегошеньки не слышно, и смеялся от неожиданно обретенной свободы. Черта с два он теперь уйдет отсюда! Хватит с него прощаний… Гром поутих.
— Думаешь, я теперь уйду? — крикнул он, успевая вклиниться в образовавшуюся паузу, и голос его прозвучал непомерно звонко и нетерпеливо. — Фу, прости за львиный рык, в этом грохоте и нс сообразуешься… Никуда я не уйду. Ты только погляди на него, ишь разевает пасть… Кашалотище. И оставить тебя одну — с ним? Не выйдет! Набегался я с других планет. Нажалелся. Натосковал. Теперь я на своей Земле.
За окном, уже успевшим зарасти новой пленкой, оглушительно и протестующе громыхнуло.
— Обратила внимание: когда у него молнии свисали с верхней губы, он был похож на зеленого моржа? Ну ничего, дождя почти не было, такие жуткие грозы бывают только всухую, так что я сейчас наберу чего бог пошлет и разведу тсбе настоящий живой огонь, с треском и гарью, рыжий… — Уходи, с неожиданной силой освобождаясь от его рук, проговорила она. — У-хо-ди.
От неожиданности он даже попятился, пытаясь найти нужные слова и не находя их, а она наступала на него, запрокинув голову и закрыв глаза, и повторяла с яростной настойчивостью:
— Уходи. Уходи. Уходи.
Он наткнулся спиной на дверной косяк, нащупал запор и распахнул дверь. Ветер, несущий ветки, листву и сырой песок, едва не сбил его с ног.
— Уходи! — крикнула она, стараясь перекрыть вой бури, но все-таки не открывая глаз, и тогда на него снова нахлынула радость, оттого что она боялась его видеть, оттого что, кроткая, милосердная и безразличная, она гнала его в грозу, и он замер, боясь сделать что-нибудь не так и спугнуть снизошедшее на нее наваждение.
Не слыша больше его шагов, она испуганно насторожилась, лицо ее напряглось, и она боязливо приподняла ресницы.
Он стоял близко-близко.
— Уходи же! — крикнула она с отчаянием. Кирилл оглянулся на темные пришибленные кусты, на мелкие ядовитые молнии, сыплющиеся с неба, точно иголки, на подсвеченную этими сполохами мутную стену наконец-то собравшегося ливня.
— Так ведь страшно, — пробормотал он почти виновато. И вдруг, холодея, вспомнил, что сам, как идиот, напросился на немедленное возвращение на корабль.
Молния впилась в дерево где-нибудь метрах в тридцати.
— Вот так и убьет, — обреченно пообещал он, пересчитывая в уме дни, оставшиеся до отлета, и уже твердо зная, что явится на «Харфагр» никак не раньше чем за три минуты до старта…
Как и бывает с письмами, которые раз в месяц идут навстречу друг другу, они были наполнены довольно бессвязными воспоминаниями и не содержали даже намека на ответы всем тем сомнениям и вопросам, коим не посчастливилось родиться в мучительно долгий промежуток между краткими и ненадежными сеансами связи. Получая пакет с информационной точкой, Кирилл мчался в свою каюту, минуя нелюбопытный взгляд ничего не знавшего Гейра. У себя он запирался и запускал точку в дешифратор, и каюта наполнялась озерными, бликами ясного, чуточку печального голоса, исказить который не могла даже непредставимая фантасмагория многоступенчатой галактической связи.
Он бросался тут же надиктовывать ответ, прекрасно понимая, что за предстоящий месяц появится еще тысяча поводов для десятков тысяч слов, но он ничего не мог с собой поделать, потому что, пока он говорил с нею, она была с ним. И он описывал бесконечные перипетии довольно тяжелого рейса и свою работу, наконец-то настоящую, когда эт его интуиции и опыта зависела судьба контакта с предполагаемой и почти иллюзорной цивилизацией. Экспедиция втягивалась на год, потому что приходилось ждать прибы-ия комплексников, которые всегда тянули со сборами, и в тчаянии от этой задержки, которая в предыдущем рейсе поазалась бы ему просто подарком судьбы, он в который раз уже вспоминал поминутно каждый из двадцати четырех дней, отсчитанных от грозового двадцать седьмого августа до самого отлета «Харфагра», и устраивал ей шутливые сцены ревности к затаившемуся за прибрежной горой Перуну, так старавшемуся с треском выставить его из ее домика; и запугивал ее старинными легендами о феерических супермолниях, которые хорошо видны с космических орбит Приземелья, но почему-то неизвестных на самой Земле, — потоках огненной энергии, из которых, вероятно, и рождались языческие легенды о пылающих копьях мстительных громовержцев…
И, как это всегда бывает с чересчур затянувшейся перепиской, на исходе полугода одной из сторон стало просто невыносимо тесно в точечном объеме одного послания, а другой — уже ощутимо просторно.
Он сходил с ума, улавливая эту сдержанность и недоговоренность, он предполагал все, что угодно, — естественно, кроме того, что было на самом деле; не в силах помешать этому, он чувствовал, что она снова ускользает от него, и именно потому, что это ускользание было неотъемлемой ее чертой, он любил ее еще неистовее. Она ни в чем не упрекала его, но ничего и не обещала; она не отнимала у него ни грана прошлого, но для нее словно перестало существовать будущее. И с каждым разом он все больше и больше боялся, что следующего письма уже не будет. В начале июня пакета для него не пришло. В начале июля, не дождавшись нового сеанса связи, они направились в обратный путь, оставляя поле действия только что прибывшим кораблям комплексной разведки. Планета, пригодная для освоения, — это всегда было поводом для заслуженного восторга, граничащего с телячьим; Анохин, как мог, уклонялся от общего ликования. Он ждал приземления, он видел ее в толпе пропыленных встречающих, изнывающих под байконурским солнцем, — облачно-прохладную, истосковавшуюся от безответного говорения в пустоту диктофона…
На космодроме ее не было.
— Гейр, — крикнул он, врываясь к командиру, — ты можешь поверить, что мне сейчас нужна самая скоростная машина… и, если можешь, пропуск-аллюр?
Гейр посмотрел на него и понял, что это ему действительно нужно. Ни о чем не спрашивая, он выписал ему разрешение на самую быстроходную из машин глайдерного парка и проставил шифр, позволяющий Кириллу получать преимущество в любых коридорах и на всех горизонтах воздушного пространства.
К вечеру он уже был над озером. Он посадил машину на песок, осторожно выбрался из кабины и ужаснулся тягостному покою, нависшему над зеленой водой, расчерченной узкими отсветами вечерних костров, уже зажегшихся под звероподобным холмом на другом берегу.
Пока он шел к домику, он не спугнул ни одного зверя, ни одной птицы.
Когда он возвращался назад, к машине, золотоглазый нерасторопный уж пересек ему путь и, скользнув под стабилизатором, бесшумно ушел в воду. Кирилл поднял машину и, не утруждая автопилота, отыскал внизу розовеющие под закатным солнцем корпуса метеокорректировочной станции.
Большеносая Унн Инглинг, похожая на полярную сову, приветливо приняла его, нисколько не обеспокоясь тем, что он прибыл несколько раньше ее собственного сына. Гейр летал давно, бывало всякое. А с космодрома он уже звонил. Так что же беспокоит юношу? Ах, ничего не беспокоит… Да, отдых здесь прекрасный, разумеется, для тех, кто считает уединение благом. А домик? Домик пуст, как это ни печально…
Она тоже недоговаривала, тоже ускользала, очевидно полагая, что все происшедшее на их берегу не касается посторонних.
— Там жила… женщина, — проговорил Кирилл, с трудом разжимая губы.
Маленькая полярная сова нахохлилась, раздраженная его настойчивостью.
— Это совершенно непонятно и очень, очень печально. Она умерла всего… месяца два назад. Мы были почти незнакомы.
— Молния? — вскрикнул он, потому что ничто другое просто не было властно над этим берегом.
— Нет, конечно, нет, — протянула владетельная Унн с некоторым высокомерием. — Разве я бы допустила… Она упала в воду. У самого поворота к вертолетной есть небольшой обрыв, всего-то метра два, и тропинка не узкая… Женщины в эту пору иногда забывают, что прежняя ловкость может им изменить. Гроза? Ну, что вы, Кирилл! Девятнадцатого мая был исключительно тихий вечер. Как сегодня. Я оградила этот берег от гроз сразу же, как только узнала, что она… Кирилл?!
Он очнулся в маленькой палате, которую заливало солнцe. У окна сидел кто-то свой, и блестящая звездная куртка натягивалась на согнутой спине при каждом вдохе. — Гейр, — сказал Кирилл.
Командир обернулся. Он был очень похож на мать, только ровно вдвое выше.
— Что там? — спросил Кирилл.
Гейр повел носом в сторону подоконника, недоумевая, в какой степени интересует Анохина открывающийся из окна пейзаж.
— Там море, — коротко сказал он. Кирилл прикрыл глаза. Мутная темно-зеленая тошнота захлестнула его с головой, как и в тот раз, когда он вдруг осознал весь ужас немгновенности ее смерти. Несколько минут было тихо, потом послышались шаги — настороженно подходил командир. Кирилл мысленно проверил, может ли он говорить, и только тогда открыл глаза.
— Послушай, Гейр, — проговорил он медленно, — вытащи меня отсюда. Я здоров.
Гейр втянул голову в плечи и по-птичьи встрепенулся. Вероятно, это должно было означать отказ.
— Вытащи меня, — настойчиво повторил Кирилл. — И засунь на какую-нибудь станцию. Все равно где. Только бы-там не было ничего, кроме стен и машин. И чтоб выйти было некуда. Никаких встроенных пейзажей. Голые стены и звезды за окном.
Командир пытливо всматривался ему в лицо — он еще ничего не понимал.
— Да вытащи ты меня! — чуть не плача, крикнул Анохин. — Не может быть, чтобы ни на одном буйке не было свободного места! Я могу работать кем угодно, ведь любой космолингвист — обязательно и связист по совместительству. Пойди поговори с центральным диспетчером… Ты сам-то скоро уходишь обратно?
— Через неделю. На Шеридан.
— Нет. Это не для меня, — через силу проговорил Кирилл, припоминая пасмурные озера Земли Мейбл Шеридан и снова заходясь от удушья. — Выкинь меня по пути на любом маяке. Только бы отсюда. От этого моря.
Командир наклонился к нему — глаза Кирилла, голубые хулиганские глаза, освещавшие целый корабль или четверть планеты, были подернуты зеленой мутью.
— Что с тобой? — спросил Инглинг, потому что ему необходимо было это знать.
За окном шуршало, наваливая гальку к подножию больницы, теплое лиловое море. Лицо Кирилла снова свело судорогой.
— Не могу видеть воду, — с каким-то недоумением проговорил он. — Море ли, река… Пить могу, не бойся. Только из глиняной кружки. Ну, иди же, звони. Или я действительно тронусь.
Осторожно ступая, командир вышел. Он пропадал около получаса, и, когда вернулся, вид у него был какой-то небольничный — как у потрепанного боевого петуха.
— Представь себе, ради тебя пришлось выставить на пенсию одного зануду. Зато место — синекура! Странноприимный дом. И всего один светляк от Базы. Подходит?
Кирилл кивнул. Странноприимный дом — так были прозваны спасательно-аварийные буйки в дальнем Приземелье. Раскиданные на расстоянии светового года от Солнца, что по теперешним меркам считалось уже окрестностями Земли, они были готовы оказать помощь сбившимся с курса кораблям, которые в силу неисправности или еще по каким-нибудь причинам выныривали из подпространства слишком далеко для того, чтобы идти дальше на планетарных, и слишком близко от Земли, чтобы манипулировать неисправными гиперпространственными двигателями.
— Вызывай машину, я сейчас подымусь, — сказал Кирилл, щурясь от слишком яркого света.
— А вот это не пройдет! Я с трудом уговорил здешних церберов забрать тебя через неделю под личную ответственность, да и при условии…
— Ну и черт с ними, — неожиданно сдался Анохин. — Неделю я продержусь, это я тебе обещаю. Но ни дня больше… И сделай милость, задерни шторы. Раз осталась неделя, тебе пора…
Он методично обходил станцию, свыкаясь с каждым ее уголком. Кольцевой док, куда загоняли покалеченные корабли, — дырка от космического бублика. Сам бублик — машинные отсеки, реакторный зал, оранжереи и жилые корпуса были смонтированы из двухслойного астролита, без которого немыслимо было бы современное строительство в Пространстве. Станции возводились там и тогда, где и когда удавалось подстеречь и, главное, притормозить приличных размеров астероид. Затем к нему на паре сухогрузов перебрасывался небольшой плавильный цех, который превращал бесцельно блуждающую по Вселенной глыбу камня в тонкие полупрозрачные панели, из которых специально выдрессированные для этого кибы возводили висячие сады Семирамиды вкупе с дворцами Аладдина, разумеется, с поправкой на каноны космической архитектуры. На такой-то рукотворный островок, подвешенный в черноте Пространства, точно елочная игрушка, он и попал по собственной воле и неукротимому желанию.
На станции было все необходимое и ничего лишнего; то же самое можно было сказать и о немногочисленном персонале, принявшем Анохина, как он это понял, с гипертрофированным радушием вовсе не благодаря его личным качествам или блистательному послужному списку, а в силу неуемного восторга по поводу расставания с каким-то неведомым Кириллу занудой, который отбыл на базу днем раньше.
Поэтому с Анохиным все были донельзя приветливы, но никто к нему не приставал. А иного ему было и не нужно.
Он заглянул в обе обсерватории, рубку связи, скромные оранжереи, где тоже было только все необходимое — помидоры, клубника, фейхоа — и никакой экзотики. Он миновал только бассейн. Со временем, по-видимому, он и к этому привыкнет, но время это еще не наступило. Мысль о времени заставила его взглянуть на часы — до начала вечерней вахты оставалось пятнадцать минут.
Он направился в центральную рубку. С нехитрыми своими обязанностями он познакомился еще на пути сюда, на борту «Харфагра», и поэтому первый свой рабочий день он начинал без энтузиазма, свойственного новичкам в космосе. Инструкций ему почти никаких не дали — в самом деле, какие тут могут быть инструкции: сиди себе и жди сигнала от приборов, они за тебя все заметят и ничего не пропустят — каждый надежно дублирован; в случае чего решение примет большой станционный вычислитель, тебе придется только проконтролировать это решение. Но такое встречается нечасто, поэтому сиди себе, гляди в черный иллюминатор или играй с малым вычислителем в тихие настольные игры…
Ему пожелали спокойной вахты, и он остался один. Раскрыл вахтенный журнал, автоматически проставил: «11-я вахта, 25 августа 2261 года. Дежурство принял Кирилл Анохин».
И только увидев эту дату написанной на бумаге, он внезапно понял, что она означает. Прошел год. Ровно год с того дня, когда он, в полном смятении от бессмысленности своих развлечений, кубарем катился с Гималаев, чтобы вернуться к «настоящей» жизни. Он связался с Инглингом…
Нет. Инглинга он еще нс нашел. Сейчас он сидит в нижнем лагере, держа в руках дымящуюся кружку, в которой ром пополам с чаем, и сморщенные ягоды горного можжевельника, и два юнца из спасательной команды презрительно повернулись к нему спиной. Инглингу он позвонит позже, часа через два, когда в верхнем лагере зажжется нежное и тоскливое пятнышко костра…
Он стряхнул с себя наваждение прошлого и обернулся к дисплейному пульту. Оливковые экраны высвечивали ненужную информацию, все механизмы станции жили своей размеренной машинной жизнью, где любое вмешательство человека — даже элементарное любопытство — было просто нелепо. Да, это счастье, что он догадался захватить с собой незаконченные расшифровки из последней экспедиции.
Он включил ММ — малый мозг — и, задав ему определенную долю кретинизма, сыграл с ним несколько партий в стоклеточные шахматы. Было интересно, но утомляло. Он запустил на боковом экране короткометражку «Из жизни комет» видовой фильм без намеков на сенсационность — и мельком взглянул на циферблат. Прошло два часа.
Сейчас он разговаривал с Гейром Инглингом. Он грохнул кулаком по панели пульта и забегал по рубке — благо размеры позволяли. Он просто физически чувствовал, как затягивает его прошлое, — словно сзади, к затылку, приставили раструб вытяжной воронки, и холод воздуха, скользящего по вискам и утекающего назад, шевелил его волосы. Он противился этому притяжению назад, как инстинктивно сопротивляется человеческий мозг внезапному приходу безумия. Так ведь нет же, нет! С завтрашнего дня восемь часов в спортивном зале, и даже за обедом — мытарство с дешифровкой, и в форсированном режиме — шериданский язык, здесь, кажется, механик по гипертрансляторам чешет на всей группе альфа-эриданских как бог. И пора учиться ручному монтажу, не на каждой же планете за спиной будет торчать услужливый киб… «Прилетай!» — сказал Инглинг.
Кирилл почувствовал, что спина его покрывается холодным потом. Теперь это уже не был только страх потери равновесия во времени и падения в пустоту, которая за спиной; сейчас к этому миленькому, но уже не новому ощушению примешалось еще одно: раздвоение воли. Потому что внутри уже проснулся другой Кирилл — так и не пришедший в себя от горя и теперь готовый отдать все свое настоящее за поминутное воспроизведение тех двадцати четырех дней, которые остались в прошлом.
«Надо что-то делать, надо что-то делать…» — с тоскливым отчаянием повторял он себе, и выплескивал остатки чая с ромом в костер, и брел к западному склону — ловить ультрамариновый рериховский закат, подальше от высокомерных и ничегошеньки не понимающих юнцов. И еще через час возвращался в лагерь, окончательно замерзнув, чтобы сразу же влезть в мешок и тихонечко включить незабвенную Сорок девятую Гайдна…
Кирилл рванулся к пульту, с непривычки долго искал каталог станционной фонотеки и, не мудрствуя лукаво, врубил на естественную громкость какую-то из шестнадцати симфоний Шнитке. Оказалось — вторую. Но это было уже неважно, потому что любой Шнитке заполнял его целиком, изгоняя и естество настоящего, и иллюзорность прошлого. Было только могущество музыки и непомерная гордыня человеческого духа — неотъемлемая черта всего второго тысячелетия… Кто-то приоткрыл дверь в рубку, вероятно встревоженный громовым «Санктус». — Да? — спросил Кирилл, выключая фонограмму.
— Нет-нет, ничего, — ответили ему из-за двери, и тотчас же в рубку проник отголосок беззаботных, как ласточки, гайдновских скрипок…
Он запустил пальцы в распатланную шевелюру и зарычал. Тогда дверь все-таки распахнулась настежь, и в рубку вкатился коротконогий смешливый механик-полиглот с неожиданными печальными и внимательными глазами древнего врачевателя.
— Вам что, нехорошо? — скорее констатировал, чем спросил он.
— Да нет же! — Кирилл с отчаянием замотал головой, — он все силы положил на то, чтобы здесь никто и ни о чем не догадался. — Просто воспоминания одолевают…
Механик закивал, словно именно это он и ожидал услышать.
— Придется привыкать, голубчик, придется привыкать. Мы тоже первое время маялись. Каждый. Ну, за исключением особо толстокожих. Надо как-то приспосабливаться, экранироваться, а тут вряд ли дашь совет, это индивидуальное…
— От чего экранироваться? — ошеломленно спросил Анохин.
— Ну, от того самого, что вас одолевает, как вы изволили выразиться. До Земли-то ведь ровно световой год, — он, мелко перебирая ногами в меховых сапожках, подбежал к иллюминатору, ткнул коротеньким пальцем в бестелесную черноту, — так что стоит прищуриться — и вы увидите себя самого, в объеме и цвете, и точнехонько на год моложе. Ну и весь антураж, разумеется.
Кирилл, окаменев, глядел мимо его руки и мимо стен станции, глядел на крошечную янтарную бусинку, которая на самом-то деле была Солнцем, но на таком расстоянии каждому казалась Землей. И вот на этой видимой ему Земле все было, как год назад.
Маленький механик деликатно вздохнул, снова превращаясь в халдейского мудреца.
— Год — очень точно фиксируемый отрезок, — продолжал он задумчиво, время от времени приподнимая брови и наклоняя голову набок, — вероятно, такое движение позволяло ему экономить на непроизнесенных «понимаете ли», которые были эквивалентны, — поэтому здесь, на нашей станции, на нас накладывается не просто наше прошлое, долетающее с Земли, а ОЧЕНЬ ЧЕТКО ПРЕДСТАВЛЯЕМОЕ прошлое. Пси-излучение, пролетающее через глубины космоса, попадает в совершеннейший усилитель — наш собственный мозг. А он еще и настроен в резонанс — воспоминания-то идут день в день. Вот и начинает твориться с человеком всякая чертовщина, а он еще убеждает себя не верить собственным ощущениям. А его трясет все сильнее и сильнее, и ни в одном медицинском аннале такового заболевания не значится. Потому как это не заболевание, а состояние, я его назвал — темпорально-психологический флаттер, точнее — пси-темпоральный, один хрен, меня все равно не слушают, было же время — в телекинез, не верили. Видели, а не верили. На психотронную связь перейти не могли, потому что потихонечку пользовались, а с высоких кафедр разыгрывали аутодафеи с вариациями… Теперь в этот пси-темпоральный флаттер не верят, а самих трясет, вас вот, например. А вы себя, поди, убеждаете, что — грипп. А?
— Не «а». Удивляюсь, как это мне самому в голову не пришло.
— Да вы умница! — восхитился халдей в меховых сапожках. — Может, попользовать вас, то есть попытаться приглушить воспоминания? Я в какой-то степени могу…
В конечном счете ведь любой усилитель можно сбить с режима.
Кирилл ужаснулся:
— Так топором еще проще. Надежнее, главное.
— Нет, мы определенно найдем общий язык! Тогда, может, просто посидеть с вами?
— Спасибо. Буду искать способы экранироваться.
— Ну, спокойной ночи. Главное, что могу сказать вам в утешение, — что это ненадолго. Через год вы улетите с Земли сюда… то есть уже улетели и конец флаттеру. Финита ля флаттер! — крикнул он, исчезая за дверью.
Кирилл, не отрываясь, продолжал глядеть на янтарную крупицу света. Теперь, осознанное и уже не иллюзорное, прошлое вливалось в него без сопротивления его пугливого разума; музыка, правда, исчезла, но он весь был полон странного покоя…
А полон ли? Что-то кончилось. Оборвалось. Зачем он слушал эти объяснения? Они все испортили. Ввели в логические рамки. Обернули наваждение реальностью. Что он натворил?
Кирилл метнулся к пульту, наклонился над светящимся циферблатом. Было половина двенадцатого.
Он просто спал.
Двадцать шестое августа он пережил относительно спокойно — лихие перегрузки, которым он сознательно предавался всю первую половину дня, почти нс оставили ему сил на то, чтобы обращать внимание то на промелькнувший под крылом льдисто-сизый висячий аэропорт Санхэба, то на плывущий навстречу пестротканый заповедник реконструированного Багдада, где он имел неосторожность пообедать, чтобы потом мучиться изжогой всю Флоренцию, бесцельно пошататься по которой он позволял себе каждый раз, когда судьба забрасывала его в узкое голенище италийского сапога.
Вечерняя вахта была неспокойна — из подпространства не вышел супертанкер «Парсифаль», и рубка была набита народом до четырех утра, пока неповоротливый гигант не дал о себе знать аж из четвертой зоны дальности, где в благополучном удалении от любого из обитаемых миров он стравливал в пустоту несметное количество жидких соединений ксенона из свбих продырявленных метеоритом баков, что грозило Вселенной образованием отвратительнейшей зловонной микротуманности.
Он уснул, уносясь на северо-восток в уютном гнездышке трансконтинентальной подземки.
Двадцать седьмого, обессиленный той двойною жизнью, которую он теперь вел ежеминутно, он едва поднялся с постели, не очень отчетливо воспринимая и сугубо мужские шуточки за завтраком по поводу последствий протечки «Парсифаля», и собственную щенячью исповедь Гейру над березовой поленницей на заднем дворе метеокорректировочной станции. Он вяло поиграл в баскетбол, отказался от обеда и побрел на вахту, непроизвольно отыскивая в за-оконной черноте теплую кроху бесконечно далекого солнышка, отождествляемого не просто с Землей, а именно с круглым, неярко отсвечивающим озером. Грозовая толща набухла над противоположным берегом, и надо было торопиться.
Он заскакивал в перелесок, выпрыгивал обратно на прибрежный песок и все озирался, настороженно и нетерпеливо, — не слышно ли голосов? Вроде бы уже…
Но когда они донеслись и сердце мягко и обморочно запрыгало куда-то вниз, потому что — началось, он вдруг стряхнул с себя эту рабскую покорность уже раз прошедшей череде событий.
Нет, не пройдет, ваше сиятельство, громовержец всемогущий, но отнюдь не всеблагой! Представления не будет. Вообще ничего не будет. Он просто не догонит этих перепуганных непогодой горе-путешественников, они свернут себе на боковую тропинку, и встреча не состоится…
Смертная тоска охватила его, когда он понял всю нелепость своего слишком позднего бунта. Что ж, сейчас он заставит себя переждать грозу здесь, прямо на берегу, — с ним-то ведь ничего не случится! Но он не увидит больше серого платья, ускользающего от него каждый раз, как только он отводит глаза, он не будет прижиматься лбом к шероховатым прутьям мокрой ограды, он не услышит… Он побежал.
Расталкивая упругие рюкзаки, он ворвался в самую гущу смешавшейся толпы, вздрагивая и озираясь на каждый звук, и внутри него все натягивалось, словно струна, которую настраивают все выше и выше, — ну же, ну… «Кира!» — донеслось из-за спины, и он задохнулся, ловя воздух ртом, потому что в следующий миг он должен был увидеть ее.
Он должен был увидеть ее — и отвести взгляд, но он этого не сделал, потому что знал, как мало ему оставалось смотреть — только двадцать четыре дня; и он с мучительной гримасой, совладать с которой он уже не мог, глядел ей прямо в глаза — серые огромные глаза, такие светлые, словно миллиарды звездных искр удалось оправить в один темный ободок; и она глядела на него, и продолжалось это так долго, что она не выдержала и подняла руку, заслоняясь ладошкой от его взгляда.
Он охнул и закрыл глаза. Не было! Не было этого!!! Да что же это такое?..
Он открыл глаза — она ускользнула, как и должна была сделать, и он побежал вперед, повинуясь ее уклеечно поблескивающей ладошке, и она вдруг очутилась уже за оградой, и вот он и до порога добрался… Все было, все мучительно и сладко повторялось, но он уже знал, что властен в этом течении событий, что она повинуется его взгляду, а когда будет нужно — и его слову; теперь он уже твердо знал, что вмешается в ход событий, которые обрывались на мокрой тропинке девятнадцатого мая этого года, — только вот цена будет непомерная: их любовь.
Одного он не мог — оборвать это вот сейчас, сию минуту. Еще полчаса, говорил он себе. Только до тех слов о зеленых молниях; но молнии срывались с исполинских распухших губ разбушевавшегося Перу на, и он давал себе еще минуту… две… три…
«Уйди!» — нет, она ведь повторила это несколько раз, еще можно помедлить несколько секунд, сейчас она повторит это по складам, мучительно выговаривая каждый слог:
«У-хо-ди…» Он уже десять, двадцать раз повторял про себя это слово, а она все молчала; и тогда он понял, что Псрун перехитрил его, — и молчание затянулось так надолго, что у него нет уже повода к отступлению, и теперь уже будет все, что было, и двадцать четыре дня бездумного счастья, и емкие всплески-точечки, в которые умещались ежемесячные письма, и скользкий берег майского озера, и ожидание последнего письма, которого не будет… Он искал каких-то слов, чтобы хоть что-то объяснить, но слова не находились, и он просто обхватил голову руками и ринулся вон, в незатихающий грохот и свист бури, и продрался сквозь кустарник, и побрел, пошатываясь, куда-то в гору, и падал, и захлебывался зеленой от молний водой, и шарил оцепеневшими руками по какой-то стене, пока ему не отворили, и он ввалился в комнату, переполненную разомлевшими от тепла людьми, где с него содрали мокрое, и напоили, и укрыли, и не приставали, и всю ночь дружелюбно бубнили то тут, то там, перешагивали через него, подталкивали, пристраиваясь теплым боком или шершавым спальником, а он лежал неподвижно и той частью души, которая полностью слилась с ним прошлогодним, околевал от боли и тоски по всему несбывшемуся, от чего он так бесповоротно бежал, чтобы уберечь ее от озерного берега в тот проклятый майский день; другая же часть его естества, не потерявшая зоркости, преодолевавшей расстояние в световой год, могла видеть маленький домик на самом берегу и ее, тоже неподвижно лежащую на своей ледяной постели, и угадывать ее боль, и обиду, и тоску непрервавшегося одиночества, и неведенье собственного спасения…
Маленький халдей-механик заглянул в его комнату, наклонился, перехватывая взгляд немигающих глаз, что-то проговорил, но Кириллу пришлось собрать все свои силы, чтобы расслышать это слово, которое он повторял с упрямой и назидательной настойчивостью:
— …Немедленно. Немедленно!
— Что, — с трудом разлепляя губы, спросил Кирилл, — что?
— Немедленно уезжайте. Выберите себе другой буек где-нибудь в шестой-седьмой зоне, а то так в ближнем Приземелье… Здесь вам оставаться смертельно опасно. Флаттер — он любой опасен, он в бараний рог скручивает и прахом рассыпает. Это относится и к людям, и к машинам. А пси-темпоральный флаттер — с ним не то чтобы бороться, его и распознавать-то не научились… Улетайте сегодня же. Противостоять этому могут лишь немногие, и вы не из их числа…
Он вещал, ритмично наклоняясь вперед и прикрывая круглые глаза выпуклыми веками, как это делают птицы, издавая отрывистый крик. Сказать бы ему, что он — из того единственного числа, кто не только решился противостоять этому непрерывно мчащемуся потоку прошлого, но и сумел повернуть этот поток в другое русло. Тяжелая это штука — ворочать прошлым. Все мускулы ноют, словно одними руками переворачивал вверх гусеницами десантный вездеход…
— Дурной сон привиделся, — старательно выговаривая слова, проговорил Кирилл. — Подождите меня в столовой, я сейчас подымусь…
Он поднялся, дивясь тому, что смог сделать. Внутри его было что-то тяжелое, мертвое, что теперь постоянно нужно было носить при себе. Господи, тошно-то как! Он оттолкнулся щекой от чьей-то свернутой куртки, подсунутой ему под голову, — ушли ведь и забыли… Его одежда, уже высохшая, висела напротив погасшего камина. Он оделся, выбрался из дома. Вчера, в темноте, он не рассмотрел это причудливое сооружение — что-то вроде длинного павильона, с одной стороны ограниченного островерхой колокольней, а с другой — старинной пожарной башней с серебряным шаром на плоской крыше. Что ж, если это все сооружено специально для таких аварийных ночлегов, то, наверное, каждая такая архитектурная причуда имеет строго функциональное объяснение.
Он невесело усмехнулся. Тонкий утренний туман, производное от вчерашнего ливня, слоистой палево-сиреневой дымкой прикрывал выход из лощины. Не задохнуться от этой свежести, этой тишайшей красы мог только робот… или мертвец. Чем был он после того, как вчера уничтожил то единственное, ради чего и стоило-то жить на белом свете? Ведь она так и сказала ему, расставаясь: «Без этого не стоило бы жить на Земле…» Сказала бы.
Теперь не скажет.
Он глотнул холодного воздуха, превозмогая боль, — надо было привыкать, теперь ведь боль будет постоянной составляющей всех его ощущений. Сейчас он пойдет вниз, к озеру, пройдет мимо ее дома, и тогда боль взыграет уже в полную силу. Так что держись, Кирилл Павлович!
Я держусь, отвечал он себе, я просто удивляюсь, как это у меня получается. Никогда бы не заподозрил, что у меня столько силы все это выдерживать… И что-то будет дальше?
Он тихонечко двинулся в туман, уже угадывая слева очертания маленького дома. Все было тихо, и он, не опасаясь, обошел палисадник и подобрался к окну. И замычал, потому что такой боли он и представить себе не мог: она стояла у письменного стола, во вчерашнем примятом платье, и медленно перекладывала какие-то бумаги. Как он мог забыть, что вот так же побежал к озеру умываться и подобрался к окну, и она так же стояла, перебирая все лежащее на столе — искала носовой платок; теперь ему стоило только провести мокрой рукой по натянутой пленке, чтобы та скрипнула и запела под его пальцами, — и все началось бы сначала, словно вчера он и не бежал с ее порога: она вскинула бы голову и, как это умела она одна, в доли мгновения очутилась бы у окна, прижимаясь щекой к тому месту, где он опирался на тонкую, стремительно теплеющую пленку… Он заставил себя сделать назад шаг, другой; она так и не поднимала голову, и движения ее были замедленны и механичны, словно она и сама не знала, зачем вот так — перебирает совершенно ненужные ей бумаги. Было в ней что-то неживое, погасшее, и от нее — вот такой — уходить было во сто крат тяжелей.
Он пятился, пока не влез в воду, потом набрал полную грудь воздуха, словно собирался туда нырять, круто повернулся и помчался по тропинке, ведущей вдоль берега к вертолетной станции. Когда он позволил себе обернуться, домика уже видно не было.
Через час с четвертью, задыхаясь, он выбрался к вертолетному стойбищу. Ни одной машины, как ни странно, не было. «Когда рейсовая?» — спросил он киба-диспетчера, услужливо выползшего из своей будки. — «Через четыре часа». — «А если вызвать?» — «Да вряд ли получится быстрее, в нашем регионе лишних не держат. Чай, не Альпы».
Кирилл отошел на кромку поля, проверил траву — нет ли пятен смазки, присел и натянул куртку на голову. Сердце болело так, что заполняло собой каждый уголок его тела.
Обратно, даже если бегом, — нс меньше часа. Это если он совсем рехнется и ринется назад, ополоумев от боли. Но он выдержит. Так или иначе, а час времени у него есть. «Если я куда-нибудь двинусь до прибытия вертолета, сказал он кибу, — держи меня за ноги и не пускай. Силушки хватит?» — «Не сумлевайся», — заверил его киб.
Он дожевал последний кусок омлета, с усилием проглотил. Столовая была пуста, только из-за соседнего столика, страдальчески приподняв брови, с бесконечным сожалением глядел на него маленький механик.
— Знаете, я действительно прилягу еще на часок, — сказал ему Кирилл. Только сделайте милость, не насылайте на меня во сне кибермедика.
— Клянусь Волосами Береники! — не без аффектации откликнулся халдей. Но, видит Вселенная, кого боги хотят погубить — лишают разума…
— К счастью — не сердца.
Он добрался до своей каюты и рухнул на койку, уповая не на богов, а на исполнительность киба, который в случае чего удержит его за ноги…
Проспал он не час, а все четыре и проснулся от зудящей тревоги. Зудел вертолет, дававший полукруг над неожиданным пассажиром и примериваясь, как бы подсесть поближе. Но кроме вертолета было и еще что-то, уже пришедшее в голову, но пока не нашедшее словесного выражения. Чего-то он не учел… Недодумал… Ну хорошо, сейчас он улетит, последняя возможность накликать непоправимую беду исчезнет.
Ну да. Он-то исчезнет. Но раз это произошло… Ведь это может быть и НЕ ОН!!! Он вскочил, и тотчас же гибкое щупальце хлестким арканом оплело ему ноги. Он шлепнулся, взвыв от бешенства.
— Кретин! Я же тебе велел — до вертолета. До!
— Извиняюсь. Вертолет еще не сел. Вертолет сел.
— Есть в кабине фон дальней связи? Быстренько закон-тачь меня с диспетчерской Байконура.
Киб со свистом свернул щупальце, кальмаром метнулся к вертолету и наполовину скрылся в окошечке.
— Сработано! — доложил он через десять секунд.
— Вот и умница. А теперь проинформируй диспетчера, что космолингвист Кирилл Анохин прибудет на «Харфагр» точно к моменту отлета. И не ранее.
Он шагал по тропинке вниз, к зеленеющему, еще не осеннему озеру, и твердо знал, что оставшиеся двадцать три дня не позволит себе ни одной встречи, ни единой фразы.
Но если возле нее появится хотя бы захожий турист — он свернет ему шею. Потому что, оставаясь для нее невидимым, он не спустит с нее глаз ни днем ни ночью.
И, уже подходя к ее дому, он вдруг вспомнил, что за сегодняшний день уже дважды проходил ТО САМОЕ место. И ведь ничего не почувствовал. Даже не заглянул вниз, в воду. Значит ли это, что он сумел обмануть судьбу, или все-таки она обманывала его, и беды нужно было ждать просто в другом месте?..
Его приютил длинный нелепый коттедж, в котором ног чевали туристы, пропахший сеном, которого в нем не было ни клочка, шуршащий полевыми мышами, набитый, оказывается, самой разнообразной всячиной. Настоящий странноприимный дом… Не много ли на него одного?
Следить за ней, скрываясь в кустарнике на склонах холмов, оказалось делом несложным, — повинуясь каким-то внутренним толчкам, она неизменно приходила туда, где бывали они вместе… где могли бы они быть вместе. Безучастная ко всему, она отсиживала положенное время и медленно брела домой, совершенно не зная, что ей делать по пути, чтобы не вернуться к дому слишком поспешно. Один раз она вдруг запнулась и беспомощно поглядела вправо, словно не зная, как же быть дальше… Кровь застучала у него в голове, и он, перестав владеть собой, вылез из своего укрытия и двинулся ей навстречу: ведь это здесь он взял ее на руки и нес до самого дома, распевая дикую языческую песню собственного сочинения. Какая сила заставила ее оглянуться призывно и растерянно? Или жить не могла она больше вот так, без его рук?
Она увидела его, и лицо ее засветилось. Так освещается озеро, когда ясный костер зажигается на той стороне и золотая дорожка силится дотянуться до противоположного берега. Он смотрел на это лицо и с ужасом понимал, что все начинается сызнова, пусть тремя днями позже — это не имело значения. Важен был только конец, только девятнадцатое мая… «Вы не улетели?» — срывающимся голосом проговорила она. Он медленно выдыхал воздух, так что внутри получалась ледяная пустота, и, пока этот холод не заполнил его всего, он не разжал губ. Потом отвел глаза, медленно произнес: «В тот раз я был болтлив и навязчив. Извините». И пошел прочь, с трудом переступая негнущимися ногами.
Больше он не позволял себе забыться. Дважды проходили толпы — то геологи-практиканты, то просто гуляющие, чудом забредшие в такую даль. Все это не имело значения — она к ним не вышла.(да и как могло быть иначе — в эти последние дни они прятались от любого шума, способного помешать им).
Потом к ней, сиротливо сидящей на замшелых мостках, подошел человек, и Кирилл узнал Гейра. Гейр? Неужели — Гейр?..
Он готов был снова ринуться вниз, но в этот миг взвыли спасительные сирены: совсем неподалеку, из подпространства, вываливался совершенно истерзанный корабль. И вахтенные, и те, кто был свободен, — все уже через три минуты были в скафандрах, готовые ринуться в гофрированные переходники, ведущие к уже изготовившимся буксирам.
«Всем оставаться на местах, отчалить буксиру-толкачу, команда киберы!»
Приказ, раздавшийся в шлемофоне каждого спасателя, ошеломил не одного Кирилла — ведь люди могли еще быть живы, и кому, как не им, персоналу спасательного буя, было мчаться на подмогу? Но команду отдал человек, не один десяток лет проведший в дальних зонах. Буксир рванулся вперед с ускорением, которого не выдержало бы ни одно живое существо, — нет, прав был начальник станции. Прав был он и тогда, когда, оглядевшись, рявкнул на весь тамбурный отсек:
— А почему связники в шлюзовой? Марш на место! На бегу расстегивая скафандры, связники помчались по коридору, как проштрафившиеся приготовишки. Конечно, четкая связь — это сейчас чуть ли не главное, когда надо сбалансировать человеческий разум и скорость, доступную только механизмам. Они мчались галопом, и начальник, гулко фыркая, старался не отстать от них.
— Торбов — держать буксир, Маколей — держать Базу, — выпалил он, врываясь следом за всеми в центральную рубку. — Анохин и Нгой — в резерве. И повремените-ка стаскивать скафандры…
Ждать и быть наготове. Нгой гибким и естественным движением скользнул вдоль стены и опустился на корточки, готовый в любой момент оттолкнуться лопатками и в один миг занять по команде нужное место. Анохин покосился на него — и присел рядом. Так они всё видели и никому не мешали. А на экране у Торбова буксир, лихо тормознув и разбросав во все стороны опоры-захваты, уже присасывался к борту искалеченного корабля как раз в том месте, где смутно виднелись пазы катапультного отсека. Если там есть хоть кто-нибудь живой, то теперь осталось совсем немного…
«Все собирался заглянуть к вам, да как-то не получалось, — сказал Гейр. — Ну, до будущего лета!» — и пошел берегом, и она стояла лицом к озеру и даже не поглядела ему вслед.
— В шлюзовой, готовить десантный бот! — крикнул начальник станции. Шесть человек, для связи Нгой, он сейчас подойдет.
Нгой вскочил и выметнулся в дверной проем. Гейра тоже уже не было видно.
— Анохин — держать бот на связи!
Вглядываясь в еще не засветившийся экран и с недоумением замечая, как неслышно подобралась осень, — вот ведь и зелень на том берегу вся покрылась желтыми и багряными пятнами, — он вдруг впервые и оттого с особой остротой осознал всю несоизмеримость того, что долетало до него с берега похолодавшего и посеревшего озера, — и той настоящей жизни, движущей частью которой были его руки, его глаза, его мозг.
— Пошел бот! — крикнул начальник станции. Руки сами собой замерли на пульте настройки, не выпуская улетающий бот из рамок экрана. «Иди, сказал он ей, — иди, пожалуйста, — мне сейчас будет тяжело…» Она послушно побрела к дому, ступая неуверенно, как ходят больные или почти незрячие. Буксир, прилепившийся к боку корабля, рванул на себя все щупальца и вместе с выдранным кубом катапультной камеры отлетел в сторону.
Она уже подошла к изгороди и теперь держалась за прутья, словно у нее не хватало сил добраться до порога.
— Буксиру оставить камеру, уводить корабль! По-видимому, на дисплее, не видном Кириллу с его места, появились какие-то угрожающие данные, переданные буксирным компьютером. Буксир разжал щупальца, так что камера едва видимым кубиком повисла в черноте, и уверенно боднул громадную тушу гибнущего корабля, как муравей толкает перед собой увесистую гусеницу. Видно, корабельный котел пошел вразнос, потому что снова послышалась отрывистая команда:
— Буксиру развить полную мощность, выбрасывать на ходу кибов!
Она вошла в сад, и мокрые листья, задевая ее светлосерое платье, оставляли на нем темные пятна и полосы. Сейчас она войдет в дом, и сегодня ей уже ничего угрожать не сможет. «Спокойной ночи тебе, серая ящерка», — и она обернулась, словно услышала. Бот подлетел к висящему в темноте кубику и слился с ним. В наушниках тотчас же треснуло и заверещало.
— Живы! — крикнул Кирилл. — С бота передают — изнутри доносится стук! Сейчас будут налаживать переходник…
Она кивнула вечернему серому озеру и затворила за собой дверь. В рубке, куда, набилось уже человек двадцать, стоял радостный гвалт. Живы! И. это на корабле, который, по меньшей мере, вылез из подпространства в кометный хвост, если только не в ползучую малую туманность… Везунчики!
Кирилл скосил глаза — с момента аварийного сигнала, когда автоматически включается отсчет аврального времени, прошло ровно сорок восемь минут. Где-нибудь там, на приличном уже отдалении, вскоре беззвучно громыхнет обреченный корабль. Буксира жалко, да и чтсг поделаешь? Главное — живы люди. Сорок восемь минут, и спасательная операция прошла, как будто перед глазами развернулась то ли учебная, то ли приключенческая лента. Нет, в этой настоящей жизни он не жил. Работали руки, работали' безупречно, и кибер позавидовал бы… Тогда какая же разница между этим настоящим — и тем прошлым, с которым он денно и нощно мыкается один на один?
Да вот в том и разница — то прошлое неразделимо принадлежит ему одному. И тем более — подчиняется.
А в остальном прошлое и настоящее равны — он так же, как и в реальной жизни, спасает человека. Любимого, дорогого, но если оценивать со стороны — какая разница? Важно, что спасает человеческую жизнь. И не за сорок восемь минут. Девять месяцев надо продержаться под этой двойной нагрузкой, ни на час не отвлечься, ни на день не заболеть, И молчать. Не поверят ведь, помешают. Значит, молчать и делать свое дело — спасать человека.
Экран погас — бот подвалил к шлюзовому причалу. Три последних дня, которые оставались ему на холмистом берегу, он провел почти спокойно. То, что раньше было болью и страхом, теперь обернулось заботой и делом. Ему даже показалось, что он утратил какую-то долю своего чувства, — что ж, неудивительно: ведь все то, чем он занимался с того момента, как бежал от нее в исполосованную молниями ночь, было не чем иным, как методичным убиением любви. «Во имя жизни, да! — кричал он себе. — Во имя жизни, как убивают колос во имя сотворения куска хлеба…»
И замечал, что логика его безупречна и доводы убедительны.
Он успокоился настолько, что в последний день позволил себе пройти мимо нее. Она стояла у воды, безучастно глядя на отражение лесистого мыса, который когда-то напоминал им ассирийского царя, омывающего озерной водой свою черную бороду. Услышав его шаги, она не обернулась.
— Кира! — окликнул он ее каким-то чужим голосом. Она посмотрела на него через плечо, не отвечая.
— Вот я и улетаю… — совершенно потерянно забормотал он. — Теперь уже — окончательно…
Он ведь приготовил какую-то фразу, но сейчас ничего-шеньки не мог вспомнить.
— Живите счастливо! — выдохнул он, хотя смысл сейчас имело только первое слово.
В ее широко раскрытых глазах не было ничего, кроме отражения озерной воды.
— А я… не живу, — с каким-то спокойным удивлением проговорила она. Мне просто незачем жить.
На него нахлынул такой ужас, что он закрыл глаза. И он знал, что, когда откроет их, ее уже не будет на этом месте.
Он заставил себя глянуть — она стояла все так же, не исчезая, не пропадая, не утекая струйкой серебряного песка. Словно это была уже не она.
Он пошел прочь, все время оглядываясь и ожидая, что не увидит ее на прежнем месте, но она не ушла даже тогда, когда он скрылся за поворотом, и тогда он понял, что из этого потока прошлого исчез он, прошлогодний, а весь берег остался, только виден он теперь не вблизи, а из какой-то дальней точки — то ли сверху, то ли из глубины холмов. И кроме этого неожиданного виденья осталась спокойная уверенность в своей власти над всем происходящим на этом берегу.
Она теперь редко выходила из своего домика, и, когда это случалось, он неотступно следил за ней, готовый остановить любой ветер, утихомирить самую неистовую бурю. С первых чисел октября она стала на два дня улетать в соседний городок, где давала какие-то уроки и брала материалы для работы у себя, на берегу. Городок он видел смутно, и это его не тревожило почему-то он знал, что там с нею ничего не может случиться. Вертолет неизменно подлетал к самому ее дому, и эти ее отлучки приходились на вторник и среду.
Девятнадцатое мая было субботой.
Когда выпал пухлый снег — раз на всю зиму устоявшийся и ни разу не подтаявший, — с того берега так и не замерзшего озера стал приходить старик егерь, тот самый, который любил разводить костры под «ассирийской головой», и они молча бегали на лыжах — он по своим делам, осматривая зимние пристанища знакомых ему зверей, а она просто так, следом, чтобы не бродить совершенно одной. Это было хорошо, что она каталась под таким присмотром, и удивляло Кирилла только одно — что никакое зверье не подходило к ней и ничего из ее рук не брало.
В монотонной напряженности совершенно одинаковых дней время летело неуловимо, и, когда снег разом стаял и холмы подернулись неуверенной прозеленью, он вдруг изумился собственному спокойствию: ЭТО надвигалось, и страха не было.
На девятнадцатое он взял себе ночную вахту и с первых же минут почувствовал неудержимое желание как-то взбодриться. Коньяку выпить, что ли? Ни одним уставом пить на вахте не запрещалось, потому что такое никому и никогда просто в голову не приходило. Но сегодня он знал, что стоит'вне правил и вне времени, и не пошел на камбуз только потому, что сам сказал себе: рано. Еще, может быть, и не так припечет. Ночные часы текли неторопливо, все световые индикаторы фиксировали тишь и благодать, и серебряной звездочкой тлел ночник в квадратном окне, оплетенном по низу уже набравшим силу плющом.
К восьми ночник еще не погас; явился кто-то на смену, и Кирилл, косясь на видимый одному ему огонек, побрел по коридору, чтобы запастись всякой снедью. Желательно было целый день пребывать в собственной каюте, и чтобы никаких авралов. Но настоящее не было в его власти, и это весьма его тревожило. Он наскоро похватал бутербродов, запасся целым пакетом погремушечно дребезжащего кофе и задумался перед редко открываемым баром. В тот первый вечер она пообещала ему кофе и ром. Чашечки с кофе он поставил на ее прямые колени. Рома не было. Восполним, сказал он себе.
В каюте он обратил внимание на то, что светлячок погас; он забрался с ногами на койку и принялся за дело. В первую очередь он испортил погоду: мелкий колючий дождь и резкие срывы ветра никак не наводили на мысль о прогулке. Легкий озноб заставил ее забраться обратно в постель с прелестной старой книжкой, которая каким-то чудом отыскалась на верхней полке; так прошло время до обеда. Часа в три он что-то отвлекся, и выглянуло солнышко — пришлось срочно подключать вариант «старый егерь». Какая-то мелочь, срочно понадобившаяся старику, обернулась цепью воспоминаний, затянувшихся на добрых три часа. Итого — шесть вечера. Начинало темнеть, и Кирилл забеспокоился: сумерки и весенняя пора располагали к порывам необдуманным и трудно программируемым. Оставалось не очень приятное, но абсолютно надежное средство: легкая зубная боль. Переборщить тоже нельзя — последовал бы вызов врача или обращение к сильнодействующим средствам, а тут чем черт не шутит… А легкая — это снова постель, и искусственный камин, и таблетка совершенно безобидного болеутоляющего. В половине девятого началась трансляция из Байрёйта давали «Тристана и Изольду», и можно было позволить себе несколько расслабиться. Вагнера он не любил, считая безнадежной архаикой, сейчас же его и подавно интересовала только продолжительность спектакля. Закончился он, хвала обстоятельным классикам, достаточно поздно, чтобы напрягать фантазию в поисках каких-то занятий, — автоматически включился маломощный гипноизлучатель, навевающий мысли о сне, и до полночи остались минуты.
Кирилл вытянулся на койке, закинул руки за голову. Устал он безумно, и это не было приятной ломотой в меру поработавших мускулов — нет, это было одеревенением тела, слишком долгое время проведшего в полной неподвижности. Вот только какое время — сутки? Или почти год.
Что-то заставило его сесть, напряженно всматриваясь в противоположную стенку, как будто на ней могло появиться какое-то слово. Но слово уже явилось, оно звучало как гонг — год! Год! Добровольно приковав себя к прошлому, он ни разу не подумал, что за это время на настоящей Земле прошел почти год. Свое дело он сделал, уберег ее, ничего не подозревавшую, от всего, что могло быть, и даже от того, чего и быть не могло. Жизнь ее, направленная его волей по новому руслу, безмятежна и безопасна. Во всяком случае, она обещала быть такой год назад. Но что бы ни случилось за этот год — все равно это была жизнь БЕЗ НЕГО! И, шумная или одинокая, счастливая или безрадостная, это была реальная жизнь, а не скрупулезное, поминутное повторение прошлого. И он сам сделал так, чтобы вытравить у нее малейшее воспоминание о нем!
Так чем же она жила все эти девять реальных месяцев, промелькнувших на родной планете?
Он поймал себя на том, что сидит скрестив ноги и обхватив пальцами узкие щиколотки и непроизвольно раскачивается, как медведь в тесной клетке, и вместо того торжества, о котором он мечтал всю зиму, — ведь справился, ведь получилось, ведь поломал он, к чертовой бабушке, ту нелепую трагическую околесицу, которую нагородила судьба, — вместо всего этого он получил в награду один коротенький вопрос: а теперь-то что?
Он глянул на часы — было двадцать минут первого. У него появилось ощущение, что где-то он оступился и беззвучно ухнул в зыбкую, студенистую массу — то ли двадцать минут назад, то ли год… Как герцог Кларенс — в бочку с мальвазией.
Он нагнулся и нашарил под койкой открытую, но так и не тронутую бутылку рома. Справились с прошлым — справимся и с будущим. Хватит с него космоса, и далекого, и близкого. Дождаться первого же корабля, а — там будет видно, что-то теперь. И если увиденное будет уж чересчур расходиться с желаемым что ж, поломаем и это. Опыт обращения с судьбой уже имеется.
Он нарочно подходил к домику справа, по сосновому молодняку, прилично вымахавшему за год… Он потряс головой — за два года! Прошлой осенью он спустился прямо на пляж, а потом бежал к станции Унн, не очень-то глядя по сторонам. Как всегда, пристально глядели на него два ясных костра, зажигавшихся с начала сумерек у подножия «ассирийской головы», что на том берегу. Небо было прозрачно, и он отнюдь не стремился услышать голоса любителей дальних прогулок, спасающихся от напастей погоды. Но ее он должен был увидеть уже сейчас, до того как тропинка пойдет по песку.
Он замедлил шаг, высматривая впереди светло-серое платье.
Под ногами захрустел песок.
Ну хорошо. Пусть не светло-серое. Пусть не платье. И пусть не здесь. Хоть в саду. Хоть на пороге…
Калитка была распахнута. Из окна лился яркий свет, но обходить дом и заглядывать через стекло у Кирилла не хватило сил. Он перепрыгнул через четыре ступеньки, рванул на себя дверь и остановился, не входя дальше.
Пустые книжные полки, на письменном столе — лампа без абажура и чучело крупного бурундука. На полу стебли камыша, и лохматая шкура, сваленная на топчан, и живой бурундучок, остекленелыми глазками засмотревшийся на чучело собрата, и острый запах полыни и формальдегида.
Здесь ее быть не могло. А где она могла быть? Не может же быть, чтобы этого никто не знал!
Вот тебе и год, прошедший в реальной жизни…
Сзади, в саду, затрещало, и Кирилл, стремительно обернувшись, увидел старого егеря, который привязывал к забору двух пестрых коз. Взгляды их встретились, и егерь, оставив вдруг свое занятие, медленно пошел по дорожке, щурясь и явно стараясь что-то припомнить.
— Добрый вечер, — сказал Кирилл, очень стараясь, чтобы голос у него не сорвался. — Вы не пытайтесь меня вспомнить, я ведь был здесь два года назад… Конец августа… Сентябрь… Вы тогда на том берегу жили. А здесь, в этом доме…
Он остановился, потому что, собственно, уже спросил все, что ему нужно было знать, чтобы жить дальше. Старик подходил, отводя руками ветки бузины и жасмина, вылезающие на тропинку, и по его лицу нельзя было сказать, понял ли он, о чем его спрашивают, или нет. У последней ступеньки он замер и уставился тусклым взглядом в нижнюю пуговицу блестящей Кирилловой куртки. Похоже, что он намеревался молчать долго.
— Вы не помните?.. — потерянно пробормотал Кирилл. Старик вскинул подбородок, и лицо его было неприветливо и замкнуто.
— Так ее давно уже нет, — скупо проговорил он, словно осуждая Кирилла за неуместное любопытство.
Кирилл молчал, словно не расслышал его слов. Нет, этот старик что-то путает. Нужно бежать к Унн. Нужно спрашивать. Нужно искать. Да не может быть, чтобы пережитое и выстраданное им оказалось напрасным! Он же чувствовал, что ломает прошлое, повертывает, не дает вернуться на прежний путь! Почти год он ворочал эту глыбу, у него все тело ноет от этой текущей на него тяжести — и голова, и руки, и позвоночник… В конце концов, существует же какая-то мировая справедливость, какой-то вечный закон, по которому за великую жертву должно следовать и великое воздаяние, — а жертвовал он ни много ни мало как любовью! Он же отнял любовь у них двоих, и пусть это останется тайной, чем была эта любовь для нее, — но у себя вместе с нею он отнял половину жизни. Так не может быть…
Не может быть, чтобы такой ценой он не купил хотя бы неделю.
Хотя бы день.
— Год назад, — проговорил он хрипло, ожидая, что его остановят и поправят. — Год назад, девятнадцатого мая…
— Нет, — досадливо поморщился старик. — Вы что-то путаете, молодой человек. Это случилось два года назад, двадцать седьмого августа. Была чудовищная гроза. Слышали вы когда-нибудь о молнии Перуна? Поток огня и грохота, в тысячи раз превышающий обычный грозовой разряд… Это считалось легендой. Я и сам не верил, пока…
Он замолчал и неодобрительно пожевал губами, словно упрекая себя в излишней словоохотливости. Потом обернулся и пошел к калитке, чтобы заняться своими козами.
— Не понимаю… — бормотал он себе под нос. — Не понимаю. Какая сила заставила ее выбежать на берег в такую грозу? Не понимаю…



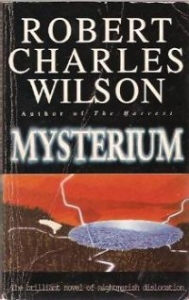

Комментарии к книге «Перун», Ольга Николаевна Ларионова
Всего 0 комментариев